Дону Америка, Хосе Мигелю Варасу, Освальдо Саласу, Панчо, Фауна, Терремото, Амалии и Умберто, чилийцам; Черному Мехиа, венесуэльцу; Оски, аргентинцу; эквадорцам Родриго Кабесасу и Хорхе Энрике Адоуму и бразильцу Освальдо Альвесу
В этой жизни помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
Владимир Маяковский, «Сергею Есенину»ГЛАВА I
Я открыл дверь, комната была наполнена дымом, таким густым, горьким и едким, что слезы потекли у меня из глаз. Я поспешно открыл балконную дверь — пусть осенний ветер очистит воздух. Обернувшись, я увидел совершенно незнакомого человека, сидевшего на моей кровати. Ноги его не доставали до полу. Человек глядел на меня и силился улыбнуться. Черт возьми! Сказать просто, что он был безобразен — этого мало; нечто невообразимое, с обычным безобразием даже и сравнить нельзя. Я сел в кресло и принялся его разглядывать.
— Как вы вошли?
— Просто. Не заперто.
Он говорил, не вынимая изо рта трубки, трубка была темная, ореховая; треснувший черенок заклеен пластырем. Словно из горна, валили из его рта клубы зловонного дыма.
— Ты Педро Игнасио, поэт? — Он потер кулаком глаз.
Рука — будто сморщенная куриная лапка.
Ах, вот как, он знает, как меня зовут, и даже говорит со мной на ты!
— Я не поэт, — отвечал я сухо.
— А что же ты, рассказы мараешь?
— Иногда.
— Ну, значит, верно, мне так и говорили. — Он неуверенно улыбнулся и снова потер глаз.
— Я затем и пришел, прочти что-нибудь. — Человечек согнул пополам подушку, прямо в грязных ботинках улегся на мою постель; хотя, конечно, если говорить правду, постель тоже не слишком чистая. Он ждал, глядел в потолок.
— А кто ты такой, чем дышишь?
— Я? — Он ткнул себя большим пальцем в грудь. — Я — Маркиз.
Наконец-то я понял, почему он производит такое странное впечатление: очень уж необыкновенное лицо — лоб круглый, выпуклый, ноздри — словно пещеры, того и гляди вылетит оттуда стая летучих мышей, волосы густые, стоят дыбом, словно какие-то заросли.
— Маркиз — владетель Отмычки? Или Вонючей Трубки?
— Нет. — Наглый и уклончивый, он по-прежнему глядел в потолок. — Просто Маркиз, и больше ничего. Знаешь, табак у тебя очень хороший.
— Что такое?
— Табак, говорю.
— Какой табак?
— Ну вот этот же, парень, этот.
— Да какой же, скажи, какой?
— Этот, не видишь, что ли, который наверху.
Он указал на бумажный пакет, заброшенный на шкаф. Но там в пакете был вовсе не табак. Там было мате, давным-давно высохшее, забытое кем-то из прежних жильцов.
— Ну, хорошо, пусть будет так, как ты говоришь, только очень уж хорош. И хватит тебе на меня фыркать. Ты должен радоваться, что кто-то интересуется твоими рассказами.
— Ну, что ж, может, и так.
— А что? Ты уже нашел издателя? Тебя согласились печатать в «Лосаде»?
Я послал его куда подальше. Он нахмурился:
— Нет, моя радость, напрасно ты пренебрегаешь.
— Чем?
— А моими критическими замечаниями. И хватит кривляться, давай начинай. Мне все равно, что ты будешь читать. Конечно, лучше что-нибудь покороче, это уж обязательно.
Сам не знаю почему и как, может, зашевелился во мне червь тщеславия или другая тут причина, а только я стал читать. И после каждого абзаца косился краем глаза на Маркиза. Трудно было понять, слушает он или нет, лежит неподвижно, рассеянно глядит в потолок да трубку посасывает, втягивая небритые щеки.
Вдруг он резко вскочил:
— Нет, так нельзя, ни за что. Чепуха какая!
— Что нельзя?
— Ну как же ты не понимаешь! — Он кричал скрипучим жестяным голосом, бурно размахивал руками.
— Что я такое должен понимать, черт бы тебя взял со всеми потрохами?
Он немного успокоился:
— Ну-ка, прочти еще раз последний абзац. И не волнуйся. Я же тебе глаза не выцарапаю.
— Это ты не волнуйся. Верещишь, будто родить собрался.
— Неправда. Я не верещу. Просто немного нервничаю, это я могу признать. Потому что литература для меня… — Он сплюнул на пол. — Ну да ладно. Прочти еще раз последний абзац. Я тебя уже просил, а теперь просто умоляю. — Он собрал губы в куриную гузку.
— Тебе в самом деле интересно?
— Совершенно серьезно. На коленях молю.
Хотелось схватить его за шиворот, надавать пинков и вышвырнуть за дверь. Я пристально смотрел ему в лицо. Он выдержал мой взгляд не мигая, чуть прищурив большие зеленые глаза. И я снова сдался, черт знает почему. Бывает же такое с человеком! Может, мне самому хотелось себя послушать.
Чтобы дать выход своему гневу, герой моего рассказа отправляется с ружьем в дубовую рощу, куда слетаются к вечеру серые цапли. Гремит выстрел — и «пять цапель упали на землю».
— Вот видишь? Я был прав. Не могут они упасть. — Теперь он улыбался совсем по-детски, обнажая мелкие, в пятнах никотина зубы.
— Ну как же им не упасть, если каждой досталось по дробинке? Ангелы они неуязвимые, что ли, эти дерьмовые цапли?
— Не ангелы и не архангелы, а упасть не могут.
— Ну, тогда я ничего не понимаю.
— Сейчас объясню, не спеши. — Маркиз стал искать спички. У меня их тоже не оказалось. Он выбил трубку о стену и снова улегся, подсунув под голову сложенную подушку. — Слушай меня внимательно: упасть — глагол пошлый, тусклый. Он совершенно не выражает всей драматичности момента. Ты забываешь, что герой-то твой разъярен, поэтому цапли никоим образом не могут просто-напросто упасть.
— Что же они тогда, спланировали?
Он вскочил, принялся нервно расхаживать по комнате.
— Шлепнулись! — вскричал он вдруг торжествующе. — Конечно! Эти цапли шлепнулись! Все живое шлепается — ветка, рука. Они же тоже живые, и этот твой подлец со злости их подстрелил, вот они и шлепнулись. Понял ты наконец?
Я колебался. Может быть и так. Может быть. Я чувствовал, что урок этот следует хорошенько разжевать, тогда, вероятно, из него можно будет многое извлечь. Не ожидая просьбы, я принялся читать дальше. Хотя, конечно, сделал вид, будто мне не слишком-то хочется. Не успел я прочитать и полстраницы, как Маркиз снова перебил меня:
— Постой-ка. Послушай. Послушай! Чтобы написать рассказ, человеку — тебе, мне, Чехову, кому угодно — надо не больше трех или четырех тысяч слов. Больше нельзя. И вот с помощью этой крошечной кучки слов ты должен создать живых людей, развить интригу, поселить своих персонажей в определенную среду, да вдобавок еще сделать так, чтоб у читателя сердце сжалось. Он снова сплюнул на пол.
— Читатель, может быть, прочтет твой рассказ в парикмахерской или сидя перед сном в уборной, и все-таки надо, чтобы он не забывал прочитанное, чтоб помнил хотя бы один день или год. Или тысячу лет, если ты гений. Вот почему писатель не может позволить себе роскошь потратить даром, кинуть на ветер хотя бы одно только слово.
Каждое слово у тебя должно быть будто из бархата или из змеиной кожи. Оно дрожит, оно ревет или шелестит. Вдобавок надо, чтобы слова жили между собой в ладу, как пчелы в улье; пусть они любят друг друга, пусть целуются, пусть сгорают в огне страсти. Ты меня слушаешь? Только так ты сможешь зажечь огонь и в сердце читателя, оставить на нем зарубку навеки, задеть его за живое, покорить!
Зеленые глаза Маркиза сверкали. Сам не знаю как, я ощутил вдруг, насколько он выше меня. И хуже всего то, что я сам это понимаю.
— А кроме того, — Маркиз все еще шагал из угла в угол — за каждым словом стоит на страже сама жизнь. И читатель всегда так или иначе чувствует это, ощущает в твоих словах трепет живой жизни. Тебе ясно? Ты понял? Ну, дай-то бог. Дай-то бог, потому что есть сколько угодно таких болванов, которые пятьдесят лет занимаются писательством, а потом помирают, так и не поняв этого. Но ты мне лучше вот что скажи: есть тут ванная?
— Да, да, конечно есть!
— Где?
— В конце коридора. А зачем тебе?
— Хочу принять душ. Я уже провонял весь. В моем пансионе нет горячей воды, а мыться талым снегом нипочем меня не заставишь.
— Но здесь за горячую воду берут отдельную плату.
— Брось, не жадничай. — Без лишних слов он разделся прямо посреди комнаты, достал из шкафа мой купальный халат и домашние туфли; облаченный в халат, волочившийся по полу, будто кардинальская мантия, с достоинством проследовал по коридору в ванную.
Я был озадачен и заинтригован. Что за чудище, черт побери? В самом деле он такой или все это розыгрыш? Кому могло прийти в голову так меня разыгрывать? Что ему от меня нужно?
По акценту я догадался, что Маркиз венесуэлец. У нас в тропиках водятся такого рода птицы — блестящие, искрящиеся талантом, эфемерные, как бенгальский огонь. Умелые импровизаторы, остроумные пародисты, они ловко сыплют цитатами из самых различных авторов, и никто даже не заподозрит их в плагиате; вот и Маркиз такой же — фокусник, может на потеху публике вынуть из вазы бабочку или ягуара; да, конечно, просто ярмарочный шарлатан, но, черт побери, случается, что такой тип оказывается вдруг Рубеном Дарио[1] и выводит на поле боя четыре сотни малахитовых своих слонов и разбивает всех врагов наголову.
Хотелось собраться с мыслями, понять, восхищен ли я или преисполнен отвращения, а на худой конец избавиться хоть от вонючего дыма, который все еще клубился по углам комнаты. Я вышел на балкон.
О, угол, где скрещиваются улицы Бандера и Сан-Пабло! Как все здесь фантастично, театрально, и каждый день свершаются на этой сцене немыслимые чудеса, выступают невиданные уродцы! Что за суматоха, что за ошеломляющее кипение жизни!
Ранним утром спешат за хлебом работницы, детишки, волоча ранцы, бегут в школу. Потом являются застегнутые на все пуговицы чиновники. Эти боятся всего на свете: боятся опоздать, боятся, что они боятся, боятся, что это кто-то заметит и из них будут еще больше выжимать соки. Следом за чиновниками мелко семенят богомолки, плетутся в собор, уродливые до святости девы Марии приходского масштаба. Дальше тянутся один за другим, будто цепочка муравьев: плотник тащит завернутую в газеты ножовку, швея толкает перед собой швейную машину, жених несет кольцо, парикмахер — ножницы, вдова — жалкие свои украшения, студент — словарь. Все озабочены, все подсчитывают да рассчитывают, сколько сентаво дадут им за все это добро; там, в переулке, стоит здание, облицованное гранитом, с забранными решетками окнами — ломбард.
В полдень поезда изрыгают толпы крестьян с юга, их вышвырнули из латифундий, на каждом — почерневшее от дождей сомбреро, у каждого — фанерный чемодан да плетеная ивовая корзинка, и у всех на бечевке, обвязанной вокруг запястья, непременно висит вниз головой пара кур. Сантьяго ширится, и все они в конце концов отыщут пристанище в городском хаосе, кто в битком набитом многоквартирном доме, кто в растущих словно грибы домишках предместий. Будут кормиться супом из костей, фасолью, луком. Потом устроятся на работу, пойдут на любую, за любую плату. Вступят в профсоюз; купят в рассрочку дешевенький приемник… За приезжими, будто акулы за косяком рыбы, идут всякие ловкачи, аферисты, мошенники, карманники. Постовой на углу смотрит на них, помахивает жезлом. Но не трогает. Какое ему дело?
Незадолго до трех проститутки, кислые, сонные, отправляются на дневной сеанс в кинотеатр «Сантьяго» смотреть новую мексиканскую мелодраму и плакать от всей души. Так приятно поплакать в темноте, всем вместе, дружно, невинно!
Медленно разливаются лиловые нежные сумерки. Зажигаются неоновые рекламы «Эль Хоте», «Эль Цеппелина» и других кабаре; появляются наркоманы в мятых брюках — они ведь спят не раздеваясь — зыбкие, смутные фигуры. Около полуночи проходит компания маменькиных сынков с туго набитыми карманами, эх, как они будут веселиться, кутить вовсю. Через час те же сопляки, хныкая, плетутся назад: бандиты отобрали у них кольца, деньги, раздели, спасибо хоть трусы оставили.
Светает. И снова — запах свежего, только что вынутого из печи хлеба, детишки в сползающих чулках бегут 4 в школу…
Вот откуда явился мой гость, с этих улиц, из этого варева, где кипят страсти и мечутся уродцы. И я просто уверен, что так же неожиданно он и исчезнет — скроется, окутанная дымом, смешная его голова, растворится мой гномик во тьме, замешается в компанию гуляк, что, здорово хлебнувши, шагают по середине мостовой и горланят «Камбалаче».
Так, значит, он уйдет? Да. Так же, как пришел. Неожиданный, странный, хвастливый, исчезнет, не оставив следа.
И все-таки что-то мне говорило: нет, не из тех он, что шипят да путаются под ногами, будто испуганная кошка при виде собачьей драки. Случайную эту встречу ты будешь помнить всю жизнь, она останется без видимой причины, сама собой, как остаются кольца на древесине. Пройдут годы, и напрасно будешь ты стараться вырвать ее из памяти, это все равно что вырывать тот крошечный нерв, который находится у тебя в зубе, совсем малюсенький, да, правда, но мысль о нем доводит тебя до сумасшествия, и, может статься, именно благодаря своему сумасшествию ты сумеешь пройти достойно через дни, когда все валится из рук и ты жалок, как мокрая курица.
И как он может, спрашивал я себя, так здорово соображать этой своей башкой, словно поросшей густыми зарослями? А ведь он и в самом деле соображает, проклятый, и, как ни противно мне это признавать, очень даже толково. Да, конечно, конечно же цапли шлепнулись. И, вспоминая замечание Маркиза, такое простое, кристально ясное, я страстно желал лишь одного: пусть он уйдет как можно скорее, чтобы мне подумать, пересмотреть заново свою работу. Я проверю каждое определение, каждый глагол, каждую самую паршивую запятую. Чтоб он лопнул, окаянный!
Послышались шаги, Маркиз возвращается. Причесанный, напомаженный, весь сияет и, кажется, чувствует себя красавцем. Откуда он раздобыл расческу и бриалин? Молча швырнул в шкаф мои домашние туфли, выбрал из двух моих рубашек лучшую, сказал, показывая свою, грязную, засаленную: «Мы с тобой поменяемся. Ты ее отдашь постирать, она же марки «Эрроу», не то что твоя — марки «Барахло». Надел рубашку, застегнул на все пуговицы; довольный, погладил себя по груди; потом напялил пиджак, пальто и снова улегся на кровать.
Читать еще я не согласился. Не испытываю ни малейшего желания.
— В чем дело? Ты обиделся?
— Нет, нет.
— Ты уверен, что нет?
— Уверен. Хочу еще выправить немного.
— Только немного?
— Ну, ладно, старик, много.
— Вот это мне больше нравится. One per cent inspiration[2], а девяносто девять надо выдавить из себя трудом. Но ты все-таки расскажи хоть, чем там кончается. Этот тип женится у тебя на Кете?
— Не знаю. Может быть, я еще не решил.
— Ну так я тебе скажу — даже и не думай. Учти, что в глубине души он хочет только одного — овладеть ею, прижать, и только. А потом — прости-прощай, не скучай, как говорят у вас в Чили. Спроси у него, сам увидишь.
— Да, да. Да! — Я с трудом сдерживал свой гнев. Маркиз заметил наконец, в каком я состоянии.
— С другой стороны, это, конечно, дело твое. А я, пожалуй, пойду. Вдобавок у тебя спичек нет.
Он преспокойно взял пакет с мате, попрощался весьма странно — пошевелил пальцами где-то у себя под подбородком — и вышел, насвистывая, не позаботившись даже прикрыть за собой дверь.
ГЛАВА II
Прошло несколько недель; я немного успокоился и решил выбрать свободную минутку и повидаться со студентами-латиноамериканцами; я любил встречаться с ними, хоть изредка; собирались мы обычно в Ла-Пуньяладе или в Лос-Порталес, а иногда в немецком баре, где подавали молодое пиво и свинину с sauer Kraut[3], на худой же конец, когда финансы, как говорится, поют романсы, шли в «Блэкэн-уайт»[4] есть тощий бифштекс да слушать танго в исполнении сильно истрепанной соперницы Либертад Ламарк. В этот притон студент заходил после или перед тем, как встретиться с возлюбленной, что служит в фирме, торгующей содовой водой, или чтобы доделать задание по тригонометрии, коммерческому делу, по латыни и лишь в том случае, если на почту уже наведывался и убедился, что денежный перевод от министерства или от папы еще не получен. Здесь можно было увидеть и уроженца Никарагуа, в чьей душе навеки запечатлен образ Сандино[5]; и костариканца — с виду он тихий, но попробуйте завести его немного — как с цепи сорвется, начнет толковать про недавнюю гражданскую войну, а что к чему — черт ногу сломит, ни пойми, ни разбери; и эквадорца, что говорит то ли с негодованием, то ли с тоской: «Десять тысяч индейцев у моего папы, и все работают на него»; венесуэлец же обязательно либо ромулист, либо антиромулист [6], можно подумать, будто вся философия двадцатого века призвана решать одну-единственную, самую важную для человечества проблему — относиться ли к этому подонку с ненавистью или с восторгом; тут встретите вы и боливийца, и исполненного музыки и трагизма парагвайца.
Я любил общаться с ними, любил ощущать рядом с собой прекрасное израненное тело нашей Америки, заглядывать в этот волшебный котел, где смешались все расы мира; любил слушать рассказы о Сесаре Вальехо[7] и Хосе де ла Куадра[8], о Кармен Лира[9] и Саларруэ[10], об индейском племени отавалов, об Имбабуре, о жизни, если только это можно назвать жизнью, собирателей каучука, искателей изумрудов, пеонов банановых и какаовых плантаций, работников табачных фабрик, ловцов акул.
Бурные, шумные наши студенты походили на обитателей Латинского квартала, он словно расширился от Сены до Мапочо, от собора Нотр-Дам до Посада-дель-Коррехидор.
Они приехали сюда, в славное Чили Народного фронта, чтобы учиться в знаменитом университете Бельо[11]; кого привлекло то, что за доллар много песо дают, кого — дешевое (три бутылки на доллар) вино; были и такие, что спасались от преследований, которым подвергались у себя на родине, бежали от зверей-полковников; а некоторым не пришлось учиться дома потому, что университет закрыли за распространение революционных идей.
Мы, чилийцы, относились к ним по большей части с опаской; девушки, впрочем, их меньше остерегались. У мулатов, сам знаешь, кровь горячая, опять же экзотика привлекает, да к тому же они неутомимы в ухаживаниях, щедры и почтительны. И все же приезжие латиноамериканцы жили особняком, уединенно, как на острове, хотя магическое очарование Чили постепенно проникало в их сердца, и много лет спустя, возвратись в родные края, они каждый год праздновали Восемнадцатое число[12], ели пироги с мясом и плясали куэку[13].
На этот раз я пришел, чтобы разузнать побольше о Маркизе. Словно кость засел он у меня в горле — ни проглотить, ни выплюнуть. Кто он такой, что таит на душе, если только есть у него душа; каким ветром прибило его к нашим берегам; что пишет, и есть ли толк в его писаниях.
Маркиза знали все, и тем не менее мало что прояснилось. «Веселый малый», «Отчаянный, все на карту поставит», «Живой как ртуть», «Пишет мудрено, стиль слишком уж изощренный».
«Он член партии «Демократического действия»?» — «Нет, вовсе нет». — «Говорят, Ромуло Гальегос считает, что из писателей нашего поколения он подает больше всех надежд». — «А на какие средства существует?» — «Загадка». — «Нет, я точно знаю: дипломные работы пишет студентам педагогического института». — «А рассказы свои не печатает?» — «Несколько лет назад опубликовал книжечку». — «Не верю, он не способен даже на это». — «Нет, правда, я сам видел экземпляр, весь залитый вином, конечно».
Алькантара получил только что денежный перевод и потому заказал еще четыре бутылки, но Лучито Фебрес прикрыл свой стакан ладонью: «Не могу больше, завтра экзамен по гистологии, зверский».
А я все не отставал: «Слушай, а Маркиз талантливый?» — «Ни капельки». — «Просто любит удивлять публику». — «Словами жонглирует». — «Схватит тебя за лацканы — и никак от него не отделаешься». — «В один прекрасный день возьмет да и повесится, найдут в ванной». — «Короче говоря — что-то из «Расёмона»[14].
Ньято Кастро скоро должен был получить диплом врача-психиатра и потому заявил, что Маркиз — шизофреник, причем шизофрения его проявляется в форме гебефренической.
«А что это такое?» — «Признаки повышенной нервозности, склонность к галлюцинациям, состояние тревоги, меланхолия». Другие студенты-медики стали доказывать, что нет, это скорее гебоидофреническая форма, голоса разделились, со всех сторон сыпались ученые слова, мы заскучали, однако никто не уходил, сидели и пили, как нанятые.
И тут я увидел Маркиза. Он выглядывал из-за бутылки. Потом сел посреди стола, крошечный, словно гном, улыбнулся беспомощно, обмакнул мизинец в стакан, стал сосать, словно ребенок карамельку. Я затряс головой. Маркиз взобрался на плечо Кике, потом спрыгнул на пол и исчез наконец, на мое счастье.
Стало страшно. Виду я, конечно, не подал, а то зачислят, пожалуй, в какую-нибудь еще худшую категорию психов. Я боялся, как бы не начался у меня тик или что-либо подобное, и поскорей осушил до дна стакан, а за ним — еще один, может быть, лучше будет, клин клином вышибают, как говаривал мой дедушка.
Медицинский разговор все топтался на одном и том же, заело, будто старую пластинку, толку не выходило никакого. Оливарес был непонятен всем, так же как и мне, его «поступаю, как мне на ум взбредет» выглядело таинственно. Ах да, забыл: фамилию Маркиза выяснить удалось — Оливарес.
Фебрес все бормотал про зверский экзамен по гистологии, пока его не стошнило. Пришлось дать ему крепкого кофе и двойную порцию водки из Писко, тут он вроде бы пришел в себя, по крайней мере хоть глаза перестал закатывать. Разговор увял, оживление погасло. Черный Угол, как подобает истинному мулату, взбесился из-за какого-то пустяка, начал яростно рвать свои курчавые волосы. Этот и другие признаки предвещали неприятный финал пиршества, и, когда Лучо снова стал твердить, что надо идти, я вызвался проводить его. Тем более что Лучо был плох и еле стоял на ногах, а уличные грабители, без всякого сомнения, не захотят упустить такой случай.
Мы вышли на свежий воздух. Лучо брел, хватаясь за стены, и постепенно трезвел. Он потребовал, чтобы я остался ночевать, сказал, что постелит мне на софе, и поставил чайник. Лучо горячо веровал в чай. Однажды он прочел какую-то книгу о чае, то ли Окакусо, то ли Каракуро, и на всю жизнь уверовал в оздоровительные его свойства; кроме того, он старался соблюдать чайную церемонию и даже находил ее поэтичной. Все это очень характерно для Лучо. И мы пили одну чашку за другой. Лучо держал во рту кусочек сахару и, втягивая щеки, сосал через него чай, так делали славяне еще тысячу лет тому назад, уверял он меня.
В конце концов чай взбодрил Лучо. Он забыл об экзамене и стал ставить пластинки: «Грустный вальс», «К Элизе» и прочие трогательности, а на закуску — анданте кантабиле, тут уж оставалось только залиться горючими слезами, тем более после такой солидной дозы спиртного. И вдруг Лучо, продолжая еще икать, спросил, почему меня так интересует Маркиз.
— Он явился ни с того ни с сего ко мне в пансион, и с тех пор мне как-то не по себе. Что-то в нем есть темное, скрытое.
— Но он не гомосексуалист.
— Нет, я вижу, что нет.
— А что тебе хочется о нем узнать?
— Все. Для начала — откуда у него такое прозвище.
— Это не прозвище.
— Сейчас ты скажешь, что он и в самом деле маркиз.
— Нет, но титул он заслужил. А часто он к тебе заходит?
— Не очень. Приходит и просит, чтоб я почитал ему свои сочинения; прекрасный способ войти в доверие, я это очень хорошо понимаю.
— А о чем он с тобой разговаривает, кроме литературы?
— Я смотрю, ты ему тоже не слишком-то доверяешь…
— Ну уж так прямо — не доверяю. Я им восхищаюсь, но только…
— Можешь успокоиться. Чего нет, того нет: ни одного подозрительного вопроса я от него не слышал.
Лучо поднялся, отправился на кухню заварить еще чаю. Я высунулся в окно. Деревья в парке Форесталь уже облетели, прямо перед окном гордо высилась паблония. Вокруг — ни души. Парк дремал, нагой и прекрасный, словно женщина. Лишь в одном месте шевелились-качались кусты. Любовь нищих. Бедная храбрая любовь — па улице два градуса ниже нуля.
Лучито не хочет смотреть в окно. Он снова пьет чай и слушает музыку. Теперь другой набор — «Вечер в Гранаде» и тому подобное, я же рассматриваю книги. У Лучо очень много книг, просто горы, книги лежат даже под кроватью. Медицина и марксизм. И тут же — вот так гадкий утенок! — Амадо Нерво[15], том из полного собрания стихотворений, кожаный, тисненный золотом переплет. На стене — карта Кореи, Лучо отмечает передвижение войск разноцветными булавками, над камином — огромная репродукция Диего де Риверы — Сапата[16] на белом коне.
— Мы никогда не говорили с тобой всерьез, Лучито. — Я перелистываю томик Нерво. — Но мне кажется, я знаю о тебе все, что надо. — Я обернулся, взглянул на Лучо. Он улыбался.
Время было тяжелое, и мы твердо усвоили — не задавать лишних вопросов. Но о Лучо я, кажется, знал все. И он тоже все знал обо мне. Потому-то и предложил мне переночевать у него на софе. Мы доверяли друг другу, только и всего.
— Но не подумай, что он может продать.
— Кто?
— Да Маркиз же.
— А! Да нет, мне и в голову не приходило. — Я сделал вид, будто вовсе и не сомневался. — Меня ведь что занимает, — продолжал я поспешно, — у него редкое литературное дарование. Представь себе: заставил меня читать рассказ — и вдруг прерывает и повторяет весь рассказ наизусть, только по-другому, в стиле Хемингуэя, да так чисто, так здорово, тут же, на месте, экспромтом. Просто невероятно! Мало этого — взял и повторил тот же рассказ еще раз, но уже в стиле Конрада.
— Я вот тебя слушаю, все равно как по-китайски ты говоришь. Я же все эти ерундовины не читаю. Только Нерво и «Двадцать стихотворений»[17]. Но все-таки, кажется, понял, о чем речь.
— Ну, вот, и это меня, конечно, заинтриговало. Такой талант у человека, а он — никто!
— Не хочу хвастаться, но у нас в Венесуэле таких типов сколько хочешь.
— Да ну, не трепись. Тут какая-то тайна. Расскажи-ка о нем все, что знаешь.
И тут выяснилось, что Лучито знает больше, чем все остальные, вместе взятые.
Последние годы существования диктатуры Хуана Висенте Гомеса[18]. Стон стоял над Венесуэлой. На столбах вдоль дорог качались повешенные. Рано, до темноты, заперты все двери. Люди говорят шепотом, намеками. Где-то слышатся редкие выстрелы. Огромная гадина, грязная, липкая, проникает всюду, в каждую щель, и мерзкие черви — ее порождения, шпики и доносчики, наводняют страну.
Оливарес, недавно начавший работать в одной каракасской вечерней газете, вздумал как-то раз процитировать несколько строк из прозы Рубена Дарио о золоте, о презренном губительном металле. «Смотри, пропадешь ни за что ни про что», — предостерег его какой-то приятель. Но Оливарес не обратил внимания на эти слова. Той же ночью Оливареса забрали.
Удар ногой в бедро — так начался допрос.
— Я уже говорил вам, сержант, — Оливарес потер ногу, — что это написал не я. Это написал великий никарагуанский поэт.
— Какие там еще, к дьяволу, поэты из Никарагуа! Ты это написал, хотел пакость сделать нашему генералу.
Снова удар ногой, сержант метил в пах, но, к счастью, попал по колену. До сей поры болит у Оливареса нога, мениск.
Издатель газеты сумел как-то увернуться. В посольстве Никарагуа сказали, что их великий поэт не мог написать подобное безобразие. Адвокат, которого наняла было Оливаресу газета («Но только чтоб ни один человек не знал, понял?»), отказался от защиты. Все, кто мог бы помочь Оливаресу, либо сами сидели в тюрьме, либо были сосланы. И все-таки он дешево отделался — всего лишь два года каторги в штате Мерида; голое ледяное плоскогорье в Андах, четыре тысячи метров над уровнем моря, северный ветер, град.
И вот тянется длинная цепочка. Оливарес шагает вместе с сотней других несчастных: кого приговорили за угон скота, кого — за изнасилование, были и такие, что пытались организовать борьбу рабочих-нефтяников, были и отцеубийцы, и такие, что бросали листовки, а один негр отбывал каторгу за страсть к пиротехническим эффектам — взял да и спалил четыре квартала в Баркисимето, сам не зная зачем. Всякого тут народу хватало. А этот, новенький, за образованность попал.
Оливареса поставили вместе с другими долбить киркой и ломом огромную скалу — предполагалось, что когда-нибудь здесь будет проложена дорога. Он подошел к скале, измерил ее взглядом и понял: это все равно что таскать щепотками землю с вершины Чимборасо. И объявил, что работать не будет.
Конвойные сначала смеялись. Потом ударом приклада вывихнули ему ключицу. Он стоял на своем. Явились еще конвойные, поднялся шум, через минуту он лежал на земле и извивался от боли, как червяк. На него вылили ведро грязной воды, чтоб очухался. Он выплюнул с кровью выбитые зубы и сказал, что не будет работать даром ни на какое правительство.
Заключенные окружили его. Суровые эти люди немало повидали на своем веку. Но упорство юного крошечного человечка, такого слабого и смешного, поразило их. А он все стоял на своем. И они перестали смеяться. Может, стыдно им стало, не могу тебе сказать. Я никогда не сидел в тюрьме и просто не знаю. Знаю только, что огнепоклонник принялся колотить ломом по своим цепям, другие тоже, гром нарастал все грознее, взметнулась слепая ярость, полетели камни.
Сержант заколебался. Пробормотал что-то сквозь зубы и отошел. Конвойные еще помахали палками — просто но инерции, разбили кое-кому голову, и порядок восстановился. Но с этого дня Оливарес с перевязанным плечом — в бараке в числе заключенных оказался хирург — каждое утро шел в общем строю к скале; по молчаливому соглашению его не заставляли больше работать, заключенные брались за свои кирки, а он сидел на земле и рассказывал им разные истории. И анекдоты тоже.
Вот тогда-то его и прозвали Маркизом. Может быть, хотели выразить свое уважение. А может, в шутку. Кто их разберет! Оливаресу понравилось прозвище, он его принял, и теперь уже немногие знают подлинное его имя,
— А какого черта занесло его в Чили?
— После падения Гомеса он вернулся в Каракас и несколько лет мозолил всем глаза; наконец Медина Ангарита[19] приказал возместить ему убытки. Первый случай во всей нашей истории. С целой кучей монет отправился Оливарес в бюро путешествий, хотел выяснить, в какой точке земного шара выгодней всего обменять деньги. И вот приземлился здесь. Разумеется, деньги утекли меньше чем за год.
— А его писания? Расскажи о них. Про что он пишет? Он мне ни разу ни одного своего рассказа не показал.
— Об этом я ничего не знаю. Я тебе уже говорил. — Лучо снова икнул. — Те несколько раз, что я с ним разговаривал, речь у нас шла о парапсихологии. Кое-что он в ней смыслит.
— Некоторые говорят, будто после той первой книги он больше ничего не писал. И будто он сочиняет рассказы, но держит их в голове и может любой проговорить на память, а сесть и записать не в состоянии.
— Говорю тебе, об этом я ничего не знаю.
Музыка давно умолкла, Лучо зевал во весь рот.
— Мы с тобой еще вот про что не поговорили, — я решил сменить тему, — как нас папа-то отлучил, ipse facto[20], навек. Так что теперь ты понял, какой ты есть: «глубоко развращенный». Здорово, да?
— Ничего удивительного. Должен же он внести свою лепту в дело холодной войны.
— Конечно. Скажи-ка, что ты обо всем этом думаешь?
— О чем?
— Каково, на твой взгляд, положение здесь сейчас в общих чертах?
Лучо глянул на меня сердито:
— Ты что, соображаешь? Может, не слыхал, какую зверскую расправу учинили солдаты с шахтерами в Лоте?
Латиноамериканские студенты боялись, одни больше, другие меньше, как бы и их не коснулись репрессии, что шли уже целый год и с каждым месяцем все усиливались. Из своих родных мест, из Парагвая, из Никарагуа, приехали они в Чили, где девушки славятся красотой и страстностью, рабочее движение кипит, а культура процветает. И вдруг увидели: свободу гонят по улицам нагую. Чили тысяча девятьсот пятидесятого года, страна Никомедеса, Педро де ла Барра, старого Антонио Асеведо[21], дона Элиаса[22]. Страна светил университетской науки и многолюдных демонстрации — огромных толп, над которыми стоит запах оливкового масла, лука и пота. Страна вишен «Голубиное сердечко», розоватого винограда и темных маслин.
Словно человек, что, повернувшись на другой бок, с ужасом видит на лежащем рядом обнаженном теле пятна проказы, чилийцы увидели вдруг другое лицо своей страны — враждебное, страшное. От этого другого лица старались отвернуться, не хотели ничего знать о нем, а иной раз, как дети, пытались заклясть, повторяя наивные утверждения, в которые сами не верили, но которые и не опровергали по-настоящему. Другое лицо рождает в нас отвращение и стыд, но мы не сумели до сей поры обратить свой стыд в призыв раздавить гадину. Нам не следовало забывать о ее существовании. Потому что безжалостный маятник качается, проходит какое-то время — и снова неизбежно встает другое лицо страны, страшное лицо.
— Но мы сумеем выйти победителями из этой схватки. — Я волновался, говорил со всей убежденностью, на какую только был способен. — Все к лучшему. Мы научимся смотреть на жизнь более сознательно, избавимся от наивности.
Лучо молча покачивал ногой.
— Ты веришь в то, что говоришь?
— Я должен верить. Это так. Если бы я не верил…
— Значит, не веришь. Наша вера не такая, как у людей религиозных, — Лучо поднял палец. — Лучше, по-моему, сказать так: мы должны верить, поскольку, анализируя… Нет, не то. Чтобы освободиться от мелкобуржуазной сентиментальности, мало желать этого. Политика — не точная наука. И не дело чувствительных слюнявых интеллигентов вроде нас с тобой. Вот ведь и в жизни Маркиза тебя заинтересовала всего только драма одинокого индивидуалиста, ты не сумел увидеть всего того, что стоит за этой драмой.
Лицо Лучо сморщилось, будто он собирался заплакать. Но нет. Лучо разжал кулаки.
Я не знал, что ответить. Перед искренним воодушевлением я всегда пасую. Лучо выбил почву у меня из-под ног, и, лишенный привычного оптимизма, я как бы повис в безвоздушном пространстве.
Лучо, кажется, понял, что со мной происходит, и умолк. Он принес великолепное грубошерстное одеяло, набросил его на меня и ушел к себе в спальню. Я лег на диван, устроился поудобнее и погасил свет.
В окно тянуло запахом гнилых фруктов и сырой кожи. Потом послышался далекий крик, сирена патруля, топот бегущих, и все стихло. Рассветные лучи постепенно наполнили комнату жемчужным светом; я задремал и изредка, чуть приоткрыв глаза, видел перед собой на стене роскошные усы Сапаты, восседавшего на белом коне.
ГЛАВА III
Сыро, серо, печально зимой в Сантьяго. Снег выпадает красивыми хлопьями, но только раз в три-четыре года. И от этого еще обиднее. У богатых есть в домах центральное отопление, в конце недели они отправляются в Фарельонес кататься на лыжах. Бедные обогреваются жаровнями, едят черствые сопаипильяс[23], заматываются шарфами до самых ушей, а перед сном сушат горячим утюгом сырые простыни.
Хорошо еще, что в эту зиму нам выпала веселая неделька. Каплей, переполнившей чашу, явилось повышение цен за проезд в автобусе, а ведь и так жизнь до того дорогая, что впору завыть в голос, вот пожар и разгорелся. Сразу, в один миг. Всю эту неделю у меня буквально не было времени даже высморкаться. А от слезоточивых газов приходилось лить слезы, словно бедная вдова.
Капля вскоре превратилась в ручей, а ручей — в бурную лавину. Началась заваруха, власти растерялись. Одно плохо — почему не сказать правду? — мы не сумели предвидеть события, они застали нас врасплох, и в течение всей недели нам так и не удалось разобраться толком в ситуации, понять что к чему.
Первыми начали — была не была! — студенты. Будем бомбардировать автобусы камнями, ну-ка, нажмем, дружок! Остановят автобус, пассажиров долой и — давай! Раз! Два! Три! Сильней! Потом приволокли здоровенное бревно, раскачали, ударили раз, еще раз, еще, еще и, наконец, — бух! Автобус, словно поверженный мамонт, лежит посреди улицы.
Когда не осталось вокруг ни одного целого автобуса, начали валить уличные фонари. Пустяковое дело! Обвяжут столб веревкой, соберутся человек сто, а то и больше, и давай тянуть. Фонари валятся, будто сальные свечки. Полицейские битком набивали машины арестованными, но на смену им тотчас же являлись новые, а потом еще, еще и еще.
На третий день волнение перекинулось в предместья, рабочий класс выпрямился во весь рост, послышался его боевой призыв — вот когда Предателю[24] пришлось по-настоящему солоно. Выпали из его рук вожжи, он растерялся, потерял контроль над столицей. Опрокинутые автобусы, обгорелые, как головешки, лежали на улицах Реколета, Пила-дель-Гансо, Пунта-де-Риель… Кольцом окружали город предместья, где гнездилась нищета и веками копился гнев.
В пятницу снова пошли автобусы, каждый под охраной солдат с заряженными маузерами. Тогда стали свистеть вслед, писать лозунги. Придумали еще одну штуку, рискованную, правда, что верно то верно — запросто можно получить пулю в живот, — засовывали картошку. В выхлопную трубу, а ты думал куда? Автобус проедет несколько кварталов — и мотор начинает задыхаться, чихать, кашлять, наконец останавливается — и ни с места. Такие получались пробки — просто чудо!
Вдобавок как раз в эти дни появились в газетах сообщения о восстании в Боливии, и атмосфера накалилась еще сильнее: «Восставшие держат под своим контролем Кочабамбу», «Шахтеры Потоси закидали гранатами полк солдат». Как тут не поверить в успех!
Но получилось, конечно, как всегда бывает — «поначалу сладость, а потом гадость», как сказал Иуда, когда стал вешаться. Или как сказала старушка, когда у нее пошла кровь носом: «Не оттуда, так отсюда». В шести провинциях объявлено было чрезвычайное положение. Полицейские врывались в дома, арестовывали людей без всяких судебных предписаний. И многое другое началось, столь, же приятное. Тайные ночные расстрелы на кладбищах. В Лоте и в Коронеле — массовый расстрел шахтеров-угольщиков, шахтеров не запугаешь, они всегда впереди. Уволены шестьсот государственных служащих. В Сантьяго прибыли три полка солдат, а также отряды курсантов артиллерийской школы из Линареса и кавалерийской из Кильота.
Восстание было подавлено. Да, подавлено! И зима стала еще сырее, серей и печальней!
Однажды вечером, проходив несколько часов по улицам под тупо моросящим дождем, промокнув до костей, в мокром насквозь, тяжелом, будто свинцовом, пальто, вернулся и к себе в пансион. Подогрел немного настоя ромашки, выпил, чтобы хоть чем-то наполнить пустой желудок, и улегся в постель, навалив на себя одеяла, покрывало, купальный халат и два жилета; попытался было читать и не заметил, как и когда уснул.
В дверь барабанят!
Проклятье! Я подпрыгнул на кровати.
Но нет, ничего страшного. Это всего лишь Маркиз; лицо искажено, брюки в грязи до самых колен. Дрожит так, словно электробур у него в руках. В чем дело? Ограбили его, что ли? Молчит. Ничего не могу добиться. Потрогал его лоб — сорок, не меньше. Я уложил Маркиза в свою постель, прямо в брюках и в старом свитере, напоил горячим чаем и дал четыре таблетки аспирина; его так трясло, что пришлось, придерживая подбородок, вливать чай ему в рот. Потом я приволок из прихожей видавший виды ковер (потертые нимфы плясали вокруг старого сатира), забрал у Маркиза свою подушку — хватит с него и этого — и по возможности комфортабельно устроился на полу.
Маркиз тяжело дышал. Грудь высоко поднималась, вздувалась, словно шар, и снова опадала, тут, рядом со мной, на расстоянии метра. Я твердил себе, что тип этот сумел же выжить на Андском плоскогорье, и все-таки умирал от страха, не решался уснуть — а вдруг, проснувшись, я встречу навеки остановившийся взгляд его зеленых глаз. Навеки. Да, брат, к тому, видимо, шло дело.
Маркиз начал бредить. Говорил непонятно, странно, что-то о девушке капризной, резвой, будто маленький зверек: где твоя норка, хитрый зверек? Все перепуталось, смешалось, и не найти к ней дороги… Потом послышались слова: анапест, амфибрахий, силлогизм. Последнее он повторял без конца. Тянул в отчаянии руки: «Мама, не надо играть с червями, мама».
Проклятый ковер протерся до самой основы, ноги у меня совсем заледенели, я встал, чтоб надеть еще пару носков. Заодно потрогал лоб Маркиза. Аспирин подействовал, Маркиз обливался потом, как доменщик у печи. Вдруг он открыл один глаз и потребовал трубку. «А ну тебя!» Я снова завернулся в ковер и сразу уснул.
Не мог же я после всего этого выгнать его на улицу! Попросил поставить в мою комнату еще одну кровать; кресло пришлось убрать, а я так любил читать, сидя в нем вечерами. Донья Памела, предупредительная, как всегда, сказала: пусть Маркиз живет в пансионе даром две недели. Иногда она сама готовила ему какой-нибудь суп. Особенно по вкусу пришелся Маркизу суп из бычьих хвостов. Хлеб, сыр, суп и аспирин сделали свое дело, и через неделю Маркиз выздоровел. И все время сиял, радовался чему-то. Как-то раз донья Памела принесла ему тарелочку картофельного пюре с яйцами и сказала: «Чувствует, что нашел наконец пристанище».
— Что такое силлогизм, Маркиз?
— Зачем тебе?
— Хочу знать. Не знаю и хочу знать.
Он отвечал монотонно, будто читая энциклопедический словарь:
— Силлогизм есть форма логического заключения. Но ты никогда не пытайся говорить силлогизмами. На то существуют разные глаголы. Сократ говорил силлогизмами. Я говорю силлогизмами. А тебе не надо. У тебя интуиция, чутье.
Наконец Маркиз совсем оправился и в первый раз вышел из дому — я пригласил его поесть китового мяса. Ничего особенного, китовое мясо теперь в моде, а ресторан у нас рядом и недорогой. Маркиз с жадностью ел. Даже удивительно, сколько в него влезало. «Это протеины», — приговаривал он всякий раз, беря еще кусок. От вина Маркиз раскраснелся, разговорился, долго рассказывал о гражданах города Солнца, о Крокодилополисе, я думал, он все сочиняет, но нет, оказывается, этот город в самом деле существовал; потом завел речь о вдохновении свыше, о непознаваемой силе и «оккультном» золотого века в истории Египта, когда голода, старости, ядовитых змей и хищных ящериц еще не было. И даже тернии в те времена не кололись.
Я хотел было посмеяться над такой эрудицией, сказать, до чего же он надоел со своими фараонами, но тут Маркиз тронул меня за локоть — за соседний столик села молодая женщина, крепкая, с пышными формами и кроткими огромными креольскими очами. Маркиз повернулся к ней и принялся восхищаться коралловыми бусами, выделявшимися на фоне старенького шерстяного коричневого платья. Смуглянка благодарно улыбнулась — блеснули белоснежные зубы.
— Видишь, подействовало, — шепнул мне Маркиз, сияя. — Без промаха, психология. Начни я хвалить ее глаза или фигуру, она бы и слушать не стала, а может, даже, наоборот, рассердилась бы. Ну, а коралловая нитка стоит треть ее недельного заработка; долго она думала да рассчитывала, пока наконец решилась на эту покупку, и, конечно, М ужас до чего хочется, чтобы кто-нибудь обратил внимание на ее бусы. Ну, ты теперь ступай отсюда.
Маркиз попросил разрешения пересесть за ее стол, смуглянка кивнула, Маркиз прихватил с нашего стола бутылку вина — там оставалась примерно половина, мы заказывали две. Я расплатился и встал. Задержался немного в дверях — хотелось посмотреть, что будет дальше. Полузакрыв глаза, женщина нервно перебирала свои кораллы, Маркиз шептал что-то ей на ухо.
Вернулся Маркиз в полночь. Я услыхал в коридоре шаги и сразу узнал особую мягкую его походку.
— Ну, как было дело?
Он ничего не ответил, глядел победно и чуть не лопался ОТ самодовольства.
— Я уж вижу. Повезло тебе, дьяволу. Давай рассказывай.
— Проводил ее до фабрики. — Маркиз лег, завернулся и одеяло. — Она на текстильной фабрике работает, в конце улицы Сан-Пабло. Рассказала, что завтракала в ресторане потому, что сегодня ее именины, ну, я дождался конца смены, встретил ее у ворот фабрики и преподнес гвоздику. В цветочном магазинчике на улице Монеда добыл, знаешь, там старуха подслеповатая торгует, и не заметила даже, как я у нее экспроприацию произвел. Пригласил я смуглянку в кино.
— В кино? А деньги откуда?
— Ты не перебивай. Ты слушай; вышли мы из кино, она и говорит, а сама покраснела вся: «Не будет чрезмерно смело с моей стороны пригласить к себе писателя? Могу предложить стаканчик подогретого вина и апельсин». Соображаешь? Стаканчик подогретого вина и апельсин!
— Ну, ну, давай дальше, выпили вы вина и…
— Не торопись. Это один из твоих главных недостатков как новеллиста. Рассказывать надо обстоятельно, без спешки. Выпили мы вина (дай-ка мне еще сигарету); в комнате у нее на стене фотографии Кларка Гэйбла[25] и Габриэлы Мистраль[26], этажерка с книгами, Корин Тельядо, и «Кровь и надежда» тоже, над этой книгой она много плакала, Сердце Христово и свечечка перед ним. Матрас шелковый, голубой в золотых ромбах, а наволочки и простыни — тончайшие, восхитительные…
— Врешь ты все, негодяй.
— Ты мне дай рассказать, как я хочу. А то вообще не стану рассказывать.
— Никакие не восхитительные у нее простыни, просто бумажные, а то, может, и из мешковины.
— Тончайшие, восхитительные, говорю я тебе, тончайшие. Какая может быть мешковина, натуралист ты несчастный, жалкий бескрылый реалист! Изумительные, тончайшие, потрясающие!
— Ладно, пусть будут потрясающие. Она же тотчас искупалась в миндальном молоке. Давай жми дальше, романтик.
— Выпили мы вина, — он расплылся в улыбке от уха до уха, — она велела мне раздеваться в самом дальнем углу комнаты и повернуться лицом к стене. Холод в комнате собачий. Она же раздевалась перед Сердцем Иисусовым и при этом громким голосом читала молитвы. Вся покрылась гусиной кожей от холода. Но что за грудь! Какое тело! Упругая вся, твердая. Ей-богу, тверже, чем это поганое китовое мясо, которое ты заставил меня есть.
Маркиз не раз повергал меня в изумление, честное слово. Постелит, например, постель тщательно, аккуратно, ни одной морщинки чтоб не было, каждую пушинку сдует. И тут же на пол плюет и даже на стены, окурки куда попало по всей комнате расшвыривает. В первый же солнечный день после болезни вывесил на балкон свои грязные брюки и невообразимо заношенные носки. Когда брюки и носки высохли и затвердели, Маркиз взял платяную щетку и стал их чистить. Тучи пыли, лепешки грязи летели по комнате:
Услышав, что я вернулся, сказал, чрезвычайно довольный:
— Вот она, настоящая сухая чистка.
— Свинья чертова, тут же пыль столбом и вонища, дышать невозможно!
Маркиз поглядел лукаво и ничего не ответил.
Не меньше поражало меня его чтение. Всюду таскал он с собой какую-нибудь книгу, купленную за треть цены и букинистической лавке, потом продавал ее за пятую часть цены и покупал следующую. Читал он внимательно, жадно и потом повторял наизусть целые страницы, черт знает, какая была у него память! В изгрызенной мышами книге «Вавилонская поэма о сотворении мира» он вычитал историю о благородном человеке, на которого обрушиваются разного рода беды; в конце концов благородный человек превратился в скорбного, всеми покинутого изгнанника.
— Родная душа, приятель.
— Это почему же?
— Благородный, как ты, и тоже изгнанник. Он возмутился:
— Меня никто не изгонял. Я сам себя дискриминирую, тут совсем другое дело. — И пустился в длинные рассуждения.
На другой день, когда я вернулся домой, он сидел на кровати и вопил:
— «Голодные подобны трупам; сытые бросают вызов богам. В процветании своем клянутся они проникнуть на небеса; во вражде клянутся спуститься в ад!»
— Где ты раздобыл такие стихи?
— Это из вавилонской поэмы. Ужас что такое: будто раскаленное железо жуешь.
На той же неделе он запомнил целиком всю Бенаресскую проповедь из «Philosophie Indienne»[27] Глазенаппа, потом автобиографию Бенвенуто Челлини («Врет он еще хуже, чем Марко Поло, il figlio di puttana[28]»), а на закуску проглотил эстетическое исследование Делла Вольпе на итальянском языке.
Маркиз свободно читал на всех романских языках, кроме каталанского и румынского, к которым испытывал необъяснимое презрение. «Эти болтуны не создали ничего, кроме Дракулы[29]», — уверял он; о каталонцах же говорил, что они «потомки финикийцев».
Еще более странными оказались друзья Маркиза, те, кого мне удалось видеть, потому что некоторые свои знакомства он скрывал. По воскресеньям он ходил на ипподром с компанией железнодорожников; когда кто-нибудь выигрывал, меня тоже приглашали отметить это радостное событие. Покупали несколько килограммов бараньих потрохов, кровяную и свиную колбасу, огромную, на пятнадцать литров, бутыль с вином (нечего и говорить, что пива они, разумеется, наглотались еще раньше, и немало). Со всем этим добром отправлялись к кому-нибудь домой «прогреть немного кости», так это называлось.
Еще удивительнее были два других приятеля Маркиза: один прозывался Ноги-Жерди, он и в самом деле ходил очень странно, ступал с носка на пятку; другого звали Амеба. Весьма подозрительная пара, загадочные, раздражительные и хитрые, а физиономии до того мошеннические, просто печать негде ставить. Похоже, что Маркиз проводил с ними немало времени, поскольку иногда, возвратясь после долгой отлучки, он к месту и не к месту вставлял в свою речь не очень-то мне понятные жаргонные словечки.
— Смотри, впутают тебя в какую-нибудь историю, — предупреждал я его.
— С чего ты взял, эти ребята невинней любой послушницы.
Маркиз утверждал, что благодаря дружбе с ними он изучил современную жизнь лучше любого ученого; что в XIV веке Ноги-Жерди и Амеба были бы сподвижниками Франсуа Вийона (тут я, разумеется, не выдержал и расхохотался), и к тому же самые пошлые существа на белом свете — это, без всякого сомнения, поэты, все до одного, и толстопузые, и тощие; последнее было сказано, по-видимому, мне в пику за то, что смеялся.
Чудеса, однако, на этом не кончились. В один прекрасный день я обнаружил Маркиза сидящим на полу; он с увлечением писал алгебраические формулы и чертил треугольники на оберточной бумаге, пользуясь вместо линейки спичечным коробком.
— Гляди! — закричал он в волнении, протягивая мне бумагу.
— Не понимаю. Что тут?
— Да ведь все совершенно ясно, малыш. Ты хоть теорему Пифагора учил когда-нибудь?
— Представь себе, дошел до такой премудрости.
— Ну так смотри. — Он стал показывать треугольники на пальцах. — Я делаю вот такое построение: берем треугольники с гипотенузой а и катетами в и с, а они пусть являются гипотенузами других треугольников, все меньших и меньших, таким образом квадрат гипотенузы а будет равен сумме квадратов катетов всех этих маленьких треугольников. Понимаешь?
— Предположим. И что из этого?
— Если я буду продолжать строить треугольники, все меньше и меньше, настанет момент, когда квадрат каждого из них будет равен нулю или будет стремиться к нулю.
— Кажется, начинаю понимать немного. Но ты вот что скажи: давно это пришло тебе в голову?
— В Андах. Мой друг, математик, — он тоже был там, — давал мне уроки. Смысл в том, жалкий ты невежда, что в таком случае сумма квадратов всех этих отрезков равна нулю и она же равна квадрату гипотенузы а. И если бы только всякие там задрыги, вроде Лейбница или Ньютона, не перебежали мне дорогу, я сегодня открыл бы исчисление бесконечно малых. Соображаешь? Можешь понять, какую мне свинью подложили? Если бы я родился века на два раньше… Потому что с помощью этого построения я доказываю, что конечная величина представляется как предел суммы бесконечно малых величин, поскольку количество суммируемых величин растет безгранично. — Маркиз поднялся с полу, подошел к кровати и повалился на нее. — Не знаю только, зачем я тебе все это объясняю.
Голова у меня слегка кружилась. Я глядел на Маркиза, ошеломленный блестящим, хоть и не совсем понятным открытием; еще больше поразила меня его улыбка — да, да, улыбка, ясная, безмятежная, играла на его лице.
— Почему же ты не занялся потом математикой?
— Нет уж. — Маркиз больше не улыбался. — В наших дерьмовых государствах кому математика нужна? Либо бухгалтеру — помогать какому-нибудь богачу от налога на ренту увертываться, либо инженеру — рассчитывать конструкции зданий, да так, чтобы хорошенько нагреть руки, а потом первое же землетрясение разрушит эти здания до самого основания. Еще и в цемент они чего-то подмешивают и на этом наживаются. Вот Достоевский, например, не имел, к счастью, даже ни малейшего представления ни о существовании логарифмов, ни о комбинаторном анализе и не знал, что это за зверь такой — случайная величина…
С горячностью неофита попытался было я броситься на защиту математики и Достоевского, но он глянул презрительно и переменил разговор.
С первого же дня Маркиз и донья Памела, хозяйка нашего пансиона, нашли общий язык. Вдова художника, уроженца Эквадора, убитого в баре в пьяной драке, донья Памела была женщиной чувствительной, с аристократической внешностью и страдальческим взором; она любила вспоминать о прежних золотых временах, когда она, обнаженная, ложилась на шелковые подушки, а покойный супруг рисовал ее под пение виолончели. Теперь, подавляя страстную свою натуру, она жила скромно, в маленькой комнатке, битком набитой сувенирами более или менее эротического свойства; на самом видном месте красовался стеклянный сосуд с формалином, где хранилось сердце покойного художника. Каждому вновь пришедшему донья Памела демонстрировала сердце с черной дырочкой от пули. «Вот через это отверстие улетело счастье моей жизни», — говорила она с грустной задумчивостью и в то же время чуть-чуть кокетливо. Непарный орган дремал на камине, большой, землистый.
Маркиз и донья Памела разговаривали часами и даже завели обыкновение вместе завтракать. Общие темы нашлись легко: парапсихология, оккультные науки, инопланетяне, загадка пирамид… Донья Памела познакомила Маркиза со своими друзьями, он вошел в ее круг, центром какового была некая особа — медиум, и, как говорили, необычайной силы; дама эта красила веки серебряной краской; вся компания собиралась каждую пятницу вечером; вызывали души разных покойников и прочее в том же роде; с покойниками дама-медиум находилась, судя по всему, в самых приятельских отношениях.
Как-то раз решили просветить и меня, обрушили на мою бедную голову целый ворох неслыханных историй о телепатии, телекинезе, левитации и прочих ужасах. Маркиз тоже выступил насчет герменевтики ведических сочинений. «Не увиденное, не обнаруженное не существует: рог на голове зайца, цветок, растущий на небе, или дитя, рожденное бесплодной женщиной…»
Во мне пробудилось подозрение, что Маркиз просто стремится, бог весть с какой целью, произвести впечатление на донью Памелу; она слушала, и на лице ее отражалась печаль; я решил прервать выступление и закричал:
— Стать вашим сообщником? Да ни за что! Ни за что и никогда!
Меня тотчас же обвинили в ханжестве, в замшелом позитивизме, в вульгарном механицизме, стали дружно ругать всякими учеными словами, заявили, что во мне сидит страшно сказать сколько злых духов, и даже пригрозили их изгнать.
Маркиз вечно пропадал, скитался неведомо где, и очень трудно было улучить минутку, чтобы с ним побеседовать. Мне же во что бы то ни стало хотелось выжать его как губку, пусть скажет все, что знает и думает о ремесле литератора. К тому же и сам он с каждым днем все больше меня интересовал. Будто в мутном стекле, отражалась в нем еще незнакомая нам, чилийцам, трагедия интеллигенции, долгие годы страдающей под игом деспотов — правителей и их сатрапов; бессильный предпринять что-либо, интеллигент живет мечтами, мучится совестью, грызет себя, как собака грызет цепь, на которой сидит.
Вместе с тем товарищи рекомендовали мне быть осмотрительнее. Я объяснил, что бедняга Маркиз явился ко мне совсем больной, чуть ли не с воспалением легких.
— Нет!
Зная, что рабочие всегда относятся к интеллигентам с некоторым недоверием, я решил прибегнуть к неоспоримым доводам — принялся перечислять громкие имена прославленных интеллигентов-коммунистов: Жолио Кюри, Пикассо, Поль Робсон…
— Это все исключения, раз, два и обчелся, — отвечали мне. Мне посоветовали как можно скорее переехать в другой пансион, знакомым сказать, что уезжаю надолго в родные места. Я получу сложное задание, о чем меня оповестят в свое время. И — «чао!».
Я сказал донье Памеле, что уезжаю в Осорно, там живет единственная моя тетя и она заболела раком мозга, а в счет долга за квартиру останутся в залог мои книги; донья Памела рассердилась — как можно делать такие вещи, надо же было хотя бы предупредить за несколько дней. Потом расцеловала меня и благословила.
— Безобразник! Я не стану говорить вам «не делайте того, что вам подсказывает совесть», но будьте осторожны.
Берегите себя, они ведь такие звери.
Без сомнения, донья Памела кое о чем догадывалась; именно поэтому я притворился дурачком и даже не спросил, кого это она имеет в виду.
В тот же день я рассказал мою великолепную историю Маркизу, только, найдя, что рак мозга — как-то уж слишком жестоко, я решил перетранспортировать тетушкино заболевание в какое-нибудь другое место и на всякий случай выразился на этот раз несколько туманно. Маркиз не заинтересовался и пренебрег моими объяснениями. Не поднимая головы от книги, сказал, что в конце месяца день его рождения и хорошо бы отпраздновать его вместе.
Вечером мы занялись наконец делом. Несколько дней тому назад Маркиз заставил меня прочитать рассказ Чехова, попросил, чтоб я старался не запоминать его. Потом велел мне сесть и написать тот же рассказ по-своему.
— Да, да, все то же, только пиши своими словами.
Увидишь, как здорово получится.
Это было унизительно. Получилась бесцветная водянистая каша с претенциозными и совершенно ненужными красотами, нечто отвратительно сальное, а попросту говоря — куча дерьма. Сравнили с оригиналом: мой рассказ выглядел как траченное молью чучело из жалкого провинциального музея рядом с прелестной живой газелью, скачущей по лужайке.
— Не надо огорчаться, не надо. Возьми еще десяток рассказов разных авторов и сделай то же самое. Старайся выбрать те, которые кажутся тебе самыми трудными.
— А ты сам много раз так делал?
— Да это же вовсе не трудно, штука в том, чтоб уловить некоторые приемы. Мэнсфилд[30], чертова кукла, почти как Чехов пишет. Не ухватишь…
— А зачем же ты меня заставил начинать с Чехова?
— Заткнись! — Он улыбнулся, обнажив белые как молоко зубы. — Только за Хемингуэя не берись на первых порах, он все равно как липучка для мух, сразу завязнешь.
— А Кафка? Кафку ты пробовал так переписывать?
— Даже и не мечтай. Не забывай: Кафка был неврастеник, слабосильный, женской любви он не знал, и тут ему никакой Брод[31] помочь был не в силах, а поскольку ты всеми этими особенностями не отличаешься, то никогда и не постигнешь, как коротал свои бессонные ночи этот жуткий гениальный пражский еврей. Нет уж. Даже и не думай. Тот, кто хочет подняться по лестнице, должен начинать с нижней ступеньки, а не с верхней. Пока что тебе надо довольствоваться Кирогой[32] и Джеком Лондоном.
О Толстом даже и упоминать не смей. О Достоевском — тем более. А теперь отвали, хватит на сегодня, ты и так уже достаточно из меня выжал.
Мы курили без конца, то и дело перебрасывали друг другу пачку сигарет. Согрелись, потому что залезли, как были, во всей амуниции, под одеяла. Мне стоило героических усилий не расстаться с мечтой сделаться когда-нибудь писателем, и в то же время я старался, чтоб Маркиз этого не заметил, и изображал полнейшее равнодушие.
— А Фолкнер?
— Хватит, я сказал! — взревел он. — Я сейчас хочу вот что сделать, если ты, наконец, умолкнешь, — он улыбнулся коварно, — хочу посадить в твоей душе древо сомнения.
— Попытайся. Посмотрим, что у тебя получится. — Тут уж я был совершенно в себе уверен.
— Тебе кажется, будто ты необычайно тверд в своих убеждениях, верно ведь? Ну, так слушай: на ваш взгляд, главное в творчестве писателя — его идеология.
— Вот так, напрямик — нет.
— Не отпирайся. Я могу разбить тебя в два счета. Вы всегда это утверждаете. И конечно, садитесь в калошу, когда вам приводят в пример Бальзака, который был легитимистом. Но ты слушай! — Я лежал лицом к стене и все же чувствовал, что Маркиз наблюдает за мной.
— Ваша позиция неверна. И вредна.
— Ну-ка, давай докажи.
— Писатель пишет не одной только головой. Возьми хотя бы Кафку. В творчестве участвуют и вожделения, и ностальгия, и твои поражения, и детские сны, и даже отбивная котлета, которую ты съел за завтраком и от которой ощущаешь тяжесть в желудке; какая-нибудь мыслишка, подхваченная бог весть где, тоже, конечно, играет роль, но только вовсе она не образует идеологии. Тем более — связной. Возьмем тех, что слывут у вас самыми идейными: твой обожаемый Гейне, к примеру, язвительный Кеведо или Золя твой — он, между нами говоря, до того скучен, зевота прямо рот раздирает. Теперь ты подумай и скажи: есть у них у всех единая связная идеология? Ну-ка! Вот и не скажешь. Я так и знал. Да избавит нас аллах, совсем это ни к чему, чтобы писатели маршировали в ногу, будто солдатики, и все придерживались одинаковой идеологии. Давай-ка посмотрим, какая идеология была у Гомера. — Маркиз воодушевился, голос его делался все визгливее. — У Соломона в «Песне Песней»? Один был лысый слепой старикан и обладал черт знает какой громадной памятью, а другой — царь, и у него было четыре тысячи наложниц. Оба жили во времена рабства. И что же? Хоть как-нибудь отразилось это в их произведениях? И даже если отразилось, имеет ли какое-нибудь значение? Если б имело, люди не наслаждались бы их писаниями в наши дни, а они наслаждаются и будут наслаждаться всегда, во все времена — хоть при самом что ни на есть распрекрасном коммунизме, о котором ты грезишь. Видишь, как я тебя раздолбал? Видишь? — Он сел на кровати, в восторге хлопал себя ладонями по коленям.
— Заврался ты, Маркиз, дело совершенно не в том.
— Нет в том, в том, отступник ты чертов.
— Да дай же мне сказать.
— Нет, молчи. Сначала я договорю. И попытайся забыть на время свои ядовитые идеи, иначе ты не поймешь. Настоящий творец — это удивительный феномен, существо, способное черпать из огромных кладовых человеческого мозга, которыми другие никогда не пользуются, человек, снабженный радарами, словно летучая мышь, и когда он создает гениальное произведение, он как раз пребывает в полубессознательном состоянии, а вот интуиция его кипит, как вода в котелке. Бедный дон Мигель так и умер в уверенности, что «Персилес» удался ему лучше, чем «Дон-Кихот». Кинь мне еще сигарету. Да, да, в том-то и все дело. Чудища эти пишут в состоянии транса, будто им кто диктует, а когда после, придя в себя, правят, то очень часто портят. И если такой вот тип решает поставить свой талант на службу какой-то определенной идеологии, он сам себя обрекает на бесплодие. Ведь любая идеологическая система неизбежно стареет, ибо проклятое время катится неудержимо. Прогресс человеческого познания идет, и, рано или поздно, самые совершенные, самые идеальные системы ссыхаются, как сливы. Птолемей, Аристотелева логика, схоластика. Они властвовали умами в течение столетий. Кинь мне еще сигарету, я говорю. И скажи вот что. Зажги, ты же знаешь, у меня нет спичек. Вот что скажи: бизоны в пещере Альтамиры, женщина из Эльче, голова Нефертити, стихи Ии Таи По — они-то по-прежнему молоды! Да еще как! А почему? Потому что они — сама жизнь и как таковая завоевали право существовать столько, сколько стоит мир. — Маркиз дошел чуть ли не до пароксизма, он заикался, плевался, фыркал. — Разумеется, идеологам хочется покровительствовать творцам. Очень эффектно галопировать на диком жеребце. А к тому же еще и зависть. Им ведь тоже хотелось бы создать что-либо подобное. Они понимают, что идеи их рано или поздно травой порастут или, в лучшем случае, будут ползать, чуть живые, на костылях. Знаю, сама диалектика развивается диалектически, тут я как раз с тобой не спорю, это лучшее, что я от тебя слышал за все время. Но художник не может сидеть и ждать, пока она разовьется. И не может остановиться в середине главы, посмотреть, все ли у него идет по науке. К тому же наука, как всякое познание, развивается путем постепенного накопления идей и фактов. В искусстве же такого накопления не происходит. Искусство — это волны, каждая сама по себе, и все одинаково прекрасны. Или вулканы, как Везувий или Кракатау. Какой дурак осмелится сказать, что лучше: Аполлон, убивающий ящерицу[33], или Мыслитель Родена? Львиные ворота в Микенах или двери флорентийского батистерия Гиберти? «Махабхарата» или «Преступление и наказание»?
Маркиз совсем разъярился, раздувал ноздри, как никогда. Я понял, что если сейчас начать ему возражать, у него будет инсульт.
— Можно тебе сказать кое-что?
Он молча затянулся несколько раз сигаретой, наконец ответил:
— Говори что хочешь. Только без общих фраз.
— Сначала ты скажи, что это еще за Аполлон на мою голову?
— Убивающий ящерицу?
— Ну да, этот.
Он взглянул недоверчиво:
— Перестань меня разыгрывать.
— Да нет, я серьезно. Совершенно всерьез спрашиваю. Ну, не хочешь — не надо; пускай я так ничего о нем и не узнаю, ладно. Хорошо, допустим, я с тобой согласен. Только идеология тут, может быть, не совсем подходящее слово. Давай скажем лучше взгляд на мир, на жизнь. И отношение к жизни, намерения, жизненные цели, порождаемые этим взглядом.
— Недурно, недурно…
— Так вот этот взгляд на мир не содержится в сперматозоидах твоего папаши. Он зависит от многого: и от того, что рассказывает тебе в детстве няня, и от того, чем ты владеешь — фабрикой, сохой или всего только собственными руками. Тут играет роль классовая принадлежность и исторический момент, в который ты живешь. Именно поэтому никто другой не может писать так, как писал еврей из пражского гетто, сын алчного недалекого коммерсанта. Или как твой слепой лысый старик, что жил на острове Хиос и кормился сардинами да оливками. Не может быть одинакового взгляда на мир у рабочего из Чикаго, у кули и у гамбургского банкира. И этот взгляд на мир, хочешь не хочешь, идеологичен. Пронизан идеями, какими бы бессвязными, бесцветными или противоречивыми они ни казались. Идеология — чертовски сложная штука, но…
— Вот ты и попался. Ты, значит, не слушал, я приводил не менее сотни примеров.
— Да слышал я! Все до одного слышал. Твои примеры только подтверждают мою правоту. Ведь извержения, о которых ты говорил, именно потому такие, что у художника был правильный для его времени взгляд на мир. Давай возьмем двух перуанцев, Вальехо и Чокано, и сравним. Первый будет жить тысячу лет, а второй… Или вспомни Чаплина, Брехта, Эйнштейна. Могли бы они стать, чем стали, без мировоззрения, высокого, глубокого, гуманистического…
— Начинается догматизм.
— Нет, черт возьми, это не догматизм.
— Чистый догматизм, чтоб я сдох. И оставь меня в покое. Я хочу спать.
— Ты меня целый час терзал своими допотопными теориями.
— Прекрасно! Очень вежливо! — Маркиз захлопал в ладоши. — Конечно, я декадент, оппортунист. Но ты — еще хуже, ибо представляешь собою помесь Плеханова с Фрейдом. Это все равно что мешать мармелад с майонезом.
— С Фрейдом? Что у меня общего с Фрейдом?
— Да, да, с Фрейдом. Именно с Фрейдом. Не спорь. А теперь я хочу спать. Не трогай меня, спать буду. — Он натянул одеяло на голову.
— Если в самом деле хочешь спать, пожалуйста, спи.
— Уже сплю, — ответил он и замолк.
На следующий день, завязывая шнурки на туфлях, Маркиз рассказал мне, как бы между прочим, что Амеба пытался покончить с собой самым что ни на есть вульгарным способом — выпил чуть ли не целый литр карболки. Маркиз же советовал ему прибегнуть к цикуте, подобно Сократу, или воспользоваться змеей, как поступила Клеопатра.
— Черт знает что! Почему?
— Откуда я знаю? У него тревога в душе похлеще, чем у меня. — Маркиз поднял голову, пристально поглядел мне в глаза.
Не знаю сам, почему я отвел взгляд.
— А Ноги-Жерди? — Я сделал вид, будто разыскиваю что-то в шкафу.
— Зря его втянули в это дело. Очень глупо.
— Ах, вот что! Значит, полиция узнала?
— Как не узнать! Весь дом знает!
— Ну и?..
— Три года и один день дали. — Маркиз плюнул.
— Ух ты, сколько! Такой срок, кажется, дают, если у человека находят дома марксистскую литературу.
— Да. — Лицо Маркиза оставалось совершенно невозмутимым. — Вот ведь как несправедливо поступают с этими беднягами!
А через некоторое время, уходя, Маркиз, уже в дверях, крикнул своим скрипучим голосом:
— Когда-нибудь ты, может быть, объяснишь мне, почему в наше время, когда кругом такое творится, ты пишешь сахарные рассказики. И не пишешь другие, в которых бы виден был твой высокий взгляд на ми-и-и-ир и на жи-и-изнь.
Вот какую пакость он мне сказал, и несколько дней подряд я ходил сам не свой, не в силах забыть его слова, которые отравляли мне существование, словно зубная боль.
ГЛАВА IV
Два венка, толстый сеньор в черной шляпе, обшитой по краю поля шелковой тесьмой, небритый, растрепанный мастеровой, несколько старушонок и бледные девочки с костлявыми коленками. Я встретил Лучито на похоронах месье Гийяра, с которым работал во время войны в агентстве Рейтер, мы переводили телеграммы.
— А кто эта сеньора, которая плачет? Неужто он в конце концов нашел себе подругу жизни?
— Чего не знаю, того не знаю. Ты потише.
Поставили гроб в нишу, каменщики принялись класть кирпичи, старушонки заплакали, девочки тоже. Сеньор в черной шляпе поклонился и ушел. Венки прислонили к стене: «От Канадского консульства». На втором от руки одно только имя — «Клариса».
— В агентстве Рейтер… (одна из девочек что-то пискнула слабеньким голоском, я не расслышал) мы с ним каждый переводили до восьми тысяч слов в день. Британские методы эксплуатации, вежливенько. Подожди-ка. Да, сеньора, большое спасибо. Слушай, нас, кажется, с кем-то путают, принимают за родственников, а он так был одинок, бедный старик.
Пока мы принимали соболезнования и прощались, цемент начал засыхать, издавая специфический запах. Серые тучи на небе висели будто грязные лохмотья.
— Да, я же тебе, кажется, рассказывал, как мы спасались от тоски: сочиняли телеграммы и посылали в газеты вместе с настоящими, и, когда их печатали, мы торжествовали. Самую дурацкую мы подложили однажды Гийяру, в его бумаги; он водрузил на нос пенсне и принялся переводить. В телеграмме сообщалось о подвигах легендарной югославской партизанки Попович, «которая весит сто килограммов и при этом ничуть не полная». Громадная женщина бурей налетает на врагов и тотчас исчезает бесследно; она легко ускользает из любой ловушки, убивает нацистов и предателей дюжинами. Гийяр поднял голову и прочел телеграмму вслух; он пришел в такой восторг, что мы решили продолжить шутку — сообщения о подвигах Попович стали поступать каждую неделю. Получилось нечто вроде боевика.
— И все это вы выдумали?
— Все выдумали.
Мы шагали среди могил, в лицо дул сырой, промозглый ветер. Лучо слушал рассеянно, может быть, вовсе не слушал, но воспоминания одолевали меня все сильнее, и я продолжал:
— Попович была ранена в стычке с врагами, только не пулей, а снарядом, ни больше ни меньше; ей оторвало половину зада…
— Фу, свиньи.
— Конечно, свинство. Я как сейчас вижу Гийяра, он читал телеграмму, а мы чуть не лопались, едва удерживаясь от смеха. Гийяр прочел сообщение два раза. Три. Мы насторожились. И тут я начал догадываться, что наш Гийяр переживает глубокую трагедию. Одинокий, чужой всем, он боялся женщин. В нашу выдумку он поверил и долгие месяцы тайно обожал сказочную, легендарную богатыршу; за ужином он рассказывал соседям по пансиону о ее подвигах, они слушали, как зачарованные, затаив дыхание, застыв с ложками в руках, и Гийяр наслаждался. Целыми днями он мечтал о ней, она царила в его снах, в жалких детских снах горожанина, привыкшего по три раза в день чистить зубы. Он преклонялся перед ней, как преклонялся бы заяц перед бесстрашной львицей.
— Не надо больше рассказывать.
— Почему?
— Потому что я тебе не подопытная морская свинка.
— Не понимаю.
— Это, по-видимому, рассказ, который ты собираешься писать, вот и… Нет, твой рассказ мне совсем не нравится. Печатай, пожалуйста, пусть читает, кто хочет, только не я.
Мы зашагали дальше в молчании.
Лучито Фебрес был родом из Карабобо, из богатого, знатного рода, но верил он в наше дело не меньше какого-нибудь шахтера, несгибаемый и одержимый, как Красная Роза — Роза Люксембург. Сегодня он был явно чем-то озабочен, расстроен. Кашлял. Слушал неохотно.
— Что с тобой? Случилось что-то, я вижу.
— Давай выпьем пива, я тебе расскажу.
Мы долго плутали среди мраморных ангелов, стоявших на могилах с идиотским видом, закативши глаза; наконец, вышли с кладбища и оказались на склоне холма. Вблизи был только один бар, жалкий, темный, и дух там стоял такой, что и описать невозможно. За большим кувшином вина сидела компания оборванцев. Они не сводили с нас глаз, и нам стало немного не по себе; вдруг за столиком в глубине бара мы заметили того самого небритого мастерового, что был на похоронах Гийяра. Он сидел, подперев голову, неподвижный, огромный, словно отлитый из бронзы; мы пригласили его пересесть за наш столик, и оборванцы тотчас же потеряли к нам всякий интерес. Мускулы мастерового походили на бильярдные шары.
— Вы усопшему-то родственники?
— Нет, всего лишь приятели. А вы, друг?
— Я ему гардероб лаком крыл. Он со мной разговаривал, все время разговаривал, я от него много чего узнал.
А в этот вторник, говорит это он, говорит и вдруг — чувик! Как все равно птичка. Я его в охапку, легкий как перышко, положил на кровать, а он — уже все, готов.
— Ах, вот оно как. Ясно. Потому-то вы и пришли.
— Да, конечно, а еще потому, что он был одинокий, как вдовец в воскресный день. — Мастеровой утер рот тыльной стороной ладони. — Гавелин Окарранса, — он во второй раз пожал каждому из нас руку, — мастер на все руки, к вашим услугам.
— Вы, значит, не только краснодеревщик?
— Ха, я даже изобретателем был. Я фирме «Примус» одну штуку придумал, да только охмурили меня, патент не дали. И в артиллерийской мастерской тоже, да гринго там один не дал мне ходу, а потом увидели они такую же штуковину в журнале английском, выписали. Ну и, конечно, в десять раз дороже обошлось.
— Все они такие, верно?
— Да, конечно, только меня не из-за этого с работы выгнали. — На лице его показалось что-то вроде улыбки. — Меня помощник обругал, вот какое дело, даже и не начальник вовсе; ну, я не стерпел, такое ему сказал, до смерти он меня теперь не забудет. Я, конечно, рабочий, человек бедный, а только кланяться никому не желаю. — Он умолк, стал ковырять спичкой в ухе, поглядывая на нас хитрыми глазками.
— Молодец, друг. Ваше здоровье!
— Ваше здоровье! — Он осушил до дна второй стакан, также как и первый.
— А сейчас чем вы занимаетесь?
— Чем придется, я же сказал. Я и плотник, и в электричестве кумекаю. Ничего винишко, приличное. — Он уставился на пустой стакан. — Я ведь что иногда думаю: почему это быки вина не пьют? И свиньи тоже, и кошки. А мы вот люди крещеные, а, наверное, один на три тысячи найдется непьющий. Я потому и Священное писание люблю читать: зачитаешься — вроде и выпить не так тянет. А Ной-то до чего ж выпивоха был! Почему, думаете, не влезли у него в ковчег все эти твари, динозавры там всякие? А потому, что он все трюмы бочонками набил с белым и с красным. Точно, мне кум говорил. Сейчас-то я вроде свободен. Видали, что делается? Совсем я совесть потерял, сижу да винишко попиваю, а мне надо еще плиту ремонтировать. Ну, я и пойду. — Он опять утер губы рукавом. Хотел расплатиться, мы, разумеется, не позволили, он снова протянул свою ручищу и ушел. После его ухода в баре словно стало темнее.
Долго сидели молча.
— Видел? — сказал наконец Лучо.
— Что?
— Это другой мир. Мы не имеем о нем ни малейшего представления. Хоть сотню исследований прочитай — не поможет.
— Не забывай, что я провел детство среди шахтеров.
— Однако руками не работал никогда.
— Верно, конечно. Но и литература помогает нам…
— Не болтай зря. Это все равно что есть суп вилкой. Единственный выход — работать вместе с ними; так же как они. И не то что сезончик-другой. Годы.
— Предположим. Что будем делать?
— Да, понимаю, все равно ничего не выйдет.
Мы вышли из бара. Выползло зимнее солнышко, желтое, как маргарин; мы решили идти пешком, обогнули кладбище и зашагали по авениде Ла-Пас. Лучо молчал, погруженный в свои размышления.
— Но с тобой что-то случилось, скажи же, в чем дело.
— Ерунда.
— Может, я смогу помочь, скажи. Он колебался. И вдруг, со злостью:
— Ничего особенного, меня допрашивали.
— Ах, вот оно что! Давай не тяни, выкладывай, как было дело.
— Сам Черный Эррера, главный в Управлении по делам иностранцев, говорил со мной. Рожа цвета сухого дерьма, сидит за письменным столом, стол огромный, как все равно у министра. А я — на скамейке посреди конторы, двое агентов глаз с меня не спускают, я их не вижу, но чувствую за спиной, и от этого, конечно, еще больше нервничаю. Все рассчитано, уж они свое дело знают.
— О чем тебя спрашивали?
— Обо всем. Взгляды, друзья, контакты. Кто на нашем факультете занимается агитацией. На этом долго топтались. Хотя я так и не понял, чего им надо. Похоже, они нарочно забрасывают вопросами, так что голова кругом идет, не догадаешься, что их на самом-то деле интересует. Я стоял на одном: изучаю медицину — и все тут. Идеи? Много у меня всяких идей. Конечно, и про Маркиза спрашивали.
— А, вот как, это хорошо.
— Что ж хорошего?
— Понятно, значит, все подозрения отпали… Или нет все-таки?
— Кто его знает. Тут никогда ничего не поймешь. Может, они играют карамболем от трех бортов.
— Ну, и ты вел себя героически?
— Нет, не слишком-то. Я шутил, улыбался, наговорил целую кучу ученых слов, так что они только глазами хлопали. Изображал такого, знаешь, немного чокнутого. Потом вошел еще агент, сказал что-то начальнику на ухо, и они вышли. Прямо театр. Специально, чтобы оставить меня наедине с теми двумя, ну, они повели разговор очень даже ловко. Стали рассказывать, что в Парагвае или, может, в Гаити, точно не помню, изобрели шикарный метод допроса. Привязывают тебя к зубоврачебному креслу, вставляют такой аппаратик, чтоб пасть все время оставалась открытой, и давай сверлить зуб бормашиной. Тр-тр-тр, все глубже да глубже, без всякой, конечно, анестезии. Доходят до живого нерва, вытягивают его, как червяка, наматывая на иглу бормашины.
— Вот гадье! Прямо дрожь пробирает.
— А меня, думаешь, нет? Но ты послушай, дальше еще лучше: если ты не раскололся после первого зуба, так их ведь еще тридцать один остается. Потом затыкают дыру цементом и ступай, жалуйся в суд. Что ты скажешь судье? Ни одного синяка нет, все кости целы. А на закуску, поскольку каналы не пройдены, у тебя делается флюс, и зуб приходится удалять либо лечить и платить черт знает какие деньги. Чтоб ты подольше помнил.
— Ну, и как ты? Что ты им сказал?
— Я им рассказал про мексиканца, который приехал сюда не для того, чтобы его щупали.
— И они смеялись?
— Да нет. Еще злее стали. К мессе зазвонили, это меня и спасло — Эррера вернулся, а перед начальством они всегда ползают, как рептилии. Начались опять всякие туманные угрозы, и наконец меня отпустили. Сеанс продолжался три часа.
— Чудно все-таки.
— Что тут чудного? Разве они не допрашивают людей по несколько дюжин в день?
— Да, но почему именно тебя? И почему отпустили так скоро? Я знаю, что в подобных случаях хоть и не пытают, но держат человека самое малое два дня.
— А, нет! Дело вот в чем: я им сказал, что я правнук дона Андреса Бельо. И упомянул о своем родственнике — после.
— Это правда?
— Он, видишь ли, к счастью, довольно дальний родственник. Я не стал ничего предпринимать, не стал менять жилье, хотя за мной и следят, это я заметил, пусть думают, что мне нечего скрывать.
— Ах, черт побери!
— Что такое?
— Когда я у тебя ночевал, я видел возле дома какого-то типа, и он очень мне не понравился.
— А как он выглядел?
— Ну, как тебе сказать, мордочка вроде как у бобра, стоит курит. Мундштук длинный.
— Ну да, он, он самый. Один из тех двоих, которые ко мне приходили «приглашать» побеседовать с их начальником.
Я очень встревожился. Старики были правы. Как всегда. Дурак я, не проверил тогда, не следят ли за мной.
Незаметно мы дошли до самой Пласа-де-Армас. Две девочки-близняшки в небесно-голубых платьицах играли с воздушными шарами; подошел бродячий торговец, стал предлагать засахаренные орехи; как всегда, сидели, грелись под последними лучами солнца пенсионеры; в ожидании желанных сумерек появились на скамейках парочки. Я искоса поглядел на Лучито: нос его торчал по-прежнему величественный, будто король на торжественном выходе, солидный и весьма уверенный в себе. И все же что-то чувствовалось в нем не то, какое-то тайное волнение; казалось, вот-вот покатится по гордому носу предательская янтарная капля и повиснет на самом кончике. Почему так казалось, трудно сказать. Ведь все, что рассказал Лучо о допросе, должно бы вроде произвести впечатление прямо противоположное.
— Прекрасной была эта страна, — сказал Лучо глухо, глядя себе под ноги.
— Не надо говорить «была». Она опять будет прекрасной. Ты же знаешь. Весна, во всяком случае, уже скоро.
— Не говори лучше! Негодница эта весна, у меня всякий раз аллергия от пыльцы делается.
Опять мы долго молчали. Тяжелое золотое солнце широкими мазками красило стекла витрин. Напротив на скамейке старушка в черном платье и шляпке с вуалью, страдающая, по-видимому, болезнью Паркинсона, дергаясь, будто на ниточках, крошила хлеб голубям. Голуби перелетали с места на место, садились старушке на плечи, на голову.
— Прекрасной была эта страна, — повторил Лучо, а я-то решил, что он больше об этом не думает, глядит на голубей. — И знаешь, что я тебе скажу? — Лучо с силой схватил меня за рукав. — Мы не можем себе даже представить, до чего они могут дойти. Даже представить не можем! И вдобавок приближается восемнадцатое, людей так и распирает от патриотических чувств, все побегут глазеть на военный парад и будут аплодировать героическим войскам.
Я готов был взорваться, но не сказал ни слова. Что можно ответить, когда все это — чистая правда? Тяжело волоча ноги, прошел древний старик. Весело прыгали небесно-голубые близняшки.
— Это так, — Лучо глядел на девочек, грустно качал головой, — это неизлечимо, никакая тибетская медицина тут не поможет. Слава нации… национализм будет разъедать наши души еще в течение ста лет, не меньше. Но, черт возьми, уже почти шесть часов, а у меня завтра экзамен зверский.
— Когда у тебя бывали не зверские экзамены?
Лучо виновато улыбнулся, похлопал меня по плечу и пошел прочь.
Я глядел ему вслед. Лучо шагал опустив голову, плотно завернувшись в свое длинное пальто из верблюжьей шерсти. Сутулый. Ноги ставит врозь, как Чаплин. Потом он превратился в крошечное зернышко, в едва различимую точку. Наконец вошел в один из порталов, и толпа поглотила его. Лучо ушел, и я почувствовал себя одиноким. Страшно одиноким. Так оно всегда и бывает. Вроде бы одиночество тебя не тяготит, но наступает минута, когда нужен друг, только через него ты можешь ощутить связь со многими ценностями, неизмеримыми, невесомыми. Лучо нет больше рядом, и все вокруг меня кружится в каком-то безумном танце, сменяется, как в калейдоскопе. Переворачивается с боку на бок в своей одинокой постели Гийяр, подвигается к краю, словно хочет оставить местечко для Попович, которую видит во сне; Гавелин бежит вместе с уличными мальчишками вслед за военным оркестром; Худышка разрушает замки на песке, ведь с таким трудом строили мы их на огромных пляжах реки Био-Био, из песка вырастает фигура отца, он машет рукой и говорит мрачно, словно пророчит: «Мы, те, кто участвовал во всеобщей стачке, знаем это; мы хорошо это знаем»; и снова Лучо шагает, завернувшись в пальто, он такой зябкий, бедный Лучо, даже летом носит свое пальто. «За мной гонятся», — говорит Лучо.
Старушка, кормившая голубей, вытирает черно-белое пятнышко на плече, оставленное в знак благодарности последним голубем; в довершение всего искра от моей сигареты попала в воздушный шарик одной из небесно-голубых близняшек, шарик лопнул — уа-а-а-а!
А ведь сегодняшний день начался так весело, я был в великолепном настроении.
— Вифалитай, вифала!
Я испустил громкий воинственный клич и в тот же миг заметил: сижу, плотно прижав к груди руки, как бы сам себя обнимаю, пытаюсь защититься. И я подумал, что ни разу в жизни не садился мне на плечо голубь, что уже несколько месяцев не видел я Худышку и от отца тоже давно не получал никаких вестей и никогда мне не выучиться ремеслу краснодеревщика, чтоб руки мои были в скипидаре и я шагал бы гордо по улице рядом с Гавелином.
— Ну и что же дальше?
Катись ты ко всем чертям, Педро Игнасио! Башка у тебя пока еще цела и кулаки, чтобы колотить по ней — тоже. Знай: все, что с тобой, происходит на самом деле оттого, что ты ни на один миг не забываешь о зубном нерве, намотанном на иглу бормашины.
Как легко, как хорошо стало, когда я обнаружил причину! Конечно, все дело в этом. Только в этом. Я вздохнул глубоко-глубоко и ощутил, как рождается во мне то, что принято называть легкомыслием и что таковым вовсе не является, ибо исторический оптимизм существует. Я еще раз извинился за шарик перед матерью девочки и бегом, со всех ног, будто за мной гнались (а в сердце играли всеми цветами радуги мыльные пузыри, а может, вился пестрый серпантин), кинулся к себе в комнату — писать.
Что это было за безумие! Восемь часов подряд, душа моя! Не прерываясь ни на минуту. Сигареты докуривал до того, что обжигал пальцы; не ел ничего, ни крошки. И так до самого вечера, до позднего вечера, за полночь.
ГЛАВА V
Кончил я наконец переводить нудную слезливую Вирджинию Вулф[34] и отнес дону Армандо. Пещерное наше издательство мне работы, конечно, не давало, но дон Армандо, человек щепетильный в вопросах чести и весьма преданный творческой праздности, занимал там официальную должность переводчика и взял меня под свое покровительство. Я переводил, дон Армандо ставил свою подпись под переводом, наслаждался славой и клал в карман тридцать процентов гонорара. «Мое имя придает вашей работе совсем иной вес, молодой человек», — утешал он меня так отечески ласково, что я начинал чувствовать себя чуть ли не в долгу перед ним. Вот старый мошенник!
Как бы то ни было, а я вышел из его bungalow[35] весело насвистывая. Можно будет отдать часть долга донье Памеле, уплатить за месяц вперед за новую комнату, все равно потребуют, — очень уж плохо я одет, потому и не вызываю доверия, — купить трехтомного Достоевского, о котором я мечтал месяцами. А если быть точнее — годами.
Будто созревшие плоды с деревьев, падали один за другим августовские дни, и наконец настал тот, достославный, в который Маркиз праздновал свое рождение.
В комнате доньи Памелы яблоку упасть негде. Стоит чуть шевельнуть ногой или локтем — обязательно разобьешь вазу с цветами или опрокинешь столик с расставленными на нем безделушками, стаканами и бутылками. Каждый из гостей явился с бутылкой, некоторые даже с двумя. Карлоте, как медиуму (будьте почтительны, господа), с великим почетом предоставили единственное кресло, когда-то, в далекой молодости, обитое ярко-красной, теперь потемневшей парчой. На этом тициановском фоне ее прозрачная кожа, зеленый тюрбан и соблазнительная, напоминающая Гаргантюа, полнота выглядели весьма величественно. Я попытался хоть кое-как пристроиться на диван-кровати, где уже теснились не менее дюжины человек, но куда там! В конце концов пришлось сесть на пол, прислонившись спиной к коленям Карлоты.
— Конечно можно, малыш, пожалуйста, не стесняйся!
Все говорили обо всем и одновременно. Верни, держа в руке зонтик, с которого текло ручьями, продекламировал мощный сонет, направленный против АПРА[36] и ее лидера. В терцинах рифмовались «Айя» с «отставая» и «каналья».
— Ты забыл еще «болтая» и «обирая», — заметил близорукий прыщавый юнец, взгромоздившийся на спинку кресла.
Читали еще стихи, анонимные, весьма саркастические, остроумно-разоблачительные, направленные против Предателя. Говорили, что автор их Неруда. «Да, да, это его!» — «Вовсе нет!» Произносили тосты. Донья Памела едва касалась губами бокала; одетая весьма подходяще к случаю, в сари апельсинового цвета, она сновала, будто челнок, из комнаты в кухню, приносила сандвичи — хлеб с джемом, хлеб с тунцом, хлеб с вареной колбасой. Не хватало только хлеба с хлебом, это было бы вершиной ее кулинарного искусства.
Беседа блуждала, блуждала, да вдруг и наткнулась на Эусапию Палладино, знаменитую таинственную колдунью из Палермо; зашла речь о том, как ее посетил Ламброзо; он был скептик, любил подшучивать над такими вещами — и вот вдруг вскакивает со стула и бросается бежать: чьи-то невидимые когти исцарапали ему все лицо, будто кошки.
— Всякое бывает, как сказал мой дедушка, когда его везли в морг, — заметил я, пытаясь завоевать доверие публики. Но одобрительно улыбнулась одна только девушка вч красновато-фиолетовом костюме, с острыми маленькими грудями (очень они нравились священнику, сидевшему, съежившись, между дверью на балкон и гардеробом), остальные не удостоили меня своим вниманием.
— А где же Маркиз?
— Может быть, забыл о своем дне рождения, с него станется.
— Обещал принести какое-то особенное вино.
— Как бы он не принес его в своем желудке.
Бородатый толстяк в жилете пришвартовался к бесцветной девице с соломенными волосами, плоской, как гладильная доска, толковал ей о каком-то Либо, основавшем где-то там школу парапсихологии. Маге magnum[37] росло, бурлило, выходило из берегов. Далекое от всего, безмятежное и спокойное, сонно глядело на нас из своего сосуда сердце художника. Только оно одно молчало.
Казалось, все присутствующие — фокусники, так ловко и незаметно появлялись одна за другой бутылки на столе. И всякий раз, как откупоривали очередную, — всеобщий восторг и ликование. Было тут и красное, и белое. Пили из граненых хрустальных бокалов, из треснувших стаканов, из фаянсовых кувшинов. Я все еще пытался как-то настроиться на их волну, но тут, в довершение всех моих бед, ко мне вдруг обратилась Карлота.
— Слыхали вы, что свершила Юдифь Бронштейн? — спросила она своим лесбиянским сопрано.
— Да нет, я как-то мало общаюсь с Юдифью.
— Вот глупыш! В Лондоне, да будет вам известно, перед ней поставили герметически закрытый сосуд с соляным раствором, в котором находилось яйцо. И вот одной только телекинетической энергией она отделила белок от желтка.
Что хоть такое этот чертов телекинез?
— А яйцо было оплодотворенное? — спросил я, за что меня тотчас же назвали «невыносимым чертенком».
Дальше речь пошла о Тунгусском метеорите, о происхождении тектитов, о плазме, о психотропной энергии. Но с Карлотой мы тем не менее столковались. Пила она как нанятая, время от времени щекотала мне шею ногтем, а я все крепче прижимался к ее коленям.
— Всякая творческая личность, — толковал кто-то у меня за спиной медовым голосом, — ждет той минуты, когда «неведомый» овладеет ее сознанием и начнет диктовать ей. Можно говорить о пране, о сущем, о магнитном поле. Или о Музе, как писали смешные романтики.
В те минуты, когда человек находится в трансе, будь он даже в обычной жизни самая что ни на есть мелкая букашка, он в состоянии создать гениальное произведение.
Вот она, печка. От нее пустились в пляс: творческий процесс, таким образом, непосредственно связан с парапсихологическими феноменами. Медиум (почему это они всегда женщины?) ощущает, как им овладевает странная сила, посторонняя его телесному существованию.
— Потому что у нас, медиумов, — заявила Карлота, — «я» абсолютно проницаемо. В отличие от художников, которым для самовыражения приходится прибегать к самым различным средствам — к словам, звукам, краскам, — мы черпаем краски и звуки из глубин собственного «я».
Я одновременно и гончар, и его инструмент.
Это мне понравилось. По крайней мере внушительно. Пусть бы так и продолжала!
Но старик, осыпанный перхотью, с лысиной и вытаращенными глазами, завел другое.
— Мигрирует не дух, — сообщил он заплесневелым голосом. — Субъект извлекает образы из самого себя и распространяет с помощью волн; именно эти-то образы движутся в пространстве, интерферируя друг с другом и обволакивая нас; я хотел бы подчеркнуть, что все это происходит одновременно. Не только прошлое слито с настоящим, но и будущее тоже.
— То, что принято называть будущим, — поправил толстяк с бородкой, — поскольку в пределах вечности, по определению, все отдается течению времени и продолжает отдаваться ему непрестанно.
— И достаточно, чтобы мозг нескольких индивидов уловил эти волны, вернул им образную форму и фиксировал эти образы в своей памяти, чтобы осуществился феномен предварительного знака, — заключил крючковатый нос, утопавший в подушках.
Слушая такое, я попытался представить себе, что могло бы выйти из синхронного взаимодействия поэзии, алкоголя, эротических влечений и инопланетных излучений. В самом деле, что-то будет? Вдруг из какого-нибудь угла поднимется сейчас легкое фосфорическое пламя? А гардероб и столики, уставленные безделушками, начнут кружиться в вальсе?
Девушка в фиолетовом костюме — ей лет двадцать, бойкая такая — смотрит на меня. Смотрит упорно. Брови у нее выщипаны, на их месте нарисованы две тонкие дуги до самых висков, они то поднимаются призывно, то недоуменно опускаются. Может, она тоже ничего не понимает и ищет, чтобы утешиться, товарища по несчастью? И тоже, наверное, чувствует себя здесь белой вороной. Я пристально гляжу на девушку, как только могу выразительно и властно. «Ну-ка, поправь платье на груди, где вырез, — думаю я. Думаю сосредоточенно, стараюсь ужасно. — Слушайся меня, девочка. Прикройся, соблазнительница!» Вы не поверите, но так оно и вышло: она сделала то, чего я хотел. Я чуть не захлопал в ладоши от радости. «А теперь, наоборот, открой, пусть будет видна грудь! Сихис, туррис, трикитраке». Я посылал волны потоками, водопадами, но нет. Видно, на первый раз довольно, я ведь новичок. И без того успех немалый. И первая неудача, учти.
И все же в конце концов она меня поняла. Похлопала ладонью по полу, как бы приглашая сесть рядом. Узкой ладонью, рука чуть дрожала.
— Нельзя. — Я старательно шевелил губами, она сидела далеко, а кругом стоял шум. — У меня чесотка.
Она улыбнулась. Но тут же мне досталось: Карлота провела ногтем по моей шее с такой силой, что выступила кровь.
— Белого или красного?
— Лей любое.
И зачем только я ввязался в эту компанию? Как теперь уйти? А для чего уходить, когда все так здорово? Завтра же начну заниматься йогой, о, мой гуру[38]. И иглоукалыванием тоже займусь. Да, сердце мое, вместе будем заниматься, только, ради всего святого, перестань меня царапать. Слушай, а втроем нельзя? А почему? «Махабхарата» запрещает? О, черт! Опять царапается!
— Ты похожа на блюдо с раскисшим желе.
— А ты мерзкий сопляк, — отвечала Карлота и крепко сжала меня мощными коленями. Вот как невинно мы развлекались; и тут дверь с силой распахнулась, и появился Маркиз.
Радостные клики, «ура», объятия. Пропели «Зеленый сельдерей» и под конец лихо пошвыряли на пол стаканы, а осколки в один миг засунули под ковер. Господин с вытаращенными глазами поздравил Маркиза, извинился и благоразумно стушевался. Наверняка он обладал даром предвидения и предчувствовал, что будет дальше.
Маркиза невозможно было узнать: на нем свитер болотно-зеленого цвета с большим отвернутым воротом, огромный берет, будто летающая тарелка, стоял над его головой, он с нежностью прижимал к себе огромную оплетенную бутыль с некой янтарно-малиновой жидкостью — нечто среднее между медом и мочой архиепископа.
— Сегодня мой день рождения, — заявил он, сияя. — Это именно тот напиток, которым Гарун аль Рашид угощал баядер. — Глаза Маркиза словно прыгали от радости.-
Вздыхаешь, барышня с нейлоновыми бровями?
Я проследил направление его взгляда — будто стрела, вонзался он прямо в лицо девушки в фиолетовом костюме. Но самое неожиданное вот что — она посылала Маркизу поцелуи, подмигивала, манила пальчиком…
Бутыль пошла гулять по кругу, все тянули из одного стакана — весельчак и унылый, здоровый и хилый. Пейдодна, пейдодна — не вредит стакан вина. А теперь сосед пусть пьет, наступил его черед. Да это просто спирт, градусов семьдесят в тени. Разбавлен немного черешневым соком. И еще ревенем как будто. Может быть. Чего-то горьковатого сунули для порядку.
— Прекрасный мой Маркиз, владетель маленькой лужицы, — возопила Карлота, протягивая к нему благоуханные руки, — ты вправду так горячо любишь меня?
Они обнялись над моей головой, и я чуть не потонул в волнах «Шанель 5».
Бутыль всего только дважды обошла круг и опустела. Появилась еще бутылка, потом еще, еще, море разливанное, буйное да пьяное, пей, пей, не робей, вода водочки вредней. Полная сумятица, вершина, предел возможного. Или, как выражался Мартин Фьерро, образовался небольшой бардачок и кое-кто нализался порядком. Лей, лей, не жалей! Черт возьми, черт побери, вот это так красавица, черт возьми, черт побери, до чего ж мне нра-а-а-а-вится, черт возьми, черт побери-и-и, до чего ж мне нра-а-а-а-а-а-ви-и-и-тся!
Ни с того ни с сего, не знаю, какая муха их укусила, кажется, Берни начал, вломились вдруг в политику. Десять глупостей и сто провокаций в минуту. Я не стерпел, наговорил много лишнего, и в частности посоветовал им заняться лучше шведской гимнастикой. Что тут поднялось! Толстяк с бородкой проклинал меня, прыщавый ругался последними словами. Все, как один, изрыгали юпитеровы молнии на дерзкого новичка. Маркиз же наслаждался, видя мою растерянность.
Спасла меня Карлота, благоразумная и исполненная материнских чувств. «Он мечтает о том же, о чем мы, — сказала она, — только свет не озаряет ему путь, а ослепляет его».
Не очень-то я понял ее философию, мне она напомнила светофор и правила уличного движения, однако бурное возмущение улеглось, мы радостно взялись за весла и, осененные гирляндами копиуэ, поплыли по тихой озерной глади; все мы были братьями, в любви и в искусстве, все мы любили друг друга, и опять пошло: карма, дхарма… рукоять меча… поучения Кришнамурти…
Один только Маркиз продолжал.
— Пью за мой день рождения, — проревел он (ловкий ход, я же его знаю, хочет добиться тишины). — Годом больше, годом меньше — какая разница? Уже много лет прожито. Это так, ай-ай-ай, как поется в грустной куэке. До смешного простая и жалкая история. Что такое одна жизнь? Тысяча жизней? Миллион? Хуже всего то, что историки ни черта не знают, одни только даты да имена. А почему? Хотите, вам скажу? Историки до сего времени не заметили одну особенность, она повторяется без конца, и, будто жалкая карусель, вечно вертится нищая великая история нашей Америки. Хотите, я вам открою, в чем эта особенность?
— Да, да, говорите, говорите!
— Вы не боитесь правды?
— Не боимся, не боимся, не боимся…
Маркиз оглядел всех, счастливый, гордый, будто дирижер свой оркестр.
— Ну так слушайте. — Он взял стакан ближайшего соседа, осушил до дна. — Слушайте. Гориллы устраивают переворот, хозяйничают, словно у себя в казарме — шагом марш, раз-два-три! — и превращают страну в кучу дерьма.
Но тут является демагог, наглый и сентиментальный, эдакий буржуа с претензиями. Браво-о-о, да здравствуе-е-ет! Освободительное движение сметет все препятствия на своем пути! — кричит он, взобравшись на ящик из-под сахара. Я дам вам свободу, мосты, конфеты! Для чего мосты, если у нас нет рек? Я дам вам реки! Толпа ревет от восторга. Вся страна увешана флагами, Уолл-стрит дает свое nihil obstat[39], и он, как был, в драных штанах, взбирается на президентское кресло. Проходит год, президент растолстел, у него общая любовница с папским нунцием (высокая политика, сами понимаете), он отдает империалистам еще одну провинцию, присутствует на открытии сельской школы, где нет ни классных досок, ни парт, Первая Дама раздает сиротам мячики для пинг-понга, они же с голодухи пытаются раскусить их — может, это крутые яйца. Однако президент так жаден и ворует столько, что к концу года уже не хватает денег на пушки для генералов.
Тогда он придумывает новые налоги: кто разводит кур, кто мочится стоя, кто с женой не спит — все должны платить.
Растет недовольство; режим шатается, недовольных помельче президент назначает послами, чтоб они в благодарность за такую милость добыли ему долларов в Швейцарии, а истинных мятежников бросает в тюрьму. Но выхода уже нет. Триумвират из горилл сбрасывает президента. Волки празднуют свой триумф: читают «Те Deum»[40], устраивают шикарный массовый расстрел и вместо залога за долги вручают американскому атташе головы казненных бунтовщиков. Все начинается снова, карусель опять вертится. Вот! Вот настоящая история. И какая! Бедная, несчастная наша Америка!
Маркиз пытался улыбаться, но я видел — руки его дрожали; я поспешно отодвинул от него полный стакан, иначе он бы его опрокинул.
— Да, это так! — пролаял он, брызгая слюной. — Найдись сейчас хоть сотня Боливаров[41] или Сандино, все равно, даже такое вливание не оздоровит нас, не спасет от разложения. Да притом вливания подобного рода возможны в лучшем случае раз в сто лет, тут в аптеке лекарства не купишь.
— От какого размножения? — спросил прыщавый поэт.
— От разложения, идиот!
— Да, я его вижу, вижу его, он идет, — завопила вдруг в трансе Карлота, — он идет, завернувшись в знамя. Я вижу его глаза!
Шум еще усилился. Мы уселись вдвоем на полу в уголке.
— Будь здоров, Маркиз, друг!
— Будь здоров! — За кого пьем?
— За Сандино, за Панчо Вилью[42], за Тупака Амару[43]!
— А за Рекабаррена[44]?
— Ладно, давай, согласен.
— А за Марти[45]?
— За Апостола уж конечно обязательно. И за Сапату.
А за всяких там айа и бетанкуров — ни за что на свете.
Он несколько раз повторил «ни за что на свете» и вдруг, к моему изумлению, разрыдался.
Подбежала фиолетовая девушка, опустилась; возле нас на колени:
— Вы что тут делаете? Я тоже хочу.
— Тосты поднимаем.
— За кого?
Маркиз вытер лицо полой.
— За Приапа.
— За кого?
— За Приапа, любовь моя, за бога Пропонтиды. За того, кто вложил в мужчину желание, а в женщину страсть.
— Прелестно, за него, за него! — воскликнула она радостно.
С этой минуты комната словно наполнилась стаями морских коньков, сверкающих всеми цветами радуги медуз, каких-то чудищ… плясали туманные вихри. Никто не понимал ничего. Вавилонское столпотворение, да и только. Раскупоривали еще и еще бутылки, каждый тянул фальшиво свое. Донья Памела преподнесла Маркизу несколько платочков с вышитым в уголке «М». «Пусть высморкается! Пусть высморкается!» Верни совсем одурел — схватил сосуд с сердцем художника и, поливая всех формалином, декламировал «Быть или не быть». Карлота расстегнула на мне рубашку, а я люблю, когда меня любят, и шумное веселье мне тоже по вкусу. Ну и ночка, ну и пьянка! Я совру, если скажу, будто все хорошо помню. Ах, да, помню еще вот что: фигуры спящих в самых причудливых позах, очередная Эусапиа Палладино поводит глазами, из-под кровати несутся подозрительные вздохи, Маркиз храпит, фиолетовая девушка вообразила себя Айседорой Дункан, а добрая, кроткая донья Памела пытается уложить поудобнее торчащие из кресла явно лишние ноги, подбирает окурки и скорбными глазами созерцает дыры, прожженные в ковре.
ГЛАВА VI
Я проснулся очень поздно, часа в два или в три; голова — как пивной котел.
— Маркиз, вставай. Добудь мне где-нибудь таблетку аспирина.
Маркиз свернулся под одеялом, будто песик, и не отзывался. Я протянул руку, сорвал одеяло.
Как очищенный банан, как бокал клубники со сливками, лежала Фиолета на кровати Маркиза. Вот так сюрприз! Я ущипнул ее.
— Ты здесь как оказалась, чумовая девчонка? Проснись!
Она села на постели, протирая глаза:
— Где я? Что случилось?
— Ты у себя дома. Сию минуту мамочка принесет тебе чашку шоколада.
Она смешно взвизгнула и закрылась простыней.
— Ты кто такой?
— Я? Заколдованная лягушка.
— Какой ужас! Не смотри на меня. У меня язык одеревенел; пить хочу. — Она вдруг надулась. — А Маркиз где? — Я пожал плечами. — Знаю я, знаю, эта жирная старуха все время за нами следила, — заговорила она сердито. Умела его к себе. Околдовала она его.
Ты уверена, что это так?
Ну, а где же он тогда?
Поищи. Может, у тебя в постели.
Негодник! — Она глянула через обнаженное плечо, словно только сейчас меня заметила. — А ты кто такой? Что ты здесь делаешь? На дне рождения был?
— Кажется, был. А ты как думаешь?
— А, да, теперь вспоминаю. Ты меня хотел загипнотизировать издали, и ничего не вышло. Сел в калошу!
— Кто знает! Бывает гипноз замедленного действия, не слыхала? А иначе, подумай, как бы ты оказалась здесь?
Она все оглядывалась вокруг:
— Фу, какая у тебя скверная комната. Ни одной Картины. Голые стены — прямо ужас. А ты — Педро Игнасио, верно? Я теперь вспомнила. Ух, до чего же холодно!
— Принести тебе выпить? Я вчера спрятал одну бутылку.
— Нет, что ты, я и так слишком много пила. Слушай, у меня есть репродукция Гогена. Я тебе подарю. Ой, ну как же мне согреться?
— Мое одеяло не теплей твоего, но если тебе кажется, что теплей…
Не успел я договорить, как она выпрыгнула из постели, словно кролик, и нырнула ко мне.
— Ох, как хорошо! У тебя гораздо мягче, — она закрылась одеялом до подбородка, — знаешь, какая у меня есть картинка? Таитянки с подносом, а на подносе плоды манго.
— И груди у них здоровенные, прямо на диво, да?
— Да. Перестань, что это такое? Не надо пока. Ты же видишь — я волнуюсь.
— Боишься опоздать на занятия?
Она сморщила носик:
— Я уже несколько месяцев не хожу. Если бы папа знал… Нет, я совсем о другом беспокоюсь.
Она была мягкая, нежная. Очень нежная.
— О чем же?
— Нет, не скажу. — Она отталкивала меня коленями и чуть было не… — Боюсь даже выговорить. — Ее слегка трясло.
— Скажи, что за важность.
— Я так боюсь.
— Ну, тогда не говори. И катись отсюда, а то я упаду. А чего ты дрожишь?
— Не от холода, не думай.
— Давай катись отсюда! Или лучше скажи сразу. Может, как скажешь, тебе легче станет. — На щеке у нее было пятно от вина. Я послюнил уголок простыни, стал вытирать. Заодно размазались и брови.
— Маркиз. — Она помолчала, испуганная. — Я его вижу. Он весь в крови. Целая лужа крови.
— Ты всегда такие вещи видишь?
— Не всегда. И это не вещи. Это называется предвидение, — поправила она.
— И что? Маркиз умрет или его убьют?
Она покачала головой — не то утвердительно, не то отрицательно.
— Ты ничего не можешь сделать?
— Я много чего могу сделать, — Небритым своим подбородком я прижался к ее спине. Она вздрогнула. Кожа у нее была такая тонкая, что казалось, светится изнутри, будто китайский фонарик.
— Ты колючий. Как ежик. Нет, ты правда скажи: можешь ты что-нибудь сделать?
— Что, например? Уговорить Маркиза застраховать свою жизнь на твое имя?
— Дурак! Он говорит, что ты его лучший друг.
— Ну, тогда он пропал.
— Не трепись, я с тобой всерьез говорю. Я же его вижу, и вчера вечером видела, совсем ясно. В большой луже крови.
— Ну, а я-то что могу поделать?
— Откуда я знаю? У тебя, наверное, есть знакомые, которые могли бы ему помочь.
— Ну, конечно, все ясно. Я иду к своему приятелю и говорю: «Слушай, друг, давай спасем Маркиза, его хотят убить». — «Откуда ты знаешь?» — «Мне Фиолета сказала». — «А кто это — Фиолета?» — «Есть такая девочка чумовая, она сбежала из гарема, и ей чудятся всякие штуки». — «А, ну тогда это дело трудное». — «Конечно, очень даже трудное». Мы идем вдвоем к третьему приятелю и объясняем ему…
— Не валяй дурака. Хватит шутить. Я тебе серьезно говорю. И да будет тебе известно, со мной такое не в первый раз, у меня уже были предвидения. Вот Моника, моя подруга по университету, я ей предсказала, что она забеременеет. И она забеременела. Сказала, что у нее родятся близнецы. У нее и родились близнецы. Меня потому и пригласили в кружок.
— И ты в этом кружке вроде как помощница Карлоты?
Она сделала презрительную гримаску и повернулась ко мне спиной.
— Чертова кукла, ты что думаешь, я деревянный? Может, хватит, нет? А потом человека обвиняют в изнасиловании.
— Успокойся, песик. Разве не видишь, написано: по газонам ходить воспрещается.
Я настаивал на своем, она повернулась, гибкая, как кошка, и укусила меня в плечо, здорово укусила. След от ее зубок не сходил несколько дней.
— Тогда ступай на ту кровать.
— Нет, нет, нет. Там очень холодно. Ты подожди немножко. Что ты такой торопыга.
— Ладно, не будем торопиться, не блох ловим, потерпим. А почему ты думаешь, что у меня есть знакомые, которые могут ему помочь?
Она расхохоталась, громко, серебристо:
— Вот видишь, ты сам себя выдал.
— Зачем так говорить — выдал? Мне выдавать нечего.
— Не строй из себя глупенького. Я знаю. С тех пор как валили автобусы, вы все больно уж конспиративные стали.
У меня один есть знакомый, венесуэлец. Не Маркиз, другой, но тоже венесуэлец. Так он до того уж весь засекреченный, как все равно сейф.
— А зачем ты связываешься с таинственными иностранцами? Тебя кто-нибудь просил? Или лучше вот что мне скажи: ты полицейские романы любишь?
Она немного помолчала:
— Нет, мне их читать скучно. Я ведь все предчувствую заранее, еще до середины не дойду, а уже знаю, кто убийца.
— Ах, так ты, значит, очень чуткая.
— Да, очень. А правда, что ты можешь предсказывать будущее по руке?
— Хиромант? Я? С чего ты взяла?
— Я точно знаю. От этого я не могу тебе в глаза смотреть. У тебя глаза страшные. Вчера вечером, когда ты на меня глядел, мне казалось, будто я голая.
— А сейчас — не страшно?
— Сейчас нет. Чудная я, да? — Она взяла мою руку, приложила к своей груди, к сердцу. — Чувствуешь?
— Еще бы, чудо просто!
— Да я не про то, глупый. У меня сердце бьется по сто десять ударов в минуту. Говорят, это ненормально, я недолго проживу.
— И потому хочешь одним глотком осушить чашу жизни до дна?
Она смело уставилась на меня. Взгляд был чистый. Глаза темные, как жуки, с пятнышками светло-табачного цвета. Опустились веки.
— Видишь, не могу. Не могу смотреть на тебя.
— Но почему же, Фиолета?
— Ах, да, ты же не знаешь, как меня зовут. Но лучше зови так. Мне нравится. А что это — Фиолета? Цветок?
— Нет, один из видов морского полипа.
— Морского чего?..
— Полипа.
— А что это такое?
— Ну, будем считать, что цветок.
— Ты изучаешь цветы, ботанику?
— Нет, я только фиолетовед.
Она засмеялась, стала гладить меня ладонями по груди:
— Почему у мужчин соски? Зачем они им нужны?
— Для художников, я думаю. Как ориентиры.
— Ну, значит, у бога фантазия бедная. Можно было бы звездочки сделать. Или спирали.
Видишь ли, господь очень спешил, когда создавал пас Дело было в субботу, и он уже устал. Разве ты не замечаешь, у него же совсем нет вкуса?
Как это нет вкуса?
Конечно нет. Мне один испанец говорил: «Может ли тот, у кого есть вкус, создать одновременно гиппопотама и стрекозу, обезьяну с красным задом и орхидею?..»
— Да, правда, у него, бедняжки, нет вкуса. Но еще хуже, если б он был кубистом. Представляешь? Но знаешь что? Я совсем согрелась.
— Я тоже, можешь себе представить.
Пусть меня обвиняют в насилии, в измене другу, в чем угодно, но больше я выдержать не мог. Из недр моего тела с ревом восстал кроманьонец. Но негодница вывернулась пак угорь, соскользнула на пол, и через миг ее лукавая смеющаяся мордочка выглядывала с другой стороны.
— Тебе со мной не справиться, видишь? И потом, я же сказала — сначала я хочу принять душ.
— Ничего подобного ты не говорила. А хочешь, я тебе помогу намылиться?
Она сморщила носик, надела мой халат, я завернулся в простыню, и мы на цыпочках прокрались по коридору и ванную. Никто нас не видел. Через полчаса мы вернулись, весьма довольные друг другом, тихие, примиренные и с богом, и с дьяволом.
Я снова улегся и занялся созерцанием Фиолеты, пока она одевалась. Видя ее в платье, даже представить себе невозможно, до чего очарователен этот звереныш.
— Как ты теперь обо мне думаешь, очень плохо? — спросила она, свертывая чулок, чтобы надеть.
— Ничего я не думаю. Глядя на тебя, думать не хочется. Хочется совсем другое, а вовсе не думать.
— А, ну тогда хорошо. Только не воображай, будто я забыла.
— Что забыла, намыленная ты особа?
— А ты хвастунишка. — Она сделала презрительную мину. — Я не забыла, я обещала тебе Гогена. Ты только посмотри на эти стены. Прямо жуть берет, до чего ж некрасиво! Но ему ты ничего не говори, вот это уж непременно. — Она натянула второй чулок. — Поклянись, что ничего не скажешь!
— Кому?
— Маркизу. Кому же еще?
— Конечно, ничего не скажу.
— Клянешься?
— Да, клянусь.
— А что же ты ему скажешь?
— Придумай ты, я в точности повторю.
— Скажи, что когда ты проснулся, я уже ушла.
— Ну нет, такую глупость я говорить не стану. — Почему?
— Потому что если я так скажу, он сразу догадается.
— Как же?
— Ох, ну и бестолковая же. Потому что он не дурак. И не поверит, будто я во сне догадался о том, что ты…
— Как во сне?
— Разве ты не велела сию минуту сказать ему, что, когда я проснулся, ты уже… Ну, дошло наконец, гениальная женщина?
— А, ну да, правильно. Я совсем не умею обманывать. Папа всегда меня выводит на чистую воду.
— А теперь ты мне вот что скажи: зачем я должен все это ему говорить? Почему не сказать прямо, что ты и я рождены под созвездием Близнецов и, следовательно, предназначены друг для друга. А с гороскопом ведь спорить нельзя.
— Выбрось из головы. Я тебя убью.
— Да что с тобой? Он тебе предложение сделал, что ли?
Она стала разглаживать на себе ладонями юбку, улыбалась, как бы погруженная в воспоминания.
— Нет, нет…
— Правда? Может, ты забыла?
— Он меня почти на пятнадцать лет старше…
— Ну и что? Чаплин женился в девяносто пять на Юне[46], а ей было четырнадцать. И потом, Маркиз ведь очень красивый.
На этот раз смех, звенящий, как колокольчик, охватил все ее тело, забрался под свитер; маленькие груди дрожали.
— Бедненький уродец, не надо так говорить!
— А тогда за что же он тебе нравится?
— За что же еще? За ум, конечно, как и ты. Что ты не дурак, в этом я уже убедилась.
— Ну ладно, согласен. Скажу ему все, что ты хочешь, но только с одним условием.
С каким?
Подойди-ка поближе. Зачем?
Подойди, тогда скажу. Не могу же я кричать во все горло.
— Не подойду. У тебя опять глаза страшные. Лучше бы ты использовал свою гипнотическую силу как-нибудь по-другому. Почему у тебя лицо такое?
— Уж какое есть. Другого у меня нет.
— А, знаю: ты похож на Жана Габена.
— На Жана Габена? Не думаю. В школе меня дразнили пауком. И еще говорили, что я похож на лошадь.
— Да, и на лошадь тоже. Немножко. Подбородок чересчур длинный. Я бы тебе его укоротила. Вот тут. — Она подошла ближе и показала пальцем, где именно хотела бы укоротить мой подбородок. И в эту минуту послышались шаги Маркиза.
— Сделай вид, что спишь, — прошептала она, личико ее исказилось, она на цыпочках отошла от меня, встала у гардероба. — Пожалуйста!
ГЛАВА VII
Я повернулся лицом к стене и слушал, как Маркиз открывает дверь. Вот он остановился на пороге. Плотную тишину изредка буравили долгие печальные звуки рога.
— Привет.
Маркиз не ответил. Открыл гардероб. Сейчас он увидит купальный халат, простыню и догадается обо всем, подумал я.
— Привет, — повторила она скорбно.
— А, ты здесь? — Голос его дребезжал от волнения. — Уйди, исчезни. Испарись! — Он, видимо, толкал ее к двери. Оба тяжело дышали.
— Но, Рафаэль…
— Никогда не называй меня Рафаэлем, тысячу раз тебе говорить! Я — Маркиз, жалкая кукла! А еще вот что запомни: не смей соваться в мое будущее. Я уж сам разберусь, что со мной будет.
— Да что ж я такого сделала, медвежоночек?
— Вчера вечером. Вчера вечером ты вздумала молоть пакую-то чушь, будто видела на мне кровь. А у меня рубашка была вином облита, только и всего.
— Нет, это не вино, а кровь!
— Ничего подобного, вино. И знай: мое будущее касается меня одного. А теперь прости-прощай, как поется в танго. Ступай ко всем чертям. Чао! И не появляйся, пока у тебя не вырастут обе брови. Поглядись в зеркало, чучело! У тебя же только одна.
— А ты тоже хорош! — закричала она вдруг. — Целую ночь напролет валялся с этой голштинской коровой, с этой жирной свиньей! Хотя что тут удивительного, вы ведь одного возраста.
— Ты смеешь?.. Ты смеешь упоминать о моем возрасте, ангел игрушечный из уцененки!
Маркиз, видимо, вытолкал ее из комнаты. С силой захлопнулась дверь, и снова стало слышно безутешное мычание рога. Маркиз подошел к моей кровати, постоял, я слышал над собой его прерывистое дыхание. Потом он куда-то скрылся и снова вернулся, бормоча что-то несвязное. Открыл балконную дверь, вышел и стоял долго, очень долго.
Я вспомнил вдруг про стертую бровь и не удержался — расхохотался громко. Маркиз бурей ворвался в комнату.
— Хорош! Притворяется, будто спит! Мало этого — он еще и смеется!
— Как же не смеяться? — Я высунул голову из-под одеяла, — Мне снился цирк. «Послушай, Редька», — говорил клоун Латук…
— Редька? — Он подошел к моей кровати. — Должен тебе сказать, что как-то раз в Боливии, — он сжал зубы, — в Боливии один тип, которого я считал своим другом, осмелился…
— Это оттого, что ты поехал в Боливию.
— Моя месть была чисто восточной, столь утонченно-жестокой, что я до сих пор горжусь, вспоминая о ней.
— Ну, а к чему это все? И кроме того, плевать я хотел на твои угрозы.
Он сжал кулаки:
— Ты что, дурачком меня считаешь?
— Нет, дурачком не считаю, это точно. Скажи лучше, мне интересно, что ты в Боливии делал? В каком году ты там был? При Вильярроеле? Его разве не вздернули на фонарь?
Маркиз отошел к гардеробу, стал смотреться в зеркало.
— Для тебя тоже готов фонарь, правда-правда. Ты Карлоту спроси, она наверняка твое будущее видит и там — фонарь.
Идиот, невежда. Вовсе не при Вильярроеле, а при Горцоге. И, чтоб ты знал, я был государственным советником по делам печати. Звание мое звучало, конечно, по-другому, потому что я иностранец. Но если тот тип мне еще рва встретится…
Гордиться будет он. В самом деле, ты слышал, последние вести из Боливии весьма неутешительны. — Он вытаращил на меня глаза. — Ладно, Маркиз. — Я сел на прокати. — Давай поговорим. Ты сам во всем виноват. Как тебе пришло в голову оставить ее здесь в постели одну? Я что, по-твоему, евнух, а ты — султан? И потом, я же не знал, что ты так ею интересуешься. И, да будет тебе известно, она всю ночь просто бредила тобой.
— Заткнись. Катись со своей брехней куда подальше.
— Нет, серьезно, все время твердила: «Рафаэль, Рафаэль, Рафаэлито…»
Огромная туфля Маркиза пролетела над моей головой, стекло балконной двери уцелело чудом.
Точнее целься, растяпа. А вот скажи лучше, что ты Во свинство про меня рассказывал?
— Про тебя?
— Да, про меня.
— Я — про тебя? Столь незначительные темы меня не занимают.
— Ты уверен?
— Еще бы. Неужто ты в самом деле воображаешь, будто твоя персона может представлять для кого-то интерес и служить предметом беседы?
— Тогда скажи другое: не собираешься ли ты описать свои похождения в Боливии?
Маркиз замер на своей кровати:
— Сам пиши. Я могу тебе все рассказать. — Он лег и одной туфле, потом высунул из-под одеяла ногу, сбросил туфлю (я впервые увидел страшный шрам у него на икре).
Маял туфлю, подержал некоторое время, поглядывая на меня, потом швырнул ее в дверцу гардероба и повернулся лицом к стене.
Так ты же сразу врать начнешь. Я уже давно заметил: ты думаешь на один манер, чувствуешь — на другой, а живешь — на третий. Словно утконос.
Это еще что за фигация?
Зверь такой, очень редкий. Живое ископаемое. Свинья, откладывающая яйца, млекопитающее с утиным клювом…
— Как же можно сосать молоко клювом, идиот!
— Есть такой. Можешь посмотреть в энциклопедии.
— И как, ты говоришь, он называется?
— Утконос.
— Ну так ты возьми себе это слово вместо псевдонима. Педро Игнасио Утконос. А то Педро Игнасио Паласиос — хуже не придумаешь. Папаша твой здорово, видно, был чокнутый, что так тебя окрестил. Впрочем, для таких дерьмовых рассказиков…
— Ладно, ладно. Псевдоним неплохой. Мне нравится.
Я подумал, что, когда злость остынет, Маркиз станет опаснее. Пусть лучше сразу выльет на меня все.
— Кстати, скажи-ка, как ты провел ночь. Шикарно, наверное?
Он не моргнул глазом:
— Сколько раз вы с ней?
— Не мучь себя.
— Не в том дело. Просто мне надо рассчитать свою месть.
Мы молчали. Головная боль у меня прошла, но теперь на меня напал вдруг голод. Я предложил Маркизу пойти куда-нибудь. Он отрицательно покачал головой. Тогда я оделся, вышел, у киоска на углу съел порцию яичницы с ветчиной и выпил бутылку пильзенского пива. А карманы набил всякими булками… Но мыслить сколько-нибудь связно я все еще не мог. В голове словно царапался кто-то. И как иногда черные точки плывут и плывут перед глазами, исчезают и набегают вновь, так и она стояла все время перед моим взором — нежное тело в хлопьях мыльной пены, тонкая кожа светится изнутри, будто китайский фонарик. Горят весельем жучки-глазки, и слышится смех. Она, проклятая, самого Альфонса Мудрого[47] могла бы охмурить.
Думать о Маркизе мне было трудно.
А может быть, не хотелось.
Я подошел к газетному киоску, попросил газету — почитать. Товарищ, работавший там, тайно торговал нашим еженедельником и разрешал мне даром просматривать газеты и журналы.
— Видали, товарищ? Китайцы Кантон взяли!
— Да, да, прекрасно! — Я стал смотреть, что идет в кино. Ничего интересного. Сплошная ерунда. Только один вечерний сеанс — «Разбойник» Сандрини. Может, пригласить Худышку? Она любит фильмы Сандрини, хохочет всегда, как сумасшедшая. Где этот кинотеатр?
На Систерна. А вот глядите: в Риме обнаружили Останки святого Петра.
Не выйдет, черт возьми. Очень уж далеко. Что далеко? — Не Рим, конечно. Я про кинотеатр говорю.
Я поблагодарил киоскера — мы крепко пожали друг другу руки, по случаю взятия Кантона, надо думать, — и пустился бродить по улицам центра. Начинало темнеть.
Все еще не мог я опомниться. Постоял, прислонясь к фонарному столбу, выкурил пару сигарет. Потом стал разглядывать витрины: у Гобелинос — модные рубашки, цены просто бешеные, на Ла-Виль-де-Нис — пиджаки de colele[48], холодильники, набитые аппетитными на вид восковыми фруктами и овощами… На Аламеде какой-то шарлатан с живой змеей, обвитой вокруг шеи, пытался всучить прохожим чудодейственную мазь, помогающую от простуды, от рака, от рожи… Вернулся я домой по улице Бандера.
Воскресными вечерами улицы центра кажутся особенно печальными. Веет от них цепенящей тоской, словно от старого семейного альбома, где вечно улыбаются кому-то давным-давно покинувшие наш мир прабабки; валяются в грязи лотерейные билеты — бедные, хрупкие надежды человеческие; мертвенно-бледные существа ползут по тротуару, мечтают, пусть хоть что-то произойдет, пусть даже беда какая-нибудь, лишь бы всколыхнулась бесцветная их монотонная жизнь; ветер волочит по земле старые газеты, колышет занавеси, за окнами — пустота, только слышно, как сонные мухи жужжат. Я сворачиваю за угол, слышу издалека чьи-то шаги, долго отдаются в ушах чавкающие сырые звуки. Худенькие женщины с опущенными глазами торопливо стучат каблучками; встретившись со мной, они осеняют себя крестом, словно какой-то безымянный грех гонится за ними. И окаянная эта воскресная тоска охватывает душу, облепляет, будто жевательная резинка.
Я надеялся, что Маркиз уже спит. Но нет. Он по-прежнему лежал на спине, заложив руки под голову, глядел не отрываясь в потолок.
— Ты еще не спишь? — Он не удостоил меня ответом. — А я думал, ты устал. — Я начал раздеваться. — С этой теткой, наверно, не так-то легко тебе было. Чтоб эдакая гора мяса осталась тобой довольна… — Он задышал чаще. — До каких пор ты будешь дуться?
В эту минуту серый шарик с круглыми глазками, скорей красными, чем черными, метнулся по диагонали через комнату — храбрый мышонок! Как стрела промчался он перед нашими глазами. Маркиз вскочил с дьявольской ловкостью, бросился вслед, прыгая на одной ноге. Бедный мышонок обезумел от ужаса. Не зная, куда деться, сунулся было под мою кровать, но Маркиз достал его ногой, мышонок выскочил и застыл в отчаянии, неподвижный, тихонько попискивая, поднял передние лапки, словно хотел закрыться, не видеть своими глазами приближающуюся гибель.
Удар носком туфли в брюшко. Отвратительное розовое пятно тотчас расползлось по стене. А рядом — серенький шарик, вздрагивающие в агонии лапки.
Маркиз вытер штаниной туфлю и снова улегся.
— Что тебе сделал мышонок, несчастный? Что тебе сделал бедный зверек?
— Ничего.
— Зачем же ты его убил?
— Если бы он мне что-то сделал, никакого интереса бы не было его убивать.
— Не понимаю. Некоторые твои поступки я, говоря откровенно, просто отказываюсь понимать. И не только отказываюсь понимать, а они мне глубоко отвратительны.
Маркиз вызывающе улыбался.
— Ах, ты не понимаешь? Не догадываешься, что такого рода вольные упражнения спасают тебя от излишней чув-ствительности? Взгляни-ка на это пятно на стене. Гляди! Красная капелька расплылась по белой штукатурке, чудесный получился рисунок. И пойми: с таким нежным сахарным сердечком ты далеко не уедешь. Займись лучше разведением канареек!
— Ах, вот что? Сукин ты сын, нигилист сумасшедший! Ладно, убивай мышей, раз ты считаешь, что таким образом… Великолепное ремесло. Но тогда начни хоть писать по крайней мере!
— Я? Писать?
— Да, Маркиз, пиши! Пиши! Ты можешь создать хороший роман. Горький, жуткий, конечно, но хороший.
— Так вот ты мне что предлагаешь?
— Да. Попытайся. Ты же ничего не теряешь. Если не удастся… Ну и ладно, одной неудачей больше.
Маркиз побледнел как смерть:
Писать? Стать, значит, сообщником? — Сообщником? Чьим?
Как это чьим? Кто меня будет читать здесь? Неграмотные крестьяне? Рабочие, которые в неделю зарабатывают столько, сколько стоит одна книжка? Читать меня будут те, кто избивает нас палками, гноит в тюрьмах. Если они восхищаются твоими писаниями, значит, считают их безвредными. Если дают тебе стипендию или какое-нибудь Местечко, значит, уверены, что тебя можно купить, ты продаешься и становишься придворным шутом, а они посмеиваются у тебя за спиной. Ты что же мне предлагаешь? Чтоб я их забавлял? Как обезьяна в клетке? Как дрессированная собачка? Где же твоя пресловутая идейность, о которой ты везде трубишь?
Пятно на стене, серенький шарик, окоченевший хвостик, похожий на вопросительный знак… Я не мог дольше молчать:
— Ложь! Все ложь! Не смей мешать меня с грязью! Писать надо для того, чтобы показывать людям — смотрите, нашу жизнь превратили в дерьмо, а ведь жизнь-то все-таки не дерьмо. Полно тебе корчить из себя отрицателя Всего на свете! Я ведь знаю, на самом деле ты только одного хочешь — скрыть свое бессилие. Я пишу для людей. Пусть нет у меня пока читателей, я верю: они будут… И я пишу потому, что надеюсь, верю в победу. Вот почему я пишу! И, конечно, не для жалких перебежчиков, которые делают Совершенно ненужные пакости, чтобы сорвать хоть на ком-то гнои неудачи… Пишу, черт возьми, потому, что хочу писать. И хватит поливать меня всей этой гадостью, можешь свой разъедающий пессимизм оставить при себе. С меня довольно. Понял? Довольно с меня!
Он глядел все так же вызывающе. Удивительно наглый тип!
Вранье, — сказал он наконец спокойно и сплюнул. Нет, не вранье!
Вранье, вранье. Сам знаешь и утешаешься болтовней. «Пишу, потому что надеюсь…», — передразнил он мши. — Где ты ее видишь, надежду-то? «Верю в победу». Победа, виктория. Какая Виктория? Может, Виктория Акунья, ничего девочка, помнишь, я тебя познакомил? Ах, нет'' Тогда о чем речь, о какой победе? Наверно, ты надеешься на победу Народного фронта? А Писагуа, а расстрелы шахтеров, а концентрационные лагеря — это что, по-твоему, победа? Или ты готов пускать слюни от радости, что в Уачипато отлили столько-то и столько-то стальных болванок? Не понимаешь разве — наш континент проклят навеки? Мы — сточная канава, так повелел сам господь. Ну, выгнали мы испанцев — пришли англичане; выгнали их — пришли янки. Ни одного, ни единого дня не были мы по-настоящему свободны.
Маркиз явно отклонился от темы. Боялся, видимо, дойти до сути. Боялся спора с самим собой, со своим сердцем. Я ощутил вдруг острую жалость.
— Знаешь что? — Он слабо улыбнулся. — Я стал бы писать, если бы в романах можно было делать то, что Осума-Крысолов делает в живописи.
— А что? Что он делает? Я не знаю.
— Богачки аристократки заказывают ему свои портреты. Он славится как замечательный портретист. И конечно, каждая непременно желает выглядеть красавицей. Он берет бешеные деньги и пишет ее красавицей. Гретой Гарбо самое малое. Только он, негодяй, изобрел какую-то кислоту или что-то такое, не знаю, намазывает этой штукой холст с обратной стороны; через некоторое время состав начинает действовать, а через несколько лет на портрете появляются уродливые опухоли; пятна, глаза лопаются, как тухлые яйца, и разливаются по всей физиономии…
Дальше Маркиз говорить не мог — начал вдруг смеяться. Такого я еще никогда не видел: он задыхался, махал руками, живот и плечи тряслись, стучали колени.
Я глядел на него с изумлением. Маркиз заливался смехом. Он хохотал так заразительно, что я невольно тоже засмеялся, сперва негромко, потом все сильнее, сильнее и, наконец, сам не зная почему, принялся хохотать до упаду; слезы катились у меня из глаз, я изнемогал, я просто лопался от смеха. Мы подняли такой шум, что возмущенные соседи стали стучать в стену.
Внезапно Маркиз перестал смеяться. Ярость снова охватила его.
— Негодяй! — взревел он. — Подлый негодяй! Нарочно болтаешь без конца, надеешься, что я забуду… Жалкий писака! Предатель! — Он заикался, не находил слов, как бы еще обругать меня, и наконец плюнул в мою сторону; плевок не долетел до моей кровати.
— Потише, Маркиз, не расходись!
— Да, потише, потише. Ты еще у меня дождешься. Я тебя кастрирую ножницами. Попробуй только уснуть.
Усни-ка, я на тебя посмотрю. Отвечай же что-нибудь, Мерзавец!
Как же я могу отвечать, когда у меня челюсти свело со страху?
Маркиз посмотрел на меня. Взгляд был холодный. Над дрожащими его губами блестели жемчужинами капельки пота.
Мы наконец замолчали. Расстояние между нашими кроватями — меньше метра. Маркиз снова повернулся к стене. Я и в самом деле не мог заснуть, пока не услышал, как он храпит.
Па другой день, первого августа, ранешенько утром и уложил книги в ящик из под сахара, взял под мышку спою одежду, завернутую в газеты, и переехал на новую квартиру.
Когда я уходил, Маркиз еще спал. Во сне он улыбался, кротко, безмятежно.
ГЛАВА VIII
Улица Льико в нескольких кварталах от Гран-авениды. Огромные домики, грустное достоинство плохо скрытой бедности. Голые кусты, колокольчик мороженщика, крик точильщика, бредет старуха — «Ми-и-и-ин-даль жаре-ны-ы-ый!», катит грузовичок с зеленью и фруктами, собак вдоволь, и блох тоже, а уж детей — несметное число, играют в мяч на каждом углу.
Моя комната в глубине дома. Почти под самым потолком — окошко, затянутое паутиной, чуланчик без двери (вместо нее кретоновая занавеска), раскладушка, старая машинка «Смит корона», кресло — увы — лишь в элегических воспоминаниях, оно исчезло непонятно каким образом, и я навсегда остался при подозрении, что это — Маркизовых рук дело. Вот и вся мебель. Ну, а еда? Вы, может быть, вообразили, будто мне преподносят лангустов? Впрочем, трагедии никакой нет. Пансион как все пансионы, и кормят не хуже, чем в других местах: на завтрак суррогатный кофе с булочкой (предполагается, что она намазана маргарином); на обед — бифштекс, жесткий, как подошва, с одной картофелиной и листиком салата… Питание, как видите, вполне диетическое, избыток холестерина мне не угрожает. А что взвоешь с голодухи — это дело другое. Дни и ночи мечтал я о пикантной грудинке, о языках морских ежей, о супе из индейки, заправленном маисом, в котором плавает добрый кусочек стегнышка. Попытался было читать «Песнь о чилийских блюдах и напитках» старого Де Рока, да весь залился слюной так, что пришлось бросить. Дела шли совсем неважно до той поры, пока я не догадался — слава тебе господи — покупать ливерную колбасу. Стоит гроши, всегда под рукой, сосешь и сосешь через дырочку, загибаешь снизу, как тюбик с зубной пастой.
Но зато в этом пансионе — случаются же такие чудеса! — не было клопов. Без сомнения, они ознакомились с нашим меню, потому и не являлись. А еще удивительнее то, что обитатели пансиона не проявляли ко мне ни малейшего интереса. Так печально и монотонно катилось их собственное существование, что даже любопытства к чужим делам у них не осталось.
Конечно, радоваться особенно нечему, не правда ли? Впрочем, и времена настали такие, что не обрадуешься. Да вдобавок после этого проклятого дня рождения Маркиза (не придирайтесь, мне очень хочется именно так его назвать) оставался в душе неприятный осадок. Некрасиво получилось. Нехорошо. Скользишь по наклонной плоскости, приятель, того и гляди скатишься в лужу, погрузишься в мутные воды богемного существования. Бесплодного существования.
Надо признаться: мне не удавалось забыть ее ножки, такие нежные, гладкие, покрытые, будто персик, золотистым пушком, они словно впечатались в самую душу. Как я гладил их, как целовал! Но в конце концов надо же выбросить Фиолету из головы, надо начать спокойно работать. От всего этого было совестно, тоскливо. Жизнь Фиолеты. Сколько таких, как она, мечутся по воле волн, будто утлые суденышки без руля и без ветрил, будто стрекозы с оборванными крылышками. А еще больше мучила мысль о Маркизе. Конечно, я не виноват, если вообще можно тут говорить о какой-то вине. Скажите, положа руку на сердце, кто на моем месте поступил бы иначе? Не найдется такого Савонаролы. И все-таки без конца вспоминал я, как Маркиз ходил из угла в угол, бормоча что-то непонятное, как долго-долго стоял на балконе, глядел, наверное, ей вслед.
Вдобавок давний мучительный вопрос снова встал передо мною: чем заниматься? Политикой или литературой? Попробуй-ка выбери! Но зачем выбирать, ведь эти два вида деятельности вполне совместимы. Ну, совмести, посмотрим, ха-ха! Только не в теории, а на деле. Ну-ка! Судите сами: в сутках, как известно, всего лишь 24 часа. Из них 7 уходит на сон, 8 — чтобы заработать на бобовую похлебку (дон Армандо дал мне толстенный, в семьсот страниц, роман Джеймса Джонса, и я должен его перевести), считайте еще, сколько времени идет на поездки в автобусе, на мытье, на чтение газет, на поглощение пищи, на то, чтобы освободиться от таковой… Что же остается? А ведь тебе еще и задания дают, так где же, черт побери, взять время, я уж и не говорю — на то, чтобы самому писать, а хотя бы на то, чтобы читать Томаса Вульфа, Грасильяно, Элюара? А если тебе к тому же хочется еще и посидеть иногда в кафе до рассвета, болтая всякие глупости, или пойти на холм, поглядеть, как запускают бумажных змеев, заглянуть в бар возле бойни — просто так, послушать сочную, забористую речь мясников? А где взять еще целый день — прекрасный день, чтобы прокатиться, без всякого дела, для собственного удовольствия, на крошечном грузовичке моего кума Перальты, что развозит вино по городишкам Ранкагуа?
А женщины? Ах! Женщины! Разве может что-либо заменить их?
Скажи-ка, с чем можно сравнить те два часа, что ты бродил с Эухенией от витрины к витрине в Галерее Реаль и держал в своей ладони ее ручку? А с Ауророй мы сидели па скамейке на холме Санта-Лусия и по очереди, одну ягодку за другой, объедали кисть винограда. Я уж не говорю о Росе, которая приросла ко мне, как собственная моя кожа, о мужественной Росе Худышке с допотопными косами и губами, пламенеющими, как цветок аньяньука[49]. Стоит мне закрыть глаза — я вижу Росу и вспоминаю свою юность. И что мне делать, если в то же время я буквально схожу с ума от яростного желания видеть Фиолету? Я борюсь, я пытаюсь заклясть ее: прочь, дьяволенок, прочь, ступай к своим сестрам-белкам прыгать по веткам где-нибудь в парке!
А без всего этого потока чувств, впечатлений, переживаний, или как они там еще называются, что же ты сумеешь написать? Может, собираешься сочинять рассказы из жизни инопланетян? Или толковать о прибавочной стоимости в соответствии с учением Маркса?
Но самое худшее, самое-самое, — это то, что едва лишь и выполню одно задание, мне тут же дают другое. Так я и знал. Времена такие, что дела хватает, а нас ведь очень мало. Вдобавок мне посоветовали не посещать бары и кафе — они кишат соглядатаями. И не давать никому свой адрес. И не выходить из дому без крайней необходимости. Словом, жить как монах в келье, что вы на это скажете! Трудный вопрос, очень трудный. Будто тебя спрашивают: какую руку тебе отрубить? Или какой глаз выколоть?
— Это почетное задание, товарищ.
— Да, конечно, я понимаю, но дело в том, что…
— Без всяких деловтомчто, без всяких!
Задание и вправду почетное. Очень почетное! И вопрос, меня терзающий, теперь я вижу ясно, не столь уж страшен. Просто надо опять постараться приспособиться, совместить, не в последний раз. Все равно что переехать в другой город, в другой квартал… Ты привык к определенным темам, они тебя волнуют, вдохновляют твое перо, и ты забываешь о сне и пище, а потом они уходят. Уходят, а новые жизненные впечатления еще не отстоялись. Ты ведь чувствуешь, что переживаешь новые сюжеты, новые рассказы. Но вся трудность в том, что они не обрели пока четких контуров, лица, плоти. Они как бы скользят по поверхности сознания. Стекают с тебя, как с гуся вода. Ты ими живешь, но сам этого еще как бы не замечаешь.
Ослиный бред, правда?
Я должен править корректуры подпольного издания «Всеобщей песни»[50]. Переносить правку с листов, правленых одной девушкой, тоже из наших. Почерк у нее мелкий-мелкий, с нажимом, истинно женский. Пусть бы нам хоть позволили работать вместе!
— Нет, товарищ, листы розданы разным людям. И не пытайтесь узнавать, кто она. Слишком многое рискуете вы поставить под удар. Вы не подумали, чего стоит партии этот огромный том? Сколько понадобится бумаги, представляете? Посчитайте-ка.
— Нет, говоря откровенно, об этом я действительно не подумал.
— Ну, а мы подумали. Нам обо всем приходится думать.
Никогда еще за всю свою бурную, фантастическую, необычайную жизнь не издавал Неруда такой огромной книги. Десять тысяч экземпляров — массовый тираж, в восьмую долю листа. Солидное издание, значительное. Притом — нелегальное, и притом — стихи. Такого не бывали никогда, нигде, ни в одной стране.
Теперь вы видите, какая это честь для вас, товарищ? И к тому же вы первый прочтете весь том полностью. Тоже ведь не пустяк, не так ли?
А вы не могли бы указать это в конце книги, где выходные данные?
Слушайте, вы что, смеетесь?
Вот какой разговор произошел в тот день, когда я получил задание. Текст набирался (об этом я узнал гораздо позднее) на складе зерна, куда тайно доставили линотип. Напечатанное на линотипе передавали в крошечную типографию в предместье, где для виду, чтобы сбить с толку полицию, печатали также «Ла Уаска» — еженедельный журнальчик любителей конного спорта. Однажды, правда, полицейские агенты устроили налет на типографию, один из них целый час сидел, опершись локтями на пачку печатных листов, но так и не догадался, не пришло ему в дурацкую его башку, что эти стишки как раз и есть то самое, что они ищут. Да и вправду, подумать только: как могли они предположить, что разбитые, загнанные в подполье, мы займемся изданием стихов?
Из типографии листы тайно распределяли по разным мостам, где их брошюровали вручную. По ночам. С величайшими предосторожностями. Сброшюрованные листы упаковывали десятками и раздавали сочувствующим по всему городу. Таким образом при провале в руки полиции попала бы только самая малая часть издания.
Мысль о том, что я стану одним из винтиков механизма передачи, столь тщательно продуманного до малейших деталей, взволновала меня. Еще бы! Я понимал всю ответственность задания. Ясно понимал. И увлекался своей работой до того, что даже забывал о ливерной колбасе. Одно только обидно — так и не придется мне поработать вместе с таинственной незнакомкой-корректором.
Единственный человек, с которым мне приказали держать связь, был молодой молчаливый рабочий, жесткий, как вяленое мясо. Хотя мрачным я бы его не назвал, нет.
Однажды он даже улыбнулся. Мы с ним стояли у газетного киоска и читали про то, как янки досталось на орехи в Корее. Он мог бы, если надо, часами стоять на углу под проливным дождем и ни разу не пожаловался бы, даже не пикнул.
Он назначал встречу всякий раз в другом месте, в другом квартале, в разное время. Приносил новые листы. Я возвращал выправленные. Он давал мне пакет. Я давал ему пакет. И — чао, чао. Вот как оживленно мы с ним беседовали.
Если что-либо помешает нам встретиться, он позвонит позже. Я не знал, где его искать. Не знал даже, как его зовут! Он называл день и час встречи; ко дню следовало прибавить единицу, от часа отнять двойку. То есть, если он говорил — в понедельник в одиннадцать, это означало — во вторник в девять. То же и с местом встречи: если он говорит — на кладбище, значит, встречаемся в баре «Друг народов»; на стадионе — значит, в фойе кино «Республика». На случай, если телефон прослушивается. Как видите, эффектно, словно в детективном фильме.
Я держал корректуру по ночам, заперевшись на задвижку, проверял каждую буковку. Работал сосредоточенно, незаметно летели часы, и не раз рассвет, голубевший в окошке, заставал меня на прежнем месте. Я сидел за столом, завернувшись в пончо. И не убежать, некуда. Понимаете, я часто представлял себе, как это будет. Выбивают дверь прикладами, врываются: «Попался, сволочь! С поличными!»
Ну и что ж, беспокоиться нечего, ничего они из меня не вытянут. Видите ли, страх перед пыткой — просто пустяк сравнительно с этой ужасной неуверенностью, а она все время с тобой, пока ты не сдал очередную порцию корректуры, — вдруг не выдержу, вдруг расколюсь, стану подлым доносчиком. Не подумайте, будто я считаю себя героем, способным вынести самые утонченные пытки. Вовсе нет, отнюдь. Просто я же ничего не знаю.
«С кем ты связь держал?» — орут они.
«С рабочим» (почти все подпольщики — рабочие).
«Как его зовут?»
«Хуан Сото» (так зовут сотни людей).
«Худой? Низенький?»
«Да».
«Смуглый?»
«Нет. Вот ослы! Конечно, блондин. Разве вы не знаете, что почти все пролетарии блондины?»
Пинок ногой в одно место, за ним — град ударов.
Разумеется, после таких воображаемых диалогов мурашки бегали у меня по спине. Я слышал жужжание проклятой бормашины. Вдобавок у меня началась отрыжка, видимо, обострилась язва.
По всего этого еще мало: хозяин пансиона дон Просперо, семидесятидвухлетний ревматик в подтяжках, с искусственной челюстью, которая вываливалась у него изо рта черен каждые две фразы, и он тут же пальцами засовывал ее обратно, постепенно повыспросил у меня все на свете (невозможно же постоянно отвечать человеку одним мычанием); в конце концов он обнаружил, что был приятелем моего отца. Дело весьма давнее, старик мой учительствовал тогда в Лоте в начальной школе, а дон Просперо был каким-то мелким служащим в конторе угольной компании Коусиньо.
Насколько крепка и продолжительна была эта дружба? Chi lo sa[51]. Отца выслали во время всеобщей стачки за сочувствие шахтерам, он всенародно призывал поддержать их в крошечном, отпечатанном на ротаторе листке, заменявшем в тех местах газету; мой старик сам и писал, и печатал, и распространял его. Дон Просперо, напротив того, тянул лямку до самой пенсии.
Как бы то ни было, дон Просперо счел себя обязанным заменить мне отца, о чем и заявил решительно и безапелляционно. Только этого мне недоставало!
— Можешь считать меня своим отцом, Педрито, — сказал он, прихлебывая вино.
Последовали приглашения к обеду в воскресенье под навесом из дикого винограда, тушеная курица, пироги с мясом, цукаты, засахаренные фиги; под столом ходили Куры, поклевывали мои туфли.
Донью Рефухио он увидел впервые на концерте в филармонии; это была любовь с первого взгляда, без сомнении; у нее тоже то и дело вываливался изо рта протез. Она была добрая старушка, рано поседевшая, романтичная, с водянистыми глазками, и постоянно носила в кармане фартука крошечный транзистор, чтобы, не дай бог, не пропустить как-нибудь очередную повесть о любви. Муж помогал ей чистить кукурузу и сбивать майонез, чинил крышу (по-моему, ему ни разу так и не удалось сделать это толком, ибо с потолка частенько лило, как из душа) и спал с двух до четырех дня; в Армаде у него был сын от первого брака; по вечерам старик стоял на пороге дома, прислонясь к косяку, глядел на закат.
— Ничего не поделаешь, — говорил я шутя, — вы двое составляете цветущее убежище[52].
— Убежище — может быть, — отвечал он, вытягивая шею, торчавшую из слишком широкого воротничка рубашки. — Но цветущее — вот это нет, никакой надежды! Она, — старик кивал в сторону жены, — не захотела родить мне детей, а без детей какое может быть процветание.
— А почему вы не взяли ребенка на воспитание?
— Ну нет. Очень уж отчаянная молодежь нынче пошла. Попробуй только сделай ему замечание — сейчас же тебя отбреет. И такие они испорченные, всякие у них идеи. — Еще глоток вина и настороженный взгляд.
— Это верно, — отвечаю я печально и сбрасываю курицу, которая умудрилась тем временем взобраться ко мне на колени. — Впрочем, вам не на что жаловаться, дон Просперо. Супруга глядит на вас с любовью, чего же вам еще?
— Она? — Он снова кивает в сторону жены. — Да, правильно, глядеть — это она умеет.
Старушка кокетливо мизинчиком собирает в кучку крошки на скатерти.
Такие вот дела, как тут отказаться от приглашений? А с другой стороны, благодаря дону Просперо я многое выяснил об отце. Как мало мы знаем о стариках! А я о своем — меньше всех, он, как истинный уроженец Лоты, умел молчать. Дон Просперо вспоминал, как умирала от тифа мать, мне было тогда пять лет; как праздновали их свадьбу, а дон Просперо был шафером; да еще каким! Собрались в помещении профсоюза, так хотел отец. Как вместе охотились они на пуму в горах возле Иауэльбута (я помню шкуру, уже потертую, у нас в доме…). Все это, разумеется, очень мило, но создавало массу сложностей. На правах близких людей старики входили в любой час в мою комнату; то донья Рефухио принесет мне блюдечко сбитых сливок, то дон Просперо — свежий номер журнала «Эрсилья». Весьма трогательно, однако приходилось все время быть начеку, и я испытывал постоянную тревогу.
В тот день, когда я узнал, что Неруда сумел вырваться из кольца, которое все теснее и теснее сжималось вокруг него, пересек Кордильеры и, целый и невредимый, прибыл в Париж (мне сказал об этом мой связной, он в тот день против обыкновения разговорился. «Выехал из страны», — сообщил он мне. «Да?» — спросил я. «Да», — отвечал он и тут же умолк окончательно), я выпил целую бутылку вина от радости. Один. Тем не менее, попивая вино, я сообразил все обстоятельства и рассуждал так: ищейки, что ходили но пятам за Нерудой все это время, чем они займутся теперь? Обрушатся с удвоенной злобой… на что? На кого? Я вернулся к себе в комнату. Вино меня взбодрило, стало весело, черт возьми, очень весело. Прежде всего надо подставить таз — дождь идет сильный и первые капли — буль-буль! — уже начали шлепаться на мой рабочий стол. А теперь (голова у меня, правда, кружилась немного и перед глазами плыло) — за работу:
Я не один средь этой ночи -
народ, его не сосчитать.
Пересекая тишину, мой голос
бросает зерна в темноту[53].
Да! Вот оно! Вот оно! Несть числа одиноким, и одиночество их прошито кровавой нитью единства. Нас заставили жить во тьме. Без имени, без лица. За границами смерти. Но мы созреваем во тьме!
От волнения я высосал половину ливерной колбасы и все читал и правил, как безумный, как одержимый, не знаю сколько часов подряд. Вдруг ветер с силой распахнул окошко. Я взобрался на кровать, чтобы закрыть его, и — словно сердце подсказало — выглянул на улицу.
Проклятие! В такое позднее время. Сомнений нет, окутанная туманом улица совершенно безлюдна, и в тумане ясно вырисовывается силуэт: коренастый, коротконогий, в низко надвинутой широкополой шляпе. Повернулся сюда.
Ужасно захотелось курить; я принялся искать по всей комнате, я всегда прячу несколько сигарет про запас, иногда гак запрячу, что, когда найду, они уже все пожелтели; наконец отыскал одну, помятую «Кабанью». Затянулся раз семь и опять залез на кровать.
Стоит, проклятущий, на прежнем месте. Ни на один милиметр не сдвинулся. Окаменел он, что ли?
В который раз спрашиваю себя о главном: догадался ли Неруда, он ведь вовсе не легкомыслен, сделать копию книги и спрятать в надежном месте. Конечно, не такой он дурак! А тогда пусть приходят. Пусть ищут, где хотят.
Пусть найдут (они лежат под матрасом) две толстенные школьные тетради по двести страниц каждая, в которые я переписал от руки всю книгу. Уникальное издание, в одном экземпляре. Первое, самое первое. До сей поры храню я его!
Эти звери сжигают тетради, я вижу, как коробятся от жара, чернеют бедные мои листки. Потом подталкивают меня прикладами, сажают на горящие угли.
Ха-ха! Оригинал в безопасности, он уже в Париже, весь, полностью! Снова залезаю на кровать. Стоит. Неподвижный, руки в карманах. Вдали появляется тележка булочника. Что ж, хорошо, по крайней мере, свидетель. И в эту незабываемую минуту в розовом домике на углу приоткрывается окошко, чья-то обнаженная рука протягивает моему стражу большой картонный ящик. Что в нем? Марихуана? Атомная бомба? Да хоть Минотавр, ей-богу, мне совершенно безразлично. Негодяй ставит ящик на плечо и, тяжело шагая, удаляется в направлении Гран-авениды. Туман поглощает его.
Ложная тревога. Вот и все. Можете выходить из убежищ. Только теперь я замечаю, что весь в поту с головы до ног. И спина страшно болит. И все-таки, хотя начинает уже светать (не знаю откуда, черт меня побери, взялись силы!), послюнив карандаш, я продолжаю:
…я просыпаюсь на рубеже твоей главной зари,
переполненный сладостью плодов и гневом,
вершитель твоей нежности и мести,
зачатый твоим детородным млеком,
вскормленный кровью твоего наследья[54].
ГЛАВА IX
Вот так ковыляли неспешно ленивые недели; дрожали от холода под последними дождями; радовались, глядя на первые бумажные змеи; коченели ледяным сентябрем; мрачнели в сомнениях.
В пятницу — да, это была пятница, я твердо помню, пятница, тринадцатое — произошло нечто неслыханное. Такое забыть нельзя.
Новая жилица пансиона: «Сеньорита Анхелика» — «Очень приятно, к вашим услугам»; прозрачно-голубоватая кожа, горящие глаза, костюм на заказ с плиссированной юбкой, чахоточный кашель, глухой, с мокротой, страшный, как в бочку бухает. Несмотря на кашель, сеньорита Анхелика с первого же дня покорила всех нас. Неотразимое обаяние, достоинство, что дается привычкой к страданиям, что-то в ней было такое… не знаю. Высокое, свет какой-то неуловимый. Не то чтобы очень умна, тут другое: слушаешь ее — и словно запах магнолий разливается в воздухе или нежно звенит где-то мандолина.
Ее посадили за один стол с двумя кислыми старыми Девами, из тех, что кладут к себе в кровать кошек и беседу-юг громогласно; но после сладкого некоторые (их с каждым днем становилось все больше) придвигали стулья, угаживались поближе к сеньорите Анхелике — послушать ее. Всех очаровала сеньорита Анхелика, ибо было в ней то самое «что-то», неуловимое, неопределимое. И все огорчались, слыша ее кашель.
В ту пятницу сеньорита Анхелика вышла к обеду с опозданием. Села. Хотя нет, про нее нельзя сказать «села», никто никогда не слышал, как она отодвигала стул, она скользила, будто тень от облаков. Начала есть суп. И тут из кухни, словно смерч, вылетела совершенно неузнаваемая донья Рефухио. Яростно вырвала у сеньориты Анхелики ложку: «Это не ваша ложка, сеньорита. Вы же прекрасно знаете». Донья Рефухио схватила другую ложку, пыталась силой вложить ее в руку сеньориты Анхелики.
Глаза доньи Рефухио сделались стальными, холодными, жесткими.
Сеньорита Анхелика вышла из столовой; старые девы начали что-то объяснять, пытались оправдать как-то донью Рефухио: «Чрезвычайно неблагоразумно со стороны доньи Анхелики! Ей следует соблюдать осторожность. Она же знает, что у нее отдельный прибор».
Старые девы орали, размахивали руками; все тут было: и собственные потерянные надежды, и зависть, и злоба. Все вместе. Мы смотрели на них молча. Мы не знали, что делать.
Н отправился в ванную, нарочно чтобы пройти мимо ее двери. Остановился, прислушался. Плачет. Я тихонько постучал в дверь. Она не ответила.
Подлая нищета! Хотелось драться, топать ногами! Скажите: что тут делать? Что можно сделать, черт меня побери совсем? Как поступать в такие вот минуты? Пусть бы мы все заразились к дьяволу, лишь бы не пришлось ей вытерпеть такое унижение, лишь бы она не плакала!
В детстве читал я один рассказ, мне его дал отец; не похож он был на обычный рассказ. Про девочку с чудесными рыжими волосами, с золотыми, огненными кудрями. Во Франции все это происходило, в какой-то из провинций прекрасной Франции. Все смотрели на девочку, все ей завидовали, все восхищались великолепными ее волосами. И вдруг учительница обнаружила у девочки вшей.
Какой скандал, какой ужас!
Учительница потащила девочку в парикмахерскую и велела остричь ее наголо. И автор рассказа, не похожего на другие рассказы, кончает такими словами: «Ради одних только этих рыжих кудрей не стоит разве сделать революцию?»
В довершение всего в тот же вечер кто-то постучал в дверь. Голоса сливались, но через несколько секунд я уже не сомневался, что за мной пришли. Служанка не уступала: «Как это вы могли забыть фамилию? И вдобавок хозяйки сейчас нет. А он не велел его беспокоить, он работает».
Каким образом, черт побери, могли они узнать мой адрес?
Я стал наспех прятать бумаги и тут, уже под самой дверью комнаты, услыхал голос Маркиза:
— Открой, это я.
Он был в волнении:
— Зачем ты запираешься на задвижку среди бела дня? Невинность свою бережешь, что ли? — И тут же, без передышки, стал путано объяснять что-то, я ничего не мог понять. Усадил его, дал сигарету, сам ее зажег (Маркиз оказался не в состоянии это сделать).
— Давай посидим, покурим. А потом все расскажешь.
— Времени нет, дело срочное.
— А откуда ты узнал, где я живу?
— К дьяволу, не все ли равно! Ты должен мне помочь.
Маркиз похудел, щеки небриты уже несколько дней, на штанах, на рубашке целая коллекция разноцветных пятен.
— Тогда говори толком, а то я ничего не понимаю.
В конце концов мне удалось уловить смысл происшедшего. Кто-то позвонил Маркизу по телефону: есть к нему поручение, весьма деликатное. Надо поговорить с глазу на глаз. И больше ничего не сказал.
— Чилиец?
— Нет, венесуэлец. Договорились встретиться сегодня в четыре в баре отеля «Крильон». — Маркиз не хочет идти один, отыскал меня, пусть я его сопровождаю.
— А почему тебя волнуют такие пустяки? Может, Просто какой-нибудь поклонник твоего таланта.
— Не издевайся.
— И зачем я должен…
— А кто же еще? Нет, только ты. И давай быстрей собирайся, уже скоро три.
— Но я не хочу.
— Почему?
— Ну, мало ли почему. Завтра надо обязательно перевод сдать…
— Это не причина. Кончишь ночью.
— Вообще мне ни к чему все это. В самом деле, для чего и пойду? Что я — шпион? Телохранитель?
— Я никогда не просил тебя ни о каком одолжении. — Маркиз бросил сигарету, придавил ногой.
— Правда никогда?
— Ладно, может, когда и просил, но сегодня — в последний раз. — Он тянул меня за рукав, и вид у него был такой несчастный, что я, — черт возьми, всегда этот хитрец г моего добивается! — я в конце концов уступил.
— Но если мы идем в «Крильон», так побрейся по Крайней мере. — Я достал электробритву, дал ему. — И причешись, и умойся. Ты же запаршивел весь.
Он не хотел, я настаивал — иначе не пойду. Получилось, однако, еще хуже: Маркиз весь исцарапался, и теперь лицо его было залеплено полосками голубой туалетной бумаги.
До центра добрались на автобусе, оттуда — пешком, чуть ли не бегом. Маркиз шел впереди, ловко, будто ящерица, пробираясь сквозь толпу. На углу Агустинас остановился, поджидая меня.
— Я передумал. Мне там не нравится. Будут все глазеть. Мы с ним перейдем в бар на Бандера; а ты ступай вперед и жди нас там. Когда придем, я тебя приглашу за наш столик. И ты не разговаривай. Только слушай.
Так я и сделал. За столиком недалеко от входа сидели Фауно, Чино, Толстый Coca и другие мои приятели-журналисты; я отказался от их приглашения и отыскал свободный столик в глубине зала.
— Нет, я закажу попозже, — сказал я официанту. — Я жду друзей.
Явились наконец. Незнакомый рослый господин в очках, в элегантном английском плаще. Держался он уверенно, непринужденно.
— Я думал, мы будем разговаривать наедине. — Господин пожал мою руку и удивленно взглянул на Маркиза.
— Не вижу причин, — отвечал Маркиз, усаживаясь.
Я посторонился, пропуская сильно надушенную блондинку; она поднялась из-за соседнего столика со словами «Auf wiedersehen»[55]. После нескольких недель напряженной работы шум голосов оглушал меня, звуки музыкального автомата казались ужасными, а ситуация чрезвычайно неприятной и двусмысленной.
— Я ненадолго, я тороплюсь.
— Если ты уйдешь, я уйду тоже.
Господин внимательно посмотрел на нас, сначала на одного, потом на другого.
— Пожалуйста, садитесь. — Он сам подвинул мне стул, спросил, что мы будем пить. Заказал себе «bloody Mary»[56] (это еще что за мерзость?). Я решился лишь на чашку «капуцина», Маркиз попросил бутылку пива.
— Итак, Рафаэль, вот мы и встретились. — Господин улыбнулся, показав до того белые ровные зубы, что мне даже как-то не по себе стало. — Или мне следует называть тебя Маркизом?
— Все равно. Только скажите: почему вы говорите мне «ты»?
Глаза за очками сверкнули, но… и только. Господин был на удивление кроток.
— Хорошо, хорошо. Только, простите мою настойчивость, нельзя ли нам перейти куда-нибудь, где потише? Здесь такая сумятица, столько народу…
— А по-моему, здесь хорошо. Не правда ли, Педро, — Маркиз, конечно, сочинил все тут же, — не правда ли, мы с тобой любим этот бар?
Господин обвел глазами стены, увешанные потемневшими картинами с изображениями попугаев, борзых собак и лошадей; они остались от тех времен, когда этот бар считался элегантным.
— Тут такой рев стоит… ну да ладно, если вам нравится, мы можем поговорить и здесь.
— А о чем?
«О чем» прозвучало неожиданно резко, взорвалось, как граната. Что за несчастную тайну в жизни Маркиза суждено мне узнать?
— Мне дано весьма деликатное поручение, — спокойно, внушительно. — От Алехандро; он почтил меня своим доверием и тем доказал, как высоко ценит нашу дружбу. Я говорю о вашем отце. — Господин поправил очки. — Вас это удивляет? Я рад, что здесь присутствует ваш близкий друг. Мы вместе все обсудим, спокойно, трезво и благожелательно.
— Что ему надо?
— Он хочет вас видеть. Это все. — Маркиз собрался было ответить, господин жестом остановил его. — И еще одна просьба, совсем особая: не отвечайте сразу. Обдумайте. Алехандро предвидел, что первой вашей реакцией будет отказ; потому-то я и пришел сюда. Объезжаю Южную Америку по своим делам и вот… Алехандро не хотел писать вам, не говоря уж о том, что вашего адреса у него нет.
— А вы кто такой? — Маркиз перестал ломаться.
— Я в некотором роде компаньон вашего отца. И адвокат тоже, хотя вообще-то почти не занимаюсь адвокатской практикой. И его друг, мы дружны всю жизнь.
— Какая муха его укусила? Мы уже много лет не имеем дипломатических сношений, как говорится. С чего это он вдруг вздумал соваться в мою жизнь?
— Рафаэль, прошу вас, ваш отец болен, достаточно тяжело болен. Глаукома на обоих глазах, и с сердцем не слишком благополучно. В прошлом году его оперировали в Испании, но лучше не стало. Давайте поговорим. Если надо — хоть весь вечер. Будьте же благоразумны. Ваши чувства благородны, но они затемняют ваш разум. Позвольте, я объясню кое-что.
Официант принес заказанное, разговор прервался. Фауно что-то кричал мне из-за своего столика, махал руками, но ничего нельзя было расслышать. Из музыкального автомата неслась полька «Боченочек». Господин неторопливо прихлебывал свое странное пойло, пристально глядел на Маркиза поверх бокала. Пойло походило на кровь.
Я чувствовал себя так, будто иду по узкой жердочке, а внизу подо мной — трясина. Какие же мы дураки с Маркизом! Один вид пожирает другой — таков закон звериной жизни… Маркиз налил себе пива, пена выползла на стол; по-моему, он сделал это нарочно. Мы с господином принялись вытирать лужу салфетками. А Маркиз, негодяй, даже не шевельнулся.
— Чтобы пена не вылезала, надо опустить в стакан палец, вот так. — Господин с улыбкой опустил в свой бокал кончик мизинца. — Все пьяницы это знают… Но позвольте, я расскажу о вашем отце. Алехандро человек твердый, хозяин жизни; он много трудился и победил — стал богатым, очень богатым…
— Говорят, только первый миллион достается ценой сделок с совестью, остальные можно добыть честно…
Господин сделал вид, будто не слышит.
— Вы никогда не думали, Рафаэль, что это значит: дед ваш был ловцом жемчуга, а отец стал тем, что он есть?
— И что он такое есть, что за зверь? — Маркиз вытер рот рукавом.
— Ладно, ладно, он, кроме всего прочего, глава телекомпании, самой крупной в стране, которая по-настоящему влияет на общественное мнение. Победителю всегда завидуют, но Алехандро уважают в самых разных кругах общества. Теперь единственное, чего ему недостает, — чтобы сын был снова с ним.
— Ах, так, значит, совсем вернуться, а не только навестить его. Он, бедненький, слепнет. До чего трогательно! А блудный сын покаялся и возвращается в его объятия. Умилительно, и вдобавок можно рассчитывать (вы приложили достаточно стараний, чтоб это до меня дошло), поскольку старик начинает уже сдавать, что недалек день, когда я стану единственным наследником… — Маркиз загасил окурок в моей чашке. Ноздри его раздувались.
— Не спешите, Рафаэль, не спешите. Проходят годы, страсти утихают. Разрешите, по крайней мере, показать вам фотографию отца. Сколько лет вы с ним не виделись? — Продолжая улыбаться, господин положил на стол карточку размером в почтовую открытку. Указательным пальцем пододвинул ее к Маркизу.
Маркиз вылил в стакан остатки пива, бутылку, будто нечаянно, поставил на фотографию. Я вытянул ее из-под бутылки, стал рассматривать. Интересно: форма головы такая же, как у Маркиза; усталый взгляд, чувственный рот. Наверно, зеленые глаза, тонкие губы и хрупкое сложение Маркиз унаследовал от матери. Отец был смуглый, с бычьей шеей. Из автомата лилось теперь рыдающее танго: «Моя куколка нежная, светловолосая…» Любопытная вещь — сочетание генов, непредсказуемая, чистая лотерея. «И та же любовь, и тот же дождь, и та же, та же безумная страсть».
И возвратил карточку, и господин спрятал ее в бумажник. Сделал знак официанту.
Или, может быть, хотите еще чего-нибудь? — Мы отрицательно покачали головами. — Хорошо, хорошо. Ну, послушайте же меня, Рафаэль… — Господин, кажется, не решался продолжать. — Мне известно все. Я знаю, что ваша мать…. — Он умолк, бросив на меня косой, неуверенный взгляд. — Все это больно, очень больно. Но подумайте и о нем. Его вторая жена умерла, детей у нее не было, я вам уже говорил, он одинок, болен, он хочет вас видеть, хочет быть с вами. Он отнюдь не покушается на вашу независимость…
«И та же, та же безумная страсть…»
— …С вашим литературным дарованием, на телевидении… Он просил передать также, что мог бы основать журнал, и вы бы руководили…
Ты согласишься, Маркиз? Неужто согласишься? Вот перед каким выбором поставили тебя, вот чем соблазняют! Что за подлость! Держись, Маркиз!
— …Случайно Алехандро узнал о дальнейшей судьбе нашей матери… — Господин снова тревожно покосился в мою сторону. — Он узнал, что она жила здесь, в Сантьяго, это было несколько лет тому назад. Она работала в «Салоне красоты»…
— В «Салоне красоты»? До чего забавно. Как эвфемизм совсем неплохо придумано. Только нет, нет! В «Качас Грандес» она работала официанткой. Посмотрите-ка, это нон там, совсем недалеко отсюда. Можете сходить туда пообедать, недорого обойдется. Только потом всю ночь рвать будет.
— Не знаю. Об этом я ничего не знаю. И не знаю, известны ли Алехандро такие подробности. Я думаю, он предпринял розыски потому, что хотел помочь ей, но следы затерялись. Полностью затерялись.
— Правильно, после землетрясения в Чильяне. Десять лет назад. Она была в то время уже совсем рухлядь. Старая проститутка. Расскажите-ка ему. А еще вот что: не исключено, что она спаслась от землетрясения и еще жива. Очень возможно, что она еще жива. Скажите ему так, пожалуйста.
— Нет, бога ради. — Господин, казалось, был искренно взволнован. — Не могу я ему сказать это…
— Значит, вы осуществляете лишь одностороннюю связь?
— Нет. Нет. Но сказать ему такое — ну просто не могу.
Я всего только выполняю поручение, я поступаю по-человечески, по справедливости. Повторяю: он будет ждать вас. В «Панамерикан» я оставлю на ваше имя билет на самолет с открытой датой. Прилетайте. Вы не пожалеете. Сделайте это не только ради него. Ради себя тоже. Ради вашего таланта, который пропадает зря, ради…
Лиловая жила вздулась на лбу Маркиза.
— Слушайте, господин, — он ударил ладонью по столу, — вы совершенно напрасно теряете время. Хотя, может, и нет. Может, вам это полезно: вы навсегда запомните, как один раз в жизни имели дело с невиданным существом. Из другого мира. Из мира, о существовании которого вы не имеете ни малейшего представления. — Маркиз говорил негромко, медленно, даже мягко. — Я был с вами вежлив, я выслушал вас; у вас хватило бестактности, не зная меня, явиться сюда с предложением столь же оскорбительным, как и бессмысленным. Хотя откуда же вам меня знать?
Вам, пришедшему из мира прожорливой посредственности да грошовых расчетов. Так вот, зарубите себе на носу: я не хочу пускать слюни, пусть лучше сгорит мое сердце. Алчность помогла моему отцу залечить душевные раны.
У меня другое утешение — презренье и ненависть. Вы упомянули о загубленном таланте. Что вы об этом знаете, черт побери? Что можете вы понять, если все ваше существование — одно лишь бездарное кривляние, жалкое подражание подлинной жизни. — Маркиз вскочил, отшвырнул стул. Посетители бара смотрели на нас из-за своих столиков. — И, простите, чуть не забыл, спасибо за пиво.
Сумасшедший дом! Натыкаясь на столики и стулья, кое-как пробрались мы к выходу.
— Чао, Фауно, в другой раз поговорим.
Я подумал, что господин идет за нами. Оглянулся: он сидел на прежнем месте и, кажется, все еще говорил — шевелил губами, словно жевал свои доводы.
Мы остановили такси.
— На край света, — сказал Маркиз, захлопывая дверцу.
Шофером оказалась женщина; волосы спрятаны под кепи с золотыми галунами.
— Скажи ей, куда ехать, старик.
— Куда ей вздумается.
— Нет, ты должен сказать.
— Ну, ладно, на холм.
— На Санта-Лусию? — спросила женщина.
— Нет, на Сан-Кристобаль.
ГЛАВА X
С Аламеды мы по Моранде проехали до Мапочо, объехали Форесталь, где перед Музеем изящных искусств только что зацвели черешни, я указал на них Маркизу, он ничего не ответил, двинулись к холму через мост Пия Девятого. Только что съехали с моста — резкий вираж в сторону, тормозим. Вовремя, еще бы немного — и… Старуха, волоча обернутую тряпками ногу, вскарабкалась на тротуар и дате не оглянулась.
Маркиз вцепился в мой локоть.
Отвратительный ком стоял у меня в горле.
— Почему вы ее не раздавили?
Женщина-шофер не понимает. Маркиз все твердит свое.
Женщина решила, видимо, что он шутит, теперь ведь в ходу черный юмор, я вижу в зеркальце, как она улыбается.
— Вы знаете, во сколько обойдется взобраться наверх? — спрашивает она. — Может получиться очень дорого.
— Ваше дело вести как следует.
Перестала улыбаться, но все еще смотрит на нас в зеркальце.
— Откуда вы?
— Мы готтентоты.
— Нет, — уточняю я, — это он — готтентот, а я — чилиец.
Женщина качает головой:
— Не знаю, зачем пускают к нам так много иностранцев. — Она в плохом настроении. — Мой муж работает у «Гэт и Чавес»; так вот к ним явился однажды какой-то тип, очень хорошо одетый, и говорит — я от президента, президент хочет купить плащ, пусть ему пришлют несколько штук, он выберет. Дали ему шесть плащей и мужа послали с ним. А знаете ли, что этот тип сделал? Оставил мужа в такси, просил подождать, взял плащи, вошел во дворец Монеда через ту дверь, что на Агустинас, а вышел, видимо, через другую, на Аламеду. Оказалось потом — колумбиец какой-то, мошенник бессовестный. Мужа чуть не уволили, и еще пришлось таксисту платить, он два часа дожидался.
— Наверняка этот мошенник на пару с президентом работает, — сказал Маркиз.
Женщина задумалась.
— Вот и хорошо, зато теперь вы знаете, что собой представляет наш президент. Не надо было за него голосовать.
— Я и не голосовала.
— А муж ваш голосовал?
— Да, он голосовал.
— Ну, вот и терпите. И будьте благодарны колумбийцу, он преподал вам урок, чтоб вы лучше разбирались в политике.
Женщина нахмурилась, замолкла. Дорога спиралью поднималась на холм; с каждым поворотом панорама становилась все шире.
Внезапно Маркиз схватил меня за руку.
— Зачем он приехал?
— Кто?
— Этот господин.
— Ну что ты. По-моему, все ясно.
— Ты не знаешь венесуэльских адвокатов. Старик помрет, я останусь единственным наследником, а он в качестве моего адвоката все и прикарманит.
Я молчал.
— Ну, скажи же что-нибудь, не будь сволочью.
Женщина-шофер нервничала, вела машину плохо, поворачивала слишком резко. Я глядел через стекло наружу. Дорога кружила спиралью, все обширнее становился пейзаж. Будто китайская картина: на сто тысяч ли раскинулись горы и реки.
— Я не знал, что твой папа жив, — я все еще не поворачивал головы, — я даже думал, что у тебя вообще не было отца.
— Как может не быть отца!
— Ты же такой оригинальный, особенный.
Женщина опять наблюдала за нами в зеркальце.
Много лет не был я на Сан-Кристобаль. Несмотря на ледяной ветерок, я опустил стекло и наслаждался видом. Маркиз откинулся на сиденье. Наконец мы добрались до статуи Пресвятой Девы, скинулись, дорога в самом деле обошлась чертовски дорого. Маркиз за руку попрощался с женщиной-шофером, попросил передать привет мужу; мы взобрались на смотровую площадку, стояли, облокотясь на перила.
Каким огромным стал Сантьяго! Лиловеет к вечеру прозрачная пелена смога, зажигаются первые огни. Гигантский улей. Огромный термитник. Сколько жизней, сколько судеб, даже страшно становится! Родятся на свет, суетятся, стареют… Одно и то же солнце светит всем, один и тот же дождь льет на все спины. Толпятся безработные перед воротами заводов. Вот сейчас, в эту минуту, кто-то родится, Кто-то умирает. Влюбленные вырезают сердце на стволе дерева. Пенсионеры стоят в очереди к окошечку за пособием. Вечная карусель, вечное вращение бескрайних туманностей. Кто-то добился удачи. Кому-то не повезло. Пекарни, рабочие перед печами. Подростки на велосипедах. Девочки кормят кукол. Разносятся в сумерках тихие звуки фортепьяно. Все перемешано. Огромный хаос, контрасты, режущие глаз. Но мы переменим все это. Перестроим на новый лад! Блестящие шелковые сутаны; комбинезоны в пятнах машинного масла; накрахмаленные чепцы. Бродячий фокусник со змеей, попугайчик, достающий билетик, где начертана наша судьба. Вечность состоит из секунд, друг, и надо уметь каждый миг ощущать всю глубину существования. Неоновые рекламы. Зонты. Телефоны-автоматы. А за нами следят, брат, за нами следят. Любовь твоя ускользнула. Туберкулезная девушка взяла не ту ложку… Как сделать так, чтобы заклясть в себе страх? Мы все еще живем в эпоху мифов, только боги спрятались и шпионят за нами. И не забудь: этот город поднялся на костях миллионов. На рассвете мертвецы бродят по пустынным улицам, они помнят: «Я штукатурил эти стены; я вставлял эти стекла; мы с женой посадили эту акацию». Что ж такого! Одно и то же солнце светит всем, один и тот же дождь льет на все спины. За каждым куском хлеба стоит история. Матрасы, набитые соломой. Оцинкованные крыши. Пьяницу рвет. Дети лепят что-то из грязи, у них нет других игрушек. Не наряжайся, девушка, все равно ты обречена. И — тоска, тоска, и еще дороже редкая радость. Поезда идут на юг. Поезда идут на север. Огромные доберманы бегают по зеленым подстриженным на английский лад лужайкам. Завтра мы за все рассчитаемся. Нищие с глазами удавленников. Тени роются в мусорных баках. Благо в полутьме их никто не видит. И жизнь дает уроки бесплатно, на каждом углу. Но хуже всего — тайная боль. Тайная боль! А это, кажется, Баррио Сивико? А вон там должен быть стадион. Канавы, полные нечистот. Заманчивые витрины. Полицейские налеты. Я теперь верю только в одно: мы все движемся во времени, время есть энергия, разновидность ее, еще не открытая учеными. Эйнштейн попытался было решить загадку, но дело тут, видно, не в математике. Однако молодость — это вечно возрождающееся опьянение, перемежающаяся лихорадка. А вон то большое зеленое пятно, наверное, парк Коусиньо? И сколько ног, не счесть, сколько ног шагает по улицам! Туфли, сандалии, мокасины, сапоги… Она уверяет, будто видела тебя в луже крови. Валяются вокруг железки-ключики для консервов. Дома терпимости. Мраморные лестницы. Собака, кусающая свой хвост. Мы живем, упоенные миражами. Но все должно перемениться. Все должно перемениться! Невозможно вечно сидеть между двух стульев. Героев нет в наше время, они умерли вместе с Гомером. И единственная вечная тема — битва любви со смертью. Землетрясения. Кликушествуют в парках евангелисты, вопят о своих грехах. Самоубийства. Обшарпанные стены. Кричит новорожденный; улыбается кандидат на должность городского советника. Окоченевшее мертвое тело. Железнодорожники объявили забастовку. Опять суп с вермишелью. И ты умираешь, так и не успев постигнуть законы бытия. Время, я верю только во время, оно есть, оно существует всегда. Дело вот в чем: писать надо с яростной искренностью, выворачивать себя наизнанку, будто носок. Осень, золотые ее плоды. Одно и то же солнце для всех, один и тот же дождь льет на все спины. Революционное сознание есть. Но мало революционной воли. Нужна полная самоотдача, полная. Не можешь — полеживай лучше на кровати да почитывай «Rimas» Беккера. «О мир, мир, если бы даже я звался Раймундо, сложился бы еще один стих, но выхода все равно не нашлось бы»[57]. И пелена мечтаний вся в дырах, в которые и проваливаешься. Лето, пылающий его жар. Нет, в той стороне район Систерна. Один только раз я видел ее фотографию: волосы пышные, до пояса. Речь о том, чтобы самые утонченные слова наполнить сочной реальностью жизни. Трава прорастает сквозь булыжники мостовой. Даже в ржавой бритве есть своя тайна. Не обманывай себя: эта девушка вся полна капризов. Цены на масло повысились, кум. И на рис. Теперь зарплаты совсем ни на что не хватает. Но мы доплывем до Океана Времени. Там мы сольемся. Разве не видишь — огненный палец чертит звездный рисунок на груди ночи? Картошка с кочаюйо[58]. Пушки палят — двенадцать часов. Взмывают в небо голуби. Лишь бы оставалась надежда, упорная, несмотря ни на что, надежда. Одно и то же солнце светит для всех. Один и тот же дождь льет на все спины… дождь льет…
Больше получаса стояли мы рядом, глядя на огромный город, расстилавшийся под нами. Молчали. Каждый думал о своем, плыл наудачу по извилистым рекам своей души. Горы лиловели, темнели, суровели. А внизу по-прежнему билась, трепетала жизнь. Ночь спускалась в долину, ослепившую некогда своей красотою Педро де Вальдивия[59] и его всадников, сзывала на совет звезды.
Маркиз тронул меня за локоть. Я вздрогнул.
— У тебя сигареты есть?
— Ни одной не осталось.
— Дай тогда денег, пойду куплю.
— Соображаешь? Ты ж меня дочиста обобрал, тебе надумалось приехать сюда на такси.
— А что я буду курить?
Он в бешенстве обежал всю площадку, подбирая окурки, но окурки все были растоптанные, сырые.
— Так ты, значит, хочешь, чтоб я описал свою жизнь?
— Кого интересует твоя жизнь?
— Тебя. Тебя интересует, не трусь, признайся лучше честно.
— Нет, какого черта, вовсе она меня не интересует. Я сейчас вспоминал одно древнее китайское стихотворение. Лето в Китае и сверчки, мильоны, трильоны сверчков, все трещат одновременно, пронзительно, с ума можно сойти. В стихотворении описывается, какой они подняли шум, потом сверчки постепенно умолкают один за другим, и в конце остается один, всего только один-единственный сверчок, и он трещит: «Я здесь, я пою, я выражаю себя!»
— Ну и что из этого?
— Тебе не кажется, что тут то же самое?
— Что то же самое?
— Вот это поднимающееся сюда беспрерывное дыхание города? Послушай. Разве не слышишь? Там два миллиона человек, и каждый выражает себя, желает, чтобы его признали, признали как личность, маленькую, ничем не примечательную, но единственную в своем роде, неповторимую личность?
Маркиз смотрел на меня с изумлением и вдруг завопил:
— Иди ты знаешь куда со своими трильонами сверчков! Я хочу только одного — сигарету. My kingdom for a cigar![60] Даже не за коня; всего только за паршивый окурок.
— Ну тебя к черту! Что я могу сделать?
— Дай мне сигарету.
— Нет же у меня, я тебе говорю.
— Поищи. Поройся в карманах.
— Да нет же, нет, черт бы тебя побрал, пойми!
— Негодяй! Ты их спрятал для себя.
— Нет, старик, не прятал я их. Не можешь терпеть — кури что попало. Хоть шнурки от туфель.
Маркиз расхохотался. От всей души.
— У меня осталось несколько песо, — сказал он, — давай бросим жребий. Кто выиграет, спускается на фуникулере и курит, а кто проиграет… Кто проиграет, черт с ним совсем. Деревьев здесь хватает, пусть вешается на любом…
— Нет, такое мне вовсе не улыбается. Ты меня уже раз обдурил. Я спущусь пешком.
— Ладно, подожди. Подожди меня одну минутку.
Маркиз направился к кассе фуникулера, вскоре оттуда вылез сгорбленный старичок, он смеялся и хлопал Маркиза по спине, Маркиз появился с сигаретой в зубах, другую — для меня — он засунул за ухо; вдобавок старичок разрешил нам бесплатно спуститься на фуникулере. Маркиз не пожелал рассказать, как ему удалось добиться всего этого. Когда спускались, Маркиз вдруг сказал:
— Этого колумбийца я знаю.
— Какого?
— Про которого шоферша рассказывала.
— Он твой приятель?
— Нет. Но я его знаю. Плащи он продал, на эти деньги купил билет на пароход, в третий класс, и вернулся на родину.
— А идею ты ему подал?
— Нет, но я ее одобрил. Здесь он совсем подыхал.
Я поглядел Маркизу в глаза. Он отвел взгляд.
Пешком мы дошли до площади Италии. От стадиона катили один за другим автобусы, болельщики висели на сту-пеньках, сидели даже на крышах. Воздух сотрясался от победного клича: «Молодцы ребята, вот это игра! У-ра! У-ра!»
— Вот они, твои сверчки, — сказал Маркиз, — орут все одну и ту же дрянь.
— Ах-ах, скажите! Тонкий интеллектуал возвышается над массой. Ладно, пока. У меня дела.
Я прошел несколько шагов, и Маркиз окликнул меня. Я не остановился. Маркиз меня догнал, зашагали рядом по бульвару авениды Бустаманте.
— Педро Игнасио.
— Что?
— Мать ушла, когда мне было три года…
— Не рассказывай, не надо. Я и так понимаю.
— Нет, я должен рассказать. Она уехала с театральной труппой. С испанской. Отец сказал, что она умерла, и я поверил. Он даже опубликовал в газетах извещение о ее кончине. Так я и вырос. И только в пятнадцать лет узнал правду…
Ноги у меня подкашивались. Мы остановились. Маркиз не смотрел мне в лицо, стоял, опустив голову, не отрывая взгляда от пуговицы моей рубашки.
— Мать — это окошко, через которое ты вылез на белый свет. — Он схватил меня за лацканы, рванул яростно.
Тогда я схватил его за волосы, потряс. — Так как же ты хочешь… — голос его прервался. Он сглотнул. — Как же ты хочешь, чтобы я… Старая гадина! А ты не лезь. Не лезь!
Все это тебя не касается! — Он оттолкнул меня и зашагал прочь. Я окликнул его, тогда он бросился бежать. Бежал неуклюже, смешно, спотыкался на каждом шагу; человек, который ни разу в жизни не убегал от опасности…
ГЛАВА XI
Я кончил. Наконец-то, наконец! Кончил! Прощай «Всеобщая песнь». Прощайте бесконечные гранки, запах типографской краски, прощайте бессонные ночи, страх. Кончена книга, огромная, как ихтиозавр, безбрежная, как Амазонка. Я снова свободен. Впрочем, надо сказать сразу, — я не свободен, у меня другие дела, целая куча дел. Я давно уже ношу в себе сотню рассказов, теперь я напишу их в один присест. Короткие. Длинные. Острые как ножи. Круглые как камни на дне водопада в Андах. О мошенниках; о мистиках; о революционерах; о чахоточных; о влюбленных, лишенных ложа; о бабочках, лишенных воздуха. И мне теперь позволено (кто это тебе позволил?), если захочу, проснувшись в семь, валяться в постели хоть до одиннадцати. Я закрываю глаза и думаю. Я выстраиваю фразы блестящие, как яшма, тяжелые, как ртуть, смелые, как канатные плясуны, с клыками, с лепестками. Два месяца просидел я над стихами Неруды, и я потрясен, я взлетаю, будто акробат, под самые облака, я слышу крик попугаев. Вдобавок выглянуло солнце. Только что его круглая физиономия появилась в моем окошке. Да, господа, вы теперь со мной не шутите. И к моей машинке «Смит корона» тоже извольте относиться почтительно, нечего тут! Вы поймите: я сделал то, что должен был сделать. А сегодня не буду делать ничего! Ничего, слыхали? И куплю себе ливерной колбасы и съем всю сразу. Не свиную. Телячью. Хотя телячья гораздо дороже. А еще — можете честить меня, как вам угодно — нынче же вечером пойду и разыщу Фиолету!
Я писал неделю. Две. Три. Черт знает что! Отовсюду торчат нерудизмы. Всеми своими порами впитал я Неруду, его нагромождения метафор, его звенящий одиннадцатисложник, его герундии, срывающиеся как ледники с гор. И все это — в прозе, не угодно ли? Ни на что не похоже! Искусственно. Все равно что приставить ослу хвост кецаля. Или написать Сикстинскую мадонну на стене бара у бойни. Неруда никогда не употребляет такие слова, как «хрупкий», «роскошный», «шпулька», «ягодица», «полоскание горла», «рожистое воспаление»; его лексика зарождается и расцветает в другом мире, на другой планете.
Прошкурить себя до самого мяса, вырвать Неруду из души и из тела.
Начну все снова. Опять все снова. Прочту Сесара Вальехо с начала до конца — великое противоядие, спасение от Неруды, а Кеведо не буду читать, и Уитмена не буду — это скрытые корни Неруды, и Маяковского тоже нет, а вот прочту лучше Стендаля, Гоголя и еще Священное писание (с осторожностью, конечно), и Мельвилла, и телефонный справочник. Что попало, лишь бы избавиться от звенящих, в нос, рифм. Кого угодно, только бы вырвать, выпутать, выцарапать, выломать из себя Неруду. А, знаю, кого надо читать: Хемингуэя, Дрюммона де Андраде, tough writers[61]!
Спасите, братцы! Теперь я погряз в пышной величественной прозе во вкусе Виктора Гюго. Не хочу я этого. Писать надо просто, кратко, напряженно. Пусть проза моя будет многоцветной, как фартук матери десятка ребятишек, весь в пятнах. Пусть будет жесткой, как ладони шахтеров, что добывают селитру. Пусть несет от нее потом, как от громадной толпы. Пусть закипает, как чайник.
Я работал, как негр, как китаец, как гном; и только через несколько недель наконец понял: сколько ни сиди за столом, ничего не выйдет. Месяцы, годы — все равно бесполезно. И книги читать — тоже не поможет. Надо выйти на улицу! Надо жить! К счастью, — заметьте, что я сказал, — на меня опять посыпались задания. Видите ли, я, кажется, уже говорил вам — нас очень мало, и приходится звонить во все колокола, использовать любую возможность, без конца толковать, проклинать, спорить, убеждать. Скоро к нам явится с визитом государственный секретарь гринго, и надо разбросать в центре города листовки «Yankee, go home!»[62] Этот палач разжигает войну в Корее, мир висит на волоске, и огонь подбирается уже и к волоску. «Go home!» «Убирайся, сволочь!»
Я отправился в аптеку, которую мне указали, получить пачку листовок.
— Есть у вас стерильная вата?
Это пароль. Девушка, прелестная девушка, дает мне пакет, и никто не замечает, что я ничего не заплатил. Велено бросать листовки в центре, откуда-нибудь сверху, из окна, с балкона. Ветер — наш помощник, он подхватит листовки, раскидает по улицам.
Гринго проедет через центр в лимузине вместе с Предателем.
— Нет, об этом забудьте, машина, без всякого сомнения, бронированная, стекла пуленепроницаемые. К тому же, вам известно, подобные методы борьбы мы не одобряем.
— Да нет, я просто так говорю… на всякий случай.
Они проедут к Пласа-де-Армас в три часа.
— Вы должны бросить их примерно в половине треть его. И соблюдайте осторожность, в этот день на улицах будет куча шпионов. Кроме того, с ним прибывают около сотни тайных охранников, они — смуглые, как мы, в толпе их распознать невозможно.
С балкона. Из окна. Осторожность. Приговор в соответствии с законом — три года и один день, обжалованию не подлежит. Стоит лишь чуть-чуть зазеваться. Но, по крайней мере, я не сижу больше один в своей комнатенке, где страх, будто ящерица, шныряет по сырым стенам. Свежий воздух. И весна уже совсем близко!
Осталось всего три дня. И тут мне повезло — подсказали, как устроить одну штуку, замечательно и почти без всякого риска. Только, чтобы устроить это, требуются два человека. А где взять второго?
Я решил наметить сначала дом и вскоре нашел подходящий — шестиэтажное здание, где помещаются адвокатские конторы, рядом с кинотеатром «Центральный». Лифт идет до шестого этажа, оттуда по узенькой лестнице можно подняться на крышу. Замок на двери, ведущей на лестницу, снять ничего не стоит. Вдобавок на пятом этаже — коридор, который выводит в другое здание, оно стоит позади этого, и оттуда есть выход на улицу Агустинас. Отлично. Благослови, господь, архитектора, до чего сообразительный.
Но где же взять товарища, чтоб помог?
Я зашел к Аиде — она показала мне, какую ей дали пачку, еще толще моей. Пошел к Серхио, к Амалии, к Нене, к Умберто. То же самое. Позвать кого-нибудь из рабочих нельзя — в центре, среди нарядной толпы, их за километр видно. Конечно, на визиты ушел целый день, у каждого ведь надо посидеть, выпить немного. А у Пены я и вовсе задержался. Надолго. Еще бы!
Все меня спрашивали, что случилось, где это я пропадаю, ужасно хотелось похвастаться, рассказать, в чем дело, но приходилось держать язык за зубами, и я снова, изо всех сил стараясь, чтобы физиономия моя выражала приличествующие обстоятельствам чувства, извлек на свет божий пресловутую бедную тетушку, больную раком.
Я вышел из консультации от Умберто расстроенный, хотя кое-что я все же из него выжал — билет в муниципальный театр на концерт гитариста Сеговии. Неподалеку отсюда жил Лучито, и я решил заглянуть к нему.
Лучито открыл мне дверь, совершенно голый, только обернутый по бедрам какой-то тряпкой и в домашних туфлях. Я не успел даже рта раскрыть — он шепотом приказал мне молчать и указал на дверь ванной.
Я сел на софу. Комната Лучо совершенно преобразилась. Появилась новая книжная полка, книги на ней расставлены аккуратно, но только будто ребенок расставлял — по росту; на столе затейливая лампа, на стенах — китайские бумажные змеи и большая репродукция — Ван Гог, автопортрет, известный, с отрезанным ухом. Все выглядит изящно, скромно и (если не считать Ван Гога) очень по-женски, а самое удивительное — на софе среди подушек сидит белый плюшевый медведь.
Лучо принес мне чашку чая; в эту минуту дверь ванной отворилась, и на фоне мягко поблескивающих голубоватых изразцов появилась Фиолета.
Я вскочил.
— Мой друг. Моя подруга, — представил Лучо.
Я протянул руку, она не могла сделать то же — поддерживала простыню, в которую завернулась.
— Да мы ведь знакомы, кажется, — сказал я наконец, думая ее смутить.
— Конечно, — отвечала она безмятежно. Взяла какое-то белье и удалилась обратно в ванную, заканчивать туалет.
— Это все она… — объяснил Лучо, имея в виду убранство комнаты. Он слегка пожал плечами. — По-моему, немного смешно, но раз ей нравится… Ну, расскажи, как ты, что? Я уж стал бояться, не угодил ли ты в Писагуа.
Снова пришлось рассказать про тетушку. Бедная единственная моя тетушка Лусиида, непорочная учительница сельской начальной школы где-то на севере, в оазисах! Если бы знала она, как непочтительно я с ней обошелся, какую активную роль заставил играть в общественной жизни, она наверняка хлопнулась бы в обморок, за ней это водилось.
Лучо ведь все же учился на медицинском — он тотчас стал выяснять анамнез, но на основании моих ответов диагноз получался, видимо, несколько странный, и Лучо переменил тему беседы. Наверное, он кое о чем догадывался. Я стал пить чай, довольный хоть тем, что, пока нес всякую чушь про тетушкину хворь, пришел немного в себя от неожиданного сюрприза.
— Так вы, оказывается, знакомы? — Лучо просто читал мои мысли.
— Как будто да. На каком-то парапсихологическом сборище встречались, по-моему.
— А, да. Она прежде увлекалась этим. Но я хотел бы, чтоб ты поближе ее узнал.
Я усмехнулся. У Лучо было такое лицо, словно он предлагал мне узнать поближе по меньшей мере Лурдскую пресвятую деву.
— Ты никогда раньше не был влюблен?
— Никогда.
— Ну, конечно, сразу видно. — Я окинул взглядом его преобразившуюся комнату. — Чрезвычайно приятное состояние, не так ли?
— Чрезвычайно приятное? Не могу тебе даже сказать, приятное или нет. Знаю только, что оно близко к безумию. Твое «я» полностью растворяется. Все в тебе как бы удваивается. Что-то вроде раздвоения души. Ты — она. Твое — ее. Все сливается воедино.
— Ну, ну, не надо впадать в лиризм, друг. Не слишком ли много метафор?
— Иди ты со своими метафорами! Я одно знаю: чувствую себя до того странно, сам себя не узнаю. Словно пьяный. Раскис совершенно, всякой воли лишился. Хочу, например, заниматься — и вдруг оказывается, что вместо этого я пою; хочу подумать, сосредоточиться — а вместо этого слушаю ее, смотрю на нее. А в душе будто жаворонки щебечут. Черт знает, что такое! Можешь себе представить, до чего она меня довела — я полюбил болеро!
— Спокойствие и терпение. Пройдет. Дело времени, как все на земле. Ты переживаешь одновременно любовь подростка, которая приходит в пятнадцать лет неизбежно вместе с юношескими прыщами, и любовь взрослого человека.
— Да, но самое худшее другое: я не хочу, чтобы прошло. Вот теперь я понимаю наркоманов!
— Н-да! Это уже, кажется, серьезно, старик.
— Конечно, серьезно.
— А как ты это совмещаешь, — мы говорили очень тихо, сидя рядом на софе, — с другой твоей работой?
— Тут я тверд. Будто какой-то тайный уголок в душе, закрытый со всех сторон. От всех оберегаю. И не думай, я про нее кое-что разузнал. Она-то сама очень мало о себе рассказывает. А я выяснил: она дочь полковника, не отставного, на действительной службе. И вдобавок — единственная дочь.
— О, черт!
— Представь себе. Она мне, правда, сказала, что ушла из дому несколько месяцев тому назад и живет с двоюродными сестрами.
— А, так с тобой она, значит, не живет?
— И да, и нет. Приходит, когда вздумает. Я ей дал ключ. И уходит, когда вздумает. Говорит, раз я от нее все скрываю, она тоже вправе иметь свои секреты.
— То есть, по сути дела, она что тебе предлагает? Зашла — ушла?
— Ну, конечно. Это-то меня и мучает. Но что мне с ней делать? Скажи, Педро Игнасио, что мне с ней делать?
Что я мог ему посоветовать, черт побери?
— Да, действительно, кисленькая история. Уезжай на остров Пасхи. Или на какой-нибудь необитаемый, как Робинзон.
— Без нее? Не будь свиньей! Такие советы меня не устраивают!
Она рывком открыла дверь ванной и встала на пороге — капельки воды на плечах, свежая, как лилия, соблазнительная, как блюдо с вишнями.
— Какие это советы он тебе дает?
— Чтоб не ходил на вскрытия, если ему там делается дурно, как он говорит.
— Да, это ужасно, — пробормотал Лучо, словно во сне. — Но, прости, любовь моя, я заговорился, сию минуточку принесу тебе чаю.
Лучо побежал на кухню; она покрутила носиком, будто подозревала что-то, уселась без всякого стеснения в кресло и заложила ногу на ногу. Полноги видно! Ой, мамочки!
— Это твой медвежонок? — выговорил я наконец, поперхнувшись чаем.
— Да. Тебе нравится? Упругая нога, нежная кожа.
— Нравится. Только разве у медведей глаза розовые?
— Вот еще! Этот — прелестный! — Она встала, взяла медвежонка и снова уселась, стала его укачивать, целовать в нос — в черную пуговицу.
Теперь не полноги, а три четверти, почти вся нога видна!
— Где-то я читал, — я изо всех сил старался глядеть только на медвежонка, — что медведи коварны, их невозможно приручить по-настоящему. Медведь может много лет выступать в цирке, ездить на велосипеде, и вдруг в один прекрасный день не узнает своего дрессировщика и съедает его.
— Ничего подобного! Неправда! Значит, дрессировщик его бил! — Она прижала медвежонка к щеке, теперь они оба смотрели на меня, две мордашки. Два блестящих, как жуки, внимательных глаза, и еще два — круглые, глупые.
— Ты слыхал, рыжего из университета выгнали? — крикнул из кухни Лучо.
— Нет, не знал. А за что?
— Неизвестно.
— Неправда, — зашептала она; — Лучо уверен, что за политику, а я знаю его девушку. Он впутался в нехорошую историю… — От ее волос шел запах влажных трав- Но я тебе обещала Гогена и не дала…
— Не надо, Гоген меня раздражает.
Хоть Лучо и говорил мне о наглухо закрытом со всех сторон уголке в его душе, я все же не решился на этот раз просить его помощи. Надо было уходить. шр
— У меня еще Ренуар есть…
— Еще хуже, сладкий, как сахар. Лучо! — крикнул я и сам услыхал, что крик мой похож на вопль утопающего.
— Иду, иду. Не кричи.
— Понимаешь, мне надо идти.
— Нет, подожди. Еще одну минуту…
— Не могу, уже шесть.
— Одну минуту, всего только одну минуту.
Она тоже явно хотела, чтобы я не уходил, чтоб остался. И начала играть молнией на блузке — то опустит, то поднимет.
Не могу больше. Сейчас скажу решительно, что ухожу. Я закрыл глаза и встал. Но не торопился. Приятно ведь знать, что ты такой волевой, такой сильный человек.
— Он в самом деле уходит, Лучо! Иди скорей сюда!
Лучо выскочил из кухни в пестром фартуке до самых щиколоток:
— Не уходи же, не будь свиньей. Я готовлю для вас маисовые лепешки с сыром, такие у нас в Карабобо делают.
И у меня есть бутылка вина, только года какого не знаю.
Останься. Кроме того, надо отпраздновать…
Я встревожился:
— Что отпраздновать?
— Рождение советской атомной бомбы. Сию минуту передали по радио.
— Не бреши!
— Да, да! Конец американскому шантажу.
— Здорово! Но я все равно должен идти, мне очень жаль. Ты даже не представлять, как мне жаль.
— Я хотел тебе еще рассказать кое-что.
Лучо настаивает, видимо, потому, что нуждается в моей помощи. Он считает, что мы — литераторы — лучше умеем развлекать девушек. Действительно, одинаково трудно представить себе Лучо, забавляющего ее пикантными историями, и ее, слушающую рассуждения по поводу «зверской» гистологии. Но я колебался вовсе не оттого, что надо было помочь Лучо; нет, раздражающий запах сыра остановил меня. Что со мной происходит? Неожиданно еще одно действующее лицо решительно выступило на сцену — голод.
— Ты много лепешек сделал?
— Около двадцати. Она их не очень любит.
— Только лепешки и умеет готовить, — проворчала она. — Подойди-ка поближе. Понюхай. Я вся сыром пропахла!
— Вовсе нет, любовь моя. Но если хотите, я могу сходить купить еще что-нибудь. Устроим великий пир. Чего вы хотите? Цыплят? Еще вина?
Она радостно захлопала в ладоши:
— А мы тебя подождем. Я пока на стол накрою. Я хочу агвиат, фаршированный креветками!
Ловушка. Стол она, видите ли, пока накроет, чертова кукла! Я подумал, проглотил целое море слюны:
— Лучше я все-таки пойду. Клянусь, у меня дела. С моей стороны было бы весьма недобросовестно…
— Не будь негодяем!
— Нет, серьезно, я тебе говорю совершенно серьезно. Как-нибудь в другой раз, старик. Я тебе сам скажу когда. — Я спешил, я даже забыл попрощаться с ней и запнулся за ковер. Последнее, что я увидел, закрывая за собой дверь, — смешной пестрый фартук Лучо и… нога, стройная, упругая, нежная кожа покрыта, будто персик, золотистым пушком, теплая, гладкая нога… Черт побери, с ума можно сойти!
ГЛАВА XII
Помощника я так и не нашел. В конце концов можно и одному все сделать, хотя тогда придется выбирать: либо нести доску, бак и листовки по отдельности, что увеличивает риск, либо притащить все сразу накануне и оставить там. Л если утащит кто-нибудь, придешь — и ничего нет? И так — плохо, и эдак — нехорошо. Нет, не годится.
Несколько дней я размышлял да прикидывал и вдруг в библиотеке на лестнице встретил Маркиза. Вместо свитера и берета на нем был теперь синий пиджак de cotele, зеленый попугайский галстук, страшно длинный, и кожаный пояс. Ну и пояс! Видимо, прежний его владелец был намного полнее Маркиза — конец висел чуть ли не до колен. Я расхохотался:
— Вот так сатир на пенсии!
— Это еще почему? Что такое? Разве я не выгляжу элегантно?
— Конечно, dernier cri[63]. Можешь наняться манекенщиком в «Лос Гобелинос».
Маркиз оглядел себя, улыбнулся удовлетворенно и пригласил меня выпить коньяку. Бар в двух шагах отсюда — деспотический режим с глубоким пониманием относится к жаждущим. Маркизу редко приходилось платить в ресторанах, и потому он сделал это сразу, как только нам подали рюмки.
— Где же твой берет?
Оказывается, Маркиза ограбили на Кинта-Нормаль. Один из налетчиков вонзил ему кинжал в живот на целый сантиметр — надо же было показать, что они не шутят. «Давай бумажник!» Маркиз объяснил, что у него нет и никогда не было такой дурацкой штуки, как бумажник, но грабители не поверили. Раздели его, даже туфли взяли, тогда он снял носки, отдал им: «Всякое дело надо делать до конца», — и вернулся домой босой, в одних трусах, совершенно закоченевший. Но теперь он рассказывал все это даже как будто с удовольствием, словно и не с ним приключилась такая неприятность. И только жалел, что отобрали трубку.
— Так ты не живешь больше у Памелы?
— Нет. Еще две порции коньяку, пожалуйста! Она замуж вышла.
— Что ты меня разыгрываешь!
— Решила узаконить свое сожительство с владельцем красильни. Но не думаю, что она долго выдержит. Этот тип целые дни говорит об анилиновых красках. И воняет от него какой-то тухлятиной. Он потребовал, чтобы я съехал с квартиры. И знаешь, по какой причине? Просто смех. Потому, видите ли, что я задолжал за три месяца. На прощанье я ему сказал: «Господин Анилин (я его так прозвал), в один прекрасный день я вернусь и попрошу вас покрасить мне зад».
— Бедняжка Памела, такая красивая, такая добрая!
— Он запретил ей ходить в кружок, запретил видеться вообще с кем бы то ни было. И приветик! Даже с Карлотой встречаться не разрешает. Скоро, наверное, наденет на нее пояс целомудрия. Впрочем, так ей и надо.
— Это почему же так ей и надо?
— Все они такие. Сам род женский demode[64]. Или они тебя обманывают, или разочаровывают, или предают.
Коньяк золотисто светился… стало грустно. Я вспомнил Фио, донью Памелу, Анхелику… Poverelle![65] Тяжко живется в этом мире, и выхода нет.
— Ну, теперь расскажи, как ты? — Маркиз поправил галстук. — Кончил свое задание?
— Какое задание?
— Которое тебе дали и которым ты столько времени занимался.
— Что такое? Свинья ты! Мне дали перевести здоровенный романище, семьсот страниц. Вот и все. И не пытайся из меня что-то выуживать.
— Я хочу, чтобы ты мне поверил.
— Пожалуйста, я поверю всему, что бы ты ни сказал. Говорю совершенно откровенно.
— Ну да! Я же видел, как ты косился, когда я за коньяк платил. Так вот, гляди, чучело недоверчивое. — Он достал целую пачку кредиток, одинаковых, новеньких, хрустящих.
— Где ты их печатаешь?
Тогда Маркиз вынул квитанцию Немецкого банка и показал мне: «Настоящим удостоверяется, что во исполнение соответствующих пунктов положения об авторском праве переведен на имя такого-то гонорар за рассказ, вошедший в антологию современного латиноамериканского рассказа».
— В Лейпциге опубликовали. Понял? В Германии в твоей, вот, можешь лопаться от зависти. И возьми, пусть тебе хоть что-нибудь достанется, — он снял с себя галстук, — такие штуковины не для меня.
— Ну и не для меня тоже.
— Врешь, врешь. — Он сам завязал на мне галстук. — А теперь расскажи о своей тете. Опухоль у старушки, наверное, уже больше футбольного мяча.
— Что за идиотские шутки! Я не позволю!
— А в чем дело? Она уже скончалась? С таким воздушным шаром в животе она, без сомнения, вознеслась прямо в рай. Ну, что смеешься? Я точно знаю, ее вскрывали на стадионе. Больше она нигде бы не поместилась. Ты же сам рассказывал, то что у нее в мозгу опухоль, то — в поджелудочной железе. Шар вырезали и спрятали в чулан, а то катался бы по всему дому. Вот как ты пользуешься своим творческим воображением! И не совестно? Спросил бы лучше моего совета, я бы тебя поддержал, надо было выбрать трехстороннее воспаление легких. Или пляску святого Витта, буги-вуги, трясет тетушка пузиком, очень даже мило. А у тебя получается бог весть что — она словно проглотила твой романище на семьсот страниц.
Я больше не мог сдерживаться, и оба мы так и покатились со смеху.
Как обычно, после четвертой рюмки Маркиз загорелся, будто фейерверк. И с этого момента говорил без остановки, не давая мне вставить ни слова, нанизывая так и эдак одну мысль на другую.
Начал он серьезно. Опустив голову, принялся смоченным в вине пальцем рисовать спирали на обложке «Атхарваведы»[66], которую принес с собой.
— Я теперь пишу, — сказал он хрипло. Прозвучало это так, словно он сказал «я умираю». — Только не знаю, что получится. Уже довольно много написал. Больше пятидесяти страниц.
— Вот хорошо. Как кончишь, покажи мне. Что это будет, роман?
Он не слушал.
— Много лишнего на нас наросло. — Маркиз перестал чертить спирали. — Форма сохраняется та же, что в девятнадцатом веке, в содержании мы рабски подражаем буржуазному объективизму, стараемся оставаться жесткими, равнодушными. Макс Планк[67] умер, и никто до сей поры не открыл еще энергию литературы, состоящую из новелл-корпускул, которые притягиваются к драматическим полюсам, как железные опилки к магниту. А что за язык, сын мой! Мы же до сей поры пишем так, словно гроши пересчитываем, ползаем на брюхе перед псевдологикой языка, а ведь в проклятущей этой жизни логики как раз меньше всего. А в настоящем искусстве ее еще меньше. Да и не надо. Совсем не надо, если искусство хочет, как ему и положено, быть другой жизнью жизни. Да, да, именно другой жизнью жизни! — Фраза понравилась Маркизу, он с удовольствием повторил ее. — Разве ты не замечал — латиноамериканская литература похожа на обувной магазин? Все разложено по коробкам, расставлено по полкам. Порядок идеальный. А до чего глупо! Почему они пишут так глупо? Впрочем, европейцы стараются вставлять всякие умные мысля, и выходит ничуть не лучше; европейцам не о чем больше рассказывать, они пишут словно слюни размазывают. Ты не читал последние их вещи? Даже на Сартра не похоже. Сартр все-таки хоть поживее, только косоглазие его подвело — хотел повернуться к Марксу, а вместо того попал прямо в объятия Кьеркегора[68]. Да нет, не та я говорю. Как будто наши рыбаки, наши пеоны, наши индейцы не мыслят. И пусть себе мыслят. Пусть, раз они не интеллектуалы, мыслят о реальной жизни, о трудах и днях, о… Фу, я запутался! Выпьем за Гесиода![69]
Чтобы было скорее, Маркиз сам отправился к буфету и вернулся с полным бокалом. Теперь он ораторствовал стоя, пьяницы за соседними столиками слушали его, повесив лиловые, как баклажаны, носы:
— Вот это вы знаете? — Он сунул мне под нос «Атхарваведу». — И «Ригведу»[70] тоже не читал? Тогда лучше тебе повеситься. Здесь «Гимн Земле». И это было написано восемь тысяч лет назад. Какое величие! Как «Пополь-Вух»[71], как «Книга мертвых»[72]. Я тут недавно был на лекции одной из наших священных коров; как начал он доказывать, что форма и содержание находятся друг с другом в такой же связи, как стакан с налитым в него вином, я встал и ушел. Устроил скандал и ушел. Ведь уже сто лет назад Флобер говорил о неразрывности формы и содержания, он сказал: они как пламя и жар или как огонь и пламя, ну да ладно, de gustibus non est disputandum[73], как говорил мой кум. А все же скажи мне, нет, ты скажи, куда годится хорошее содержание, если ты его испортишь начисто, вроде как Хосе Эустасио Ривера[74]? Если ты начнешь писать всякую хреновину, вроде «О, сельва, мать покоя и тишины»? Откуда он, черт побери, взял, этот осел, будто в сельве тихо и спокойно? Да ничего подобного! А что за вульгарное «О!» в начале! Нет уж, метафора — она, как яйцо, хороша только свежая. Не смотри на меня так, пожалуйста, мне неприятно, когда мной восхищаются.
— Кто это тобой восхищается, чудище? Ты думаешь, я рот разинул от восторга, а я просто зеваю со скуки.
— Ха, ха! Ну да ладно, я тебя прощаю, так и быть, можешь восхищаться, только слушай внимательно. Близится наш золотой век. Я его уже вижу. Но надо прежде всего отбросить ненужное, избавиться от романтических бредней, вылезти из-под тяжкого зада бронзового Бальзака. И ценить по достоинству слово, вырвать его из болота описательства, пусть ест руками, пусть сбросит кринолин. До чего же отвратительна псевдотуземная лексика наших патриотов-креолистов! Впрочем, бессмысленные попытки во что бы то ни стало вводить всякие новации тоже не лучше. Литература — это труд, а не развлечение для снобов и бездельников из богатых семей. И надо спешить, потому что золотой век тоже может прокиснуть, как у янки, их золотой век длился всего лишь пятьдесят лет. Вот я сейчас создаю нечто необычайное. Да! За твое здоровье! Нет, не роман. Нечто небывалое, гибрид; если бы, например, скрестить осла с павлином, получится метелка с перьями. Но какая метелка, железная! Достаточно сказать тебе, что один из персонажей — герой кошмара другого персонажа. Но сюжета там никакого нет. Если бы он был! Только формы — скользящие, обманчивые, неуловимые, проклятые. Язык, к счастью, не в Королевской академии создан. Его создал народ. На постоялых дворах, на дорогах. «Садитесь, кума, только не сюда, здесь очень жестко». Или: «Дай мне стакан воды». Кратко, естественно. И в то же время язык наш весь изъязвлен великолепными нелепицами. Малларме говорил, что nuit по-французски звучит пронзительно и означает «ночь», мрачная, темная. A jour — день — тежелое слово. Надо же наоборот, правда? Вот по-испански так оно и есть: dia — день, a noche — ночь, это правильно. Да много чего еще надо сообразить. Хватает мороки, конца не вижу. Крутишь, лепишь каждую фразу, будто хлебный шарик, и чем больше к ней прилепляешь, тем она грязнее выходит, и ты страдаешь, сгораешь в бессонницах, будто сухая ветка в костре, и хочется надавать самому себе пинков!
Маркиз говорил, говорил. Еще час. Еще несколько рюмок коньяку. Наконец мы вышли из бара, порядком нагрузившись. Остановились почему-то у витрины и стали глазеть на игрушечный поезд… Он извивался змейкой, заходил в туннель, огибал холмы, на лужайках паслись коровы… Мы чрезвычайно увлеклись зрелищем, и тут я, не долго думая, взял да и допросил Маркиза помочь мне. Конечно, я постарался сообщить ему как можно меньше. В конце концов я подвергаю риску только себя самого.
— Сделаем. — Маркиз пожал плечами. — Конечно, сделаем.
Расспрашивать он ни о чем не стал. На другой день, когда в назначенный час я явился в назначенное место, Маркиз уже ждал.
— Ты думал, я не приду? — Физиономия хитрющая, истинный дьявол в отпуске.
— Нет, я нисколько не сомневался, — отвечал я уверенно, и Маркиз засиял.
Я нес бак с водой и пачку листовок; отправились за доской. В магазине для меня ее уже приготовили, завернули хорошенько в подарочную бумагу.
— Как, в такой бумаге? Ты надеешься, что люди подумают, будто ты купил кому-то в подарок самолет?
— Нет, просто гладильную доску, почему бы нет.
— А, понятно, прелестный подарок, совершенно необходимая вещь в адвокатской конторе.
Маркиз волок доску и ругался — «словно чугунная, окаянная», я тащил бак и листовки. Вошли в вестибюль. Народу полно.
— Спокойно, старик.
На лифте на шестой этаж. Двое гринго вошли в лифт, пришлось ждать, гринго поехали вниз. Легко, едва прикоснувшись, я сорвал замок и побежал по узкой лестнице на крышу. Десять минут третьего. Остается, двадцать минут.
— До сих пор все шло хорошо, как сказал индюк, когда его клали на сковороду, — подбодрил я Маркиза.
— Да? А если кто-нибудь найдет сорванный замок? Я вынул замок из кармана и показал ему.
— А искореженные кольца?
— Да ну, никто не заметит.
— Ты хоть подумал, что будешь говорить, когда попадешься? Мы, например, астрономы и желаем наблюдать затмение…
— Думаешь, что-нибудь поможет? — Я открыл пачку, дал Маркизу листовку. Написана она была здорово.
— Зачем они пишут «тиран», — вознегодовал он. — Народ не поймет. Вечно эта литературщина!
— Ладно, ладно, согласен.
— Написали бы «убийца».
— Согласен я, только ты сядь. А то могут увидеть с другой крыши.
— В такое время, если кто взобрался на крышу, значит, делает то же, что и мы.
— Хорошо, а ты все-таки сядь, говорят тебе.
Мы уселись, прислонясь спинами к балюстраде. Стая облаков, пушистых, быстрых, сияющих, проплывала над нами.
— Помнишь того железнодорожника с лысиной, глазом все подмигивал, тик у него был? Поглядел я на это облако и почему-то его вспомнил. Мы к нему пошли тогда в воскресенье вечером, кости прогреть.
— Да, помню, а что с ним случилось?
— Пять лет дали за саботаж. Не хотели они пропускать товарный поезд. Ошибка вышла — сказали, будто поезд этот с оружием, а оказалось — он с запчастями для машин.
— Да, я, кажется, слышал что-то такое, — отвечал я. И больше — ни слова. Облака клубились, кипели, угрожали. Маркиз покосился на меня и тоже умолк.
— Скажи-ка мне вот что, Педро Игнасио, — Маркиз, кажется, опять вдохновился, — ты веришь, что Время бесконечно?
— Да. И что?
— Значит, любое мгновение входит в систему, не имеющую границ, и может быть рассмотрено, таким образом, как центр Времени?
— Наверное, так.
— А Пространство тоже бесконечно?
— Зачем спрашивать, ты же сам знаешь.
— Не мешает, не мешает лишний раз услышать подтверждение. Значит, в это мгновение я есть центр Времени и Пространства. — Маркиз глядел на меня широко открыв рот. — Ты понял, парень? Я — центр Времени и Пространства, во мне сошлось все: настоящее и будущее. Вся вселенная! Ты думал когда-нибудь об этом? Сомневаюсь. Вы ведь думаете только об объективных условиях.
— Правильно, только о них мы и думаем. Но тебе не кажется, что стоило бы отложить наш философский спор до более подходящего случая?
— А почему сейчас нельзя?
— Потому что я вспомнил Лучито, — отвечал я коварно.
— Лучито Фебреса?
— Да. — Я по-прежнему созерцал облака.
Маркиз умолк. Может быть, он ничего не знает? Да нет, знает, конечно. Вот и пойми его! Видимо, есть тут какая-то закавыка, и никак я не могу разобраться. Ну, я тоже хорош! Нашел время разбираться, вот псих-то! Я взглянул на часы: восемь минут осталось.
— Удалось тебе сделать, — выговорил наконец Маркиз, — все нужные выводы из твоего ненужного заявления? — Хоть он и усмехался, голос был глухой, прерывистый.
— Надеюсь, да. Я понял, что, поскольку ты представляешь собой центр Времени и Пространства, мелочи жизни тебя не волнуют. Так вот я могу прибавить насчет этой твоей должности, что, поскольку пространство и время есть всего лишь свойства материи…
— Нет, глупый ты человек, время — нет. Время…
— Дай же мне договорить! Поскольку они являются всего лишь свойствами материи и поскольку жизнь есть наиболее высокоорганизованная материя, ты являешься также и центром жизни. Ну, как, доволен? Устраивает это тебя? Теперь ты получил еще один титул, и внуки твои могут его наследовать: Пуп Мироздания.
Еще целое стадо облаков проплыло, молочно-белых, мятежных. Маркиз поглядел на небо, раскинул руки, словно хотел обнять небесный свод.
— Ладно, старик. Пора. Помоги-ка! — Он все так же обнимал небо, пришлось дернуть его за руку. — Помоги, говорю!
Мы пристроили доску на перила. На один конец положили листовки и придавили большущей гайкой, чтоб не улетели раньше времени. На другом конце установили бак с водой. Маркиз все еще не понимал, в чем дело.
— Если вынуть из бака затычку, — объяснил я, — вода начнет выливаться, доска наклонится, и листовки улетят.
Никакой Эдисон не додумался бы, верно? И все рассчитано, в нашем распоряжении будет шесть — восемь минут: спустимся, выйдем на улицу и юркнем в толпу.
Маркиз все глядел на меня.
— А если доска свалится какой-нибудь бабке на черепушку?
— Не свалится. Я пробовал. Опять установится равновесие.
— А гайка? — Он все еще колебался. — С такой-то высоты.
Правильно. Об этом я не подумал.
— Но риск минимальный, — заверил я. — Не сочиняй трагедий, ничего не случится.
— Конечно, минимальный. — Он поглядел вниз. По тротуару катилась густая толпа маленьких человечков.
— Ты во всем признаешься, и тебя оправдают. Нечего больше размышлять. — Я вынул затычку, потекла струйка. Я выпрямился, Маркиз схватил меня за рукав.
— А никак нельзя примериться заранее?
— Вот черт! К чему примериться?
— Кому именно башку раскокать.
Я вырвался, бросился бежать.
— Сам примеряйся. — Маркиз кинулся следом за мной. — Ты же у нас центр бесконечной Вселенной.
Прыгая через две ступеньки, я понесся вниз по лестнице. В вестибюле я подождал Маркиза. Мы сели в лифт, вышли на пятом этаже и зашагали по благословенному коридору, по возможности быстро, но с самым непринужденным видом.
Другой вестибюль. Много народу ожидает лифта. По-моему, они все нотариусы, такие у них лица. Глядят неотрывно на табличку, где вспыхивают цифры. На третьем остановился. На четвертом. Теперь на втором. Черт побери, в цокольный этаж ушел. А струйка-то все изливается. Мы стрелой кинулись к лестнице, сбежали вниз, на первом этаже оказались раньше лифта. И вышли на улицу не торопясь, фланирующей походкой.
— Сюда.
— Нет, нет. Какой же тогда интерес? Я хочу поглядеть на старушку с шестиугольной дыркой в затылочной кости.
Глупо, конечно, рискованно, но я уступил. Мы пошли по улице Эстадо, смотрели, как первые листовки, будто голуби, кувыркаются в небе; свернули за угол — люди начали поднимать листовки. Я успокоился — возле здания народу было совсем немного. Подошли ближе. Толстый сеньор в шляпе яростно ругался, проклиная этот город, прозванный Розой Ветров, и скорбно глядя на помятую крышу своего «шевроле». В руке он держал все ту же пресловутую гайку. Будто тепленькая водичка разлилась по моим жилам.
— Что случилось, сеньор? — Маркиз — вот нахал! — уже стоял возле толстяка. — Ах, какая неприятность! До чего же некрасиво, вмятина получилась, — просто ужас!
Толстый сеньор бросил на Маркиза презрительный взгляд, но не счел, видимо, возможным удостоить его своей беседой, ибо не ответил ни слова. Подошли четким шагом три карабинера и все вместе скрылись в подъезде. Тяжелая железная штора тотчас опустилась за ними.
— Ну и здорово! Ну и здорово! — вопил Маркиз в восторге. — Теперь этим мерзавцам не удастся удрать. Не так ли? — обратился он к какой-то сеньоре в кружевных перчатках.
Мне с трудом удалось уговорить его уйти. Пласа-де-Армас казалась зеленой — столько толпилось там карабинеров. Улицы оцепили, на тротуарах теснилась толпа.
— Я пойду. Ничего интересного тут, по-моему, нет.
— А мне интересно. Это же ни больше ни меньше, как the Secretary of States of the United States of America[75]. Видишь, я тоже по-английски могу.
— Пойдем-ка лучше отсюда!
И тут, серебрясь в солнечном свете, стали плавно опускаться на улицу тысячи и тысячи листовок.
— Да нет, это же прелестно, подожди!
Едут. Мотоциклисты впереди, мотоциклисты позади. Звуки сирены. Черный лимузин длиной в семь метров, скорость восемьдесят миль! Промчался как молния. Предатель сверкает улыбкой, будто реклама пасты «Колинос». Гринго глядит устало, похож на пастора во время поста. Жиденькие аплодисменты. Большинство смотрит равнодушно, многие забавляются — ловят листовки.
Маркиз вдруг громко хохочет.
— Ты чего смеешься, скажи?
— Вспомнил, какая была морда у того толстяка и как он гайку держал в руке и показывал карабинерам, будто какашка святого Петра на него с неба свалилась.
— Хорошо, хорошо, брат. Только ты говори потише. И давай лучше разойдемся. Пойми же.
Маркиз наконец согласился скрепя сердце.
— Да, слушай, и спасибо тебе, — сказал, прощаясь, и улыбнулся; такой улыбки я у него еще никогда не видел.
Я дошел до Моранде. И вдруг — выстрелы. Сначала редкие, потом — очередь. Где-то около Мирафлорес. В ту же секунду на балконы высыпали люди, две старухи, будто испуганные курицы, трусили через сквер Конгресса, промчалась, с ревом и грохотом, машина с журналистами.
Я хотел было идти дальше, но улицы, ведшие к дворцу Монеда, оказались перекрытыми. На каждом шагу стояли танкетки. Ничего не спросишь, не объяснишь — карабинеры разъярены, бросаются, как собаки, того гляди укусят. Пришлось сделать большой крюк. Я торопился. В пять часов — собрание.
Из семерых шестерым удалось разбросать листовки. Один Толстяк не сумел. Бедный толстопузик, очень он расстроился, но кто ж виноват, если весит он больше ста килограммов! Каждый отчитался, я же так и не решился признаться, что воспользовался помощью постороннего, не состоящего в партии. Что поделаешь, грешен человек.
Все рассказывали примерно одно и то же. Только Нэнси (она — новенькая, из высокопоставленной семьи) постигла неудача. Контора ее двоюродного брата, архитектора и архиреакционера, находится на улице Мерседес. Окошко уборной выходит на улицу. Как раз то, что надо. Нэнси вбежала в контору:
— Ради бога, Кучито, пусти скорей, я больше не могу терпеть.
Нэнси рассказала все как на духу; к счастью, секретарь был человек чуткий, не прерывал Нэнси, не требовал, чтобы докладывала официально, без подробностей.
Войдя в уборную, Нэнси встала на биде и бросила листовки в окошко. Но порыв ветра загнал их обратно, и листовки, как на грех, в один миг разлетелись по всей комнате. Нэнси ловила их, поднимала, бросала снова в окошко, и снова ветер…
— Я села на сиденье и чуть не разревелась, — продолжала Нэнси.
Она так долго не выходила, что двоюродный брат постучал в дверь: «Нэнси, тебе плохо?»
«Нет, нет, Кучито, у меня запор очень сильный».
Вот наказанье! Рассказывая, Нэнси волновалась, прижимала ладони к щекам.
В отчаянии она решила спустить листовки в уборную. И, разумеется, забила слив. Спустила воду раз, другой… еще хуже — вода залила пол, подобралась к двери.
Наконец, Нэнси решилась выйти. «Слава богу, что у тебя запор, — сказал двоюродный брат, — а то ты бы меня совсем затопила».
— Но вы не думайте, — Нэнси робко оглядела собравшихся (она еще побаивалась нас), — все-таки больше половины листовок улетели на улицу. Правда! Я когда вышла, все тротуары были ими усыпаны.
Секретарь стал подводить итоги (я на какое-то время отключился — не могу забыть лицо Маркиза, когда он благодарил меня), отдельно упомянул Нэнси, поздравил ее с боевым крещением; она покраснела, как свекла, стала грызть ноготь. Потом было сообщение о смене кабинета. В сущности, все осталось по-прежнему. Колокольчик новый, да все та ж корова. И о стрельбе на улицах. Пока еще ничего толком неизвестно, сам секретарь случайно видел все из окна магазина на углу. Одна девушка-студентка вытянула несчастливый билет — пистолетная пуля в легком. Состояние тяжелое, выживет ли — неизвестно.
Тяжко стало на душе. Каждый думал: «Кто эта девушка? Знаю ли я ее?»
Фамилия пока не выяснена.
Выходили молча, по одному. Через промежутки. Каждые две минуты. Когда дошла моя очередь, снова послышались выстрелы. Далеко. Где-то возле университета, кажется.
ГЛАВА ХШ
Я снова уселся за работу. Дон Армандо, хоть его домашние уверяют, будто это не так, весьма прижимист, но в конце концов он все же заплатил мне.
Слава богу! Теперь я свободен месяц. Целый месяц могу работать над своими рассказами.
Я писал, писал с остервенением, с бешенством, я ничего не желал знать ни о нашем мире, ни о других мирах. Десять раз перечеркивал, десять раз переписывал все заново. И вот свершилось! Сияют небеса, звонки птичек голоса! Вот она — настоящая проза, ясная, компактная, бьющая наповал, мускулистая, без грязи, истинно профессиональная проза! Лежа на кровати, я читал вслух целые абзацы и старался представить себе, будто это не я написал, а кто-то другой. Да, настоящее мастерство. Я чувствую, ощущаю, сам не знаю как, шкурой, или, может быть, животом, инстинктивно. Где гнездится инстинкт в нашем теле? И если кто на меня повлиял, то, скажем откровенно, Хемингуэй: «Прощай, оружие!», «Убийцы» и другие рассказы. Это правда, стиль его, как липучка для мух: «Oh yeah, sure, said George; is he, Al; sure, George, said Al»[76], но от этого избавиться легко, едва лишь поймешь, в чем дело. Но суть-то ведь остается! Какое непостижимое тонкое мастерство, чеховское в своих истоках, какое обаяние, умение показать один-единственный уголок души и раскрыть при этом всю глубину чувства! Он обновил язык, заставил его идти в ногу со временем. Он будит воображение читателя, заставляет его взлетать на легких крыльях в беспредельную высь. А иногда ему удается охватить все, весь мир. Всю жизнь! «Oh yeah, sure, said Al».
Что может быть чудеснее? Ни разу за долгие годы не удавалось мне ударить по мячу, и вдруг — вспыхнул свет! Сердце сжимается, кажется, будто ты обрел невесомость, плывешь в светящемся пространстве, и слова поют, пляшут вокруг. Они не предают тебя больше, они говорят то, что ты хочешь сказать. И персонажи твои — не раскрашенные картонные куклы, они живые, из плотни и крови, ты можешь разговаривать с ними, давать им советы, а потом наступает самое изумительное — они начинают говорить сами, своими словами, ты слышишь их, они живут, действуют в соответствии со своим характером, подсказывают тебе, что было дальше, а если б не они, ты ни за что бы не догадался.
Это было поразительно, опьяняюще. Я чувствовал себя чародеем, волшебником, заклинателем теней. Многострадальная моя «Смит корона» просто дымилась. От счастья аппетит мой еще больше усилился, и я дошел до того, что простил донье Рефухио ее свинство; Анхелика съехала с квартиры первого числа, ни с кем не простившись, pretty sure[77], и я снова принимал приглашения стариков пообедать в воскресенье под сенью дикого винограда. Конечно, если быть совсем правдивым, главную роль в этом решении сыграли пироги с мясом да тушеная курица… Но тут, сами понимаете, виноват желудок, я тут ни при чем!
Все, все предвещало прекрасный декабрь. Но… Но всегда найдется над чем посмеяться, как сказала старушка, уронив внучка в горящий очаг. В этот самый день, когда я счастливо смеялся один в своей комнате, а потом отправился на, кухню и стал рассказывать кухарке анекдоты, именно в тот день я получил некое извещение. Мне снова дают задание, особо важное. Завтра явиться за инструкциями, обязательно.
На следующий день, сразу после завтрака, я вышел из дому. Решил немного проветриться, успокоиться и явиться к старикам бодрым, пусть никто не заметит, что я взволнован.
Побродил по центру, выпил чашечку кофе в «Гаити», поглазел на витрины книжных магазинов, довольно долго стоял также у витрины ресторана, где на вертеле медленно поворачивались полдюжины цыплят «lo spiedo»[78] — золотистые, с хрустящей корочкой и выступившими капельками жира. Вдруг я увидел донью Памелу и Карлоту — они шли с matinee[79] из кино «Рекс».
Объятия, поцелуи, бурные восторги.
— Ты что тут делаешь, негодяй?
— А вы? И не стыдно? Бегают смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускаются.
— Вовсе нет, дурачок ты, мы смотрели детектив. Но ты скажи, где же твоя борода? Хотя так лучше, а то ты был какой-то лохматый, весь заросший.
— Да, так очень завлекательно, — сказала Карлота и глянула мне в лицо глазами, похожими на пиявки.
Дальше зашагали вместе, дошли до «Нурии», и дамы пригласили меня поесть мороженого.
— Здесь? В таком элегантном ресторане? Что случилось? Которая из вас выиграла в лотерею?
— Памела. Да, ты же ничего не знаешь!
— Ну, тогда выкладывайте.
Дамы заказали чай, я — шоколад. Пирожные, мороженое, фруктовый мармелад, тоненькие бутерброды.
Все очень шикарно. И публика соответствующая — из тех, что, когда берут чашку, отставляют мизинчик.
— Расскажи ты, Карлота.
— Нет, с тобой же все это случилось. Тебе и книги в руки.
Они засмеялись. Ну и парочка!
— Я, может, угадаю?
— А ну, попробуй. Я думаю, ты даже и представить себе не можешь.
— Но ведь у меня тоже есть магический кристалл. Вот.
— Нет, я его не видел уже несколько месяцев, — соврал я. — Не может разве бедный человек стать медиумом?
— Ну, значит, ты заметил, что у меня кольцо на руке:
Я развеселился. Приятно поболтать со старыми приятельницами. Карлота намазывала мне маслом тосты. Особенно рад я был видеть донью Памелу, ведь я два года прожил в ее пансионе. И каких два года!
— Ну, и как твой новый муж? Устраивает он тебя? Ласковый? Я всегда считал, что ты не можешь жить без любви; женщина — это цветок, он нуждается в поливке. — Они переглянулись. — Что такое?
— Расскажи ты, Карлота.
— Нет ты, я же говорю, тебе и книги в руки, — отвечала Карлота лукаво и прижала под столиком колено к моей ноге.
Памела наконец решилась. Сказала застенчиво, опустив ресницы:
— Нет, Педро Игнасио, муж у меня очень хороший. И очень работящий. Он меня любит, я знаю, на него можно положиться. Ты себе не представляешь, как это ужасно быть хозяйкой бедного пансиона: Жильцы не платят, надо их выгонять. Душа разрывается. Я просто не могла больше. А теперь я сижу дома, он подарил мне вязальную машину, а по вечерам помогаю ему в делах. — Кончиком языка Памела слизнула мороженое с ложечки. — Конечно, умом он не блещет, надо прямо сказать. У него красильня на улице Эсмеральда. Ну и внешностью он, конечно, не Рудольф Валентино[80], правда, Карлота?
— Конечно. По-моему, ты очень точно его описала — самый обыкновенный засранец!
Я глядел в чашку. Карлота больше не смеялась. Помолчали. Стало грустно. Я представил себе Памелу с ее мечтательными глазами под вульгарной лампой со стеклянными подвесками или в клубах пара, среди гладильных машин, представил себе мужа, беспрерывно толкующего о выручке, о балансе, о налоговой декларации, об анилиновой краске, выписанной из Германии… «Через двадцать четыре часа ваше платье станет траурным! Великолепный черный цвет, совершенно не выцветает. А потом, сеньора, мы снова его перекрасим в винно-лиловый, этот цвет так подходит для вдовы…»
Раньше Памела от своего художника слышала рассуждения о масляной живописи да об акварелях. Теперь настал черед анилиновых красок.
Стала рассказывать Карлота:
— Попался бы он мне, ты не представляешь, что это за кретин! Уж я б ему показала! И вдобавок пришлось взять у Паме на хранение сосуд с сердцем. А то я просто не знаю, что бы он натворил. И в искусстве ничего не смыслит, такой дурак!
Я снова отвлекся. Странно слушать всю эту историю здесь, в «Нурии», среди позолоченных ложечек и чашек из тонкого фарфора, под звуки слащавой музыки, что доносится из глубины зала… Такие разговоры ведут в темном погребке, где пахнет потом и фритангой[81], а на столе стоит бутылка вина и под конец все обнимаются, поют и плачут, плачут и поют.
— Вифалитай, вифала! — вырвалось у меня.
— Что ты сказал? Это что, по-китайски?
— Нет, кечуа.
— А как переводится?
— Не помню. Знал когда-то, да забыл. Я всегда, если не знаю, что подумать, и сказать нечего, говорю эти слова.
— Ну что ты, Педрито, вот сразу видно, что молодой. — Памела улыбается глазами — грустными своими глазами. — Не так уж все страшно. С первым мужем мы сколько лет прожили счастливо, очень, очень, очень счастливо. А ведь много есть женщин, которые за всю свою жизнь не знали ни одного часа настоящего счастья. Это все Карлота меня сбивает. Как бы то ни было, а одной жить да терзаться воспоминаниями еще хуже. — Памела смахнула пальцем слезу.
Пора было менять пластинку.
— А как поживает Маркиз? Он по-прежнему у тебя в пансионе?
Снова они переглянулись, расстроенные и будто виноватые в чем-то.
— Да нет. Мой муж, хотя мы тогда не были еще жена ты, сказал ему, чтобы съезжал. А я хотела ему помочь, да…
— Побоялась, как бы свадьба не расстроилась, — пояснила Карлота, — потому что эта мерзкая скотина еще и ревнует.
— Да, конечно, но все-таки надо учесть и то, — Памела все не поднимала глаз, — что Маркиз ни разу мне не заплатил. Я, правда, никогда и не требовала с него денег. А владелица дома стала мне говорить, что, дескать, это такое, почему у меня никто не живет в этой комнате. Тогда я устроила Маркиза в маленькой каморке, там раньше чулан был, ты, наверное, помнишь, за кухней. Я сама повесила там занавески, пол натерла. Но с ним ведь ни днем ни ночью покоя не знаешь, прямо сердце не на месте. Какие бури бушуют в душе этого юноши? И что хуже всего — никогда не скажет ни слова. Но о тебе он сильно скучал, это верно, то и дело вспоминал тебя. А какие у него приятели и приятельницы! С той девушкой — она, конечно, тоже со странностями, но такая симпатичная — они даже подрались. А то часами разговаривает с какими-то бандитами да еще со старухой — чудная такая, и рука трясется.
— И не только в этом дело, — Карлота тоже не хотела оставаться в стороне, — если бы он хоть писал. А то ведь, я так понимаю, никогда не написал ни строчки!
— А, нет, он мне давал почитать рассказ.
— Про что? Длинный, вроде романа?
— Нет, короткий. Только я многого не поняла. Он мне объяснял. Целая куча страниц без единой точки и без абзацев. Он сказал, что это диалог двух параллельных внутренних монологов, что это новейший прием. И что никто еще никогда так не писал.
Оркестр — скрипка, пианино, ударник — разразился танго «Единственный». Несколько пар вышли на площадку. Карлота приглашала меня, она не отставала, тащила меня за руку.
— Но мне больше хотелось бы поболтать с вами.
— Нет, нет, танцуйте! Я с удовольствием на вас погляжу.
Только подумайте, танцевать танго с этим китом, с этим глобусом, с этой горой жира! Тем не менее мы весьма ловко выделывали шикарные па, не хуже прирожденных аргентинцев, и под конец удостоились даже аплодисментов. К счастью, следующим номером оказалась полька, и я заявил, что польку танцевать не буду ни за что на свете, у меня сделается инфаркт, ни за какие коврижки. И решительно направился обратно к своему столику. Карлота постояла немного, ожидая, не пригласит ли ее кто, но поскольку такого храбреца не нашлось, она тоже вернулась и заставила меня поклясться, что на следующий танец я ее обязательно приглашу; но оркестр заиграл неаполитанские песни, и тем временем мне удалось узнать еще кое-что от Паме о Маркизе.
— Хуже всего был последний месяц, Педрито. Целые дни сидел он в своей каморке, ничего не ел, не мылся, даже не одевался. Я иногда зайду, занесу ему чашечку чая с галетами, а он глядит на меня, глаза такие большие, зеленые, взгляд пронзительный, а сам не говорит ни слова. Как-то раз я спросила, почему он не отнесет свой рассказ в «Ла Насьон», его конечно же напечатают. Он ответил, что разорвал рассказ. Я когда слышала из кухни, как он ходит там, в каморке, туда-сюда, совсем один, я просто заболевала. Даже Рамон заметил…
— Я недавно вот что узнал, — сказал я, чтобы утешить Памелу, — рассказ Маркиза включили в антологию, книга вышла в Германии, и он получил кучу денег. Он был очень доволен.
— Ах, как я рада! — Памела положила руку на горло. — Теперь я понимаю, в чем дело: он тут как-то подарочек мне принес. Это Маркиз-то, можешь себе представить! Постоял за газетным киоском, пока Рамон ушел в банк. Потому что Рамон его видеть не может. Если б ты слышал, каких ужасов Маркиз наговорил ему, я все хватала Рамона за рубашку, жильцы высунулись из своих дверей и смотрели, скандал был страшный… Так неприятно! Он, видимо, получил деньги, вот и принес мне подарок. Косынку из итальянского шелка. Очень элегантная косынка, правда, Карлота? — Карлота неуверенно подтвердила. — А что напечатали в антологии, он, наверно, рад. Я знаю, ему совсем немного надо для счастья. Только как раз самой этой малости у него и нету. Даже самой малости.
Карлота снова стала толкать меня своим богатырским коленом. Я наконец разозлился и наступил ей на ногу. Я нервничал еще и оттого, что настало время идти. Разумеется, после всего сказанного прощаться было тяжело. Мы с Паме долго смотрели в глаза друг другу, я вконец одурел и крепко ее обнял.
А Карлоту я обнимать не стал. Карлоте только поцеловал кончики пальцев.
Когда я выходил из «Нурии», играли «Светлячки».
Прямехонько из «Нурии» — за инструкциями.
Вот, черт побери, задание так задание! Почему выбрали именно меня? «Потому что тебя еще не взяли на заметку» — так мне объяснили. Может, только что получили сообщение? Или считают, что я хорошо справлюсь. Может, и так, но о подобных вещах, конечно, не говорят.
Мне дали деньги, кожаный мягкий чемодан, очень элегантный, кое-что из одежды, тоже шикарной. Мои наряды выглядели весьма жалкими, да и чемодан для них велик! Что я бороду сбрил — одобрили.
Я вернулся в пансион. Принял ванну, переоделся. Кремовый полотняный пиджак (чей бы он мог быть?), ярко-синий галстук, гладко выбритая физиономия… Я просто не узнавал сам себя. На кого я похож, черт возьми? Из зеркала смотрел не то юноша из богатого семейства, чемпион по лыжному спорту, не то начинающий коммивояжер по продаже недвижимости. Никому, глядя на меня, даже и в голову бы не пришло, что я писатель. А уж о другом и вовсе не догадаться.
Однако же порученное дело (зачем я буду скрывать?) пугало меня. Всегда больше трусишь, когда надо действовать где-то на чужой стороне, а в Арике я не знал никого, буквально ни одной души. Вдобавок нервы мои и без того были страшно напряжены: стоило где-нибудь кошке мяукнуть — я так и подскакивал чуть ли не до потолка.
Так что неплохо бы последнюю ночь повеселиться хорошенько. Хоть один-то разок. Чтоб сам святой Петр мне позавидовал. Не говоря уж о том, что ужасно глупо не использовать такой случай.
— Дон Просперо, я уезжаю на неделю. Да, хочу отдохнуть немного. В Лебу поеду, отца навестить.
Неудачно придумано. Старик так и загорелся: он поедет со мной вместе повидаться со старым приятелем, вспомнить былое… Я понес немыслимую чепуху, из которой, однако, следовало, что он должен расстаться со своим намерением. Старик вытаращил на меня глаза, так я его и оставил; выскочил из дому и из ближайшего автомата стал звонить Росе. Занято. Набираю еще раз. Наконец слышу хрипловатый голос:
— Я всегда тебя жду. Ты знаешь.
— А с кем ты так долго разговаривала?.. Ладно, ладно, бабушке своей рассказывай.
Какая она ласковая, моя Худышка! Как с ней спокойно! Не знаю, как это у нее получается, а только с ней я всегда чувствую себя бодрым, уверенным, веселым. Нет больше ни градаций, ни угрызений. В последнюю встречу мы договорились съездить вместе на юг, домой. А сейчас у Росы как раз скоро каникулы, вот бы кстати. Побывали бы в Тальке, в Линаресе, поели бы свиной колбасы с картошкой где-нибудь на базаре в Чильяне, посмотрели бы фрески Сикейроса… «Да, да, сеньора Паласиос» — так бы мы говорили в гостиницах. Медовый месяц, воспоминания золотой юности, поэзия наших семнадцати лет.
И в самом деле, до чего же мы были тогда счастливые! Вся наша компания — Фауно, Виола, Панчо с вечными своими шуточками. Виола выкрасила волосы в рыжий цвет, Панчо, как ее увидел, — что, говорит, это с тобой, моча задерживается, да? Мы жили смеясь. А Альфонсо — рожа как солнце? У него тогда только что вышла первая книга и имела большой успех; а сестры Монкада, дочки капитана шхуны, такой толковый был старичок — ранешенько спать заваливался. «Слушай, давай это самое в такт делать, под храп твоего старикана, вроде как под музыку?» — «Фу, дурак, свинья!» Я помню их всех. Всех. Как умели мы веселиться!
— Учти, у меня самые дурные намерения, — предупредил я Росу напоследок.
— Ух, здорово! Тогда лети на вертолете!
Я купил пачку равиолей, баночку томатного сока и две большие бутыли вина. Не одну, а две, Худышка от вина никогда не отказывается. И отправился к ней со всем этим добром и с чемоданом.
Квартира Росы на авениде Бустаманте: одна комната, которая зовется гостиная-столовая-спальня-студия. Роса открыла мне дверь да так и покатилась со смеху. Никак не могла остановиться. Пришлось ущипнуть ее, чтоб перестала смеяться.
— Ну, рассказывай же. — Все еще хихикая, она убрала со стола тетрадки, которые проверяла.
— Только ты перестань смеяться, ради всего святого.
— Но в чем дело? Ты опять влюбился в кого-нибудь? Ты же всегда, как весна начнется… И твоя новая любовь требует, чтоб ты ходил в таком виде? А в зеркало-то ты смотрелся? Рожа — как монашкин зад. Нет, ты лучше вот что скажи: кто она, какая из себя, опиши мне.
— Ничего подобного, ничего подобного. — Я говорил как только мог спокойно и уверенно. — Просто надоело бородатым ходить.
— Да будет врать-то.
— Ну ей-богу, правда.
— Так я и поверила. Я же тебя знаю, ты такой негодяй: влюбчивый, упрямый, выдумщик, притворяшка, лгунишка.
Еще что?
— Развратник.
— Да, уж это точно. Хотя не так еще плохо. А чемодан зачем?
— В Осорно еду, к тете. Совсем ей плохо, бедняжке.
— Откуда это у тебя вдруг тетка выискалась? Я же говорю — выдумщик.
— Как откуда? А тетя Лусинда?
— Ладно, пусть будет сколько угодно теток. Хоть целое семейство, мне не жалко. Что ты там принес? Равиоли? Вот вкуснятина-то! Обожаю равиоли! А скажи-ка, твоя тетя — блондинка?
— Какая там блондинка, она лысая! Ну а ты как? Потолстела вроде…
— А как же иначе, если ты не являешься. Компенсаторный механизм срабатывает, как выражаются психологи. Нет, подожди, давай я сперва равиоли согрею. Умираю с голоду. Как сердце чуяло, ничего сегодня не ела с утра. Простокваши стакан, и больше ничего.
Кроткая, мужественная моя Роса!
— Ну, в чем дело? Ты ведь никогда раньше не устраивала мне сцен.
— Не имею ни малейшего желания выступать в роли Дамы с камелиями.
— А чего же тогда ревешь?
— Я реву? Даже и не думала. Просто глаза слезятся, от усталости, наверное, тетрадки все проверяю. — Она пыталась улыбнуться, а слезы все текли и текли по щекам.
— Дурочка! Не надо, — я поцеловал ее, — а помнишь, как мы пошли купаться на озеро Сан-Педро, костер разожгли и лес загорелся. Страшный пожар был. Ты тогда вот так же и смеялась и плакала. И твердила, что нас всех в тюрьму посадят. Мы удирали прямо в купальниках, а туфли в руках; встретили какого-то хромого, он прямо туда шел, где горело, а Панчо говорит — у него нога-то деревянная, начнет гореть снизу…
— Короче станет и стучать начнет, как он побежит, а нога-то — чики-чики-чики!
Я выпил ее слезы. Мы были счастливы.
— Давай я помогу ужин готовить.
— Тащи все на стол… Ух, как много!
— А помнишь, как мы устроили нашу с тобой свадьбу понарошку? Нас даже рисом обсыпали, а потом ребята подвесили колокольчики нам под кровать…
— Это Панчо придумал, его идея.
— Верно. Его. Кстати, знаешь, где он сейчас?
— Нет. Скажи. Из нашей компании я его больше всех любила.
— Он в Писагуа.
— Не может быть! — Роса опустилась на стул.
— Да, забрали его. Очень уж рискованную штуку он устроил. Помнишь, кто-то написал однажды на стенах дворца Монеда: «Смерть Предателю»? Это он. Пошел туда с одной девушкой, вроде как будто ухаживает, обнимается с ней, а сам в это время и написал. В тот раз удалось ему каким-то чудом удрать, тогда он решил повторить тот же номер возле министерства обороны, тут его и схватили.
— Да что ты говоришь! Бедненький! А нельзя как-нибудь его выручить?
— Дохлое дело. И вдобавок он только женился, шестнадцать лет девчонке всего-навсего, и малыша ждет, бедность такая, что просто жуть берет.
— Но что-нибудь все-таки можно ведь сделать? Скажи, что? Что можно сделать?
— Да ладно, ты же все равно никогда не решишься…
— Ох, нет! Это не для меня. Ты знаешь. Ты сам только сейчас сказал, что я вечно реву.
— Другим тоже страшно. Думаешь, нет? Я недавно познакомился с одной девушкой из богатой семьи, так она дрожит вся, как желе, а ты бы поглядела, что делает. Что только делает!
— Ну и женись тогда на ней.
— Да я же совсем не про то.
— Не могу я, не могу. Только хуже будет. Мне начнут ноготь выдирать — я и расколюсь сразу. Знаешь, я даже во сне вижу: какие-то типы меня допрашивают — знаю ли тебя да где ты живешь. К счастью, я даже и не знаю твой адрес. И вдобавок я ничего не понимаю в ваших теориях. И верю в революцию, но что-то мне говорит: не скоро еще все это будет. А в школе у меня что ни ученик, то и проблема! Говорю с родителями, объясняю — не надо быть жестокими, не надо наказывать; если он плохие оценки получает, так потому, что не так-то легко заниматься, когда в животе пусто. Вот они, конкретные жизненные проблемы. А вам и завидую, вы умеете мечтать, вы живете будущим, я бы так не могла. Слишком давит меня настоящее. Я каждый день сталкиваюсь с ним у себя в школе. Нет, подожди, не перебивай. Но какой ужас с Панчо! Хотя он такой молодец, я думаю, он и там хор организует, всех петь заставит. Помнишь, как он пел замечательно? Помнишь, то вильянсико[82]: «Госпожа наша Мария, я пришел из дальней дали, пару кроликов принес я, чтоб Младенца забавляли…» Помнишь?
— Еще бы не помнить!
— Ты скажи мне адрес его подружки. Видишь, на такие вещи я могу пригодиться. Мне на рождество подарили немного деньжонок, я ей помогу. Ой, горят! Нет, соуса пока не надо. Тащи вот это тоже на стол. Ну зачем же ты суповую ложку-то поволок? Вот глупый!
— Я радио включу?
— Да, найди какую-нибудь музыку.
— Что ты хочешь?
— Что-нибудь нежное. Хотя нет, лучше не надо. Мне все еще то вильянсико слышится. Пусть так и будет пока. Бедные, бедные! А Панчо до чего милый! Как-то раз, помню, я уже в университете училась, не знаю, что ему вдруг вздумалось, взял да и подарил мне босоножки. Так было странно! Ни дня рождения у меня не было, ничего. Просто так, ни с того ни с сего, пришел и принес какой-то сверток, гляжу — босоножки. И какие красивые, если б ты видел. Нет, правда, включи лучше музыку. А то, если дальше так пойдет, я совсем расстроюсь.
Долго сидели мы грустные. Съели все равиоли. Полная луна глядела на нас в окно и улыбалась, тоже грустно. Но музыка… но вино… И, черт побери, до чего же мы все эгоисты! И хочется как-то спастись, укрыться от горя, потому что сидеть да страдать еще хуже. И опять же вино, я уже говорил, надо ж его попробовать.
«А теперь послушайте перуанский вальс «Цветок корицы».
— Потанцуем?
— Можно я сделаю одну вещь?
— Какую?
— Посмотрю, что у тебя в чемодане, можно? Он такой большущий.
— Ну, зачем? Как ты думаешь, что там может быть? Динамит?
— Не знаю. Не знаю. Дай я посмотрю.
— Чемодан не заперт. Можешь устроить обыск. Обыскивай, пожалуйста.
Я отвернулся, высунулся в окно, глядел на луну. Взгляд Росы, казалось, жег мне затылок.
— Ни за что! — завизжала она, будто раненая кошка.
— Почему же, пожалуйста, открой чемодан. Открой же, говорю.
— Нет, ни за что. Не хочу. Ты сказал «можешь устроить обыск». Ты меня убил этими словами.
— Ох уж эти мне женщины! Никак им не угодишь.
— Ах, так, женщины тебе плохи? — Роса стала передо мной, вся красная, взъерошенная, разъяренная. — Что бы вы, подлецы, делали без женщин? Ты вот даже не соображаешь, что я прекрасно понимаю, к какой тете ты собрался. Тебя черные предчувствия терзают, вот ты и пришел. А если б не это, ты обо мне и не вспомнил бы. Велели тебе нарядиться, сбрить бороду да напялить идиотский галстук, ну, значит, посылают с заданием. — В отчаянии она изо всех сил дернула себя за косу. — А ты забыл, что никогда никого я не любила и не полюблю так, как тебя? Что все эти дни буду мучиться с утра до вечера. Дрожать, что с тобой случится самое страшное? Ты обо мне забыл, потому что думаешь только о себе. И о своих делах. А я извожусь дни и ночи, жду тебя, окаянного! Слушаю, что по радио передали, кто что сказал, как поглядел. И вот, пожалуйста, он мне говорит: «Можешь устроить обыск», негодяй бессовестный!
Никогда Роса так не говорила со мной. Впервые слышу я от нее упреки, да еще какие горькие. Она нарушила договор, наш договор, все условия которого ставил я — безжалостный мошенник. «Только не держи меня, не держи, не могу я жить привязанным к бабьей юбке». И вот Роса бросает вызов, и, странное дело, я словно слышу в ее словах дыхание смерти. Давно знаю я Росу. Очень давно. И только сейчас понял, сердцем почувствовал, как нуждается она в тепле, в ласке. Пожалеть ее надо. Убаюкать, утешить. Посадить к себе на колени и чуть слышно напевать колыбельную песенку.
— Слушай, Худышка, не говори больше. Не надо.
— Ладно, не буду. Никогда больше ничего не скажу, ни одного слова.
— И перестань косу дергать. Не смотри на меня так. А то я сейчас из окна брошусь.
— Бросайся. Тут всего лишь второй этаж.
— Не надо быть жестокой, Худышка. Есть вещи, которые не так-то просто растолковать. Ты ведь любила когда-то своего жениха. Жизнь сложна, вот что. Пойми, по крайней мере, хоть это одно: жизнь сложна.
Она, кажется, не слушала. Ярость кипела в ней, переливалась через край:
— Женись! Женись на своей героине, она же такая храбрая, а меня оставь в покое. Я хочу жить. Слыхал? Просто хочу жить. И не желаю тебя больше видеть. Совсем, никогда. Иначе я, в конце концов, возненавижу тебя!
Ни разу я не видел Росу такой красивой — взыграла индейская кровь; словно встала вдруг передо мной гордая дикая араукария. Злобный ветер ревет в ее ветвях, что качаются на фоне серых холодных волн арауканских морей. И яростно рокочут в ее сердце индейские барабаны. О, непобедимая мощь, кровь древней расы! Она бурлит как лава в вулканах Льяима и Лонкимай. Роса села. Она не смотрела на меня. Она видела что-то там, далеко, за стенами своей каморки, за пределами города, за горами и долами. Ясней обозначились на лице скулы, губы вспухли.
Родная моя земля, вся израненная! Кактуса с побережья кровоточащий цветок! Она перестала дергать себя за косы и теперь не знала, куда девать руки, зачем-то собрала со стола куски хлеба и остатки равиолей, побросала поспешно в мою чашку.
— Роса! — Я взял ее руки в свои, стал целовать пальцы один за другим. — Роса, Росита, Роса моя, скажи мне что-нибудь. Скажи, что я должен сделать, чтобы ты простила меня.
Она медленно подняла голову. Сурово глянула мне в лицо.
— Люби меня! — вскричала вдруг. — Только об одном прошу тебя, проклятый. Только об одном! Люби меня!
— Но я же тебя люблю. Очень люблю.
— Больше люби! Больше. — Она сжала зубы. — Пусть сердце твое рвется на части, как мое. Никогда не оставляй меня так долго одну. Для кого мои груди, мои бедра? Для кого? — Она сорвала с себя блузку. — До чего ты хочешь меня довести? Дождешься наконец, я решусь, застанет нас обоих рассвет в постели, залитой кровью. Этого ты хочешь? Придет день, так я и сделаю, только бы не ждать тебя ночи напролет, не бегать за тобой, как сука! Думаешь, легко мне жить?
Она все еще не смотрела на меня, все еще видела что-то далеко-далеко, за горами, за морями, на другом конце земли. И вдруг заговорила совсем другим тоном, словно бы успокоилась:
— Знаешь, я совсем не боюсь смерти. За тебя боюсь, а сама умереть ни капельки не боюсь. — Она стала перебирать мои волосы. — Ты читал стихи Гарсиа Лорки о смерти «Если умру я — не закрывайте балкона»? Только одного ему надо — балкон, окно в мир, чтоб вечно созерцать жизнь, видеть, как волнуется под ветром пшеничное поле, как мальчик ест апельсин, как разбивается на песке волна. Ведь правда, ничего нет на свете прекраснее жизни?
Немой, растерянный, я только кивнул. Тогда она взяла в ладони мою голову и поцеловала в губы. Поцеловала так, что кровь выступила.
А потом мы танцевали. Танцевали. Танцевали…
Я проснулся; солнце еще не вставало, но уличный фонарь светил прямо в окно, и можно было не зажигать лампу. Роса спала глубоким сном. В ночной рубашке земляничного цвета, которую я ей подарил много лет назад; она надевала ее, только когда я приходил. Я пошел в ванную, увидел в зеркале след ее поцелуя у себя на щеке. Любимая! Я побрился, выкупался. Сидя в ванне, прочел в старом-престаром номере «Лайф» статью про жизнь эскимосов. Ну и странная у них жизнь, у бедняг! Оделся, в холодильнике на кухне нашел молоко и выпил целый литр. Потом попрощался с Росой: осторожно, чтобы не разбудить, целовал волосы, прядь за прядью. Оставил на столе свои последние рассказы, раньше я думал взять их с собой — поработать в дороге; написал на листке адрес жены Панчо, а под ним нарисовал большущее сердце, пронзенное стрелой, вывел наши инициалы, оттушевал старательно. И ушел.
ГЛАВА XIV
Чуть ли не четвертую часть земного шара проехал я в автобусе. Автобус, конечно, шикарный, кресла с откидными спинками, даже уборная есть, так что если тебе приспичит на повороте, получится струя весьма оригинального рисунка, вроде пропеллера. Но я наслаждался мягкой какой-то усталостью и спал почти всю дорогу.
В Арике — отель рангом повыше обычного, даже с бассейном. Мальчик повез наверх мой чемодан (я чуть было не схватил сам, но вовремя остановился — шик-то ведь какой!). Потом я долго сидел в горячей ванне, бог знает, сколько тысяч километров я проехал, надо же в себя прийти. И, наконец, вышел на улицу. И шагаю уверенно, с победным видом, да-с, вот так, душа моя!
Сначала в часовой магазин. Я сразу его узнал, мне давали фотографию. Хозяин показывает мне японские часы, последняя модель, я говорю пароль. Хозяин — испанец, брови как швабры, толстый, особенно затылок — весь в складках, самый породистый севильский бык мог бы позавидовать. Услышав пароль, хозяин меняет тон, сверкнул золотым зубом, значит, надо так понимать, что улыбнулся, ведет меня в свою контору позади магазина.
Я в общих чертах излагаю дело, сообщаю необходимые сведения, намекаю на то, что задание дано сверху. Договариваемся встретиться завтра на террасе, против бассейна. Однако так скоро со мной расстаться испанец не пожелал; «Посидите еще немножко», — все повторял он, и, в конце концов, мы проговорили довольно долго — обо всем на свете.
Я, разумеется, догадался — ему хочется незаметно меня прощупать, выяснить, что я за птица. Старики частенько так поступают с нами — молодежью.
Второй оказался совсем в другом роде. Похож на Бальмаседу[83] как две капли воды; полуседые бакенбарды, манеры вельможи, пожалуй, чересчур элегантен. Банкир. Значительная персона. Собственная контора, секретарша и прочее. Когда я увидал их обоих, я вообразил, будто понимаю, почему выбрали именно эту пару: испанец (я потом узнал, что он ветеран Гражданской войны) — человек отважный, а банкир — хитрец. А оказалось как раз наоборот.
Оба явились точно в назначенное время. Я представил их друг другу. Банкир заморгал, не в силах скрыть изумления: не раз и не два хозяин часового магазина бывал у него в банке. Астуриец, напротив того, воспринял новость юмористически. Даже похлопал банкира по плечу.
Я рассказал о задании. Товарищ находится в Такне, документов нет, положение трудное. Он должен привезти сюда нечто весьма важное; необходимо во что бы то ни стало помочь ему въехать в страну. Вдобавок дело срочное. Пусть они посоветуются и вдвоем выработают план действий. Прежний, предложенный стариками из Сантьяго, провалился. Я, однако, поостерегся и не сказал, что если и на этот раз ничего не выйдет, существует еще один вариант, который, будем надеяться, осуществлять не придется. Очень уж он отдает испанским барокко восемнадцатого века. И пахнет расстрелом всех участников, первая же инстанция приговорит.
В бассейне плавала девушка, ловкая, как дельфин. Когда девушка поднялась на трамплин, я разглядел ее фигуру и тотчас начал заикаться. Чуть было не проглотил оливку из «мартини». Да, я же вам не сказал: я, конечно же, заказал три «мартини», чтобы сцена встречи выглядела естественнее.
Они не стали задавать лишних вопросов, стреляные воробьи. Сговорились, когда и где встретимся, я на всякий случай сказал, в каком номере поселился. Вот и все. Не успели мы проститься, как появился офицер, махнул повелительно, по-военному, девушке, она тотчас подбежала, и, крепко взявшись за руки, они удалились.
Оставшиеся дни я развлекался как мог. Да, друзья мои, я сделался заправским туристом. Давно мечтал я увидеть Арику. Шатался по порту, катался на лодке, поднялся на Морро, сидел в кино, четыре фильма видел, всего на круг — тринадцать убийств, и почти-почти сблизился с девушкой, что плавала в бассейне. Зовут Гертруда, родители — немцы, нацисты-сволочи, живет в Вальдивии. Чемпионка по баттерфляю; фигура — умопомрачительная.
— Вы так изящны. Стоит вам только появиться на трамплине — сразу присудят приз.
Потом я уговорил ее нырять вместе. Мы бросали гирьку и кидались вниз в воду искать ее. Конечно, всякий раз победительницей была Гертруда, ибо под водой я только тем и занимался, что разглядывал ее. И на земной-то поверхности она казалась чудом, а уж в открытом купальнике телесного цвета, да еще когда глядишь сквозь водную толщу, будто через голубоватое стекло, — просто сама Лорелея. Не нужно, наверное, объяснять вам, что я вел себя достаточно осторожно и уходил в одиннадцать, до появления офицера.
Однако, как ни смешно, а все это время я (вот дурак-то?) ни на минуту не переставал думать о Худышке. Такого со мной еще не бывало. И вот — пришло. Странно. В самом деле, почему все так странно в жизни?
Мы родились и жили в одном доме, дверь в дверь. Я был старше ее на несколько лет и не обращал на эту сопливку никакого внимания. Но она выросла. Все они рано или поздно вырастают. И такая стала высокая, цветущая. А однажды утром мой отец (с каждым днем прибавлялись морщины на его лице, давно уже разговаривал он с одной только неразлучной своей тоской; с тех пор как выгнали его из учителей, он никуда не мог устроиться и кое-как перебивался, работал помощником портного — можете себе представить, как часто заказывали костюмы у нас в Лебу) решил поговорить со мной. Мы только что позавтракали, отец сидел еще за столом; развернув газету, спрятав за нею лицо, он сказал так:
— Слушай, парень, не пора ли тебе стать мужчиной.
Я уже несколько дней думаю об этом. Хватит висеть у меня на шее.
А все потому, что он связался с этой старухой. Вот ведь всегда так, а еще отец называется; нет, чтобы поговорить по душам, начистоту.
— Ладно, старик, не расстраивайся. Могу пообещать только одно — стыдиться за меня тебе не придется.
Отец дал мне денег — хватило на билет и еще осталось немного, — и я уехал в Сантьяго. Два года работал переводчиком телеграмм из-за границы. Шла война, а когда она кончилась, меня уволили; я отправился в Консепсьон — самый прекрасный город в мире. Там нашел работу, тощий Авалос устроил на радио: был я и диктором, и звукооператором, на все руки.
Тощий Авалос писал тексты радиопрограмм; однажды шла у нас серия из жизни троглодитов; он и написал на полях: «Драка динозавров; озвучить, найти соответствующий звуковой фон». Что тут придумаешь? Но в самую последнюю минуту меня осенило: взял я пластинки с записью плача младенцев на 78 оборотов и поставил на скорость 33, получилось шикарно.
Вот так я и перебивался. И вдруг появилась в Консепсьоне Роса. Да, Роса! Приехала учиться в здешний университет, профсоюз типографщиков послал. Вот ведь до чего ловкая! Как раз в день ее приезда я был на вокзале, пирожки ел.
После первых объятий я и говорю:
— Ну, можешь считать, что тебе везет. Представь, у нас в пансионе только что комната освободилась. Совсем почти рядом с университетом будешь жить, каких-нибудь два квартала.
И начались безумные годы. О молодость — дар небес, голице, море, ветер и беззаботность. Словно огромная волна подхватила нас и несла, изумрудная, прозрачная.
Тогда-то я и вступил в партию. Помню, как сапожник Ронко Росалес сказал мне: «Хватит уж трусить, парень, сколько можно раздумывать. Давай прыгай в воду!» К тому же у меня это наследственное. С отцовской стороны и с материнской тоже. А дед мой был анархистом и много чего натворил. Во время выборов мы просто на части разрывание!». Старики были мною довольны и в один прекрасный день (все ведь случается с нами в один прекрасный день) направили в Сантьяго работать в газете.
Мы целовались на перроне — ничего не поделаешь, любовь моя, я теперь сам собою не распоряжаюсь. В газете я вел сперва отдел театральных рецензий, а потом — профсоюзную страницу; ну, а тут Предатель распорядился закрыть нашу газету. Что творили эти звери! Устроили разгром, из автоматов стреляли, мы еле успели ноги унести, кое-как проскочили через оцепление, проклятые гиены все порушили, поломали: типографские станки, письменные столы, все… Включили ротационную машину, а между валами просунули огромный кусок железа. Разбили вдребезги пишущие машинки. Даже унитазы в уборной!
Роса тем временем кончила университет и стала работать учительницей в лицее святого Бернардо; и опять же и один прекрасный день вдруг встречаю я ее на стадионе.
— Ты перестанешь за мной бегать, Худышка? Если и когда-нибудь отправлюсь в Тибет, ты и туда явишься?
Прямо какое-то наваждение. А может, судьба. Ну, если нас не устраивает слово «судьба», можно сказать что-нибудь философское, насчет случайности и необходимости. Но все-таки судьба, я думаю.
У Росы был жених, назначили свадьбу, приехала она в церковь, разряженная, в кудрях, а он взял да и сбежал. Встретились мы с ней, зашли в погребок на Ираррасабаль, выпили пива, и она рассказала мне все это. Ну а я намотал, конечно, на ус.
Я знал Росу всегда, всю жизнь, я помню, как ей меняли пеленки, помню, как она впервые купила губную помаду и вся вымазалась, потому что не умела краситься. И вот только теперь, после стольких лет…
Я вижу ее. Она словно живет во мне, сидит, подперши голову, будто из окна смотрит. Я ее вижу. Все время вижу. Вот надоеда! В тот день, когда я катался на лодке, я просто дошел до точки. Низвергался потоками с небес оранжевый свет, порхали птички, волны пенились, журча и сверкая, и в каждой я видел ее — тонкая талия, суровая чистота, ярость ее покорных губ. И в облаках я ее видел, и на корме каждой лодки, что покачивал прибой, и в розовом луче, что плясал на стене моего номера. Где я только ее не видел!
Хочешь не хочешь, а это надо принять. Придется сдаться, старик. Пришла любовь. Выхода нет. Никуда не денешься и никак по-другому это не назовешь. Любовь, беспредельная нежность. Кроткая гладь вод и свет, главное — свет, лимонно-желтый, и некуда спешить, и не надо мучиться, и запах свежего белья пробуждает огонь в крови, но свежее белье пахнет еще и домом, семьей, вот что гораздо опаснее. Хочу держать ее руку в своей и вместе смотреть телевизор; хочу, чтоб она подавала мне домашние туфли; чтобы по воскресеньям мы катались на лодке по прудику возле Кинта-Нормаль, а потом мы падаем на постель, и я ощущаю солнечное тепло ее тела и тысячу и один раз срываю нежный лепесток розы, а роза вздрагивает от счастья.
Я взобрался на Морро, чтобы подумать. Подумать всерьез. Сверкали вдали голубоватые молнии, бросались вниз с горных вершин, а внизу подо мной расстилалось море, бескрайнее море, растянулось под солнцем, подставляя бока теплым лучам.
А я думал. Какую жизнь могу предложить я Росе? Вот ведь в чем подлость, самая что ни на есть сволочная подлость! Разве это жизнь? Не в деньгах дело, вовсе нет, она, может быть, зарабатывает больше меня, да и вообще это ерунда, мы с ней не из тех, что считают каждый сентаво. Но тревога, но постоянный страх? Мы пока что не женаты, и то она, бедняжка, видит все время кошмарные сны — доносы, допросы и прочее в том же роде. А если в лицее узнают, что у нее муж коммунист, ее же с работы выгонят.
Мы — словно прокаженные в средние века, нас заставляют носить колокольчик на шее, пусть люди издали слышат, что ты приближаешься, и разбегаются кто куда. Тогда, значит, поженимся тайно. А если Роса забеременеет? Незамужняя учительница и вдруг — беременна. Какой ужас! Вон!
Так что же? Выходит, мы не имеем права любить? Даже это право у нас отняли. Мало того, что священная демократия загнала тебя на самое дно; мало, что тебя отлучили от церкви (хотя на это мне плевать сто тысяч раз); мало, что выгоняют из любого государственного учреждения, с любого частного предприятия, чуть только учуют, чем дело пахнет; проклятый закон[84] связал тебя по рукам и ногам; тебя исключают из избирательных списков; по ночам ты иска киваешь в ужасе всякий раз, как затормозит возле дома машина. Всего этого им мало!
Живешь, словно висишь на ниточке над пропастью. Тут Худышка права. Голубая ниточка, очень красивая, очень, очень, но от этого разве легче? Понимаете, рабочими движет что-то совсем иное, другие факторы толкают их на борьбу, конкретные, как орудия их труда; тут действуют совсем иные психологические механизмы. А вот мы, интеллектуалы… Но разве от этого легче? Ты лишен всех гражданских прав; ты не можешь жениться, иметь детей…
И вот слушайте меня внимательно, я вам скажу кое-что по секрету: жить по-другому я не хочу. Ни за что на свете! Если бы мне пришлось прожить тысячу жизней, я прожил бы их так же.
Не знаю, как вам объяснить толком. Я даже сам не очень-то понимаю, в чем дело. Но жить жалкой жизнью человека, который сдается, не вступая в бой, который умеет только хныкать и не умеет кричать, который крутится, как колесо повозки, и не знает, кто толкает повозку и куда; такой человек вечно поддакивает, раздавленный тяжестью первородного греха, страдая за чужую вину, истинную или воображаемую. Он боится старости, а сам давно уже старик. Осеняет себя крестом, если видит пару женских ног. Кому страшно, когда лиловые сумерки сгущаются над головой; страшно, когда хмельное море вздымает буйные свои веселые волны. Этот человек никогда ничего не предпринимает; пресмыкаться — его профессия, порядок — его религия; жалкое пресное существование, пронизанное запахами лекарств, апатичное, серое, слепое. Такие люди не знают ярости, боятся взглянуть на солнце, мятеж их страшит. Они ненавидят толпу, им противен запах пота; они дрожат при малейшем ветерке, рутина, как ржавчина, съедает их жизни, предрассудки не дают им свободно дышать. По воскресеньям такой человек достает с наслаждением черный костюм, чтобы идти к мессе; он не смеется, а скалит зубы, он налепляет на мыло крышечки от пивных бутылок, чтоб дольше служило, он экономит туалетную бумагу. Высшим он привык лизать пятки, низших — топтать; он никогда не протестует; он дуреет от постоянного повторения пошлостей; свои неудачи он вымещает на детях и раздает оплеухи, когда возвращается вечером со службы…
Нет, я ничего не изменю в своей жизни. Не хочу жить по-другому. Тысячу жизней, черт побери, я прожил бы снова так!
Вот о чем я думал. Вот о чем, Худышка. У нас нет ничего, это правда, но у нас будет весь мир. Мы — первые строки эпической поэмы (нет, это не метафора), что пишется не чернилами, а кровью. И у нас есть неприступная крепость — наше упорство. И есть глоток свежего воздуха — наше достоинство. Мы протестуем, проклинаем, бушуем. Бьем в ярости копытом, если не удается тотчас же сделать то или это, мы — энтузиасты, мы — дети, плутающие по дорогам мечты, великолепные безумцы, но мы верим: страшный мир, созданный рассудительными людьми, мы переделаем. В глиняном горшке, в жалком глиняном горшке растим мы красную аньяньуку. И никому никогда не удастся ее растоптать.
Не хочу жить по-другому!
Ты слышишь меня, Худышка? Настанет время, когда ты все поймешь. И пойдешь с нами.
Вифалитай, вифала!
На четвертый день рано утром позвонили по телефону. «Ваши часы готовы, сеньор Паласио», — сказали с испанским акцентом. «А, очень хорошо». Трубку повесили.
Все шло прекрасно. То, что я считал самым трудным — перевезти его через две границы, перуанскую и чилийскую, взял на себя банкир. Я так никогда и не узнал, как это удалось сделать. А доставить его в центральную часть страны взялся испанец. Я пришел к нему за «своими часами», стал шутить на эту тему; испанец вдруг взял да и подарил мне часы. Я стал отговариваться: да что вы, да зачем же, да большое спасибо, да не надо; он взял часы и сам надел мне на руку. Словно добрый папаша. Потом сказал, что теперь требуется мое участие. Я спросил — зачем, и он отвечал — по причинам психологическим. Я должен одеться как можно элегантнее и ровно к семи утра явиться на рынок, с северной стороны. Там меня будет ждать грузовик, номер я записал, и мы поедем. Водителю, разумеется, можно доверять полностью, и мальчику-подручному тоже. Ну и все. Да, вот еще что: когда мы прощались, испанец нахмурился и велел вырвать из книжки листок с записанным номером: «Привыкай, парень, запоминать наизусть. Все наизусть!»
Ночью я почти не спал. Только подумайте! Мне придется проехать три тысячи километров с опасным незнакомцем. Не слишком-то это приятно, скажем откровенно, и я без конца плел да придумывал ожидающие меня приключения, правдоподобные и неправдоподобные. При этом я ни на минуту не забывал, что переживаю первую главу будущей повести, из тех, что удается написать, лишь когда пройдет много-много лет. А бывает, что и вовсе не удается.
Контрабанда шла с севера в большом количестве. Кроме того, совсем недавно в пустыне проходили маневры, и, пользуясь ими (это vox populi[85]), вояки тоже занялись контрабандой: везли шелковые чулки, часы, духи, запрятанные в автомобильных шинах и даже в стволах орудий. А уж в танках чего только не было. Таким образом, более чем вероятно, что у первого же полицейского поста нас остановят и начнут обыскивать. А кроме того, они и вообще-то постоянно обыскивают всех, как им только вздумается, проверяют документы, роются в багаже, ищут под сиденьями, а то и раздевают людей догола.
Но выхода не было; оставалось положиться на заступничество Маркса и Энгельса перед престолом всевышнего и надеяться, что повесть моя во второй главе не потеряет своей красочности.
Не знаю, сколько я спал в эту ночь, но, видимо, сработал какой-то внутренний механизм — в шесть часов я уже стоял внизу в своем пресловутом голубом галстуке и расплачивался за номер. Жаль, что моя валькирия начинала тренироваться в семь, она обещала дать номер своего телефона в Сантьяго, а накануне столько было у меня хлопот, что я совсем забыл напомнить ей об обещании. Ах да, вот еще что: в последний раз я прошелся по городу, чтобы зайти в другой часовой магазин; там я обменял подаренные испанцем часы на женские; хоть сделка и невыгодная, но я решил привезти подарок Худышке.
Через полчаса появилась машина с тем самым номером. Первая неожиданность: новенькая двухтонка фирмы «Форд», доверху нагруженная арбузами. При чем здесь арбузы? Может, я ошибся? Еще раз сосредоточился, вспомнил номер — нет, все верно, тот самый. Чтобы как-то убить время, я прошелся по рынку, купил на память гномика с мешком на спине, они здесь такие прелестные, и ровно в семь сел в кабину.
Водитель протянул мне громадную свою лапищу; ну и ну, не человек, а орангутанг какой-то! В жизни еще не встречал я такого — физиономия до того страшная, прямо жуть берет, сам — огромный, мощный. Мальчик-подручный вскарабкался в кузов, уселся на арбузах. Поехали.
Конечно, у первого же поста нас задержали, приказали выгрузить все до последнего арбуза. Вдобавок несколько арбузов они разрезали (и, разумеется, взяли себе, мошенники) — сами понимаете, сколько контрабандных товаров можно уместить в одном арбузе. Потребовали у нас документы. Смотрели их, правда, кое-как, так только, для порядка. И ни о чем не спросили. Водитель объяснил сержанту, очень ловко это у него получалось: взял, дескать, пассажира (то есть меня), хотел немного подработать, шестеро ребятишек, знаете ли…
Вот теперь-то я понял: испанец все предусмотрел, он знает закон психологии человеческой: нарушение правил налицо, хоть и не слишком важное, ну и все, больше вас уже ни в чем не подозревают. Грузовым машинам запрещено перевозить пассажиров, значит, самое страшное, чем мы рискуем, — это что меня ссадят и я останусь со своим чемоданом голосовать на дороге. Прекрасно, только никак я не пойму, зачем он затеял всю эту волынку. Ведь не из-за дурацких же арбузов? На этот раз очень мне было трудно выполнять наше обычное правило: никогда не спрашивать о том, что тебя не касается и что тебе не положено знать.
И ведь что всего досаднее: когда мы в последний раз виделись с испанцем, он вроде бы собрался разъяснить мне что к чему, а как увидел, что я записал номер машины, так замолчал и больше ни слова. Решил, видимо, что я неопытный желторотый птенец.
И тут мальчик наш вдруг как закричит: покрышка села! Орангутанг вылез, поглядел и начал ругаться:
— Я ж тебе говорил, козел чертов, чтоб укрепил запасную как следует!
Долго они перекорялись, наконец водитель обратился к полицейскому:
— Вот ведь, сержант, незадача какая, чтоб я сдох!
Покрышку запасную потеряли! Из Арики как выехали, она тут была, надо думать, только недавно, недалеко где-нибудь свалилась.
Нам разрешили вернуться; за первым же холмом, где с поста нас уже не могли видеть, вторая неожиданность: еще один «форд», точно та же модель, точно тот же цвет и точно так же нагруженный доверху арбузами. И покрышка запасная имеется! А из кабины выходит испанец! Я разинул рот. «А что тут такого, черт побери! — Испанец сверкнул золотым зубом. — Разве не может часовщик и арбузами торговать?»
Ха! Сказать, что я окаменел от изумления, будет мало. Я подумал даже, не сошли ли мы все с ума.
В один миг водители поменялись документами, мы пересели в кабину второй машины.
— Не теряйся, малыш, — крикнул мне испанец и поднял кулак, — все будет хорошо.
И мы отправились.
На этот раз водитель вел машину как-то странно, согнулся в три погибели, чуть ли не лег на баранку. Я спросил, что с ним, он глянул сердито из-под нахмуренных бровей.
— Ты что думаешь, мальчик, я железный? Все кишки в животе переворачиваются. Старуха у меня, ребятишки.
Если б еще хоть один был… — Он сплюнул в окошко.
Это было последней каплей: нервы мои сдали, задергалось веко на глазу. На сей раз мы даже и не останавливались у поста. Притормозили, конечно, чуть-чуть, водитель высунулся из кабины:
— Нашли мы ее, сержант. На дороге валялась. Спасибо, — и дал полный газ.
Ох ты, черт побери, до чего же длинная наша страна! Когда едешь на полной скорости по северной пустыне, есть время подумать хорошенько. Тянутся долгие часы, тишина, безлюдье. Ни звука, ни шороха. Сонные дюны, нет им конца, не жужжат насекомые, мелькнет изредка кучка камней — чья-то одинокая могила, виднеется в песке скелет овцы или коровы. Летят одна за другой сотни километров, губчатая лава высовывает свое рябое лицо, лишаи известняка, жалкие кустики мимозы…
Мы обрадовались, когда пролетел низко над нами кулик, свистнул громко, будто прощался. И опять тянутся часы, ведут медленный хоровод тучи, нависли низко над пустыней, в тучах черная точка — кондор. Среди дюн — перевернутая машина. Прямая дорога, бесконечное ее однообразие убаюкивает водителя, машина незаметно сползает на песок, и нередко, когда водитель очнется, машина лежит перевернутая, а он сидит за рулем головой вниз, будто космонавт. Мы остановились, хотели помочь, но пострадавшего, видимо, уже увезли. Сиденье все было залито кровью.
И опять тишина, опять безлюдье, а они сродни смерти. Вдалеке, словно огромный задник, Кордильеры, окутанные сырым туманом, белый вечный снег вершин в желтых и лиловых пятнах.
— Писагуа. — Водитель большим пальцем ткнул в сторону океана.
Так, значит, вот это где. Концентрационный лагерь, созданный Предателем; с одной стороны — бесконечные пески, с другой — бесконечная водная равнина; там томятся сотни наших товарищей. Там Панчо поет свои вильянсико, вспоминает беременную жену. Все они там вспоминают своих друзей, своих детей.
— Удавалось кому-нибудь бежать оттуда? — спрашиваю я.
— Что ты, и мечтать нечего. И потом, надо беречь силы. Может, еще хуже будет.
Худышка как-то раз сказала: не понимаю, почему это вы обязаны геройствовать да плодить сирот. И тут, сам не знаю, как это вышло, я вдруг спросил, где же…
— Да тут, в кузове едет. — Водитель мотнул головой назад.
— Арбузами его не задавит?
— Да нет, его там удобно устроили.
Через несколько часов нас обогнала вторая машина. Испанца уже не было. Водители весело приветствовали друг друга.
— Порядок?
Орангутанг ответил каким-то нутряным ревом, но второй водитель был, как видно, полиглотом, он все прекрасно понял и, одобрительно улыбаясь, поднял кулак.
Мальчик лежал на самом верху второй машины, корки от съеденных арбузов громоздились вокруг него; укрывшись мешком, мальчик крепко спал.
Сумерки сгустились; на пути к Антофагасте нас застала ночь, черная как смола; ехали по неасфальтированной дороге, машину трясло и швыряло порядком, но в конце концов прибыли. Собаки встретили нас бешеным лаем, закачался вдали в чьей-то руке фонарь, кто-то крикнул на собак, они успокоились. И опять пошло: бери, хватай — стали сгружать арбузы. Словно игра какая-то. На этот раз и тоже сгружал, больше ни к чему было изображать пассажира. Наконец из-под арбузов показался бедный, кое-как оструганный гроб. На крышке лежала змея. Только что собрался я сбросить ее, как крышка поднялась и человек сел в гробу. Змея оказалась резиновой трубкой, через которую он дышал.
По правде говоря, я плохо его разглядел. Тяжело опираясь на руку мальчика, он спрыгнул на землю. Наверное, одеревенел весь. Протянул мне руку — худую, холодную, обнял водителя, тот похлопал его по спине, желая, видимо, ободрить, и, все так же не произнося ни единого слова, двинулся вслед за человеком с фонарем куда-то во тьму, где угадывался силуэт фермы. Я заметил, что человек с фонарем держал его так, чтобы свет не падал на их лица.
Мы постояли, поглядели вслед, опять побросали в кузов окаянные арбузы (никогда не думал, что они такие тяжелые, даже спина заболела) и — снова в путь.
С каждой минутой холодало, в пампе ночью до того жуткий холод, вы себе даже представить не можете; я вытащил из чемодана и навалил на себя все, что там только было, прикрыл глаза и вроде как задумался.
Клянусь вам, это было поразительно. Пампа превратилась в море огня, словно начался опять мировой пожар. Деревья пылали как факелы, кактусы яростно извивались в пламени, пампа, будто огромная красная шкура, вздрагивала, ходила волнами, а над ней, пожирая ночную тьму, крутились громадные сияющие солнца.
И маленький упрямый человек шел через пламенеющее море.
Так ведь оно и есть. Дело в том, что идеи, воспринятые из книг, тоже, конечно, важны, я не спорю, но только самое прекрасное — когда они стали плотью твоей и кровью.
Бесконечная пустыня, проклятое кладбище, колыбель смерти. Природа, буйный разгул ее стихийных сил — вот что такое наша Америка, была и есть, и в этом беда. Жизнь в природе, вне истории, как в «Донье Барбаре»[86], в «Пучине»[87], в «Сертанах»[88]. И все-таки — нет, нет, ради всего святого, нет! Умереть суждено каждому, но ведь и жить тоже. А жить — не значит сидеть в этом колоссальном амфитеатре и покорно ждать, что будет. Надо выбираться на сцену, надо громко заявить о себе, самому делать историю. Ты должен, пусть хоть немножко, почувствовать себя тем человеком (а он жив во всех нас), что похитил огонь, что создал язык, что сложил и спел первую песню; тем, кто первым бросился на штурм небес, кто сокрушил власть неправых.
— Ну и силен, молодец. Я его давно знаю. — Вот теперь водитель вдруг разговорился.
Но я промолчал. Я и без него хорошо знаю, что человек этот — молодец. Именно о таких, как он, я ведь только что думал. А может, не думал, а так, привиделось. Кольца огня, охваченная пламенем серая шкура пампы, торчащие скалы — будто вывернутые суставы планеты.
И слабая жесткая рука, сжавшая мою в темноте. Только рука, лица я не видел. Теперь я понял, почему он молчал. Почему не сказал ничего, даже не поблагодарил. Стоило ему сказать одно только слово, устами его тотчас заговорили бы миллионы, на всех языках. Живые. И мертвые тоже.
ГЛАВА XV
Заваруха началась так: кто-то бросил хлебным шариком в Речио. Попал прямо в ухо. Знали очень хорошо, что он разозлится страшно, вот нарочно и целились. У Речио покраснел затылок. Раз! Еще один хлебный шарик. Речио оглядел нас всех, все столы подряд, каждому заглянул в лицо.
— К-к-к-ког-да я уз-з-знаю, к-кто эт-т-то, — от ярости он заикался больше чем обычно, — т-т-т-то он у м-м-ме-ня…
С другого конца столовой — еще несколько выстрелов. Речио выкатил остекленевшие глаза, не долго думая, схватил здоровенную булку и запустил прямо в физиономию Чико Головастому. Чико, не виноватый ни сном ни духом, тотчас швырнул в ответ кусок хлеба и попал Речио в грудь, а рикошетом — в тарелку с тушеным мясом, взлетел фонтан брызг. Речио поднялся, большими шагами, не спеша, подошел к Головастому и вылил ему тарелку супа in idem[89]. Тут уж пришлось вмешаться остальным. Головастый фыркал и размахивал руками; Речио заикался, красный, как редиска. Драка разгоралась, с разных сторон летели куски хлеба, овощи всех сортов мелькали в воздухе, будто метеоры.
Хозяйка, венгерка с густыми бровями и такими широкими бедрами, что могла бы, наверное, родить теленка, выкрикивала непонятные слова, несла какую-то тарабарщину; до чего, как подумаешь, сильны национальные предрассудки — хозяйка никак не могла взять в толк, что молодые люди всего лишь невинно развлекаются; надо же им как-то излить бьющую через край энергию, вот и устроили потасовку. По лицу хозяйки видно было, что она всерьез опасается, как бы дело не кончилось поджогом ее дома.
Тут Головастый стащил с себя рубашку, обильно изукрашенную прилипшей лапшой, свернул в шар и метнул в Речио, но проклятая рубашка распласталась на лету и опустилась на голову Пепе Карреры, получилось нечто вроде тюрбана. Турок Хамид взобрался на стул и стал убеждать нас вспомнить о Стокгольмском воззвании. В углу запели мексиканскую песню. Речио твердил сплошное ка-ка-ка-та-ра-та.
Я в тот день прямо как с неба свалился во все это. Вернулся из Арики и только что вышел на улицу, как тотчас встретил Чоло Хименеса; он и пригласил меня позавтракать. «Наши студенты обнаружили на Аламеде, против Католического университета, некую обжорку, притом очень дешевую, — рассказывал Чоло, — хозяйка верит в долг. А сегодня вторник, и там подают гуляш! Осуна-Крысолов нанялся расписать стены обжорки, договори-ись, что вместо платы хозяйка будет его кормить, не удивительно, что работа его длится целых два года».
Убедительнее всего подействовало на меня упоминание о гуляше. Когда я приехал, выяснилось, что рацион в пансионе, где я жил, еще сократился; теперь мы питались как индийские факиры или как балерины. Инфляция почти полностью съедала пенсию дона Просперо, и в соответствии с принципами государственной экономики нам предстояло содействовать выравниванию национального платежного баланса. И вдобавок в этой обжорке можно, наверное, встретить кого-либо из знакомых. Маркиза, например.
Однако нет, Маркиза там не оказалось. И гуляш нам тоже не достался. Артиллерийский огонь стал ураганным; тогда венгерка подняла здоровенные, как у грузчика, кулаки и громовым голосом объявила, что больше никому никакой еды не даст. Общий крик перешел в дикий вопль. Двести Тарзанов, воющих одновременно, — просто пустяк сравнительно с тем, что тут поднялось.
— Мы уходим! Мы никогда не вернемся сюда! Можете лопать свой гуляш сами!
Венгерка отвечала, по всей вероятности, страшными мадьярскими проклятиями, а мы ревели все хором:
— Гуляш! Гуляш! Гуляш!
Все это напоминало футбольный матч. Мы орали, колотили по столам кулаками, локтями, ложками.
Веселье было в самом разгаре, когда вдруг — молчаливая отрешенность, слабая улыбка — появился Лучо. Он, кажется, ничуть не удивился, застав такое. Постоял немного на последней ступеньке лестницы и тотчас же двинулся вперед, нагруженный целой кучей книг; он переходил от стола к столу, не обращая никакого внимания на шум и крики. Лучо раздавал книги. Не как попало. Все было, по-видимому, обдумано заранее. Этому достался Анибал Понсе, тому — Мариатеги. И Макс Беер, и Меринг… Лучо не говорил ничего. Просто подходил, клал на плечо руку и давал книгу.
Любопытно, что мимо меня он прошел дважды, но не заметил, так был погружен в свое занятие. Или, может быть, не ожидал встретить меня здесь. А я сам постеснялся его окликнуть. Получится, будто я боюсь, как бы он не обошел меня подарком. Некоторые благодарили Лучо, некоторые удивлялись, все ведь знали, как нежно любил Лучо свои книги, остальные же вообще ничего не замечали, увлеченные скандалом, который все разгорался.
Лучо роздал книги и с тем же выражением на лице пошел к выходу. Возле лестницы остановился, повернулся, медленно обвел всех взглядом. Я подумал, что теперь-то он меня узнает — Какое-то время он на меня смотрел. Но нет. Какой странный сегодня у Лучо взгляд. Очень странный. Скользит рассеянно по лицам.
Сильно озадачил меня этот его взгляд. Молча смотрел на нас Лучо, и я понял вдруг, что хоть все мы и живем одной жизнью, однако жизнь каждого — сама по себе, неповторимая, особая. Свет лился из глаз Лучо, такой свет стоит над болотной водою, когда начинает смеркаться, легкий озноб пробегает тогда по спине, и ты догадываешься, что природа тоже может быть порочной и коварной.
Я хотел сказать все это Чоло, но он не слушал. Парламентеры, посланные на переговоры со Старой Балатоншей, объявили, что удалось достичь соглашения, заключено перемирие, но прежде, чем будет подан гуляш, она требует прекращения огня и чтоб мы подобрали разбросанные на полу объедки. Одни согласились, другие — нет. Однако по столам стучать перестали, шум постепенно утих, словно туман в долину, спустилась мирная тишина и окутала нас.
И вдруг — страшный пронзительный скрежет. Долгий-долгий. Машина затормозила здесь, рядом, под самыми окнами.
Чоло вскочил, подбежал к окну, выглянул и молча, с искаженным лицом, кинулся вниз по лестнице. Сердце мое бешено заколотилось. Я бросился вслед за Чоло, прыгая через три ступеньки. Остальные толпой, теснясь и толкаясь, — за нами.
Он лежал посреди улицы между двух угольно-черных длинных полос от колес отчаянно тормозившей машины. Лежал на боку, глаза полузакрыты, прижался щекой к асфальту; рука отброшена в сторону, прямая, оцепеневшая. Пальцы чуть согнуты, словно Лучо хотел схватить что-то.
Туфли свалились, видимо, от удара, отлетели в сторону; немного подальше смятая в гармошку машина — врезалась в столб.
Люди бежали со всех сторон. Мы с Чоло перевернули его на спину. Крови нигде не было видно. Когда переворачивали, вывалился из кармана бумажник, разлетелись деньги, какие-то листки. Я увидел его удостоверение личности, поднял, спрятал. Ньято Кастро пробрался сквозь толпу, встал на колени, приложил ухо к его груди. Я в ужасе смотрел на Ньято, он все слушал с бесстрастным лицом. Никогда еще не испытывал я такого чувства — сердце словно падало, мучительно, тошно. И столько людей вокруг, и все смотрят, будто огромные стволы, а вместо ветвей — лица, деревянные маски. Подошел полицейский, спросил, что-то ему ответили. Стволы принялись плясать, маски кривлялись. Самая страшная — Ньято, он бледнел все больше, стал совсем серый и вдруг поднялся и ушел. Ну и хорошо! А то бы я, честное слово, не выдержал, дал бы ему в морду.
Нам не надо ничего говорить. Не надо. Правда, Лучо? Мы и так понимаем. И ты, конечно, тоже. Мы и так понимаем. Потому-то Ньято и ушел, не сказав ни слова. Послушал тебя, глянул на нас со своим идиотским высокомерием и ушел. Ну и не надо, правда ведь? Мы и так понимаем.
Среди стволов я вижу мать, она лежит мертвая, а отец стоит на коленях у кровати и расчесывает ей волосы. Кто-то рыдает. Ах, да, это Турок. А Чолито трясет меня за плечо, кажется, уже давно, да, конечно, давно. Он показывает мне розовый листок со штампом, с печатями и что-то еще, напечатанное на машинке. Чолито хочет, чтобы я прочитал, я читаю, только не пойму ничего. Я не могу — отец все еще расчесывает ее волосы. Всю ночь он расчесывал ее волосы, а южный ветер яростно бился в стены нашего деревянного домика на берегу залива в Арауко, и стены трещали. А я сидел на скамеечке в ногах кровати. Мы были одни. Отец расчесывал ее волосы, слезы текли по его лицу, а ветер выл и стены трещали.
Взревела сирена, я вздрогнул. Движение остановилось, машины гудели. Один какой-то сукин сын хотел прорваться, но мы встали стеной, мы били ногами по крыльям машины, и он не решился даже выйти. Турок рыдал, крепко сжимая мою руку, кто-то сказал, что водитель умирает; толпа понемногу редела, появились санитары.
Его подняли, положили на носилки, словно тряпичную куклу, закрыли до пояса простыней. Я хотел крикнуть: «Не надо! Подождите!» — и не мог. Торчали из-под простыни ноги, дырявый носок и пятка, розовая, такая розовая пятка. Никто меня не слушал, а может, я ничего и не говорил. Я видел, ясно видел, как он стоит в дверях кухни в своем пестром фартуке и просит меня, чтоб я не уходил, чтоб остался, посидел немножко… Машина «Скорой помощи» сорвалась с места, умчалась с бешеной скоростью. Мне что-то говорили, да отвяжитесь вы, все равно я ничего не слышу, люди постепенно расходились, многие столпились вокруг машины, в лепешку она разбилась, в столб врезалась. А я все стоял на том же месте, хотя ноги у меня подгибались. Не надо нам ничего говорить, мы и так понимаем. Все ясно, мы же видели две полосы, такие длинные-длинные, черные. Машины ринулись лавиной, я едва успел отскочить на тротуар. Уже тогда все стало ясно: ты молча, отрешенно обвел нас скользящим, рассеянным взглядом. Но скажи мне, Лучо, вот теперь, когда мы остались одни, скажи: зачем ты протягиваешь руку? Что хочешь схватить? Скажи, что тебе надо, Лучо, я найду все, что ты пожелаешь, я принесу тебе. Вот ведь как оно бывает, Лучо: именно сейчас, когда ты влюбился, как дурачок. Ты даже брал к себе в постель ее медвежонка. Так вот, значит, в чем дело. Да, конечно, вот почему ты протягиваешь руку. Вот чего тебе надо. Не отрицай, Лучо, я теперь понял. К ней тянешь ты руку. Обнять ее, ощутить, что она рядом. В последний раз.
Ты всегда был скрытным, не очень-то рассказывал о своих делах. Ну, а теперь скрывать нечего. Давай выкладывай все как есть, Лучо. Скажи, чего ты хочешь, я добуду и принесу тебе, Лучо.
Оказывается, я иду по Аламеде вниз. Не знаю, как это получается, ведь ноги совсем не слушаются меня. Никогда не случалось мне ходить так странно, зато постепенно Я понял все: этот последний твой взгляд, когда ты остановился на лестнице, он был полон печали. Кто тебя обидел, Лучо? Взгляд твой полон печали, просто печали. Печаль может стать такой большой! Конечно, когда она становится большой, ее называют как-то иначе. Но все равно это печаль. Только очень большая. Да, я теперь понял — впервые в жизни довелось мне видеть такую печаль; в твоем взгляде, Лучо, тогда, на лестнице.
Кто расскажет о тебе ей? Где она сейчас, так поздно? А сейчас поздно? Вдруг кто-нибудь из твоих земляков встретит ее случайно на улице, возьмет да и выложит все разом, мы ведь так огрубели. Ну, а с другой стороны, как ни вертись, а ведь все равно придется сказать, и всегда оно получается разом. Разве можно сказать такое не разом? Никак ведь не выйдет. Не получится, чтоб не разом, не получится… Я, конечно, мало что помню. Я же маленький был, помню только мамины волосы, длинные, до пояса, и как она уши мне мыла, и как сказки рассказывала про всяких зверюшек. Да, то была печаль. Печали был полон последний твой отрешенный взгляд, зеленоватый свет над болотной водою. Дважды глянул ты на меня, второй раз смотрел долго, но не узнал. Ты, наверное, смотрел внутрь себя, Лучо. В свою душу. И не спорьте со мной, то была печаль, я знаю; погруженный в печаль, шел ты через улицу, отрешенный, не думая о них, а они мчались на бешеной скорости в своих машинах, беззаботные, безрассудные, свирепые…
Я дошел до холма Санта-Лусия, поднялся по узкой тропинке и сел на скамью. К счастью, скамейка была свободна. Я сел и закурил. Никого на ней не было, я и сел. На другой скамейке, рядом с моей, хихикала стайка школьниц, а напротив сидела старушка в черных высоких ботинках, в ярком платке на голове и со множеством пуговиц на платье. Но на этой скамейке никто не сидел, я подошел и сел. Почему я сел на эту скамейку? И зачем я все спрашиваю и спрашиваю — почему да отчего? Не надо спрашивать себя, почему делаешь так, а не иначе. Ну, поднялся на холм, ну, сел на скамью. Увидел, что никто там не сидит, на других сидели, а эта свободная, подошел и сел. Ну и все.
А может, ты сел потому, что не хотел идти дальше по Аламеде? Прежде ты бы спустился по Аламеде до самого «Рамис Клар», зашел бы туда выпить чашечку кофе. В это время она всегда приходит в «Рамис Клар». Но кофе не пьет, всегда кто-нибудь угощает ее вайной[90]. Ей нравится, что от вайны остаются над губой усики, и нравится, что все любуются ею и ее усиками. Здесь собираются молодые поэты, журналисты, актеры Экспериментального театра.: И всегда кто-нибудь ее приглашает, она вмешивается; в беседу и говорит о книгах и спектаклях, которые никогда не читала и не видела. Сколько раз смотрел я на нее, а она радовалась, что привлекает внимание своими усиками. Но с этого дня я ни разу больше не был в «Рамис Клар». Вот почему, наверное, не пошел я вниз по Аламеде, а взобрался на холм и сел на скамейку.
Старушка поднялась. Солнце раскидало по дорожке большие золотые круги, старушка шла, топча их черными ботинками. В смятении, скорбя, радуясь и вновь скорбя, я опять увидел отца, он сидел без пиджака на большой супружеской кровати с бронзовыми шарами на спинке. Мы были одни, южный ветер завывал в щелях. Отец разбудил меня среди ночи, и теперь я сидел на скамеечке в ногах кровати и глядел на него; и еще я глядел на шарики, такие блестящие, красивые, сколько раз я прежде играл ими. Я ведь не понимал, что случилось. Но вот отец тяжело поднялся, взял щетку и стал расчесывать ее волосы. Прошел час, два, три. Он все расчесывал ее длинные каштановые волосы, шелковистые, прекрасные, а ветер сотрясал наш ветхий деревянный домик, зеленый домик на самом верху, над морем Арауко, над черно-свинцовым морем, и черно-свинцовое море Арауко корчилось от боли.
Машины неслись в обе стороны по Аламеде. Я стал считать желтые, зеленые, серые… Больше всего зеленых. На втором месте — синие.
Та, что тебя убила, Лучо, была синяя, надо запомнить.
Что за чепуха!
ГЛАВА XVI
Было уже темно, когда я пришел в морг. Еще днем я узнал, где он, но идти не хотел. Лучше вечером, я решил пробыть около него всю ночь. На тротуаре стояли земляки Лучо, серьезные, церемонные, провожали делегацию от студентов медицинского факультета. Я тихонько пробрался позади них.
Асфальтовая дорожка перешла в узкую тропку между деревьями, листья, будто жестяные, звенели, стонали от ветра, тропка вывела меня во двор, неасфальтированный, большой, пустынный. Что за проклятое место! Всякий ведь знает: сорная трава растет везде, а здесь — нет; ничего, ни одного стебелька. В глубине двора — огромная дверь, двустворчатая, облупившаяся.
Так странно: восьмиугольное помещение, высокое, стены зеленовато-серые, одна-единственная лампочка, окутанная паутиной, желтой точкой мигает под потолком. Потолок сводчатый. И в затхлом воздухе, почти физически ощутимый, висит ужас. И воет.
На грубо сколоченных козлах стоит гроб. Собрали деньги, несколько долларов удалось вытянуть из посольства (фамилия у Лучо громкая), гроб купили богатый, выстланный внутри белым атласом, снаружи лакированный. Только зачем он лилового цвета? И стекло квадратное вставлено в крышку, если кто захочет посмотреть на Лучо.
Пришлось собрать всю свою волю, чтоб подойти. Белым платком подвязана челюсть. Нос посинел, заострился, в ноздри вложены кусочки ваты, один вываливается, торчит. Впервые заметил я, какой у Лучо чистый высокий лоб.
Сесть здесь можно только на жесткий цементный пол. Опереться — только на сырые стены.
На оставшиеся деньги купили место на городском кладбище — бедную нишу в стене. Как хорошо, они оказались рядом с месье Гийяром; все-таки хоть знакомый. И еще послали телеграмму семье. Тотчас пришла телеграмма с оплаченным ответом: вылетают с первым же самолетом, заберут Лучо, отвезут в Карабобо и там похоронят. Чтобы их ждали всенепременно. И подпись папаши, полностью, с титулом — вице-министр сельского хозяйства. Вот и этого тоже Лучо никогда не говорил. Наверное, у них там фамильный склеп, пышный, с огромными мраморными ангелами. Но по каким-то там правилам или распоряжениям отложить похороны не позволили.
К козлам прислонен лишь один венок, большой, из красных гвоздик. К венку приколот листок, напечатано на машинке: «От твоей партии». Венок принесли двое рабочих. Поставили и ушли, ничего не сказав. Ах, нет, не сразу ушли, смотрели долго на Лучо, а потом ушли.
Рядом со мной оказались знакомые: перуанец и уроженец Коста-Рики. «Сердечный спазм, — говорил костариканец. — И мозговая травма. Так написано в медицинском заключении». А потом сообщил, что ему удалось присутствовать при вскрытии, обычно не пускают. И счел необходимым пояснить: «Мне дали особое разрешение».
А Лучо не мог заставить себя ходить на вскрытия. Как-то он сказал мне, что решил специализироваться в педиатрии. Детей, кажется, не вскрывают.
У Лучо была врожденная киста, а внутри кисты — зародыш.
— Как же это?
— Да вот, ошибка природы. Должны были родиться близнецы, но второй так и остался внутри кисты.
— И какой же он, вроде куклы?
Тоном профессионального превосходства:
— Да нет же. Просто уплотненная ткань. Как трехмесячный плод.
Это меня потрясло. Он ведь уже умер, Лучо, и вот как будто еще раз снова его убивают. И маленький его братик, что так мудро все понял заранее и решил вовсе не появляться на свет. Зачем рисковать? Может быть, здесь источник печали, может, оттого казалось мне, будто янтарная капля покатится сейчас по аристократическому носу Лучо?
Люди входили и все одинаково, будто выполняли какой-то обряд, едва перешагнув порог, останавливались в неподвижности, в смятенном недоумении обводили взглядом мрачную залу. Потом тихонько приближались к гробу. Склонялись низко над стеклом, вставленным в крышку — лампочка горела тускло, два больших канделябра в головах лили слабый мертвенный свет. Стояли, опустив голову, не зная, куда девать руки. Что они думали в эти минуты? Потом отходили, искали куда сесть. Садились вдоль стен, потом узнавали в полутьме знакомых, пересаживались поближе к ним.
Перед моими глазами все еще стоял профиль Лучо. Однажды он попросил у меня сигарету и закашлялся до слез, весь покраснел. Но особенно ясно помню его сияющее лицо, когда он рассказывал, что влюбился по уши, как сумасшедший. «Это граничит с безумием, друг, граничит с безумием…» И еще помню я Лучо на софе, погруженного в свою «зверскую» гистологию, а на коленях у него сидит плюшевый медвежонок.
Люди по-прежнему, как бы выполняя ритуал, говорили шепотом. Им все еще было страшно. Но мало-помалу голоса становились громче. Надо же хоть чем-то, хоть звуками человеческой речи наполнить это огромное мрачное пространство.
В девять пришел Чоло, мы сидели вдоль стен, и свободного места не было. Нас много. И все мы любили Лучо, крепко любили.
Чоло все что-то рассказывал, а я никак не мог его понять. Как в головоломке, не хватало одной какой-то детали, жизненно важной, или, может быть, детали не подходили одна к другой.
— Понимаешь, парень, венесуэльская полиция, она все, видимо, знала. Они всегда друг другу сообщают. Совсем уже не остается ни одной свободной страны, где можно учиться медицине.
Я перебил его. Я ничего не понимаю. Пусть расскажет все с самого начала.
— Ладно. Так вот, когда Лучо получил предписание…
— Какое предписание?
— Да я же тебе его показывал.
— Когда? Ничего ты мне не показывал!
— Показывал! Ты его прочел. Помнишь, документы выпали из бумажника, я поднял и тебе показал. Розовая такая бумага. Ну, как ты не помнишь!
Только теперь я стал припоминать. Как в тумане. Розовая бумага, да, кажется, я ее видел. Но я ее не читал.
— Конечно, читал! Предписание покинуть страну.
В сорок восемь часов.
Целый день я ломал голову, пытаясь понять, почему Лучо раздарил свои книги. Теперь, по крайней мере, кое-что начинает проясняться.
— Я был уверен, что ты знаешь.
— Нет, ничего я не знал. Ничего.
— Сначала его собирались посадить в первый же самолет, летевший в Каракас. Это удалось приостановить. За ним пришли на рассвете и по чистой случайности не застали. Лучо не был гулякой, но, кажется, именно эту ночь провел где-то вне дома. Они вспороли тюфяки, подняли паркет. Даже распороли брюшко игрушечному медведю, такие сволочи. Но до сих пор точно неизвестно, что они искали… Мы как только узнали об этом, сейчас же взялись за дело; Лучо посоветовали, чтобы он сам пошел в полицию, но, конечно, не один, а с неким сенатором, он настроен радикально и оказывает такого рода услуги. Ну и удалось продлить срок его пребывания здесь и добиться разрешения выбрать страну, куда он хочет уехать. Но пришлось делать за Лучо все. Абсолютно все. Он ходил как сомнамбула и думал только о том, кому какую книгу отдать. Остальное его словно бы вовсе и не касалось. Правда, о тебе он спросил, ты не пришел встретиться с ним, как вы условились, и это его встревожило. Он просил передать тебе книгу, стихи, Амадо Нерво, кажется. Она у меня дома лежит.
У меня просто голова кругом пошла. Почему такой дотошный обыск? Кто-то стукнул? И за что они так злы на Лучо? Может, он замешан в чем-нибудь серьезном? Если это так, он, естественно, не мог ничего мне рассказывать.
Вот почему принесли на его гроб венок из гвоздик. Не каждому такой венок посылают.
— Как думаешь, друг, что будет? — Чоло заговорил еще тише. — Устроют перепись для иностранцев? Все перепугались. Агудо уже вещи продает.
— Не знаю, не спрашивай меня, ничего я не знаю.
— Если только начнут, я у них, наверное, на очереди второй после Лучо…
Последние слова вырвались у Чоло нечаянно. Я ничего не сказал, но удивился ужасно — никак я не думал, что Чоло тоже всерьез замешан.
Перуанец все тянул шею, пытался услышать, о чем мы говорим; я разозлился, предложил Чоло выйти отсюда, мы поднялись. И тут дверь распахнулась настежь.
Маркиз был неузнаваем: в длинном коричневом пальто, твердым шагом, уверенно вошел он в зал. Слишком уверенно. Да, может быть, слишком. Другие входили неслышно, старались не привлекать к себе внимания, сгибались под тяжестью страха; Маркиз же изо всех сил стремился показать, что намерен вести себя по-другому, меня, дескать, покойничками да такого рода спектаклями не запугаете.
— Привет, — бросил он небрежно; никто не ответил. К тому же Маркиз оставил дверь открытой.
— Закрой дверь, негодяй, дует. — Но пришлось кому-то другому встать и закрыть дверь.
Все глядели на Маркиза. Не выпуская изо рта сигареты, он подошел к гробу; как раз в эту минуту одна свеча погасла. Маркиз вырвал из канделябра еще одну, поднес близко, наклонил над крышкой, чтобы лучше видеть, воск закапал на стекло. Послышались возмущенные голоса. Кто-то спросил гневно:
— Слушай, а это не Фебреса пальто?
— Кажется его.
Все смотрели на Маркиза, разглядывали пальто. Конечно, это пальто Лучо, конечно же!
— Вот сволочь, хуже ворона, — воскликнул тот же голос. — Надо же, только того и дожидался.
Маркиз высоко поднял свечу:
— Кто это сказал?
— Я. И что дальше?
Маркиз вглядывался в темноту настороженно, будто дикий зверек.
— Я, — решительно повторил тот же студент.
— А, ты. Я так и думал. Больше некому, вонючий ты развратник, клоп из постели продажной девки! И ведь из чистой зависти сказал, сам-то просто не догадался.
Шум, крик, скандал — до небес. В углу несколько человек держали студента, он вырывался, взбешенный; взрыв негодования, яростный свист. И над всем этим визгливый голос:
— Лучо больше не холодно, болваны! А ты не пошел за пальто, конечно, только потому, что сдрейфил, подумал, что за квартирой, наверно, наблюдают. — Маркиз в волнении взмахнул свечой, свеча погасла. Темнота сгустилась. Маркиз жестикулировал, будто кто его за ниточки дергал, поворачивался то в одну, то в другую сторону: — Тоже мне, революционер из пивной! Демагог, выродок! А как дойдет до дела, так от первого взрыва полные штаны напустит! Поезжай на родину, зараза. Возвращайся туда, понюхай, что значит в тюрьме сидеть. Сопли утри, прежде чем со мной разговаривать.
Как ни странно, свист стал затихать. Студент все рвался в драку, но как-то уже не так решительно. Я воспользовался заминкой и спросил:
— А как она, Маркиз?
Он тотчас повернулся, гибкий, как кошка: — А, Педро! Я тебе потом расскажу. — И снова обратился к студентам: — Чего же вы хотите, детки? Похоронить его в пальто? Этого вы хотите, идиотики?
Удивительное дело — Маркиз стал хозяином положения. Теперь он укреплял свою позицию, издевался.
— Вам не пришло в голову подумать перед лицом смерти о чем-нибудь более важном? Ну-ка! Хоть какая-нибудь мыслишка не завелась в башке? Да нет, где там, мозгов не хватает. Только на то и годитесь — насчет вещичек сообразить!
Глухое ворчание. При свете последней свечи тень Маркиза кривлялась, плясала по стенам. Наконец он завернулся поплотнее в пальто и вышел, снова оставив дверь раскрытой настежь.
Что за удивительный человек! Может, он зашел сообщить Фиолете, а заодно уж воспользовался случаем и взял пальто Лучо? А вдруг и наоборот? Вдруг за всем этим скрывается злоба, стремление захватить добычу, тонкая месть?
Дверь опять закрыли. Стало душно. Я встал.
— Знаешь, Чолито, мне надо побыть одному. — И вышел во двор.
Конечно, он тут. Стоит, прислонясь к стене. Один в пустынном, почти нереальном дворе, где нет ни единой травинки.
Я стал рядом, тоже прислонился к стене. Несколько минут мы молчали. Время от времени Маркиз вытягивал шею, вглядывался; я проследил его взгляд — он смотрел на дверь.
— Нет, не выходит, — пробормотал сквозь зубы. — Этот подлец, конечно, разобьет мне морду, но ты посмотри… — С невиданной быстротой Маркиз выхватил что-то из кармана, звякнул металл, словно молния, сверкнула в его пальцах трехдюймовая сталь.
— Толедский; красиво, правда?
— У кого ж ты его стащил?
— Нет, я купил. После того, как меня ограбили. Потребительское общество со мной бы, конечно, завяло: наверное, это первая вещь, которую я купил за многие годы.
Он попросил прикурить. Я не знал, что сказать, не хотелось еще ни о чем разговаривать. И мы снова замолчали.
— А ты что об этом думаешь? — спросил он вдруг вызывающе и толкнул меня локтем.
— Я?
— Да, ты. Здесь же никого больше нет, не правда ли?
— Ну, я бы так не поступил. Не могу объяснить тебе толком почему, а только я б этого не сделал.
— Ты бы поступил точно так же. На моем месте ты непременно поступил бы так же. — Он говорил быстро, захлебываясь. — Мораль — продажная девка, везде приспособится, а вреда я никому не принес.
— Кто знает.
— Ну почему? Почему? Кому от этого плохо? Скажи, кому?
Он яростно схватил меня за рукав.
— Тебе самому. — Я старался говорить спокойно. — Тебе. Ты вот сейчас ощетинился весь, как еж, а на душе у тебя скверно.
Он умолк. Огонек его сигареты вздрагивал в темноте. Я слышал, как тяжело он дышит; мне стало не по себе. В последние дни резко похолодало, по утрам заморозки, а уж кому, как не мне, известно, что это за вкусный коктейль — голод да холод. Так ведь часто бывает: человек ищет всякие сложные глубокие объяснения своим поступкам, а главную причину, самую что ни на есть простую, грубую, — ее-то и не видит.
— Я про тебя всех спрашивал. Куда ты девался?
— Ты вот куда девался? — Его вызывающий тон был неестественным, и он сам это чувствовал. — Я заходил к тебе в пансион, мне сказали, что ты уехал на юг, навестить отца. Что случилось? У старика тоже обнаружился рак?
Я не улыбнулся.
— Нет. Я сказал в пансионе, чтоб всем так отвечали. Я писал. Мой герой, кстати говоря, похож на тебя. Немного.
— А, нет, ты уж не суйся! Тебе не справиться! Этого героя предоставь мне.
— Но я же сказал — не буквально такой, как ты. Чуточку похож, только и всего.
— Ну, я догадываюсь — твой герой романтичен и груб. Это главные твои недостатки.
— И вовсе нет, вот увидишь. Он скорее немного циник.
— Циник? Я не циник. — Он улыбнулся. — Если человек попадает в мясорубку, из него можно потом сделать отличную котлету. При чем тут цинизм?
Холод становился все злее. Я прыгал, стараясь согреться.
— А, ты, значит, предпочел стать фрикаделькой?
Долгим взглядом посмотрел на меня Маркиз, потом пожал плечами, плюнул. То и дело он выпрастывал руки из рукавов — очень уж были они ему длинны. Вдруг дверь скрипнула. Я почувствовал, как Маркиз напрягся.
— Успокойся, Он не выйдет.
— Пусть бы вышел.
— Ну нет, зачем же. Тебя опять посадят. Лучше вот что скажи: ты, значит, не циник; ну а кто ты, как ты сам считаешь? Звезда Андов? Второй Бакунин? Или чудо-ребенок, скороспелый гений? Гениальность с годами пропала, а ребенком ты так и остался.
Маркиз лукаво поглядел на меня. Вот такой разговор он любил, ловкий фехтовальщик, забияка, герой в драных штанах, родиться бы ему в другом веке.
— Что значит, кто я? Я — это я. Чего же еще? Мне больше ничего не надо. Многие всю свою жизнь словно стенку возводят, кладут один за другим кирпичики, делают всякие мелкие пакости. Я так не желаю. Да перестанешь ли ты прыгать, поганец!
Маркиз говорил уверенно, но под конец голос его слегка прервался. Он отошел на несколько шагов. И вдруг сказал тихо, словно самому себе:
— Я — дерьмо.
— Ну, зачем же преувеличивать, скинь немного.
— Значит, полудерьмо. Еще хуже.
Черт возьми, я совсем растерялся. Да и как тут не растеряться — такая едкая горечь в голосе Маркиза! Может, оттого, что смерть близко. Смерть, она любит выделывать такие штуки с людьми, да и умеет; забавляет ее, когда слетают с актеров маски и вдребезги, всем на диво, разлетаются театральные подмостки.
Лицо Маркиза мучительно исказилось:
— Хочешь, я тебе скажу кое-что? Я выложил все свои карты. И ничего не вышло: В один прекрасный день я завою от одиночества и подохну, да так и буду лежать, желтый, поганый. Меня не хватает даже на то, чтоб банк ограбить. Или старуху пристукнуть, как Раскольников. Но моей вины тут нет. Виновата Америка. Дикая, прекрасная, любимая, жуткая наша Америка. Я в ней — бездельник, отверженный. А какой мне дан выбор? Если ты не сгибаешься в три погибели, не продаешься, если хочешь сохранить хоть каплю человеческого достоинства, с тебя сдирают шкуру. Я тебе никогда не говорил: мою книгу рассказов хвалили все критики, но даже сотню экземпляров не раскупили…
— Разве в этом причина?
— Да! Да!
— Нет, Маркиз, это не оправдание. И не объяснение. Я думаю, что тебе надо, обязательно надо вернуться на родину. Жить со своим народом. А здесь, хоть и больно так говорить, в твоем существовании есть что-то искусственное. Ты — лишний, нарост. И от этого тебе же скверно.
— Вернуться? — Он яростно тряс головой. — Вернуться в Венесуэлу, потерять безымянность, которой я наслаждаюсь здесь? Ведь здесь, к счастью, никто не знает даже моего имени! — Он поднес вдруг руки к моим глазам. — Видишь, какие у меня руки? Видишь? Кожа с пальцев слезла. Один ублюдок изобрел некую жидкость — нафталин с какими-то там кислотами, и вот, чтобы заработать на хлеб, я вынужден каждый день опускать в чан с этой жидкостью картинки с изображением святого Антония. Получается прелестно, блестят лучше не надо. Потом хожу из квартала в квартал, из дома в дом: «Вот святой Антоний, сеньорита, покровитель девиц на выданье. А кроме того, вы можете положить картинку в белье, от клопов, от моли… Вам отдам дюжину за…» Получаю семь песо с каждой проданной дюжины. — Он все тряс головой. — Вот как обстоят дела, друг. А заниматься этим в Каракасе… Представляешь? Так что можешь оставить свои советы при себе.
Маркиз закрыл глаза. Тоска по родине — терновый венец, всюду как тень идет она за всяким странником, за всяким скитальцем, даже за самым мужественным и твердым. Она садится с ним рядом за стол, склоняется бессонными ночами над его изголовьем. Сколько раз видел я, как она сидит, забившись в самый дальний угол, в домах испанских республиканцев. Наверное, и Маркиз тоже тоскует по родине. Стоит, засунув руки в карманы, дымит сигаретой; где он сейчас? Может, бродит по выложенным брусчаткой мостовым старого Каракаса?
— Ладно, Маркиз, делай что хочешь. Оставайся у своего чана с жидким нафталином. Оставайся, но все-таки надо же хоть немного разбираться что к чему. Надо ненавидеть тех, кого надо, и все тут.
— Ах, так? Но я же, на твой взгляд, сумасшедший анархист, так какое тебе дело? — Маркиз дрожал. — И ты из меня уже выжал все; что мог. Я тебя научил писать. Теперь оставь меня в покое. И не мечтай стать моим Пепе Грильо. Я уже не в том возрасте, мне ангел-хранитель, что сидит на плече, ни к чему.
Язвительно говорил Маркиз, а взгляд был наивный, детский. Умоляющий. Надо же ухватиться за кого-то, надо же с кем-то разговаривать, спорить, ругаться. Все его крошечное тельце, окутанное длинным пальто, трепетало от ужаса. И в самом деле: он окружен со всех сторон, спасения нет. И я тоже не могу помочь ему выбраться из трясины, не знаю, как вывести его на свет, чтоб не плутал по темным слепым переходам. Одна осталась ему дорога, один только вижу я для него путь, озаряемый мертвенно-бледными молниями, опасный, гибельный путь. Маркиз молчал, жадно сосал сигарету.
— Скажи-ка, ты больше ни разу не видел того типа, которого прислал твой папаша? Я ведь так и не знаю, чем кончилась эта история.
Маркиз присел на корточки, стал засовывать обратно вылезший из туфли клочок газеты.
— Я ходил в авиакомпанию, — сказал, поглядывая на меня снизу, — хотел взять билет и продать одному земляку, но они сказали, что билет персональный, без права передачи. Мне бы следовало это предвидеть. Мой старик всегда был заразой.
Он поднялся, мы принялись расхаживать по двору. И вдруг, словно сговорились, оба одновременно начали подбрасывать носком туфли камешки.
— Слушай, — умоляющим тоном, — ты не думай плохо об этой девочке.
— О ком?
— Не спрашивай. Ты же знаешь.
— А! Нет, я о ней плохо не думаю.
— Не надо, не смей. А то я ведь знаю вашего брата. Но об этой девочке — не смей. О ней — нельзя. Я знаю, что говорю. Она — просто звереныш. Чистый звереныш. Я пришел на квартиру Лучо и сказал ей, и пришлось вызвать «скорую». Конечно, когда ее увезли, я опять поднялся наверх; старуха-консьержка рылась в чулане. Тут-то мне и пришло в голову. Раньше я и не думал о пальто. Чем ей оно достанется, так уж лучше мне… Ну, что молчишь?
— Да, Маркиз. Может, ты и прав. Так, значит, она сильно расстроилась?
— Совсем расклеилась. Каталась по полу, царапала ногтями ковер. Потом вроде какой-то приступ с ней сделался, одеревенела вся. Я никогда не думал, что на нее так подействует. Ну, мы и вызвали «скорую».
Чтоб согреться, мы шагали все быстрее. Я пригласил Маркиза зайти куда-нибудь, выпить кофе.
Пустынные улицы, мутная луна плавает в мокром блестящем асфальте. Мы зашли в кафе на Аламеде, денег у меня было мало, но на черный кофе и хлеб хватило. В кафе тепло, безлюдно, хозяйка глядела на нас с материнской улыбкой. Вскоре Маркиз отошел. Перестал ершиться, лицо подобрело.
— Ты будь тем, что ты есть. Иди своей дорогой. — Маркиз совсем ушел в себя, спрятался как улитка в раковину, говорил словно откуда-то издалека. — Ты бросишь им в лицо упрек, обличишь их жестокость, их пошлость. Ты проклянешь их. Я это уже сделал в своей первой книге и больше не интересуюсь такими вещами. Я теперь экспериментирую… Тебе не приходило в голову, что если мы растворяемся в истории, то тем самым утрачиваем способность о ней рассказать? А что, собственно, мы можем рассказать такого, чтобы выразило нас полностью? Если бы нам было дано хотя бы сохраниться в виде некоторой неподвижной точки в постоянной смене вещей и событий… Но такой точкой мы никогда не станем, и, значит, единственное, что тебе остается, — это осознать себя как частицу движения. Ты не можешь выразить себя, сказавши: я есть, я существую, размножаюсь, ковыряю в зубах. Ты можешь сказать только одно: я включен в движение, в вечную смену. Только в этой вечной смене я существую, только в ней творю историю, но творю я историю тем, что растворяюсь в ней. Все это и так достаточно запутанно, но есть и еще кое-что: рассказать я могу лишь о том единственном, что мне дано, то есть о своем растворении в движении. А в таком случае что же, собственно, могу я рассказать? Разве глаз мой видит себя? Разве существует контакт, контактирующий с самим собой? Неужели ты не понимаешь, что мы дети собственных детей, мы творим историю, а история, которую мы творим, творит нас? Вот почему я сейчас хочу только одного: разобраться в механизме, во всех этих зубчатых колесиках и шестеренках. Единственное, что меня волнует, — это Время. Вы все верите, что и Время и Пространство — простые атрибуты материи. Но ведь материи-то нет! Есть только Энергия! Эйнштейн полагал, что Время — это четвертое измерение. Детский лепет! Время есть нечто большее. Неизмеримо большее. Подобно тому, как Пространство не есть простая протяженность, лишь вмещающая в себя материю, точно так же и Время… И потому проблема эта вовсе не для математиков и не для физиков. Вот Эйнштейна-то и не хватило. Время — это Энергия Бесконечной Длительности.
Зеленые глаза Маркиза сверкали, он словно обезумел, опьяненный собственным красноречием. Хватило денег еще на две чашечки кофе. Маркиз продолжал:
— Только Время порождает само себя. Только оно структурирует себя в своем разрушении. Между зубчатыми колесиками нет ничего, кроме Времени. А движение жизни есть всего лишь мутное тусклое зеркало, отражающее движение Времени. Но ты понимаешь меня хоть немного?
— Конечно понимаю.
— Врешь. Ничего ты не понимаешь. Но неважно. Время же занимает меня потому, что оно связано с другой проблемой — с проблемой языка. Человек создал язык, и язык создал человека; в своей надменности мы полагаем, будто мыслим и выражаем свои мысли с помощью языка, а на самом-то деле язык — это и есть мысль, это он незаметно мыслит за нас. Но язык — инструмент грубый, неточный. С того момента, как он стал членораздельным, рассыпался на отдельные составляющие его элементы, язык полностью утратил способность выражать жизнь в ее живом движении. Ощупью, еле-еле пытается он выразить настоящий момент, создать его образ. Чудовищное заблуждение. Никогда он его не выразит. Только оттрепетавшее ему доступно, отошедшее, высохшее, мертвое. Пруста это-то и интересовало, а меня — нет. Джойс пытался выразить жизнь в ее непосредственном течении. И тоже не вышло. Больше всего возможностей в этом смысле дает герундий, как его понимает Гарсиласо[91], как его чувствует Неруда, как звучит он в речи Мартина Фьерро[92]. В Венесуэле есть племя индейцев, они как научатся говорить по-испански, так вместо любого времени глагола употребляют герундий. Вот что меня сейчас занимает. Как в самом деле выразить жизнь в ее развитии? Как этого добиться? Как? Как? Как? Ужасно иметь талант, годный лишь на то, чтобы ощущать собственное бессилие! Ужасно, все ужасно, Педрито. Все! — И вдруг, я никак не ожидал такого, он лег грудью на стол, схватил меня за лацканы. — Тебя не могут выслать из страны, правда же не могут?
— Не могут.
— Ты уверен?
— Уверен. Нам такой привилегии не дают. Нас только в Писагуа посылают. Либо в Путре, на Андское плоскогорье, кормиться навозом гуанако. Там у меня будет довольно времени поразмыслить над проблемами, что так тебя волнуют.
Вышли на улицу; Маркиз поглядывал на меня с улыбкой — что-то, видимо, понравилось ему в последних моих словах, что именно — я так и не понял.
— Во сколько Лучо хоронят?
— Что-то около девяти, говорили.
— Я к девяти приду. Хочу поспать немного.
Я постоял, глядя, как он уходит. Все меньше становится, все меньше. Наконец совсем скрылся из виду. Я вернулся в морг.
Все говорили одновременно. Громко, нервно. И все на одну тему: о пытках. Каждый рассказывал либо о том, что довелось вынести самому, либо о том, что слыхал у себя на родине.
— Моего папу, — говорил светловолосый юноша, — заставили много часов подряд стоять на ободе автомобильного колеса. Железо врезалось в подошвы до самой кости.
Папа до сих пор хромает. Он и отправил меня учиться сюда, боялся, что меня схватят и станут его шантажировать.
Потом еще. Еще. Парагваец. Сальвадорец. Трудно даже представить себе все эти жуткие зверства. Казалось, на цементном полу морга лежали кучами в лужах крови изуродованные куски человеческого мяса, вырванные ногти. Слышались дикие вопли.
— Видимо, везде они пользуются одинаковыми приемами, — сказал в заключение Ньято Кастро.
— Да, так оно и есть, — отвечал я. — Учебник один. На английском языке, а примечания — по-немецки.
Последняя свеча вспыхнула и погасла. Словно это было каким-то знаком, все мало-помалу умолкли. И остались наедине с тишиной и скорбью. И потянулись часы, долгие-долгие.
Холод и сырость становились невыносимыми. Все тело болело. Кто-то предложил сходить за бутербродами. Собрали деньги, трое добровольцев отправились и возвратились примерно через час. Везде закрыто, оправдывались они. Принесли кофе в бутылках из-под кока-колы, к несчастью, почти совсем остывший. Досталось по трети бутылки на брата.
Я съел свои полбутерброда и заснул, вытянувшись на полу. Как ни странно, спал я без всяких кошмаров.
Проснулся, дрожа от холода; слабый молочный свет сочился из-под двери. Из пакетов от бутербродов и бечевок кто-то соорудил мяч, вышел во двор и стал гонять его. Несколько человек присоединились к игре. «Я тут! Пасуй на меня!»
Один за другим выходили из дверей замерзшие студенты, и наконец все оказались во дворе. Мяч один, а народу сколько! Но все мы носились по двору, делали совершенно немыслимые пробежки, забивали шикарные голы в воображаемые ворота. Это была потрясающая игра. И вовсе не обязательно бить по мячу. Главное — бегать, шуметь, прыгать, толкаться, махать руками, выкрикивать что-то бессмысленное. Если кому-то доставался мяч, он хватал его, прижимал к груди и летел во весь опор, словно играл в регби, а не в футбол. Наконец получилась куча-мала, мы повалились друг на друга, те, что оказались внизу, чуть было не задохлись.
Вставало солнце.
Взяли свое молодость, силы жизни. Вспыхнули вдруг беспричинной радостью, заискрились весельем. «Пасуй на меня!» — «Мне, мне давай!» Удар!
Каждый кричит что попало во весь голос. «Бей же, дурак!» «Го-о-о-о-о-о-ол!» Каждый скачет, мчится со всех ног.
И взошло солнце.
Ты прости нас, Лучо: солнце взошло.
ГЛАВА XVII
Выехали около десяти. На трех такси. О траурном катафалке и думать нечего. На крышу одного из такси взгромоздили гроб, привязали получше венок бечевками от нашего мяча. В конце пристроились несколько наших ребят на своих драндулетах. Самый лучший — без крыльев. А уж остальные — и того прекраснее! Мы расселись, как могли, кое-как втиснулись. Я — на втором такси, между шофером и Маркизом, который пришел точно ко времени.
День был сияющий, солнечный, чистый. Оранжевый и синий. В такие дни человек вдруг ни с того ни с сего вспоминает детство. В такие дни поют птицы. И, открыв утром глаза, ты молишь жизнь, чтоб всегда оставалась она такой — оранжевой и синей. И веришь, что все изменится, придет торжество красоты и света.
Да, Лучо, я знаю. Для тебя уже ничего не изменится.
Мы проехали по Сан-Франсиско до Аламеды, потом по Сан-Антонио — к реке. Худышка, конечно, обрадовалась часикам. А еще больше, я думаю, обрадовалась, что я вспомнил о ней. Красивые часики, вместо секундной стрелки — малюсенькое сердечко. «Что это с тобой случилось?» — спросила она, обняв меня за шею. «А что особенного? Ничего со мной не случилось».
Маркиз прервал мои воспоминания — молча сунул мне в руку измятую бумагу. Сверху напечатано на машинке:
«Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего…»[93]
— Что такое? Зачем ты мне даешь это? — Пока я читал, он внимательно следил за выражением моего лица.
— «К критике политической экономии». Твоего Маркса.
— Перестань!
Он улыбнулся, потом высунул голову в окошко, стал напевать что-то.
— Слушай, замолчи. И скажи: узнал ты что-нибудь о Фиолете?
— О ком?
— О той девочке, девушке Лучо.
— А, нет, не знаю. Ничего не знаю. — Маркиз пожал плечами, но петь перестал.
Пешеходы оборачивались, смотрели нам вслед. Наверное, кортеж наш выглядел очень уж бедным, жалким, странным. В Арике я передумал о многом. Мы остановились перед светофором. Целый день думал. Роса будто читала мои мысли. «Жениться теперь не в моде, дурачок. — Она вытянула руку, любуясь часиками. — Очень изящно. Кто тебе помог выбрать такие?» Зеленый свет. Мы свернули, проехали мост, но тут грузовик с капустой встал поперек пути, и снова пришлось остановиться. Две толстухи, торговавшие на мосту цветами, подошли, положили на гроб несколько бедных букетиков.
Грузовик все стоял. Таксисты начали сигналить. Шофер грузовика высунулся, разъяренный, но, увидев в чем дело, поспешил уступить дорогу. Только хотели мы тронуться, как вдруг появились двое полицейских. Подошли к первому такси. Видимо, спрашивали о покойнике, то и дело указывали на гроб. Конечно, наша похоронная процессия была необычной, да и подозрительно — очень уж все молодые!
И тут Маркиз открыл дверцу, выскочил из машины и кинулся к полицейским:
— Ну, как же, разве не видите, мы везем зенитное орудие!
Один из полицейских, плосколицый, широкоплечий, схватил руку Маркиза, завел за спину.
— Не хами, дохлятина! Маркиз извивался от боли. Мы вышли из машин.
— Какое вы имеете право?
— Отпустите его!
— Только оттого, что у нас нет катафалка? Только поэтому?
— Звери, пустите его!
Второй полицейский требовал, чтоб открыли гроб, он должен видеть, что в нем, хотя шофер клялся и божился, что мы едем из морга, а гроб запаян.
Грузчики с Беги в индейских сандалиях и в фартуках из мешковины подошли к нам. Цветочницы тоже. Еще люди, еще. Народу собралось человек сто. Крик, проклятия; возмущение все усиливалось:
— Звери! Покойника и то не могут уважить!
Цветочницы кричали громче всех.
Полицейские стали отступать, таща с собой Маркиза, все так же заламывая ему за спину руку. Они прижались к парапету. Плосколицый вынул свисток. Второй расстегнул кобуру пистолета. Здоровенный помидор пролетел по воздуху и сбил фуражку с плосколицего. Фуражка свалилась в реку. Мы захлопали в ладоши. Народ все прибывал. Второй полицейский — рот у него тонкий, щелью, словно ножом прорезали, — выстрелил в воздух. Никто не двинулся. Не отступил. Ненависть клокотала в душах. Мы молчали, но ненависть наша рычала, как зверь, захлебываясь черной пеной.
— Забыли вы, проклятые, сами-то ведь из народа! Тоже небось не во дворце родились! И откуда вы только взялись такие, сукины вы дети!
Сзади напирали, круг сужался. Мы стояли уже почти вплотную к полицейским. Летели и летели помидоры, но большей частью попадали в нас. Кто-то крикнул:
— Смерть Предателю! — и все подхватили хором.
Чоло нашел наконец свидетельство о смерти. Узкоротый разглядывал его и так и эдак. Читать не умеет, что ли? Потом сказал что-то на ухо плосколицему, тот отпустил руку Маркиза. Почувствовав себя свободным, Маркиз тотчас же изо всех сил ударил полицейского ногой в бедро. Я испугался, что начнут стрелять. Но нет, не решились, видимо, здорово напугались.
Взрыв всеобщего восторга. Хорошо, когда все за одного! Сердце мое переполнилось гордостью. Я думаю, и другие испытывали то же. Последний помидор шлепнулся в грудь плосколицего, красное пятно расплылось по мундиру.
Маркиза пришлось силой втолкнуть в машину. Он все еще рвался в бой. Машины тронулись, люди кричали нам вслед слова прощанья, многие поднимали приветственно сжатый кулак.
Проехали несколько кварталов; я повернулся, взглянул на Маркиза. Он потирал все еще болевшую руку, лацкан «его» пальто из верблюжьей шерсти едва держался.
— Удостоверение личности мое взяли, — сказал он, нахмурясь. — Видимо, собираются со мной поквитаться. — И почти тотчас же с улыбкой, не то насмешливой, не то злобной, стал приставать к сидевшим в машине, чтобы дали ему булавку пристегнуть лацкан. На дороге девочки играли в классы. Женщины сидели на стульях перед дверьми домов, грелись на солнышке. Мужчины, завидя наш кортеж, снимали шляпы, женщины крестились.
Маркиз тронул меня за плечо.
— Если хочешь, — шепнул он мне на ухо, — можешь меня описать.
Это единственный подарок, который он в состоянии сделать, подумал я.
— Что ж, попробую, — сказал я, стараясь казаться равнодушным. — Только не надейся, что я тебя приукрашу.
— Да уж знаю. От тебя, пожалуй, дождешься.
Я познакомился с Маркизом в мае; был январь, когда я слышал в последний раз его скрипучий голос.
Ты помнишь, брат?
Тогда мы все-таки еще не представляли себе, какие воистину страшные приближаются времена.
Примечания
1
Рубен Дарио (1867 — 1916) — крупнейший никарагуанский поэт, прозаик и публицист.
(обратно)2
Один процент от вдохновения (англ.).
(обратно)3
Кислая (квашеная) капуста (нем.).
(обратно)4
«Блэкэнуайт» — искаж. англ. «Black and White» («Черное и белое»).
(обратно)5
Сандино Аугусто Сесар (1895 — 1934) — национальный герой Никарагуа. Возглавил борьбу против американских захватчиков (1926 — 1933).
(обратно)6
Ромуло Бетанкур (р. 1908) — президент Венесуэлы в 1945 — 1948 и в 1959 — 1964 гг. Основатель буржуазно-демократической партии «Демократическое действие» (1941).
(обратно)7
Вальехо Сесар (1892 — 1938) — выдающийся перуанский писатель и поэт.
(обратно)8
Хосе де ла Куадра (1904 — 1941) — эквадорский писатель.
(обратно)9
Кармен Лира (1888–1949) — коста-риканская писательница.
(обратно)10
Саларруэ (настоящее имя Саласар Арруэ, Сальвадор; р. 1899) — сальвадорский писатель.
(обратно)11
Бельо Андрее (1781 — 1865) — венесуэльский просветитель, писатель, ученый и государственный деятель, друг и учитель Боливара. С 1829 г. жил в Чили. Основатель и первый ректор Чилийского университета в Сантьяго (1842).
(обратно)12
Восемнадцатое число — национальный праздник Чили, 18 сентября, День независимости.
(обратно)13
Куэка — народный танец.
(обратно)14
«Расёмон» («Ворота») — известный японский фильм (1950 г.) режиссера Акиро Куросава.
(обратно)15
Амадо Нерво (1870–1919) — мексиканский поэт, писатель, журналист.
(обратно)16
Сапата Эмилиано (1879–1919) — руководитель крестьянского движения в Мексиканской революции 1910–1917 гг.
(обратно)17
«Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния» — одно из наиболее популярных произведений Пабло Неруды.
(обратно)18
Хуан Висенте Гомес (1859 — 1935) — президент Венесуэлы (1903–1935).
(обратно)19
Медина Ангарита Исаиас — президент Венесуэлы с 1941 по 1945 г.
(обратно)20
Тем самым (лат.) — выражение, часто встречающееся в папских энцикликах.
(обратно)21
Никомедес Гусман — чилийский писатель; Педро де ла Барра — чилийский режиссер и театральный деятель, основатель экспериментального театра при университете Сантьяго; Антонио Асеведо Эрнандес — чилийский писатель, драматург, фольклорист.
(обратно)22
Элиас Ласертте — один из основателей коммунистической партии Чили.2
(обратно)23
Сопаипильяс — жареные лепешки, намазанные медом.
(обратно)24
Предатель — прозвище диктатора Габриэля Гонсалеса Виделы.
(обратно)25
Кларк Гэйбл — известный американский киноактер 40-х годов.
(обратно)26
Габриэла Мистраль (настоящее имя Люсила Годой Алькаяга, 1889–1957) — известная чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 1945 г.
(обратно)27
«Индийская философия» (фр.).
(обратно)28
Сукин сын (ит.).
(обратно)29
Дракула — чудовище, персонаж ряда фильмов 20-х годов, представляющих собой экранизации одноименного романа английского писателя Брэма Стокера (1847 — 1912). Действие этих фильмов происходит в Румынии.
(обратно)30
Мэнсфилд Кэтрин (1888 — 1923) — английская писательница.
(обратно)31
Брод Макс (1884–1968) — критик и эссеист, биограф Кафки.
(обратно)32
Кирога Карлос Вуэнавентура (р. 1890) — аргентинский поэт и прозаик.
(обратно)33
Статуя Праксителя.
(обратно)34
Вирджиния Вулф (1882 — 1941) — известная английская писательница.
(обратно)35
Бунгало (англ.).
(обратно)36
АПРА (Alianza Popular Revolucionaria Americana) — Американский народно-революционный альянс, создан в 1924 г. Айя де ла Торре,
(обратно)37
Великое море (лат.).
(обратно)38
Гуру — духовный наставник, учитель (санскр.).
(обратно)39
Ничто не препятствует (лат.).
(обратно)40
«Тебя, господи» (лат.) — начальные слова католической молитвы.
(обратно)41
Боливар Симон (1783 — 1830) — национальный герой Латинской Америки, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.
(обратно)42
Вилья Франсиско (1877 — 1923) — руководитель крестьянского движения в период мексиканской революции 1910–1917 гг. Панчо — уменьшительное от Франсиско.
(обратно)43
Тупак Амару — имя, под которым известен Хосе Габриэль Кондорканки (ок. 1740 — 1781), руководитель крупнейшего восстания индейцев в Перу. Был схвачен и казнен испанцами.
(обратно)44
Рекабаррен Луис Эмилио (1876 — 1924) — один из основателей Социалистической рабочей партии Чили (в 1912 г.), преобразованной в 1922 г. в Коммунистическую партию Чили.
(обратно)45
Марти Хосе (1853 — 1895) — национальный герой Кубы, писатель, основатель Кубинской революционной партии. На Кубе его называют Апостолом.
(обратно)46
Чарли Чаплин женился на Юне О'Нил, дочери известного американского писателя и драматурга Юджина О'Нила в 1942 г., т. е. в возрасте 53-х лет.
(обратно)47
Альфонс X (1252 — 1284) — король Кастилии и Леона.
(обратно)48
Здесь: вельветовые (фр.).
(обратно)49
Аньяньук — лесной цветок красного цвета.
(обратно)50
«Всеобщая песнь»- произведение Пабло Неруды (1904 — 1973). Полностью увидела свет 3 апреля 1950 г. в Мехико. Одновременно в Чили завершалось подпольное издание эпопеи, начатое еще в то время, когда она писалась. Это издание было закончено 14 января 1951 г.
(обратно)51
Кто знает (ит.).
(обратно)52
Просперо (prospero) — цветущий, Рефухио (refugio) — убежище (исп.).
(обратно)53
Пабло Неруда. Собр. соч., т. 3. М., 1979, с. 285. Перевод И. Оренбурга.
(обратно)54
Пабло Неруда. Собр. соч., т. 3. М., 1979, с. 211. Перевод С. Гончаренко.
(обратно)55
До свидания (нем.).
(обратно)56
«Кровавая Мэри» (англ.) — название коктейля.
(обратно)57
Стихи из «Поэмы с семью лицами» бразильского поэта Карлоса Друммон де Андраде. Из книги «Несколько стихотворений». (Примеч. автора.)
(обратно)58
Съедобная водоросль.
(обратно)59
Вальдивия Педро де (1510 — 1553) — испанский конкистадор, участник завоевательных походов в Чили. Был взят в плен индейцами-арауканами и казнен.
(обратно)60
Королевство за сигару! (англ.). Перефразированная цитата из трагедии Шекспира «Ричард III».
(обратно)61
Крепкие писатели (англ.).
(обратно)62
Янки, убирайтесь домой! (англ.)
(обратно)63
Последний крик моды (фр.).
(обратно)64
Букв.: вышедший из моды (фр.).
(обратно)65
Бедняжки! (ит.).
(обратно)66
«Атхарваведа» — памятник древнеиндейской литературы, собрание гимнов и жертвенных формул конца II — начала 1 в. до н. э.
(обратно)67
Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик, создатель квантовой теории.
(обратно)68
Кьеркегор Серен (1813 — 1855) — датский теолог, философ и писатель. Выдвинул тезис об экзистенциальной диалектике личности.
(обратно)69
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) — первый известный по имени древнегреческий поэт.
(обратно)70
«Ригведа» — памятник индийской литературы, собрание гимнов.
(обратно)71
«Пополь-Вух» («Книга народа») — собрание сказаний, охватывающих мифологию и историю индейцев киче.
(обратно)72
«Книга мертвых» — произведение древнеегипетсклй ритуальной литературы (XV в. до н. э.).
(обратно)73
О вкусах не спорят (лат.).
(обратно)74
Хосе Эустасио Ривера (1889 — 1928) — колумбийский писатель.
(обратно)75
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (англ.).
(обратно)76
«Ага, верно, сказал Джордж; это он, Эл; верно, Джордж, сказал Эл» (англ.).
(обратно)77
Здесь: точно так (англ.).
(обратно)78
Жаркое на вертеле (ит.).
(обратно)79
Утренний сеанс (фр.).
(обратно)80
Рудольф Валентино (1895–1926) — известный американский киноактер.
(обратно)81
Рудольф Валентино (1895–1926) — известный американский киноактер.
(обратно)82
Рудольф Валентино (1895–1926) — известный американский киноактер.
(обратно)83
Бальмаседа Хосе Мануэль (1840–1891) — президент Чили в 1886 — 1891 гг. Боролся против экспансии иностранного капитала.
(обратно)84
Здесь имеется в виду так называемый «Закон о защите демократии», принятый правительством Гонсалеса Виделы в 1948 г. Закон запрещал существование коммунистической партии.
(обратно)85
Букв.: глас народа (лат.). Здесь — общеизвестно.
(обратно)86
«Донья Барбара» — роман венесуэльского писателя Ромуло Гальегоса (1884–1969).
(обратно)87
«Пучина» — роман колумбийского писателя Хосе Эустасио Риверы (1889–1929).
(обратно)88
«Сертаны» — роман бразильского писателя Эуклидеса да Куньи.
(обратно)89
Здесь: на таковую (лат.), т. е. на голову.
(обратно)90
Вайна — коктейль из сбитых яиц и черного пива о корицей.
(обратно)91
Гарсиласо дела Вега (1503 — 1536) — испанский поэт.
(обратно)92
Мартин Фьерро — герой одноименной поэмы классика аргентинской литературы Хосе Мигеля Эрнандеса (1834 — 1886).
(обратно)93
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 46, ч. I, с. 47.
(обратно)






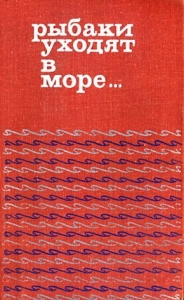


Комментарии к книге «Ты помнишь, брат», Хоакин Гутьеррес
Всего 0 комментариев