Гордыня, жадность, похоть и злословие —
За эти свойства люди платят кровью.
А. Навои
На скамье подсудимых сидела женщина с всклокоченными волосами – глубокая седина отросшего слоя смешивалась со смытым цветом когда-то окрашенных волос, теперь этот цвет был пего-коричнево-серым; лохмы, давно забывшие ножницы парикмахера, были неровными и висели отдельными неряшливыми прядями. Погасшие, мутные глаза бессмысленно блуждали по залу, по присяжным, по сидящим на скамьях людям, ни на ком не останавливаясь, как будто скользили по спокойному, безграничному и пустому морю.
Вдруг она вздрогнула, ее взгляд изменился, в нем промелькнула осознанность, радость, бесконечное удивление.
Взгляды пересеклись – с другой стороны клетки, на крайней скамье сидела молодая, красивая, богато одетая, ухоженная женщина и смотрела на немолодую подсудимую с брезгливой жалостью, с презрением и недоумением.
Встреча была совершенно неожиданной для пожилой и, наверное, ненужной ни той, ни другой. «А вот ведь, пришла на суд, откуда она узнала, кто ей сказал, кто ее нашел?» – думала пожилая, впервые за годы разлуки и неведения увидевшая свою дочь. После содеянного, немыслимо жестокого убийства и ареста, она не произнесла ни одного слова ни в свою защиту, ни в оправдание. Она не проронила ни единого слова.
Женщина смотрела на дочь пристально, не отрывая вопрошающего взгляда, а дочь, не выдерживая этот взгляд, отводила свой, потом снова вскидывала глаза на мать, снова отводила, и наконец, не выдержав этой пристальности, встала и вышла из зала.
Адвокат заметил перемену в поведении подзащитной, отследил ее взгляд, резко поднялся и быстрым шагом поспешил за вышедшей из зала. Догнав ее, он попросил ее задержаться, процесс уже начинался, и он должен был быть в зале суда, но женщина, резко обернувшись, отрывисто сказала:
– Это моя мать. И она убила моего отца. Я ее ненавижу! – так же резко развернулась и пошла к выходу.
Адвокат пытался удержать ее, взял под локоть, но женщина выдернула руку и добавила:
– И не ищите меня! Ни оправдывать ее, ни защищать ее не буду!
Дверь за женщиной резко, с шумом захлопнулась.
Адвокат вошел в зал, судья посмотрел в его сторону с порицанием и удивлением и предоставил слово государственному обвинителю.
Прокурор жестко и четко предъявил обвинение, представив вещественные доказательства, и попутно обвинил подсудимую в нежелании сотрудничества со следствием, в полном отказе от него, добавив, что жестокое преступление было продуманным и хорошо подготовленным.
Но ему самому, видимо, казалось странным, что эта маленькая, щуплая, безучастная ко всему и ко всем женщина могла тщательно подготовиться и совершить невиданное и ужасное преступление.
После выступления прокурора адвокат обратился к судье:
– Ваша честь! Внезапно открылись новые обстоятельства дела, я прошу Вас объявить перерыв и дать мне возможность побеседовать с моей подзащитной.
Все участники процесса с нескрываемым недоумением, ропотом и досадой смотрели на адвоката: какие дополнительные обстоятельства могли возникнуть? Женщина в клетке вскидывала взгляд, в котором вдруг появились осознанность, беспокойство, на адвоката, на судью, на прокурора; руки ее дрожали, она беспокойно шарила ими по коленям, поправляла свои бесформенные лохмы, она как бы начала оживать и понимать, где она и что происходит вокруг.
Адвокат повторил свою просьбу. Судья с видимым неудовольствием – все же понятно, улики представлены, подсудимая свою вину не отрицает, дело практически решенное – все-таки объявил о переносе рассмотрения дела на другой срок.
Прокурор смотрел на защитника, хорошо ему знакомого еще со студенческих лет, не просто с удивлением, а со злым любопытством. Ладно бы деньги ему заплатили огромные или хоть какая-то заинтересованность в исходе дела была бы, а то ведь его назначили защитником сумасшедшей бабки, и ничего, кроме траты времени, этот процесс ему не давал…
Старуха – да какая уж старуха, ей еще до шестидесяти жить да жить! – стала разговаривать с адвокатом.
Первым делом она спросила о дочери: где она? Где живет, есть ли у нее семья, чем она занимается? Ни одному слову Петра перед его кончиной она не верила. А что адвокат мог ей ответить? Что женщина отказалась от матери? Что он не знает, где ее искать, а главное, кого искать? Мать знала только ее имя и фамилию, ту фамилию, что дали ей при рождении ее старшая сестра и ее муж, взявшие у еще не достигшей пятнадцатилетнего возраста девочки тайно рожденную недоношенную крошку.
Это была хоть какая-то ниточка, тоненькая-претоненькая, но все-таки она давала видимость надежды отыскать в огромном мегаполисе человека почти без всяких данных о нем.
Адвокат стал делать запросы по месту проживания ее приемных родителей в Эстонии, где отец дослуживал службу после Белоруссии и Узбекистана; там они и умерли с женою в один день и, наверное, в один час. Жили они тогда уже вдвоем и к той поре пили запойно оба, так и умерли, напившись какой-то паленой водки. Где к той поре была их двадцатипятилетняя непокорная, дерзкая, гулящая приемная дочь, они не знали.После очередного ее загула вымотанные постоянной тревогой и поисками приемные родители, принявшие теперь уже необходимую очередную «дозу» и вконец измотанные этой тревогой и беспокойством, вдруг в сердцах и в отчаянии объявили ей, что она – подкидыш, что они ее растили оттого, что своего ребенка не могли иметь, что родила ее пятнадцатилетняя младшая сестра матери, а они не сбросили ее в детдом, кровь-то родная, растили и холили, а теперь у них уже больше нет сил терпеть все ее выходки.
Девочка была ошеломлена до такой степени, что замерла с открытым ртом, из которого только что лился поток ругательств, упреков, требований.
– Повтори, что ты сказала? Кто меня родил? – она схватила мать за плечи и стала трясти с такой силой, что голова женщины моталась из стороны в сторону, она почти протрезвела и наконец поняла, что наделала, открыв тайну рождения девочки. Отнекиваться было бессмысленно, ей пришлось повторить:
– Мы с отцом тогда прожили вместе десять лет, я родить не могла. А с младшей сестренкой случилась беда, она забеременела и родила недоношенную девочку, тебя. Мы хотели ребенка взять из детдома, а тут Бог тебя послал, мы тебя сразу на себя записали, любили всей душой и всю жизнь тебе отдали, ты же моя родная кровиночка. А выросла ты гадиной и стервой!
– Будьте вы все прокляты! И ты, и твой муж, и моя сопливая мамаша.
Девочка собрала какие-то свои вещички, недобро посмотрела на мать и отца, растивших ее полных восемнадцать лет, отдавших ей и молодость свою, и жизнь, и любовь, и заботу, но так и не сумевших вложить в нее доброту, отзывчивость, ответственность, посмотрела и повторила, теперь уже почти шепотом, но с такой жестокостью и ненавистью, что шепот казался громким криком:
– Ненавижу! Чтоб вы сдохли! А мать свою, сучку-малолетку, я найду. И достанется ей по самое не хочу! Порыдает она у меня, умоется кровавыми слезами.
Дверь захлопнулась. Оказалось – навсегда. Начались новые страдания: любили они свою порочную, наглую и глупую девчонку до глубины души. Поиски собственные и с помощью милиции ничего не давали, девчонка словно сквозь землю провалилась.
И попробуй теперь найти ее, теперь все независимы, теперь все – заграница, со своими законами, своими чиновниками, которые нигде и никогда не почешутся, чтоб быстро откликнуться на чужую беду. И много-много времени, бумаги, а главное, сил тратил адвокат на поиски дочери своей подзащитной.
Судебный процесс приостановили, адвокат убедил подследственную, и та стала давать показания.Зайнап была последним, шестым ребенком в семье. Мать ее была украинкой, ее родители переселились сюда от голода на Украине, да так навсегда и остались в этих теплых краях. Отец был узбеком. Семья жила дружно и весело в своем, не очень большом доме, со своим двориком, увитым виноградными лозами, на окраине города; держали коз, кроликов, кур; сажали свои овощи, хозяйство было натуральное, кормились с него. Отец работал один, был бригадиром на стройке, зарабатывал по тем временам неплохо, но обуть и одеть восьмерых, купить сахар, какую-нибудь крупу было не просто, и его заработок почти весь без остатка тратился на ежедневные нужды. Новые одежда и обувь покупались только старшим, а младшие донашивали перешитые и залатанные вещички за старшими. Обуви не хватало хронически, она «горела», ремонтировалась и ремонтировалась, и все равно эта проблема была неразрешимой.
Мальчиков отец сам называл узбекскими именами – Сабир и Азиз. А девочек называла мать, и все имена были русскими, кроме последней, поздней, принятой отцом с радостью и счастьем и названной им же – Зайнап, Звездочка. Это была его радость и отрада.
Девочке было шесть лет, когда на отца на стройке упал бетонный блок, и его тело было раздавлено в лепешку, которую собрали, соскребли с плиты совковой лопатой, сложили в гроб и гроб заколотили, не показав останки ни жене, ни детям. Так и остался он в памяти живым, добрым и веселым.
Его же и обвинили в нарушении техники безопасности, вопрос о назначении пенсии повис в воздухе. Обреченная на крайнюю бедность, даже скорее на нищету, семья стала выживать, как могла. Старшая дочь год назад вышла замуж за офицера, жила отдельно в военном городке, расположенном в пяти километрах от Самарканда, не работала, полностью зависела от мужа, который не отличался особой щедростью, деньги считать умел и вовсе не собирался сажать себе на шею полуголодную, и не столько полуголодную (продолжали кормиться натуральным хозяйством, продавали козье молоко, куриные яйца, виноград, а на вырученные деньги покупали муку, сахар, крупу), сколько полураздетую и полуразутую семью. Соне иногда удавалось отсыпать из мужнего пайка каких-то продуктов, но помощь эта была незначительной и не могла помочь матери решить проблемы содержания семьи.
Старший сын, Сабир, очень походил на отца и внешне, и добрым нравом. Он закончил железнодорожный техникум, бросить учебу и идти работать мать ему не позволила – что делать мужчине без образования? Как потом завести семью и содержать ее? Вот и тянула она, чтобы ботинки у него были, да брюки приличные, да пара рубашек на смену. Пиджак приобрести было не на что, донашивал Сабир отцовский, великоват он был и совсем не моден, но деться было некуда.
Две другие дочери, семнадцати и шестнадцати лет, уже невестились, благо были одного размера, по очереди надевали блузки, юбки, а кофты и свитера мать всем вязала из козьей шерсти, выкрашивая ее в разные цвета.
Азизу было двенадцать лет, он бегал в выцветших сатиновых шароварах и только в школу надевал брюки, мать из отцовских перекроила, да штопаные-перештопаные башмаки с Сабира.
Зайнап же вообще от матери не видела обновок, с апреля по октябрь бегала босиком в каком-то ветхом сарафанчике. Только при поступлении в школу ей впервые купили новую форму и новые башмаки. Ножка у нее была небольшая, но растоптанная вширь, как лягушачья лапка, все пальцы были растопырены, а первый и второй еще и длиннее остальных, трудно было на эту лапку обувь подобрать, спрятать эти несуразные пальцы.
Соня иногда, с разрешения мужа, брала Зайнап к себе на несколько дней, играла с нею, подкармливала; девочка была ласковая, добрая и послушная. Сонин муж был старше ее на пятнадцать лет, он воспринимал девочку не как сестренку, а почти как дочку, но привязываться к ней не хотел, ждал своих детей, вот и не разрешал ребенку появляться у них слишком часто.
Да и обязанности у Зайнап были в родительском доме, как и у всех остальных, ну, чуть в меньшем объеме, но выполнять она их должна была. С ранней весны до самой осени дети должны были работать в огороде, ухаживать за виноградником и заготавливать траву для домашней живности. Город разрастался, обступая так называемый частный сектор со всех сторон. Дойти до дикой сочной травы было не близко, мать поднимала детишек с восходом солнца и определяла, кому куда идти и что где сделать. Стакан козьего молока, ломоть лепешки – завтрак, и – на работу.
Зайнап – старшие называли ее Зайкой – должна была нарезать мешок травы, с нее саму размером, потом мать отпускала ее побегать со сверстниками, иногда, в сопровождении старших – на арык, где дети купались и кувыркались в мутной теплой воде.
Иногда мать брала кого-то из детей на базар; молоко, яйца, летом – виноград складывали в трехколесную тачку и везли продавать. Когда на базар попадала Зайнап, восторгу ее не было предела – столько интересного и необыкновенного видела она вокруг! Что только не продавали на этом базаре! Серебряные кувшины и подносы, золотые серьги и браслеты, глиняные горшки и тарелки, бусы и яркие ткани, фрукты, арбузы, дыни, овощи. Разноцветье, шум и гам! И люди были разные: чинные и богатые горожане, скупающие за бесценок старину и золото; ремесленники, сбывающие тяжелым трудом и талантом изготовленные вручную поделки; офицеры с золотыми погонами и их жены в красивых шелковых платьях и туфлях на высоком каблуке. Это яркое, шумное зрелище завораживало Зайнап, она распахивала свои серо-зеленые огромные глаза, молча удивляясь всей этой красоте, иногда дергала за руку мать, показывая ей глазами на что-то, удивившее ее, глаза становились от восторга огромными, как горные озера.
Увядшая в постоянной работе и заботе о прокорме детей, о содержании дома, к своим сорока с небольшим годам мать выглядела много старше. Ранняя седина, грустные, озабоченные глаза, морщинистое лицо, изуродованные тяжелым трудом руки со сломанными ногтями, бедная одежда не придавали ей привлекательности.
Но всегда отстиранные добела тряпочки, которым она прикрывала свой свежий добротный товар, привлекали покупателей. А если с нею была очаровательная дочурка, смотревшая на все и на всех с распахнутым удивлением и восхищением, покупатель за ценою не стоял и не торговался, а еще шутил и улыбался. Зайнап была счастливым талисманом, и мать покупала ей в награду карамельного петушка, сладкого и ароматного.
Шли годы. У Сони детей не было. Сабир стал работать на железной дороге, семье стало житься полегче. Сабир был влюблен в девушку, он бы женился на ней, но видя, как мать выбивается из сил, ее тщетные попытки залатать все дырки в бюджете, отложил свою женитьбу, чтобы помочь поставить на ноги младших.
Однажды он ушел работать в ночную смену, а утром не появился, к обеду тоже не пришел и не принес долгожданную зарплату. Мать пошла на станцию; подходя все ближе, она все больше замедляла шаг – ноги не несли, почуяло материнское сердце беду, беду страшную. Действительно, Сабира нашли в заброшенном тупике, в вагоне, зарезанным. Наверное, он еще жил некоторое время, кровавый след тянулся метра на два, видно, пытался он доползти до выхода, да сил не хватило, истек кровью.
Горе сгорбило неутешную мать, стала она старой старухой, только Зайнап, ее Звездочке, иногда удавалось развеселить ее, вызвать улыбку. Девочка танцевала и пела под виноградным шатром, подражая кому-то из увиденных в кино артистов, а мать любовалась ею и сердце ее оттаивало.
Старшие дочки вышли замуж, одна была счастлива, другая мыкала горе и бесконечно рожала детей, которые через одного умирали, не дожив и до года. То ли наговор, какой навела свекровь, ненавидящая невестку за то, что не чистая узбечка, что нищей в дом пришла да хилой, по хозяйству не помогает – сил у нее не хватает. Да и муж ее поколачивал, не глядя на беременность. А может, дети, зачатые не в любви, а в пьяном злом угаре, просто не хотели жить?
Она редко приезжала к матери, и ее приезды еще больше отнимали силы. Мать жалела худую, печальную дочку, ее слабеньких детишек, но ничем особенным помочь не могла, только выслушать могла да по голове погладить. Ну и сумки нагрузить…
Богатая тоже редко появлялась, она жила другой жизнью, среди других людей, и ей вовсе не хотелось видеть бедность своей семьи, которой она стеснялась; не хотелось ей слышать от матери жалобы и просьбы, хотя мать их почти не высказывала. Иногда, редко-редко, она покупала то туфельки, то платьице, то конфеты Зайнап – эту девочку даже она любила!
Азиз подрос, надоела ему эта бедная жизнь, не хотел он всю жизнь горбиться в огороде и со скотиной, простора ему хотелось, денег. Вот услышал, что на Севере нужны люди, что там деньги лопатой гребут, и поверил, подрядился и уехал. Он время от времени пересылал какие-то небольшие деньги, но о себе писал скупо, трудно было понять, где и кем он работает. А потом он совсем пропал, на материнские письма не отвечал и сам весточки не слал…Годы шли. Была жаркая поздняя весна, Зайнап уже заканчивала семилетку, они с матерью думали, что делать дальше. Доучиваться в десятилетке, куда переходили дети из хорошо обеспеченных семей, возможности не было. Значит, или техникум, или ФЗО. Второе было выгоднее – выдавали форму, обувь, бесплатно кормили. «И профессию можно получить такую, что можно будет подрабатывать, браться за частные ремонты квартир. Или швеей-мотористкой? Набьешь руку, научу кроить – и можешь постепенно стать модисткой», – так мать говорила Зайнап. Посоветовались с Соней, та никак не соглашалась, чтоб Зайнап фэзэушницей стала, пообещала понемногу помогать и посоветовала в педучилище идти: или учительницей будет, или воспитательницей в детском саду – это уважаемые профессии, и всегда в тепле. Да и стипендию, если будет стараться, будет получать.
Зайнап себя учительницей представить не могла – как она, такая маленькая, сможет учить детишек? Станут ли они ее слушаться? Но девочка сообразила, что всю жизнь просидеть над швейной машинкой или работать на стройке – летом на солнцепеке, а зимой стыть на пронизывающем ветру, ей вовсе не хочется. Ей хотелось петь и танцевать, стать артисткой, такой же красивой, веселой и богатой, каких она видела в кино.
«Вот закончишь педучилище, будет у тебя верный кусок хлеба – иди, учись на артистку», – мать потрепала по голове свою любимицу, единственную еще оставшуюся с ней из всей большой семьи.
Сдала Зайнап последний экзамен, радостная, веселая прибежала из школы и стала у матери отпрашиваться в гарнизон, к подружке, с которой с первого класса сидела за партой:
– Ну, мамочка, только на выходной! А потом я буду в училище готовиться, некогда будет. У них там в парке карусели построили, качели. И на арык сходим, покупаемся!
– Нет, Звездочка, по дому много работы у нас, дом белить надо, в огороде сорняки выше помидоров повырастали. Когда-нибудь в другой раз поедешь к подружке, а сейчас помоги мне, что-то спину мне ломит, и руки сильно болят. Коз надо подоить, кроликов накормить, а травы только на вечер и на утро, надо бы еще нарезать.
Не отпустила мать. Зайнап нахмурилась, ножкой притопнула, но не ослушалась, пошла дела делать, приговаривая:
– Чтоб вы, козы, ушли куда-нибудь! Вот завтра уведу вас к траве, не привяжу, идите, куда глаза ваши растопыренные глядят! А вам, кролики прожорливые, завтра ядовитой травы нарву, вот вы все и поумирате!
Козы смотрели на девочку, размахивающую руками, и не понимали, чего от них хотят, только еще больше смотрели их удивленные глаза в разные стороны.
Через неделю в школе были торжества: дети получали свидетельства о своем первом образовании. У Зайнап в документе были почти одни пятерки, очень директор ее хвалил и благодарил ее мать, что она одна, без мужа, сумела поставить на ноги детей, особенно хвалил за Зайнап:
– Хорошая девочка, умненькая, ей бы десятилетку заканчивать надо; да ничего, техникум закончит, профессию получит, а дальше можно и заочно доучиться, вот только замуж не выскакивай!
Все весело засмеялись – как такой еще ребенок, такой цветочек может о замужестве думать?! Всего-то ей четырнадцать лет исполнилось…На следующий выходной уговорила Зайнап свою маму:
– Ну, мамочка моя золотая, ну, добрая моя, любимая моя, отпусти меня к Ларисе, они с мамой на базар приедут, на обратном пути меня заберут, я у них денечек побуду. Ты же знаешь тетю Катю, и наша Соня с нею дружила, ты бы меня к Сонечке отпустила, правда? На один денечек, а завтра к обеду я буду дома, и работу всю сделаю и заниматься начну, ну отпусти!
И так ластилась, так в глаза заглядывала – не устояла мать, отпустила:
– На арык не ходите, вода там еще холодная и поток сильный. Погуляйте, может, в кино сходите, если Катя разрешит.Если бы провидение подсказало, что от этой поездки беда начнется, беда, длиною во всю жизнь, если бы…
Днем девочки были дома, шушукались, веселились, фотографии детские рассматривали и удивлялись, в каких смешных платьицах они ходили, какие ножки у них тоненькие и кривые и косички с бантиками.
– А у тебя «это» уже есть? Я так испугалась в первый раз, а мама сказала, что это у всех женщин бывает каждый месяц и всю-всю жизнь. Вот ужас какой, скажи? Так живот болит, и грязь эта, все время мыться нужно и трусики менять. Ненавижу эти дни, – Лариса с вопросом в глазах смотрела на подружку.
Девочка засмущалась от такой откровенности, покраснела, произнесла тихонько:
– У меня это уже почти полгода. Мама меня научила, что нельзя есть в эти дни, так легче проходит.
– А знаешь, моя мама говорит, что если будет ребенок, ну, если так произошло, ну, с мужчиной, то это прекращается. Но от всех мужчин нужно держаться подальше.
Подружек позвали к обеду, разговор прекратился.
Ближе к вечеру жара стала спадать, девочки пошли погулять. На площади, возле парка были установлены качели, огромные лодки раскачивались и взлетали почти до самого неба, прямо дух захватывало, было и страшно, и весело, и уходить не хотелось.
На «пятачке», летней танцплощадке, заиграла музыка, девочки бросились туда.
Танцевало много народу, даже пожилые – им уже точно по тридцать было! – и молодежь. К девчонкам подчалили два молодых лейтенанта, заговорили о том о сем, о погоде, предложили лимонаду.
– Или барышни мороженого хотят? В военторг завезли, можно угоститься.
Девочки засмущались, стали отказываться, но один из парней быстро исчез, так же быстро вернулся с двумя стаканчиками розового мороженого и почти насильно вручил каждой девочке по стаканчику. Мороженое уже почти растаяло, превратилось в жидкую липкую массу, палочкой поддеть его было нельзя, и Зайнап стала его просто пить из начинающего уже промокать бумажного стаканчика. У нее от этого питья образовались молочные усики, и на носу тоже повисла розовая капелька.
Всем стало ужасно смешно, Лариса тоже «выпила» свое мороженое; один из парней вытащил из кармана вовсе несвежий носовой платок, предложил. Выбирать было не из чего, утерлись им.
– Я возьму его, постираю, потом вам отдам.
– А кому ты отдашь? Давайте хоть познакомимся, я – Петр, а друга моего Виктором зовут. А вас как зовут? Чем вы занимаетесь?
Маленьким дурочкам так хотелось быть хоть чуточку взрослее, что, переглянувшись и назвав имена, они придумали, что учатся одна в педучилище, другая в медучилище и уже на втором курсе.
Молодые офицеры пригласили девушек потанцевать; те, страшась, что кто-нибудь из знакомых их увидит и расскажет Ларискиной маме, все же не удержались, вышли на «пятачок».
Зайнап никогда не приходилось танцевать вот так, по-взрослому, ее смущала и пугала близость мужчины, его сильные руки, удерживающие ее на виражах танца, его глаза, с прищуром и легкой насмешкой, прожигающие ее насквозь. Но музыка завораживала и уводила куда-то далеко-далеко…
Первый танец, второй… Все, как во сне! Лариска опомнилась первой, испуганно поискала глазами Зайнап, махнула рукой, мол, пошли, уже поздно, мама будет сердиться. Девочки схватились за руки и бегом помчались домой, а парни вслед им громко захохотали и присвистнули.
Ругать их сильно не стали, но все-таки мама Лариски сказала обидные слова:
– Сопливые еще по вечерам гулять! – и добавила еще несколько унизительных словечек.
Девчонки вымыли запыленные ноги, умылись и быстренько шмыгнули в кровать. Накрывшись с головою одеялом, они стали рассказывать о своих ощущениях, перебивая друг друга и громко хихикая, пока мать не заглянула в комнату и не прикрикнула на них.
Утром они пошептались, придумывая, как бы на следующий выходной снова попасть на площадь, снова встретить этих лейтенантов и потанцевать с ними.
И Зайнап вприскочку помчалась домой, благо что город расстраивался и разрастался, уже почти слился с военным городком, бежать было километра полтора-два, а там можно было проскочить в автобус и одну остановку проехать без билета (пока толстая кондукторша протиснется от одной двери до другой, она успеет выскочить).
Жаркая, веселая прибежала девочка домой, закружилась по двору в танце, припевая и прихлопывая ладошками. Мать с улыбкой смотрела на свою Звездочку и приговаривала:
– На качелях перекачалась, что ли? А кто дела будет делать? Да за травой, хоть и по жаре, а идти надо, кроликов совсем кормить нечем. Немного ботвы с огорода дала, а им мало.
Зайнап, продолжая пританцовывать, переоделась в повседневное платьице, напялила разношенные, совсем почти рваные сандалии (их уже сапожник совсем отказался ремонтировать), подоила коз, разлила молоко по банкам, снесла в погреб. Нашла самый острый нож, мешок и так же, припевая и пританцовывая, отправилась искать место, где еще можно было нарезать сочной травы. Раньше хоть с козами было проще, отгоняли их метров за двести-триста от дома, вбивали колышек, привязывали рогатеньких, они и щипали травку до самого заката. А теперь высокие дома, асфальтированные дороги заняли почти всю округу, животных приходилось держать в клетях или рано-рано вести по городским улицам на выпас. Корм добывать становилось все труднее.
Уже бы извела мать и коз, и кроликов, но это же были и мясо, и молоко. И деньги. Козьего молока на рынке становилась все меньше, и хоть оно дорогим было, все равно люди уже не хотели горбатиться, в дерьме ковыряться. Да и участковый уже не раз приходил, говорил – жалуются на вас, воняет с вашего подворья. Мать давала ему и мясо, и брынзу, и яйца. И вина домашнего наливала. Мужик незлобивый был, понимающий, уходил, приговаривая:
– Все, Галина, последний раз тебя предупреждаю – убери скотину свою, люди требуют, – да ведь и он не всесильный был, действительно, подходило время убирать со двора животину.
Неделя пролетела, как одно мгновение. Зайнап безотказно помогала матери, делала дела по дому и по хозяйству без напоминаний, без понуждения. Эта маленькая девочка умела делать все. И все время она улыбалась и напевала, а услышав танцевальную музыку по радио, вспоминали те движения, которым учил ее молодой лейтенант; вскидывала руки как будто бы на плечи партнеру и вальсировала, вальсировала…
Мать с удивлением смотрела на свою дочурку: прожив долгую жизнь, пережив в этой жизни столько бед и несчастий, разных событий и даже трагедий, она нутром своим почувствовала, что с девочкой происходит что-то новое и ранее неведомое. Но ничего не спрашивала – о чем же спрашивать? Отчего ты веселая? Отчего тебе радостно? Только один разговор затеяла, что лето нужно им продержаться, а в осень кроликов и коз сдадут на мясо, а на полученные деньги купят Зайнап новую одежду и обувь, ведь в училище будут разные студенты, нельзя, чтоб она была хуже всех одета. Купить же предстояло все: платья, пальто, ботики. О себе эта, совсем еще молодая женщина, забыла навсегда, ей бы Звездочку свою в люди вывести…
Подошла пятница, Зайнап опять заговорила о военном городке, что им с Лариской нужно вместе позаниматься, что таких качелей нет даже в городском саду, что новое кино показывать будут. Она и травы уже свежей нарезала на три дня вперед, и в доме все блестит, и все сухие ветки с деревьев и винограда она спилила и в сарайчик снесла – будет, чем печку зимою растопить.
– Что тебе там, медом намазали, что ли?
– Ну, мамочка, ну, цветочек мой, ну, пожалуйста! В понедельник я засяду за учебники, мы с тобою съездим, сдадим документы в педучилище, отпусти меня на выходной!
Мать смотрела на девочку с удивлением – что ее так тянуло в военный городок? И с пониманием – что дите видит во дворе? Коз, кур, кроликов, их бесконечное кормление и чистку клетей? Бесконечное выдергивание сорняков в огороде? Уступила, но с оговоркой:
– Брынзу я сделала, яиц собрала, кроликов утром забью и с утра пораньше поедем на базар, сама я тачку не дотащу. После можешь бежать в городок, денег на автобус и кино дам. Кате отвезешь молока, яиц.
Глаза девочки засветились таким счастливым ожиданием, что матери на мгновение стало страшно: что же так сильно влечет ее дочку в городок? Конечно же, не занятия с Лариской.
Утром с самым рассветом поднялись, Зайнап коз подоила, мать товар в тачку уложила – и поплелись они с этой тяжелой поклажей через весь почти город на базар.
Мать торговала, а Зайнап снова с любопытством рассматривала людей, снующих в поисках нужного товара. Особенно ее привлекали неторопливо и несуетно рассматривающие дорогие поделки и украшения богатые покупатели, нарядные женщины, украшенные серьгами и перстнями, с высокими прическами, в нарядных шелковых платьях. Как же ей хотелось надеть такое же платье, большущие серьги в уши и надеть на каждый палец по перстню с огромными драгоценными камнями! Ее малюсенькие сережки уже как будто бы срослись с ее ушками, их и не видно было. А у этих теток были такие серьги! Закрыв глаза, Зайнап представила себя, идущую в шелковом платье, на высоких танкетках, с серьгами, висящими до самых плеч, с перстнями на всех пальцах, и обязательно под руку с этим, «своим» лейтенантом! У нее аж под ложечкой засосало, в ушах зазвенело и из глаз искры засверкали!
Мать отпустила девочку, велела завтра до обеда вернуться, дала немного денег. Девочка не стала ожидать автобус, стремглав пустилась домой – нужно было переодеться в единственное нарядное платьице и втиснуть свои растоптанные ножки в туфельки, взять гостинцы для тети Кати. К обеду Зайнап уже была в городке, встретили ее радушно, обедом накормили и отпустили с Лариской погулять, на качелях покататься. Девочки стали отпрашиваться в кино, фильм был заграничный, новый, и сеанс был вечером. Не хотелось Ларискиной матери их отпускать, но они так красочно рассказывали о фильме, так убеждали, что мать уже и сама с ними собралась пойти. А вот это уже было совсем ни к чему!
– Ну, может быть, и не так интересно, может, мы и не пойдем, нагуляемся, на качелях покачаемся и вернемся пораньше домой, – отступая от прежних убеждений, застрекотали девочки.
Уж так им хотелось хоть один-два танца с лейтенантами оттанцевать! Помчались они к площади, но качели их сегодня вовсе не интересовали. Мороженого в киоске не было, купили леденцов и лимонаду, уселись на скамейке поближе к танцплощадке и стали с нетерпением ожидать «своих» лейтенантов. Ждали-ждали, уже третий танец закончился. А тех все не было.– Будем ждать, пока кино не кончится, – Лариска решительно не собиралась отступать.
Сеанс закончился, народ из клуба стал выходить на площадь, обсуждая фильм. Девчонки хоть краем уха пытались уловить, о чем кино, – вдруг мать расспрашивать начнет.
Примчались и быстренько спать улеглись. Но не до сна им было, опять принялись шептаться да гадать, отчего же это лейтенанты сегодня не пришли?
– Меня мама в следующий выходной уже не отпустит, дел у нас много и к экзаменам нужно готовиться. Точно не отпустит!
– Да ладно, я пойду, там возле штаба или возле Военторга погуляю, может, кого-нибудь из них встречу.
– И что, подойдешь? Заговоришь сама? Лариска, это же страшно! О чем ты говорить будешь?
– Ну, я просто поздороваюсь, может, они сами разговор начнут. Если спрашивать будут, что сказать? Если «твой» о тебе спросит?
– Не знаю. Но не говори, где я живу, что мы коз и кроликов держим, ну… ну, что мы бедные.
Девочка тихонько всхлипнула и вдруг – от переживаний, ожидания, да и встала она ни свет ни заря – заснула на полуслове.
Утром Зайнап по привычке проснулась с восходом солнца, тихонько оделась, чмокнула спящую подружку в щеку и бесшумно выскочила за порог.
Прошла еще неделя, Зайнап с мамой съездили в училище, сдали документы. Оказывается, там еще и конкурс есть! Нужно хорошо готовиться, чтобы поступить и чтобы стипендию дали. Девочка в приемной комиссии понравилась всем, и отметки у нее в свидетельстве об окончании школы были хорошие, всего две четверки. Но все равно готовиться нужно серьезно. Днями забежала Лариска, мать ее и отец решили, что она должна закончить десятилетку, а потом поступать в институт, вот ездили в новую школу, документы сдавали.
Лариска училась слабее Зайнап, вообще, если бы они сидели на разных партах, ей бы не у кого было списывать домашнее задание и диктанты. А на контрольных Зайнап сначала делала задание для нее, по ее варианту, а потом успевала сделать все для себя.
Зато Лариска была доброй, всегда делилась с подружкой завтраками, ей мать бутерброды с сыром и колбасой делала. А иногда или ленточку, или заколку дарила. И иногда не смеялась, что Зайнап в обносках ходит. Дружба у них была хорошая, независтливая – с самого первого класса.
Лариска влетела в калитку, увидела подружку и ее маму и застрекотала:
– Здравствуйте, тетя Галя, вам мама привет передавала и спасибо за гостинцы. Как вы вкусно брынзочку делаете, никто так не умеет. Мама на базаре покупает, она мокрая и вонючая, папа ее не ест, и мне не нравится. А вашу мы за два дня съели, спасибо, тетя Галя!
И потащила Зайнап за калитку, и нашептывать стала, что видела тех лейтенантов, они с какими-то взрослыми девушками были. Но когда вдруг увидели Лариску, подошли к ней и стали спрашивать, где это мы пропадаем?
– Мой меня под руку взял, а твой все спрашивал, где ты? Я пообещала, что мы в субботу к началу танцев придем, они нас будут ждать.
– А эти взрослые девушки? Они красивые? А какие у них платья? А серьги какие?
– Да было мне время их рассматривать! Главное, что наши парни будут нас ждать! Давай придумывай что-нибудь, чтоб мать тебя отпустила!
– Лариса, Зайнап, идите сюда, девочки, где вы там спрятались? – голос матери прервал разговор.
– Ой, тетя Галя, у нас в воскресенье будут гости, мама просила, чтобы вы свежую брынзочку сделали, а Зайнап в субботу привезет. Мама деньги заплатит.
– А чего ж до субботы ждать. Бери сегодня, я как раз свежую сделала, она спокойно два дня пролежит, а денег никаких не нужно. Погоди, я сейчас из погреба достану.
– Нет-нет, тетя Галя! У нас такие важные гости будут! Нужно все свежее, еще и кролика мама просила забить, – девочка врала так истово и так прямо смотрела в глаза, что не поверить ей было нельзя.
– Хорошо, – согласилась мама Зайнап, – я перед субботой собью свежую брынзу и кролика приготовлю, пусть твоя мама гостей с почетом принимает.
Лариска от восторга наступила своей сандалией на босую ножку Зайнап, та от боли взвыла, но тут же все простила своей подруге, и они вместе захохотали и закружились, взявшись за руки.
Исполнилось желание, Зайнап мчалась в городок, укорачивая путь – прямо по горячему песку, босиком. Когда ножка наступала на кустик чудом проросшей травки, ощущение прохлады приятно щекотало ее ступни, которые, несмотря на беготню босиком, оставались нежными и розовыми.
Очень Катя удивилась щедрому и неожиданному подарку, деньги Зайнап по маминому велению никак не стала брать. Подумала Катя и придумала: что-нибудь надо из нарядов Лариски подарить Зайнап. Стали примерять, все ей подходило, во всех платьицах она была как цветочек – то полевой тюльпанчик, то звонкий колокольчик, то скромная незабудка.
Лариске, глядя на нарядную подружку, вдруг стало жалко отдавать свои красивые вещи, она загрустила, опустила голову и вышла в другую комнату, а Зайнап, стягивая с себя яркий штапельный сарафанчик, устыдившись желания получить подарок, застенчиво сказала:
– Не нужно мне, тетя Катя, мне мама обещала купить.
Стыд за свои старенькие, отстиранные почти до бесцветности платьица и за скудность своей одежды, за то, что ей приходится принимать подарки-подачки, пунцовым цветом залил и лицо, и шею, и все тело ее запылало.
Позже Лариска пришла в себя, стала просить, умолять подружку взять хотя бы этот сарафанчик, дело даже до слез дошло.
– Мне мама не разрешит надеть чужую вещь. Скоро Соня приедет, тоже какую-нибудь обновку привезет. Спасибо, тетя Катя, спасибо, Лариса, – тихо, но очень твердо произнесла Зайнап.
Ладно, помирились, поцеловались. Нужно же было выполнять намеченное, идти на встречу с лейтенантами. И тут Лариска не растерялась:
– Мамочка, тогда мы пойдем погуляем, на качелях покатаемся, мороженого поедим, а то Зайнап такая печальная!
Ах, качели, вы качели! Так высоко они взлетали, что дух захватывало! Легонькие платьица то наполнялись ветром и казались маленькими парашютиками, то плотно облепляли стройные фигурки.
Вдруг снизу, с земли, раздался резкий заливистый свист, девчонки стали высматривать, кто же это их освистывает, и обнаружили своих золотопогонных знакомых.
Качели уже не раскачивались так сильно, а вот и совсем остановились. Галантные кавалеры подали девочкам руки, помогая выйти из «лодочек», удивив их тем, что они как бы перепутали девочек.
Так на самом деле и было, Петр уговорил друга уступить ему Зайнап, на что были две причины: во-первых, она ему понравилась, он все время вспоминал ее серо-зеленые распахнутые глаза, пухлые губы и ее застенчивость. Во-вторых, он очень хорошо понимал, что связываться с Лариской, дочкой старшего офицера, опасно, не только погоны папаша снимет, а башку оторвет, ежели что. А Виктор никаких крамольных мыслей не имел, он сопровождал своего приятеля. Ему черненькая тоже понравилась, но на что ему эта малолетка, если только потанцевать. А танцевать все равно с кем.
Начались танцы. Петр уверенно взял за руку Зайнап, кивком указал приятелю на Лариску, и они все вместе вышли на «круг». Петр крепкой рукой обвил талию девочки, прижал ее к себе и заговорил: «Славненькая ты и, видно, совсем не испорченная, да не бойся ты, не дрожи, не съем я тебя», – и еще крепче прижимал девчушку к своему крепкому мускулистому телу.
Страшно стало Зайнап, страх переходил в ужас, и не дотерпев до окончания танца, она вырвалась из рук мужчины, подскочила к Лариске, потянула с танцплощадки, в панике оглядываясь, не догоняет ли ее Петр.
Лариска хотела потанцевать, но ей было очень обидно, что кавалеры их поменяли, не спросив их самих, она разозлилась на Петра, потому что уже считала его «своим» – он ведь в прошлый раз так к себе прижимал, так на нее смотрел! А Виктор просто двигался в такт музыке, даже не разговаривал ни о чем, просто никакого внимания к ней не проявлял. И покрасивее Петр был, и повыше – очень он Лариске понравился!
Домой девчонки шли молча: Зайнап от испуга, Лариска от обиды на Петра, которая плавно переходила на Зайнап-разлучницу.
Попили чаю, улеглись, Помолчали-помолчали, потом Зайнап зашептала:
– Он меня так сильно к себе прижимал, по-взрослому, как в кино. И дрожал. Мне отчего-то страшно стало.
– Он и меня в прошлый раз прижимал. А чего тебе было страшно? Что он мог с тобою сделать на танцплощадке? Там опасно, если знакомые увидят и родителям расскажут, а так что может случиться? Но уж гулять с ним вечером точно не стоит! И чего это он меня бросил, на тебя поменял? Ты что, красивее меня?
– Ну что ты, Ларисочка, конечно, нет, и одета ты лучше, и беленькая вон какая. А я уже загорела, мама говорит, скоро на негру буду похожа. Ты, конечно, красивее. Да я вообще больше на эти танцы не пойду, не нравится мне это. Я теперь не скоро к тебе приеду, лучше ты ко мне, мама твоя пусть на базар едет, а мы с тобой и попляшем, и попоем.
Чуть свет Зайнап вскочила, чмокнула подружку и тихонько выскользнула за порог. Она припустилась домой, зная, как много дел ей предстоит переделать, бойко шлепая босыми ножками по еще прохладному песку.
Зайнап успешно сдала все экзамены, ее зачислили в училище, теперь она выучится и станет учительницей начальных классов. Она все время проводила дома, радуя свою маму безотказностью, добротой и заботой – сильно стали у матери руки болеть и спина, да на сердце она стала чаще класть левую руку, будто уговаривала его биться ровнее и не болеть. Соня все обещала, но так пока и не приехала, а мать очень нуждалась и в помощи ее, и в советах.
Так случилось, что Зайнап решила на весь день отогнать коз к самому арыку – и наедятся, и травы она впрок нарвет, и накупается. Рано-рано утром, еще только зорька занялась, она привязала коз на веревку и, пока еще город не проснулся, повела свое стадо на дальний выпас, на сочную травку возле самого арыка. Там и кустики росли, и деревца невысокие, тень от них была хоть и не густая, а все же солнце не так пекло.
Вбила девочка колышек в землю поглубже, привязала коз, принялась траву резать, почти полный мешок набила, притомилась. Сняла с себя платьице – место дикое, никого не было, и стесняться было некого, накупалась в арыке. Потом съела кусок лепешки, запила молоком прямо из бутылки, привалилась к спрятанному в тени мешку со свежей, душистой травой и задремала.
Оттого она встрепенулась, что носу и губам было щекотно, сквозь сон отмахнулась раз, другой, открыла глаза и с ужасом увидела сидящего рядом с нею лейтенанта, только он сейчас без формы был, в простых брюках и в тенниске. Вскочить хотела, платьице натянуть, да крепкая рука придержала ее, не дала подняться.
– Ну что, бегунья? Спряталась от меня? Что это ты на танцы не ходишь? Козы не отпускают? – насмешливо спрашивал парень. – Я вот из города возвращаюсь, искупаться хотел, а тут ты, сладенькая, лежишь.
Девочка задергалась, пытаясь вырваться, но силенок у нее было мало. Парень навалился на нее, выдохнул густым перегаром и стал целовать извивающуюся в попытках вырваться девушку. Вдруг он впился в ее пухлые губки умелым, натренированным поцелуем, одна его рука придавливала Зайнап к земле, другая шарила по ее шейке, по упругим грудкам, по животу. Он стянул, разорвал ее трусишки, навалился всем своим весом на девочку, она извивалась и плакала, а распалившийся еще больше насильник грубо раздвинул ее ноги и вдруг как будто пригвоздил ее к земле, вонзив в нее что-то большое и твердое…
Зайнап лежала растерзанная, обессиленная, слезы ручьями стекали из плотно закрытых глаз, ей было стыдно и очень больно, но она не проронила ни одного слова и не сделала ни одного движения.
– Ладно, не реви! Ну не нужно было сегодня мне под руку подворачиваться, так уж вышло. Такая ты сладенькая, такая аппетитная, да еще почти голышом, не удержался я. Ну не реви, – повторил он. – Давай подрастай, женюсь на тебе, а пока помалкивай, никому ничего не говори. Ну, я пошел?
Козы смотрели на них своими растопыренными глазами, кажется, что они осуждали насильника и жалели несчастную девушку.
Мерзавец застегнул штаны, затянул ремень, отряхнулся и пошел в сторону городка. Издали, обернувшись, он крикнул:
– А хочешь, приходи завтра вечером, я тебе лимонаду и пряников куплю, сладенькая моя, Змейка моя! – громко засмеялся и пошел дальше.
Растоптанная, униженная девочка продолжала молча плакать. Встала и пошла неверной походкой к арыку, вошла глубоко-глубоко на быстрое течение и ушла с головой под воду. Стала захлебываться и задыхаться, и как будто на самом деле, мамины руки вытолкнули ее из глубины, как будто мамин голос звал ее:
– Зайнап, Звездочка моя, а как же я? Иди домой, доченька, иди, я жду тебя!
Девочка сидела на берегу арыка, уставившись взглядом в одну точку, не чувствуя, что солнце уже сжигает ее кожу. Потом по-старушечьи, опершись на руку, встала боком, натянула платьице, отвязала коз и пошла с ними домой.
Так она и шла, не видя ничего, прямо по мостовой и по тротуару, шарахались от нее и ее коз и пешеходы, и водители. Благо уже был полдень, большинство народу отсиживалось или отлеживалось в тени, на сквознячке. Но те, что оказались на улице, смотрели на девочку с козами с немым удивлением и даже не кричали на нее и не ругались, настолько она казалась странной и потерянной.
Мать сильно удивилась, что Зайнап возвращалась по самому солнцепеку, спросила:
– Что ты так рано? Надо было жару переждать, пусть бы козы до вечера траву пощипали. А мешок где? Трава где? – но взглянув на дочку, резко замолчала.
Сама загнала коз в тенистую клеть, дала им воды. Наполнила корыто теплой водой из бочки:
– Иди, Звездочка, я тебя выкупаю. Что случилось? Расскажи. Тебя кто-то обидел?
Девочка руками закрыла лицо и отрицательно покачала головой.
– Доченька, кто, кроме матери, тебя поймет? Кто пожалеет? Скажи, что-то случилась?
– Потом, мама, потом. Можно я немного полежу. А потом тебе все расскажу.
Как могла маленькая еще совсем девочка рассказать о том, что с нею случилось?
– Полежи, кизим, полежи, отдохни, вон как устала на жаре!
Мать нутром чувствовала беду, с утра места не находила, а увидела дочку, поняла – случилось что-то страшное, но не стала ни кричать, ни допросы устраивать. Знала, что доченька ее сама ничего плохого совершить не могла, что она успокоится и расскажет, что ее так сильно испугало. И не пришла ей мысль, что беда была страшнее страшной…
Уже стемнело, Зайнап попросила мать не включать свет, они сидели в задней комнатке, мать сидела возле стола, а девочка забилась в самый уголок кровати – она не могла смотреть в материнские глаза. Чистая девочка, не видевшая ничего плохого ни у себя дома, ни у Сони, ни в Ларискином доме – а где она еще бывала? Самое нескромное – поцелуй на экране и сцены любви в книгах, вот и все, что она знала. В те времена целомудрие было нормой, а уж в их доме, где мужчин не было вообще после смерти отца и Сабира, что могла узнать девочка? Кроме участкового, в дом ни один мужчина не вошел, мать сама чинила клетки, забор, сама вбивала гвозди, мазала и белила дом. Никого в помощники не звала и не впускала.
И девочка, просвещенная только Лариской, рассказывавшей ей об «этом», до смерти испугавшаяся близости с мужчиной на танцплощадке, интуитивно почувствовавшая опасность, стремглав сбежавшая от нее, эта девочка безбоязненно ходила за травой в безлюдные места, а мама не предупредила ее, что может случиться беда, не предупредила, потому что никогда ничего подобного в этих местах не происходило. А может быть, и случалось, но никто и никогда об этом не говорил…
Девочка сидела в полной темноте, даже лучика света нигде не было видно. Мать спросила спокойно, без угрозы, без злобы:
– Что случилась, Звездочка? Расскажи. Не бойся, все рассказывай.
Почти шепотом, запинаясь и всхлипывая, девочка начала рассказ от того момента, когда они с Лариской впервые побывали на танцах, как потом она перестала бегать в гарнизон, и не потому, что мама не отпускала, а потому, что ей стало отчего-то страшно. Она не могла объяснить, она сама не понимала, что это было животное чувство самосохранения, опаска того, о чем она в своей жизни не имела никакого представления. Тогда она избежала беды, а сегодня эта беда подкралась среди бела дня и в самом неожиданном месте. Девочка сбивчиво рассказывала, как все случилась и что с нею сделал лейтенант.
Железным раскаленным обручем сжало сердце матери, сдавило, обожгло. Она резко и шумно вздохнула, сползла со стула и рухнула на пол.
Зайнап вскочила, зажгла свет, подбежала к матери, стала трясти ее и кричать громко и пронзительно.
С соседнего подворья подошли люди, засуетилась, побежали к телефону, вызвали «скорую помощь», которая приехала очень быстро. Врач определил – инфаркт. Мать бережно уложили на носилки, она была в беспамятстве, и ее увезли. Девочка цеплялась за носилки, кричала, просила поехать с мамой. Врач строго сказал:
– Везем в реанимацию, туда все равно не пустят. Да и довезем ли, тяжелая она. Оставайся дома. Есть кто-нибудь взрослый?
– Да нет, они вдвоем живут, другие дети – кто где. Мы ее сегодня к себе заберем, или наша старшая дочка с нею переночует, а завтра уже сообщим родственникам. Поезжайте, дай ей бог выжить, девочка еще совсем маленькая, а кому она будет нужна, кроме матери? – ответили соседи врачу.
Наутро Зайнап побежала в ближайшую больницу – никто не знал, куда ее мать отвезли. Матери в этой больнице не оказалось.
Медсестра сначала отвечала строго, потом увидев потерянность и ужас в глазах девочки, сжалилась, отложила свои дела, позвонила в «скорую», выяснила, куда доставили поздним вечером больную женщину; и туда перезвонила, все узнала и сказала девочке:
– В краевой больнице мама твоя, в реанимации. Состояние у нее тяжелое, но она пришла в сознание. Врачи обещают ее выходить, но сейчас к ней не пустят, не езди попусту.
А потом объяснила девочке, где эта больница находится и как туда можно добраться.
Зайнап пришла домой, разыскала конверт с Сониным адресом, решила написать ей письмо. Соседка подсказала, что письмо долго идти будет, затеряться может, а телеграмма точно дойдет.
Две другие сестры Зайнап жили в Самарканде, они с матерью никогда к ним не ходили, те сами навещали их – одна редко, через силу, все боялась, что мать помощи будет просить. Другая бывала почаще, являлась после очередного семейного побоища со своими всегда голодными детишками, плохо одетыми и пугливыми; эта не просто ждала, а просила помощи и денег, и винограда, и вообще всего, что дадут. И каждый ее ребенок от бабушки что-то нес: кто авоську с овощами, кто забитого кролика, кто виноград, а мать их яйца несла сама, чтоб не перебили по дороге.
Где их искать, знала только мать. Соне телеграмму отправили – ответа не последовало. Отправили вторую – Сонины соседи телеграфировали, что Соня с мужем отдыхают в санатории.
Через несколько дней матери стало полегче, ее перевели в палату, и теперь Зайнап не уходила от нее, пока ее не выпроваживали. Девочка ухаживала за матерью, приносила ей свежий бульон, молоко, овощи и фрукты и чистое белье.
Мать очень переживала, что все дела по дому и по хозяйству легли теперь полностью на хрупкие плечики маленькой девочки, что мать ничем не может ей помочь, не может утешить ее, умерить ее страдания, успокоить – ни слов, ни сил на это не было.
А девочка, в свою очередь, во всем винила себя, это она, только она стала причиной тяжелой болезни матери.
Мать гладила склоненную голову Зайнап, ласкала и говорила тихим, обессиленным голосом:
– Ничего, доченька, не плачь. Я обязательно поправлюсь, как же ты без меня будешь? Поправлюсь, мы продадим всех коз и кроликов, пойдем в магазин, купим тебе новые платья, туфельки, будешь ты у меня красавицей, будешь учиться, потом сама станешь ребятишек учить.
И ни одного слова о случившейся беде.
Уже настал вечер, Зайнап возвращалась от матери. Вдруг в автобус ввалилась компания, шумная и веселая. Молодые люди были навеселе, разговаривали громко, девицы им подыгрывали и подхихикивали. В одном из вошедших Зайнап узнала Петра, своего обидчика. Она попятилась к задней двери, но он успел ее заметить, устремился за нею, смеясь и приговаривая:
– А вот и Змейка моя! Моя красавица! Да не убегай ты, подожди! От меня не убежишь, ты же знаешь!
Едва дверь автобуса открылась, девочка выскочила из него и бросилась в обратную сторону, а обидчик громко захохотал и засвистал ей вслед, как тогда, на танцплощадке.
Девочка стала осматриваться. Она никак не могла понять, где она находится, она никогда не бывала в этом районе, а вернуться на остановку она боялась. Вот и пришлось ей плутать по улицам, спрашивая прохожих, как пройти на свою улицу, а они иногда указывали ей путь в разные стороны, пока один пожилой мужчина, гуляющий с большой собакой, не предложил ей проводить хоть до начала ее улицы, а там уж она разберется.
А дома – дел непочатый край: козы не доены, и им, и кроликам травы надо добыть, а травы уже почти не осталось…
Добрые соседи сообразили, что теперь больная женщина и девочка не справятся с животными, и уже предложили выкупить все целиком для родственников из кишлака, правда, цену предлагали совсем маленькую.
Девчушка держалась из последних сил, но с матерью эти разговоры пока не разговаривала, а сама не понимала, как продавать, кому, за какие деньги, ее ведь запросто могли обмануть. Вот и ждала она Соню.
Через несколько дней пришло уведомление на переговорный пункт. Соня вернулась с лечения, соседи передали ей телеграмму из Самарканда, и она заказала телефонный разговор.
Зайнап сидела в уголке зала и ожидала вызова. Из крайней, ближней к ней кабины слышался голос, он ей показался знакомым. Этот голос то поднимался, то как будто оправдывался, затихал:
– Да, папа, хорошо, папа, я все понял, папа.
Из кабины вышел Петр, взмокший, багровый, какой-то побитый и злой.
Зайнап сжалась в маленький комочек, пригнув голову и закрыв ее руками. От испуга ее сердечко билось так неистово, что казалось, сейчас грудь разорвется, и оно выскочит и убежит.
– Кострома, на проводе Кострома, кто ожидает Кострому, пройдите в шестую кабину.
Зайнап не услышала в первый раз, а только на второй вызов сообразила, что это ее приглашают в ту шестую кабину, из которой несколько минут назад вышел Петр.
Девочка проскользнула через полуоткрытую дверь, взяла трубку, которая еще была теплой от рук Петра и пахла его одеколоном.
– Алло, алло! – голос Сони был взволнованным и громким. – Мама, это ты?
– Сонечка, это я, Зайнап. Мамочка лежит в больнице, у нее инфаркт. Приезжай скорее! – от пережитого страха за жизнь матери и животного дикого ужаса при виде Петра девочка разрыдалась и не могла больше вымолвить ни слова.
– Звездочка, девочка, не плачь, я завтра же вылечу к вам, я завтра буду с тобою, не плачь, Зайка моя маленькая!
Связь прервалась. Зайнап вышла из кабины, пошла к выходу. Вдруг ей представилось, что там, за дверью, ее поджидает Петр, и новая волна ужаса охватила ее, ноги обмякли, кто-то поддержал ее, вывел на улицу, посадил на скамейку под высоким чинаром, там была густая тень и обдувал легкий сквознячок.
Осмотревшись и не увидев поблизости Петра, девочка побежала к автобусу, почти на ходу вскочила в него, добралась до дома, вбежала в комнату и снова зарыдала, громко, со слезами и захлебами – пережитый страх, вина перед матерью, стыд – как рассказать Соне о случившемся? – такая тяжесть легла на ее маленькое сердечко!
Зайнап поутру набрала в огороде свежих овощей, слила в банку парное молоко, отыскала созревшую гроздь винограда, напекла лепешек, сложила все в корзину и стала у калитки в ожидании старшей сестры.
Соня подъехала на такси, не отпуская машину, внесла свой чемодан в дом, обняла маленькую сестренку:
– Какая ты худенькая! Ты, наверное, без мамы не ешь? Некому еду приготовить?
– Я, Сонечка, научилась бульон варить, врачи сказали, что маме полезно. Соседи курицу режут и ощипывают, а я варю. А лепешки меня мама научила делать, у нее, конечно, вкуснее, но мои тоже хороши, попробуй!
– Конечно, конечно, попробую, но позже. Сейчас быстренько садимся в машину и едем к маме.
Девочка сказала, где лежит мать; водитель знал город, как свои пять пальцев, и домчал пассажирок до места за двадцать минут, В машине Зайнап прижалась к сестре, как маленький котенок к матери.
На вопросы: как все случилось? когда? – Зайнап ответила несколькими словами. Не могла же она в присутствии чужого человека, тем более мужчины, рассказать всю историю. Она только виновато взглянула на Соню и заплакала беззвучными слезами. Сколько этих слез пролила она за две недели болезни матери! И сейчас они ручьями стекали из ее прекрасных глаз по похудевшим щечкам прямо на платье. Соня по-матерински утешали девочку, обняв ее и гладя по голове:
– Не плачь, Звездочка, мама поправится, мы ее домой заберем, поставим ей лежак под виноградом, свежий воздух ей быстрее поможет подняться и набраться сил.
Зайнап плакала еще горше, она начала всхлипывать, плач вот-вот мог перейти в истерику, и Соня строго приказала:
– Сейчас же прекрати! Мама не должна расстраиваться! На платок, вытри глаза – и никаких слез!
Девочка затихла. Соня для нее была не меньшим авторитетом, чем мама, ее слово, как и мамино, было законом. Но страх от предстоящего разговора, а он обязательно должен состояться, Зайнап все должна Соне рассказать, этот страх и стыд так сжали маленькое сердечко, что девочка задохнулась, схватилась за грудь, чем еще больше испугала Соню.
Мама уже могла ходить по палате, по коридору, она подавала лежачим больным воду, помогала их накормить – жизнь потихоньку возвращалась к ней.
Встреча со старшей дочерью была долгожданной, они не виделись больше года, теперь Соня не могла часто прилетать, путь был далеким и дорогим. Пока все шло, как шло, вроде и особой нужды в поездках не было. Она, конечно, очень скучала по маме и младшенькой, но муж отрицательно относился к поездкам, он считал более полезным свозить Сонечку еще на какой-нибудь курорт, где лечат от бесплодия.
Еще молоденькой девушкой Соня накупалась весною в арыке, вода еще была холодной, потом у нее долго и сильно болел низ живота. Мать ее отпаривала, сажая в таз с горячей водой, поила какими-то травяными отварами, клала на живот мешок с нагретым на сковороде песком. Острая боль вроде постепенно затихла, беспокоя ее изредка, когда у нее промокали ноги или если она посидит на сырой траве или холодном камне. Она лечилась и лечилась, муж очень хотел ребенка и не жалел денег на лечение. Один врач на курорте, осматривая Соню, сказал:
– Вы, матушка моя, с другими мужчинами не спали? Ну-ну, не возмущайтесь! – он сделал успокаивающий жест. – Иногда бывают виноваты мужчины, они могут быть бесплодными. Вы ребеночка хотите? Рискните, это не грех, это же ради ребеночка.
Соня рискнула. Ей так хотелось взять на руки своего младенца, приложить его к налитой молоком груди! И хотелось, чтобы у них была настоящая семья – ребенок, ее муж и она.
За молодой, красивой и здоровой женщиной мужики увивались и жужжали, как пчелы над цветущей липой, оставалось лишь выбрать. Она подобрала себе в партнеры высокого, красивого мужчину, осталась у него на ночь. Он стал ее жарко обнимать, целовать, нашептывать какие-то глупости про любовь, но она отстранилась и сказала резковато, но прямо:
– Мне нужен ребенок. Сделай мне ребенка!
Соня трижды прошла через это мучение – близость с молодым человеком, кроме угрызений совести, ничего не давала, ее организм не отвечал на старания и умелость партнера.
Она не зачала. Она действительно была бесплодна – простуда в раннем девичестве поставила жирный черный крест на материнстве. И теперь она ездила на курорты только с мужем, категорически отказываясь от всех процедур, от грязей, от прочего лечения. Сославшись на врачей, она объявила мужу, что детей у нее не будет никогда…
Мать в ожидании дочерей так разволновалась, что ей сделали успокоительный укол, и она задремала.
Соня и Зайнап тихонько вошли в палату, сердце у Сони заныло при взгляде на спящую мать, так сильно она изменилась, так постарела, такая печать горя отражалась на ее исхудавшем лице! Чтобы не разрыдаться, она взяла руку матери, наклонилась, поцеловала ее.
Мать открыла затуманенные лекарством глаза, увидела Соню, радость озарила лицо женщины, она улыбнулась, попыталась встать, но Соня мягко остановила ее:
– Лежи, мамочка, лежи, я здесь, я приехала, теперь все будет хорошо, я заберу тебя домой, дома ты быстрее поправишься. Все у нас будет хорошо!
– Ты немного поживешь у нас? Твой муж не рассердился, что тебе пришлось к нам лететь? Сонечка, детка моя, мне так тебя не хватает! И Зайнап все время только о тебе и говорит, тоже очень скучает, Звездочка наша, – глаза, видевшие столько горя, в них сейчас смешались и пережитая боль за маленькую, и счастье, что рядом была Соня, ее дочка, похожая на нее и лицом, и фигурой, и характером, спокойная и рассудительная ее старшая дочь, единственная, кому мать могла доверить и мысли свои, и тревоги и с кем могла она посоветоваться.
– Не плачь, мамочка, завтра я поговорю с твоим доктором, если будет можно, мы тебя завтра же и заберем.
Еще немного посидели, расцеловались, и сестренки отправились домой. Зайнап не нашла в себе силы, чтобы сегодня же поведать Соне о несчастье, приключившемся с нею, и о причине болезни мамы.
Конечно, пережив страшные смерти мужа и сына, наблюдая несчастливую и нищую жизнь второй дочери, ни разу не пришедшей к ней с улыбкой и радостью, ставшей к своим двадцати пяти годам многодетной, увядающей, нездоровой и нелюбимой женщиной; испытывая неприязнь третьей, благополучной дочери и ничего в течение двух лет не знавшей о судьбе младшего сына, от которого не было никаких вестей; эта несчастная мать жила только для того, чтобы поставить на ноги младшенькую, которой отдавала всю любовь; эта многострадальная женщина давно уже надорвала свое сердце. Беду, случившуюся с ее Звездочкой, мать тоже записала на свой счет: это ее вина, это она не остерегла, не предупредила, не уберегла маленькую. И эта взятая на себя вина была последней каплей, переполнившей изношенное сердце и чуть не разорвавшей его насовсем…
Соня встретилась с лечащим врачом матери, он одобрил ее намерение выхаживать больную дома, но выписать ее пообещал только через неделю.
Зайнап, как было уже заведено, вставала с зарею, доила коз, задавала им и кроликам траву, которую добывала во всех заброшенных уголках, возле заборов частных домов – к арыку она больше не ходила. Соня, глядя на сноровистую, быструю сестренку, удивлялась – как же ей удавалось продержать на своих хрупких плечиках все это большое хозяйство? Раздумывать было не о чем и некогда: продала Соня всех коз и кроликов вместе с клетями, сильно уступив в цене, соседям, вернее, их родственникам. Удобно, не нужно искать покупателей или вывозить на базар всю живность, а главное, отдала за бесценок в благодарность за участие и помощь Зайнап, за то, что не оставили девочку без присмотра, что не были безразличными к несчастью соседи.Вместе с Зайнап вычистили они освободившееся место, где стояли клети, побелили дом и стали ожидать дня выписки мамы из больницы.
Мать одобрила все действия Сони, хотя было ей непривычно, что козы не блеют по утрам, прося освободить переполненное густым, жирным молоком вымя, что стало так много свободного времени и места во дворе.
Втроем посоветовались, обсудили, какие вещи купить Зайнап, и отправились сестры в главный универмаг. Глазки Зайнап загорались при виде нарядных платьиц, туфелек, они смотрели, что им по карману, и покупали обновки. Еще Соня привезла яркий красивый плащик, ботики, теперь она будет не хуже Лариски! И тут же поникла девочка: нет, она хуже, она намного хуже подружки, с нею такое произошло…
Зайнап молчала. А мать только на третий день пребывания дома улучила момент, чтобы девочка не услышала, рассказала Соне о случившейся беде. Посидели, погоревали, поплакали и решили, что об этом никогда не будут вспоминать сами и с Зайнап на эту тему говорить не будут.
Соня написала письмо мужу, объяснила, что должна сейчас пожить у мамы, выходить ее, поставить на ноги; что он должен ее понять и не должен обижаться. Тимофей Сергеевич очень любил Сонечку, ее мягкий покладистый характер, ее хозяйственность сделали их отношения добрыми; они как бы срослись воедино. Одиноко ему было без жены, но он ее понимал и согласился потерпеть.
– А может быть, привози маму и Зайнап, пусть у нас поживут, ну, на время, пока мама окрепнет? – сказал он Соне по телефону.
– Ну что ты, Тимоша! Зайнап же через неделю учиться начнет в педучилище, учебный год начинается. И мама не согласится, да и не выдержит она такую дальнюю дорогу. Уж потерпи, миленький, я все здесь налажу и приеду.
На том и порешили.
Сестры заготовили тетради, ручки, купили новый портфельчик к первому сентября. Соня и мама проводили нарядную девочку до калитки, дальше она не позволила, она же теперь студентка, а не первоклассница.
Первое сентября пришлось на субботу, решались организационные вопросы, списывались расписания занятий, получали учебники и знакомились друг с другом.
Мальчиков было всего двое в их группе: один – очкарик, низенький, хилый, молчаливый; другой – высокий длинноногий и длиннорукий, несуразный, похожий на Буратино, этот был очень общительным. Он вмиг со всеми перезнакомился, уже разузнал, как зовут преподавателей, кто из них очень строгий, а кто нет, в общем, его старостой и назначили. Он, как и Зайнап, был полукровкой, от русской матери и отца-узбека, говорил на двух языках свободно; они с Зайнап сразу стали друзьями и уселись за один стол.
На следующей неделе, в субботу, забежала Лариска, стала рассказывать о новой школе, что там почти все такие богатые, некоторых и в школу, и обратно на машинах возят; не преминула вскользь сказать, что ее папа получил повышение, теперь и ее часто на машине возят.
– Ой, Зайнап, видела я твоего Петра, пьяный-пьяный, его патруль прямо с площади забрал.
– Какой он мой? – потупилась Зайнап. – Один танец с ним станцевала, чем же он мой?
– Нет, Зайнап, он в тебя влюбился, точно. Мы с мамой в Военторге были, так он меня так тихонечко спросил, что это тебя не видно и где ты живешь? Хорошо, что мама не заметила, было бы мне тогда!
– И никогда не говори! Мне учиться надо, а не с лейтенантами гулять!
Девочка никогда не считала дни между «этим», а мать, еще не набравшаяся сил и позволившая себе расслабиться, уйти в болезнь (ей стало нечего делать, Соня всю работу по дому взяла на себя, вот мать и стала прислушиваться к толчкам в сердце, к боли, время от времени прикладывала руку к груди и вслушивалась в неровный ритм изношенного сердца). Так и проглядели главное – Зайнап была беременна. На удивление, при всей своей хрупкости она совершенно не чувствовала, что в ней зарождается новая жизнь, ей не тошнило, голова не кружилась. Она вместе со всеми бегала и прыгала на физкультуре, с Соней они срезали уродившийся в том году виноград и таскали тяжелые ящики на подворье соседям, которые за полцены скупали, а потом перепродавали золотые гроздья крупного винограда.
Как-то мать заикнулась, что совсем дешево отдаем, на что Соня резонно ответила:
– А что же с ним делать? На зиму вам оставим, я с собою ящичек увезу, а остальное в землю закапывать? Я продавать не пойду, Зайнап тоже, а о тебе, мамочка, и говорить нечего. Пусть хоть половина денег вам достанется, да я немного помогу, зиму проживете. Еще дров и угля подкупим, чтоб печку было чем топить.
Соня прожила в Самарканде больше месяца, по мужу скучала, а ее Тимофей Сергеевич истосковался вконец. Уработавшись на службе почти до полного бессилия, он все-таки садился к столу и писал своей Сонечке очередное письмо: приезжай, милая, совсем мне без тебя одиноко. А потом вызвал жену на переговоры и сообщил, что ему предлагают повышение, но ехать нужно далеко и срочно.
– Куда же, Тимоша?
– Не телефонный разговор. Предлагают два места, нужно срочно принимать решение. Вылетай завтра же.
Сонечка и сама понимала, что зажилась она у мамы, и мать это понимала, но так ей спокойно и размеренно жилось за старшей дочкой! Расставание было горестным, плакали все. Зайнап так и не рассказала сестре о перенесенном насилии, она снова купалась в любви матери и Сони, в их заботе; она сама уже почти забыла о случившемся.
«Это» у Зайнап еще не перешло в четкий цикл, оно то было, то не было; она ведь еще совсем маленькая была, и ни мать, ни она сама не обратили внимание, что уже третий месяц ее трусики оставались чистыми.
Мужу Сони предлагались два места: одно в Украине, тоже с повышением, а другое в Узбекистане, на самой границе с Афганистаном, здесь условия жизни и службы были сложнее, но зато перспектива карьерного роста просматривалась далеко вперед. Судили-рядили недолго, Сонечка своим светлым умом и советом помогла мужу принять правильное решение.
Конечно же, он с десяти лет, с самого Суворовского училища уже принадлежал армии, и для него в его жизни служба и повышение в званиях были самым главным. И, конечно, его любимая Сонечка, которая за ним, как нитка за иголкой, следовала всегда и сразу.
А еще Сонечкой руководило ее доброе сердце. Гарнизон, где им предстояло служить, был не так далеко от Самарканда, значит, у нее теперь будет возможность чаще видеть маму и сестренку.
Прошел еще месяц. Соня уже устроилась на новом месте, жилище у них было в старом двухэтажном доме, мебель была казенная, тогда так в армии было принято. Интендантская служба выдавала по реестру молодым офицерам кровать, шкаф, стол и пару стульев, некоторым еще солдатскую тумбочку и тяжелую дубовую табуретку удавалось получить. На всех предметах гвоздиками были прибиты металлические таблички с выбитыми на них пяти-шестизначными номерами. Приехал служить – получи, уезжаешь – сдай все по описи целым и невредимым.
Конечно, старшему офицерскому составу давали и кресла, и диваны. Это было очень удобно и не отяжеляло быт офицеров. Однако вещи, переходившие из рук в руки, имели далеко не новый вид и долго хранили стойкие запахи прежних хозяев.
Сонечка была отличной хозяйкой, она быстро сумела сделать жилище одомашненным и уютным. Белоснежный тюль на отмытых сверкающих окнах, тяжелые, с бахромой портьеры и подходящие к ним покрывала, коврики на отскобленном добела деревянном полу – и за три дня ее каторжной работы квартира превращалась в теплое семейное гнездо.
Приближались ноябрьские праздники, служба у Тимофея Сергеевича была трудной, поглощавшей почти все его время, дома он бывал редко. Соня тосковала в одиночестве, подруг она не заводила, ни с кем не судачила, занималась домашними делами, шила себе, маме, Зайнап блузочки, юбки и с нетерпением ждала, когда увидит своих родных.
Начинались полевые учения. Тимофей Сергеевич был бесконечно занят, дома только ночевал, даже на обед ему не всегда удавалось заскочить, перехватывал что-нибудь в солдатской столовке. Наконец он отпустил Соню в Самарканд, с условием: через две недели он снова пришлет за нею машину, и она не будет задерживаться с возвращением.
Приехала Соня к матери, предела радости не было, обнимались-целовались, приплясывали и подпевали, мерили привезенные Соней обновки, и все были безмерно счастливы. Соня привезла и корзину продуктов, паек у мужа был объемным, и им хватило, и для мамы сэкономила.
За истекшие месяцы «благополучная» дочь не появилась у матери ни разу, она даже не знала, что мать тяжело болела. Сама не пришла, Зайнап хотела к ней заехать, но мать запретила и адреса не дала, только тихо промолвила:
– Отрезанный ломоть. Забудь.
А другая приезжала, опять такая же бедная и несчастная и снова беременная. Разделила мать и сахар, и крупу; овощи, виноград и яйца разложила по авоськам и корзинкам, и отправился нагруженный «караван» из материнского дома: дочь впереди, а за нею ее выводок, каждый с поклажей.
И ей ничего о болезни матери не сказали – зачем? Она и так несчастная, и если бы даже вдруг в ее сердце нашлось бы хоть какое-нибудь сочувствие, она ничем бы помочь не смогла, а стала бы еще несчастнее, еще больше терзая больное материнское сердце…
Сонечка кроила и шила юбку и блузку по старым меркам. А оказалось, что девочка как-то неравномерно поправилась, блузочка на груди не застегивалась и юбочка на талии не сходилась. Соня с матерью переглянулись, страшное подозрение мелькнуло в их глазах, которое переросло в тихую панику.
Зайнап прекрасно носила беременность, даже не подозревая о ее существовании. Мать как-то вспомнила, что давно девочка на боль в животе не жалуется, не бегает мыться и менять трусики по три-четыре раза в день. Вспомнила, да и отмахнулась, чем-то отвлеклась.
Теперь же страшная догадка (да уж какая догадка – понимание!), что Зайнап беременна, обожгла и Соню, и мать. Стали расспрашивать про «это», но уж если мать, родившая шестерых детей, ничего не заподозрила, то что же мог понять четырнадцатилетний ребенок, увлеченный учебой в техникуме. Там же все было по-новому: и преподаватели к ним относились, как к взрослым, некоторые даже обращались к студентам на «вы». Новые дружбы, походы в кино, в театры – Зайнап вся была во власти этих новых ощущений. Она чувствовала, что платья и юбки облегают ее плотнее, но считала, что просто поела побольше, аппетит у нее действительно стал неуемный, все чего-то хотелось пожевать, то лепешку схватит, то кисть винограда. Ела все подряд и с большим удовольствием, радуя мать своей непривередливостью, а мать-то ни сном ни духом не предполагала, что ест-то теперь девочка за двоих…
Времена были строгие. Когда одинокие женщины рожали ребенка, их осуждали все – и на работе, и соседи, и семья. Никто не хотел подумать, что ее обманули и бросили, или она была одинока в том критическом возрасте, когда рожать уже времени почти не осталось, а хотелось стать матерью. Этих женщин клеймили позором, а детей их вслух называли нагулянными или подзаборниками. Узбечку вообще могли забить камнями. Слава богу, великий Советский Союз к этому времени так перемешал все нации и народы, что кроме дальних кишлаков, чистой узбекской крови почти не осталось.
Рожали тогда одинокие. Кто от неистребимого желания материнства, кто от безвыходности положения. Но это были взрослые женщины, а Зайнап была маленькой девочкой, которую и защитить было некому, ни отца, ни старших братьев у нее не было.
Соня истоптала все ноги, но все-таки нашла акушерку, которая за большие деньги согласилась прийти к ним домой и осмотреть Зайнап.
– Да вот он! Вот сердечко бьется, – послушав трубочкой где-то под пупком у девочки.
Расспросив Зайнап и мать, акушерка определила:
– Уже четыре месяца, сейчас быстро расти начнет, со дня на день зашевелится. И крупным будет. Доносит ли девочка, хрупкая она очень. Скорее всего или сбросит, или не разродится. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Увезите-ка вы ее куда-нибудь, на показ соседям не выставляйте, засмеют и запозорят.
Зайнап с испугом смотрела на акушерку, на Соню, на мать – она не могла осмыслить, что говорит эта женщина. Потом тихонько заплакала, прижалась к Соне, несчастная и до конца не понимающая, что же происходит.
Акушерка получила свои деньги, обещала, что нигде, никогда и никому не расскажет об их беде. И добавила:
– Если сбросит, похороните дитеночка тихонько, где-нибудь подальше. А уж если рожать будет – без доктора вам не обойтись, девочка сама погибнуть может.
Страшные слова, страшный приговор повис в воздухе. Долго молчали. Матери капель сердечных накапали. Соня заварила чаю, запарила его мятой, всем налила и начала разговор:
– Ребенка будем рожать. Я съезжу домой, поговорю со своим Тимофеем, если он согласится, мы Зайнап заберем к себе; родит, дальше видно будет.
Для себя Сонечка уже решила: она уговорит и мужа, и Зайнап, и ребенка они возьмут себе. Усыновят или как-нибудь уж оформят. Что Тимофей согласится, Соня почти не сомневалась, он уже заговаривал, что, может быть, мальчика или девочку из детдома взять… Соня с ним соглашалась, только хотелось им уже осесть где-то постоянно, чтобы ребенка не таскать по разным гарнизоном.
Только одно сильно смущало Соню: сумеет ли муж понять то несчастье, которое случилась с сестренкой? Он раньше очень любил Зайнап, любил как дочку. Сумеет ли он не осудить ее сурово, он ведь мужчина, у них свои взгляды, и они сильно отличаются от женских. Хотя в истории с Зайнап ее вины не было, мужчина не всегда все может понять. Они сами совершают необдуманные, а иногда обдуманные и жестокие поступки, но так уж у людей повелось, что всегда и во всем винят женщину. Не захотела бы, оно бы и не случилось. Хотя Зайнап была абсолютно невиновна, но кто же это видел? Кто может подтвердить? Никто…
– А ты, Звездочка, доучись до зимней сессии, сдай экзамены и я тебя заберу. Только одевайся теперь в узбекские платья, в них никто ничего не заметит. Удивятся – скажешь, мама так велела одеваться. Они тебя все любят и особенно донимать не будут, успокоятся.
Бедная та моя девочка! Что же ты испытала и сколько тебе еще пережить придется! – Соня обняла сестренку, прижала ее к себе и погладила по голове. – Не плачь, мы с мамой тебя никому в обиду не дадим.
И она все-таки решила до отъезда встретиться с Петром, поговорить с ним. Но ни матери, ни Зайнап она о своем решении не сказала.
Соня и сама точно не знала, как построить разговор, как донести до человека, какой чудовищный поступок он совершил, как усовестить его? И чего она от него хотела, она для самой себя не знала.
Петр попал в Узбекистан по своей вине. Он был от хорошего корня: его дед был из семьи обедневших дворян, настолько обедневших, что их за дворян и не считали. Маленькое именьице под Тверью едва прокармливало большую семью. Прошение за прошением, все-таки деда взяли в юнкерскую школу; он стал боевым офицером, очень смелым и разумным, солдат берег, не угнетал. Пришла революция, он вместе со своим полком перешел на ее сторону. Его оценили по боевым заслугам и уму, стал он в Красной армии командовать полком, дивизией; стал штабистом – стратегом, его даже Сталин знал. Дважды его забирали на Лубянку, но по распоряжению Самого Берия вынужден был его отпускать.
Отец Петра тоже был кадровым офицером, в Великую Отечественную отличился, много орденов и медалей заслужил, а к концу войны получил генеральские погоны и должность в Генеральском штабе.
Само собою вытекало, что единственный его сын тоже должен стать офицером. Вопреки и против воли матери, любившей и балующей свое единственное чадушко, которое уже в свои юные лета развлекалось, как хотело, пользуясь занятостью отца и его неучастием в воспитании сына и безумной и бездумной любовью матери, генерал отдал мальчишку четырнадцати лет отроду в Суворовское училище. Не мог потомок офицера, сам боевой офицер видеть разболтанность и разгильдяйство своего сына. Потом «поступил его» в высшее военное училище, уже маячила впереди академия и блестящая карьера, но сын его, взяв от отца и деда молодецкую стать, мужскую красоту, увы, не взял ответственность, порядочность и обязательность.
Не в отца он пошел и не в деда, а видно, в прадеда, прокутившего и проигравшего в карты все состояние и оставившего семью без средств к существованию.
Перед самым выпуском из училища Петр связался с женой заместителя начальника училища, дело едва не закончилось трибуналом. Полковник явился домой раньше времени и застукал курсанта-выпускника в своей спальне вместо присутствия последнего на учебных стрельбах.
Полковник отшвырнул от себя бросившуюся к нему неверную жену, а вскочившего на ноги в чем мать родила курсанта одним ударом в скулу завалил обратно на кровать, развернулся и вышел и квартиры.
– Сейчас он вернется с пистолетом и перестреляет нас, уходи, уходи быстрее!
А курсант держался за сломанную челюсть и выл от боли, выл в голос, не сдерживая себя.
Петра на курсе не любили за заносчивость, чванливость. И задиристым он был, как галльский петух, Многие «мелочи» в его поведении замалчивались и скрывались, но этот скандал скрыть уже никак не удавалось.
Генерал сам приехал разобраться во всем, а к этому моменту кто-то из однокурсников его сына подбросил начальнику политотдела толстую записную книжку, где рукою Петра записывались и комментировались «перлы», вылетающие изо рта командиров, и основное их число принадлежало самому же этому начальнику: «совещание у нас закрытое, мы тут собрались узким кругом ограниченных людей»; «сегодня мы празднуем…летие со дня смерти В.И. Ленина»… – там было много всего написано, гаденыш упивался своим превосходством в образовании, комментировал цитаты очень и очень жестко.
Полковник, прошедший всю войну и волею судеб из простого работяги ставший политруком, проходил свои университеты в окопах и на передовой, был косноязычен и не очень образован, но уважая его боевые заслуги и награды, ему давали дослужить именно в этом училище, чтобы он мог получить жилье в Подмосковье.
Дело нужно было улаживать, старый воин был унижен и оскорблен, на просьбы начальника училища и генерала-отца он отвечал требованием партийного и судебного расследования, вмешательства военной прокуратуры.
Спасла Петра сломанная челюсть, перелом оказался сложным и требовал оперативного вмешательства. Быстренько снарядили санитарную машину, усадили в нее раненого и отправили в Москву, в госпиталь.
Начальнику политотдела срочно дали трехкомнатную квартиру в новостройке на окраине Москвы и с почетом проводили на пенсию. Заместитель начальника получил повышение и в течение одной недели вместе с женой отбыл к новому месту службы.
А Петру диплом достался «автоматом», он лечил свои «боевые ранения» до самого выпуска в училище. И, как ни рыдала его несчастная мать, генерал отправил своего сынка из столицы аж в Узбекистан, где он служил кое-как, таскался по бабам, какие только подстилались под него; пил часто и помногу, иногда до полной отключки; играл в карты и всегда и везде находил повод для драк и разборок; сквернословил и поносил всех, кто попадался под руку.
Соня нашла возможность поговорить с Петром. Она приехала в гарнизон, нашла его и встретилась с ним в парке, возле танцплощадки – якобы она привезла ему письмо от знакомой девушки.
Петр с удивлением смотрел на незнакомую женщину. Соня, увидев его, отметила про себя, что он статен и красив, даже в какой-то степени обаятелен.
– Какое письмо вы мне хотите передать и от кого оно? – он уже приготовился к заигрыванию с этой красивой молодой женщиной, разулыбался, пытаясь очаровать ее.
– Нет никакого письма. Я должна вам сказать, что Зайнап, моя младшая сестра, беременна, срок уже большой…
– Какая Зайнап? – резко перебил Петр. – Мало ли беременных ходит, я-то здесь причем? Не знаю никакой Зайнап!
– Ты при том, что летом возле арыка ты изнасиловал четырнадцатилетнюю девочку, ее зовут Зайнап. Ты с нею танцевал на танцах, а потом, видимо, выследил, подстерег и изнасиловал.
– Я не только на танцах танцую, я и в гости к девушкам хожу, они этим счастливы. А с вашей малолеткой у меня ничего не было, что я, дурак, что ли, по статье идти? Не удастся вам меня в это дело впутать, не знаю я никакой Зайнап. И на арыке я не был, а если и был, вы ничего не докажете.
– Я не доказывать хочу. Я говорю, что по твоей вине девочке испорчена жизнь. Ты взрослый мужчина и должен нести ответственность и за нее, и за ребенка. Или мне надо идти в политотдел?
– Нет, вы точно сумасшедшая! Вы что, хотите, чтобы я пошел к начальству за разрешением жениться на малолетке? Хотите, чтобы я стал посмешищем для всех? Может, еще хотите, чтоб я вашу замазуру, чурку узбекскую, в Москву, к своей маме повез?
Соня размахнулась и со всей силы отвесила ему звонкую оплеуху, рука у нее была крепкой, и удар, видимо, пришелся туда, где раньше был перелом, – подлец аж присел от боли и завыл.
– Будь проклят ты и все твое отродье! Будь проклят! – Соня даже не подумала, что именно его «отродье» она будет растить и воспитывать…
Не рассказала Соня ни матери, ни Зайнап об унизительной встрече с негодяем. Потом она обдумывала каждое слово: ну, хорошо, а если бы он сильно испугался, и испугавшись, все-таки решился бы жениться на Зайнап, какая жизнь была бы у этой несчастной? Пьяница, драчун, насильник – он никогда бы не простил девочке своей испорченной карьеры, своего позора – ведь действительно признать насилие было позором, а как по-другому он мог объяснить необходимость срочной женитьбы на несовершеннолетней девочке? Он бы издевался над нею, мучил ее повседневно, пил бы и гулял, ненавидя люто и ее, и ребенка.
Соня даже как-то легче вздохнула: теперь она с чистой совестью возьмет ребеночка и отдаст ему всю накопленную и еще неосуществленную материнскую любовь. И она будет его любить, и Тимоша. С этим он и поехала к мужу.
Не вдаваясь в подробности, Соня четко и внятно донесла до его сознания суть случившегося. Тимофей вскочил, побагровел:
– В порошок сотру негодяя!
– Не сотрешь, Тимоша. У него папа бо-о-олыпой генерал в Москве, отмажет сынка. Но девочку опозорят, и жизни ей больше не будет. Да и какая она мать в четырнадцать-то лет? Она сама еще совсем ребенок, она даже не поняла, что уже несколько месяцев беременна.
– Ну, хорошо. Она ребенок, Но мать ваша куда смотрела? У нее шестеро детей, она-то могла подумать, что после насилия может наступить беременность? Или для нее козы были дороже, о них думала?
Тихая, ласковая Соня впервые за многие годы жизни с Тимофеем, неожиданно для себя самой, для осевшего от неожиданности мужа, вдруг ударила кулачком по столу:
– Не смей так говорить о моей матери! Она детей сама, без отца, подняла и поставила на ноги! У нее дети не знали, что такое голод, что такое хлеба в доме нет. Для нее козы – это еда для детей, копейка, чтобы купить им обувку и одежку! У нее руки от работы, как у древней старухи; она после отца ни одного мужика в дом не впустила, это с тридцати шести-то лет! Она все делала для своих детей. И меня ты взял девочкой, а не пользованной, что же ты такое говоришь?
– Значит так, – продолжила Соня, успокаиваясь. – Ты решаешь, приедет ли к нам Зайнап и здесь доносит ребеночка, и мы его усыновим, или я на все время уеду к матери и буду сама решать, как поступить дальше.
– Сонечка, не сердись! Я очень уважаю твою маму, за все уважаю, хотя бы даже за то, что она никогда не просила помощи у меня. Я знаю, что ты им всегда понемногу помогала, но мама твоя очень гордая и очень честная женщина, прости меня, Сонечка! Я знаю, что Зайнап не виновата, но вот ведь случается такое!
Помолчали. Тимофей «переваривал» то, о чем рассказала ему Соня. В его голове не укладывалось, что их Звездочка носит в себе, в своем хрупком чреве нового человека, как он вообще может поместиться в маленькой девочке?
– Знаешь, Сонечка, ты права. Сделаем все, чтобы Зайнап родила ребенка, пусть живет у нас. Но нужно, чтобы ее никто с животом не видел, а ты, наоборот, надевай что-нибудь, чтобы полнее быть, будто ты беременная, объяснять ничего никому не надо, склеится-сложится, все будет хорошо.
Подошла сессия, Зайнап сдала экзамены, маленький человечек в ней время от времени переворачивался с боку на бок, ее худенький животик менял форму: то становился удлиненным, то вытягивался по диагонали, ей было удивительно, странно и смешно.
От Лариски пришлось прятаться, та бы уже, наверное, сумела заметить, высмотреть перемены в Зайнап. Ее и так уже раздирало любопытство, чем это так занята ее подружка? Когда она стучала в дверь, Зайнап быстро пряталась в заднюю комнату, сидела, не шевелясь, а мать как бы тоже сильно удивлялась:
– Сама не знаю! Опять почему-то задержалась в училище. У нее там так много дел: то концерт готовят, то стенгазету выпускают, а может, к экзамену готовится, у них теперь не так, как в школе, два раза в год нужно экзамены сдавать.
Время было зимнее, темнело рано, Лариска, выпив чаю (молоко теперь покупалось только для Зайнап), убегала, прося передавать привет и приглашая подружку к себе в гости, в гарнизон.
В январе Соня забрала Зайнап к себе. Тимофей Сергеевич готовил себя к встрече с девочкой, но все равно на лице его отобразилось удивление и смятение, когда девочка разделась, и он увидел выдающийся вперед живот, ну просто как проглоченный мяч, уже большой и круглый.
Акушерка была права – плод был крупный, детский организм не справился с непосильным грузом, и в начале февраля у Зайнап с ночи начались схватки. Тимофей Сергеевич сам пошел к врачу, начальнику санчасти:
– Жена рожает, в город везти уже поздно, помогите.
Военные врачи умели все: удалить аппендицит, наложить гипс, вынуть пулю и даже принять роды.
Взяв все неотложные инструменты, доктор вошел в квартиру и увидел корчующуюся в страшных муках девочку. Возмущаться и удивляться было некогда, уже показалась головка. Так, развернуть ее, вывести плечико, ну, тужься же, малышка! Тужься!
– А-а-а-а, мамочка! А-а-а, Сонечка!
Девочка, появившаяся на свет, была точно больше двух килограммов, и она никак не была дистрофиком; другая маленькая девочка добросовестно выносила ее в своем чреве. Эта, родившаяся, закричала сразу громко и требовательно, извещая о своем появлении:
– Вот я какая! Вот такая! – набрала в легкие воздуху и закричала еще раз.
Зайнап, измученная такой непосильной работой, от которой даже взрослые женщины обессиливают полностью, напоенная горячим сладким чаем, крепко заснула.
Соня вместе с врачом убрали послед, обработали пуповину, завернули в куски чистых простыней – пеленки еще не заготовили – маленькое, тепленькое существо, которое, наоравшись, заснуло.
Тимофей Сергеевич, тоже измученный всем этим действом, повел врача в ванную вымыть руки. Соня быстро собрала на стол. Уселись и начался долгий и трудный разговор.
Соне вкратце пришлось рассказать о жизни семьи после смерти отца, о беззаветной жертвенности матери, выкормившей и поставившей на ноги всех шестерых детей, уже и Зайнап учится в педучилище. О несчастье, случившемся с девочкой. О том, как она, Соня, не сможет никогда родить своего ребенка, потому что в девичестве жестоко простудила свою женскую детородную область, о том, как много лечилась везде и у всех. И снова о Зайнап – замечательной, чистой, доброй девочке.
Соня рассказывала и плакала, и убеждала врача:
– Мы с мужем воспитаем эту девочку, она наша, родная.
Врач, проживший очень много на свете, уже дослужившийся до звания майора медицинской службы, видел-перевидел всякое, сейчас был удивлен, потрясен и растерян. Удивлен тем, что увидел, как девочка-подросток, пусть семь месяцев, но выносила вполне жизнеспособного детеныша; потрясен всем увиденным; растерян от самой сути просьбы. Ведь супруги просили выписать справку, что ребенка родила Соня…
– Это же нарушение всех законов, меня же разжалуют и засудят, если узнают о подделке. Мне уже на пенсию пора, дослужить бы, дождаться бы, чтоб квартиру где-нибудь в России дали! А меня в тюрьму упекут! Где гарантии, что наша юная роженица не захочет потом, когда повзрослеет, созреет, взять ребенка себе?
– Доктор, мы с вами военные люди, у нас граница рядом, где гарантии, что нас не убьют здесь, сегодня или завтра? Поймите, это же родные сестры, девочка еще никак не может стать настоящей матерью, ни физически, ни материально. А мы с Сонечкой столько лет лечились, чтобы родить, мы так хотели ребенка! Сам Бог нам послал эту девочку, мы всю свою жизнь положим на ее воспитание, а насчет вашего жилья – я приложу все силы, подключу всех бывших сослуживцев, имеющих полномочия, я обязательно вам помогу!
Уговорили доктора, сегодня же он выписал официальную справку, заверенную всеми имеющимися печатями, о рождении на дому у Ф.И. О. девочки весом два килограмма двести граммов, длиной сорок три сантиметра – в десять часов сорок пять минут, 2 февраля 1960 года.
К груди девочку не приложили. Соня туго спеленала длинным холщевым полотенцем грудь Зайнап, которую распирало и распирало пришедшее молоко. В первые часы малышку напоили слегка подслащенной водичкой; Тимофей Сергеевич немедля на машине сгонял в кишлак, купил козьего молока, парного, только что сдоенного. Соня разводила молоко четырьмя частями кипяченой воды и кормила маленькую прожорливую девчонку не по часам, а когда та требовала громким настойчивым плачем.
С этого времени они с Тимофеем навсегда забыли, что такое покой, чем дальше – тем больше, точно по поговорке: маленькие дети спать не дают, а большие жить не дают…
Зайнап после родов немного оправилась, окрепла. Тот же доктор написал ей справку о длительном и тяжелом заболевании, чтобы предоставить в училище. Пора уже было ей отправляться домой и продолжать учебу. И жизнь.
Девочка все это время с удивлением смотрела на младенца, на то, как Соня кормит, купает, пеленает ребенка, и несколько раз пыталась помочь сестре. Соня строго запретила Зайнап брать ребенка на руки, боялась, что в девочке, не дай бог, заговорит материнский инстинкт. Хоть годы и юные, а вот дала же ей природа, хоть и не до конца, выносить вполне здорового ребенка. Вдруг и чувства материнские зародятся?
Утром Тимофей Сергеевич ушел, попрощавшись с Зайнап:
– Поезжай, сестренка, домой и забудь все, что с тобою случилось. А еще тверже забудь о Галочке (так в честь матери назвали новорожденную). Я тебя люблю, но к нам ты пока не приезжай, живи своей жизнью, распорядись ею с умом и береги себя.
Поцеловал и ушел. Зайнап плакала, она все-таки уловила укор в словах Тимофея, а главное, теперь она никогда не будет желанной гостьей в их доме, это она тоже поняла четко.
Соня тоже плакала, ей было жалко сестренку, но она полностью поддерживала мужа – никому не нужны никакие воспоминая.
Пришла машина. Зайнап тихонечко попросила:
– Сонечка, можно я просто посмотрю?
Подошла к кроватке, оторопела: на нее смотрели как будто бы уже совсем понимающие глаза, глаза в пол-лица, огромные, голубые – глаза Петра.
Отскочила, схватила приготовленную Соней коробку с продуктами, свою сумку, чмокнула сестру в щеку и бегом выскочила на улицу.
Эти же глаза она увидела лишь через двадцать лет…
Зайнап вернулась в училище с немного осунувшимся лицом, похудевшая, что-то в ней изменилось, взгляд стал серьезным и устремленным в себя. Но время шло, вот и день рождения настал, ей исполнилось пятнадцать лет. Мама напекла пирожков; по дороге в училище Зайнап купила несколько бутылок лимонаду, и после занятий устроили в аудитории праздник. Долговязый староста собрал денег, успел сбегать и купить Зайнап подарок. Он не додумался купить ей шарфик, какие-нибудь духи или брошечку, он купил большую куклу с большими голубыми глазами. Зайнап заплакала, все приняли ее слезы за радость и благодарность, но она плакала совсем по другой причине.
Нельзя сказать, что в ней проснулись или зародились материнские чувства, Соня правильно поступила, не дав ей ни разу приложить ребенка к груди и не дав подержать на руках. Но иногда Зайнап просыпалась ночью, как будто от пристального взгляда больших голубых глаз – она не успевала их рассмотреть, видение сразу исчезало.
Эта кукла снова напомнила обо всех злоключениях, поэтому девочка и заплакала.
Подошло лето, наступили каникулы. Зайнап работала по дому, теперь уже не она помогала матери, а, наоборот, мать помогала ей. Они обмазали дом свежей глиной, смешанной с соломой и коровьим пометом; побелили дом внутри и снаружи, обрезали засохшие ветки винограда, насажали много ярких цветов, их дворик был чистеньким и нарядным.
Соседи поговаривали, что скоро все их дома снесут, переселят по квартирам. У кого было хозяйство и большие огороды, те сильно переживали, а Зайнап с матерью слушали и не понимали, хорошо это будет или плохо?
– Меня Якуб сюда привел в восемнадцать лет, мы тут жизнь свою начинали, все вы тут родились и росли. Жалко будет уходить, да и лишимся мы и кур, и яиц, и винограда, – говорила мать.
Овощей в тот год посадили совсем немного, только для себя. У несчастной сестры свекровь умерла, муж от пьянства сильно болел, ничем не хотел заниматься. Теперь все хозяйство, большой дом и денежки, припрятанные свекровью-скрягой, перешли к ней с полного согласия свекра. Вдруг оказалось, что она может управлять этим хозяйством с умом и рачительностью. Советы давал свекор, совсем еще не старый мужчина. Они и хозяйством занимались, и уединившись где-нибудь в закутке, любили друг друга. Наступил мир в доме, стол был сытным, пьяница-муж ни о чем не догадывался, он уже и пить-то не мог, почти все время лежал, печень у него разваливалась и сильно болела. Врачи говорили, что лечить уже поздно, еще помучается немного и умрет.
Перестала дочка приходить и обдирать мать, богатела на глазах, но помощь ни матери, ни Зайнап не предлагала.
Соня каждый месяц с оказией пересылала им понемногу продуктов, а то и денежку положит. В письмах писала о своих заботах: Галочку на прививку носила, Галочке шубку купили, все о Галочке, о Тимоше – реже. Она была откровенно счастлива, и никто никогда не подумал бы, что не она в чреве своем выносила и родила этого ребенка.
Мать с опаской поглядывала на Зайнап: вдруг заревнует, потребует вернуть ребенка? Но Зайнап была спокойна, она радовалась за Соню и за девочку и ни разу не вспомнила, что это ее дочь.
К концу лета Соня сообщила, что их переводят, заехать она не сможет, лететь они будут прямо с их аэродрома военным транспортным самолетом до Москвы, а потом будут добираться до нового места службы на поезде. Она, как всегда, выезжала вместе с мужем, несмотря на то, что теперь у них была маленькая дочка Галочка.
Матери так хотелось увидеть свою Сонечку! И хоть бы одним глазком взглянуть на внучку, но Соня и Тимофей держались твердо, они даже фотографии девочки не пересылали.
Снова подошел сентябрь, началась учеба. Зайнап приходилось ездить на автобусе на другой конец большого города. Соня переслала три отреза костюмной шерсти, мать с Зайнап скроили девочке две красивых юбочки, жилетку, а пиджак сами не решились шить, заказали в ателье. Девочка повзрослела, еще больше похорошела, а в новых нарядах она была очень привлекательна, на нее оглядывались. Пытались с нею познакомиться, но она сторонилась всех особей мужского пола – животный страх сковывал ее при воспоминаниях о пережитом и еще больший при мысли, что такое может когда-нибудь повториться.
В один из осенних вечеров Зайнап возвращалась из училища позднее, шла подготовка к концерту, посвященному Великому Октябрю. Сначала репетировали пьесу, у нее была роль узбечки, которая, ослушавшись отца и братьев, красных бойцов, сняла чадру и показала лицо иноверцам. В финале ее забрасывали камнями, и она героически умирала, но чадру не надевала, потому что верила в революцию, в то, что женщина будет равна с мужчиной, она верила в будущий коммунизм на всей земле… У нее сохранились яркие узбекские платья и шаровары, в них она будет играть в пьесе, а потом танцевать народный танец со своим долговязым старостой.
До автобуса они шли вместе, он по-братски чмокнул в щеку свою подружку, подсадил в переднюю дверь – и она лицом к лицу столкнулась с Петром.
– О, Змейка, здравствуй! Как ты похорошела, глаз не оторвать!
Зайнап потупилась, дверь уже захлопнулась, выскочить она не могла. Краска залила ее нежное личико, глаза наполнились слезами от стыда, а еще больше – от страха.
– Ну чего ты, Змейка? Да не бойся, я тебя обижать не стану, я провожу тебя до дома, вот и все.
– Не нужно меня провожать, я вас не знаю и знать не хочу.
– Ой ли? Мы что же, совсем не знакомы? Или у тебя память плохая? Или «таких», – он выделил это слово, – много, не я один был?
– Оставьте меня, – девочка дрожала всем телом и плакала.
– Эй, хороший русский офицер, зачем обижаешь маленькую узбекскую девочку? – вступился пожилой узбек в стеганом ватном халате, в тюбетейке и резиновых калошах.
– Да чего ты к ней прицепился? – поддержал узбека второй, стоявший рядом с Петром офицер. – Тебе что, мало скандалов, чего нарываешься?
Петр посмотрел на него тяжелым взглядом, перевел его на Зайнап, подмигнул, оскалился:
– Ладно, живи, Змейка, да запомни – мы обязательно встретимся. Обязательно! И скоро!
Старый узбек взял девочку за руку:
– Не бойся, кизим, не бойся. Где ты живешь? Я тебя домой отведу.
Через некоторое время, недели через две-три, Зайнап вместе с сокурсницами вышла из училища. Была уже поздняя осень, но дневное солнце еще пригревало, листья с чинаров опадали, ковром устилали землю и шуршали под ногами. Молодежь шла, поддевая эти сухие листья, Зайнап тоже сосредоточилась на них, на их шорохах и вовсе не заметила, что невдалеке притаился Петр. Он уже не первый раз приходил на эту остановку – что за служба у него была и где он брал столько свободного времени? – приходил и высматривал, куда утром входит и откуда вечером выходит Зайнап. Теперь он тайком запрыгивал на заднюю площадку автобуса и, пригибаясь и скрываясь, дождался, когда Зайнап сошла на своей остановке, выпрыгнул следом за ней.
– Здравствуй, Змейка! Видишь, я тебя нашел, теперь я знаю, где ты живешь, спрятаться тебе не удастся, придется со мною видеться.
Онемевшая, обомлевшая от ужаса Зайнап смотрела на Петра, как на чудовище, он и был чудовищем, только обличенном в человеческий образ.
Девочка стремглав кинулась к калитке, но он перехватил ее руку, рывком прижал к себе:
– Моей будешь! В субботу приду к фонтану на площади, посмотрим, куда сходить. Хочешь, в кино? Или в кафе? – он наклонился, поцеловал Зайнап в губы. – Ладно, иди, успокойся. В субботу в два часа буду ждать.
Девочка вбежала в дом, закрыла дверь на щеколду и буквально сползла на пол.
– Звездочка, это ты? Хорошо, что пришла, иди сюда, помоги мне.
В ответ не раздалось ни звука, мать выглянула из соседней комнаты, увидела сидящую на полу с безумными, испуганными глазами девочку.
– Доченька, милая, что с тобою? Тебя обидели? Ну, говори же!
– Это опять он. Он нашел меня.
– Кто он? Это тот мерзавец? Да как же так можно? Что же делать? Соня сейчас так далеко, посоветоваться не с кем. И защиты у нас никакой нет. Нет, я пойду в гарнизон, Ларисина мать скажет мне, к кому нужно обратиться, я все, все расскажу, я найду на него управу.
– Мамочка, мамочка, что ты такое говоришь? Кому ты все расскажешь? И что ты будешь рассказывать? Что я родила ребенка? Что у Сони не ее ребенок? Что ты будешь рассказывать, тем более Ларискиной маме? Сразу все и обо всем узнают и опозорят всю нашу семью. Соне не звони, она издалека нам не поможет, только переживать будет. Я сама подумаю, как мне быть. Я подумаю.
Прошла почти неделя, наступила суббота. Зайнап из училища ушла пораньше и отправилась домой другой дорогой.
Петр высматривал ее возле училища, уже все вышли; Зайнап среди них не было. Он понял, что она сбежала раньше, но все-таки дошел до фонтана, не увидел девочку, разозлился, грязно выругался, доехал до ее дома, как раз в тот момент, когда в калитку входил Азиз, старший брат Зайнап, появившийся без предупреждения после многолетнего отсутствия. Последние четыре года о нем ничего не было известно. После отъезда он первое время слал хоть короткие весточки о себе, но было непонятно, где и кем он работает? Потом он вообще пропал, обратный адрес на своих письмах он никогда не писал. Мать переживала, а потом решила – будет как будет.
Ему теперь было двадцать пять лет, он был невысоким, коренастым, с крепкими широкими плечами. Выглядел он намного старше; на лице от виска до подбородка шел неровно заживший шрам. Одет он был в телогрейку, с одной сумкой в руках.
Мать и Зайнап выскочили во двор, стали обнимать гостя, повисли на нем; он скупо улыбался и говорил:
– Да ладно-ладно, хватит! Идем в дом, давайте заходите!
Мать поставила на горячую печку воду, согрела ее, набрала в корыто, в кувшин, хотела помочь сыну, но он выпроводил ее за дверь. Только вдруг оглянувшись, мать увидела, что он весь расписан синими чернилами, у него на груди, на руках, на спине и кресты, и какие-то церкви, и буквы русские написаны, не смогла рассмотреть, дверь захлопнулась.
Быстро собрали на стол, особенного у них ничего не было, обе клевали, как птички, понемногу и без изысков. Нашелся кусочек брынзочки, от вчерашнего – полкурицы, лепешки мать сегодня пекла, яичницу сгоношила.
– А выпить есть чего?
– Есть немного прошлогоднего вина, а больше ничего, сынок. Ты кушай, кушай, да о себе расскажи. Где же ты так долго был? Ничего не писал, мы уже думали-думали, да ничего не придумали. Решили, как Бог даст, так и будет.
– Вот и дал ваш Бог, вернулся я.
Зайнап помнила брата семнадцатилетним, он хороший был, добрый, всегда ей помогал, они вместе и за травой ходили, и клети за животными чистили, он даже коз умел доить. И играл с нею.
– А что так бедно живете? Ни мяса, ни колбасы, ни сыра нет. Хлеб хоть есть, масло?
– Лепешки я утром напекла, сынок, свежие. А масла нет, мы со Звездочкой редко его покупаем.
– А что ж, козы где, кролики?
– Продали. Я за ними смотреть не могу, сердце у меня болит. Зайнап тоже долго и тяжело болела, вот Соня приезжала и все продала.
– Соня-то как? Уже генеральша?
– У Сони все хорошо. Они сейчас в Белоруссии служат, дочка у них маленькая.
– Родила все-таки?
– Родила, девочка у нее, скоро годик будет.
– Ладно, посмотрим, как дальше быть. Немного отдохну и работать начну.
– А где ты будешь работать? На кого-то выучился?
– Выучился, мать, выучился. Где сам, где помогли, – и ничего больше о себе Азиз не рассказал.
– Все, устал! Спать хочу! Я буду жить в этой комнате, сюда не заходите, нужно будет убраться – сам сделаю. Не суйтесь сюда, – и ушел в свою комнату, дверь плотно закрыл, пошуршал-пошуршал немного и захрапел громко и заливисто.
Ни подарка матери за долгие годы разлуки, ни гостинца младшей сестренке не привез и не вручил…
Шло время, Азиз то исчезал, то появлялся, то был весел, то зол, но дома все больше молчал. Вопросы матери он не слушал и не слышал и не отвечал на них. Иногда вдруг давал матери деньги, большими купюрами, ей даже страшно было их брать. А однажды подарил Зайнап сережки и колечко с синими и белыми камешками, но оговорил:
– Ты пока их не надевай, это твое приданое будет, на свадьбу наденешь. Жених-то есть? Уже пора, тебе ведь уже шестнадцать должно быть? Ладно, не стесняйся, я сам тебе жениха найду. Богатого. Хватит вам с мамкой горе мыкать.
Как бы и посочувствовал, но не по-людски, с ухмылочкой, захолодела у Зайнап спина от этих слов.
Петр некоторое время не появлялся, потом устерег Зайнап почти у самого ее дома:
– Ну, Змейка, хватит прятаться, я уже устал за тобою охотиться. В субботу приходи в гарнизон, в клубе танцы будут, ты же любишь танцевать? Ты пойми, ты мне нравишься. Да и кому ты теперь, кроме меня нужна, ты же порченая. Не придешь – Лариске, подружке твоей все расскажу, вот уж всем потеха будет! И расскажешь, кстати, ребенок-то куда делся? Или твоя сестрица просто пугала меня? Смотри, я ведь могу поразузнать, что, где и как было. Так что приходи, не ломайся, часов в семь буду тебя в клубе ждать.
«Что же делать? Что делать?» – мысль метрономом билась в мозгу. Рассказать матери – не поймет, а если поймет, то сердце ее не выдержит такого позора. Рассказать Азизу? Нет, нельзя, он какой-то совсем чужой, просто живет с ними под одной крышей, иногда сидит с ними за одним столом да посмеивается:
– Что, буржуинки, объелись уже своей лапшой да лепешками? Подождите, принесу вам осетринки копченой да икорки, хоть узнаете, что настоящие люди едят.
Чужим он стал, совсем чужим… Денег почти не давал, зато оделся во все новое: брюки дудочками, туфли на платформах, рубашки яркие, а галстуки разноцветные менял чуть ли не каждый день. Иногда пропадал на несколько дней, домой возвращался опухший от пьянства, вонючий и злой, отлеживался и снова исчезал.
Мать несколько раз пыталась спросить Азиза, чем он занимается, он вначале отвечал шутливо:
– Тебя туда не возьмут. Вот Зайнап сгодилась бы, – он глумливо осматривал ладную фигурку сестры и ее красивое личико.
В какой-то раз ответил матери грубо;
– Что ты все суешься? Меньше знаешь – крепче спишь! И не задавай больше свои дурацкие вопросы! – он был обозлен чем-то своим, а сорвал свое зло на матери.
В этой семье было и огромное горе, и нужда, но никогда не было брани, на мать никто никогда не поднимал голос, а с приездом Азиза в доме стало душно и смрадно.
Зайнап написала Соне письмо, рассказала о Петре, о возвращении Азиза, о его непонятной жизни и попросила у сестры совета. Соня вскоре прислала ответ: что же я могу сделать, как могу вам отсюда помочь? От Петра держись подальше и Азиза остерегайся, не от добра и не с добром он вернулся в родительский дом…
Приближался Новый год. Зайнап шла из магазина домой, и опять неожиданно появился Петр и преградил ей дорогу:
– Послушай, Змейка, я от своего никогда не отступался и не отступлюсь. Выбирай, как Новый год встречать будем – или ты ко мне в гарнизон придешь, или я к вам. Порасскажу кое-что твоему братцу-уголовнику, пусть потешится!
– Хорошо, я приду в гарнизон. Я у Ларисы буду, – потупившись, тихо прошептала девочка.
– Ты Лариску не пристегивай, у нас с тобою другие дела. Потанцевать с тобой хочу!
– Нет. Я буду у Ларисы. Я приду на танцы, если ее родители нас отпустят, одна я не приду.
– Придешь! И будешь делать то, что я скажу! Всегда!
Развернулся круто и зашагал в сторону остановки.
Откуда вдруг взялся Азиз? Как черт из-под земли выскочил.
– Что это за фраер? Чего он от тебя хочет?
– Знакомый моей подруги из гарнизона, привет от нее передал, приглашал с ними Новый год встречать.
– Ишь ты, раскатал губы! Так я тебя и отпустил! При мне будешь, в ресторан с друзьями пойдем.
Зайнап смотрела на брата с удивлением – что он, отец ей, что ли? Или он ее воспитывал, кормил-одевал все эти годы?
– С чего это ты решил, что будешь мною командовать? Как сама решу, так и будет.
– Смотри-ка ты, взрослая стала? Голосок прорезался? – искренне удивился Азиз. И обозлился. – Защитника нашла? Так я ему быстро крылья пообломаю! И тебя поучу, как со старшим братом разговаривать, онански джаляб! – грязно выругался по-узбекски. – Так поучу, что запомнишь!
Со злостью дернул сестру за руку и потащил домой. Тяжелую сумку с продуктами тащила Зайнап, Азиз всем своим видом показал, кто в доме хозяин.
Неотвратимо быстро приближался Новый год. Дома оставаться было нельзя – Азиз сказал, что соберутся его дружки. Одного из них как-то случайно увидела Зайнап в городе с Азизом, он был огромный и угрюмый, они с братом что-то обсуждали, ссорились, жестикулировали и ругались матом. Если все дружки брата такие, то какой же праздник получится?
К счастью, за три дня до Нового года заскочила Лариска, у нее было много новостей, хотелось пошептаться, но на улице было ветрено и холодно, а доме был Азиз. Зайнап скороговоркой спросила:
– Может, я к вам приду встречать Новый год, спроси у своей мамы.
– Да чего спрашивать? Она рада будет. Папка на дежурство на сутки заступает, приезжайте вместе с мамой, отец машину за вами после обеда пришлет. Он все перед мамой оправдаться не может, уже второй раз под Новый год дежурить уходит. А тут вы будете. Может быть, нас с тобою на танцы отпустят. Все, договорились, я побежала.
Зайнап в отсутствие Азиза, его не было уже два дня, не вводя мать в самую глубину своих размышлений, стала уговаривать ее:
– Поедем к Ларисиным родителям, там Новый год встретим, там весело будет.
– А как же Азиз, доченька? Он обидится, Звездочка, он ведь за столько лет первый раз в семье будет Новый год встречать, нельзя его оставлять.
– Он может в ресторан пойдет. Или приведет к нам своих дружков, я одного видела, он такой страшный! Я боюсь, мамочка, Азиз теперь совсем другой, его уголовником называют, и дружки его такие же. Он сказал, что я должна его слушаться и делать все, что он скажет. Нехорошо сказал, грубо. И Сонечка пишет, чтобы мы с ним поосторожнее были, она ведь больше нашего повидала и больше нас понимает.
– Нет, дочка, я в чужой дом не пойду. А о тебе подумаю, может, отпущу. Хотя и там безопаснее ли? Где этот подлец, который обидел тебя? Он еще там?
– Не знаю, мамочка, я его никогда больше не видела, – соврала девочка, отвернувшись и занявшись каким-то делом.
– Смотри, доченька, будь осторожна. Конечно, если Азиз придет со своей компанией, хорошего будет мало. Тебе с ними делать нечего. И спрятаться в городе негде, не у кого. Отпущу я тебя, ты пока помалкивай, и я промолчу, потом что-нибудь придумаю.
Вот и пришел Новый год! Зайнап, Лариска и ее мама сидели за праздничным столом втроем. Шампанское открыть не могли, не умели. Наконец пробка с шумом выскочила, долетела до потолка, брызги залили все вокруг, но все-таки успели, успели до двенадцатого удара часов поднять бокалы и дружно закричать «уррра!», и пожелать друг другу счастья и здоровья. Ларискина мама поцеловала обеих девочек и с улыбкой сказала:
– Как вы выросли, какими взрослыми стали! Совсем разные, но обе такие красивые, стройные! Небось мальчишки проходу не дают? Смотрите, девочки, поосторожнее с ними, вам еще только по шестнадцать будет, еще полтора года до окончания школы и училища, а там и об институте пора задуматься. Ты, Зайнап, наверное, теперь в педагогический пойдешь? А моя Ларисочка еще не поняла, кем хочет быть. Мы, наверное, весною уедем отсюда, папу нашего должны перевести. Жалко, не в Москву, там было бы из чего выбирать, – вздохнула женщина, прожившая с мужем всю жизнь по гарнизонам. Для нее слово «Москва» было недосягаемой мечтой, но такой желанной!
От впервые выпитого шампанского девчонки раскраснелись, развеселились, стали у матери в клуб отпрашиваться:
– Вон, мамочка, сколько народу на улице! Все в клуб идут! Мы же вдвоем, что с нами случится? Ну, мамочка, миленькая, золотая, ну отпусти! Мы часика полтора-два потанцуем и вернемся целыми и невредимыми.
Зайнап молчала. Ей очень хотелось потанцевать под хорошую музыку, в клубе играл духовой оркестр, но она знала, что там будет Петр…
Мать постучала в дверь к молодым соседям по площадке – не пойдут ли они в клуб? Пойдут?
– Тогда я девочек своих вам доверю. Присмотрите, чтобы их никто не обидел, а когда натанцуетесь, приведете домой.
Девочки переглянулись – Лариска была счастлива до самых ноготков, накрашенных по случаю Нового года ярко-красным лаком. Зайнап была радостно-испуганной:
«Да что ж мне его теперь всю жизнь бояться? Ничего плохого он мне в клубе не сделает, а больше я с ним никуда не пойду», – думала девочка.
Петр был со своим другом с Виктором. Он высматривал поверх голов, когда же появится Зайнап? Он был уверен, что она обязательно придет, куда ей деваться. Женщина должна быть послушной, восточная – тем более, а уж беззащитная – эта должна быть полной рабыней!
При появлении девочек на его лице засияла победная улыбка, он добился своего! Вразвалочку они направились к подружкам, поздравили с Новым годом и пригласили в буфет:
– Пойдемте, шампанского выпьем, пирожных много вкусных завезли!
– Нет-нет, нам лимонаду! – Лариска сразу согласилась идти с ними в буфет.
Виктор взял под руку Лариску, Петр – Зайнап, с многозначительным взглядом.
Уговаривали девочек, уговаривали и таки уговорили выпить по бокалу шампанского, пенистого, игристого напитка, все вокруг его пили, ведь Новый год!
Себе мужчина взяли водки, они уже слегка навеселе были, решили добавить. Зайнап отвлеклась, помахала рукой Ларискиным соседям – мы здесь, мы на месте, не волнуйтесь, а Петр, воспользовавшись этим моментом, вылил в бокал девочки рюмку водки. Девочка не поняла, отчего вино горше, чем они пили дома, спросила, а Лариска, пробуя свое шампанское, ничего особенного не заметила, но объяснила со знанием дела:
– Раз бутылка другая, значит и вкус другой. Пей!
Зайнап впервые в своей жизни попробовала вино. Оно водилось в их доме всегда – чистое виноградное вино, без дрожжей и без сахара, так, перебродивший виноградный сок. Мать угощала им участкового, рассчитывалась, когда привозили дрова или уголь. Но даже их чистого домашнего вина Зайнап пробовать не приходилось – ни мать, ни Соня, ни Тимофей Сергеевич, никто в их доме вина не пил. А уж ей и мысли такие в голову не приходили.
Еще голова не проветрилась от выпитого дома новогоднего бокала, а тут Петр подсунул страшную смесь, от которой и более опытные дуреют. Зайнап стало плохо, она вышла на свежий воздух, ее стошнило, все выпитое и съеденное фонтаном изрыгнулось из нее. Платье было испорчено, в зал возвращаться было нельзя, да и сил у нее не было, все плыло и качалось, она едва стояла на ногах.
А тут и Петр вышел, накинул на девочку ее пальтишко и повел в сторону офицерского общежития, уговаривая:
– Как же в таком виде домой явишься, тем более к Лариске? Сейчас платье застираем, утюгом просушим и вернемся в клуб.
Зайнап соображала совсем плохо и послушно шла, поддерживаемая Петром, шла к своему эшафоту, совершенно не осознавая этого.
Петр все рассчитал правильно: в общаге было пусто, кто в наряде был, кто праздновал Новый год в клубе или у знакомых. Он почти без сопротивления снял с Зайнап платье, белье, обтер ее тело влажным полотенцем и уложил на свою кровать. Платье стирать он и не думал. А девочка вдруг заснула крепким сном. Он любовался ее фигуркой, маленькими тугими грудками, одновременно стягивая одежду с себя. Улегся рядом, прижался к телу девочки, стал медленно и искусно поглаживать ее грудь, соски напряглись, стали как спелые вишни; упругий животик, ножки, снова возвращался к груди, языком касаясь сосков, опять блуждал по животику и что-то случилось! Девочка непроизвольно стала отвечать на умелые ласки, нет, не девочка, ее юное тело стало отвечать на ласки, она открылась, словно утренний цветок.
Петр был не очень трезв, но обладание этим прекрасным телом, затрепетавшим в ответ, доставило ему такое удовольствие, какого он не испытывал никогда во всем своем многолетнем опыте.
Он утомил себя раз, снова принялся ласкать Зайнап, и снова тело девочки ответило ему, оно трепетало и извивалось в приливе животной страсти.
Зайнап наконец стала осознавать, что с нею происходит, пыталась вскочить и убежать, но Петр удерживал ее, удерживал и приговаривал:
– Какая ты горячая, Змейка моя, какая горячая! Теперь ты навсегда моя, понимаешь? Да не плачь, не плачь, я, может, женюсь на тебе, тебе уже шестнадцать будет? Пойдем распишемся, в Москву поедем. Хочешь в Москву? Тогда люби меня! – и снова, и снова овладевал ею.
Зайнап уже не сопротивлялась, ее физическое естество созрело для любви. Но было стыдно и страшно – вдруг она опять забеременеет? Но тело уже отделилось от головы, оно трепетало, двигалось, наслаждалось, и хоть голова и подавала сигналы тревоги, они были намного слабее животного инстинкта.
Время напомнило о себе, когда народ стал расходиться из клуба. Шум, песни, приближающиеся к общежитию, заставили их опомниться. Судорожно натягивая белье, платье, пальтишко Зайнап вместе с Петром выскочили на улицу и бросились к клубу.
Верный друг Виктор не оставлял Лариску ни на минуту, заговаривал ее и ждал появления Петра, он уже давно понял, где его друг и что делает…
Лариска смотрела на Зайнап широко открытыми глазами:
– Ну, где же ты была, наши соседи не дождались, ушли, попадет нам от мамы, бежим скорее.
Схватились за руки, помчались не оглядываясь. А Петр еще и присвистнул им вслед – точно как тогда, на танцплощадке.
Мать сквозь сон не поняла, одни ли они пришли, или в сопровождении соседей, посмотрела на часы, буркнула:
– А обещали через два часа. Скоро уже утро наступит, быстро спать!
Зайнап сняла испачканное платьице, от него шел неприятный кисловатый запах, сунула его в свою сумку и тихонько, на цыпочках прокралась в ванную. Во рту у нее был противный привкус, а от трусиков и лона шел странный, неведомый запах. Она погладила свою грудь, соски снова налились, и сладко заныло внизу живота…
Лариска уже заснула, Зайнап была этому рада, надо врать, а она еще не придумала, что и как говорить. Тело ее вспоминало пережитую близость, вздрагивало, судорога проходила по нему сверху донизу.
Слава богу, мозг ее просветлел полностью, понял, что произошло то событие, которое теперь полностью перевернет жизнь. Вот только каким боком теперь эта жизнь повернется к ней?
Лариска, проснувшись, первым делом допрос учинила:
– Куда это вы с Петром спрятались? Мы вас и в зале, и в буфете искали, Куда вы ходили? Мы обыскались. И соседи нас ждать устали, ушли домой. Я прямо испугалась, почти все уже разошлись. Попадет нам от мамы!
– У меня сильно разболелась голова, меня стошнило, мы с Петром возле клуба прогулялись и вернулись.
– Ну, не знаю, я смотрела во все стороны, а тебя нигде не видела. А потом Витя мне начал всякие такие вещи говорить, что я красивая, что у меня платье очень нарядное, затанцевал меня за колонну и целовать начал, представляешь, прямо в губы, и так долго, я чуть не задохнулась. Мы с ним договорились в кино сходить, а вы с Петром целовались?
– Я же говорю тебе, меня стошнило. Я все платье испортила, – Зайнап в подтверждение достала из сумки платье с пятном. – Вот видишь? А запах от него такой ужасный, какие тут поцелуи? Мне самой неприятно. Чем это они нас напоили?
– Чем-чем? Шампанским, ты же видела, из бутылки наливали. Только маме не проговорись, ходи пока в моем халатике. А хочешь, давай постираем платье, до завтра оно высохнет, и пойдешь домой.
– Нет, нет, я сегодня, сейчас побегу. Там мамочка одна, ей, наверное, очень грустно без меня.
Петр отсыпался целый день. Проснувшись, потянулся, осмотрелся, друга в комнате не было – заступил в наряд. «Эх, надо было Змейку не отпускать, до чего хороша девчонка!» – подумал он, встал, попил воды и снова залег спать.
Зайнап добежала до остановки, теперь город почти примыкал к гарнизону, заскочила в автобус, доехала до своего дома, Мать была одна, выглядела она очень усталой и печальной.
– С Новым годом, мамочка! Я тебе здоровья желаю и счастья! – застрекотала Зайнап. – А мы даже шампанское пили, тетя Катя нам разрешила, от него так кружится голова! А ты почему такая грустная? Потому что я ушла?
– Не знаю, как тебе сказать, Звездочка. Вчера вечером Азиз заехал на такси, заскочил в дом, тебя искать начал, везде искал – не нашел, спросил, где ты. Я сказала, что ты с подружками встречаешь Новый год. Он точно сбесился, со стола скатерть с посудой – я же стол накрыла! – сбросил на пол, перебил все и орал на весь дом, что убьет и тебя, и меня. Его, мол, друзья ожидают, он одному обещал тебя привезти, а что теперь ему делать? Я сказала, что он не имеет права тобой командовать и распоряжаться, что не должен на меня кричать. Звездочка, он ударил меня, сильно ударил, я даже упала. А он, не обернувшись, ушел, – мать горько заплакала.
Зайнап смотрела на мать с ужасом и неверием: как можно было поднять руку на мать, ударить ее? Что ж он за нелюдь стал, если ударил мать? Она его родила, вырастила, одна, без мужа, он никогда слова грубого от нее не слышал, как он мог? Подлец, негодяй!
А мать продолжала сквозь слезы:
– Нельзя тебе, Звездочка, тут находиться, много зла он нам принесет, да мне-то уж чего, я перетерплю и перемолчу. Но тебя он в покое не оставит, раз уж кому-то пообещал тебя отдать – в покое теперь не оставит. Давай-ка, книжки, одежку собери в сумку, поедем к Татьяне, поживешь пока у нее.
«Слава богу, – подумала Зайнап, – теперь ни Азиз, ни Петр меня не найдут. Хоть бы еще год продержаться, училище закончу и уеду подальше от Самарканда».
Татьяна встретила мать и сестру с удивлением – что это они заявились?
– С Новым годом, доченька. А мы вот решили поздравить вас, гостинцы детишкам привезли.
– Спасибо! Мансур, иди сюда и детей позови!
Мать удивилась, что дочь не мужа своего, Юсуфа, зовет, а Мансура?
Вошел свекор Татьяны, а за ним, как утята за уткой, выводком детишки.
– А где же Юсуф?
– В сарае. Пить уже не может, а все пьет, неделю уже пьет. Рак у него. А все никак не умрет! – со злостью ответила дочь.
А была она уже кругла, и не от полноты, а видно, уже семь-восемь месяцев беременность у нее была.
– А что ж ты опять рожаешь? От пьющего, от больного?
– Не от пьяницы, а от меня, – за Татьяну ответил свекор. – Мы теперь муж и жена, вот Юсуф умрет, мы отношения оформим.
И, правда, детишки к деду своему обращались «ота», папа.
Мудрая-премудрая мать сидела с полуоткрытым ром, пытаясь переварить, воспринять услышанное. И как теперь здесь Зайнап оставить? Это же не дом, это вертеп какой-то!
– Давайте, садитесь за стол, отметим Новый год, – предложил хозяин, помогая Татьяне выставлять закуски и вино.
– Зайнап, ты же поступила в педучилище, учишься? – спросила сестра.
– Учусь. Уже на втором курсе.
– Тяжело?
– Нет, я справляюсь, учусь хорошо, стипендию получаю.
– А пожила бы ты немного у нас, тяжело мне и с детьми, и по хозяйству управляться. Мансур помогает, но он еще работает, тоже устает. А я вот-вот рожать буду.
Мать и Зайнап переглянулись. С одной стороны, не нужно ничего объяснять, прося о временном пристанище. А с другой – на плечи Зайнап ложился тяжкий груз, мать себе представляла, что Татьяна не станет жалеть сестренку, все хозяйство на нее переложит, да и родив, не поспешит снять. А Зайнап, девочка добрая и безотказная, станет у них работницей и в доме, и в хлеву. Да этот еще новоявленный зять-свекор – сват, что этот еще учудить может?
– А что ж, Юсуф сюда пьяный не зайдет?
– Не зайдет. Мы его на замок закрываем, поесть дадим да бутылку. Чтоб он уж захлебнулся! – ожесточенность Татьяны, конечно, была объяснима: сколько унижений, сколько побоев ей пришлось пережить от мужа!
А отец Юсуфа за нею ухаживал, берег, помогал, вон как тяжелую кастрюлю выхватил, не позволил поднимать. А сына своего презирал. За все. За то, что жену молодую не берег, не защищал, матери злонравной не перечил; за то, что жену унижал и бил, даже когда она на сносях была; что спился; что детям своим ничего купить не мог. И что не хотел и не пытался отстоять свое право на жену… Пустое место было, а не человек.
Так и держали они его в сарае, точно ненужную скотину, бесполезную обузу, которую еще и кормить-поить надо.
Вышли Зайнап с матерью во двор, посмотрели друг на друга, обе с виною, со слезами. Слезы матери были от бессилия защитить свою младшенькую от Азиза, от того, что предстояло пережить девочке в этом доме. Слезы Зайнап лились от жалости к матери, она понимала, как тяжело ей: сын поднял на нее руку, он хотел заставить Зайнап жить по его правилам и в его окружении, а это добром не кончится никогда. И еще она плакала от стыда: она подвела свою маму, она обманывает ее, она себе такое позволила, что если бы мать узнала, она бы просто умерла. Она не прокляла бы, нет; она свою Звездочку любила очень сильно, она просто не поняла бы ее и стала бы еще более несчастной. Стала бы, если бы смогла пережить этот позор и выжить…
Вернулись в комнату.
– Пусть побудет Зайнап у тебя, поможет. И я, когда смогу, подойду.
Распрощались, и мать отправилась домой, не зная, что ее там ожидает, со страхом и волнением.
Зайнап сдала зимнюю сессию успешно, значит, стипендия за нею сохранялась. Экзамены назначались то через два, то через три дня, в разное время. Она не знала, искал ли ее Петр, но встречи с ним уже несколько недель не было. Девочка радовалась этому, она боялась повторения новогодней встречи, но по ночам ей снились сны, в которых Петр ласкал ее тело, целовал ее, и она просыпалась счастливой. Так все в ней перемешалось – ее целомудрие и ее проснувшаяся греховная плоть.
Дел по дому Татьяны было много, сестра к концу января разродилась в один момент, прямо дома. Прилегла на диван, отдохнуть немного решила, ойкнула раза два, закричала:
– Ой, рожаю! Зайнап, пеленки бери, воду тащи! Ой, ой, идет уже, ой, Зайнап, держи ребенка! – действительно между расставленными ногами, прямо в вытекшие на диван воды брякнулся ребенок.
Зайнап от удивления остолбенела, сестра, освобожденная от бремени, стала руководить:
– Давай, клади ребенка на меня. Кто это? Мальчик? Хорошо, что мальчик, Мансур обрадуется сыну. Неси ножницы, вымой их водкой, в шкатулке нитки суровые бери, тоже водкой залей. Приготовила? Давай, вот здесь перевязывай, молодец, покрепче затягивай. Теперь чуть повыше перережь ножницами.
Похолодевшая от ужаса девочка, впервые увидевшая рождение ребенка (о себе она вовсе ничего не помнила), непослушными руками чикнула по пуповине и разъединила мать с младенцем. Новорожденный, покряхтывающий до этого момента, вдруг заорал громким голосом.
– Я ему больно сделала? – испуганно спросила Зайнап.
– Дурочка! Это он от радости кричит, что родился радуется! Никто до него так не кричал, хилые все были, а этот в любви зачат был и выношен в любви, вон как хорошо кричит!
Отошло детское место, Татьяна встала, перенесла ребенка на кровать, поцеловала и в макушку, и в попку, и в срамное местечко. Запеленала, уложила на взбитую подушку. Потом собрала с дивана послед в тазик.
Мокрую подстилку в корыто, застелила чистое покрывало и прилегла возле младенца.
Зайнап наблюдала за нею, как будто пьесу в театре смотрела, удивлялась, как быстро рождаются дети!
Пришел Мансур, с порога насторожился – что-то не так в доме, что-то изменилось. Увидел Татьяну и лежащего рядом младенца, запричитал, заохал:
– Да как же так? Когда же ты? Что ж в больницу не поехала? – наконец спросил самое главное: – Кого родила ты мне, красавица моя?
– Мальчика. Якубом назовем, как моего отца звали, – и стала давать мужу-свекру распоряжения. – Сейчас вызови «скорою», надо, чтобы роды на дому оформили, детское место покажем, подтвердим, что дома родился, потом в огороде поглубже закопаешь, чтоб собаки не отрыли. Завтра детского врача с утра вызовешь, пусть Якубчика осмотрят. Наследник твой, сынок твой. Других обижать тоже не позволю, все из одного корня. Ну, давай, давай, иди, – подогнала Татьяна своего возлюбленного, который целовал ее, младенца, да и Зайнап досталось; приплясывал и прихлопывал себе ладонями. Его переполняло счастье – любимая женщина родила ему сына! Теперь он был отцом большого семейства – пятеро внуков, ставших его детьми, и его, именно его сын, наследник!
Весна в тот год началась резко, она ворвалась в город ярким солнцем, безветрием, теплом. В начале марта зацвели вишни, яблони, абрикосы. Хорошо, что в городском саду эти деревья не вырубили, сохранили, теперь оттуда разносился дурящий аромат цветущего фруктового сада. Застройка нового города велась по какому-то странному плану: внутри сохранялись оазисы частных домов, там тоже все цвело и благоухало. На окраинах же возводили стандартные многоэтажные дома, асфальтировали дворы, тротуары, дороги. Может быть, архитекторы просто не представляли, как соединить старый, древний, бело-голубой Самарканд с домами, напоминающими спичечные коробки, а частный сектор был разделительной чертой между стариной с богатой самобытной архитектурой и тем, что теперь строилось и уродовало самый древний и красивый город Востока?
Мать и Зайнап любили свой дом. Их дворик отличался чистотой и яркостью белоснежных выбеленных стен дома и яркими цветами, пусть ветхим, но покрашенным в ярко-зеленый цвет заборчиком. После переезда Сони жилось очень трудно, бедными они были и досыта не ели, но и мать, и девочка делали все, чтобы эту бедность скрыть.
Азиз больше месяца не показывался. «Опять сгинул куда-то», – решила мать и велела Зайнап возвращаться домой.
Татьяна не поскупилась и денег немного дала, и продуктов две тяжелые сумки нагрузила.
– Ты купи себе босоножки, платье; молоденькая ты, красивая, смотри, не оступись, мужа достойного дождись, – и не знала она, сколько всего пережить досталось ее младшей сестренке…
Опять объявился Петр, возле училища стерег Зайнап. Пока она жила у сестры, занята была с раннего утра до позднего вечера: за скотиной ходила, корову и коз доила, потом детей поднимала, завтраком кормила, старших в школу собирала и сама бегом бежала, боясь опоздать на занятия. После их окончания так же бегом мчалась в магазин, помогала сестре управляться с огромным хозяйством, потом они что-то шили – мать всем иголку с ниткой в руки вложила, штопали, вязали на всю ораву. Татьяна от трудов праведных вечером замертво засыпала, а Зайнап еще садилась за учебники. О Петре вспоминала, иногда эти воспоминания вгоняли в краску, иногда вызывали сладкую истому.
Не знала она, чего ей сильнее хочется – чтобы никогда его больше не видеть или, наоборот, чтобы он был рядом с нею. Она радовалась тому, что та безумная новогодняя ночь не оставила последствий, теперь-то она знала, что бывает от близости с мужчиной. «Интересно, – думала она, – а если бы я забеременела, женился бы Петр на мне? Он ведь говорил – женюсь, в Москву поедем…»
А объявился он только через два месяца; был он в таком состоянии, что радости от его появления Зайнап не почувствовала.
– Чего так долго? Я тут заждался, – сказал Петр так, как будто они расстались только сегодня утром или, по крайней мере, вчера вечером.
Зайнап вспыхнула, покраснела, посмотрела ему в глаза, сказала очень спокойно:
– А что, разве я обещала быть раньше? Мы договаривались о встрече?
Очень удивился Петр:
– Что это ты такая смелая стала? Забыла, что ты теперь моя, мне принадлежишь, и приходить к тебе я буду тогда, когда захочу.
– Тебе принадлежат твои сапоги, их, кстати, почистить не мешало бы. А я не вещь, тем более не твоя, и распоряжаться мною не смей. Уходи и не появляйся больше!
Зайнап круто развернулась и пошла своей дорогой.
Вначале Петр опешил, онемел: он думал, что сломал, подчинил себе девочку, что она безмерно обрадуется его появлению, бросится ему на шею или в ноги от счастья упадет, а она?!
Одумался, взъярился, догнал, дернул за руку:
– Ты поговори мне! Сейчас пойдем в кафе, потом где-нибудь уголочек поищем, я тебя, сладкую, приласкаю. Ты же хочешь этого? Ты такая, Змейка, такая горячая, много баб у меня было, а вот такой жаркой – никогда. Я занят был, не мог прийти раньше. А вот вспомнил губки твои, сосочки, всю тебя – все бросил и пришел. Не кочевряжься, давай, идем!
– Никуда не пойду, отпусти, кричать стану!
– Кричи, кричи! Только громче! И обо всем расскажи людям, и матери, и Азизу. Познакомился я с ним, даже как-то задружбанились мы, он мне денег проиграл, молодец, по-честному рассчитался: он мне тебя отдал. Я сказал, что нравишься ты мне, что жениться хочу, он и отдал, бери, говорит, все равно кому-нибудь достанется. Он, дурак, и не подозревает, что ты мне уже давно досталась. Так что, как говорится, «благословение» от старшего брата получено, как у вас, у узбеков, если отца нет, то старший брат за главного?
– Задружбанился, говоришь? Советский офицер и уголовник? Что же у вас общего может быть?
– Ты, дорогуша, ты у нас общая.
– Прошу тебя, Петр, оставь меня в покое. Ты уже сделал то, что хотел, ты мне много зла причинил. Зачем ты сейчас мучаешь меня? Отпусти руку!
– Нет, Змейка, не отпущу. Не хочешь в кафе – не надо. Пойдем к вам домой, с матерью меня познакомишь.
– Никогда! Она никогда не простит тебе, и мне не разрешит с тобою встречаться.
– Да ладно! Так прямо женихи к вам в дверь ломятся! Что ж, офицером побрезгуете?
– Не так ты разговариваешь, нехорошо. Я замуж не собираюсь, мне учиться нужно. А тем более за тебя. Нет у меня к тебе веры. И домой я тебя не пущу.
– Ладно! Посмотрим! Иди себе своей дорогой! Еще умолять будешь, а я посмотрю, что с тобою дальше делать? – развернулся и ушел.
Зайнап пришла домой, взъерошенная, хотела матери рассказать, что нашел ее Петр, тот самый, обидчик ее. Прощения просил, хотел к нам прийти, с тобою познакомиться.
Мать сидела за столом – испуганная, бледная, заплаканная.
– Что случилась, мамочка? – все мысли о Петре сразу вылетели из головы. – Что произошло? Опять Азиз объявился? Он опять обидел тебя?
– Нет, Звездочка. Были из милиции, обыск делали. Всю его комнату перевернули, нашли чужие краденые вещи. В городе шайка грабит и убивает людей, они говорят, что он тоже в этой шайке, чуть ли не за главного, вот его теперь ищут.
Мать снова заплакала, горько-горько. Зайнап ей капель сердечных накапала, чаем напоила, укутала шалью – мать знобило от волнения и страха.
– Успокойся, мамочка, поспи.
Через две ночи в окошко тихонько постучали, Зайнап вскочила, выглянула – Азиз. Палец к губам приложил и жестом велел открыть дверь.
Зайнап отворила дверь, брат ужом проскользнул в узкую щель, закрыл дверь на щеколду:
– Свет не зажигай. Что тут у вас было? Сыскари были?
– Да, два дня назад, я в училище была, при маме обыскивали все. Забрали из твоей комнаты вещи, говорят, воровал ты и убивал. Это правда, Азиз?
– Не болтай много, возьми фонарик да посвети мне.
Он отодвинул тумбочку от стены, ножом отделил слой фанеры, достал из тайника мешочек с чем-то, осклабился и произнес:
– Что, нашли?! Фиг вам! Я-то с этим добром отсижусь на дне. Из Самарканда уезжаю, не ищите и никому ни слова, что я был! А ты, Звездочка, – он впервые со дня своего появления назвал ее ласково, как в детстве, – свои цацки пока не надевай, годика два погоди, пока все утихнет. От этого лейтенанта держись подальше, нечистый он, обманет и бросит. Я его раскусил – еще тот фрукт! Мать поцелуй, прощения за меня попроси, обидел я ее, пусть меня простит, – чмокнул сестру в лоб и пошел к двери.
Зайнап тихонько заперла дверь на щеколду, не успела до своей комнаты дойти, как на улице раздались крики, в дверь громко застучали:
– Откройте, милиция!
Мать всполошилась, со сна не могла понять, что происходит.
– Вот и достали мы вашего сыночка распрекрасного. Бандюга! Нашего товарища ранил, пришлось обезвредить.
– Как обезвредить? Что означает обезвредить? – испуганно спрашивала мать.
– Да так, мамаша, пристрелили мы его, как бешеную собаку. Он, гад, вооружен был, палить по нашим начал, понял, что в засаду попал и что не уйти ему. Пришлось стрелять на поражение.
– Как на поражение? Где он? Где Азиз? – мать с безумными глазами выскочила во двор. Посередине двора, освещенного фарами милицейского «газика», лежал распластанный, неподвижный Азиз, в руке его был зажат наган.
Мать кулем свалилась на тело сына, не произнесла ни одного звука.
Соседи сбежались на шум, любопытство пересилило страх, протискивались поближе, перешептывались, пока милиционер не прикрикнул:
– Чего собрались? Расходитесь по домам. У кого телефон есть, вызывайте две «скорых» для нашего раненого и для женщины. А этого, – он указал на Азиза, – в машину назад загружайте.
Зайнап склонилась к матери:
– Мамочка, родная, не умирай! Мамочка, как же я буду без тебя?
Мать потихоньку приходила в сознание, но встать на ноги не смогла, сильная боль в сердце отразилась на лице и в громком стоне.
– Сейчас, мамочка, потерпи, сейчас «скорая» приедет. Я тебе капель накапаю, выпей, – Зайнап пыталась прикрыть от матери пятно крови, растекшееся по двору.
У матери снова случился инфаркт, ее не беспокоили, так тяжело было ее состояние. Врачи сражались, чтобы выходить эту еще не старую женщину. А Зайнап вызывали в милицию, допрашивали: что она знает о брате, с кем он водился, где его дружки? А что могла рассказать девочка? Что знала, все и рассказала, да и не знала она об Азизе ничего. Про то, что видела его с тем страшным в городе, умолчала. И о том, что брат с Петром был знаком, тоже не сказала. Интуиция ее остерегла: начнут тянуть за ниточку, да до конца и доберутся – и до ее беременности, и до ребенка… Промолчала и о сережках и колечке с синими и белыми камешками. Поспрашивали ее, поспрашивали, характеристику из училища запросили и поверили, что она не содействовала брату в его разбойных делах и ничего о них не знала.
Зайнап сообщила Соне о болезни матери и смерти Азиза. Его нужно было хоронить, а кто это может сделать? Правда, свекор – муж Татьяны взялся за это хлопотливое дело, и все потихоньку сделали – и похоронили по-христиански, в гробу, в земле. Помянули дома у Татьяны, пришла и богатая сестра, сразу разговор начала:
– Нужно дом продать, деньги поделим поровну.
– А где же Зайнап жить будет? И мама еще, слава богу, жива, ты их к себе, что ли, возьмешь? Охолонь, уймись. Лучше к матери в больницу с нами в черед поезди, побудь с нею, – одернула ее Татьяна.
Зайнап побыла у сестры пару недель, потом домой вернулась. Соседи стали на нее косо посматривать, шептаться за ее спиной, что, мол, бандита в семье скрывали, небось, он им богатство припрятал. Зарыли где-нибудь в саду, понаблюдать надо.
Опять объявился Петр. Зайнап сказала ему:
– Мама у меня лежит в больнице, Азиза убили милиционеры. Ты не ходи ко мне, тебе же плохо и будет. Азиз мне сказал, чтобы я тебя остерегалась, что не верит он тебе.
– А что, твой Азиз авторитет для тебя? Глупая ты, Змейка, кто вас может защитить, кроме меня? Я ведь женюсь на тебе, ты подрастай давай.
И остался ночевать. Бедная девочка была совершенно опустошена и оказалось абсолютно бессильной перед той жизнью, что определила ей жестокая судьба.
Соня приехать не могла, у нее болела дочка. Галочке было уже почти полтора годика, но ехать с больным ребенком Соня не отважилась. Очень она любила и жалела мать, но теперь ее главной заботой, главным смыслом ее жизни стала маленькая голубоглазая девочка.
Петр стал приходить и уходить, когда ему вздумается. Как он удерживался на службе, было непонятно. Он часто выпивал, болтался в городе, играл с кем-то в карты, выигрывал и проигрывал, хвастался и злился, бывал веселым и угрюмым. С Зайнап он был ласков только в постели, он действительно был пленен ее стройной, сформировавшейся точеной фигуркой, часто просил:
– Станцуй, Змейка, разденься и станцуй!
Он воспламенялся, когда это юное тело двигалось в ритме музыки, и был потрясен ее темпераментом, ее ответным желанием; горячим, неутомимым, извивающимся в экстазе замечательным молодым телом. В моменты близости Зайнап теряла контроль над собою, она раскрывалась на его ласки, она блаженствовала в этих безумных любовных утехах. Забывались все обиды – и безразличие к ее проблемам, и невнимательность, и грубость. Все забывала, когда он дотрагивался до ее груди, целовал шею, оглаживал спину и животик с нежным пушком возле пупка. Рука его опускалась все ниже и ниже, он добирался до какого-то секретного местечка, как будто бы что-то в ней включал, девушка начинала трепетать, начинались бурные, со стонами и вскриками, ублажения их жадных, ненасытных, неуемных тел.
Мать болела долго. Наконец врачи разрешили забрать ее домой. Зайнап и Татьяна стали думать, куда ее перевезти. К Татьяне? Нет, там дети гомонили с утра до вечера: смех, шум, плач, визг – все смешивалось и звенело, это же были дети! Там мама не сможет отдыхать, а именно покой и еще раз покой рекомендовали ей врачи.
Зайнап забирала маму в родной дом. То место, где лежал убитый Азиз, перекопали, клумбу сделали, цветы посадили. Дворик был выметенным, чистеньким, ничего не напоминало о случившейся здесь трагедии.
Петр пришел на третий день после выписки матери, представился другом Зайнап, не упомянув о сроке и характере этой «дружбы». Он служит в гарнизоне, ждет повышения, может быть, они с Зайнап поженятся, уедут жить в Москву. Потом мать к себе заберут, будет она на свежем воздухе, на даче жить. А сейчас самое главное не волноваться и выздоравливать.
Мать не видела его никогда раньше, а он ее обхаживал, обвораживал, чаю горячего наливал, то конфеты вкусные принесет, печенье, лекарства иногда покупал. Встревожиться, присмотреться у матери не было сил, все на веру принимала…
Петр и при ней стал оставаться на ночь, мать поутру видела его, качала головою, потом дочь спрашивала:
– Когда же вы жениться будете? Нехорошо так жить, соседи осуждают. А в училище прознают – неприятности будут.Однажды проигрался Петр до самых пуговиц на галифе, хоть голым иди. Стал спрашивать, может, где Азиз припрятал что-нибудь? Он был уверен, что где-то в доме и золотишко, и денежки есть. Может, правда, Зайнап и мать не знают, но наверняка этот волчара-уголовник где-то схоронил богатство!
Так думал Петр и стал поискивать, пошаривать в комнатах, пока хозяева куда-то выходили. И однажды нашел-таки коробочку, открыл и обомлел – дивные сережки и перстень были драгоценны без меры, в белом золоте был «утоплен» синий сапфир, а по периметру он был обсыпан бриллиантами. Видел он такие цацки у матери своей, генеральши, у таких же ее подружек и знал им настоящую цену.
Ничего не сказал ни матери, ни Зайнап – украл. Украл, унес, за большие деньги продал, удалось ему с карточным долгом рассчитаться, еще деньги остались за проданные «побрякушки» – так он потом называл эти драгоценности. Зайнап не сразу обнаружила пропажу, а когда не нашла свою коробочку, спросила, не брал ли Петр ее. Он ей сказал, без страха и без вины: взял, посмотрел – стекляшки лежат, зачем ей, будущей жене офицера, такие «побрякушки», он ей настоящее все купит. Зайнап ему не поверила, только долго-долго посмотрела ему в глаза, развернулась круто и вышла из комнаты со словами:
– Уходи. Ты меня постоянно обманываешь, я, конечно, еще молодая, малоопытная, но ты уже совсем заврался, даже мне это ясно. Уходи!
– Да и пойду, какие дела?Петр служил в этой части уже два года. Командир стонал от его «подвигов»; намеками, когда звонил «большой» генерал, пытался подсказать, что, дескать, молодому парню, москвичу, гнить в такой дали, можно бы его и перевести поближе к родителю.
– Что, плохо служит? Ну, потерпи, полковник, заберу я его скоро, потерпи! – успокаивал командира папаша пьяницы, картежника и гуляки-лейтенанта.
С Виктором у Петра дружба разладилась, понял Виктор, что это никакая не дружба, а так, от тоски и одинокости они сошлись. Виктор был из простой семьи, из крестьянской. Образование при их бедности он мог получить только в военном училище, где одевали и кормили. Учиться ему нравилось, парень он был башковитый, ответственный, въедливый и с амбициями. Он очень хотел служить и точно знал, что уж до полковничьих погон точно дослужится. Все выходки Петра были ему не по нраву, он пытался говорить с ним, остерегал, на что Петр ухмылялся и отвечал уверенно:
– Прорвемся!
Дважды Петр, когда проигрывался в пух и прах, а играл он с серьезными людьми, там долги не прощались, дважды он просил денег у Виктора:
– Что ты, на них спать будешь? Для чего собираешь?
– Собираю. Родителям дом новый построю. Женюсь, семья будет, дети, их кормить и одевать нужно.
– А на ком женишься, на Лариске?
– Нет, на Зайнап женюсь. Вот ты уедешь, она успокоится, забудет тебя, я на ней и женюсь. Обязательно женюсь!
Петр Виктору рассказывал о новогодней ночи, о том, что встречается иногда с Зайнап, и о том, что эта дурочка-полуузбечка надеется, что он на ней женится и возьмет в Москву.
Виктору Зайнап понравилась сразу своей скромностью, спокойным нравом, со временем его чувства стали перерастать в большую настоящую любовь. Он стал презирать Петра, даже ненавидеть, стал избегать встреч с ним и разговоров, переселился в другую комнату в общежитии. И служил, честно служил Родине. В отношения Петра и Зайнап не вмешивался, ему казалось, что Зайнап любит Петра…
Командир уже больше не мог покрывать проступки наглого лейтенанта. Посоветовались они с замполитом и решили применить хитрый тактический ход: эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать! При очередном докладе генералу командир, когда речь зашла о сынке, не стал говорить о службе, просто доложил:
– Остепеняется, остепеняется!
– Это мой-то обалдуй остепеняется?
– С девушкой встречается, вот-вот жениться собирается.
– С какой девушкой? – с опаской спросил генерал. – Из гарнизона?
– Нет, девушка-узбечка, с матерью живет в пригороде, из бедной семьи, хорошая, неизбалованная девушка, ей вот-вот шестнадцать лет должно исполниться, молоденькая совсем.
– Кто разрешил! – взбеленился генерал. – Нам только малолеток-узбечек не хватало! Ты куда смотрел?
– Да в таком деле не усмотришь, товарищ генерал.
– Твою мать! Отец-командир, называется! Что же сразу не доложил? Может, она уже и беременная? Мой кобель быстро все делает, везде поспевает.
– Не могу знать, товарищ генерал!
Генерал от души выматерил своего подчиненного и швырнул трубку на рычаг.
Уже через неделю пришел приказ о переводе лейтенанта Гуртового в Москву, в распоряжение штаба сухопутных войск.
Полковник с замполитом поняли, что их карьера с сегодняшнего дня закончилась, это было огорчительно.
– Но зато теперь его хоть не прибьют и не прирежут, и нам головы не поотрывают и погоны не снимут, пусть едет, – разумно успокаивал себя и командира замполит.
Вестовой отыскал Петра – в этот день он, к счастью, оказался в части – и передал приказ явиться в штаб.
Петр пришел в измятой гимнастерке с несвежим подворотничком, в нечищеных сапогах – никого не уважал и никого не боялся.
– Лейтенант Гуртовой, на вас пришел приказ – срочно откомандировать вас в Москву. Завтра летит наш самолет, вылет в десять часов утра.
– А что так срочно? – Петр вольно задал вопрос. – Следующим вылетом полечу, у меня есть дела в городе.
– Приказ генерала не обсуждается. К вылету подготовиться, за час доложить лично мне, – полковник побагровел от наглости лейтенанта.
Потом взял себя в руки, только скулы от напряжения задвигались, сказал тихо и внятно:
– Дела свои, сосунок, сделаешь в оставшееся время. И явишься завтра ко мне в кабинет с вещами ровно в девять ноль-ноль. Иначе я прикажу тебя связать и отправлю до Москвы товарным грузом, – и добавил на хорошем солдатском языке, что он думает об этом до смерти ему надоевшем наглом сопляке.
– Кругом! Шагом марш выполнять приказ!
А Петр как раз сейчас был в большом проигрыше, сегодня или завтра он должен вернуть карточный долг. Мелькнула наглая мысль: «А вот махну завтра в Москву, и поминай, как звали». Но он прекрасно знал, что у дружков Азиза, а именно тот ввел его в эту криминальную картежную среду, руки и до Москвы дотянутся.
Бессилие и страх приводили от одной абсурдной мысли к другой: взять деньги у Зайнап и ее матери. Да откуда же у этой бедноты такие деньги? Их он уже обобрал. Взять в кассе взаимопомощи? Там таких денег отродясь никому не давали, а тем более уезжающему навсегда. Где же? Где взять деньги? Сегодня, сейчас!
И вдруг – озарение! Деньги есть у Виктора! И он даст их Петру!
Он разыскал Виктора, сообщил о своем срочном отъезде и предложил:
– Вечером пойдем к Зайнап. Она не знает, что я уезжаю. Вот я сегодня скажу ей об этом и скажу, что ты будешь ей помогать во всем, пока я устроюсь и заберу ее в Москву. Я отдам ее тебе взамен на деньги. Она же тебе сильно нравится? А знаешь, какая она в постели? Ты мне сто раз спасибо скажешь!
– Ну и сволочь же ты! Если бы я не любил Зайнап, я убил бы тебя! Но я должен сделать ее счастливой и только ради нее я пойду на эту грязную сделку с тобою, с подонком.
– Тогда деньги давай сразу, сейчас, я их должен до вечера отдать, иначе мне каюк. А потом встретимся у Зайнап, приходи, – как к себе домой пригласил Петр. – Отметим мой отъезд.
– Деньги я тебе сейчас дам, но при жестком условии: ты больше никогда не увидишься с нею и навсегда о ней забудешь!
– Ну-ну, чего ты взъерошился? И тебе ее хватит! – но увидел налитые кровью глаза и сжатые кулаки Виктора, спешно добавил: – Ладно-ладно, все. Договорились. Верну долг – и сразу в часть.
Конечно же, Виктор не дождался Петра ни через два часа, ни в шесть, ни в восемь вечера. Как же мог этот подлец еще раз до своего отъезда не поиздеваться над несчастной, ничего не подозревающей девочкой?
Петр заехал к Зайнап, не купив в этот раз ни конфет для матери, ни гостинца для Зайнап. Он принес бутылку коньяку, попросил закуску, предложил Зайнап выпить с ним.
– Зачем мне пить? У меня потом голова будет болеть.
– Значит, пить буду один.
И пил рюмку за рюмкой, захмелел, взял Зайнап за руку и сказал:
– Я тебе скажу сегодня что-то важное и для тебя, и для меня. Хочешь знать, что?
– Говори, если это важно.
– Скажу. Только, Змейка, станцуй мне так, как ты умеешь. Разденься и станцуй, я тебя очень прошу!
– Ну что ты придумал, Петр? Тебя не было больше недели, теперь ты играешь в какие-то тайны и просишь, бог знает о чем! Не буду я раздеваться и танцевать не буду.
– Будешь! Если я сказал танцевать – танцуй! Сказал раздеваться – раздевайся!
Он швырнул Зайнап на кровать, стал стаскивать с нее одежду. Злоба перекосила его лицо, он был сильным, огромным и совершенно озверевшим. От ужаса и страха, что мать вмешается, она перестала сопротивляться:
– Не рви одежду! Я сама разденусь и станцую. Но это будет в последний раз, уходи навсегда!
– Все снимай! Голенькая танцуй!
В нем уже поднималось неукротимое желание овладеть девочкой, но звериная злоба самца, у которого отнимают самку, сдерживала его. Ему хотелось на прощание ее окончательно растоптать и унизить, чтобы она никогда не смогла забыть его безграничную власть над нею.
Он стал отхлопывать ритм; девочка, заливаясь слезами обиды, стыда и бессилия, стала двигаться, как в тумане, а он раскалялся все больше и больше.
Вдруг раздался стук в дверь, потом стук стал громче и настойчивее. Зайнап спешно натягивала халатик, пытаясь застегнуть его, но пуговицы никак не попадали в петли; растрепанная и заплаканная, она бросилась к двери:
– Кто?
– Кто там? – встревоженным эхом повторила мать из своей комнаты.
– Откройте, это Виктор. Мне срочно нужен Петр.
Зайнап, застегиваясь и поправляя волосы, открыла дверь, позвала:
– Петр, к тебе Виктор пришел. Спасибо, что ты пришел, уведи его, – со слезами на глазах попросила девочка.
Петр, увидев Виктора, ухмыльнулся:
– Что ж не дал мне на прощанье полакомиться? Ах, слово я тебе давал? Так оно ж нигде не записано! Змейка, уезжаю я завтра. Навсегда. Зашел к тебе попрощаться, а вот друг не велит. Ладно, будь здорова. Меня можешь забыть. Забудешь? Нет, не забудешь, горяченькая моя!
Сильный удар в челюсть свалил Петра с ног! Он опешил, не думал, никогда даже не предполагал, что Виктор такой спокойный и рассудительный, даст ему в морду!
– Ты чего? Ты чего? – поднимаясь на ноги, спрашивал он. – Из-за этой узбечки морду бить? Да я таких… – не успел закончить, получив еще одну крепкую затрещину.
Мать на шум вышла из своей комнаты, переведя взгляд с Петра на Виктора, Зайнап, спросила:
– Что тут происходит? Что вы делаете?
– Мама, Петр уезжает в Москву. Навсегда. Он зашел попрощаться, но слишком долго задержался, ему напоминают, в какую сторону нужно идти.
И обернувшись к Петру, сказала спокойно, настолько спокойно, что сама удивилась:
– Это очень хорошо, что ты уезжаешь. Я тебя вспоминать не буду, ничего хорошего ты в мою жизнь не добавил, от тебя только одно зло! Будь ты проклят!Опешивший Петр, заикаясь, заговорил:
– Ты, девка! Что это ты разговорилась? Знаешь, чего ты стоишь? Я тебя ему… – удар огромной силы не дал ему закончить.
Виктор взял его за загривок и вышвырнул за порог, оглянулся:
– Извините, и ничего больше не бойтесь. Вы его никогда не увидите. И я вас в обиду никому не дам. Извините!
Утром в девять Петр стоял перед командиром с распухшим разбитым лицом.
– Мать честная! Кто это тебя так на прощание отделал? Дружки твои? А если кто-то мой – звездочку ему на погоны добавлю! Катись в свою Москву, еще на одного гада в штабе прибавится. Для папаши что-нибудь придумай, чтоб не подумал, что я тебя так разукрасил. У меня алиби – я с проверяющими сутки по объектам ездил, – засмеялся командир.
Виктор пришел в выходной день, спросил, что надо сделать по дому. Мать, обессиленная болезнью, смертью Азиза, несчастной судьбой своей младшенькой, уже ничем не интересовалась, ничего по дому не делала – ни желания, ни сил у нее не осталось.
Зайнап удивилась приходу Виктора, не ожидала, что он ею заинтересуется. Она была уверена, что Петр ему все-все рассказал – и о ребенке, и о новогодней ночи, и об их теперешних отношениях. Удивилась сильно, но гнать не стала, она вспомнила, как бережно он брал ее под руку, как исподтишка бросал на нее страдальческие влюбленные взгляды. Пришел и пришел. «Только напрасно он надеется, что у них будут такие же отношения, как с Петром, – думала девочка. – Хватит, поиграли в любовь!»
Но Виктор спокойно, как хороший брат, взял девочку за руку и спокойно спросил:
– Так что нужно по дому сделать? Ты не пугайся, я ничего плохого не замышляю. У меня весь день свободен, давай делом займемся.
Они вместе успели побелить дом, Виктор подремонтировал уже совсем ветхий заборчик, подстриг сухие ветки на винограде, помог собрать овощи в огороде. От обеда, приготовленного Зайнап, отказался, но мать, впервые увидевшая его несколько дней назад, сразу прониклась к нему симпатией и доверием, сказала:
– Давай, сынок, мой руки, и все вместе поедим.
Зайнап с удивлением вскинула на мать глаза – та почти за полгода знакомства с Петром ни разу сама не пригласила его к столу, а уж сынком назвать? А Виктора назвала.
Парень покраснел от этой неожиданной ласковости, ответил еще более неожиданно:
– Хорошо, мама, сейчас доделаю дело и будем обедать.
Он стал появляться чаще и чаще, иногда бывал в городе по делам службы – тогда забегал на несколько минут, заносил какие-то продукты, целовал мать в щеку и передавал привет Зайнап. Никаких посягательств на близость Виктор себе не позволял. Узнавая девушку все ближе, он все больше любил ее и очень боялся обидеть нечаянным словом или поступком. Правда, время от времени он вспоминал Петра, его сальные смакования в рассказах о близости с Зайнап. А то вдруг вставала в памяти картина, когда Зайнап открыла ему дверь, чуть прикрывшая наготу коротким халатиком, взъерошенная, с неубранными волосами – у него в этот момент сердце заходилось от ревности! Он честно пытался соблюдать данное самому себе обещание – никогда не вспоминать о негодяе, и тем более о его взаимоотношениях с Зайнап. Но дать обещание легче, чем его сдержать. Он был мужчиной, а мужчина всегда ревновал, ревнует и будет ревновать, особенно если прошлое было. А оно было…
К декабрю Виктора повысили в звании и должности. Служил он ответственно и честно, повышение заслужил. И командир ему симпатизировал за его честное служение, а еще больше – за человеческую порядочность, за то, что не убоялся парень и отделал подлеца как настоящий мужик, за то, что стал он верным другом и помощником оставленной девушке и ее матери. Напрасно генерал упрекал его, что отец-командир не знает, что у него творится, что не усмотрел за его сыном. Все они с замполитом знали о своих подчиненных, об их семьях, детях. Иногда кого-то «подправляли», ставили на путь истинный. А о лейтенанте Шипитько он лично походатайствовал и действительно звездочку дал обещанную, за службу и за смелость – знатно он поучил генеральского сынка!
Снова Новый год приближался… Зайнап с ужасом вспоминала прошлый праздник, нужно было спасаться от Азиза, а беда пришла с другой стороны. Тяжелый был год, очень тяжелый. И вот только к его концу вернулась искренняя улыбка на славное личико Зайнап, мать стала возвращаться к жизни, стала готовить еду и с нетерпение ждала возвращения дочки из училища. И с таким же нетерпением она ожидала прихода Виктора, корила его: что ж ты, сынок, не предупредил, я бы тебе пирожки вкусные напекла или плов бы сварила, манты приготовила.
Виктор стал своим в доме. Иногда он вопрошающе смотрел на Зайнап, а она опускала глаза, зарумянивалась и улыбалась краешками губ. Новый год решили отмечать втроем, мать сказала – своей семьей. Виктор должен был идти в наряд, но сумел поменяться дежурством, объяснив командиру, что он именно в эту ночь должен быть с семьей и заручиться согласием на разрешение жениться на Зайнап.
Стол был шикарным: мать с Зайнап напекли пирогов, приготовили настоящий узбекский плов; Виктор принес бутылку шампанского, конфеты и баночку икры. Этого деликатеса ни мать, ни Зайнап не пробовали никогда, Азиз грозился накормить их «человеческой» едой, да так и не накормил. Достали из погреба огромные яблоки, красные, наливные, и грозди душистого черного и белого винограда.
Виктор на Новый год сразу после боя курантов подарил матери теплую красивую шаль, а Зайнап – маленькую бархатную коробочку, но не отдал сразу, а сказал:
– Зайнап, я тебя люблю. Я делаю тебе предложение – будь моей женой. Я буду стараться сделать тебя счастливой, у нас будут дети, будет хорошая дружная семья. И родителей своих мы никогда не обидим вниманием, будем всегда о них заботиться. Будь моей женой! – и вручил девушке колечко с розовым камешком.
Мать тихо плакала, Зайнап смотрела на нее с жалостью – сколько же ей пришлось пережить! Девушка думала: «Что Петр рассказал Виктору о ней? Рассказал ли о беременности? Хотя он сам не видел Зайнап в этом положении и о рождении ребенка только догадывался. Что же знает Виктор и о чем ему знать вовсе не нужно?»
У Виктора в эти минуты ожидания всплыли последние его встречи с Петром, он тоже переживал, не рассказал ли тот Зайнап, что он ее просто продал Виктору. Ужас охватил парня: вдруг Зайнап узнает, что он за нее деньги заплатил?
– Знаешь, Звездочка, – он впервые назвал ее, как называла мать, – мы с тобою должны условиться: то, что происходило с нами до сегодняшнего дня, ушло раз и навсегда. Мы никогда о нем не будем вспоминать, никогда и ни при каких обстоятельствах. Этого прошлого не было. Я тебя люблю, и ты меня обязательно полюбишь. Тебе весною исполнится семнадцать лет, мы пойдем в ЗАГС и распишемся. Мама, вы согласны?
Тут уж мать вовсе о болезни забыла и попросила, нет, потребовала:
– Мне шампанского налейте, я хочу за своего сына и дочку выпить! Согласна я! А ты, доченька, думай, тебе жить дальше. Только чувствует мое материнское сердце: Виктор – твоя судьба, твое счастье. Давайте выпьем за вас!
И выпила, хоть сердце – то ли от счастья, то ли от минувших несчастий – бежало, неслось, иногда спотыкалось и снова торопилось, торопилось.
– Дайте мне этого, черного, икры, что ли? Ой, какие шарики, они прямо трещат на зубах. Это что же, из этих шариков рыбки рождаются? Так жалко их поедать, – а сама с причмокиванием с удовольствием перемалывала ложечку за ложечкой.
Почти до утра сидели, мать сморилась от вкусной и обильной еды, от шампанского, ушла в комнату и заснула. А Виктор предложил погулять, оделись, вышли, взялись за руки и шли по улице, встречая счастливых людей и заглядывая иногда в окна, где вовсю еще веселились, пели и танцевали.
Потом Виктор довел Зайнап до дома, впервые обнял ее, поцеловал в щеки, в лоб, не удержался и поцеловал в губы долгим мужским поцелуем.
– Все, Звездочка, мне пора. Вы отдыхайте, отсыпайтесь Я приду в выходные, – еще раз поцеловал девочку и помчался служить Родине.
Весной сыграли свадьбу, пригласили сестер, однокурсников Зайнап. Из гарнизона никого не позвали, Лариска уже почти год как уехала, а сослуживцев звать зачем? Чтоб ненароком Петра вспомнили?
И впервые за все это время Виктор остался ночевать. Законный муж, с чистой совестью – не нарушил христианских заповедей! – лег в постель со своею женой. Он так ее любил! И так боялся обидеть даже намеком на желание близости до свадьбы.
Он был нежен, ласков, а она послушно отвечала на его ласки, была податлива, но огонь не загорался. Она думала: слава богу, закончилось наваждение! А он думал: все Петр врал про ее бешеный темперамент, все врал! Может, ничего у них и не было?
Отец-командир действительно по-отечески относился к Виктору, он одобрял действия парня и посодействовал его переводу на вышестоящую должность, с перспективой роста. Он даже отыскал своего однокашника по академии, командовавшего уже дивизией, и с лучшими характеристиками сопроводил молодого офицера к новому месту службы, не забыв попросить содействия в получении жилья.
Мать временно переехала к Татьяне, Соня приехала за нею позже. Она никак не хотела, чтобы Зайнап увидела ее дочку, точную копию отца, большеглазую, беленькую, настойчивую и характерную.
Началась кочевая офицерская жизнь. Зайнап была хорошей хозяйкой, верной и преданной женой. Никогда никто из супругов не вспоминал о юных годах. Наверное, ранние тяжелые роды Зайнап оставили свой след, она никак не могла забеременеть. Виктор все ждал, когда же она объявит ему об этом событии, но уже и четыре, и пять лет минуло, а детей все не было. Его родители в каждом письме спрашивали: когда же дитенка родите? А уж ездить к ним в отпуск для Зайнап было сущей мукой. Свекровь таскала молодуху по знахаркам, ее зашептывали, поили какими-то заговоренными отварами, сажали в бочки с горячими настоями трав, а она не беременела и не беременела, и однажды Виктор, чуть выпив, наслушавшись отца и мать, в сердцах спросил:
– Может, ты аборты от Петра делала, поэтому у нас детей нет?
То ли от всех отваров и настоев, то ли от ужаса, то ли от обиды – похолодела Зайнап, побелела, сознание потеряла.
Виктор прощения просил, руки целовал, а она, окаменевшая, молчала и молчала.
Все-таки выпросил прощение, стал свою Звездочку ласкать, целовать, и вдруг, закрыв глаза, Зайнап – за все прожитые с мужем годы – почувствовала прилив того бешеного желания, какое возникало у нее от ласк Петра. Она затрепетала, дыхание стало неровным, она сама попросила близости, так же, с закрытыми глазами, стала яростно отдаваться мужу, вскрикивая, царапая его спину, извиваясь и стеная. И вдруг, на самом пике экстаза, она обессиленная, с закрытыми глазами прошептала, нет, прошелестела:
– Петр…
Уловило чуткое ухо любящего мужчины этот шелест, замер он в последующем, завершающем движении…
Зайнап стала возвращаться из мира страсти, она даже не заметила этого слова, она была счастлива, удовлетворена впервые за пять лет их брака. Она всегда была безотказна в утолении желания мужа – утром ли, ночью, всегда, когда он ее хотел. Но такой ночи у них не было никогда.
От этой ночи через девять месяцев родился крепкий, спокойный мальчишка. Назвали его Стасиком, рос он добрым мальчиком в лоне материнской и отцовской любви, со стойким, целеустремленным характером – в отца, с нежностью – от матери.
Он очень походил на отца – овал лица, лоб, губы, нос; только глаза у него были серо-зелеными и волосы темными и густыми – в Зайнап.
Виктор частенько пристально всматривался в малыша, пока дед с бабкой с Украины не приехали на внука долгожданного посмотреть.
Раскудахталась мать:
– Ой, сыночку, да як же вин на тебе похож, точно як ты малэньким був, тильки чернявенький, як Зоичка наша.
Зоей, Зоей Яковлевной Шипитько Зайнап оформили при замене паспорта. Не хотел Виктор, чтобы хоть кто-нибудь увидел в ней юную Зайнап. Ничего из прошлого он не хотел оставлять…
А Галочке в этом году уже семь лет исполнилось, она в школу пошла. Вся в огромных белых бантах, белом фартучке, в белых туфельках, прямо Снегурочка! Рослая, красивая, упрямая и своенравная. Соня взяла мать к себе, пусть у них живет, с Галочкой пусть возится.
Взглянула бабушка на внучку – и онемела. Точно Петра в уменьшенном виде перед собою увидела! Глаза, черты лица, белокурость, даже жесты – все отцовское.
Галочка сразу поняла, что над бабушкой можно поиздеваться, посмеяться, а слушаться ее не обязательно. Даже при Соне она грубила бабушке, могла швырнуть в нее книжкой или ботинком. Только Тимофей Сергеевич был для нее авторитетом. Девчонка при нем была тихой, послушной паинькой. Соня не расстраивала его, не рассказывала о проделках дочки, а он бы и не поверил, кто это об его ангеле небылицы плетет? А вот прошли годы – и пришлось поверить…
Еще пять лет прошло. Виктор с Зоей поменяли уже три места службы, теперь ожидался следующий перевод и звание подполковника. Оставалось пройти плановую проверку на общевойсковых учениях, нужно было хорошо отстреляться в прямом и переносном смысле: на полигоне поражать цели, а проверяющих потом ублажать: упоить-накормить, с собою завернуть.
Бывало, что главных проверяющих приглашали в дом к кому-то из командного состава части, Зайнап же накрывала скатерть-самобранку быстро, умело и очень вкусно. В этот раз Виктор молчал, не предупреждал жену о возможных гостях.
Среди проверяющих был майор Гуртовой. Виктор знал, что Петр продолжает служить в штабе армии, но особенно не интересовался, что у него и как.
А Петр дослужился, вернее, его отец-генерал, «дослужил» его до звания майора, отца уже поперли из армии, власти он не имел, и все его знакомцы по предыдущей службе тоже потеряли вес – кого уже уволили, кто еще на волоске удерживался, дальше помогать продвижению почти было некому.
В общем, генеральские погоны ему не светили. После перевода в Москву, отец спешно женил его на дочери своего сподвижника, тоже генерала. Ягоды оказались одного поля: им хотелось петь, гулять, кутить, носить меха и бриллианты. Детей жена рожать не хотела, боялась фигуру испортить. Когда в их доме было затишье, они иногда принимали гостей у себя, правда, закуски заказывали в ресторане, не умела и не хотела генеральская дочка готовить. А когда наступала война – бились об пол тарелки, звенели оплеухи, звучали взаимные упреки. Она мечтала стать генеральшей, а он застрял в майорах, еще и острил:
– Что там одна звездочка, что здесь – и рвать не надо.
Он же ее тиранил за отсутствие детей:
– Доабортировалась, сука? Хоть одного роди!
Жизнь его не удалась и его не радовала.
В отличие от Виктора, Петр пристально наблюдал за перемещениями однополчанина, его рост и его звания. Знал он и о рождении Стасика – доступ к информации имел.
Он сам напросился в эту командировку. Он очень хотел увидеть Виктора, нет, не как старого друга и сослуживца, вовсе нет! Он хотел воспользоваться властью, продемонстрировать ее, упиться ею – даже проверяющий лейтенант мог бы наговнять, а уж он-то, майор, тем более.
А еще он хотел увидеть Зайнап, и не только увидеть…
Учения подходили к концу. В один из завершающих дней Петр вместе с группой проверяющих отправился к месту стрельб, но по дороге вдруг сказался больным, и его отправили обратно, на осмотр к врачу. Не доехав до госпиталя, он «выздоровел», зашел в гостиницу, переоделся и среди бела дня отправился… к Зайнап. Было лето, в школе – каникулы, Зайнап со Стасиком была на детской площадке, ребенок играл с другими детишками, а Зайнап сидела в тени на скамейке.
Он, как всегда, подкрался тихо и незаметно, выдохнул в ухо:
– Здравствуй, Змейка! Вот и свиделись. Как поживаешь?
Виктор ничего не сказал жене о приезде Петра, но для себя точно решил, что к себе домой он гостей не приведет, что умасливать их будут в кафе.
Для Зайнап появление Петра было, действительно, как гром среди ясного неба. Она смотрела на него, как на привидение, страшное и ужасное.
– Ну, чего ты так испугалась? А, Змейка моя? Ты ведь не забыла меня? Не могла забыть. А какой из этих огольцов твой? Вот этот, чернявенький? Похож на отца, но глаза твои. Да не дрожи ты так, возьми себя в руки! Вон, побелела, как стена, смотри, в обморок не завались. Ты давай-ка, договорись с кем-нибудь, пусть за Стасиком (он подчеркнул, что даже имя ребенка ему знакомо!) присмотрят, а мы к тебе поднимемся, поговорим, угостишь меня.
– Даже не надейся. Никогда, слышишь, никогда ты не будешь в нашем доме. Откуда ты опять взялся, десять лет прошло, ты обещал никогда не появляться в нашей жизни.
– Во-первых, лично тебе я ничего не обещал. Да и не появлялся десять лет. А вот захотел тебя увидеть – приехал. Давай посидим, поговорим. Нам есть о чем поговорить, а?
– Я даже здесь с тобою говорить не стану, не о чем нам говорить! Уходи!
Тут сынок к матери подбежал, коленку ударил, но изо всех сил держался, не заплакал:
– Мама, я коленку ушиб, больно!
– Ничего, Стасик, потри посильнее, она пройдет. Как тебя папа учит, а, сынок?
– А кто этот дядя? Ты его знаешь?
Петр хотел сподличать, сказать: да, я мамин и папин друг, но Зайнап опередила его.
– Это офицер, который проверяет войска. И он заблудился, дорогу найти не может. Я ему рассказываю, куда нужно идти.
Мальчика удовлетворил ответ, о боли он забыл и убежал к другим детям продолжать игры.
– Умная ты стала, Зайнап. Да смотри, не переумничай. Поставлю низкий балл твоему мужику – и накроются ваши полковничьи погоны и новая должность. Будете здесь гнить до конца жизни.
– Гнить не будем, нам с мужем и здесь хорошо служится, вот сын наш растет. Я в школе работаю, институт закончила. Все у нас хорошо. А ты иди своей дорогой и нас не пугай, мы уже пуганые!
– Слушай, Змейка, ты так похорошела, расцвела. Ты, наверное, еще горячее стала, а? Я думал, встретимся, поговорим, повспоминаем. Я тебя во сне часто вижу, я тебя ласкаю, а ты загораешься. А сейчас увидел – удержаться не могу, я хочу тебя. А я всегда своего добиваюсь, правдами или неправдами, но добиваюсь. И сейчас хочу остаться с тобою наедине.
– Ты что, сумасшедший? Что ты такое говоришь?
– Я хочу тебя, сейчас. Оставь ребенка и пойдем в дом. Или мне сегодня вечерком рассказать Виктору об арыке, о ребенке? Я ведь все разузнал, ты тогда все-таки родила ребенка, девочку. Ее Галочкой зовут, она у твоей сестры растет. Вот съезжу к ним с проверкой, посмотрю на свою дочь и решу, что дальше делать. Моя мне за десять лет никого не родила, а там уже готовая дочка, а?
Помертвевшая от ужаса Зайнап едва прошептала:
– Подлец! Чего ты еще от меня хочешь?
– Тебя хочу. Сейчас. Или – я тебя предупредил.
– Нет, никогда! Мы с Виктором уже десять лет вместе, мы любим друг друга, у нас сын растет. Умоляю, не разрушай нашу семью! Уходи, пожалуйста, уходи!
– Сейчас! Или я уйду, но ты об этом пожалеешь. Я такой фейерверк устрою, что от вашего гнездышка ничего не останется! Заметь, я ведь только правду говорить буду. Ну, а если посторонние уши услышат – я же тебя предупредил.
– Прошу тебя, Петр, пожалуйста! Уходи и уезжай, не твори беду! Ты ведь не только мне жизнь испортишь. Оставь нас!
– Я сказал – сейчас! – и Зайнап увидела снова того Петра, из молодости – злого, настойчивого, угрожающего.
Угрозы были страшными, они могут разрушить ее жизнь навсегда, и не только ее. Виктор не простит ее, если узнает о ребенке, он теперь уже и не поверит, что этот ребенок – плод насилия. А Сонечка? Что будет с нею, с Тимофеем Сергеевичем, с Галочкой, если этот гад и до них доберется?
Виктор никогда не вспоминал, что было в их жизнях до женитьбы. Он даже не сказал Зайнап, что в момент зачатия сына она произнесла не его имя, а имя Петра. Он просто жил с этим грузом, груз время от времени придавливал сердце, но Зайнап была такой ласковой и заботливой, нежной и преданной женой, безотказной в близости; она была замечательной матерью и хозяйкой, что он, думая об этом, успокаивался, и его боль от него уходила.
Женская интуиция подсказывала – Петр не отступится, она ощутила реальную опасность для всех – для себя, своей семьи, для Сони. Зверь проснулся в Петре, а зверь, пока не убьет свою добычу, будет продолжать ее преследовать. В Зайнап шла страшная внутренняя борьба, она снова была загнана в угол.
– Ну что, идем?
– Только не в моем доме. Иди в гостиницу, я через час приду.
– Смотри, Змейка, обманешь – пожалеешь, во мне все уже стоит, я так хочу тебя, – осклабился Петр своей хищной улыбкой.
Зайнап оставила Стасика с соседкой и пошла на свою Голгофу. В гостинице дежурил солдат, он показал комнату, где обитал Петр. Вошла без стука, дверь на ключ заперла. Петр к этому времени уже ополовинил бутылку, одет был в бесформенную, плохо простиранную майку, в спортивные трико с вытянутыми коленями и ползущими по швам. «Плохо за тобою жена смотрит, – вскользь подумала Зайнап. – А ты другого и не заслуживаешь».
Она молча разделась донага, легла на кровать, закрыв глаза и до боли сжав зубы.
– До чего же ты хороша! Лучше, чем десять лет назад! Но так не пойдет, ты мне станцуй, голенькая станцуй, помнишь, как для меня танцевала? Я хочу полюбоваться тобою, а потом мы будем любить друг друга!
Женщина молчала и не открывала глаз. Петр подошел, встал на колени возле кровати, стал поглаживать ее шею, грудь, живот, пытаясь вызвать у нее желание. Его рука блуждала по красивому телу, но тело было сковано отвращением, страхом и стыдом.
Он уже больше не мог сдерживаться, накинулся на нее, как дикарь, он рычал, стонал, кусал ее соски, он вонзался в нее, он владел этим прекрасным телом, которое вдруг встрепенулось, ответило, извилось, это предательское, глупое бабье тело…
– Видишь, Змейка, я говорил, что ты меня не забыла. Ты со своим такая же горячая? Моя, как доска, лежит, не шевелится. Я чтоб хоть чуть-чуть получить удовольствие, закрою глаза, представлю, что это ты, уж молочу-молочу ее, да все без толку. Ну, не торопись, не уходи, твой вернется к вечеру, вместе со всеми.
Зайнап сгорала от стыда: во-первых, за десять лет жизни с Виктором ей даже в голову не приходило, что она может ему изменить. И вот изменила. И с кем? С Петром?! А во-вторых, стыд усиливался тем, что она не совладала со своим порочным телом, которое опять жило отдельно от головы и вытворяло все, что хотело. И не заметила она в этом экстазе, что одна сережка расстегнулась, упала на подушку, а Петр ее быстренько схватил и запрятал…
Оделась, подошла к двери, не оборачиваясь, произнесла:
– Ты своего добился, ты унизил меня и растоптал. Но теперь я тебя предупреждаю: хоть слово кому-нибудь о ребенке скажешь – убью!
– Да ладно, Змейка! Тебе ведь тоже было хорошо, тебе понравилось. Давай повторим, – но увидев глаза обернувшейся Зайнап, умолк, понял – действительно убьет…
На учениях часть получила высший балл. Вечернее финальное застолье было в самом разгаре, проверялыцики, закусывая, нахваливали командование, все уже были в хорошем подпитии, а Петр просто нажрался, лыка не вязал, все пытался встать, тост произнести. Наконец ему это удалось:
– Я хочу поднять бокал за своего друга, за подполковника Шипитько, за его прекрасную жену Зайнап, которую он купил у меня. Он мне много денег дал, а я ему Змейку уступил, горяченькую, – кулем свалился на пол и тут же заснул мертвецким сном.
Все приняли слова Петра за пьяный бред, или сделали вид, но застолье весело продолжили – куда только вмещались дармовые водка и закуски?
Виктор не встал, не ушел; он собрал всю свою волю в кулак, продолжал общий разговор, но голову его стянуло как будто железным обручем, в висках бил кузнечный молот, ему бы встать и уйти, да нельзя было.
Зайнап ждала мужа, она заварила для него крепкий чай – опыт проводов комиссии уже был.
Виктор разделся, принял душ, постарался успокоить себя, сел за стол. Зайнап налила ему душистого чаю, села напротив:
– Ну, все закончилось хорошо? – спросила она. – Они завтра уезжают?
– Зоя, ты виделась сегодня с Петром?
Она весь день и вечер готовилась к этому вопросу, но все равно растерялась от его прямоты и от вопрошающего взгляда мужа.
– Да, виделась. Он приходил на детскую площадку, когда мы со Стасиком гуляли.
– И все? Больше ничего? Он заходил в наш дом?
– Ну что ты, Виктор! Зачем же я его буду приглашать?! Я удивилась, ты же мне не сказал, что он приехал, немного растерялась. Он спросил, где наш сын, сказал, что Стасик на тебя похож. А потом он ушел, – женщина в этой части своего ответа была честна, говорила искренно и даже с оттенком возмущения, Петр действительно дома у них не был, с площадки он ушел… Вот только о дальнейшем развитии событий она рассказывать не собиралась, а Виктор больше ничего и не спрашивал. Он только понял, что случившаяся по дороге на полигон «болезнь» Петра была задумана заранее, что придумал он ее, чтобы встретиться с Зайнап. «Неужели? Неужели Зайнап и он??» – Виктор запретил себе дальше утопать в подозрениях и ревности, выпил еще рюмку водки и лег спать. Отдельно, на диване:
– Мне очень рано вставать! Ты спи, не провожай меня утром.
Петр проспался, своими ногами дошел до трапа самолета, все уже поднялись на борт, а он вдруг приостановился, постоял несколько секунд, развернулся, отозвал Виктора. «Вот, передай Змейке моей сережку, она ее вчера у меня потеряла, горяченькая моя!» – осклабился нагло в лицо Виктору, развернулся, побежал к самолету.
С летного поля Виктора увезли в госпиталь, в реанимацию, где он пробыл четверо суток. Зайнап туда не пускали, только вещи ей отдали и сережку:
– Еле-еле из руки вытащили, как зажал в кулаке – разжать не могли.
Зайнап сразу все поняла. Она обнаружила отсутствие сережки, когда примчавшись домой, стала яростно смывать с себя гадливость, грех и стыд. Тогда она подумала, что мочалкой сорвала серьгу, и ту унесло потоком воды, ей так было удобно думать, чтобы не допустить мысли: сережка осталась у Петра.
Ей не хотелось жить, она не могла себе простить, что поддалась на шантаж, знала же, что подлость Петра безгранична, что он никогда не держит слова.
Надо было самой все рассказать Виктору еще тогда, когда он просил ее руки – об арыке, о ребенке, ведь все тайное когда-нибудь становится явным. Не рассказала: за себя испугалась и Сонину тайну выдать не могла, эта тайна была за семью печатями. «И сейчас ничего не скажу, – решила Зайнап, – ни за что не признаюсь, что была у Петра. Ни за что! Перед Виктором оправдаюсь, он не сможет мне не поверить».
После госпиталя Виктора направили на долечивание в санаторий. Ехать он решил один, без семьи. Тем более что начинался учебный год, Зайнап нужно было выходить на работу. Конечно, она нашла бы замену, но было понятно: Виктор хочет побыть один. Ему было необходимо.
Накануне отъезда между супругами состоялся разговор, начал его Виктор:
– Зоя, ты по-прежнему любишь Петра? Ты ведь встречалась с ним?
– Да, встречалась, я тебе рассказала…
Виктор на полуслове оборвал жену:
– Ты понимаешь, о чем я говорю, что имею в виду. Скажи мне честно.
– Я говорю честно – я ненавижу Петра, он мне столько причинил, что на пять жизней хватит.
– Откуда он взял твою сережку?
– Наверное, там, на площадке, он взял меня за голову руками, хотел поцеловать, я вырвалась, и, наверное, сережка упала.
– Зоя, ты вспоминаешь его, я знаю. Ты называла его имя во время нашей близости и не замечала этого. Я хотел все забыть, но новая ваша встреча разрушает все – веру в твою любовь. И может быть, даже нашу будущую совместную жизнь. Я должен все хорошенько обдумать и принять решение. И ты как следует обо всем подумай. Писем писать не буду, и ты не пиши.
Вернулся Виктор через месяц, привез гостинцы Стасику и Зайнап. Мальчик бросился к отцу, обхватил, как маленький паучок, руками и ногами:
– Папочка, папочка! Как я тебя люблю, я так по тебе соскучился! Мне и поиграть не с кем – мама или плачет, или тетрадки проверяет.
– Все, сынок, я вернулся, все у нас будет по-прежнему хорошо, и мама плакать не будет.
С этого времени Зайнап стала смотреть на Виктора с виноватым заискиванием, как собака смотрит на своего хозяина. Виктор много не говорил, сообщил, что семью он не разрушит, у его сына должен быть отец. Родной отец, добавил он.
– И пока я жив, я буду с вами. Я постараюсь не думать о прошлом, и мы с тобою эту тему закрываем. Навсегда.
Сказать сказал, но прежних отношений между супругами не было. Зайнап еще более истово ухаживала за мужем, в доме всегда был порядок, чистота; всегда свежая вкусная еда; он был обстиран и отглажен, и она всегда, как верная собака, ожидала мужа и встречала его на пороге.
Вопрос об увольнении Виктора из армии по состоянию здоровья пока закрыли, он снова был в хорошей физической форме, организм был молодой, натренированный, не разрушенный вредными привычками – Виктор не курил и выпивал редко, только по случаю и очень помалу. Вот и справился с недугом.
Их снова перевели к новому месту службы. Зайнап, как и ее старшая сестра, Соня, всегда уезжала вместе с мужем, в неведение, в бездалье, но – вместе!
Виктора назначили командиром полка. Он, как всегда, полностью отдался службе, на первых порах дневал и ночевал на работе, пока во всем не разобрался и не навел порядок, который он считал обязательным в армии.
Умерла мать Зайнап. Она на похороны поехала одна, без мужа. Виктор считал своим долгом проводить свою тещу в последний путь, он искренне любил и уважал эту женщину, разумную и спокойную, как родную мать. В те редкие, может быть, раза три за их совместную жизнь с Зайнап приезды ее к ним в гости она была всегда приветлива, всегда улыбалась и всегда баловала Виктора всякими вкусностями. В их отношения с Зайнап она никогда не вмешивалась, советов не давала, а его иначе, как сынок, никогда не называла. Она была очень мудрой и хорошей, эта женщина.
Виктор рвался на похороны, но обстоятельства складывались так, что служба его не отпускала. Зайнап успокоила мужа: ну что ж, бывает, я поеду, а уж потом когда-нибудь съездим на могилку. Она так боялась, что он увидит Галочку, она сама боялась этой встречи.Дверь ей открыла высокая белокурая, красивая, с огромными, в пол-лица, голубыми глазами девушка – ее и Петра дочь, сомнения в этом не было.
– Вы моя тетя Зайнап? Проходите. Мам, к нам приехали.
Соня со слезами принялась обнимать сестру, обе плакали горько и безутешно.
Проводили мать в последний путь, похоронили на кладбище в Эстонии, где в это время жили Соня, Тимофей Сергеевич и Галочка.
После поминок, отправив всех по домам, а Тимофея Сергеевича спать, сестры наконец остались одни. Галочка давно умчалась гулять.
Соня рассказывала сестре о матери, ее последних месяцах жизни, сердце ее совсем сдало, она совсем уже не выходила из дому, все больше лежала.– Знаешь, что она говорила напоследок? Она просила, слово с меня взяла, что я тебя никогда не оставлю, никогда. Она что-то чувствовала или ей казалось, но вдруг начинала тревожиться, беспокоиться, говоря, что у тебя что-то случилось, она чувствует какую-то беду.
– Сонечка! Мамино сердце ее не обмануло. Со мною действительно случилась беда, такая, Соня, беда, непоправимая. И Зайнап рассказала сестре о встрече с Петром, о его подлости, о своей слабости, о болезни Виктора – обо всем без утайки, все выложила, до последнего факта. Говорила и плакала: что ж ее судьба так наказывает? Вот уж сколько лет Петр, как страшное наказание, не оставляет ее в покое.
– Как же Галочка на него похожа! На улице бы встретила – узнала бы.
– Да, – Соня с тяжелым вздохом прервала сестру. – Очень похожа, во всем. И внешне, и по характеру. Вот смотри, уже поздно, а ее все нет. Какая-то компания у них сложилась, от нее то табаком, то вином попахивает, отвечать на вопросы отказывается, огрызается. Вы, говорит, старые уже, что вы в жизни понимаете? И не мешайте мне жить. Тимоша никогда не пил, а теперь после скандалов рюмку-другую пропускает, иначе сердце у него болит. Как будто от водки легче будет?
Теперь плакала Соня, а Зайнап пыталась ее успокоить, но чувство вины раздавливало ее – это из-за нее Соне досталось нести тяжкую ношу, воспитывать непокорную дочь Петра, ветку от ветки, плод от плода.
Галочка к этому времени вовсю гуляла с парнями, втайне от родителей сделала аборт. Родители пытались уговорить, урезонить, даже закрывать пытались, так она сиганула из окна второго этажа, и ничего, кроме открытой злобы и издевательств над собою, в ответ не получали.
Она уходила, а они себя «успокаивали», Соня присоединялась к Тимофею Сергеевичу; наливали по рюмке, по второй, по пятой, пока не сваливал их сон. Шла тяжелая, непримиримая вражда между родителями и дочкой. И в этой борьбе победу одержала она; она жила, как хотела, а они спивались от горя и безысходности. До того страшного вечера, когда Соня, истерзанная переживаниями и тревогой за дочку, приняв приличную дозу алкоголя на пару с Тимофеем Сергеевичем, почти в беспамятстве все рассказала своей восемнадцатилетней приемной дочери.
Но это было значительно позже. А в тот вечер Галочка пришла очень поздно, гремела на кухне в поисках еды, огрызаясь на матерь. Утром в школу не пошла – у нее уважительная причина, у нее бабушка умерла…
Зайнап побыла у сестры два дня, насмотрелась на Галочку во всей ее красе. Попытка устыдить, укорить вызвала взрыв ярости:
– А ты кто такая, чтоб меня учить? Учи своих учеников и собственного сына, а меня не трогай. Ты мне никто и звать тебя никак. Собирай манатки и дуй к себе домой!
Соня попробовала укоротить дочку:
– Ну, как тебе не стыдно? Это твоя родная, самая родная тетя… – не закончила. Девочка сорвалась на крик:
– Как вы мне, порядочные, надоели! То бабка мозги полоскала, то тетка, которую, родную-разродную, я впервые в жизни вижу! Надоели! – и хлопнула дверью.
Теперь Соня и Зайнап стали чаще писать друг другу, две кровиночки, оставшиеся похожими на свою мамочку добротой и отзывчивостью.
Соня написала об уходе Галочки из дома, она была в полном отчаянии, потому что девочку никто не собирался разыскивать; заявление в милиции брали, но говорили:
– Найдется! Нашляется и вернется. Сейчас вся молодежь с ума посходила, только на их поиски всю милицию нужно направлять, а работать кто будет?
Разыскивать ушедшую в ночь молодую девушку они работой не считали.
Соня и Тимофей Сергеевич умерли в одночасье через шесть лет после ухода Галочки из дома. Обнаружили их соседи по жуткому смраду, тянущемуся из щели под их дверью уже на третий или четвертый день после их смерти.
Соседи выслали Зайнап телеграмму, она успела на похороны. А к концу погребения объявилась и Галочка – красивая, богато одетая, в сопровождении мужа – не мужа, бог его знает, кого, на шикарной машине.
Разошлись – как их назвать? Гости? Так на поминках гостей не бывает, в общем, чужие разошлись. Галочка осталась наедине с Зайнап, отправив своего кавалера спать в свою комнату.
– Значит, это ты моя родная мать? Что же ты меня учила, как жить, а сама меня в четырнадцать лет нагуляла? Нагуляла и бросила!
– Не говори глупостей! Да, я действительно родила тебя в неполных пятнадцать лет. Сейчас времена другие, а тогда это был бы позор не только на мне, но еще больше на маме и на Соне, что не усмотрели, а если бы это случилось в кишлаке – забили бы меня камнями, такой закон был и такие суровые времена.
– Слушай, а я в тебя. Меня тоже в четырнадцать лет трахнул пацан, нравился он мне так, что я сама ему предложила.
– Галя, что ты говоришь. Твой отец меня изнасиловал, ты появилась от одного-единственного раза, я только на пятом месяце узнала, что беременна. Меня Соня к себе забрала, там все вместе и решили, что они с Тимофеем Сергеевичем уже взрослые, они и материально хорошо жили, очень они ребенка хотели. Тебя же не в детдом отдали, ты в своей семье выросла!
– А вот скажи, тебе хоть разочек хотелось на меня взглянуть?
– Хотелось, но Соня даже фотографий нам с мамой не присылала, боялась, что во мне проснется чувство материнства, и я буду на тебя претендовать.
– Не проснулось? А с моим отцом ты еще когда-нибудь встречалась, он знает обо мне?
– Нет! Никогда! – жестоко оборвала Зайнап. – Я его никогда не видела, он ничего не знает, и я не имею представления, где он теперь.
– Слушай, мамаша, а твой-то муженек обо мне знает? Он же офицер, служит. Он моего отца знал?
– Нет, не знал никогда. И о тебе он тоже ничего не знает.
– Вот теперь ты у меня с крючка не сорвешься! Или ты мне расскажешь, кто мой отец и где он, или я при удобном случае приеду, адресок есть, мамочкой тебя назову, сына твоего – братиком родненьким, а мужа – папенькой!
– Я его не знаю. Это какой-то прохожий был. Шел мимо арыка, я там коз пасла, он накинулся и изнасиловал меня. Я его больше никогда не видела. И не шантажируй меня, я уже пуганная до конца жизни!
– Ну, и хрен с тобой! И правда, что я с тебя или со своего делателя поимею? Ничего! Давай наливай, выпьем с тобой за помин души папки моего и мамочки! – и она горько разрыдалась, сбросив с себя шкуру дикого зверя.
Перед отъездом Зайнап и Галя увиделись снова.
– Гм… не знаю, как к тебе обращаться? То ли тетя, то ли мама, а может, Звездочка? Так мама тебя называла. Ты мне, по сути, совсем чужой человек, я тебя совсем не знаю, да и нужно ли теперь знать? Думаю, что родственные отношения мы поддерживать не будем, ни к чему это. Уезжай. Тебе вредить не буду, живи своей жизнью, какая она у тебя? Вторая? Третья? Живи, обо мне забудь, а родители мои были добрыми и очень заботливыми, их я помнить буду. Все, уезжай.
Прошло пятнадцать лет. Зайнап уже совсем забыла свое имя, теперь никто ее так не называл – не стало мамы, Сони, Тимофея Сергеевича. Сегодня она была Зоей, на работе Зоей Яковлевной. Виктор с того проклятого дня, когда получил инфаркт, больше никогда, ни разу не назвал ее Зайнап, или Заинькой, или Звездочкой… Их отношения были ровно-устоявшимися. Всего себя он отдавал службе и сыну, ее же редко звал Зоей, а чаще никак не называл, просто говорил: сделай то, сделай это, пойдем туда-то, встретимся там-то.
А Зайнап угасала. Нет, внешне она была по-прежнему привлекательна, ухожена, доброжелательна. Угасала в ней женщина.
Буйный, неукротимый темперамент, данный природой и раскрытый Петром, требовал мужских ласк, нежности, близости. Она просыпалась ночью от сладких, манящих сновидений, ей снился Петр с его умелыми руками. Он звал, манил ее и улыбался своей омерзительной, унизительной сальной улыбкой. Боже мой! Как она боялась, что во сне назовет его имя! И чем тогда может все закончиться?
Виктор в отношении с Зайнап стал тираном. Ее собачий преданный вид, заискивающий взгляд с годами стали ее лицом, не тем, веселым и озорным, что было раньше, которое он обожал, ее виноватость раздражала его до слепой ярости. Их редкие засыпания в одной постели не приносили никакой радости, об удовольствии и удовлетворении и речи не могло быть. Он и раньше не безумствовал в постели, он во всем был рассудительным и спокойным, а теперь он просто сбрасывал скопившиеся мужские гормоны, а она лежала послушная и неподвижная.
Службу они дослуживали в Москве. Виктор таки стал полковником, но до генеральских погон не дорос, за званием нужно было ехать в тмутаракань, а здоровье о себе изредка напоминало. И слава богу, в Москве и квартиру получили, и Стас учился в престижном вузе, и в госпитале можно было подлечиться.
В душе Виктора обида так и не угасала. А в том, что он не стал генералом, что чего-то не случилось в его жизни, он винил Зайнап. Молчал, ничего не говорил, но не простил и ничего не забыл…
Подошел срок, Виктор принял правильное и своевременное решение уходить в отставку. У него была большая выслуга лет, возраст тоже наступал критический, ожидать, что ему предложат уволиться, он не мог и не хотел, это было бы унизительно и обидно.
На общем построении командир от лица вышестоящего командования зачитал приказ о награждении полковника Шипитько орденом, зачитал благодарность за подписью министра обороны и перед личным составом обнял и расцеловал Виктора, добавив:
– С тобой, полковник, я бы пошел в разведку.
Вечером приглашенные на прощальный банкет говорили много добрых и сердечных слов и самому Виктору, и в адрес его семьи, благодарили за совместную службу, желали добра.
С совещания подъехал командир, за ним из штаба увязался… полковник Гуртовой. Расселся за столом, стал гнать рюмку за рюмкой. Захмелел быстро, по роже его сытой было видно, что пьет он часто и помногу.
Командир в тосте своем повторил:
– С тобой, Виктор, можно идти в разведку, надежный ты; спасибо, брат, за службу и за дружбу. Мы с тобой делили и хлеб, и соль, и воду, всегда делили поровну…
И в этот момент поднялся Петр Гуртовой, еще более огромный, чем раньше, его покачивало от выпитого:– Позвольте и мне сказать. Я Виктора знаю с лейтенантских погон. Он меня тоже выручал, и не раз, – Петр глумливо, по-шутовски сделал поклон. – И делились мы всем, больше, чем солью и хлебом, правда, Виктор? Мы делились всем, правда, Зайнап? – женщина окаменела сразу, как только она увидела входящего в зал Петра, а теперь ледяной холод вообще сковал и тело, и руки, и сердце.
– Петр, сядь, посиди, – Виктор хотел остановить его, но тот продолжал еще громче:
– Да чего уж? Все делили. Я вот Змейке ребенка сделал, красавица у нас дочь, нашла меня, встречались мы. А потом Виктору я Змейку, то есть нет, как там тебя по-новому, Зоя… вот я ее и продал ему. За большие деньги! Но она меня и тогда любила, и теперь любит, понял ты, полковник? Купил ты ее у меня, а она меня любит.
Виктор побагровел, попытался выйти из-за стола, стал заваливаться все больше и больше, поддержать не успели, упал.
Его не спасли. Мозг его разорвало, как будто кто-то туда гранату бросил.
Похоронили Виктора на Троекуровском кладбище со всеми воинскими почестями.
Зайнап несколько дней была без сознания, перестала ходить и говорить, она не понимала, где она находится, что происходит вокруг нее, и не помнила того, что произошло. На похоронах мужа она не была.
Позже она стала узнавать сына, понемногу начала вспоминать, звала мужа и никак не могла поверить, что больше его не увидит никогда. Никогда…Гуртового по рапорту генерала и после короткого расследования уволили из армии. Быстро. За три дня. Без выходного пособия, без почестей, без наград.
Зайнап потихоньку стала оправляться, просила сына забрать ее домой. Врачи не решались ее отпускать, но сын нашел сиделку, и сам все свободное время проводил с матерью.
Когда она стала увереннее ходить, окрепла, сын отвез ее на кладбище, к отцу. Памятника еще не было, стояла красная деревянная тумба с красной звездой наверху. А внизу – портрет Виктора, в папахе, в шинели, уверенного, молодого, красивого, сильного, мужественного.
Упала вдова на колени, обняла портрет, зашептала:
– Прости меня, мой дорогой! Прости за безвременную смерть твою, за наши последние безрадостные годы жизни. И знай, мой родной, я верна была тебе, всегда верна. Я не тебе изменила, я семью нашу спасала. Как могла, как бабий ум мне подсказал, так и спасала. Виновата я перед тобою в том, что не рассказала тебе, что в самом начале было в моей жизни, о ребенке не рассказала. Ты бы сумел все понять и не навредил бы семье Сонечки. И не смог бы меня всю мою жизнь шантажировать Петр, заставлять поступать так, как ему хотелось; всю жизнь, Витенька, нашу с тобою долгую жизнь я жила в страхе и ожидании подлости от Петра, будь он проклят! И не уйду я из этой жизни, пока не воздам ему по его «заслугам», и смерть твою я ему не прощу. А тебя я любила всегда, тебя, а не его.
Сын не мешал разговору матери с отцом, не вслушивался в ее бормотание, он видел и понимал степень ее страдания, жаль только, что отец ее услышать уже не сможет.
Стала Зайнап часто на кладбище ездить, газончик засадила цветами, рябинку по осени подсадила. Придет, поковыряется, польет все – и все разговаривает с Виктором, о сыне говорит, о молодости их вспоминает, светло так улыбается, будто Виктор здесь, где-то за спиной стоит и все слышит.
И принесла нелегкая в какой-то день Гуртового. У него на том кладбище мать с отцом лежали. На другом участке, на давнем и дальнем, а вот чего его сюда занесло?
А его не занесло. Он частенько наведывался сюда, смотрел на фотографию Виктора и продолжал с ним вести разговоры:
– Ну что? Победил меня, отомстил? Мертвый, а отомстил. Выперли меня из армии, без почестей, быстро и тихо, а все из-за тебя. Ну, лежи, лежи. А я еще поживу, да еще и порадуюсь! Да еще и жену твою обласкаю.
– Здравствуй, Зайнап, – как всегда, со спины подкрался Петр. – Что, цветочки сажаешь?
Зайнап от неожиданности руки отпустила, так носом в цветы и уткнулась. Обернулась. Первая мысль молнией ударила: вот сейчас этим булыжником по голове ему дам, и все. Но остановилась: не хватит сил, чтоб до его головы достать, а сам-то ведь не подставит…
– Здравствуй, Петр. Что ты тут делаешь, зачем пришел? – поднявшись с колен на ноги, осмотрев Петра с головы до ног, ответила Зайнап.
– Я сюда часто прихожу, родителей проведаю и сюда иду. С муженьком твоим законным разговариваю. Тебя надеялся увидеть.
– А зачем меня видеть? Ты уже все, что замышлял, сделал. Я теперь, как неживая, меня уже ничем не проймешь и не напугаешь. Я вместе с Виктором умерла.
– А я тебе про нашу дочку рассказать хочу. Только не здесь, пойдем отсюда. Может, в кафе зайдем?
– Нет, в кафе я не пойду, – Зайнап о чем-то напряженно думала, губы сжала, брови нахмурила. – Знаешь, приходи-ка ты завтра ко мне домой, посидим, ты все и расскажешь. Как ты, не против?
– Ух ты, Змейка моя озорная! Неужели еще у нас получится, горяченькая моя? Нет, я не против. Когда мне прийти? – продолжал Петр приговаривать прямо здесь, над могилой человека, которого убивал-убивал и наконец убил. Прямо над могилой…
Зайнап, сцепив зубы, чтобы не закричать, кивала головой, в которой уже вызревал план страшной мести этому чудовищу, разрушившему всю ее жизнь.
Обозначили время встречи, разъехались каждый в свою сторону. По пути домой несчастная женщина зашла в аптеку и купила две упаковки таблеток – она слышала, что от них спят крепко и долго, иногда засыпают навсегда…
Назавтра Зайнап приготовила плов, такой, как умела готовить ее мама и готовила она сама, настоящий узбекский плов, рассыпчатый, ароматный. Раньше Петр съедал по две объемистых тарелки, все наесться не мог. Вот сегодня Зайнап решила накормить его досыта – в последний раз, надеялась она.
Неделю назад Стасик уехал на практику на Камчатку, сам попросился, чтобы увидеть чужедальние края. Мать уже опасений не вызывала ни у него, ни у врачей. Она вела нормальный образ жизни, была, как прежде, приветлива и дружелюбна, правда, улыбалась редко, только когда с сыном своим разговаривала.
Петр заявился даже раньше назначенного времени, цветы, подлец, принес и, конечно, бутылку, как же он без нее?
– Ай да хозяюшка, ай да умница! Твоим пловом даже не улице пахнет. Если бы адреса не знал, по запаху нашел бы.
Он ручищи свои протянул, хотел облапить ее:
– Ты такая же стройненькая, как раньше. Моя корова яловая на двух стульях сидит, да еще по бокам свешивается, а ты двоих родила, а фигурка, как у девочки. Что-то у меня даже шевелиться начинает, может, вспомним прошлое, а, Змейка моя? Попробуем?
– Ишь ты, есть чему шевелиться? Ладно, посмотрим. Только попозже, а сейчас садись за стол, пировать с тобою будем и разговоры разговаривать, – пригласила Зайнап. Петр хотел открыть принесенную бутылку водки, но Зайнап убрала ее:
– Я холодненькую дам, а эта пусть постоит, остынет. А мне шампанского открой и налей, ты же любил меня шампанским поить. Наливай и рассказывай, что ты там про дочку придумывал?
– Ничего не придумывал. Лет семь или восемь назад ко мне домой пришла девушка, я еще не вернулся со службы. Моя не хотела ее впускать, но Галка вся в меня – отодвинула ее с прохода, прошла и сказала, я, мол, к отцу своему пришла, он будет рад, а вы мне пока кофе сварите, и альбом с фотографиями дайте. Моя-то клуша вроде и сама нахальная, а тут растерялась, сразу поверила – Галка точно на меня похожа! Тихонько мне из спальни позвонила, говорит, иди, кобель, домой, дочка тебя дожидается, откуда она у тебя взялась?
– Давай еще налей, выпьем и дальше рассказывай.
Выпили. Петр жрал плов, нахваливал и между чавками продолжал рассказ:
– Приехал я домой, обомлел – свой портрет перед собою и увидел. Зайнап, какую ты мне дочку родила! Она же у меня единственная! – вроде как всхлипнуть захотел, да не получилось.
Налил себе еще стопку, одним глотком выпил. Заговорил дальше:
– Она ездила в Самарканд, была в гарнизоне, нашла там старожилов, расспросы вела, в общем, узнала, сопоставила фамилии Виктора и мою. Ну, тебя она уже знала, знала, что ты ее родила, сказала мне, что никогда не простит нас, что бросили ее. Так вот, узнала фамилию мою, стала по отделам кадров разыскивать. Денег у нее – куры не клюют. Жила она с каким-то лихим парнем, он много чего ей оставил. Убили его.
А она свое дело на эти денежки открыла, у нее свои рестораны есть, кафе, богатая она у нас, Змейка. Ой, что-то мне жарко, открой окошко. Давай еще выпьем.
Зайнап думала: уже больше чем полбутылки выпил, и хоть бы что! Она же в бутылке всю упаковку лекарства растворила! И пожалела, что плов жирный и вкусный приготовила, наверное, он лекарство растворяет… Или лекарство просроченное, испортилось?
А Петр, выпив очередную стопку, рассказывал дальше:
– Моя-то смотрела на нас и приговаривала: когда ж ты, кобель, успел? Что ж я ничего не знала? А Галка ее в упор не видит, все ко мне, то «папка» скажет, то «папашка», расскажи да расскажи, как это ты мою мамочку-малолетку изнасиловал? Я рассказал, что все по согласию, что про беременность ты мне ничего не сказала, что мы потом вместе жили, что еще потом любились… – его речь замедлялась все больше и больше, в конце концов он замолк, обмяк и свалился со стула с грохотом и шумом.
Зайнап убрала со стола останки еды, посуду всю перемыла, по местам расставила и снова вошла в комнату. Петр как-то боком лежал на полу, лицом в пол уткнулся. Огромным усилием ей удалось перевернуть тяжелое тело на спину. Его раскормленные щеки, жирный, как у хряка, подбородок развалились по груди и плечам, ноги разбросались по сторонам.
Зайнап нагнулась, послушала, дышит он или нет. Нашла пульс, он еле-еле прощупывался, но все-таки он не умер, сердце продолжало работать.
Женщина смотрела на своего насильника, своего искусителя, на убийцу своего мужа и вспоминала все: как он пригвоздил ее на арыке, как она рожала почти в беспамятстве от жестоких схваток, как он потом умело управлял ее юным телом, как унижал и растаптывал ее. И ее пожизненный страх и ужас перед разоблачением ее тайны…
Она смотрела на портрет мужа и говорила:
– Вот, Витенька, ты подумал, что я опять изменила тебе, ты бы никогда мне этого не простил. Но теперь я его уже не выпущу, убийцу твоего. Он и меня убивал, и не один раз. А теперь, когда тебя уже нет, когда ты ушел, не успел ничего мне сказать, ни слов прощения, ни слов осуждения, я думала, что умру вместе с тобой, но Бог оставил мне жизнь для того, чтобы я отдала этому негодяю все долги. Страшный грех я беру на душу, но Господь меня простит. Нет, не за мои пережитые унижения, за мои страдания, он простит меня за отмщение, за твою безвременную смерть, за то, что ты ушел, не успев простить меня, ушел униженным и оскорбленным.
Зайнап обошла всю квартиру, поправила занавеску на окне, выбросила цветы, принесенные подонком, сняла с пальца маленькое колечко с розовым камешком – подарок Виктора в тот Новый год, когда он попросил ее руки. Улыбнулась, вспомнив свои детские мечты об огромных перстнях и серьгах, положила колечко возле портрета Виктора и присела на стул, по-старушечьи сложив руки на коленях, и глубоко задумалась. Вся жизнь, как на экране, прошла в ее воспоминаниях – любящая, нежная, заботливая мать, любимая Сонечка, сестры и братья, и ее страдания и несчастья, принесенные Петром.
Встала, взяла остро наточенные вчера портняжные ножницы – воспоминание озарило ее лицо: такими же ножницами много лет назад она помогла младенцу начать самостоятельную жизнь, перерезав пуповину. А сейчас… Сейчас…
Негодяй лежал на полу, в глубоком сне. Он продолжал причмокивать, как будто дожевывал что-то, никак утробу свою насытить не мог.
Женщина с отвращением расстегнула ширинку на брюках негодяя, Петр всегда был нечистоплотен, от его чресел шла застойная вонь. Она одной рукой взяла его мужские достоинства, висящие сейчас, как пустые мешки, синие, покрытые редкими седыми волосками, приподняла их и одним махом отделила острыми ножницами от жирного, оплывшего от обжорства и пьянства тела. Кровь зафонтанировала, обрызгивая скатерть, и пол, и саму Зайнап.
Она так и стояла с вытянутыми вперед руками – в одной окровавленные ножницы, а в другой то, что было страшным оружием Петра в растаптывании ее – ее души, ее тела, ее совести.
Кровь продолжала хлестать, заливая пол. Зайнап положила отделенную от тела часть на лицо Петра:
– На, собака, ешь!
Вымыла руки, набрала 02 – назвала адрес, свое имя, сообщила, что убила человека. Набрала 03 – «человек кровью истекает» – адрес, фамилия. И пошла собирать в большую хозяйственную сумку полотенце, мыло, зубную щетку и пасту, смену белья, теплую кофту и шерстяные носки.
В дверь позвонили – «скорая» и милиция приехали одновременно. Зайнап кивком головы указала на комнату, где истекал кровью ненавистный враг, отдала милиционеру паспорт, не произнеся ни слова.
– Мать честная! – произнес сержант и выматерился грубо и многоэтажно. – Кто его так?
– Я, – это было единственное слово, которое она произнесла. Больше никто ничего от нее не мог добиться, ни следователь, ни прокурор, ни адвокат все долгие месяцы следствия, вплоть до дня начала суда. Только Стасу сказала на разрешенном свидании:
– Ты прости меня, сын. Я убила не человека, а зверя, который разрушил нашу семью и убил твоего отца. Прости! И не приходи больше сюда, сынок, никогда не приходи, не заставляй меня страдать еще больше. Прощай и еще раз прости, – ни крика, ни плача, ни одной слезинки.
Зайнап обследовали психиатры – они не признали ее душевнобольной. И были правы, душа у нее не болела, душа ее была выжжена дотла, она мертва, в ней нечему было болеть…
Адвокат сделал все возможное, но убийство есть убийство, и даже учитывая все материалы следствия, срок Зайнап все же дали.
Дочь и сын были на заключительном заседании суда. Им обоим было больно смотреть на свою маму, в одночасье ставшую старухой. Последнее ее слово было таким:
– Да, я убила его, убила умышленно. Но виноватой себя не считаю, потому что зверь не должен жить среди людей. Грех у меня не отмоленный будет только перед моими детьми. Простите меня, мои родные, прости, доченька, прости, сынок!
Сын и дочь подошли к клетке, мать держалась руками за прутья решетки. Галина сверху накрыла их своими ладонями:
– Бедная ты моя! Мамочка, я все сделаю, дело пересмотрят, тебя отпустят. Продержись немного, мамочка!
А сын взял руку матери, поцеловал ее и произнес:
– Ты святая, мамочка, мы тебя вытащим отсюда, – и заплакал.
– Не плачь, сын, ты мужчина. С Галей дружите, не оставляйте друг друга.
Конвойные не стали гнать детей, дали возможность попрощаться с матерью, с этой многострадальной женщиной.
Для Зайнап – бывшей нежной, послушной девочкой, веселой и озорной девушкой, верной женой и преданной матерью, отзывчивой и доброй женщиной, – для нее ее преступление и наказание за него оказались непосильным грузом. Через два дня она умерла тихо и безмолвно, во сне.
Годы шли, Галина и Стас становились все более близкими, родными, необходимыми друг другу людьми. Они часто виделись, делились своими радостями и заботами, давали друг другу советы и прислушивались к ним. Они были родными, от одного корня, от одной хорошей крови – доброй, отзывчивой, нежной, ласковой крови своей матери Зайнап, Звездочки…

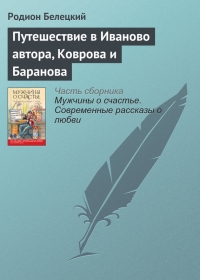

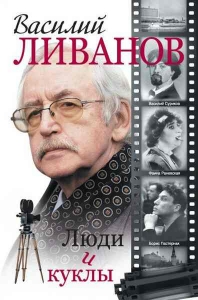



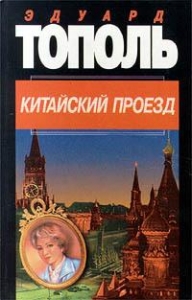



Комментарии к книге «Грех», Ася Валентиновна Калиновская
Всего 0 комментариев