А. С. — первому, кто сказал мне: «Колдовство, как и многое в жизни, существует лишь постольку, поскольку ты в него веришь».
У героев этой истории, разумеется, есть прототипы. Но все они — кроме одного — совершенно на себя не похожи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Магия
1 Тата
Уверяю вас, на моем месте вы бы тоже повесили трубку.
— Татусь, ты, главное, не волнуйся, с Иваном все в порядке, он у меня, — застучал в ухе бодрый и даже вдохновенный голос моей давней, но не слишком близкой знакомой. — Ты, главное, не нервничай, я все объясню, ты только трубку сразу не бросай, ладно? Договорились, Татусь? Договорились? Понимаешь, я и рамкой померила, и на картах смотрела, и по компьютеру… Представляешь, в районе башки никакой энергии. У него недавно пошел квадрат Плутона к Марсу, голова — полный ноль, считай, вообще нету, остальное в сравнении просто мелочи, но тоже впечатляет: соединение Сатурн — Солнце — Луна плюс оппозиция Нептуна до кучи, но это бы полбеды, тут дела похуже… Короче, если так дальше пойдет, жить ему осталось максимум два понедельника… На твоем мужике страшнейшая порча!
Чего? Точнее даже: чи-и-во?! Порча? Квадрат? Чем померила? Я оторопело воззрилась на явно издевавшуюся надо мной телефонную трубку, а потом опасливо поставила на базу, разве что не перекрестив. Вот ведь бред собачий.
Утром мой муж Иван, как обычно, уехал на работу. Днем выяснял, что купить к моему завтрашнему дню рождения. А к вечеру позвонил и сообщил, что уходит из дома. Даже не заедет за вещами — ему якобы «больно на меня смотреть». Но он давно собирался «куда-нибудь уехать и все обдумать».
— Переночую в гостинице, — сказал Иван.
Хороша гостиница — у ведьмы Александры. Ведьмы в прямом смысле слова. Правда, когда мы познакомились, она и астрологом еще не была, но с тех пор сильно эволюционировала и понабралась таких умений, что я, признаться, начинала ее побаиваться. Тем не менее в колдовство я не верила и при виде объявлений о стопроцентном устранении соперницы в один день скептически поднимала правую бровь. У меня это получалось эффектно: я была убежденной материалисткой.
Тем более изумителен переворот, произошедший в моем сознании всего за один час. Как только закрылась дверь за моими вполне еще молодыми родителями, которые примчались меня поддержать, я уложила спать испуганную переполохом Лизаньку — внучку Ивана, — дождалась, когда перестанет возиться в своей комнате старенький свекор, и бросилась звонить Саньке, чтобы еще раз, немедленно и в подробностях, расспросить ее про треклятую порчу. Ибо только это могло объяснить все, что творилось с нами в последнее время.
А творилось немыслимое. То есть, конечно, ничего особенного, однако в приложении к моей предельно благополучной семье — нонсенс. Мой муж завел роман с молодой девушкой. Я узнала об этом классическим способом: из случайно услышанного телефонного разговора. Было это полтора месяца назад, наутро после возвращения из Италии, где мы отметили серебряную свадьбу и пережили очередной, бог знает какой по счету медовый месяц. Повторяю, наша семья по праву считалась идеальной, и у нас во всем, как выражался мой Иван, «царил полный гармон».
А тут вдруг с нежностью, которая до сих пор принадлежала мне одной, он сказал кому-то: «Я ужасно соскучился».
Моя первая реакция была странной: обреченное, горькое удовлетворение. «Вот и все», — стукнуло в голове. Криво улыбаясь, я показалась из-за двери.
— Я все слышала, — скрипуче выговорил мой сразу заржавевший рот.
Иван оторопело застыл над тарелкой каши — он завтракал, собираясь на работу, — а после с глупым, заискивающим видом поднял глаза и робко спросил:
— И что теперь, Туся? Что?
Я убежала к себе. Иван потащился за мной. Он весь покрылся испариной и вел себя жалко: суетился, бегал глазами, по-утиному выворачивал шею набок и беспомощно, в искреннем потрясении, повторял: «И что теперь, что?» — в то же время явно пытаясь понять, что именно я слышала и до какой степени возможно все отрицать.
У одной моей подруги был любовник с говорящей фамилией Грешин, и как-то лежа с ним в постели, в перерыве между раундами, она от скуки поинтересовалась, что он станет делать, если его жена прямо сейчас войдет в комнату.
— Буду все отрицать, — не задумываясь ответил любовник.
Удивительно: небо для меня свилось как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, а я вспоминала какую-то идиотскую историю — вместе, кстати, с еще одной, которую, по забавному стечению обстоятельств, слышала от жены упомянутого Грешина. Ее сослуживица умудрилась явиться домой не вовремя, от потрясения расплакалась и бросилась на улицу, а когда вернулась, муж сумел доказать, что ей все привиделось.
Думаю, так бунтовало мое возмущенное подсознание: меня — и вдруг в какую-то пошлую свальную цепочку? В хвост к жалким рабам повышенного либидо? Это же анекдот, клише, не из моей жизни и вообще смешно! Поразительно — и отчего мы не хохочем до слез?..
Но оказалось, что клише — вещь серьезная, не выпутаешься. Мы оба произнесли по банальной фразе.
— Это не то, что ты думаешь.
— Не унижай ни меня, ни себя.
Затем я узнала ВСЕ.
В Ивана влюбилась юная — двадцать два года, ребенок — девушка, сама призналась в непреодолимых чувствах. Ему это страшно польстило, и он поневоле увлекся, — разумеется, обстоятельствами, а не ею самой. И честное слово, сегодня собирался с ней порвать. А вообще ему пора на работу, и лучше нам поговорить вечером. Выпалив последние слова, Иван с фантастической скоростью испарился. Его виноватая спина, не поспевая за ним, еще пару секунд висела у меня перед глазами. Я бросилась следом, опередила, загородила собой дверь, закричала, потребовала объяснений. Но — мысленно, про себя; ватное тело отказалось слушаться. И потом, что-то внутри (шестое чувство, еще один штамп?) уже сознавало тщету любых действий и разговоров.
Я совершила следующую банальность — уехала к маме. Благо на тот момент ничто меня дома не удерживало: свекор, Ефим Борисович, жил с моими родителями на даче, внуков Ивану еще не подкинули, а наш двадцатилетний сын с детства отличался самостоятельностью.
Запомнилась электричка, жесткое сиденье, окно, пятна и царапины на стекле, смертная тоска. Трое молодых красивых парней рядом, с бесконечным упоением обсуждавших, где, как и у кого можно раздобыть дозу. Заезженная пластинка в голове противным голосом повторяла: одна — навсегда. Что теперь — это? Окружающая действительность? Не могу. Жизнь кончена. Не вынесу. Спасите. SOS.
Было стыдно. Очень. Измена, такой позор. Чужие, жесткие взгляды больно царапали тело, неприлично оголившееся без автомобильного панциря. А ведь если Иван уйдет… Мысль в ужасе обрывалась. Между тем кругом сидел люд, вовремя обросший хитином, чуял мое страдание, усмехался: то-то. Так, во всяком случае, мне казалось и хотелось кричать всем в лицо: что вы понимаете?! У меня верный муж! Благополучная семья! Дом-крепость! Вместо этого я молча вжималась в скамью: вдруг они все-таки не догадаются, что моя империя рухнула и я — осколок?
В калитку я вошла улыбаясь. Родственники поспешили навстречу — только чуть быстрее обычного, почти ничем не выдавая беспомощной растерянности. Я сразу почувствовала себя больной птичкой, которую кладут в коробочку с ваткой и выпаивают из пипетки.
Отлежавшись, я встала и пошла к кухне, отдельному домику. Окна были открыты, изнутри доносились голоса.
— Ваня ей даже не позвонил, — возмущалась мама.
До сих пор я не плакала, но сейчас, еле сдерживаясь, крепко зажмурилась и замотала головой. По моим представлениям, Иван должен был ждать меня на даче или, в самом худшем случае, обрывать телефон.
— И нам, — отозвался папа. — Хоть бы поинтересовался, как она.
— Ванечке сейчас очень стыдно, — нежно проговорил свекор, — а вы же его знаете. Не выносит неловких ситуаций, в детстве даже из кино убегал.
Молчание моих родителей было красноречивее всяких слов.
— Вот уж не думали, не гадали, — спустя какое-то время сказала мама.
— Возраст, — горестно откликнулся папа.
— Ванькин дед как раз в сорок восемь завел молодую любовницу. Так и бегал между ней и мамой, пока не добегался до инфаркта, — победным тоном сообщил свекор.
«Умеете вы, Ефим Борисович, ляпнуть», — явно подумали про себя мои родители. А тот в ответ невозмутимо изрек непонятное:
— Нитибюс, черный дракон.
Его реплику опять проигнорировали — чтобы старик, упаси боже, не оседлал любимого конька. Он, историк, всю жизнь изучал Средневековье, а в последние годы увлекся алхимией, оккультизмом и магией.
— Напрасно вы так реагируете, — обиделся Ефим Борисович.
Тут вошла я.
Родственники долго не осмеливались произнести ни слова. Потом мама, самая бесстрашная, небрежно, почти без интереса, спросила:
— Он тебе вообще хоть что-нибудь объяснил?
Я начала рассказывать. Мама хмурилась. Папа и свекор, слушая, синхронно мотали головами.
Три дня ушло на обсуждение мужчин вообще (они полигамны), супружеских измен (как правило, ничего не значат) и нашей конкретной ситуации (двадцать пять лет вместе, надо простить).
Иван по телефону слезливо клялся в любви, заверял, что с романом покончено и дороже меня у него никого нет, — но не приезжал. Под всяческими предлогами. К вечеру третьего дня, когда отчаяние мое дошло до предела, он позвонил и сказал: дальше так невозможно, семья есть семья, возвращайся домой. Я согласилась.
Той же ночью мне впервые приснилась ОНА.
Буквально вплыла под веки, как слайд, выступила из черноты нагая, кареглазая, ядреная, посмотрела в упор, тряхнула роскошными темными волосами, дернула круглым плечом, дерзко усмехнулась и исчезла.
Я проснулась в холодном поту. Я точно знала, кого увидела, и очень хорошо поняла, что она хотела сказать. «Веришь ему? Ну-ну».
Утром приехал Иван; я поплакала, мы обнялись, собрались, сели в машину. По дороге он не умолкал, расписывая нашу дальнейшую, прекрасную жизнь.
— Мы ж с тобой еще молодые, Туська! А живем как старички! Работа-хозяйство-дети-внуки! Дача-цветочки… Раньше, помнишь, каждую неделю на выставку? Вот и теперь надо… Театр тоже… И давай наконец запишемся на фитнес, а то все разговоры да разговоры! Хотя бы в бассейн… Похудеем, помолодеем, поздоровеем! Гостей давай приглашать по субботам! Классическую музыку слушать! Читать по вечерам вслух! Сама же когда-то предлагала!
Заманчиво, конечно. Завлекательно. Да только чем дальше, тем больше Иван напоминал Варенуху, ставшего вампиром. Что-то было не так. Однако я прогнала наваждение, списала на собственную мнительность и глупость.
Дома меня ждали три ночи бешеной страсти — последнее «прости» совместной жизни — и нескончаемый, неотвязный, липкий кошмар. Любые объятия заканчивались моими рыданиями под усталые вздохи Ивана — что же ты плачешь, ведь все хорошо, — а примирения омрачались его очевидной брезгливостью к моему исхудавшему, измученному, постаревшему телу.
В добряка Ваньку будто вселился кто-то чужой; он ловко таился, но время от времени заявлял о своем присутствии тяжелым взглядом исподтишка, резким замечанием, вспышкой гнева. «Не нравится — могу уйти», — сквозь зубы цедил этот чужой, стоило мне хоть чуточку возмутиться. И я, со своим довольно крутым нравом, смиренно умолкала, чувствуя, что и правда — может.
Казалось бы, раскаявшиеся мужья должны вести себя иначе. А Иван словно получил право скопом вывалить на меня претензии, копившиеся четверть века. И выяснилось, что он устал буквально от всего, чем всю жизнь с явным удовольствием занимался. Меня только оторопь брала: получалось, что у нас с ним абсолютно разные судьбы.
— И вообще, мне всегда не хватало секса, всегда! Тебя ведь не уговоришь! По праздникам, как большое одолжение! — с бессвязным пафосом восклицал Иван, прежде неизменно трепетавший от легчайшего моего прикосновения. — Скажи спасибо, что я раньше кого-нибудь не нашел!
Что ж, спасибо. Но кто столько лет твердил, что желанней меня нет никого на свете? Кто всякий раз умирал и плакал от счастья и благодарности?
Я немела от несправедливости. Кляла кризис среднего возраста. Ждала, когда он кончится. Старалась не подозревать и не ревновать, хотя кое-что проникало даже сквозь шоры. Была уверена, что худшее позади, осталось только перетерпеть. А от ощущения постороннего присутствия, Ванька прав, лечиться надо.
Вскоре он уехал в командировку, на редкость логично объяснив, почему задержится и на выходные тоже. Презирать меня за патологическую ревность стало некому, и я вдруг буквально воочию увидела, что Иван там не один. Очень яркая картинка: гостиничный номер, стол с цветком в вазе, кровать, сумка, разбросанные вещи — и кареокая подруга. Она смотрела на моего мужа мутным от страсти взглядом, они с утробным рыком сцеплялись в борцовских объятиях и упоенно валились на мятое желтое покрывало.
Мне было мучительно плохо. Я рыдала, что-то кричала в телефон. Выслушивала равнодушное, злобноватое бормотание: «Не сочиняй. Какая чушь. Один я, один».
В тоскливом ступоре прошла неделя. Иван вернулся худой, помолодевший, с блеском в глазах и длинным темным волосом на лацкане плаща. Чужой совершенно.
И с того дня будто сошел с ума. Протягивал руки, чтобы обнять меня, и тут же ронял их как плети; говорил со мной, странно отводя глаза; избегал любимого кресла — садился и тут же подскакивал как укушенный. Бродил по квартире, постепенно смещаясь к двери, словно его тянуло туда магнитом, смотрел в глазок и вдруг шарахался прочь, забивался в самую дальнюю комнату. На вопрос, что там такое, отвечал непонимающим взглядом или, в лучшем случае, невнятным: «Ничего, ничего. Обойдется».
Кто обойдется, что?
В нашей постели он начал задыхаться и вскоре переселился в кабинет, но и там не спал, а подолгу смотрел в экран компьютера, ничего не делая, впиваясь пальцами в мышь. Временами слушал чудовищную музыку, мычал про себя, вроде бы подпевая, но его мычание больше напоминало стон.
Воззвания, упреки, попытки увлечь домашними делами ни к чему не вели: муж меня не слышал. Единственное, что нас еще связывало, — это мои еженощные истерики. Они на время пробуждали Ивана; он включался:
— Так дальше продолжаться не может, — и с воодушевлением предлагал: — Хочешь, я куда-нибудь уеду?
— Что ты говоришь?! — пугалась я и видела, как в роботе, которым он стал, потухают лампочки, замирает жизнь. До следующей ночи, до нового повода произнести запрограммированную фразу — тем же голосом, тем же тоном, слово в слово.
За день до моего дня рождения, когда стало ясно, что так действительно продолжаться не может, мне опять приснилась ОНА. Как водится, в голом виде, вся светящаяся и перламутровая, с распущенными волосами. Сказала, отчетливо артикулируя пухлыми губами:
— Все, подруга, я его у тебя забираю. — И пропала, мерзавка, ничего толком не объяснив.
Назавтра Иван, как уже известно, ушел, а я перезвонила Саньке и немедленно угодила в страшную сказку.
2 Ефим Борисович
Я, знаете ли, материалист, так нас воспитали. Кем еще можно было стать при советском строе? Школа, университет — чем нас пичкали, рассказывать излишне. Но углубленное изучение Средневековья и, в частности, преследования ведьм — о чем я в свое время целую книгу написал, понятно, в каком ключе, — поневоле сильно на меня подействовало. Помнится, незадолго перед публикацией сидел в издательстве и думал: «Надо будет глубже в это вникнуть, тут не все так просто, как кажется». Увы, навалилось то, другое, новая книжка, студенты, кафедра, и за суетой интерес угас, растворился в каждодневной рутине, а после умерла Ванечкина мама, и мне на долгое время все сделалось безразлично.
Но видимо, подспудное стремление разобраться с «мракобесием» никогда меня не оставляло: выйдя на пенсию, я сразу начал собирать соответствующую литературу, благо именно тогда она стала появляться в продаже. Особое любопытство, конечно, вызывали репринтные издания — уже одной своей тогдашнестью: шрифтом, ятями, ерами, нечеткими архаичными иллюстрациями. И разумеется, заглавиями: «Древняя высшая магия», «Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и человеке», «Оккультизм и магия», «Герметическая медицина». То, о чем раньше мы и заикнуться не смели.
Не то чтобы я в это верил, но все-таки, все-таки… не могла же целая отрасль знаний возникнуть совсем на пустом месте? И потом, тяга к волхованию в простейшей, языческой форме, как мне кажется, заложена в человеке самой природой, причем тоже, надо полагать, не напрасно; вероятней всего, ее можно объяснить с научной точки зрения — биофизической, биохимической, бог знает. Что, если магические обряды — всего лишь сложная система записи простых энергетических взаимодействий, на которые способны абсолютно все люди? Или были бы способны, не потеряй они свою первозданную чистоту? В конце концов, одна из магических аксиом гласит: всякая мысль или ее воплощение, слово, создает в астрале то, что она собою выражает. Кому, как не мне, знать силу слова?
Так или иначе, странные книжки манили меня, как сирены Одиссея, и я откликнулся на зов. Сначала листал, затем начал почитывать, а со временем так увлекся, что хобби стало почти профессией, чуть ли не темой для диссертации (было бы где защитить). А что особенного? Я никому своего мнения не навязываю, но с моими теперешними познаниями назвать колдовство — точнее, то, что под ним подразумевается, — ерундой язык не повернется. Надо лишь признать тот факт, что некоторые вещи человечество на данном этапе развития постичь не в состоянии, и принять на веру существование необъяснимого, не пугаясь его. Чуть иначе взглянуть на картину мироздания, и многое сразу станет понятней. В частности, при анализе сведений по так называемой половой магии я вдруг осознал, что если не относиться слишком серьезно к методам исполнения, а считать их своеобразной пушкой, в которую маг вкладывает энергетический заряд, то, скажем, явление, в просторечии именуемое «приворотом», перестает казаться чушью! Я для себя называю подобное «воздействием».
Механизм прост. Носитель МЫСЛИ — к примеру, молодая девушка, движимая биологически обусловленным и оттого мощным желанием принести потомство, — произносит СЛОВО (заговор, подкрепляемый ритуальными действиями) и тем самым посылает энергетический заряд мужчине, немолодому, но в силу своей природы неустанно стремящемуся передать собственные гены возможно большему числу самок, а потому уязвимому и восприимчивому. И готово дело: мой почти пятидесятилетний отец, буквально по Маяковскому, задрав штаны и не слушая никаких резонов, бежит от матери, с точки зрения его подсознания уже не годной для вынашивания потомства, к сопливой и глупой девчонке! И продолжает к ней бегать даже после того, как у матери на нервной почве отнимаются ноги! Чем не приворот? Хотя с моей точки зрения, отца это не оправдывает, пусть даже у мамы потом все прошло. Мораль и нравственность тоже ради чего-то существуют. Но бог с ними, это к делу не относится, я немного удалился от темы.
Когда Таточка приехала на дачу и рассказала о Ванькиных выкрутасах, я, грешным делом, сразу подумал и об отце, и о воздействиях. Вспомнились мне и кое-какие исторические факты, в частности, процесс против генеральши фон Нейшютц. Страсть к ее дочери, Магдалине-Сивилле, была настоящим несчастьем жизни Иоганна-Георга IV Саксонского, и, разумеется, эту страсть приписывали колдовству. История вкратце такова.
Магдалина-Сивилла фон Нейшютц была фантастически хороша и уже в тринадцать лет привлекла внимание двора курфюрста Иоганна-Георга III. Ее руки добивались многие высокопоставленные лица; влюбился в девушку и красивый молодой кронпринц. Родители всячески препятствовали неподобающей страсти, отправляли наследника в далекие путешествия и походы против Франции, и все-таки после смерти отца юноша открыто объявил Нейшютц своей фавориткой. Тогда мать решилась на последнее средство — брак, по заключении которого курфюрст, как гласили слухи, удалил от себя любовницу, назначив ей годовое содержание в четыре тысячи талеров.
В действительности связь продолжалась. Магдалина-Сивилла родила девочку и жаждала получить княжеский титул, чтобы вступить в брак с курфюрстом. Но мечтам не суждено было осуществиться: в девятнадцать лет красавица скончалась от оспы. Хоронили ее с княжескими почестями.
Курфюрст горевал недолго: сидя у постели любимой, он «впитал в себя яды оспы», заболел и в двадцать дней умер.
Вскоре последовали страшные разоблачения, мать и дочь фон Нейшютц обвинили в колдовстве и убийстве курфюрста и его отца.
Страна негодовала. Вот цитата из письма одного придворного советника: «Вы достали где-то несколько волос, принадлежащих курфюрсту Иоганну-Георгу III, замесили их в воске или другом чародейском ингредиенте и сделали из этого маленькую человеческую фигурку. Затем, проткнув ее булавкой, начали растоплять на магическом огне, дабы околдовать курфюрста; вы призывали всяческие проклятия на его голову, желали, чтобы кости его лишились мяса, а внутренности испарились, — словом, хотели его гибели. Вы достигли этого: через четыре дня после вашей злодейской операции он скончался. В вашей власти было усилить или ослабить боли курфюрста — достаточно было по своему усмотрению увеличить или уменьшить магический огонь. Преступным чародейством вы пробудили сверхъестественную любовь в сердце молодого курфюрста. Вы держали котел на вечном огне, варили в нем различные колдовские снадобья и окончательно обворожили курфюрста. Когда он припадал к устам супруги, его обжигал сильнейший магический огонь и в душу проникали ужас и смятение. Но стоило ему приласкать Нейшютц, и злодейский огонь соразмерно падал; курфюрст обретал усладу и покой».
Генеральше фон Нейшютц вменялось в вину общение с лицами, заподозренными в занятиях колдовством, в том числе с «известной ведьмой Бурмайстерин», которая точно предсказала время кончины Иоганна-Георга III и его сына и, весьма вероятно, содействовала их гибели.
Следствие выяснило, что подсудимая и ее дочь носили на шее мешочки, наполненные Spiritus familiaris, и такие же мешочки зашивали в одежду курфюрста. Кроме того, Магдалина-Сивилла спрятала в церкви, в маленькой коробочке, свернутые вместе обрывок своей рубахи, забрызганной менструальной кровью, и кусок материи, пропитанной потом курфюрста, — это якобы вызывает в любимом человеке ответную страсть. В комнате жены курфюрста воскурялся волшебный фимиам, который должен был привести к неминуемому разладу между супругами. Курфюрст нередко жаловался, что, желая остаться наедине с женой, он всякий раз испытывает такой бесконечный ужас, что должен немедленно вернуться к себе в комнату, только там он обретает обычное спокойствие. По совету матери Магдалина-Сивилла угощала любовника паштетом, орошенным ее кровью, и постоянно носила на левом колене маленький пучок его лобковых волос. Когда открыли ее могилу, на плечах нашли портрет курфюрста и ленту, сплетенную из его волос, в чем также усмотрели колдовскую проделку генеральши: это должно было увлечь Иоганна-Георга IV в могилу за любовницей.
Доказательством, помимо прочего, служил целый ряд подозрительных вещей, найденных у подруги подсудимой и явно оставленных у нее из предосторожности. А именно: три красных мешочка с полотняными лоскутками, покрытыми запекшейся кровью; три коралла; кусок пергамента с неизвестными словами; портрет св. Анастасии с подписью на латыни, призывающей демонов; икону Спасителя; красивый цветок, обернутый маленьким куском бумаги.
В приговоре по делу говорилось: «Касательно пламенной любви курфюрста к дочери подсудимой, навеянной колдовскими средствами, следует отметить, что Иоганн-Георг IV отличался весьма рассудительным умом и скептически относился к женщинам, причем Магдалина-Сивилла не составляла исключения. Курфюрст ее презирал и неизменно приписывал ей все гнусности, с которыми ему приходилось сталкиваться. Вступив в законный брак, он твердо решил удалить от себя любовницу, однако не сумел этого сделать и проводил с ней почти все свое время. Из показаний свидетелей выяснилось, что подсудимая часто говорила: „Моя дочь находится в самых близких отношениях с одной высокопоставленной особой, но это еще нельзя назвать настоящей любовью; когда между ними воцарится истинная любовь, Бог пошлет спасение молодому курфюрсту и госпожа Бурмайстерин не останется без награды“. Из чародейских руководств известно: чтобы привязать к себе мужчину пламенной любовью, необходимо начертать на руке определенные знаки. Надо полагать, подобные знаки были начертаны на руках дочери подсудимой; весьма вероятно, что, целуя курфюрста, она держала во рту какое-то волшебное снадобье».
Словом, процесс был шумным, генеральшу даже пытали, но через полтора года выпустили на свободу. Она поселилась в имении сына, где и кончила свой бурный век.
Вот такая история. Только прошу понять меня правильно: дело не в полотняных мешочках. А в том, что человек с подобным мешочком, уверенный в его действенности, обретает особую силу.
Кант считал, что «в материи, по-видимому, заложено какое-то духовное начало, тесно с нею связанное. Это начало ничего общего не имеет с теми силами, которые определяют взаимосвязь между отдельными элементами материи; оно является скорее внутренним принципом ее». К той же мысли, но выраженной куда проще, я пришел еще в молодости, когда пытался понять, в чем, собственно, заключается разница между оригиналом художественного произведения и его точной копией. Не слишком разбираясь в живописи и прочем подобном, я все-таки сумел понять, что главная ценность оригинала — вложенный в него энергетический посыл творца, нечто эфемерное, но при том основополагающее, — что, собственно, и вдыхает жизнь в мрамор и масляные краски.
Правда, тут есть еще одно соображение, которое уводит мои рассуждения несколько в сторону. Я не исключаю, что, условно говоря, полотняные мешочки — своего рода кисти и краски колдуна, что за много веков представители магической гильдии подобрали арсенал средств, наиболее подходящих для достижения своих целей. Но и это тема отдельного разговора.
В общем, пока я слушал Таточку, в голову пришла довольно банальная мысль: ведьм сейчас расплодилось много, Ваня у нас кавалер завидный, юных фон Нейшютц нашего времени по-прежнему влечет к деньгам и власти. Сильное желание девушки, подкрепленное колдовским обрядом, — воздействие такой силы, что редкий мужчина устоит. А если за дело берется девушка периферийная, с детства обученная рвать свое счастье из горла у окружающих, — я тогда точно не знал, но практически не сомневался, что прелестница родом из какого-нибудь города невест, — то она при поддержке «потусторонних сил» вовсе становится непобедима.
Ибо, как сказано в одной из моих книг, «каждый, кто убежден в существовании дьявола, может создать его, коли пожелает».
3 Александра
Нет, я, конечно, знала, что у Татки пошел урановый кризис, но все равно обалдела. Вечером, почти ночью, звонок: Иван. Практически незнакомый дядька. Чужой муж.
— Можно заехать?
— Давай.
А саму аж затрясло: что это? Они ведь когда ко мне летом заезжали перед своей Италией, узнать, все ли будет в порядке с самолетом, — Татка на этой почве сдвинутая, хотя если б спросила, я бы сразу сказала: не того, дура, боишься, — я на ее Ваню одним глазком глянула и только хихикнула про себя: тот еще кобелина. При жене, конечно, все прилично, чин чином, но с основным инстинктом, видно, полный порядок. Мужик, что с него взять. Мало ли что ему насчет меня в голову взбрело — как тогда быть?
Короче, вваливается:
— Я ушел от Татки.
Прикиньте! Я чуть на пол не села. За двадцать пять лет настолько привыкла слышать про них от Умки: «Ванька с Таткой», «Татка с Ваней», что отдельно уже и не представляла. Умка — Таткина школьная подруга, с первого класса, через нее мы и познакомились, правда, не так чтобы очень. В основном сплетни узнавали друг про друга, муж там, дети, а когда я астрологией занялась, она изредка просила посмотреть что-нибудь по компьютеру, тоже в основном через Умку, которая на самом деле Эмма, Эмка, но на вид — настоящий медвежонок, вот ее и прозвали. Умненькая она, опять же.
В общем, не ждала я ничего подобного, хоть и видела по Таткиной карте, что в ближайшие полгода ей ничего хорошего не светит. Но не до такой же степени! И, к слову сказать, никаких разводов-расставаний там не стояло, поэтому после Ванькиного сообщения у меня сразу мысль мелькнула: дело нечисто. Да и вид у него был, мягко выражаясь, не ахти: как у мокрого кота. Глаза безумные, бегающие. Правда, жратвы и коньяку моего любимого, «Готье», прихватить не забыл — хорошо, не люблю, когда приходят с пустыми руками. Мужики в основном жадные, норовят за чужой счет проехаться. Ты им и погадай, и все растолкуй, да еще напои, накорми и спать уложи.
Короче, я притворилась, будто не вижу в его визите ничего необычного, спокойно так на кухню отвела, усадила.
— Коньяк, — говорю, — открывай.
Открыл. Налил. Руки трясутся.
— Чем закусывать будем?
Он в две секунды из пакета всякой всячины наметал, нервно, лихорадочно, словно за ним гонятся. Мы выпили, закусили сыром. Вижу, он кусок доесть не может, давится. Все, чувствую, пора раскручивать на признание.
— Ладно, вываливай, что случилось.
Его как прорвало. Любовь-морковь, молодая девица, жить не могу, только о ней и думаю, а с другой стороны, родная Тата, двадцать пять лет вместе, только зажили совсем хорошо — и на тебе… А у самого речь бессвязная, мысли путаются, да и про красоту свою ненаглядную несет странное: она и не такая привлекательная, как Татка, и наглая, и развязная, и голос деревенский, и общего у него с ней ничего. А еще, оказывается, за последнее время с ним куча неприятностей случилась, несколько раз едва не погиб, в командировку летел — у самолета шасси не выпускались, и чуть не сбил сразу трех человек буквально на пустой дороге, из-за стоящей машины выскочили. И вообще повеситься хочется.
Та-а-ак, думаю. Глянем.
Пошла за компьютером, за ноутбуком своим любимым. Полезла в Иванову карту, смотрю. Проблем вагон, конечно, и период неблагоприятный, но такого никак быть не должно. Я ведь Ванькину карту, в отличие от него самого, знала давно и неплохо: когда астрологии училась, интересно было знакомых смотреть. Так вот, по судьбе он редкий везунчик, негативных аспектов нет, квадратов и оппозиций тоже, одни трины и секстили. А тут три тяжелых аспекта разом: Нептун, Плутон и Сатурн, вот, наверное, с непривычки небо с овчинку и показалось. Но все же решила проверить, принесла Таро. Карты меня никогда не обманывают. Разложила: мерзость, дьявол выпадает. Прямо перекреститься захотелось. Нет уж, думаю, для верности сделаем полную диагностику. Взяла рамку. Померила поле. Мама родная! Не поле, а настоящая перевернутая поганка! Сверху, от головы до самых нижних чакр, — тонкая-тонкая ножка, ну а уж снизу — большая-пребольшая шляпка. Тогда нормально, что одна морковь в голове.
— Вань, — говорю, — я тебя поздравляю, на тебе жутчайшая порча.
— Чего?!
«Чего, чего». Вечная история: пока с нами самими не случится, мы ничего знать не хотим и ни во что поверить не можем. Сколько их таких на меня глаза вытаращивало.
— Того, — невозмутимо так продолжаю, — что карта у тебя не работает: происходит то, чего не должно быть, и поле совершенно изуродованное. Опрокинутый гриб. А значит, башка не варит и работают, извини за выражение, одни животные инстинкты.
Он задумался и говорит:
— Правда. Последнее время даже работать не могу. Сижу как идиот за столом, в стену смотрю и про Лео думаю.
— Лео?
— Это ее так зовут. Точнее, не Лео, а Клео, Клеопатра, наградили родители именем, но ей больше нравится Лео, тем более что по гороскопу она Львица.
— Дату и время рождения знаешь?
Он назвал, даже время. Хорошо, молодежь теперь пошла астрологически подкованная, знает про себя нужные вещи, от людей нашего поколения такого не дождешься. Взглянула я на его счастье неописуемое и только головой покачала:
— Вань, ты меня, конечно, прости, но где ты такое чудо отхватил?
Он как полный дурак всерьез начал рассказывать: был в одной организации, а она там сразу после института, но дико умная, поэтому сидела на важной встрече при своем начальнике, с которым у Ивана как раз дела, а после он их подвозил, и она, выходя из машины, зазывно улыбнулась, он ей: «Удачи!» — а она в ответ: «Удача всегда со мной!» — и пальцами по руке провела. Он, понятное дело, весь задрожал — и понеслось.
— Да нет, — перебиваю, — как ты умудряешься не видеть, что она за человек?
— А что? Ты же ее не знаешь!
Сразу обиделся.
— Давай-ка не кипятись. Ты за советом пришел? Вот и слушай. А не хочешь — я больше слова не скажу.
— Говори, говори.
— Так вот, я ее не знаю, я про нее вижу. Все, что нужно. Барышня тебе попалась яркая, эффектная, как все Львицы, но злая и жадная до невозможности. И на редкость, мягко выражаясь, целеустремленная. Ради своих амбиций по трупам пройдет и не оглянется. Мужиков у нее, несмотря на возраст, уже был вагон, а будет не сосчитать сколько. И ты для нее всего лишь перевалочный пункт, ступенька наверх. Марс — Венера у вас, конечно, подходящие для такой ситуации, но когда она из тебя все выжмет, найдет себе новую жертву. Тебе это надо?
Молчит. Значит, все-таки надо.
— И еще тебе скажу, что порчу, скорее всего, она навела. Хотела приворот сделать, а он не так сработал, то ли по неумелости, то ли из-за Татки: настоящую любовь разрушать опасно. И судя по тому, что с тобой творится, вместо приворота порча на смерть получилась.
— На смерть?
— Не знаю, не исключено. Могла она на тебя так сильно разозлиться, чтобы смерти пожелать?
Задумался.
— Когда Татка наш разговор услышала, я пытался с Лео порвать, сказал, игры кончились, жена узнала, а она мне дороже всего.
— А Лео твоя что?
— Разрыдалась, несчастная такая, а сама сквозь зубы рычит: «Еще пожалеешь». Я, помню, удивился, откуда такая злость.
— Вот видишь, значит, могла.
— Саш, ну о чем ты говоришь, какой приворот, какая порча? Двадцать первый век!
— Не знаешь ничего — и молчи! Видел, сколько сейчас в журналах объявлений? Колдуны, маги? Думаешь, это так, шуточки? И между прочим, приворот — дело не самое сложное. Шарлатанов, конечно, тоже хватает, разводят людей на деньги, но если хоть какие-то способности есть, приворот-отворот сделать не фокус. Кстати, по секрету скажу, я, хоть и занимаюсь сам знаешь чем, вообще-то жуткая материалистка: пока сама не попробую, ничему не верю. Так что не сомневайся, навешивала — и работало. Пару раз всего, по глупости, пока не узнала, чем это грозит. Зато снимала столько, что и не сосчитаешь. Думаешь, ты первый такой у меня сидишь? Если бы! Ты у нас кто? Директор фирмы. При деньгах, машина шикарная. Состоятельные и состоявшиеся первыми под удар попадают. Теперь ведь бабы норовят все сразу, с молодости, получить, чтоб не за лейтенанта, а сразу за генерала, вот и бегут к колдунам. Не понимают, что расплачиваться придется, что приворот — та же порча, вмешательство в судьбу. На привороте человек довольно скоро все теряет, здоровье, работу, деньги, да и живет от силы лет пять. Зависит от везучести, конечно, но дольше редко кому удается протянуть. А тому, кто навесил, — и заказал, и сделал — тоже потом плохо бывает. Болеют сильно, несчастья случаются. У женщин с детьми проблемы, родить не могут, или рожают уродов, или еще что, вплоть до рака. Но между прочим, на женщин тоже часто привороты делают и порчу наводят, обычно ради корысти. Вот Гарик, муж мой второй ненаглядный, именно так меня и держал. Все ради жизни в Москве, квартира моя ему очень нравилась. До сих пор порчу наводит, назад пролезть хочет, но я теперь, слава богу, знаю, как обороняться.
Стала я рассказывать Ване всякие случаи из жизни. Про мужика, например, который примчался с единственной просьбой: «Верните Риту!» Сам уже всего лишился, буквально жить не на что, а ему Риту подавай. Я с ним поработала раза два, и уже слышу: «Странно, кругом-то, оказывается, столько баб красивых, а то последнее время, кроме Ритки, ни одной не видел». Через месяц-другой приворот мы окончательно сняли, он познакомился с кем-то, работу нашел, дела пошли, но как деньги опять появились, откуда ни возьмись всплыла Рита, он снова прибежал ошалевший — сделайте, чтоб была только моей, — а потом исчез уже навсегда. Потому что я сразу сказала: «Свяжешься еще раз со своей Ритой, я на тебя время и силы тратить больше не буду, не надейся».
А мой давний дружок Антоша? Серьезный человек, весьма, между прочим, рассудочный и прижимистый. Семья, дети, антиквариатом занимается, деньги делает. Тоже из-за них пострадал. На него одна умница приворот сделала — чем плохо, на халяву мужик с полным обеспечением, — и он такие глупости творить начал, что позже, когда вспоминал, сам не верил. Ночами на крыше сидел, ее выслеживал! Ревновал, видите ли, должен был по минутам знать, чем она занимается. От дома ее отойти не мог. В ногах валялся, под дверью на коврике ночевал, все готов был отдать. Правда, тут ему его патологическая жадность, хотя не люблю я в людях это качество, и помогла, — как понял, что скоро и впрямь все ей отдаст или просто потеряет, потому что дела забросил и только на крыше торчит, сразу ко мне и прибежал: «Саня, спасай!» Помнится, мы с него приворот долго снимали, у меня все отсиживался, если что, я его к телефону не подпускала. Цирк: он рыдает, а я его чуть не тряпками луплю. А еще у меня дома диванчик волшебный, на нем ночь поспишь — и порча, бывает, сама сваливается.
В общем, нарассказала я всякого Ивану и говорю:
— Оставайся-ка ты сегодня у меня, а завтра я тебя к бабе Нюре в Рузу отвезу. Она тебя отчитает, порчу снимет, и забудешь ты все свои неприятности.
— Что за баба Нюра?
— Ясновидящая бабушка, целительница. К ней знаешь какие толпы валят? Из-за границы люди едут! Она человека насквозь видит, и прошлое, и будущее, что ему на роду написано, и все болезни без исключения лечит. К ней даже кое-кто из правительства обращается. А она целыми днями народ принимает, про себя не помнит, денег не берет. Конечно, если кто что оставит, она не отказывается, но потом другим раздает. Она напрямую с «планетами», по ее выражению, общается и всегда про человека знает, что ему по судьбе полагается. А порча — это когда в судьбу вмешиваются, и бабуля, если такое видит, просит там наверху, чтоб поправили. В общем, поехали, узнаем хоть, что за дрянь на тебя повесили, а дальше разберемся. Давай, поспи на моем диванчике, может, за ночь порча отвалится, кто знает.
Ваня, к счастью, порядочно уже выпил и сопротивляться не стал, послушно отправился укладываться. А я дождалась, когда он уснет, зашла к нему с горящей свечкой, поводила над ним — она зашипела, зачадила, жуть! — пошептала кое-чего и отправилась звонить Татке. Естественно, та первым делом трубку швырнула, но я знала, что максимум через час не выдержит, объявится, и даже ложиться не стала. У меня интуиция хорошо развита, столько всего предвижу, прям неинтересно. Поговорили, втолковала ей что можно, успокоила:
— Счастье, что он ко мне вовремя попал. Теперь дело в руках специалистов. Вернем мы тебе твоего мужика, не парься. Правда, потерпеть придется, время нужно. А пока развлекайся, Тусь! Приезжай, винца попьем, я тебе погадаю, и жизнь наладится.
4 Иван
Если бы вы только знали, что я испытал, когда проснулся на проклятом «волшебном диванчике»! Хорошо, мозги не сразу встали на место, а то, наверное, умер бы в одночасье. Дурак, думаю, идиот, олух, придурок кащенский! У жены день рождения, а ты у колдуши малознакомой ночуешь. Представил, каково пришлось вчера Туське, — она у меня нежная, слабенькая, чувствительная, я всегда ее от всего защищал, а тут… И что сын обо мне подумал? А папа? Внуки мои, опять же… Прямо голову захотелось себе оторвать. Такой ужас взял, что лежу и встать боюсь: так или иначе домой звонить надо, как без этого, а стыдно — кошмар! Чем я думал, какая, на фиг, Лео, когда я своей семье столько боли причиняю? При мысли о Лео вспомнились, соответственно, вчерашние разговоры про порчу. Туманно, правда, — выпил как-никак прилично, но все равно многое из Сашкиных слов поневоле в мозгах отпечаталось, очень уж хорошо объясняло мое чудовищное состояние. А иначе и не поймешь: ну что в ней такого? С чего я на нее запал? Красивая? Да не особенно, Туська моя куда лучше и благородней. Молодая? И что? Только глупость сильней видна, и образования не хватает, как всей нынешней молодежи. Это Татка, что ни возьми, все читала, все знает, все видела. Они с папой моим как примутся беседовать, так сразу и думаешь: господи, а я-то… невежа невежей. Я мехмат заканчивал и по гуманитарной части не слишком напрягался, хотя читал, естественно, все, что в наше время полагалось, Булгакова там, Гессе, но по-настоящему литературой и искусством только при Татке заинтересовался: она меня с первых дней по выставкам таскала, в театры, в консерваторию. Я под скрипочку на концертах засыпал, а она злилась, убежала один раз даже. Просыпаюсь — музыка кончилась, жены нет… Долго потом мириться пришлось.
Стали мне вспоминаться картинки из нашей долгой жизни, самые лучшие, самые светлые. Я Татку очень любил, всегда. Хотя, конечно, сами понимаете. Мужик — человек слабый. И командировок в последнее время столько, что реже дома бываешь, чем по городам и весям. Но все равно, в общем и целом вел себя прилично, а если что, мучился страшно, противно было. А Тусю свою как увижу, все во мне сразу теплеет и будто на место становится.
В общем, чем дольше я на диване лежал, тем сильней меня к Татке тянуло, а на Лео злость брала. И что она на мою голову навязалась? Зачем? Чтобы всю жизнь мне переломать? Как я теперь домой вернусь, даже если Татка меня простит, что вряд ли? Все равно теперь будет знать, что я совсем не тот идеальный муж, каким представлялся. Но вдруг эта чертова порча действительно существует? Может, не в таком виде, как я думаю, но все же влияет на человека и он сам не свой делается? Может, если Татке рассказать, она поймет? Если порчу снимут и я стану как был, поверит и не будет очень уж сильно клеймить позором? Съездить, что ли, правда, к этой бабке?
Я сел, спустил ноги с дивана. Черт, и зачем вчера столько пил? Помотал головой. Бр-р-р-р. Думаю: «Совсем ты, друг, сбрендил. Какая бабка, какая порча? Сам математику-физику изучал, материалист до мозга костей, а туда же! Езжай домой и забудь о глупостях! А то на девочек его потянуло».
Вышел на кухню. Сашка уже завтрак приготовила, кофеек, бутерброды.
— Покурим, — говорит.
Покурили, кофе выпили.
— Ну что, едем к бабуле? — спрашивает. — Мне, кстати, давно к ней надо.
Я замялся. С одной стороны, ехать никуда не хочу, с другой — вчера почти обещал, да и отказывать не люблю, особенно женщинам.
— Знаешь, Саш, мне бы на работу, и вообще, я вроде на диване твоем отоспался, лучше стало.
— Естественно, лучше, только не думай, что на этом все кончилось. Говорю тебе: не хочешь погибнуть — давай съездим. Дело серьезное, специалист нужен.
И дальше в таком духе. Рамку опять достала, поле померила, сказала, что если и лучше, то совсем чуть-чуть, а вообще как был гриб, так и остается. Я, чтобы время потянуть, сказал, что сначала позвоню Тате, а дальше решу. Когда номер набирал, руки так дрожали, что мимо кнопок промахивался. Стыдно же, господи, больно, страшно!
Подходит. Голос заплаканный, несчастный; прямо ножом по сердцу.
— Тусенька, — говорю, — это я. — А самому трубку хочется бросить и убежать куда глаза глядят, чтобы не было меня на свете, убийцы проклятого. — Прости меня. Я такого натворил. Саня считает, что на мне порча. Говорит, надо к бабке ехать, чтобы отчитывала. Может, правда?
— Знаю, она мне звонила. Поезжай, хуже не будет. Хуже некуда.
— Сейчас и поедем. Потом позвоню, расскажу. Да, и с днем рождения тебя.
— Спасибо, — шепчет, — а потом ты куда? Домой?
— Нет, лучше в гостиницу. Пока я «порченный».
— Хорошо. — А в голосе такое, что умереть можно. Думаю, надо бы к ней, как она там одна, а самому позорно невыносимо, и понимаю: не могу, сгорю со стыда.
Повесил трубку и говорю Сане:
— Собирайся, едем к твоей бабуле.
Погода, как назло, выдалась отвратная.
Дождь со снегом, мрак, ветер. Туся такую любит, на ее день рождения часто бывает подобное — конец октября, нормально.
Короче, отправились. На дорогах сумасшедший дом, пробки, аварии, толкотня, все нервные, бешеные. Саня диск с какой-то попсой несусветной прихватила. Я под эти завывания в два счета опух, начисто соображать перестал, а она знай себе восклицает:
— Нет, все-таки жить хорошо! Скажи, Вань? — И кофе из термоса предлагает.
Минут через двадцать убить ее захотелось.
Ехали, ехали, я слегка засыпать начал. Вдруг — шарах! Удар, грохот; машина подпрыгнула и встала как вкопанная. Мы жутко перепугались. Сидим и смотрим друг на друга как идиоты. Тут у Сани телефон зазвонил. Она поговорила, а потом мне — изумленно:
— Представляешь, это бабуля. Спрашивает, что у нас случилось, все ли в порядке.
Я, признаться, хоть и был в легком шоке, тоже поразился: ни фига себе бабуля! Точно ясновидящая.
Вышли мы из машины, огляделись. Оказалось, на дороге здоровый булыжник лежал, на него мы и наскочили. Удивительно, как нас в сторону не отбросило, прямо чудо какое-то.
— Гляди-ка, — вдруг со странным смешком говорит Саня.
Я посмотрел, куда она показывает.
— Кладбище.
— Еще доказательства нужны, что это порча на смерть? Авария рядом с таким местом? Чуть меня с собой не прихватил! Впрочем, может, наоборот, тебя из-за меня пощадили.
— Думаешь? — А у самого аж в груди холодно стало. Очень уж все одно к одному.
— Что мне думать, я знаю! Ладно, едем, бабуля обещала последить за нами до конца дороги, провести. Больше нам ничего не грозит, страшное позади.
Двинулись дальше. Меня слегка потряхивает. Эх, думаю, Лео, Лео, до чего ты меня довела. А в голову почему-то лезет, как мы с ней целовались в машине, еще до Италии. Даже не целовались, а… ладно, лучше не вспоминать, а то как пить дать — не доедем.
Минут через сорок добрались наконец до окраин Рузы. Перед поворотом на узенькую улочку Саня сказала:
— Остановись, купим бабуле чего-нибудь. Не с пустыми же руками являться.
Зашли в магазин, Саня сразу к продавщице: дайте одно-другое-третье-четвертое. Я заплатил. Но не удержался, спрашиваю:
— Это положено так или твоя личная инициатива?
— Вообще-то, когда к высшим силам с просьбой обращаешься, посредника принято отблагодарить. Бабуля сама ничего не требует, если с пустыми руками придешь, все равно все выполнит, но, по моему личному мнению, каждый труд должен быть оплачен. Сам подумай: человек за нас молится, ночами не спит, отчитка ведь в основном по ночам делается. О себе забывает. Сейчас увидишь, какая она, кожа да кости. На самом деле в такие места хлеб положено приносить, за общий стол. Баба Нюра обязательно народ чаем поит и кормит, причем многие, как везде, норовят задарма приобщиться, а на всех разве напасешься?
Ладно, набрали мы продуктов, сели с сумками в машину, еще с минуту ползком ехали по улице.
— А вот и бабушкин домик, — объявила Саня.
Я, честно сказать, готовился увидеть избушку на курьих ножках. Но нет, домик весьма ничего себе, аккуратненький, свежевыкрашенный, зеленый, за сетчатой оградой. Уютно лепится задней стеной к высоченному холму, над трубой дымок вьется, слева будка, собака на цепи бегает, лает. Около дома люди топчутся. И вид у них такой, что меня сразу тоска взяла. Господи, застонало в душе, куда меня занесло?
Сашка сразу за телефон схватилась:
— Сейчас Марише позвоню, она нас проведет.
— Кому?
— Сестрице двоюродной. У нее тоже кое-какие способности есть, это у нас наследственное, бабка по отцу цыганка, так что сам понимаешь. Вот Мариша у бабули и учится, помогает лечебные составы делать, больных принимать. Почти каждый день тут бывает. Я, когда собираюсь приехать, заранее предупреждаю, чтобы в очереди не стоять. Видишь, сколько народу? У бабы Нюры всегда так.
Ясно, ясно. Без блата и здесь никуда.
Дозвонилась Саня своей Марише, встала «избушка» к лесу задом, к нам передом, дверь отворилась, выпустив клуб густого пара, и мы вошли. В сенях было холодно и темно, из-под ног прыснули в разные стороны три черные кошки. Мы прошли дальше, в крохотную комнатку, правую половину которой занимала печка, а левую — бесчисленные иконы с горящими лампадками, под которыми стоял письменный стол, заваленный исписанными листами бумаги и фотографиями.
— Тут бабушка принимает, — пояснила Саня. — Сейчас она, наверное, в избе, чай пьет. Пойдем.
Мы прошли в горницу — именно это слово возникло в голове, — странное помещение, от пола до потолка заставленное по периметру трехлитровыми банками, пустыми, с медом и какими-то темными жидкостями, очевидно травяными настоями. На подоконниках, на полу стояли огромные алоэ в горшках, некоторые растения лежали на боку, истекая соком из надрезов в большие тазы. Середину комнаты занимал длинный стол, заставленный посудой и неопрятно заваленный едой. Вокруг стола сидели некие приближенные особы; все лица были повернуты к немолодой женщине в торце стола, — надо думать, бабе Нюре, действительно очень худой. Но только какая же она бабушка? Одежда, конечно, старушечья, деревенская, и на голове какой-то плат, но волосы не седые, а рыжие крашеные. Щеки, по крайней мере открытая их часть, довольно-таки гладкие и румяные, глаза яркие, блестящие. В общем, если и бабушка, то очень условная.
Она повернулась к нам:
— Александрушка, милая! Проходи, проходи, садись. Небось устала с дороги? Отдохни, попей, покушай. А это у нас кто такой?
— Иван.
— Ванюшка! Иди сюда, золотой, садись рядом с бабушкой. Мы вот тут сидим, чаек попиваем, о жизни толкуем. Бабуля-то все работает, работает, а ведь и отдохнуть нужно, как же иначе! Да… Вот так и живем, потихоньку, с Божьей помощью, а как же, Бога не забываем, Бога забывать нельзя, да, Ванюшка мой золотой, правильно бабушка говорит?
Что тут ответишь? Я заулыбался и закивал как дурак.
— Ну пейте, дети мои, ешьте и рассказывайте, кто из вас как живет, у кого какое горе, какая радость, — монотонно продолжала бабушка. Сидящие за столом напряглись, видно, приготовились разбинтовывать язвы на глазах у изумленной публики, но баба Нюра, похоже, ответа не ждала и все так же без интонации заговорила дальше: — Я вот недавно с Лавры вернулась Киевской, к отшельникам ездила, к святым старцам, двенадцать термосов отвезла, а как же. Они в пещерах сидят, за нас молятся, холодно ведь, поди! Пусть хоть погреются. Сушек тоже отвезла, конфет пустяковых. Пост постом, а немножко можно, да, Ванюшка? Правильно? А как же! Или вот еще на днях ко мне женщину привозили из-под Можайска. Она, несчастная, уже и ходить сама не могла: порчу на нее навели. Первая жена ее мужа, покойница, не хотела, чтоб он снова женился, и заговорила все-все в доме. Эта как туда попала, сразу болеть начала. Болела, болела — слегла. Ноги не держат. Хорошо, им про бабу Нюру рассказали. Они ко мне. Два дня, две ночи я возле нее сидела, не отходила, молитвы читала. Без толку. Не хотят планеты помогать. А мужу домой пора, на работу. Что тут поделаешь? Я в дорогу им составчик дала и отпустила. Молиться, говорю, за вас буду, а там уж как наверху решат. А назавтра, представьте, звонят… — Бабуля извлекла из недр юбки новенький сотовый телефон: — Вот, наш глава администрации подарил. Лечится у меня, так чтоб связь держать… В общем, звонят и рассказывают: ночью, в поезде, у женщины той корчи начались, заколотило всю, пена изо рта пошла, а потом вдруг затихла. Смотрят — а из нее зверек вышел! Вот какая порча на ней была! А тут все сразу как рукой сняло, на ноги встала и пошла за милую душу.
— Кто из нее вышел? — не удержался я.
— Зверек!
— Какой еще зверек?
— А зверек! — Взгляд бабы Нюры как-то остекленел, и глаза уехали в сторону. — Порча такая.
М-да, думаю. Дело ясное, что дело темное. Но сижу молчу. Не хочется людей обижать, Саню особенно. Все же для меня старалась и верит сама в эту бабушку. А потом, мало ли, может, зверьки — сказки для малограмотных, кто там знает, что под этим подразумевается. У Кастанеды описано ведь что-то подобное.
— Да вот, мэр наш игрушечку подарил, звонить теперь могу, когда надо… глянь, Александрушка, хороший телефон-то? — Саня взяла в руки аппарат, глазами изобразила восхищение. — Поработает он или, как мэра вылечу, испортится? А то у меня знаете как? Бывает, на «мердесесах» приедут, а на стол десятирублевую бумажку жеваную швырнут — держи, бабушка, за труды. Я одной такой бумажку назад сунула, говорю: «Ты их где, на паперти насобирала? Не надо мне подачек твоих! Хочешь бабушку отблагодарить, благодари от души, а без подачек обойдемся».
Приближенные сочувственно закачали головами.
— А то, бывает, яблок дрянных натащат, как нищенке, или одежду с покойника! Такое и в руки не беру, сразу, кто принес, кричу: «Унеси! Только с мертвых мне вещей не хватает, со всеми их несчастьями!» Ну да это полбеды, а бывают ведь злые люди, ленты из гроба несут, тапочки, перчатки похоронные. Завернут в бумагу, чтоб я не поняла, в руки взяла, — и дарят! Это уж колдуны, порчу на меня норовят навести, очень я их злым делам мешаю. Не на такую напали, правильно я говорю, Александрушка моя золотая? Вот именно. Я ж все насквозь вижу! Одна вот ведьмачка шла мимо забора, на секунду встала, будто оглянулась зачем-то, а сама под ворота что-то кинула. Думала, не замечу. Я ей: «Ну-ка, забери чего бросила! А то пожалеешь!» Испугалась, подлая, схватила свой кулек и бежать! Ведьма. Много на свете злых людей, ох много!
— Помните, баба Нюра, вы говорили, плохих людей восемьдесят процентов? — с самым серьезным видом вставила Саня.
— Точно, восемьдесят. Так планеты говорят, — кивнула бабушка. А потом, словно очнувшись, огляделась по сторонам и предложила: — Давайте-ка мы с вами лучше споем. Что о плохом да о злом толковать.
Извлекла откуда-то из-под стола тетрадку, раскрыла и, никого не дожидаясь, фальшиво затянула церковный гимн. А может, не церковный, я не разбираюсь, во всяком случае, про Христа. Остальные, по всей видимости, не знали слов, но бабулю их молчание не смущало. Честно говоря, к тому времени я уже еле сдерживался, чтобы не убежать. Страшно не люблю неловких ситуаций, а от такой спевки мне было очень стыдно. Наконец, исполнив пять или шесть песен — я от ужаса потерял счет, — бабуля удовлетворенно отложила песенник, спросила:
— Ну что, отдохнули, дети мои? Тогда за работу. — И, бодро хлопнув руками по коленям, встала. Повернулась ко мне, обожгла неожиданно острым взглядом и сказала: — Пойдем, ты первый, голубок.
Спиной чувствуя недовольство других, прождавших тут намного дольше, и стараясь не замечать их укора, я направился вслед за бабушкой в маленькую комнатку. Она села за стол, усадила меня на стул рядом, помолчала, пожевала губами и огорошила вопросом:
— Что, сладко тебе с молодой-то?
Я растерялся.
— Вижу, сладко. Ярко, блестко. Ослепила тебя кареглазая, весь свет застит. Только не все то золото, что блестит. Она ж тебя, дурака, оседлала как коня и едет, пока в тебе силы есть, а потом загонит да бросит, не оглянется. Ты думаешь, любишь ее, а она на тебя колдует, жизни твоей, здоровья не жалеет. Я-то вижу! Ох, порча на тебе, ох, порча! Жизнь на волоске висит! Морок все, колдовство, понял меня, Ванюшка? А ведь у тебя рядом есть человечек, хороший, настоящий. Вот ее и люби. Тебе с женой твоей на роду написано быть вместе, по судьбе так положено, а против судьбы идти ой как опасно! Ой как страшно! А кобылице этой разве есть дело, что ты через ее ворожбу себя погубишь и семью потеряешь? Ей бы деньги твои к рукам прибрать — да с молодым прогулять!
Что-то в ее словах задело меня за живое, и я невольно задумался. Недаром же они хором про порчу талдычат, чувствуют, наверное, что-то? Я ведь и сам чувствую: неладно со мной. Зверьки, конечно, сильно смущают, но разве можно из-за одной нелепости списывать со счетов все способности человека? Бабка необразованная, понятно, но явно видит — я же никому не говорил, что у Лео карие глаза. И что жизнь на волоске, тоже нельзя не поверить: последнее время буквально кожей ощущаю, что по краю хожу. Вспомнил я, как в самолете летел, когда шасси не выпускались, и мечтал разбиться, лишь бы не мучиться больше, и просто мороз по коже прошел, настоящее дыхание смерти. Так страшно стало, так тоскливо и горько, что я посмотрел на ясновидящую бабку полными слез глазами и, всхлипнув как ребенок, спросил:
— Что делать-то, баба Нюра? А?
Она пару секунд сидела молча, не шевелясь, глядела в сторону, на иконы. А потом велела:
— Бери бумагу, пиши. — И стала диктовать текст заговора, который должен был оборонить меня от зла, причиненного «колдуном Клеопатрой». — Напиши внизу: «аминь, аминь, аминь» двенадцать раз. Вот так. Теперь буду отчитывать. Плохо тебе будет, сердце может ночью схватить или еще чего. Не бойся, это порча сходит, но про осторожность не забывай. А главное, с ней не встречайся. Ей от моей отчитки хуже, чем тебе, придется, и она к тебе полезет, чтоб страдания прекратить, но ты знай: это она опять приворот делает, жизнь твою разрушает. Понял меня, Ванюшка мой золотой? Сопротивляйся, не то пропадешь.
Я оставил бабе Нюре двести долларов, дождался, пока Саня решит свои дела, а потом мы уехали. Я — с искренней надеждой на скорое исцеление. С дороги звонил Тате, чувствуя, что люблю ее по-прежнему и даже больше и что мое нелепое увлечение практически забыто. Обещал скоро вернуться: поживу в гостинице, пока меня отчитывают, — и сразу домой.
* * *
Вечером в номер постучали. Дверь открылась. На пороге стояла Лео. Вид у нее был смущенный, но губы уже расползались в улыбке. Защитный скафандр, который я так старательно запаивал изнутри, немедленно развалился на части. Я беспомощно шагнул ей навстречу. И, прижав к сердцу, подумал: «Ради такой порчи не жалко и умереть».
5 Протопопов
Я женат двадцать пять лет и двенадцать из них влюблен в Тату. Не то чтобы безнадежно, просто мне от нее ничего не надо. Я влюбился с первого взгляда, когда Ванюха, тогда еще никакой не директор, а мелкая сошка, привел ее к нам на работу на Новый год. Но прежде я сошел с ума от ее голоса: однажды она позвонила, а мне случилось ответить. С того дня я специально вертелся у телефона, только бы лишний раз ее услышать. Потом, когда мы подружились и стали часто общаться, она как-то сказала, что по голосу может узнать о человеке все. Я удивился, не поверил: что значит «все»? А сейчас думаю, что сам с первого звука, в первую же секунду понял: вот она, моя Принцесса на горошине. Только не дал себе труда это осознать. В голове тогда другое мелькнуло — что Ванька завел любовницу, у жен таких голосов не бывает. Ах, какой голос! Настоящая ловушка, манок! Я же не один такой, сколько раз наблюдал, как мужики, впервые услышав Тату, вздрагивают и цепенеют с изумленным видом, не понимая, что происходит. Правильно, сразу и не поймешь, когда в простом «здравствуйте» или «приятно познакомиться» сокрыт целый роман, причем написанный специально для тебя. А когда к такому голосу прилагается фантастическое обаяние, нежный взгляд и чуть насмешливая улыбка, тут уж, как говорится, пиши пропало. Вот я и пропал.
Странно, но моей семейной жизни это нисколько не мешало. Даже наоборот. Первые пять лет я жене изменял — глупо, вяло, без желания, под влиянием ситуации. Как все кругом. И никаких угрызений совести. Бывало, переместишься к вечеру из одной постели в другую, от просто бабы к любимой жене, — и все то же самое проделываешь с теми же примерно ощущениями. А потом в душе будто щелкнуло: так дальше нельзя, что-то важное разрушается. Семь лет вел себя примерно. Тогда, впрочем, самая работа началась, мы с тремя моими друзьями создали свою фирму. Программу написали такую, что она на Западе стала продаваться, совместное предприятие открыли, денег зарабатывали все больше и больше, квартиры-машины покупали, а я ведь провинциал, мне казалось важным утвердиться в Москве, и я утвердился будь здоров как, — словом, было не до любви и не до измен. Хватало того, что я — один из отцов-основателей крупной конторы. А потом мне встретилась Тата и в жизни появилась новая грань. Знаете, бывает «здоровье», «работа», «семья», «дети», «любовь», «хобби», а тут даже не знаю, как назвать. «Тата» — и все. Первый год я вел себя как сумасшедший: ухаживал, цветы дарил, по ресторанам водил, стихи писал. И специально никакой тайны из этого не делал — разве что от жены, — и Тате с самого начала сказал: мне нужна только дружба. Я и правда на любые условия был готов, лишь бы рядом быть, за руку случайно взять. Поговорить. Без конца что-то рассказывал, рассказывал, остановиться не мог. Но это было так хорошо, что втайне я все же начал мечтать о новой жизни — с ней. Конечно, от жены я вряд ли тогда ушел бы: сын маленький, да и любовь никуда не делась, параллельно существовала, только близости, как с Татой, у меня с женой не получалось. Но в какой-то момент я за себя испугался. Я вообще-то боюсь привязанностей, а тут настоящая наркомания. Стал приучаться обходиться без Таты, дольше, дольше, дольше. И все равно раз в два-три месяца должен был с ней увидеться или хотя бы по телефону поговорить, иначе окружающая действительность тускнела, теряла краски. Я рассказывал ей все — как психотерапевту, идеализированной матери или лучшему другу, наперснику, этакому Огареву, в общем, тому, кого на самом деле у меня нет. И незаметно моя мечта осуществилась: Тата стала моей второй жизнью, в которой я был лучше, умнее и честнее, чем в первой. Однажды я вез ее из парка домой после прогулки и — не помню, по какому поводу — сказал:
— При наших отношениях…
— А какие у нас отношения? — спросила Тата.
Я задумался.
— Пожалуй, семейные, только без детей.
Она промолчала и лишь много позже призналась, что мои слова очень ее удивили: мол, без секса — еще понимаю, но дети при чем?
Кстати, именно благодаря Тате я, достигнув соответствующего возраста, продолжал хранить верность жене и не думал ни о каких молодых девушках, точнее, думал, но очень умозрительно, прекрасно понимая, что если не Тата, остальное неинтересно. Я даже начал гордиться своим нерушимым браком, хотя немножко завидовал тем, кто разводится, и временами огорчался: неужели у меня будет только одна жена? И один ребенок? Но не знаю, я как-то так устроен, что все измеряю и подсчитываю; когда стаж семейной жизни перевалил за двадцать лет, он стал для меня важен сам по себе.
Так продолжалось двенадцать лет. Я привык к своей роли в ее жизни и ее роли в моей, знал, что, не став ее любовником в самом начале, уже никогда им не стану. Мне казалось, что существующее положение вещей, этот наш слегка перевернутый «Гранатовый браслет», — наиболее удачный и единственно возможный вариант. Да и по большому счету, я настолько сросся со своей влюбленностью, что перестал ее замечать.
И вдруг, позвонив поздравить Тату с днем рождения, услышал: «Мы с Ваней расстались». И физически ощутил, как мир переворачивается с ног на голову.
Первое, что я сделал, — попытался отогнать нахлынувшую надежду. Мысленно закрыл руками голову: нет, нет, нет! Все равно невозможно! И вообще, надо ей сочувствовать, а не ликовать как последняя сволочь. Уже через пару секунд мне удалось убедить себя, что я испытываю все самые правильные, благородные чувства. И я предложил:
— Пойдем куда-нибудь сходим. Тебе надо отвлечься.
Мы пошли на выставку, а после — в кафе. Едва увидев ее, я сразу ощутил сострадание, которого не мог найти в себе до того. Мне захотелось немедленно разыскать Ивана и вернуть домой, лишь бы не видеть этих несчастных глаз, этого выжженного лица. Но уже в кафе, когда она выпила вина и чуточку повеселела, я понял: бесполезно бороться. Теперь, когда она свободна, я хочу ее. Всю. Себе.
Она заметила. В ответ на мои слова, что, возможно, все правильно, им с Иваном пора было расстаться, а двадцать пять совместных лет останутся чудесными воспоминаниями, она подняла голову, пристально посмотрела мне в глаза и спросила:
— А сам бы ты чего для меня хотел?
— Можно не отвечать на этот вопрос? — пробормотал я.
— Ясно, — сказала она. — Уже строишь планы. — И горько рассмеялась. Она всегда меня видела насквозь, понимала раньше, чем я понимал сам себя.
Неделю спустя она уехала в квартиру родителей. Они предложили ей пожить одной и попробовать прийти в себя, предаваясь детским воспоминаниям и глядя из окон на реку: вода успокаивает. Квартира эта, как на грех, совсем недалеко от моей. Впрочем, в центре все рядом… Я начал бывать у Таты каждый день и даже чаще. Наши встречи стали истинным смыслом моего существования. В уединении, в самой его возможности, прежде незнакомой и ненужной, таилось особое, сюрреалистическое очарование. Меня влекло к ней, я едва мог заставить себя отойти на пару шагов, тем более что повод приблизиться возникал постоянно: она то и дело плакала, и я гладил ее по голове, прижимал к себе, утешал. Но чем дальше, тем больше понимал, что сейчас не имею права ее трогать, досаждать собственными чувствами. Она была так растерянна, что могла сдаться, а потом возненавидеть меня. Опасаясь этого и не доверяя себе, я начал привозить что-нибудь вкусненькое, на скорую руку накрывал стол и усаживал Тату, — она ужасно похудела, стремление накормить ее было вполне естественно и к тому же отвлекало от дурацких мыслей. За едой она рассказывала про какую-то Сашу, астролога и колдунью, про ясновидящую бабку и порчу, наведенную на Ивана молодой подругой. Мне, если честно, от таких разговоров делалось дурно. И это — моя умница Тата? Как же ее умудрились заморочить! Но я не решался высказаться напрямую: ей было явно легче верить в любую чушь, чем в то, что Иван мог по-настоящему в кого-то влюбиться. К тому же в ее чудесном голосе звучала такая убежденность, а поведение Ивана было настолько безумно — он совсем исчез с горизонта, а когда изредка звонил, то нес форменный бред, — что я невольно начал сомневаться: вдруг в самом деле порча? Хотя уж кому-кому, а мне всякая мистика совершенно чужда; я — стопроцентный материалист и верю только в вещественное, в то, что можно увидеть, услышать, пощупать, попробовать на вкус, купить за деньги. Конечно, поведение Ивана было достойно всяческого осуждения и воистину поражало своей нелепостью, но все же я по мере возможности пытался разубедить Тату, заставить внять голосу рассудка.
— Средневековье какое-то, — говорил я.
— Допустим. А чем еще объяснить такие странности? И почему все, что они говорят, сбывается? — возражала она, приводя в пример очередной подтвердившийся прогноз Саши или бабы Нюры.
— В твоей ситуации всего два прогноза: вернется и не вернется. Любой вариант с вероятностью пятьдесят процентов сбудется.
В ответ Тата лишь снисходительно улыбалась: мол, поварись в этом супе с мое, тогда говори. А пока слушать ничего не хочу.
— Почему ты не видишь более простого объяснения: Ванюха устал вкушать ананасы в шампанском, и ему захотелось простой жирной котлеты?
— В твоей метафоре прокол: он эту котлету не ест, а бегает с ней, сунув за пазуху и вытаращив глаза, чтобы не отобрали. Согласись, это ненормально.
— Согласен, но… Ладно, к черту котлеты… Молодая девица, сколько ей?.. двадцать два. А ему сорок восемь, это же классика! Потерял голову, обычное дело. Побегает и успокоится.
— Ты что, забыл, как он возвращался домой на три дня? Я же рассказывала. Псих психом. Маялся, постоянно жег ароматические палочки и ходил по квартире, словно кого-то выкуривал. Буквально как Иван Бездомный в «Мастере» — с иконкой и свечечкой. Сам весь в каплях пота, глаза стеклянные и разве что красным не загораются. И взгляд, знаешь, такой странный… Представь, что я смотрю на тебя в упор, а потом, не поворачивая головы и не опуская глаз, отвожу их сильно-сильно в сторону. Зрачки как будто уезжают. Да-да, вот так. Ничего ужаснее в жизни не видела. А еще он каждые пять минут принимался плакать, смотрел по сторонам и твердил: «Я тут все так люблю, а меня отсюда забирают, я должен все оставить». Кто его забирает, кому он должен, скажи? Натуральный зомби. В последний день ему совсем было плохо, и я предложила позвонить одному человеку, который занимается восстановлением энергетики, говорю: давай съездим, тебе лучше станет. Ваня вроде бы согласился, но, когда я позвонила и стала договариваться, у него прямо корчи начались. Катается по дивану, вопит: «Не хочу, не поеду, он меня заколдует!» В голос орал — на том конце провода слышали. Я чуть со стыда не сгорела. В жизни он себя так не вел. А когда я трубку повесила, вскочил, крикнул: «Прости меня, больше не могу здесь!» — и умчался, причем, знаешь, казалось, что бежит он задом наперед. Когда, как говорится, ноги из дома несут. Это, по-твоему, нормально?
— Все равно должно быть разумное объяснение. В крайнем случае, это сумасшествие. Почему обязательно порча?
— Не знаю почему и ничего не утверждаю. Только другие объяснения с многочисленными «но», а если поверить в порчу, все сходится. Если б ты сам его тогда видел, давно бы в церкви прятался и молился, а так легко рассуждать.
— Не легко, просто я не хочу, чтобы ты…
— Все! Хватит! Не принимаю укоризны от человека без имени! — шутливо замахала на меня руками Тата.
— В каком смысле «без имени»?
— Ты что, никогда не замечал, что тебя все зовут исключительно по фамилии?
Я оторопел. Что называется, вы будете смеяться. Не замечал.
6 Лео
— А ты подумала, ведь у него жена? — Это мать мне говорит.
Нет, забыла. Ну, жена. Кому нужна такая жена, которая дома сидит, книжки за копейки иллюстрирует, а суп сварить ей некогда. Когда у нас с Ванюшей только закрутилось и он первый раз при мне домой звонил, я чуть не опухла. «Тусенька, что на ужин будешь?» Сю-сю-сю. Слушать тошно.
Нет, блин, прикиньте: директор фирмы после работы по магазинам скачет! А потом к плите несется: Туся готовить не любит и вообще устает. Скажите пожалуйста! И чего она ждала, Туся эта дурковатая?
Иван говорит, она вообще вся в своих картинках и мало что вокруг замечает. В койке тоже. Не понимаю: такой мужик под боком, а у нее не допросишься. Дура. Пусть теперь локти грызет.
Я его как увидела, сразу решила: мой будет. Чего греха таить, я ко всем мужикам в возрасте присматривалась, на которых в принципе смотреть стоит. У меня так несколько подруг в Москве устроились. Но на абы чего я соглашаться не собиралась, и вообще у меня жених был, мы уже и свадьбу планировали. Жили, правда, на съемной квартире, но лиха беда начало, правильно? А тут Иван подвернулся. Я в свою удачу верю.
Короче, внимание я на него обратила, скажем так, по формальным признакам. Директор с машиной, портфелем, на лицо ничего себе. Глаз, опять же, сверкает: видно, по бабам не дурак. Ладно, думаю, сделаем.
Он в первый же день на приманку клюнул. Всего-то и понадобилось, что пару раз декольте под нос сунуть, улыбнуться и по руке пальцами провести. Видать, жена его совсем на голодном пайке держала. Так что мне особо напрягаться и не пришлось: сам позвонил, встретиться предложил, в ресторан сводил, а уж после, в машине, я его окончательно на крючок посадила. Мне Зинка — подруга, в одном дворе выросли, только она старше на три года — давно говорила:
— Путь к сердцу мужчины лежит ни фига не через желудок. Учись делать минет, Клепка, и эти козлы все твои будут.
И вот не то чтобы пришлось долго учиться, но совет оказался гениальный, в очередной раз убедилась.
Через три недели он уже за мной хвостом ходил, как только дура его ничего не замечала, ума не приложу. Еще бы чуть-чуть — и он бы дома перестал ночевать. Но тут она его в Италию поволокла — у них, видите ли, сто двадцать пятая годовщина свадьбы. И Ванька, главное, поперся. Тоже мне! Чего тут праздновать-то?
Пока они там торчали, мы с ним как бешеные эсэмэсились, раз по сто на день, и звонил он мне часто. Причем опять же тютя его умудрилась все прозевать, ничего не прочухала. Он и подарки мне прямо у нее под носом покупал, ювелирку — так себе, правда, даже не в смысле цены, а по виду, — парфюм тоже, а она хоть бы что. Нет, я просто не понимаю таких баб! Держаться же за мужика надо, уведут ведь и прощения не попросят! Короче, не знаю, куда там наша цаца в Италии смотрела, но когда они вернулись и она подслушала наш с Ванюшей разговор, у нее, представьте себе, случился инфаркт. Ну, не по-настоящему, конечно, но трагедия разыгралась отменная. Ванька впал в транс. Встретился со мной в тот день и объявляет:
— Надо все прекращать. Мы слишком далеко зашли, заигрались, а теперь жена узнала, я не могу причинять боль… — И т. д. и т. п.
Драма на болоте.
Я в рев. С одной стороны, без дураков: привыкла уже к нему, нравиться он мне стал. А с другой стороны, для дела: слезами от мужиков многого добиться можно. Но тут как-то не прокатило.
— Прости, — говорит, — мне с тобой очень хорошо, не знаю, как без тебя жить буду, но жена мне дороже и важнее всего.
До того я обозлилась, словами не передать! Рыдаю взахлеб, а сама кричу:
— Пожалеешь еще! Пожалеешь!
Не знаю, что я тогда имела в виду, только ярость во мне бушевала неописуемая. Потом, когда чуть успокоилась, думаю: ну и что я ему сделаю? На работу жалобу настрочу? А внутри все клокочет: как же так, все на мази было, а теперь назад, к истокам?
Нет уж, думаю, еще чего.
На следующий день написала Ваньке послание эротическое: мол, стоит перед глазами, не падает, — и укатила к себе в Иваново. Пускай без меня помучается. А заодно и мысль мелькнула: не поможет ли мне бабка покойная? Она же ведьма была, самая натуральная. Учила меня кое-чему с детства, записи в тетрадках оставила. Решила я в ее бумажках покопаться, вдруг что подходящее против Ванькиной идиотки отыщется. Не так чтобы я в это верила, я человек сугубо материалистический, но бабуле в жизни многие странные вещи удавались. Кстати, это она меня Клеопатрой назвала, заставила родителей, они против ее воли пикнуть не смели, тоже тюти изрядные. Сказала: «Царское имя — царская судьба», и хоть трава не расти.
В результате оказалось, не зря меня домой потянуло. Нашла я в записях то, что нужно. А через два дня, в воскресенье, как раз было полнолуние. И вот ближе к ночи, «в час, которым правит ангел Анаэль», почапала я в лес, благо он у нас от дома недалеко. С собой взяла воду в бутылке, свечку и несколько Ванькиных волос. Их я давно припрятала, еще в самом начале, — тоже бабкина наука, она всегда говорила: заведешь мужика, отстриги у него хоть несколько волосков или с одежды собери, пригодятся.
В лесу я вышла на глухую полянку, которую мало кто, кроме местных, знает, набрала сухих веток, палок, развела костер. Разделась, хоть и холодно было, но решила, что для усиления эффекта можно и пострадать. Опять же, костер, не умру. Развела руки, поздоровалась со стихиями, с костром, огнем, рассказала, кто я такая, чего прошу. Помогите, дескать, мне все природные духи. Бросила в костер сухую веточку:
— Прими мой дар!
Растопила слегка свечку над костром и начала лепить куколку, сосредоточившись, как полагалось по записям, ни на что не обращая внимания.
— Кастанами, кастанами, такаса фами…
Прилепила на голову куколке Ванькины волосы, взяла воду, прочитала над ней три раза «Отче наш», подула.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа нарекаю тебя… — Тоже три раза, и трижды окропила куклу.
Затем выкопала у костра ямку, положила туда куколку, кинула на нее три горсти земли, одновременно читая заговор: все, что мне нужно от Ивана.
— Да будет так! — С силой три раза.
Уф. Можно одеваться. Поворачиваюсь за шмотками и замечаю за кустами какое-то движение. Вот черт! Что, если меня видели? Вдруг это отразится на результате и все получится не так, как я хочу? Но что ж теперь, поздно, обратно не переделаешь.
Я оделась, прошла там, где шевелились ветки. Вроде бы никого. Ладно, авось обойдется.
Возле самого дома меня окликнул знакомый, одноклассник бывший:
— Клепка, привет! Давно приехала?
Но я низко опустила голову и молча прошмыгнула мимо, зная, что пока не приду домой и не вымоюсь, мне нельзя ни с кем разговаривать.
* * *
А когда вернулась в Москву и увидела, что с Ваней черт-те чего творится, испугалась. Нет, вначале все шло как надо. Вроде бы. Позвонила я ему, мы опять встречаться начали, про жену он помалкивал, в командировку меня с собой взял, расставаться не хотел, приклеился прямо. Все по-моему делал, как я и заказывала. Единственно, злиться на меня стал, не постоянно, иногда, но очень сильно. С какой силой любил, с той же и ненавидел. До меня не сразу дошло, что это может быть из-за приворота, — откуда мне знать, как он действует? Вдруг человек чувствует, что не по своей воле к другому тянется, и его это бесит? Тогда плохо, хотелось, чтоб Ваня меня как в самом начале любил, привыкла я уже по-доброму. Только горевать было поздно: что вышло, то вышло. И вообще, он же в меня сам влюбился, не по привороту, значит, все устаканится.
Но потом еще хуже стало. Заколбасило его, жуть! Несчастья посыпались, в самолете чуть не погиб, на здоровье стал жаловаться. И голова-то у него болит, и сердце, и желудок, и соображать перестал, и мерещится всякая гадость. А дома совсем плохо бывает, во всех смыслах, даже не перескажешь, до какой степени. Может, говорит, я с ума схожу?
Ну, про дом-то я просила, только не так ведь… Господи, думаю, что же я натворила? Полезла в заветные тетрадки, но ничего умного не нашла. То ли приворот вообще отменить нельзя, то ли бабке моей это ни к чему было, не знаю. И вот как в сказке: страшно, а делать нечего. Хотелось взять и убежать куда-нибудь, но это что же, все бросить? Да и Ваню жалко.
Правда, вместе с бабушкиными тетрадками ко мне будто часть ее силы перешла. Я вдруг стала понимать, что и когда нужно делать, чтобы Ваню заполучить. Он ведь мне не сказал, когда из семьи ушел, да и не собирался вовсе, а я почувствовала. Главное, знаю, что у дуры его день рождения, и он, по всему, дома сидеть должен, а саму тянет и тянет в гостиницу, где мы с ним встречались. Не смогла усидеть на месте, поехала. Спросила внизу: «Здесь такой-то?» Оказалось, здесь!
Я наверх, постучала. Дверь толкнула, а он уже навстречу идет. Кинулись мы друг к другу, обнялись, и у меня в груди прямо что-то горячее разлилось, так хорошо стало. Э-эй, думаю, на кого колдовали? Сама-то не влюбляйся, тупица!
Но вот еще странность: раньше в постели он меня обнимал, ласкал, и до, и после, а тут сначала набросился как бешеный, а после чуть не оттолкнул, будто ему противно. Вот блин, думаю. Что тогда хорошего в этих ваших приворотах?
Когда он про бабку ясновидящую рассказал и про то, что она его отчитывать собирается, я обрадовалась. А что плохо будет, не беда, перетерплю. Так я тогда решила. Ему все равно по командировкам мотаться, так я с ним не поеду, пусть думает, что это ему без меня тошно. Зато потом станет как был, и любовь у нас закрутится лучше прежнего. Тем более что теперь он свободен.
Знать бы, какая каша дальше заварится, я бы, наверно, все бумажки с заговорами сожгла и Ваню за ручку домой отвела. Но я уперлась — характер такой. Вижу ведь: меня любит, что ж мне его жене-то вручать в подарочной упаковке? А его конкретно на две части разрывает, то туда, то сюда, что ни день — все снова-здорово. С утра без меня умираем, а вечером у нас, видите ли, жена. Или наоборот. Из командировки ко мне рвемся, а от меня — домой. До койки от страсти трясемся, а после только и разговору: ах, какие мы сволочи и до чего Тату жалко. И почему же ты, Лео, не можешь проявить сострадание? А я, блин, наверное, мать Тереза! Чувствую, достали меня эти качели, сил нет. Раньше сплошная радость была, а теперь одни мучения. А главное, не понимаю уже, в чем дело, кто виноват: я с приворотом или бабка с отчиткой? Или ничего этого не существует, а мужики все так мечутся? Кстати, самой мне тоже хреново было, очень, депрессуха косила, но я терпела.
Потом вдруг он объявил — из командировки звонил, не помню откуда, — что решил домой вернуться. Я так и ахнула: вот бабка сволочь, допросилась у своих планет! Но не сдаваться же? Я за тетрадки. Боязно, конечно, как бы еще больше не напортить, а с другой стороны, может, это вообще все фигня. Короче, выбрала что полегче, без волос и куколок. Позвонила Ване, говорю: «Давай простимся по-хорошему. Приезжай, поужинаем, а там возвращайся к своей Тате». Он согласился. Встретились. Ужином, понятно, дело не ограничилось. И в определенный момент я мысленно ему приказала: «Люби меня или умри без меня!» А после тихо-мирно домой отправила. Поцеловала, поблагодарила за все. Прямо овечка Долли.
Продержался он там три дня. И мучился жутко, сам рассказывал. Только когда ушел, лучше не стало. Я его просто не узнавала. Больной какой-то, псих ненормальный. Глаза стеклянные, смотрит насквозь, потный весь, на лбу капли, за голову то и дело хватается, рыдает чуть что… и хуже всего, пить начал часто, а как выпьет, совершенно дурной делается, в машину садится и по городу круги нарезает, вроде смерти ищет. Страшно. Из командировок то звонит, то пропадает. То ласковый, то гавкает как собака…
В общем, в один прекрасный день сорвало меня. Прощай, говорю, любимый, у меня, между прочим, жених есть. Я ж его, пока суд да дело, не бросала. Что я, совсем кретинка?
7 Умка
Вот уж не думала, что Татка способна настолько перемениться. Мужики у нее всю жизнь по струнке ходили, и Ваньку своего строила — только в путь, и в смысле убеждений отличалась несгибаемостью, так что после Ванькиных финтов ей полагалось поступить по законам советской кинематографии: выкинуть с чемоданом и забыть, как зовут. С Гришей-то своим, за которого в институте замуж собиралась, разделалась хирургически, семь раз отмерять не стала. А ведь сама была виновата, что он с какой-то занудой связался, не выдержал, что вокруг его Татошки вечно толпа. С одним в театр, с другим на выставку, с третьим в Дом композиторов, четвертый с ее собакой гуляет, пятого в магазин за хлебом отправили. И ни с кем ничего такого, все к вечеру дружною толпой собираются и чай у Таткиных родителей пьют. Только Гришу в какой-то момент торкнуло, что ему, изволите ли видеть, внимания не хватает, и рядом сразу образовалась барышня; он вообще-то был мальчик красивый и умный, что называется, завидный жених. Барышня выступила беспроигрышно: объявила о беременности. Гриша, естественно, метнулся к Тате с рыданиями: что делать, я тебя люблю, скажи, что выйдешь за меня замуж, и я с той порву, только с ребенком буду помогать. Тата и слушать не пожелала, хотя любила его, обстрадалась вся, но и после, когда беременность — кто бы сомневался? — оказалась мнимой, ренегата не простила, хотя он разве что сфинктер на британский флаг не раскроил, умолявши, даже при Иване года три-четыре цветы под дверь носил и письма писал. Такой вот у нашей Таты характер железный. Был когда-то.
А теперь она — сдутый воздушный шарик. Как будто из нее жизнь выкачали. Вид потерянный, глаза пустые — не человек, оболочка. Зомби. Ходит, не понимая, где верх, где низ, простых действий выполнить не в состоянии, скажешь: «Чайник поставь» — пойдет и забудет. Сын, свекор все сами по хозяйству, а она и не замечает. Хорошо, Иван, когда в гостиницу переехал, — ох, попадись он мне, я бы ему сказала пару ласковых! — сообразил первой жене позвонить, и она внуков у Татки забрала. Тяжело бы пришлось бедным малюткам… но если серьезно, только их сейчас Татке недоставало. Впрочем, не знаю, может, наоборот? Были б серьезные заботы, она бы не стала по сто лет у Сашки торчать? А то чуть не каждый день к ней ездит и всех знакомых туда перетаскала, Протопопова своего буржуйского и прочих вполне здравомыслящих товарищей. Я, говорит, Умка, все понимаю, не думай, что я с ума сошла, просто мне так легче. Не знаю, откуда она сошла, но в последний месяц Сашка у нее точно вместо гуру или сенсея, что ни скажет — например, в трех церквях сорокоуст во здравие заказать — Татка делает. Да еще мне с полоумным видом пересказывает, как на Ивана порчу навели, и что он творил, и как баба Нюра обещала его к Новому году отчитать и домой вернуть. Вот счастье великое.
— А до того момента ты намерена пребывать в анабиозе? — спрашиваю.
— Почему в анабиозе? Я приспосабливаюсь. Сашка говорит, Ивана у меня увели, чтобы показать: дальше так жить нельзя, пора измениться. И чем скорее я стану другой, тем раньше он вернется. Я стараюсь.
— И что же за альтруист решил тебя уму-разуму научить? Его девица?
— Не издевайся. Как выражается Сашка, это «там наверху» решили. Не делай такое лицо, я ее просто цитирую.
— Лица я не делаю, но, по-моему, ты стала к этому слишком серьезно относиться. А надо бы делить на восемь.
— Ты же сама к бабе Нюре ездила, составчик брала, и от родового проклятия тебя отчитывали.
— И что? Я не готова все отрицать только потому, что оно не одобрено Минздравом. И как нормальный материалист, к тому же медик, обязана испытать на себе. А составчик мне во многом помог. Надо будет, кстати, к врачу сходить, проверить ощущения… Что касается отчитки, мне тогда, как и обещали, о-о-очень несладко пришлось, причем происходило нечто труднообъяснимое. Голова, сердце, пес с ними, к этому мне с моей работой не привыкать, но дерматологических проблем, ты свидетель, у меня никогда не было. А тут такая аллергия началась, наши в больнице только глаза выпучивали. Как надену перчатки, под ними сразу сыпь, язвы, чуть ли не кровавые пузыри! Или случайно заденешь чем-то по руке, легонько, а на коже моментально выпуклый красный шрам. Никакие антигистамины ни шиша не помогали. А как только отчитка кончилась, все прошло.
— Вместе с родовым проклятием?
Ой-ой-ой. Уела так уела.
— Проверить, сама понимаешь, трудно. За полгода выйти замуж и родить ребенка в любом случае нереально. И вообще, считается, что эти вещи действуют не мгновенно — выдул составчик, и оп-па, ребенок, — а с оттяжкой. Но та же Сашка утверждает, что раньше у меня карта не работала, ничего не сбывалось, как ни винтись, а сейчас заработала. Нет, правда, последнее время все идет по ее пророчествам. К слову, надо бы к ней попасть… Она мне очередной пентакль нарисовала. Новый год же.
— Хочешь, поедем вместе, я так или иначе на днях собиралась. Надо бабе Нюре за отчитку еще денег передать. А может, и мне пентакль перепадет? На семейное счастье.
— С нашим удовольствием.
За десять дней до Нового года мы снарядились и поехали. Как положено по колдовскому этикету, с дарами — обожаемым Саней французским вином, сыром, фруктами.
Засели, по обыкновению, на кухне. Саня моментально комп приволокла, он у нее теперь часть организма, без него уже и разговор не клеится. Стали смотреть, у кого что. Естественно, почти все внимание ушло на Татку, я со своими жалкими проблемами еле втиснулась. Конечно — кому интересна всякая фигня по сравнению с порченным мужем? И, хотя они наверняка без меня все это восемьдесят восемь раз смотрели и обсасывали, Саня полезла в карту Ивана и по новой принялась втолковывать:
— Никуда он от тебя не денется, развод у вас сейчас не стоит.
— А когда стоит? — испуганно вздернулась Татка.
— В принципе, никогда, хотя, если хочешь, могу посмотреть, когда это теоретически возможно. Но давай лучше ерундой не заморачиваться, а? Слушай дальше. К Новому году Иван твой дома будет, вам и по карте, и по судьбе так положено.
— Что же он тогда ушел?
— Просто период был уж больно неблагоприятный, а девка подсуетилась. Вот не жалко же ей человека! Дура деревенская, не понимает, что творит! Привораживает мужика, а чем это может обернуться, ей по фигу. На квадрате Плутона магия вообще должна была его добить! Только благодаря везению выжил. Скажи там наверху спасибо, что его ко мне притащили, а через меня к бабе Нюре, иначе давно бы погиб, разбился на машине или еще что. Теперь, когда бабуля за ним присматривает, смерть ему не грозит.
— А не знаешь, скоро баба Нюра его отчитает? — спросила Татка. Жалко так пискнула: голос сорвался.
— Она и сама не знает. Она чувствует, есть еще порча или нет. Когда не будет, скажет. Да и ты поймешь, не волнуйся.
— Как?
— Приворот с человека, как пелена с глаз, сваливается. Буквально встряхиваешь головой — что это было? Представляешь, козлик твой в один прекрасный день вздрогнет: ой, мамочки! Кто это? Лео? Кошмар! И в обморок.
— А если нет? — не унималась Татка. Совсем потеряла чувство юмора из-за своего потаскушного Ивана. — Вдруг это никакой не приворот?
— Как не приворот, когда, во-первых, по карте у него на это время никакой любви нет, а во-вторых, все признаки налицо?! Знаешь признаки приворота?
— Откуда?
— Тогда я сейчас книжку принесу и зачитаю, чтобы ты не сомневалась.
Саня отправилась за книжкой и, вернувшись, устроила целую лекцию.
— Вот смотрите, видите, картинка: семь чакр? Приворот — это подавление одной или нескольких чакр. Если подавить вторую (стрелка с цифрой 2 показывала на половые органы схематического человека), мужчина сможет заниматься сексом только с той женщиной, которая сделала или заказала приворот. Если третью, в районе пупка, то он лишается силы воли, становится тряпкой. Если четвертую, сердце, — будет любить только хозяйку приворота. Пятая чакра — говорит только о хозяйке, шестая — думает. Ну а в седьмой перекрывается божественная связь, и тогда жизнь несчастного козлика всецело зависит от его «богини». А в особо сильных приворотах подавляют еще первую чакру — где ноги, — и они сами несут его к так называемой возлюбленной. Представляете, какие гадости можно делать?
— Представляем, но признаки-то какие?
— Зачитываю. Первое. «Страстное стремление мужчины к женщине. Он не может без нее жить, но связь его не радует. После сексуального контакта с приворожившей чувствует себя разбитым, виноватым, стремится быстрее уйти домой. По дороге обещает себе никогда больше с ней не встречаться, потому что она не нужна ему, но, когда подходит к родному дому, ноги сами несут его назад, вопреки воле и здравому смыслу». Ну как, похоже?
— Похоже-то похоже, но так всегда бывает, если женатый человек вдруг влюбится… — пробормотала Тата.
— Что ты говоришь, любовь — совсем другое! — отмахнулась Саня и продолжала: — «На работе сплошные неприятности. Пропадает интерес ко всему, что не касается приворожившей его женщины».
— Неприятности? Точно не скажу, вроде бы да, на что-то такое он жаловался. Но отсутствие интереса ко всему, кроме предмета, тоже известный признак влюбленности. — Татка гримаской изобразила сомнение. Во всяком случае, неполную убежденность.
— Влюбленности! Держите меня семеро! Сказать, что это на самом деле? — не сдержалась я.
Но меня, конечно же, проигнорировали. Точнее, повернули ко мне головы, как две курицы, посмотрели тупо и опять отвернулись.
— «Полное равнодушие к жене, а иногда и к детям. Безвольный, потерянный муж может стоять на коленях перед женой и просить отпустить его к другой. „Поживу немного у нее и вернусь к тебе“. Появляется несвойственная ему прежде плаксивость».
— Вот это точно! — встрепенулась Татка. — В смысле плаксивости.
— «Вялость, безволие, потерянный взгляд, нежелание что-либо делать, полнейшая неспособность принимать самостоятельные решения. Однако мужчина не признается, что находится под чужим влиянием, что с ним происходит неладное. Наоборот, он уверен, что все у него находится под контролем».
— Ванька как раз признавался, что стал совершенной тряпкой. А «что-то со мной неладно» вообще была коронная фраза.
— Слушай дальше. Это уже про порчу вообще. «Депрессия, чувство тревоги, страх, беспокойство. Мысли о самоубийстве. Сильная тяга к алкоголю. Испорченный человек сторонится людей, боится оставаться в квартире, причем страх исчезает, когда он покидает пределы дома. Его облаивают собаки. Он теряет силы, аппетит, его преследуют болезни, боль в голове, в области сердца, желудка. Четкое ощущение, что жизненная энергия уходит как вода сквозь песок. Лечение не помогает. У мужчин развивается импотенция. Пострадавший усиленно потеет».
Татка резко вздернула голову.
— Что? — спросила Саня.
— Очень похоже… — только и смогла пролепетать Татка. А сама вся побелела.
— Еще доказательства нужны или хватит? — осведомилась Саня. — Хотя, по сути, и рамки достаточно. Сразу видно, весь верх пробит: и голова, и сердце, и воля, и божественная связь.
— Да хватит, хватит, не надо больше никаких доказательств. И так ясно, что все плохо, — вздохнула Татка.
— Вовсе не все и не так уж плохо. Твоим мужиком баба Нюра занимается, чего тебе еще? Не печалься, Татуська. Уныние — смертный грех. Вот урановый кризис твой пройдет, и все образуется. Давай лучше погадаем, посмотрим, что там у твоего Вани, не выпадает ли ему дорога домой.
Саня принесла карты, убрала все со стола — когда гадаешь, пищи рядом быть не должно, — аккуратно его протерла, постелила перед собой красное махровое полотенце, поставила чуть в стороне медный подсвечник с оплывшей свечкой и большой, удивительной красоты кусок горного хрусталя, «магический кристалл». Дала Татке карты: «Тасуй». И еще велела положить в подсвечник «денежку за гадание».
Через пару минут Татка протянула ей колоду, Саня взяла и, не отводя руки, сказала: «Сними».
Потом села прямо, вся внутренне подобралась, отрешенно начала раскладывать карты рубашкой вверх — и внезапно полностью переменилась. Только что была Саня как Саня, и вдруг воздух вокруг нее стал зыбким, как над костром, замерцал, и мы будто увидели излучаемую ею энергию.
Я не в первый раз наблюдаю, как она гадает, и всякий раз это действо меня завораживает.
Сашка, помолчав немного, принялась переворачивать карты и медленно, словно возвращаясь откуда-то издалека, заговорила:
— Та-а-ак… посмотрим, посмотрим… что там у твоего козлика… Вот она, порча, вот, видите, дьявол? Была и пока еще есть… так, а когда уйдет? Ага… ага… нет, Татусь, нет, остается, пока еще читать и читать… но ничего, вот и бабушка… карта мага… охраняет… не дает пропасть… Ладно, а что у нас в голове? Вот вам и здравствуйте! Одни деньги! И наша красавица, конечно. Видно, подарков требует… само собой, а зачем он ей еще? М-да… дороги домой не видно, извини, Татусь… значит, пока не время… но ничего, ничего, придет, куда денется. Пригонят его тебе. С божьей и бабушкиной помощью…
Я случайно глянула на Татку. Она отвернулась к окну. Лицо у нее было суровое, жесткое, взгляд стальной.
Вдруг небо за стеклом ослепительно полыхнуло белым, раздался ужасающий грохот и произошло странное — я бы сказала, повалил дождь. Не совсем дождь, но и не снег: сверху обрушивались толстые, мокрые серебряные канаты, и больше ничего не было видно.
— Надо же, зимняя гроза, — хором сказали мы с Саней. — Жуть какая.
Тата молчала, глядя в окно округлившимися, перепуганными глазами.
«Грозы боится? С каких это пор?» — удивилась я.
8 Ефим Борисович
К декабрю я был уже не рад, что поддерживал Таточку в мысли о гипотетической возможности приворота. А ведь сначала чуть ли не гордился тем, что я единственный, с кем она может поговорить на эту тему; родители ее восприняли робкие Татины рассказы о Саше и Ваниной поездке к ясновидящей бабке в штыки. Они считали, что с Ваней надо разводиться, и чем скорее, тем лучше.
— Тебе что, мало унижений? — возмущался ее отец.
Надо признать, вел себя Иван отвратительно. Взять хотя бы его возвращение домой на три дня. Наблюдать за ним было страшно и стыдно. Чудовищная жестокость со стороны взрослого человека! Должна же быть какая-то ответственность за семью? Я, для которого никогда не существовало никого, кроме Ванечкиной мамы, не находил ему оправданий. И почему он пошел в деда, а не в меня?
Но хуже того, он сбежал и пропал, что, с моей точки зрения, и вовсе недопустимо. Звонил раз в две недели, а то и реже, происходящим дома практически не интересовался, невнятно бубнил о своих страданиях и снова надолго исчезал. Что творится с его женой, ему, казалось, не было дела. Тата — человек чрезвычайно сдержанный, не склонный раскрывать душу и афишировать эмоции, но однажды я случайно стал свидетелем такой сцены, от которой у меня едва не разорвалось сердце.
Как-то днем я сказал, что пойду отдохнуть, и действительно лег у себя в комнате, но потом мне понадобился валокордин, а я помнил, что оставил его у Таточки. Я встал, подошел к ее двери и тихо отворил ее, собираясь войти, — но застыл на пороге при виде ужасной картины. Честно говоря, я не сразу сообразил, что происходит, что за странный ком валяется у окна. А это была Тата. Очевидно, она сначала стояла на коленях — молилась? — а потом припала лбом к полу. Ее тело сотрясалось в беззвучных рыданиях. Через секунду после моего появления она приподнялась, воздела руки к небу и как-то так ими взмахнула — отчаянно, горестно, с безнадежным упреком, — что, если бы я был Бог, мне стало бы перед ней стыдно.
Конечно, я поспешил уйти незамеченным.
Я страшно переживал за нее и как мог поддерживал — что еще оставалось? Когда внук уходил в институт, мы часто с ней разговаривали. Тата варила кофе с пряностями — а у нее это настоящее ведьмовство, крайне располагающее к эзотерическим беседам, — и мы так и эдак обсуждали произошедшее с Ваней. Однако в последнее время я пытался незаметно дать задний ход, очень уж буквально Тата поверила в россказни деревенских девиц и бабок.
— Видишь ли, Таточка, — говорил я, — есть еще такая простая вещь, как психология. Кризис среднего возраста, ты сама читала. От сорока до пятидесяти мужчина — иногда раньше, но бывает и позже — вдруг с ужасом осознает, что смертен. Вот так вот обыденно — смертен. Обязательно умрет. Причем, возможно, довольно скоро. Общеизвестно, что еще молодые мужчины часто умирают от инфаркта или инсульта, и это знание сидит где-то в подсознании и гложет, гложет, ты уж поверь. И от этого появляется чувство: как, неужели я проживу только одну жизнь? Вот такую, и больше никакую, с этой женой, этими детьми, с этими, и никакими другими, достижениями? Никогда больше не испытаю юной влюбленности? А ведь мужчина остается мужчиной до глубокой старости… Ему страстно хочется стать или хотя бы притвориться молодым. Жена в таком случае превращается в помеху, особенно если отношения близкие, — кому, как не ей, известны все недостатки, неудачи, глупости, болезни, смешные нелепости мужа? И он уже воспринимает ее как мать, из-под опеки которой хочется освободиться, сбежать, как в подростковом возрасте…
— Но вы же, Ефим Борисович, не сбежали.
— Возможно, я исключение. В известном смысле уродство. Я сам не понимаю, почему со мной ничего такого не было. Но раз это происходит с подавляющим большинством мужчин, значит, таков порядок вещей. Закон природы, который для сохранения вида, размножения толкает самца на контакт с возможно большим числом молодых самок. Нам, homo sapiens, если можно так выразиться, не повезло: у нас есть мораль, и она это осуждает, поэтому мужчине приходится, образно говоря, прикрываясь любовью, менять одну самку на другую и вить новое гнездо.
— Верю. Но некоторым гнездам — семьям то есть — как-то ведь удается сохраниться.
— Осмелюсь предположить, что практически у каждой имеется свой скелет в шкафу. Как водится, тщательно скрываемый. Все участники рады хранить неприглядную историю в тайне.
— Все, что вы говорите, верно, только я все-таки не понимаю, отчего предсказания Саши и бабы Нюры настолько точны? Вы же сами, Ефим Борисович, рассказывали о воздействиях, а теперь как будто разуверились в том, что они возможны.
— Не разуверился, но, как ученый, пытаюсь смотреть на вещи под разными углами зрения. Вряд ли правильно исключать естественно-научный подход, тебе не кажется? Отдает мракобесием, Средневековьем.
— Нечто подобное я недавно уже слышала, — чуть заметно улыбнулась Тата.
— От кого, от кавалера Протопопова?
— Кто еще мог такое сказать?
Протопопов, этот ее мистер Твистер, у нас уже чуть ли не ночевал. Повадился навещать Таточку, насколько я понимаю, еще на Набережной, а теперь, что ни день, являлся как к себе домой. Тата, по видимости, едва замечала его присутствие, но всегда была так любезна, что Протопопов не понимал ее отсутствующего безразличия. Он, кажется, искренне полагал Тату своей протеже и считал, что без его визитов она пропадет. Намерения его, по-моему, были вполне очевидны, однако я бы на месте этого филантропа все-таки вспомнил о своем матримониальном статусе и поубавил пыл. А на месте Вани срочно вернулся домой спасать семью. Впрочем, упрекнуть Таточку мне было не в чем, к тому же она никогда не делала тайны из своего общения с Протопоповым.
— В данном случае мне остается лишь согласиться с ним.
— Знаете, Ефим Борисович, не могу сказать, что полностью уверовала в колдовство как искусство варки лягушек, и пока придерживаюсь вашей изначальной точки зрения об энергетических взаимодействиях. Но до тех пор, пока то, что мне обещают, сбывается, я буду продолжать в это верить. А обещают, между прочим, что очень скоро Ваня попросится домой. Вот мы и проверим.
Так и вышло. За неделю до Нового года Таточка показала мне письмецо, которое Иван прислал ей на сотовый телефон. Он предлагал встретиться в кафе, все обсудить и попытаться наладить отношения. Я невероятно обрадовался, тем более что и Таточка была очень воодушевлена и вся светилась от счастья, хотя тщательно пыталась это скрывать.
Со свидания, впрочем, бедняжка вернулась потухшая, даже почерневшая. Я робко поинтересовался, как прошла встреча и как она себя чувствует.
— Больше всего, Ефим Борисович, я сейчас хочу принять душ. Если честно, Ваня стал настолько неприятным, что мне в первую же минуту захотелось сбежать. Не знаю, что меня удержало. Если б не наставления моих «колдуний», наверное, не стерпела бы, развернулась и ушла.
— Но что такое, в чем дело?
— Даже трудно объяснить. Он почти такой же, как был, когда возвращался на три дня. Думаю, вы помните.
— Конечно.
— И ведет себя так, будто это не он, а инопланетянин, который пытается играть его роль. Не слишком умелый двойной агент, постоянно совершающий досадные мелкие проколы.
— Но что же теперь будет, о чем вы договорились? Вы не поссорились?
— Не волнуйтесь, я держала себя в руках. Ваня придет послезавтра, он хочет со всеми нами поговорить. А вообще я вдруг поняла: от мужчин многого ждать не приходится. Вы ведь от кого произошли?
— От кого?
— Ефим Борисович! Вы знаете.
— От Адама?
— Конечно!
— И? Не понимаю.
— Что первое сделал Адам, едва только стал мужчиной?
— Занялся любовью с Евой?
— Нет, так он стал мужчиной. А дальше?
— Говори же!
— Он предал Еву! Стоило Господу поинтересоваться, с какой стати Адам наелся плодов с недозволенного дерева, тот моментально настучал на Еву: «Она дала мне, и я ел». Вот и скажите, имеет ли смысл доверять его семени?
Я засмеялся.
— Ну, Таточка, ты и выдумщица! Если уж цитировать Библию, то и женщин там поминают не слишком лицеприятно. У Экклезиаста. «Горше смерти женщина, потому что сердце ее — силки, и руки ее — оковы…» Что-то в этом духе.
— «Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею…» Да-да… — печально улыбнулась Тата. Потом нахмурилась, долго-долго молчала и, наконец, тихо произнесла: — В Библии, Ефим Борисович, сказано: «Не обижай жену юности твоей». Такая вот неприятность — для Ивана. Не знаю я, как мне с ним говорить. И о чем.
Однако когда Иван пришел и объявил, что хочет вернуться домой и «все восстановить», — должен сказать, вид у него действительно был малоприятный и несколько вызывающий, я с трудом сдержался, чтобы не окоротить его, — Тата, вздохнув, согласилась.
— Давай попробуем, — сказала она.
9 Тата
Я устала. Смертельно устала. Мне очень хотелось сбежать со скучного спектакля, в который превратилось мое существование, в свою прошлую, человеческую жизнь, — жизнь без колдовства, астрологии, гаданий и наставлений. Меня уже не интересовало, что мне положено по судьбе, в чем я провинилась перед высшими силами и в каком направлении обязана развиваться кармически. Я хотела, как раньше, ходить на выставки и в кино, читать нормальные книжки, покупать журналы по садоводству и готовиться к новому дачному сезону. Но это было невозможно, я была по рукам и ногам повязана законами колдовского мира. На мне лежала ответственность за судьбу Ивана и необходимость следить за продолжением отчитки, ведь без нее моему заблудшему мужу грозила плачевная участь: на порче — и безнадежных, аховых транзитах — он был обречен потерять работу, деньги, здоровье, жизнь.
— С ума сошла, что ты несешь, его тебе дали свыше! — возмущалась Саня в ответ на мое усталое «ну его, в конце концов, к черту». — Только ты и можешь за него просить. Сам потом спасибо скажет. Вот закончит баба Нюра отчитку, вернется он домой, будет в ногах валяться, прощенье вымаливать и благодарить, что не дала пропасть. А тебе наверху зачтется.
Меня распирало от гордости, я падала ниц перед собственной добродетелью: Иван ушел, а я его все равно спасаю. Он — подлец, а я — молодец.
— И между прочим, больше ты замуж не выйдешь: дом брака пустой, — повторяла Сашка уже усвоенную мной печальную истину. — Мужиков при твоей карте можешь заводить сколько угодно, а вот с браками, прости, напряженка. И одного-то не полагалось, так что твой Иван тебе как подарок.
«Потом, естественно, — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери… каков подарочек!» — кстати ли, некстати вспоминалась цитата из одного известного произведения.
— Нет, если тебе нравится одной, как угодно, хозяин — барин, но я бы не посоветовала. Женщине нужен тыл.
Что тут возразишь? Действительно, куда женщине без тыла?
— Тем более что ни по карте, ни по судьбе ты не должна была остаться без мужа. Его увели колдовством. И что, ты безропотно отдашь какой-то хабалке то, что ей не принадлежит?
Кому принадлежит Иван? Вопрос, на который я больше не знала ответа.
Но бросить отчитку не решалась и просила передать еще денег бабе Нюре: я не хотела, чтобы его гибель — буквальная или фигуральная — оказалась на моей совести. Нельзя сказать, чтобы я безоговорочно верила в подобный исход, но и рисковать боялась: мало ли. При этом, как ни чудовищно, трагический финал не выглядел таким уж трагическим. Кошмар закончится, а вдова — звание достойное. Вполне себе радужная перспектива.
Я гнала нехорошие мысли и привычным маршрутом ехала к Сашке; мы смотрели в компьютер, а потом гадали, гадали, гадали. Меня почти не интересовал результат — иной раз предсказания выветривались из головы еще по дороге домой, — но процесс неизменно успокаивал. Карты Таро, мерцание кристалла, огонек свечи. Вернется твой козлик, вернется. Потерпи. А пока развлекайся, Татусь! Вон сколько вокруг тебя мужиков — всех королей в колоде собрала.
Я терпела. Старалась развлекаться. Протопопов звал в Норвегию — собирался туда по работе. А что, фьорды — всегда мечтала увидеть. Почему не поехать? Но вялое желание отказалось претвориться в действие. Протопопов, поиграв желваками и робко хлопнув дверью, укатил один и не звонил целых четыре дня. Заметить это у меня не хватило энергии — она вся уходила на терпение.
До Нового года оставалось две недели. Иван возвращаться не собирался, наоборот, совершенно исчез с горизонта. Я чувствовала, что впадаю в отчаяние, не знала, что делать, злилась на обманувших надежды предсказателей. А потом мы с Умкой съездили к Сане, и через три дня Иван попросил о встрече.
Я не удивилась и не испугалась, хотя ждала этого с обреченностью — с той самой секунды, как вступила в сделку с дьяволом.
Я не хотела, это вышло случайно. В гостях у Сани, во время гадания. Помню, меня охватила чудовищная тоска, я испугалась, что заплачу, отвернулась к окну и, как сквозь сон, услышала слова Сани:
— Пригонят тебе твоего Ивана. С Божьей и бабушкиной помощью…
«Да пусть хоть сам дьявол поможет, мне уже все равно!» — мысленно воскликнула я.
В тот же миг — без преувеличения, в тот же миг — черное небо за стеклом озарила ослепительно белая молния и грянул гром. От ужаса я словно бы потеряла сознание, а когда пришла в себя, Сашкин двор исчез за серебристой пеленой — дождя? снега? не знаю; никогда не видела ничего подобного. Это был Апокалипсис, нечто грозное и грандиозное, но в то же время бутафорское, явственно отдававшее синематографом. Казалось, кто-то из озорства трясет перед нашим окном лентами из фольги, скрученными в длинные спирали.
Я сразу догадалась, чьи это шутки, поняла, что моя просьба услышана, и похолодела от страха. Но сделка уже состоялась — не расторгнешь.
Оставалось ждать обещанного возвращения Ивана. Мной как никогда владели уныние и безнадежность, я боялась, не хотела неминуемого дьявольского счастья.
Для меня настали окаянные дни. Встреча, на которую я так рассчитывала, — вдруг я все придумала, а Иван по-настоящему раскаялся? — лишь подтвердила мои опасения. Он прилагал безумные усилия, чтобы вести себя естественно, но чем больше старался, тем хуже получалось; этот троянский конь не мог обмануть мою бдительность, я знала, что внутри скрывается неприятель. С первой же минуты мной владело одно желание — бежать сломя голову, но почему-то, бог знает почему, я не могла на это решиться. Наставления Сани теснились в голове, перекрывая кислород, лишая способности думать, заставляя бесконечно терпеть, — терпеть, потому что так надо, потому что он — мой муж, я — его жена по судьбе, потому что это — мой долг.
Иван приехал домой, просил прощения, заявил о своем намерении «все починить». Мы зажили вместе, но в этой жизни не было не только счастья — не было даже покоя. Мои родители слышать не желали о нашем воссоединении, Ефим Борисович внезапно и очень сильно постарел. В поведении Ивана, как ни парадоксально, сквозило очевидное: «не нравится, уйду обратно». Я, помня о его претензиях, постоянно делала что-то, абсолютно мне не свойственное: готовила ужин, наводила к вечеру порядок и в целом смиряла нрав — точно так же, как и наш сын, сделавшийся невидимым и бесплотным, точно дух.
Все это было унизительно, хотя вначале я не могла понять почему. Разве стыдно готовить ужин? Лишь потом до меня дошло, что дело не в конкретных действиях, а в их неестественности, в том, что мною движет не искреннее желание угодить, а трусливая угодливость. Словом, первое время все силы души уходили на переживания, и я как-то не задумывалась, действительно ли Иван порвал со своей Лео, а по старой привычке верила ему на слово.
К тому же она мне опять приснилась — в сарафане и белом платочке. Сказала:
— И где вы только такую бабушку откопали? Достала уже совсем!
Я сочла ее слова признанием поражения и с того дня начала успокаиваться, привыкать к новой, пусть не очень хорошей, но все-таки сносной жизни.
Однако спустя две-три недели стало ясно, что Ивану дома тошно. Если первые дни он на волне энтузиазма занимался хозяйством и пытался действовать в привычном режиме, то вскоре стал маяться и придумывать различные предлоги, чтобы уйти: в самое неурочное время уезжал мыть машину или к старым школьным друзьям, вдруг возникшим из небытия. Со мной Иван вел себя странно. Вернувшись из очередных гостей глубоко за полночь, он падал на колени и торжественно восклицал:
— Тусенька! Я тебя так люблю! Даже если ты меня выгонишь, я все равно всегда буду тебя любить!
Если бы у меня еще оставался ум, чтобы им раскинуть, я бы догадалась, в чем дело.
Но я свято верила в гороскоп и предсказания бабы Нюры. На самый же крайний случай оставался Сатана: он ведь обещал помочь. Не то чтобы мне нравились плоды его покровительства, но Иван все же был дома. Остальное приложится — так я себя уверяла. Время лечит.
В какой-то момент я сумела переключиться на свои обычные занятия и даже прибавила к ним новые. Записалась на курсы испанского, в бассейн. Но, увы, радость оказалась недолгой.
События разворачивались по уже надоевшему сценарию.
Прежде всего, мне приснилась Лео, совершенно не похожая на себя: толстая, краснощекая, белобрысая деваха в платье-мешке. Почему-то отдуваясь, она утерла нос ладонью и с глуповатой улыбкой сообщила:
— Я тут вот чего подумала. Ты, если его хочешь, сделай чего-нибудь. Со мной он жить не может, хотя сексом занимаемся регулярно. Но я уже реально опухла от его метаний.
Я, не сдержавшись, пересказала сон Ивану: мол, надо же, глупость какая. Тот разволновался — абсолютно, с моей точки зрения, неадекватно. И куда-то умчал.
Уже вечером началась чертовщина, очень похожая на ту, что происходила во время его трехдневного возвращения. Мы оба были так измочалены, что больше не могли выяснять отношения, но иногда у меня создавалось четкое ощущение, что кто-то берет восковые куколки — мою и его — и ради забавы устраивает между ними короткую драку. У нас вспыхивали внезапные, словно не по нашей воле, отвратительные скандалы. Они угасали, не успев разгореться, но нам хватало. Вокруг было постоянно темно, дико и страшно — так в школе я представляла себе Средневековье и Россию до революции.
Ивана терзали головные боли, становившиеся нестерпимыми за мгновение до того, как на его телефон приходили сообщения от Лео. Он небрежно, не заботясь о правдоподобии, делал вид, что не отвечает. А потом мутно смотрел на меня и изрекал:
— Еще недавно, если б ты спросила, я бы сказал, что люблю тебя. А теперь — не знаю! Не знаю! Я думал, все вернется на место, а оно не возвращается!
У меня не осталось сил на разговоры, но смирение мое было бесконечно, как Вселенная. Я не спала, не ела, не пила, не существовала — я терпеливо дожидалась неизвестно чего. До сих пор не могу понять зачем.
Ночью в середине марта Иван тайком уехал из дома, оставив слезливое прощальное письмо: дескать, больше не могу, старался изо всех сил, но — люблю ее! Прости, прости, прости.
Прочитав послание, я испытала одно-единственное чувство: жестокую обиду. Почему меня все обманули? Даже Сатана.
10 Протопопов
Новогодние праздники прошли в неизбывной тоске, тупой пилой распиливавшей грудь. Я сидел в своем загородном доме, читал, слушал музыку, гулял с собакой, парился в сауне — и не знал ни секунды покоя. Меня точила и глодала одна-единственная мысль: почему, почему, почему? Зачем ей дурак Иван? Неужели она еще не поняла, кто ее любит по-настоящему? И кто из нас чего стоит? Я ведь предлагал ей поехать со мной в Норвегию на Рождество, и не из личного интереса, а просто чтобы развеялась, развлеклась и смогла потом начать новую жизнь, не цепляясь за воспоминания о прошлом.
— А что, хорошая мысль, — вяло сказала она в ответ.
Ей и делать ничего не пришлось. Я сам получил визу, заказал билеты, забронировал гостиницу в центре Осло с видом на королевский дворец — для Таты отдельный номер, не из командировочных оплатил, за свой счет. А Норвегия, к слову сказать, — жутко дорогая страна.
Я успел тщательно продумать культурную программу и купить рождественский подарок.
Но Тата в последнюю минуту отказалась. Прости, говорит, ради бога, но Ваня хочет со мной встретиться, я сейчас никак не могу уехать.
Меня чуть не разорвало от возмущения. Нет, денег я почти не терял: и билет сдал, и второй номер; разозлился скорее на то, что потратил кучу сил и средств, а ей все до лампочки. Я человек не жадный, но благополучие на меня не с неба свалилось, я знаю цену вещам. А принцесса — она и есть принцесса. Что временами раздражает.
Конечно, я ей своих эмоций не показал. Но решил даже не звонить, пусть, думаю, прочувствует, каково без меня. Проторчал в Норвегии до Рождества и один день после, изнывая от скуки — там ведь в праздники жизнь останавливается — и беспрерывно поглядывая на телефон: может, все-таки звякнуть? По-дружески. Иначе, в конце концов, невежливо. Но выдержал характер и объявился только под Новый год. С поздравлениями. Железный повод.
Думал, сейчас воскликнет: «Где ты пропадаешь? Я соскучилась!» Как бы не так. Тата, похоже, и не заметила, что я исчез на целых четыре дня. Голос ее звучал бесцветно, устало, это был голос до предела измученного человека, и так, без интонаций, она сообщила, что Иван вернулся домой.
— Видишь, а ты не верил в бабку, — сказала она, и в этих словах я впервые с начала разговора почувствовал легчайший намек на улыбку.
— Рад, что ошибся, — ответил я. А в груди защемило-защемило-защемило… За что, Господи, за что? Не успел порадоваться, а Ты ее уже отбираешь!
Я повесил трубку и понял, что сам готов повеситься. В глубине души я уже считал ее своей.
Потянулись долгие, отвратительно серые дни. Я по-прежнему звонил ей, навещал, но она говорила мало и почти ни на что не реагировала. Слушала меня, грустно улыбаясь, кивала. Про Ивана не рассказывала, мы общались на зубодробительно светские темы. А в марте он от нее ушел. Я как раз уезжал в командировку, вернулся, звоню:
— Как дела?
А она, отчаянно так:
— Приезжай!
Первый раз позвала сама, попросила о помощи.
Я, по-моему, даже компьютер не выключил и портфель на работе забыл. Ринулся сломя голову к машине, полетел к ней. Вхожу в квартиру. Она стоит на пороге. На губах — приклеенная вежливая улыбка, вместо глаз — две черные дыры.
— Ну, — говорю совершенно дурацким голосом, — кто у нас тут больной? — И пакет с мандаринами протягиваю. Не знал, как еще сочувствие выразить.
А она как зарыдает в голос! Я бросился к ней, прижал к себе:
— Что ты, что ты… — И вдруг понял, что отныне моя судьба в ее руках. Что скажет, то и сделаю. Велит: убей Ивана — убью, попросит вернуть — на цепи приволоку, согласится со мной жить — все брошу не раздумывая.
Страшно мне стало. Будто смерть рядом прошла.
Но до того ли, когда Тата у меня в объятиях? Чудом сдержался, чтобы не начать целовать ее прямо там, у двери. Выгнала бы, наверное. А может, наоборот, не знаю, и тогда все иначе пошло бы, избежали бы многих неприятностей. По крайней мере, мне не пришлось бы ехать к ясновидящей бабке.
Увы. Как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Я не сделал того, чего хотел больше всего на свете. И Тата, едва вытерев слезы, села на диван с чашкой чая, который я ей налил, и принялась пересказывать свои последние разговоры с Сашей. Суть их, как легко догадаться, сводилась к следующему: девица Ивана не успокоилась и сделала на него новый приворот. Все ведь шло хорошо, Иван вернулся домой, занялся делами, а потом вдруг раз! — опять в зомби превратился. И теперь надо срочно ехать к бабке и заказывать новую отчитку, причем лучше всего лично.
— По словам Сани, жена за мужа может о чем хочешь просить, а если это делают другие, пусть даже от моего имени, эффект снижается.
— Тата, умоляю, не связывайся хоть ты с этой бабкой! Ванька вон съездил — до сих пор расхлебываем. Не верю я в эту ерунду! Какие, к черту, привороты? Влюбился человек. Побегал туда-сюда, понял, что не может без своей курятницы, и ушел.
— Какой еще курятницы? — хихикнула Тата.
— Понятия не имею. Ну, птичницы. Помнишь: «Раз архитектор с птичницей спознался…» Помнишь?
— Естественно.
— Видимо, это она из подсознания вылетела. Так вот, я думаю, ситуация проста как мир, хоть ты и не хочешь в это верить.
— Да я бы поверила, если б не была свидетельницей его странностей! Собственно, мы с ним оба вели себя как марионетки: ссоры эти непонятные, когда вроде и разговаривать не хочешь, а потом неожиданно для себя срываешься на крик… его необъяснимые головные боли… начинались за минуту до ее звонка или сообщения и сразу проходили… хотя ты все это уже знаешь. А еще как-то раз бросился ко мне со слезами: «Я тебя так люблю! Зачем они нас разлучают?» Кто они, объясни мне, пожалуйста? Выходит, он чувствовал постороннее воздействие? И вообще, если он вправду влюбился, зачем постоянно кричать о любви ко мне? Или взахлеб рассказывать, какая Лео ужасная, как она селедку по утрам ест и руки чуть не о волосы вытирает…
— Фу! Перестань. Гадость.
— Я всего лишь цитирую первоисточник.
— Ладно, она ужасная, и что?
— То, что он умолял его от нее спасти. Жаловался: «Как услышу голос ее деревенский, тоска берет. Сразу убить, удавить хочется».
— Только сначала трахнуть как следует.
Тата вздрогнула и вся внутренне съежилась — я физически это почувствовал. И разумеется, тотчас пожалел о своих словах. Просто она выглядела такой спокойной, что я забыл, кого мы обсуждаем.
— Извини, не сдержался. Но все-таки, согласись, одно другому не мешает, скорее, наоборот.
— Как не согласиться, ты ведь меня цитируешь. Я это давно говорила. Половой акт — своего рода агрессия. Со стороны мужчины, во всяком случае. А разные глупости вроде любви и нежности только создают лишние трудности. Не обязательно, конечно, но… И мне кажется, что секс в чистом, незамутненном виде возможен только с проституткой.
— Не совсем так. Впрочем, не будем вдаваться в подробности.
— Но в общем и целом я права?
— Скорее да, чем нет.
— Тогда сделай вывод, влюбился Иван или?..
— Ясно. Понял, что ты хочешь сказать. Пожалуй, все верно. Только на определенном этапе страстное влечение и любовь — синонимы. Для мужчины уж точно, но и для женщины, по-моему, тоже.
— Конечно, но потом-то, потом становятся важны человеческие отношения! Родство душ, извините за высокий стиль! Общие взгляды, воспитание, интересы. А Иван, помнится, сокрушался, что его Лео, кроме всего прочего, фашистка до мозга костей. По ее мнению, слабым и больным под солнцем не место. Выживает сильнейший.
— Тогда она скорее дарвинистка.
— Смейся, смейся. Но я их вместе не представляю. Короче. Если ты не против, давай все-таки съездим к бабке. Я не очень-то в это верю, особенно в свете последних событий, но и отрицать полностью пока не могу, а потому хочу попробовать. По крайней мере, буду знать, что сделала для Ивана все, что в моих силах.
Мог ли я отказать? Мы договорились о поездке.
Прощаясь с ней в дверях, я позволил себе чуть дольше обычного задержаться губами на ее щеке. Отчего испытал такое, что неожиданно поймал себя на мысли: «А вдруг она меня тоже приворожила?»
В моем влечении к ней было что-то поистине сатанинское.
11 Александра
Нет, эта семейка меня точно доконать решила. Один по ночам вваливается, другая будит ни свет ни заря. И каждый умудряется чем-нибудь огорошить.
Я как услышала, что Иван от Татки сбежал, прямо остолбенела. Вот, думаю, черт! Сработал все ж таки трин Юпитера! И баба Нюра не перешибла. Еще ни разу на моей памяти такого не было. Видно, девица за него не на жизнь, а на смерть бороться взялась. Хотя и без меня не обошлось: в первый раз, когда Иван ко мне заявился и мы карту его смотрели, я сдуру брякнула, что, дескать, в марте светит тебе настоящая любовь. А с другой стороны, что такого? Я как акын: что вижу, о том пою, да и не думала тогда о последствиях своих слов, пересказывала, что в карте написано. А у него там с середины марта не то чтобы действительно любовь, нет, трин Юпитер — Солнце, на котором вылезают амбиции, высокомерие, тщеславие, возникает ощущение всемогущества и полной безнаказанности. Человеку кажется, что он не просто Господь Бог, а куда больше и выше. У мужиков, естественно, пропирает весь их… Юпитер. И тут уж какая баба подвернется, та и будет настоящая любовь.
Я, кстати, Татке намекала, чтобы она ближе к весне изо всех сил старалась под его трин подстроиться, но впрямую, что к чему, не объясняла, эта клуша и так совсем извелась. Хотя сама виновата: не желает ради собственного счастья постараться, норовит все на других перевалить. Думает, если бабе Нюре денег передала, уже и расслабиться можно, и картинки свои дома, в тишине и покое, малевать. Нет, тут как везде: на бабу Нюру надейся, а сам не плошай, езди, проси, чтобы там наверху видели, до какой степени тебе это нужно.
И все равно очень странно. Ничего себе аспектик! Не переломишь. Но ничего, ничего, этот Юпитер хоть и с петлей, через какое-то время опять пройдет, зато потом расплаты Ивану не избежать. Возомнил о себе, видите ли. Как будто не знает: сколько веревочке ни виться… Бабуле, впрочем, не позавидуешь: отчитывай тут всяких дураков.
Словом, Татка позвонила и сумасшедшим голосом поведала, что Ваня ночью из дома свалил. Не понимаю, говорит, что же это? Ведь все шло как надо. Я по мере сил ее успокоила: не переживай, пригонит бабуля твоего козлика, никуда ему от нас не деться, а сама, как трубку повесила, сразу Маришин номер набрала. Та обещала сходить к бабе Нюре, раскопать у нее фотографию Ивана и подробно расспросить, что к чему.
Потом звоню Татке:
— Хочешь не хочешь, а надо тебе самой к бабе Нюре ехать.
— На чем? — спрашивает. — Машина вместе с Иваном ушла.
— Можно подумать, ваша машина единственная на свете! Протопопова своего хватай и тащи.
— Протопопов в такие вещи не верит, он не поедет.
— Ерунда, — говорю. — Если как следует попросить, так не просто поедет, полетит!
— Не знаю, — вяло так отвечает, — не знаю. Попробую, конечно, но…
А чего там «но», когда видно, что Протопопов на все ради нее готов. Удивительно, до чего люди не умеют пользоваться тем, что им по судьбе дано! У Татки, например, в натальной карте два основных благоприятных аспекта, и на них при желании она могла бы жить припеваючи и в ус не дуть. Один аспект — творчество, второй — богатые дедушки. В смысле, состоятельные немолодые мужики. Казалось бы, что-то одно, по крайности, реализуй! Нет, ей хоть кол на голове теши. Творчество, говорит, сама видишь, что мне дает, а мужики… предлагаешь на старости лет на панель податься?
— При чем тут, — кричу, — панель?! Вон у тебя товарищ под рукой — полностью соответствует описанию. Немолодой, полтинник. Денег — девать некуда, от тебя без ума. Помнишь, когда ты его первый раз ко мне привезла, я для смеху вашу совместимость смотрела? Еще шепнула на ушко, что деньги он на тебя будет тратить чемоданами, только согласись? Чего еще надо? Я, конечно, понимаю, что по части Марса это не твой Иван, но… какая разница в нашем возрасте? Развлекайся, пока муж не вернулся, хоть баба Нюра это и не приветствует. Говорит, возвращать легче на свободное место. Но по-моему, это чересчур. Что тебе, в конце концов, — засохнуть? Да при твоей карте и не удастся.
А она нуду разводит: ой, я не знаю, как же так, мы столько лет друзья, и вдруг…
Я только отмахнулась:
— Ладно тебе придуриваться. Не смеши. Друзья!
Она глазищи вытаращила:
— Что ты говоришь?! С чего ты взяла? Не веришь, клясться не буду, но это правда.
— Успокойся, — отвечаю, — не кипятись. Но то, что астральная привязка у вас на сексе, любой увидит.
— Не знаю, — тянет, — возможно. Но не с моей стороны уж точно.
Ладно, ладно, думаю. Как скажете. Хотя что тут скрывать, не понимаю.
В общем, вдолбила я нашей ослице, что надо в Рузу ехать. Иначе никак. Глянула в протопоповскую карту, говорю: все нормально будет, отказываться не станет, поедет за милую душу.
И что вы думаете? Как в американских фильмах: сюрприз, сюрприз. Уломала она своего буржуина.
Нет, когда столько всего заранее знаешь, временами даже жить неинтересно.
Пока выкраивали удобное время, наступил апрель. В самых первых числах поехали. День выдался солнечный, теплый, совсем весенний. Я дисков прихватила с любимой «Аббой», поставили, слушаем, кофеек попиваем — красота! И чем дальше от Москвы, тем радостней на душе. Люблю к бабе Нюре ездить! Как будто к родной бабушке в гости. Посидишь у нее за столом, чайку попьешь, поговоришь за жизнь — и все беды сразу отступают, такая благодать снисходит, прямо удивительно! А впрочем, почему удивительно? Человек — целитель, и сам ее дом под горочкой — волшебный. Как-то приехала, сижу, пишу отчитку под ее диктовку — просила, чтобы Гарик меня в покое оставил, перестал в голову лезть и сердце рвать, — а на чердаке треск, шум, грохот, сил нет!
— Баб Нюр, — спрашиваю, — это что ж там у вас такое творится?
— А это, — отвечает, — порча с тебя сходит. Нормальное дело. Ты пиши, пиши, Александрушка моя золотая, не отвлекайся.
Нравится мне, как бабуля меня зовет — Александрушка. Нежно получается, ласково. Никто меня никогда так не звал. Мать особо не баловала, скажет строго: «Саша!» — и тут же какое-нибудь дело навесит. Она младшего брата любила, а я у нее была так, ошибка молодости. Ладно, неважно, главное, у бабы Нюры я всегда душой отдыхаю.
Вот и теперь, едва магазин на взгорке показался, у меня сразу в груди потеплело: сейчас к столу чего-нибудь купим, и можно будет, никуда не торопясь, сесть, поговорить, про все неприятности рассказать близкому человеку, который, ко всему прочему, реально тебе поможет. А что? Я уж не говорю, сколько она лечила и меня, и сына и как помогла, когда мой первый муж алименты отказался платить и от нас прятался. Позвонила я ей тогда вся в слезах, она: «Ничего, Александрушка, ничего, не горюй», и уже к вечеру Фил деньги перевел. А бывало и вовсе до смешного. Например, у нас в подъезде никак не могли починить кодовый замок и всякая шушера на лестнице ошивалась. Я два месяца по разным инстанциям звонила — без толку. А как бабу Нюру попросила, через две недели — пожалуйста, полный порядок. Такая вот сила у человека.
В магазине, кстати, я в очередной раз повеселилась: Протопопов вошел вслед за Таткой — и тут же шасть в сторону! Мы с ней продукты покупаем, а он где-то на другом конце витрины изучает. А когда мы уже расплатились, небрежно так поинтересовался:
— Может, еще что-то нужно?
— Ничего, ничего, — отвечаю, — пойдем.
Нет, все-таки мужики в большинстве своем дико жадные, до патологии.
Приехали, вошли в дом. Прямо с порога у меня образовался повод еще похихикать: баба Нюра мельком глянула на нашу компанию и тут же спросила:
— А это у нас чей любовничек?
Ну, думаю, Туся, шила в мешке не утаишь. У бабы Нюры не глаз — рентген, человека насквозь видит.
Татка, естественно, губы поджала:
— Пока ничей. — И потом, когда я курить вышла и ее с собой на улицу вытащила, пыталась изображать невинность: — Что же тогда ваша бабушка видит, если такие вопросы задает?
— Не знаю, — говорю, а сама еле улыбку сдерживаю, — обычно она не ошибается.
Но все-таки, чтобы совсем не смущать эту дурынду, добавила:
— Иногда, правда, настоящее с будущим путает, у ясновидящих они переплетаются.
Убейте меня, не понимаю, что тут скрывать? Богатый мужик на шикарной машине. Я бы гордилась. А что жлоб — так растрясти можно. Если постараться.
В тот день мы сидели у бабушки долго. Сначала я со своими проблемами; Татка с Протопоповым гулять уходили по окрестностям. Потом вернулись, и уже Татка отчитку писала. Мы с Маришей и Протопоповым тем временем чай пили. Мариша вдруг спрашивает:
— Ну что, мужчина (она у меня кокетливая), не хотите тоже с бабушкой поговорить? У вас ведь не все в порядке в организме. Сердечко, например, случайно не пошаливает?
Он вмиг побледнел. Смех, до чего мужики за свое здоровье драгоценное трясутся.
— Было, — говорит, — пару лет назад. Когда в Америку ездил. Почти весь полет на полу пролежал: аритмия.
— Вот-вот, — покачала головой Мариша, — я и вижу. Побеседуйте, побеседуйте с бабушкой, хуже не будет.
Он сразу после Татки и поскакал, очумелый такой, будто ему уже путевку на тот свет выписали. Хотя, казалось бы, чего переживать, когда, наоборот, можно расслабиться: все, попал на прием к лучшему в мире специалисту. Баба Нюра не чета обычным врачам, которые ни в больных, ни в болезнях ни бельмеса не смыслят, она лечит все без исключения. Для нее смертельных диагнозов не существует. Составчик даст, пропьешь три месяца — и запрыгаешь как новенький. И глаз, я говорю, — рентген: там, где официальная медицина диагноз поставить не в состоянии, бабе Нюре одного взгляда достаточно. Однажды девочку к ней привели: девять лет, страшное заикание, лечат-лечат, вылечить не могут. Баба Нюра посмотрела, объявила: «У ей мозга за мозгу зашла», травки дала, молитвы почитала, и ребенок преотлично заговорил! Вот такой вот вердикт: мозга за мозгу. А помогло.
Пока Протопопов у бабы Нюры сидел, я из любопытства прошла мимо них — на улицу и обратно, чтоб хоть краем уха услышать, о чем говорят. Когда туда направлялась, она его болезни перечисляла. Я только головой покачала: м-да. Дядя богатый, но гниловатый. Иду обратно. Смотрю: бледно-зеленый Протопопов мерно кивает головой — ни дать ни взять китайский болванчик, — а бабушка его наставляет:
— У тебя есть человечек, верный, хороший, вот ее и люби…
Ясно. Прости, Татка, я не хотела. Но баба Нюра всегда за сохранение семьи.
Минут через сорок Протопопов вышел от бабули. Видим: на нем лица нет и дрожит, как заяц, мелкой дрожью.
— Ну что, — бормочет в полной растерянности, — не знаю, брать мне состав? Я же недавно все обследования прошел? Ничего такого не находили…
— И не найдут, пока поздно не будет, — пожала плечами Мариша. — И момент этот, между прочим, не за горами. Я ведь тоже кое-что вижу.
Она такая, Мариша. Рубит наотмашь, не церемонится. Особенно с сильным полом.
Протопопов чуть не в обморок. Татка его за руку тронула:
— Вернемся в Москву, подумаешь, и если решишь пить состав, всегда можешь за ним приехать.
Обычно он ей подчиняется, как дрессированная собачка, а тут даже не услышал. Смотрит на Маришу, шепчет белыми губами:
— Так вы считаете, надо?
Она кивнула.
Он постоял с минуту, глядя в пространство, пролепетал:
— Здоровье превыше всего. — Криво улыбнулся, чтобы хоть как-то сохранить перед нами лицо, и решительно направился в комнатку бабули.
Надо было видеть, как он вышагивал к машине со своей банкой. Цирк!
Определенно, мужики — отпетые ипохондрики.
— Ничего, — утешила я его, когда мы отъезжали от бабушкиного дома. — И тебя вылечат.
Но он даже не понял шутки.
12 Умка
He устану повторять: попадись мне сволочь Иван, живьем бы с него шкуру спустила! Нагадил со своими любвями больше лошади, а расчищать кто будет? Неинтересно? А главное, противно? Конечно, легче сбежать: ой, фу! Вы уж как-нибудь без меня, сами. И добро бы действительно любовь, но тут, простите, могу лишь вспомнить Константина Сергеевича и вслед за ним повторить: не верю! Ох не верю ни капельки. Обыкновенный старческий козлизм. Ну скажите, почему, когда до них допирает, что мужская карьера на исходе и — ужас, ужас — спермы осталось на три понедельника, то это такая невыносимая трагедия, что они готовы разнести все вокруг? И вот мы уже не видим ничего, кроме своего драгоценнейшего причиндала, и носимся, ищем, куда бы его на три вышеупомянутых понедельника приспособить… чтобы, не говоря худого слова, ни дня без строчки. Как же напоследок не отметиться.
Двадцать пять лет мы смотрели на Ивана, как на икону, а он что? Показал истинное лицо. Впрочем, не скажу, чтобы я изумилась до невозможности. Меня всегда немного смущало, до какой степени Иван ничего, кроме Татки, не видит. Эдакий северный кореец, которому без любимого руководителя — смерть. Но ведь ясно, что достаточно руководителя сменить, и…
Действительно, стоило Ивану переметнуться к своей Лео, как бывшее семейство моментально перестало для него существовать. И его нисколько не оттягивало, что позади себя он оставил минимум три трупа. Даже пять, считая Таткиных родителей, которым тоже изрядно досталось.
Конечно, я все понимаю, бывает: старая жизнь надоела, захотелось все бросить, уйти. Ну так и сделай это по-человечески! Особенно когда сам устроил, что все на тебе, как на ките, держится, от тебя зависит. Кто Тусе своей ненаглядной пальцем пошевелить не давал? Естественно, от большой любви и заботы — она талантливая, зачем ей тратить время и силы на хозяйство, — но суть дела от этого не меняется! Татка к жизни не приспособлена, Ефим Борисович слишком древний, а сын вообще на Луне. В такой ситуации что? Либо неси крест до конца, раз взял на себя ответственность, либо, если уж совсем невмоготу, уйди так, чтобы все знали, на что и когда можно рассчитывать. Очерти, так сказать, круг обязанностей. А то унесся, и неизвестно, ждать от тебя помощи, не ждать, если ждать, то в каком виде, куда звонить, когда все помирать начнут, как тяжести без машины таскать.
Опять же, хочешь уйти — взвесь все как следует, прими решение и вали раз и навсегда. А то снует, как челнок, пришел — ушел, пришел — ушел. В глазах рябит! Да еще ждет понимания. Нет, я, разумеется, знаю, что это довольно обычное психологическое явление, даже название есть — эффект маятника. Человека мечет из стороны в сторону, он никак не может выбрать между старой жизнью и новой. Слишком много у каждого из нас в прошлом всяких привязок. Тем не менее все зависит от моральных качеств мечущегося индивидуума. Того, понимает ли он, что не один такой — с чувствами.
Ушел бы Иван с самого начала, когда Татка хоть на человека была похожа. А то измотал до крайности, и теперь она ни к черту не годный инвалид. Причем не только физически. С мозгами тоже полный привет.
Ни шиша не делает, ни по дому, ни со своими картинками, сына и свекра не замечает, ходит как сомнамбула, с Сашкой по телефону переговаривается или в кресле сидит, в окно смотрит. Как на вокзале в зале ожидания. Я однажды не выдержала, прикрикнула на нее:
— Имей совесть, в конце концов! Никто ведь не умер! Что ты, первая без мужа осталась? Оно, конечно, тяжело, но не конец света! Сколько ты еще страдать собираешься, жизнь из-за него гробить?
Она улыбнулась грустно — а раньше бы оскорбилась, не позволила на себя кричать — и говорит:
— Ты, Умка, не понимаешь. Во-первых, это мой личный конец света. Я с Ваней вместе с двадцати лет, всю сознательную жизнь. Он у меня был пресловутая вторая половина. И я никак не ждала, что он меня предаст, — не в смысле измены, а по-человечески. Что бросит, как щенка в прорубь, и даже не удостоверится, что я утонула. К тому же представь: тебе ампутировали половину тела. Ты бы не мучилась фантомными болями? Если б еще точно знать, что страдания позади. Мне же обещают пришить все обратно. А это, я думаю, не менее болезненно.
— И ты веришь?
— Верю, не верю, но пока предсказания Сашки и бабы Нюры сбываются.
— Да? Что ж тогда Иван ушел? Вроде по прогнозам ему давно полагалось дома сидеть и дощечки стругать.
— Какие дощечки?
— Для гроба. Ха-ха. Ну, гвозди прибивать. Что там полагается сделать мужчине? Вырастить сына, посадить на дерево и?..
— Это в Африке, у нас несколько иное целеполагание…
Мы обе усмехнулись и на некоторое время затихли. Потом Тата продолжила:
— Не думай, моя зависимость меня и саму тревожит. Но они утверждают, что это новый приворот, и настаивают на «продолжении банкета». Мариша вот рассказывает, что когда баба Нюра узнала об очередном уходе Ивана, то, посовещавшись с планетами, велела передать, что муж меня не бросит. А когда потом я у нее была, тоже сказала: «Не бросит. Поняла меня? Не бросит». Я говорю: «Как же, ушел ведь, и нет его, не звонит даже». А она: «Я что сказала? Не бросит. Если б навсегда ушел, я бы так и сказала. А он вернется, я вижу». И еще меня пугают тем, что он все потеряет, работу, деньги, — сама понимаешь, как мне тогда хорошо будет, — а может и вовсе умереть. Сашка говорит, у него с середины июня пойдут опасные для жизни аспекты и большие финансовые потери. Потому я и не решаюсь прекратить отчитку.
— Спрашивается, на черта тебе такое проблемное добро? Наплюй уже на него!
— Говорю же: я бы с радостью. Ведь ампутация, собственно, состоялась. Болит, что и говорить, сильно, но рана, так или иначе, затягивается. А пришивать обратно — новая операция, новые мучения. Наркоз-то, к сожалению, не предусмотрен. И уже непонятно, зачем мне Иван — такой ценой? Тем не менее я боюсь бросить отчитку, а значит, поневоле все-таки жду его возвращения. Господи, если бы он тогда не поехал к Сашке! Все было бы уже позади.
— Если верить им с бабкой, он бы давно погиб от порчи.
— И была бы я веселая вдова.
— Веселая? Ты? Не представляю.
— Зато я представляю, как тебе надоела.
— Вряд ли! Гораздо сильнее!
Вот в таком духе мы и беседовали. Нет, до известной степени ее удавалось растормошить: мы куда-то ходили, гуляли, иногда вместе ужинали, смотрели фильмы. Татка оживлялась и становилась самой собой, ироничной, блескучей, но — временно, очень временно, буквально на считанные минуты.
И еще мне не нравилось, что вокруг нее слишком много Протопопова. Поистине, свято место пусто не бывает, почему-то при Татке всегда образуется кто-то вроде денщика, заслонка от окружающего. Иной раз я попросту не могла к ней пробиться. Звоню, что хочу зайти. Она говорит — давай, только у меня Протопопов. Не помешает? Нет, отвечаю, конечно, нет, — что еще скажешь? На самом же деле она при нем еще хуже, чем сама по себе, бессмысленная и вареная; ей от него ни толку, ни помощи. Так, присутствие. Хотя вряд ли Татка отдает себе в этом отчет. Привыкла быть не одна, вот и спасается первым подвернувшимся под руку объектом. А со стороны видно, что он из нее потихоньку соки выпивает, вампирит, так сказать, по мере возможности.
К счастью, в последнее время от Протопопова случился отпуск: после поездки к бабуле наш богатенький Буратино слег с нервным срывом. Вот ведь никогда бы не подумала! Татка мне с хихиканьем рассказала, как его запугали болезнями и он тут же поверил, состав взял, всю дорогу до Москвы молчал, потом неделю по врачам бегал, а когда те ничего особо криминального в его священном организме не обнаружили, свалился чуть ли не в нервной горячке. А началось с того, что он ночью позвонил Сашке:
— Мне плохо!
— В чем дело, что случилось?
Протопопов несет черт-те чего: ой, боюсь!
Начал принимать состав, и сразу — тахикардия! Ощущение, что умираю! Признавайся, что там намешано?
Саня на него прикрикнула: дескать, будь мужиком, прекрати истерику, не умрешь, выживешь, куда денешься. Протопопов еще чуть-чуть повякал и отстал, а утром позвонил Татке. Нажаловался на Саню и заодно на жену — та тоже обвинила его в бабьем поведении; признался, что ночью рыдал от тоски, и вообще ему невыносимо плохо. А поскольку Татка мужчиной быть не требовала, наоборот, выслушала и успокоила, то несостоявшийся покойник окончательно разнюнился и под шумок признался в нежных чувствах. Ты одна меня понимаешь, только тебя одну всю жизнь и люблю. Татка, ясное дело, все знала, но вообще-то тема любви была у них под запретом, что, по ее словам, только и спасало отношения. «Мне нечем ему ответить, — всегда говорила она. — А пока мысль не облечена в слово, то и самого явления как бы нет, верно? Можно оставаться друзьями».
— Что же ты теперь-то будешь делать, после признания? Перестанешь общаться? — полюбопытствовала я.
— Было бы нехорошо с моей стороны, — ответила Татка. — Он меня столько спасал. Посмотрим. Что-нибудь придумаю.
— Придется стать мадам Протопоповой, — съязвила я.
— Типун тебе на язык, — отмахнулась Татка.
Но покраснела.
13 Иван
Я думал, что когда наконец решусь, лучше станет. Ничего подобного. Раньше был ужас, а теперь кошмар, вот и вся разница. Ну, может, первые две недели прошли терпимо, пока я сам перед собой мог притворяться, что кроме моей неземной любви ничто не имеет значения, пока мы с Лео из постели почти не вылезали и по улицам ходили, взявшись за руки, как образцово-показательные влюбленные. Весна, опять же, начиналась, и в крови играло все, что там только намешано, включая плазму. Лео смотрела на меня снизу вверх гипнотическим взглядом, медленно облизывала губы, и этого было достаточно, чтобы и образно, и буквально на все закрывать глаза.
Но подспудно меня грызли мысли о Татке: как она там, что с ней? Она ведь отказалась со мной общаться, на письма не отвечала и к телефону не подходила. Один раз случайно взяла трубку, я начал было что-то лепетать, но она сразу перебила:
— Нам с тобой больше не о чем разговаривать. Прости.
Интонации металлические, как у робота; ни эмоций, ни слез, ничего. А мне сразу вспомнилось, как еще недавно я звонил ей из командировок, радостно предвкушая: сейчас услышу родной голос — он же у Таты необыкновенный, не голос, а песнь песней — и станет мне хорошо, покойно, легко на душе. И немножко, самую капельку, грустно — почему я не дома? Скорей бы вернуться.
Такая тоска навалилась, не передать! Бог ты мой, думаю, неужели навсегда ее потерял? Навсегда?
И стало мне ясно, что метания мои не кончились и не кончатся, наверное, никогда.
Назад захотелось, в старую жизнь.
А ведь пока дома сидел, казалось, еще чуть-чуть — и умру от удушья. Все было не мило, угнетало обыденностью. Думал: ну сколько можно, двадцать пять лет в одних и тех же стенах, с одним и тем же человеком! Не жизнь, а экспедиция на Марс. Никакой рассудок не выдержит. И Лео постоянно твердила: мужчине нужны перемены, обновление. В журнале каком-то идиотском вычитала. Обычно я к ее словам не очень прислушиваюсь — что девчонка понимает, — а тут только уши развешивал и головой кивал: да, да, правильно! Перемены! Обновление! Вот болван.
Если вдуматься, изначально она и была для меня таким обновлением, но — пока Туська ничего не знала. Я точно вернулся на двадцать пять лет назад; мне заново, как-то по-особенному захотелось жить и работать. Буквально: твори, выдумывай, пробуй! Пресловутый молодой задор. Казалось, что передо мной, как в юности, открыты решительно все пути. Так вроде и полагается при влюбленности, только я успел все забыть и вполне искренне изумлялся своему состоянию: в жизни еще такого не было! Хотя на самом деле по Татке я ничуть не меньше с ума сходил, горы свернуть мог, но тогда вправду молодой был, а сейчас ни на что подобное уже не рассчитывал, и вдруг…
Главное, вначале мои чувства к Татке еще сильней стали — вспомнить хотя бы Италию. И отчего потом все на сто восемьдесят градусов повернулось? От стыда, потому что разоблачили? Или это закон природы такой? Не знаю, не понимаю, и вряд ли кто объяснит. А если и объяснит, мне это не поможет. Вспоминаю свои мучения дома и думаю: все я правильно сделал. Но уже через секунду опять терзаюсь сомнениями и сожалениями. Вообще, когда моя любовная история закрутилась, я стал подозревать себя в шизофрении — а иначе чем объяснить мою неспособность выбрать какую-то одну жизнь? И почему у нас запрещено многоженство? Жалко, что я не мусульманин. Никаких бы проблем.
Под Новый год вернувшись домой, я совершенно честно считал, что решение мое окончательное и бесповоротное. Занялся делами, которые еще до поездки в Италию и до своего злополучного романа планировал. Даже удалось отвлечься на время. Недели две выдержал. Единственно, Лео постоянно клеймил, чуть ли не через слово, — как еще было о ней поговорить?
А потом меня словно под дых ударило: что же это, думаю, все? Больше ничего не будет? Ни страсти, ни безумств, ни того оголтелого счастья, когда несешься к любимой, как лосось на нерест, обдирая о камни брюхо? Чуть не повесился в тот день. А наутро Лео возьми и позвони, хоть я уже и не надеялся ее услышать. Не могу, говорит, без тебя. И с женихом расстаюсь, не нужен он мне совсем. Сказать правду, колебания мои были не долгими.
Уже днем мы встретились в гостинице, и я обещал в скором времени снять квартиру. Как прикажете с собой бороться, если после ее звонка свет вокруг изменился, жизнь другими красками заиграла? Что я, в конце концов, — железобетонный? Мы снова начали встречаться. Мне было стыдно перед Таткой, а с другой стороны, стало легче сидеть дома — вроде и долг выполнен, и самому хорошо. Я даже начал привыкать к своему двойственному положению. Иногда, конечно, холодным потом окатывало: что я за чудовище? Как земля меня носит, господи? И так далее и тому подобное. Но ничего, накатит и отпустит; встряхнешься и дальше существуешь в том же режиме.
Мне всерьез казалось, что это для меня — единственный приемлемый вариант. Потому что клубок замотался такой, что и захочешь, не размотаешь. Мнимое равновесие было настолько шатким, что я временами чуть ли не шарахался от окружающих с криками: не трогайте! Не толкайте! Рухнет! И все равно не мог решиться ни на разрыв с Лео, которую иногда люто ненавидел, как источник всех бед и несчастий, ни на объяснение с Татой, ни на разговор с обеими, чтобы узаконить наш тройственный союз. (Да-да, и о таком подумывал.) Лео как минимум раз в неделю угрожала вернуться к жениху, найти себе другого, заявиться ко мне домой и все рассказать, а то просто закатывала истерики, но заканчивалось и то, и другое, и третье в постели самым сладостным образом. Так что даже скандалы меня устраивали.
А потом она ультиматум выставила: либо уходи от жены, либо забудь обо мне. Тянуть эту бодягу дальше невозможно. И самое смешное, той же ночью она приснилась Татке с очень похожей прокламацией. У Татки и раньше бывали вещие сны, не часто, всего несколько раз, но бывали. По сути, это нормально: у нее потрясающая интуиция. Так что я нисколько не удивился — но испугался. Сам не знаю, чего больше — потери Лео или позора перед Татой. Мои скелеты перестали помещаться в шкафу. Что будет, когда они на нее вывалятся? Я бросился из дома, позвонил Лео, поехал к ней.
— Слушай, — говорю, — я тебе обещаю: скоро мы будем вместе. Потерпи еще чуточку, буквально пару недель. Я все улажу и уйду к тебе.
Я уже поселил ее на съемной квартире.
Как ни странно, в душе у меня при этом теплилась надежда на чудесное избавление. Боже, просил я, сделай так, чтобы все устаканилось, чтобы из дома уходить не пришлось и Лео утихомирилась.
Она обрадовалась, обнимает, целует, предложила поужинать. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться, хоть Татка меня дома ждала. Лео нажарила мяса — у нее это здорово получается, — достала бутылку хорошего французского вина (незадолго перед тем я его сам купил, сказал, будет случай, выпьем). Потом она накрыла на стол, как в журнале, свечи зажгла. Вовсю старалась, и получилось красиво, но меня по сердцу царапнуло: вспомнил, как назвал такое «романтическим ужином при свищах» и как хохотала Туська.
Мы с ней ничего подобного не устраивали, глупо казалось, а сейчас выяснилось, что романтика — очень даже неплохая вещь. Вечер удался на славу, и я был в ударе.
Домой ехал с абсолютнейшей верой в собственное всемогущество: обязательно устрою так, что обе мои любимые будут довольны! Вошел в квартиру, бросился обнимать Татку — и вдруг почувствовал, что руки сами собой опускаются, как осенью, перед моим первым уходом. Но тогда я не мог касаться Таты, потому что был влюблен в другую. А сейчас кто-то словно шептал на ухо: нет у тебя, мерзавца и подлеца, больше на нее прав.
Мне опять стало дома тошно. Как двойной агент, проколовшийся со всех сторон, я не понимал только одного: какая из разведок возьмет меня первой. С Лео дышалось чуть свободней, она хотя бы знала, что происходит, но проявляла изрядное нетерпение и довольно откровенно меня шантажировала. А я не мог без нее жить. И в то же время не смел объявить Тате о том, что хочу уйти. Мне было плохо, намного хуже, чем осенью: тогда я страдал только от любви, а теперь — и от собственного предательства. Я почти не спал по ночам. И однажды, в середине марта, понял, что больше не вынесу. Сел за стол и начал писать письмо. На это ушло часа четыре, не меньше. Затем, не перечитывая, сложил лист вчетверо, надписал: «Тусеньке», быстро оделся, бесшумно вышел за дверь и уехал.
Наутро я пытался с ней поговорить, но она не подошла к телефону. Я как мог объяснил все сыну и отправился «по новому месту прописки». И вот честное слово — не представлял, что на сердце бывает до такой степени тяжко.
В общем, зажил я с Лео. Казалось бы, осуществляются мечты, радуйся и ликуй. Ан нет, не получалось. Если раньше мне не хватало Лео, то сейчас точно так же не хватало моего прошлого. Я скучал по Татке, по нашим вечерним беседам, по общему языку, на котором только с ней и мог разговаривать, по всевозможным семейным ритуалам, по дивану, креслу, чашкам, ложкам, тарелкам. Скучал по узорам от солнечных лучей, рождаемым именно нашими занавесками, и даже по Таткиному цветку на подоконнике, возней с которым она меня вечно раздражала.
Но если к тому моему раздражению в равной пропорции примешивалось умиление, то в новой реальности Лео временами меня бесила. Я, конечно, отдавал себе отчет в том, что мы очень разные, побаивался возможных конфликтов и заранее предупреждал ее: не исключено, что вместе нам будет очень трудно. Но все мои гипотетические опасения оказались пустяками по сравнению с действительностью. Меня доводили до белого каления не ее недостатки, а то, что прежде виделось как достоинства! В том числе молодость и — когда-то такое милое — невежество. Смешно сказать: я рассчитывал ее изменить, воспитать, вылепить из нее нечто прекрасное. Пигмалион хренов. Мои прекраснодушные мечты, как нетрудно догадаться, завяли на корню. Я незаметно для себя начал на Лео покрикивать, а затем и вовсе орать, и это довольно скоро вошло в привычку. Когда в апреле она решила на недельку съездить домой, я втайне обрадовался — и ужаснулся своей реакции.
Ведь я, как дурак, искал счастья. Разрубая гордиев узел, надеялся покончить с тоской, источившей меня за последние полгода. Но оказалось, что нет ей конца.
Меня мучило, что Тата не желает со мной знаться, отец презирает, а сын общается как с инопланетянином. Я хотел оставаться для них тем, кем был всегда. Но это было невозможно.
Я и не догадывался, что держу счастье в руках, — пока не разжал пальцы.
Чтобы не чувствовать себя совсем сиротой, я гораздо чаще, чем прежде, общался с первой семьей, с внуками. Совсем еще маленькие, они не задавались вопросом, откуда взялся этот дополнительный дедушка, и бесхитростно радовались моему появлению. Трехлетняя Лиза карабкалась мне на плечи, шестилетний Ванька-младший показывал новые машинки и совершенно, с его точки зрения, непрозрачно намекал, что неплохо бы покатать его на настоящей. Только с этими смешными существами меня не связывала тягостная предыстория, и только с ними мне теперь бывало истинно хорошо.
Впрочем, стоило уйти, как тоска вновь вонзала в меня свои цепкие когти.
А еще, как ни парадоксально, меня терзала ревность. Протопопов, один из «отцов» нашей славной корпорации, который после моего ухода от Таты сильно болел, — якобы нервный срыв; о таких небожителях мало что известно, но слухи все равно просачиваются — вдруг стал летать как на крыльях. И при встречах весьма странно на меня поглядывал. К сожалению, я видел этому всего одно объяснение: Тата сначала отказала ему, а потом все же согласилась.
Все мое существо восставало, бунтовало, протестовало. За долгие годы я привык относиться к Протопопову — не самому приятному в мире и на редкость зажравшемуся господину — с тайным злорадством: хоть лопни, а у меня есть такое, чего тебе в жизни не получить! Я понимал, что не должен, не имею права вмешиваться в жизнь Таты, и тем не менее страстно мечтал подойти и хрустко впечатать кулак в сияющую протопоповскую физиономию. Причем не один раз, а несколько: вот тебе, вот тебе, вот тебе! Вот тебе. Узурпатор.
Я знал, что виноват сам, и принимал кару. Но хватит ли одной Лео в компенсацию за мои страдания? Я уже не был в этом уверен.
14 Лео
Что тут скажешь: за что боролись, на то и напоролись. Или, выражаясь культурней, бойся своих желаний.
Вот у меня они исполнились. Радости — хоть волком вой. Я совсем другого ждала. И главное, не пойму, почему так выходит: Ваня же меня любит. Выбрал, в конце концов, кого? Не жену ведь.
Правда, здесь у меня совесть не совсем чиста, но только самую малость — все равно я в колдовство никогда особо не верила. Развлеклась, конечно, пару раз, но результат был, мягко говоря, сомнительный. Не то что волшебной палочкой махнул — и получите-распишитесь. В итоге и не поймешь, шаманство мое подействовало или жизнь сама так повернула. И все-таки, когда один раз попробуешь, остановиться трудно. Думаешь: хуже-то не будет. Привлечем-ка мы для верности магию.
А какой у меня оставался выход? Ваня домой вернулся, жених бросил. «Достали меня твои выкрутасы». Еще бы не достали, если всю злость за облом с Иваном я на бедном Лехе вымещала. К тому же и понимала, что все равно с ним не уживусь, слишком мне о другой, красивой жизни замечталось, а ему до таких высот пупок еще рвать и рвать. Но все равно, я думала сначала найти кого-нибудь нового, а потом уже расставаться, да Леха меня опередил. И так мне обидно стало — нашли дурочку! — что я на следующий день взяла и позвонила Ваньке, прямо с утра пораньше. Он, конечно, закобенился:
— Зачем звонишь? Ведь знаешь, что все кончено, я принял решение.
Фу-ты ну-ты. Театр одного актера. Я ж по голосу слышу: у тебя мурашки по спине бегут, до того меня видеть хочешь. Истосковался весь. Ну я и вывалила на него все разом: люблю, забыть не могу, жениха бросила — не правду же говорить, — умираю от тоски и мечтаю еще хоть разок встретиться. Он и растаял. Подъезжай, говорит, в три часа к нашей гостинице.
И пошло-поехало. Ваня квартиру снял, симпатичную, хоть и не в центре, как мне хотелось; я в ней поселилась, он приезжал каждый день. Хозяйство у нас образовалось, полочки там, покупки. Казалось бы, о чем размышлять — понял ведь, что без меня не можешь. А он нет, преспокойно зажил на два фронта. И что мужики за люди? На черта ему теперь-то сдалась его фефела?
Когда мы на Новый год с Зинкой поздравлялись, она сказала:
— Тебе надо было его любой ценой из дома тащить. Они ж такие. Им легче годами болтаться туда-сюда, как цветку в проруби, чем решения принимать. Хотя сейчас-то чего, поздно.
Но оказалось — не поздно. Мне выпал еще один шанс, и я решила его не упустить. А на всякий случай заглянула в заветные бабушкины тетрадочки. Аэробику на свежем воздухе, ясное дело, отмела — пока погода ничего зажигательного не шепчет — и разыскивала что-нибудь легенькое, ненавязчивое. Чтоб как будто ничего и не делала.
И нашла-таки. Приворот на вине, очень простой: крови своей в бутылку накапать и слова нашептать. А у меня, точно по заказу, критические дни. Ну, я исполнила все как положено и — была не была — выкатила Ванюше: или я, или она. В койке, говорю, кувыркаться чудесно, но есть и нормальная жизнь, а она у меня получается в простое. Он испугался, но все-таки домой потащился, что-то ему там надо было. Я прямо извелась, не спала практически. Пропадет, думаю, вино, жди тогда следующего месяца. Но утром — ничего, позвонил мой зайчик, а днем примчался. Сказал, что окончательно решил жить со мной, но просил чуточку подождать, пока он «все уладит».
Я радостно ручками всплеснула, целовать-обнимать бросилась. По такому случаю, говорю, давай торжественный ужин устроим. Он поежился — у нас ведь дома Тата, — но отказать не решился. Ну и выпил вина с моей кровью.
Буквально через полчаса мне показалось, что заговор действует. Иван сделался как сумасшедший, давно такого секса у нас не было. Прямо растерзал всю. Ну и ну, думаю. Не иначе, передоз вышел. А вообще, бабуля свое дело знала. Тоже, поди, на личном опыте проверяла.
Я была уверена, что Иван у меня останется, но он уже за полночь домой засобирался. Меня опять сомнения взяли: может, дело не в заговоре, а в мясе? Или в вине? Или просто на дворе весна и гормон запел? Не поймешь ничего с этими идиотами. Надоело до смерти. Я уж хотела плюнуть на все, не знала только, потерпеть еще Ванькину беготню или уйти, хоть и некуда. Но прошло совсем чуть-чуть времени, и стало видно, что он на грани. Трудно тогда с ним приходилось, совсем чумовой был, но я буквально дыхание затаила, чтоб не спугнуть, и в середине марта он меня ночью телефонным звонком разбудил: я из дома ушел, жди, сейчас приеду. Я аж захохотала, как ведьма.
Так и не знаю, что его с места сдвинуло, но, по правде говоря, разбираться не хочется — со мной он, и слава богу. Добилась чего хотела. Только, как всегда от колдовства, счастье получилось кривое. А если не от колдовства, то уж и не знаю, в чем дело. Вроде зажили мы, как мечталось: вдвоем, в отдельной квартире, без дерготни и обмана. Любовь, прогулки под луной и — как это? — вихрь страсти. Когда получалось, из постели не вылезали. А вообще-то хорошо мне было с Ваней, спокойно. Как будто бежала-бежала, а теперь можно остановиться. И старалась я для него изо всех сил: убиралась, стирала, готовила, вечером с ужином встречала. Пусть видит, что я не Тата.
Первое время все шло гладко, а потом он что-то мрачнеть стал. Придет с работы и сидит чернее тучи. Только замечания отпускает: то не так, это не эдак. Локти на стол не клади. Не говори: «блин». Тьфу. Цирлих-манирлих. Я огрызаться начала: мол, нечего меня воспитывать, воспитанная уже. Если не нравлюсь, надо было раньше думать. Он в крик: навязалась на мою голову, всю жизнь испортила, да хоть бы никогда тебя не встречать! И прочее в том же духе. В первый раз, когда у нас такой скандал вышел, я разобиделась, надулась, заставила долго прощения выпрашивать, цветы-духи покупать. Но это так часто повторяться стало, что уже дуйся не дуйся, толку никакого. А потом я рукой махнула: ворчишь — и ворчи, старый пень. Особо выступать боялась — я ж за него замуж хотела, а он с Татой своей разводиться не торопился.
Тем более видно было, что он не то по ней, не то просто по дому скучает. Однажды я его телефон проверила: в исходящих звонках ее номер по нескольку раз в день попадался. Я не выдержала, спрашиваю: общаешься с ней? А он в ответ грустно так: рад бы, да она меня слышать не хочет. Вот и славно, думаю. Молодец, гордая и неприступная Тата. Но для вида поахала: как нехорошо с ее стороны, мы же цивилизованные люди. Хочешь, я ей сама позвоню? Он — на дыбы: с ума сошла? И думать не смей! Слово за слово, новая склока вышла. У нас уже, как ни повернись, результат один — выяснение отношений. Достало.
Хорошо, у меня отдушина появилась: одноклассник, Антоха. Оказалось, это он меня на полянке видел, когда я голая вокруг костра выплясывала. Шел потом за мной до самого дома, удивился очень, что я разговаривать не захотела. Он мне в новогодние праздники позвонил, как бы поздравить, говорит: «Я тут в Москве, давай встретимся». А я тогда из-за Ивана бесилась и от жениха была рада сбежать хоть на время, так что согласилась не раздумывая. Посидели мы с ним в кафе, он рассказал, как за мной наблюдал.
— Чем это ты, — спрашивает, — занималась?
Я отвечаю:
— А фиг его знает. Прикалывалась.
Он покивал, а после объявил:
— Я тебя, Клепка, как увидел тогда в лесу, каждую ночь во сне вижу. Сколько времени прошло, забыть не могу. Влюбился в тебя, понимаешь?
— Понимаю, — говорю, — но ничем помочь не могу. У меня жених и вообще по жизни другие цели.
Он кивнул, грустно-прегрустно, и сказал:
— Знаю, но готов ждать. Если вдруг что изменится, только свистни. А пока можно я тебе иногда звонить буду?
— Звони, — отвечаю, — если денег не жалко.
И он действительно стал звонить. Сначала раз в две недели, потом чаще, чаще, а там уж и каждый день. Разговоры тоже все дольше и дольше затягивались. Я и не заметила, как на них подсела, начала ждать и даже нервничать, если звонка в положенное время вдруг не было. Что ни произойдет, сразу думаю: надо Антохе рассказать. А что, все-таки у нас много общего: в одном дворе выросли, в одной школе учились. Есть о чем потрепаться.
Так это и шло параллельно со всеми моими приключениями; Антоха в них активно «участвовал», советы давал. Про жениха сказал, туда и дорога, а насчет Вани отговаривал: не выйдет тебе с ним счастья. Разница в возрасте, семья — его будет совесть мучить, а ты изведешься. Бросила бы ты глупости, Клепка. Нормального мужика тебе надо, молодого и своего.
— Тебя, что ли? — спрашиваю.
— А что, — говорит, — хоть бы и меня. Чем я плох?
Последнее время я и сама думала: был бы Антоха москвич, как бы у нас все хорошо сложилось. Весело, без мутоты. Да и нравился мне он, в общем, всегда, со школы еще. И немудрено: парень высокий, плечистый, глаза красивые и улыбка хорошая.
— Ладно, — отвечаю, в шутку вроде, — обдумаю вашу кандидатуру.
А он неожиданно посерьезнел:
— Я же сказал, что ждать тебя буду. Ты мне нужна, поняла, Клепка? — И голос такой, что меня всю жаром обдало: со мной давно никто так не говорил. От Вани теперь, кроме «гав» да «гав», ничего не услышишь.
Антоха тем временем спрашивает:
— Кстати, не хочешь себе небольшие каникулы от Москвы устроить и домой приехать? Навестила бы родителей, а заодно и еще кое-кого из старых друзей. Нет, серьезно, с тобой многие из наших с удовольствием повидаются. Приезжай! Народ соберем, погуляем.
И так мне этого захотелось, что я подумала-подумала, а потом взяла и Ване сказала, что хочу на недельку домой сгонять. Родители, мол, скучают, и вообще… Он: да как же я без тебя, на кого ты меня покидаешь, но я-то вижу: глаза заблестели. Ой, думаю, как бы тихоня Тата без меня не подсуетилась и назад его не прибрала. Может, прописать ему перед отъездом волшебную микстурку? Но что-то меня заломало: пропади все пропадом! Что теперь, без колдовства шагу ступить нельзя? И не стала ничего делать, так уехала.
Не жалела ни одной минутки. Отдых получился классный, лучше, чем на курорте. Я ведь последнее время с Ваней себя настоящей старухой чувствовала, как будто мне самой сорок восемь. И только дома у родителей поняла, что устала ужасно. Если б даже не Ванькина беготня с семейными ценностями, все равно он мне в отцы годится, и это на обычной жизни сказывается. Легкости нет. И храпит он, кстати, хуже паровоза, не выспишься по-человечески.
А тут тебе мама с папой — если б еще морали не читали, совсем было бы хорошо, — своя комнатка, друзья, подружки, гулянки. И Антоха. Такой заботой меня окружил, обалдеть. Чего бы ему, спрашивается, суетиться? Я же четко предупредила: тебе не светит. А он все равно ухаживает, цветы дарит, развлекухи придумывает, по кино-кафе-ресторанам водит, такую культпрограмму организовал, любо-дорого! Мать мою совсем покорил. Она как-то осторожненько у меня спросила:
— Может, еще подумаешь? Ну что тебе эта Москва? И мужик старше отца? Смотри, как Антоша для тебя старается.
Я от нее отмахнулась, но слова в душу запали, думала долго.
Но потом решила: как же так, столько сил положила — и все зря? Даже плодами не воспользуюсь? Особенно когда Иван и Москва у меня, считай, в руках? Нет уж, дудки.
Так что через неделю уехала, как и собиралась. Антоха, когда меня провожал, не выдержал, целовать бросился. У него это, кстати, неплохо получается. На меня прямо оцепенение нашло, хотела оттолкнуть — не вышло, руки не слушались. Стою как дура, по всему телу мурашки бегут, в башке звенит… мамочки, думаю, что это? Влюбилась я, что ли? Вот уж чего не хватало.
Опомнилась, отстранилась от него, строго себе сказала: «Клепка, стоп! У тебя своя дорога, у него — своя». И, уже вслух, Антохе:
— Не надо, перестань. У нас с тобой ничего не выйдет. Даже не надейся. И не звони мне больше… так часто.
А он мне:
— Ты что, еще ничего не поняла? Нас же сама судьба свела. Я без тебя совсем не могу. Голос твой хочу слышать каждый день, да что там, каждую минуту — только трубку повешу, снова слышать хочу! Это ты даже не надейся от меня избавиться — ты мне нужна. Очень.
Я насилу от него оторвалась — и в поезд. Сердце колотилось как бешеное. И если одна моя половина кричала «Спасайся!», то вторая рвалась выпрыгнуть обратно и кинуться к Антохе в объятия.
В Москве, конечно, все это подзабылось, тем более что вначале у нас с Ваней сплошная романтика была: он по мне соскучился. Или ему другим самцом запахло и захотелось свою территорию метить? Так или иначе, отношения как-то наладились, и я сумела выбросить Антоху из головы.
Хотя это было непросто — очень уж Антоха… свой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ И полное ее разоблачение?
1 Тата
Со мной происходило странное: мне всерьез казалось, что внутри у меня — пустота. Я думала — где-то даже рассчитывала — преисполниться страданиями, а вместо этого сделалась пинг-понговым шариком. Во мне не было ни эмоций, ни желаний, ни ощущений — ни-че-го. Легкой отважной водомеркой я скользила над темными глубинами своего несчастья, бесшумно, стремительно, от утра к вечеру, от вечера к утру, в надежде, что и сегодня чудовище, притаившееся на дне, не заметит меня, не протянет ко мне свои ужасные щупальца. Я знала: стоит хоть что-то почувствовать, как именно это и произойдет — горе как камень, — меня тут же потащит вниз, и тогда пощады не жди, тогда нет спасения. Впрочем, временами становилось любопытно: что все-таки там, в пучине отчаяния? Не взглянуть ли одним глазком? Естественно, не сейчас. После.
Все говорили, что я «прекрасно справляюсь».
Никто не замечал, что меня — нет.
Зато почти у каждой моей приятельницы нашелся знакомый экстрасенс, и на меня со всех сторон сыпались прогнозы и указания. Так, для защиты от негативного воздействия мне следовало рисовать абстрактные композиции сиреневой и зеленой тушью, носить ожерелье из гематита в виде сплошного шнурка — как ни странно, такое у меня было — и провести глобальную энергетическую чистку дома. Ивану — в ауре которого напрочь отсутствовала голова — на беготню отводился максимум год, а мне очень скоро, самое позднее в конце осени, обещали «кого-то за границей».
Саня упорно твердила, что я должна как можно чаще ездить к бабушке и заказывать отчитку. По возможности каждую неделю.
— Она ведь говорит, что Иван меня все равно не бросит, — отбояривалась я, не желая вступать в дискуссии и объяснять, почему «нас всех» не заставишь потрудиться ради собственного блага.
— Раз говорит, значит, так и есть, но чтобы ускорить процесс, надо ездить и ездить, просить и просить. Можешь, конечно, сама ходить в церковь и молиться, но через бабулю надежней.
— Я ездила и просила, а Ваня преспокойно от меня ушел.
— Ну ты странная такая! Как бы тебе подоходчивей объяснить? Допустим, бабуля… часовщик. И вот она чинила-чинила механизм, а девка твоего Ивана пришла — и шарах по нему кувалдой! Сломать — две секунды, а исправлять сколько? Поняла теперь?
— Понять-то поняла, но… если наша красавица так и будет кувалдой размахивать? Мне до конца жизни к бабуле ездить?
— Почему до конца жизни? Что-нибудь обязательно переменится: либо приворот перестанет действовать, либо ей надоест этим заниматься, либо она таки огребет за свои пакости по полной программе и сама собой отвянет.
Прогноз совершенно не устраивал меня своей неопределенностью.
— К тому же, учти, — продолжала Саня, — Иван после порчи слабый будет, его потом восстанавливать и восстанавливать. Раньше вернешь, раньше вылечишь.
— Мне же его еще и лечить?
— А то кому? И лечить, и успокаивать, и отчитки на восстановление семьи заказывать. Кто это, по-твоему, должен делать? Ты ведь ему жена…
По судьбе, знаю-знаю. Только он мне почему-то больше не муж. Во всяком случае, не помнит об этом.
Что-то внутри активно сопротивлялось давлению, вера в способности бабы Нюры была изрядно подорвана, — но в какой-то момент я сдалась: вдруг поможет? На излете мая мы вместе с Саней и ее знакомыми отправились в Рузу.
Посиделки с чаепитием по летнему времени перенесли во двор. Не так давно шли дожди, но сейчас стояла жара, и за длинным столом под полиэтиленовым навесом, хоть его и постарались максимально распахнуть, было невыносимо душно. Я с интересом обнаружила, что, несмотря на хваленое омертвение, вполне способна испытывать физический дискомфорт, — пожалуй, даже больше, чем раньше. Наверное, поэтому необходимость участия в протокольных мероприятиях — распивании чая, распевании гимнов и сочувственном кивании под неизменный рассказ о мятых десятках — страшно меня раздражала. Я буквально не могла дождаться, когда все закончится, чтобы написать под диктовку положенный текст и скорей уехать домой.
Внезапно баба Нюра, прервав монолог на полуслове и сверкнув взглядом в сторону одной из участниц застолья — тетки в явно дорогом, но каком-то нечистом наряде и с жутким лицом привокзальной алкоголички, — выпалила:
— Вот и у тебя мужа нет, потому что колдуны отобрали!
Тетка, которая полчаса назад к случаю бросила фразу: «Когда мы с мужем были в Египте», смутилась — хотя, если вдуматься, одно другому не противоречило, и уличать ее во лжи никто не собирался. Баба Нюра, не обращая на нее внимания, продолжила:
— Как вот и у ей тоже. — И ткнула пальцем в меня.
Я сразу поняла чувства тетки, но сострадание к ней моментально улетучилось под натиском злости.
«ДА ПОШЛИ ВЫ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ!» — хотелось заорать мне.
Я, конечно, взяла себя в руки и воздержалась от демонстративного хлопанья калиткой — мои нынешние эмоции быстро умирали, и вообще не хотелось тащиться в Москву на автобусе. Я стоически выдержала до конца все, даже публичный допрос («Живешь-то одна? Одна? Без мужика? Честно? ЧЕСТНО? Смотри у меня!»), но в глубине души знала, что больше сюда не приеду даже ради гарантированно светлого будущего семьи. Я еще не успела разувериться во всемогуществе магии, но в тот миг, когда люди за столом дружно повернулись ко мне и я почувствовала себя экспонатом в анатомическом театре, мне внезапно стало ясно, что чужое вмешательство в мою личную жизнь превысило все мыслимые пределы.
Руки прочь, подумала я — и зажила летучей, ежедневно испарявшейся без следа жизнью одинокой женщины. Вокруг меня один за другим появилось несколько мужчин, старых знакомых в новых реинкарнациях. Я отчетливо слышала легкие хлопки, с которыми эти преуспевающие господа средних лет возникали из эфира, и нисколько не сомневалась, что их материализация — результат козней моего патрона (который, к слову сказать, тоже далеко не молод и явно ни в чем не нуждается). Он зачем-то хотел, чтобы я, поверив предсказаниям Сани, угодила в силки легкого благополучия. Мне пока удавалось избежать их, но… дьявол умеет искушать.
Я постройнела, помолодела, похорошела; даже самые вредные тетки в магазинах называли меня «девушкой».
Протопопов был при мне постоянно. Разумеется, не двадцать четыре часа в сутки, ведь из семьи его пока не выгоняли, а значит, он в достаточной мере создавал там видимость присутствия, но и для меня, что бы ни происходило, всегда оказывался рядом. Как это у него получалось, не знаю; наверное, я попросту забывала о нем, стоило ему пропасть из поля зрения. Между тем он производил впечатление абсолютно счастливого человека — за двенадцать, почти уже тринадцать лет я ни разу не видела его таким. Теперь это был автомат по изготовлению счастья, к тому же взбесившийся: он фонтанировал счастьем, извергал его, исторгал, затоплял все вокруг и нисколько не собирался останавливаться.
Я наблюдала за ним с чуточку недоуменной, извиняющейся улыбкой. Так человек в чужой стране наблюдает за группой хохочущих людей: и рад бы повеселиться, да не понимаю, в чем дело. Впрочем, когда розовая лава грозит залепить тебе глаза, уши и нос, это уже не смешно, а опасно.
— Люблю тебя, люблю тебя, люблю, — твердил Протопопов, шалея от недавно обретенной свободы слова. — В жизни этого столько не говорил.
Я смотрела на него в упор прозрачным взглядом. Сколько ни говори, мне все равно недостаточно: не растопит обиды на Ивана.
Но время шло, и незаметно у нас с Протопоповым образовалось странное подобие семейной жизни. Он занял место Ивана пространственно, и мне, в моем отрешении, достаточно было не вглядываться, чтобы не ощущать разницы. Пожалуй, мое существование стало даже интереснее — Протопопов изо всех сил старался меня развлечь. Мы ездили за город, ходили в кино и ночные клубы, поздними вечерами ели что-то невероятно изысканное на открытых верандах дорогих ресторанов. Чем не жизнь для того, кто боится глубины? Я начинала привыкать к ее звонкой, нереальной калейдоскопичности.
У нас появился свой язык. Мы и раньше хорошо понимали друг друга, но последнее время то и дело сталкивались с тем, что слова нам больше не нужны — вполне достаточно взгляда, улыбки, жеста.
Все чаще и чаще мне в голову закрадывалась предательская мысль: вдруг Саня права и Протопопову стоит дать шанс? Сначала я возмущенно гнала ее от себя, а потом свыклась. Почему, в конце концов, нет? Может, он и есть мое счастье?
Однако мы оба не торопились переступать заветную черту. Но если со мной все было ясно, то медлительность Протопопова вызывала некоторое удивление, пока я не осознала причины: он же меня боготворит, на меня молится! А согласитесь, спать с иконой — странно и как-то не эргономично.
Что же, решила я, подождем, пока меня снимут со стены. Нам не к спеху.
В конце июня мой сын уехал на языковую практику в Испанию, а Ефим Борисович — на дачу. Едва Протопопов шагнул через порог опустевшей квартиры, воздух в ней загустел, засверкал эротическим электричеством. Кожу кололо от зашкаливавшего напряжения. Я, мгновенно смутившись, ретировалась на кухню ставить чайник. Но потом, стоя лицом к раковине, вдруг подумала: «Какого черта?» — и резко обернулась. Протопопов стоял у меня за спиной. Я скорее почувствовала, чем поняла, что смотрю на него так, как до сего дня смотрела только на Ивана, и сама себе удивилась. Я всегда старательно «приглушала звук» своей привлекательности, хорошо сознавая, что это за оружие, а сейчас… бедняга Протопопов! Его пришлепнуло ко мне, как кнопку к феноменально мощному магниту.
Мы целовались жадно, упоенно, слепившись телами, стискивая друг друга в объятиях. Мной овладело чудовищное остервенение — я так давно ничего не чувствовала, что сейчас хищным клювом отрывала от чужой страсти громадные, плохо проглатываемые куски. Какой это, оказывается, замечательный наполнитель! Как прекрасно, не имея собственных чувств, жить отраженными!
Я стала протопоповским зеркалом. В нем он видел меня — такую, как ему нужно, — и себя в два с половиной раза больше по всем (поправка: по некоторым) измерениям: себя самого умного, самого красивого, самого щедрого, самого-самого-самого… Иной раз меня даже огорчало, что я — зеркало не говорящее. А то ведь надо и честь знать.
Он, кажется, принимал все за чистую монету. А мной двигал стыд: человек не получает от меня ничего, кроме своих же собственных чувств, и еще должен радоваться этому? Я была готова на компенсацию в любой доступной мне форме. Раз невозможно дать ничего настоящего, я устрою ему фабрику грез, одурманю фантасмагориями, ослеплю обманчивым блеском, завалю мишурой. Из моей шляпы фокусника летели радуги, били фонтаны ярких, почти натуральных роз и лилий, я, как заправский пиротехник, устраивала грандиозные фейерверки и, как Уолт Дисней, рисовала в воздухе удивительные узоры, обводила нас двоих искрящимися пунктирными сердечками. Они растворялись с тихим звяканьем, но я тут же создавала новые.
«Смотри, смотри! — словно бы восклицала я. — Как все красиво, сказочно, необыкновенно!»
— Тата, Таточка моя, — шептал, задыхаясь от восторга, Протопопов.
Мне на лицо падали редкие капли пота.
Я нежно лучилась улыбкой, вздергивала подбородком и снова закрывала глаза-звезды.
Для него мое блистательное актерство ничем не отличалось от любви, оно было на редкость искусным, очень правдоподобным и невероятно щедрым.
Я предугадывала любые желания Протопопова и делала все, чтобы он чувствовал себя героем. Я могла десять раз подряд имитировать то, что и один раз имитировать скучно.
Мне было не жалко — ничего не жалко.
Особенно себя.
2 Александра
Пора бы мне научиться здоровому эгоизму. А то что? Возишься с людьми, возишься, в лепешку ради них расшибаешься, про личную жизнь забываешь, а слова доброго не дождешься. Не говоря уже о благодарности. Почему-то считается, что для меня копаться в чужих картах — главное земное удовольствие. Вот сто раз наблюдала и все равно не перестаю удивляться: пока человеку плохо, его от меня палками не выгонишь, а чуть только дела наладятся, сразу дорогу забывает. Хоть бы кто позвонил из интереса: как сама-то?
Взять, к примеру, Тату, Анну Каренину нашу драгоценную. Полгода мы ее дружно спасали, с рельсов соскребали, буквально под руки водили, а теперь она ко мне носа не кажет, к бабушке не ездит и вообще с собаками ее не разыщешь. Гуляет в открытую со своим Протопоповым — наконец-то, сколько можно людей за идиотов держать, — дома не бывает, и позвонить рассказать, что новенького, ей, разумеется, некогда. Ивана словно из головы выкинула. А ведь я говорила: развлекайся, но помни про свою главную задачу: мужа домой вернуть. Дальше-то как жить собираешься?
Она тогда взглядом своим царевниным меня одарила:
— Саня, неужели ты хочешь сказать, что я гожусь исключительно в иждивенки?
Я по одному этому взгляду поняла: в себя приходит. Раньше всегда такая гордячка была. А гордыня у нас, между прочим, смертным грехом считается.
— Может, — отвечаю, — и нет, но пока ты ничем не доказала обратного. Карму свою реализовывать не хочешь, творчеством не занимаешься, денег не зарабатываешь. Копеек твоих, прости, на кусок хлеба не хватит. Соответственно, пока не предпримешь чего-нибудь, надеяться остается только на Ивана. Не обижайся, Тусь, я человек прямой, что думаю, то и говорю.
— Я нисколько не обижаюсь. Ты, конечно, права. И тем не менее. Сама говорила: что бы ни было заложено в карте, это еще не приговор. Все зависит от свободной воли человека, и многое можно перебороть. Вспомни хоть Семена, которого я к тебе приводила.
Вот уж действительно: Семену ее, судя по карте, давно бы в помойке сидеть и очистками питаться. А он на «мерседесе» последней модели разъезжает, и не сам к тому же — с личным водилой. Я, когда в компьютер заглянула, раз десять дату, время и место рождения переспросила, никак глазам поверить не могла. А после — от Семена их отвести: вот, думаю, человек — настоящий хозяин своей судьбы. Столько дряни сверху отсыпали, жуть, а он все транзитик по транзитику к собственной выгоде повернул. Представляю, как ему, бедняге, тяжело пришлось, но оно того стоило. Давно таких сильных мужиков не встречала. Везет на них Татке.
— Хорошо, — говорю, — но то Семен, уникальный случай. У него энергетика — на метр не подступишься: отталкивает. Ты-то к нему каким боком относишься? Или последовала моему совету?
Я была и сама не прочь такой феномен себе отхватить, но с первой минуты — а они три раза вместе приезжали — поняла, что он Таткин клиент. Как обычно. Эх, мне бы ее транзиты! Повезло дуре, а не пользуется. Протопопов ее в сравнении с Семеном — букашка. Естественно, я ей потом чуть не месяц вдалбливала: хватай обеими руками и держи, горя не будешь знать. Хочешь, шаманскую привязку вам сделаю? А она: не надо мне никакой привязки и никакого Семена, и вообще, перестань меня всем подряд в постель складывать. Ладно, говорю, как знаешь, но это, ты уж меня прости, дебилизм высшего качества. Татка только губы поджала и плечом дернула. Королевна. Ничего, думаю, жизнь тебя научит, как нос воротить.
— Нет, не последовала. Семен — не мой человек, и общаться с ним тяжело, особенно после переселения на Олимп.
— Куда?.. Ах да! Ясно.
— Короче говоря, в мужья и любовники он не годится, а вот как положительный пример — самое оно. Меня лично очень утешает, что при астрологически никудышных начальных данных все-таки можно кое-чего достичь. Учитывая твои прогнозы относительно моей женской судьбы.
— В смысле?
— Что я замуж больше не выйду.
— Нет, Туська, я тебя просто не понимаю! Зачем, если ты уже замужем? Сказано ведь: никуда твой Иван не денется!
— Между тем я его сто лет не видела, и желания вернуться он не выказывает.
— Я же говорю: к бабе Нюре надо ездить, просить. Мужика спасать. А ты расслабилась. Забыла, что у него по карте на этот год? Хорошо, если живой останется.
— Ты осенью тем же самым пугала. Выжил ведь.
— Осенью! Да это его бабуля мимо смерти протащила! А с середины июня такое пойдет, что осенние проблемы цветочками покажутся. Квадрат Плутона к Марсу, вторая петля! Аспект опасности первой категории! И с начала сентября Нептун к Солнцу, месяца на четыре, — тебе мало?
— Достаточно, хоть я и не понимаю, что это значит.
— Полная задница, вот что! Плохо придется твоему козлику.
— Может, это и хорошо?
— Да что ты улыбаешься, что здесь смешного? Вот останешься одна без денег, тогда обхохочешься.
— Санечка, не сердись. По-моему, я сделала для Ивана все, что в моих силах. Теперь пусть сам разбирается. Тем более что, как ты сама говоришь, его фотография у бабы Нюры есть и она за ним «послеживает».
— Напоминать ведь надо, у нее таких Иванов два мешка. Впрочем, как знаешь, дело хозяйское.
— Я хочу посмотреть, как будут развиваться события. Давай дождемся середины июня.
Мне уже и самой было интересно узнать, как Иван реализует свои транзиты. С одной стороны, он везунчик и баба Нюра за ним присматривает, но с другой — на привороте удача от человека отворачивается и транзиты такие, что мама не горюй. Одним словом, числа с семнадцатого я непроизвольно начала ждать от Татки какого-нибудь неприятного сообщения. Обычно интуиция меня не подводит, а тут — тихо и тихо. Под конец я не выдержала, позвонила сама.
— Привет, — говорю, — куда пропала?
— Да никуда особенно! — отвечает. — Развлекаюсь, в полном согласии с предписанием. — И смеется.
— Ты чего такая довольная? — спрашиваю.
— Настроение хорошее!
— С чего? Муж вернулся?
— Нет. Об этом ты бы узнала первая. Но и без него, оказывается, жить можно.
— Роман, что ли, завела?
— Завела.
— С кем?
— Тоже — согласно предписанию. Я девочка послушная.
— С Протопоповым? — Я так и ахнула. Не ждала, что она решится обнародовать. — Ну и как он?
— Отлично! — А сама хохочет как ненормальная.
— Что ж, — говорю, — поздравляю. — И не стала больше расспрашивать, почувствовала, что ей не хочется на эту тему распространяться. Не клещами же из нее тянуть. Перевела разговор на другое: — Про Ивана что-нибудь слышно?
— На похороны пока не приглашали, а так сведений нет. Не звонит, не появляется.
— Странно. Баба Нюра, кстати, по-прежнему за него просит.
— Хорошо, но результата что-то не видно.
Поговорили мы с ней в таком духе еще минут двадцать, а потом я трубку повесила — и сижу, чуть не плачу. И не пойму, что со мной такое. Но когда поразмыслила, все стало ясно: во-первых, мне завидно, во-вторых, обидно. Все-таки нет пророка в своем отечестве. Вот вам, пожалуйста: мои прогнозы сбываются, советы явно на пользу пошли, а Татка, вместо того чтобы спасибо сказать и спросить, что дальше делать, отгородилась от меня стеклянным колпаком. Типа, не вмешивайтесь в мою интимную жизнь. Можно подумать! Не поздновато ли в молчанку играть? А ведь не дай бог что случится, сразу прилетит: Саня, выручай. Конечно, она не одна такая, все хороши, человек вообще животное неблагодарное. Знаем, проходили. Я давно ни от кого ничего не жду и внимания не обращаю, но… все равно неприятно. Ради чего, спрашивается, я на нее столько времени и сил угрохала?
Татка сейчас из-за своего Ивана на меня, на бабулю, на магию и вообще на весь белый свет озлилась, слушать ничего не желает, а ведь именно при нынешних обстоятельствах сдаваться ей ни в коем случае нельзя. Брала бы пример с Ивановой девицы. Она-то поперла против всех кармических законов и добилась своего — точнее сказать, чужого. Радости, правда, ей от этого не будет, но, похоже, она подобными вещами не заморачивается. Была бы выгода, и спасибо. Да, Ивану теперь дешево не отделаться, обдерут его, дурака, как липку. Только придется поторопиться, в следующем году у него денег не будет: Сатурн по второму дому гулять пошел. Впрочем, я предупреждала, чем ему эта любовь обернется; не захотел слушать, пусть на себя пеняет. Вместе со своей воображалой Татой.
Нет, подумайте: любовь крутит, и ни гугу! Чего скрывать-то? Чтобы до бабули не дошло? Так она вас давно раскусила. Ну и прояви честность раз в жизни, а то «друзья, друзья». Теперь-то уж могла бы рассказать все по-человечески. Я бы, между прочим, ей кое-какие советы дала по части протопоповской натуры. Он мужик непростой, к нему подход требуется. Но раз такая скрытная, иди своим тернистым путем, набивай шишки, натыкайся на колья. Дело хозяйское.
И все равно завидно. Полгода не прошло, а у нее уже роман. К тому же в Испанию собирается.
— Что, с Протопоповым?
— Зачем же, с Умкой. Я отдохнуть хочу.
А я вот больше года по Гарику страдаю и одна сижу. Не так чтобы исключительно из-за него, естественно, больше бабу Нюру слушаюсь, чтобы она Фила, первого моего мужа, домой поскорей вернула. По ее словам, он меня до сих пор любит. Только и ему, как Ване, девка попалась упорная. Да чего там девка, тетка уже: скоро десять лет, как они сошлись. Вешает и вешает привороты, не отпускает. Понятно, такие деньжищи на кону. А Фил чем дальше, тем больше разваливается, больной насквозь, бизнес того и гляди потеряет. Приворот — та же порча, а на порче у человека вся судьба рушится. Вот и придется мне в конечном итоге за Филом горшки выносить. А что делать? Баба Нюра четко сказала: доживать вместе будете.
Лучше б мы, конечно, не расходились, ведь до чего хорошо жили! Я не просто за каменной стеной — как в настоящей крепости себя чувствовала. Зарабатывал он — больше не бывает, ни в чем мне не отказывал. Любил очень: все Санечка да Санечка, ласточка, солнышко. Но когда совсем в гору пошел, его девица какая-то решила к рукам прибрать. Выкрала нашу фотографию и заказала порчу на разрыв — так баба Нюра утверждает. Причем я даже не знаю, что за девица, бабуля мне описывала, но я все равно вспомнить не могу. У нас вечно куча народу толклась, под шумок не то что фотографию, всю мебель из дома можно было вынести.
Отношения и правда испортились, хотя девице ничего не обломилось; понятия не имею, куда она делась. Мы с Филом часто ссорились, он начал погуливать, но из дома не уходил, пока про нас с Гариком не узнал. Лучше б я никогда в Крым не ездила и его не встречала, подлеца моего ненаглядного. Я-то думала, у нас любовь, пока баба Нюра мне глаза на него не раскрыла. Я ей фотографию показала, а она только плюнула:
— Не мужик, а колорадский жук на кусте картошки! Даже говорить про него не хочу.
Она боялась, если я все узнаю, у меня психика не выдержит. Это уж потом Мариша из нее все в деталях вытрясла и мне пересказала: как Гарик на меня порчу наводил, чтобы в Москве зацепиться, и по бабам от меня шлялся, а я столько времени ничего не замечала. И что мне либо его срочно выгонять надо, либо себе место на кладбище подыскивать. А я в самом деле чем дальше, тем хуже себя чувствовала, еле ноги таскала, поэтому сразу поверила. Выгнала Гарика, не размышляя, и назад не пустила, как ни просился. Но мучаюсь по нему до сих пор, забыть не могу. Баба Нюра говорит: отчитаем, пройдет, это — не твоя судьба, тебе Фила возвращать нужно. А возвращать легче на пустое место. Вот я и сижу и вроде как не особо страдаю. Но сейчас, не иначе как от переживаний, мне вдруг вспомнился недавний разговор с Таткой. Она почему-то спросила:
— Сань, а ты уверена, что Фил к тебе вернется?
— Бабуля говорит — точно вернется.
— А если это произойдет еще лет через тридцать?
— Значит, судьба такая, ничего не поделаешь.
— Но ведь мне ты советуешь развлекаться, пока Иван не вернулся, почему же сама не хочешь?
— С моей картой не очень-то развлечешься.
— А я вот не сомневаюсь, что при желании ты могла бы найти мужиков не меньше, чем я, даже больше. У меня их, собственно, не густо.
— И где бы я их нашла?
— Например, на работе.
— Моя работа — вот, на собственной кухне. Клиенты прямо сюда приходят. Ты же знаешь.
— А ты пойди работать в астрологический салон. Заведешь роман с каким-нибудь интересным клиентом. Ты же красивая.
— Нужна я кому-то очень! И вообще, в салонах своих астрологов навалом!
— С такими знаниями и способностями, как у тебя? Что там звезды и карты, ты могла бы гадать даже по картошке с морковкой! Ты ведь просто чувствуешь будущее — бог знает какими рецепторами.
— Так в резюме и писать: гадаю по картошке с морковкой? Примите на работу? Ну тебя, Татка!
— Нет, Саня, ты все-таки подумай.
И вот сейчас, пытаясь не разреветься, я подумала: попробовать, что ли, устроиться на работу? Как-никак надо будет в люди выходить, краситься, одеваться. Вдруг я действительно с кем-нибудь познакомлюсь? Пусть это не спутник до конца дней, зато развлечение. А то что? У всех нормальная жизнь, а у меня — один сплошной астрал.
От этой мысли сразу стало легче, и я твердо решила: завтра же посмотрю вакансии. Тем более что в том нашем разговоре Татка произнесла фразу, которая поневоле запала мне в душу. Я тогда заявила насчет мужиков:
— Вообще-то, мне по судьбе ничего такого больше не положено, все, к кому я ни обращалась, в один голос говорят.
Татка, помолчав, ответила:
— Знаешь, Саня, как я убедилась, любовь вечно путает людям карты и ломает судьбу. Мало ли кто что говорит. Ты все-таки рискни. Чем черт не шутит.
3 Ефим Борисович
Меня очень огорчала Тата — чем дальше, тем больше и больше. После ухода Ивана, с которым я с тех пор не мог по-человечески разговаривать, она недели две пребывала в совершеннейшем шоке, а потом буквально в одночасье преобразилась до неузнаваемости. Казалось, что настоящую Тату похитили, а у двойника отказали тормоза. На первый взгляд ее поведение оставалось благоразумным, однако в ней появилось нечто опасное, отчаянное; она будто бы не дорожила собой. Это пугало меня, но формально придраться при всем желании было не к чему.
Наверное, следовало проявить настойчивость, убедить Тату довериться мне, возможно, я бы смог ей помочь. Но, увы, до отъезда на дачу я почти не видел ее, она постоянно куда-то уезжала с Протопоповым, а если и бывала дома, то все равно при нем. Я мог лишь наблюдать за ними со стороны — и как мне не нравилось это ее знакомство! Естественно, я понимал, что она уже не связана никакими обязательствами и вольна поступать так, как считает нужным, но, с другой стороны, видел, что Протопопов совсем потерял голову и не осознает, что имеет дело с травмированным, очень уязвимым и не вполне отвечающим за свои действия человеком. Когда я замечал ее шалый взгляд, обращенный на Протопопова, этот нехороший, злой, ведьмин огонь в глазах, мне поневоле становилось страшно. Хотелось броситься, предостеречь, срочно спасти их обоих. От чего? Видит бог, я не знал.
Чувствуя собственное бессилие и не находя места от беспокойства, я листал свои, по выражению Таточки, «чернокнижки» — но не испытывал к ним прежнего интереса. Одно дело — абстрактные рассуждения о воздействиях и поиски исторических доказательств их существования, и совсем другое — судьба собственной семьи. Даже абсолютная вера в приворот не помогла бы утешиться при виде столь губительных разрушений, напротив, породила бы желание бороться с их виновницей, причем бороться ее же методами. Не поймите превратно, мне, разумеется, и в голову не пришло бы, выражаясь, опять же, словами Таты, варить лягушек, но от первобытной, животной ярости у меня буквально сводило зубы. Какое право имела дрянная, наглая девчонка очаровывать моего сына? Что бы под этим ни подразумевалось.
Я случайно открыл «Половую магию» Поля Седира и почти сразу наткнулся на следующий пассаж.
«Во всех любовных чарах мы неизменно находим один и тот же момент: внушение, причем двустороннее. Ему в одинаковой степени подвержены те, кто совершает обряд, и те, кого хотят этим обрядом околдовать. Первые начинают ощущать уверенность и смелость в общении с объектом своих притязаний; вторые должны так или иначе узнать о колдовстве, иначе желаемый результат не будет достигнут. Если во время исполнения обряда они ничего не ощущают, то впоследствии все же узнают о нем, заметив, например, булавку в своей одежде. Все эти церемонии, несмотря на их нелепость, не проходят бесследно».
А вот дальше, дальше-то самое главное:
«Если принять в соображение причудливый характер тех психических состояний, которые обозначаются словом „любовь“, вряд ли можно отрицать действенность этих манипуляций, за счет прямого или косвенного внушения».
О чем я всегда и говорил! Причем так называемая «простота» Ваниной избранницы сыграла ей на руку: она, не задумываясь, пошла на то, чем постеснялась бы заниматься девушка интеллигентная. А уж потом, при ее безоговорочной уверенности в успехе, у Вани не было шанса на спасение; ему оставалось лишь полностью подчиниться ее воле.
Тут уместно вспомнить слова Парацельса, адресованные врачам и сказанные по поводу болезней, наведенных колдовством. «Вы не представляете, как велика сила, присущая человеческой воле. Ибо воля является источником таких духов, с которыми разум ничего общего не имеет».
Все так. И, если разобраться, магия тут ни при чем, это голая психология, — но в любом случае… держалась бы наша волевая юница подальше от женатого человека! Я искренне ненавидел Ванину подругу и мысленно проклинал ее самыми последними словами. Грудь распирало от гнева, в мозгу, налезая друг на друга, теснились какие-то патетические воззвания, я с трудом удерживался, чтобы не позвонить ей и не высказать все, что о ней думаю. А еще я всерьез планировал объявить своему непутевому сыну, что я слишком стар, и потребовать избавить меня от волнений и сию же минуту вернуться домой. Представляю, насколько глупо это выглядело бы.
В сущности, я жалел Ивана. Сейчас он не осознает, что творит, но прозрение неизбежно, и тогда бедняге не позавидуешь. Однако он действовал по собственному выбору и должен понести наказание за последствия, а Таточка расплачивается за чужие ошибки. Ее я жалел в тысячу, миллион раз сильнее: этот худенький, одинокий демон-разрушитель с печальными глазами и дерзкой улыбкой был в первую очередь опасен самому себе.
Она приезжала на дачу с Протопоповым. Тот, совершенно очевидно, был одержим любовью и вполне мог служить примером человека, на которого сделан приворот. Я сочувствовал и ему и практически ежечасно проклинал себя за малодушие: мне следовало вмешаться, предотвратить катастрофу! Сумасшедший влюбленный видел только Тату, ничего не смыслил в происходящем. А она — надеюсь, неосознанно — мстила за свою исковерканную судьбу и безжалостно истребляла вокруг себя все человеческое. Я чувствовал, что обязан хоть что-нибудь им объяснить, и, не зная, как завести разговор на столь интимную тему с посторонним, по сути дела, мужчиной, решился обратиться со своей тревогой к Таточке. Они в очередной раз явились нас навестить; Протопопов о чем-то беседовал с ее родителями — они тоже не одобряли их общения, но пытались сохранять лояльность, — а мы с Татой и Никсоном, протопоповским догом, прогулялись по саду, полюбовались розами и теперь сидели в беседке.
— Девочка моя, — смущаясь, проговорил я, — не думай, что в силу возраста я ничего не понимаю. Я вижу, как тебе плохо, но все же подумай, что ты делаешь. Ты и не замечаешь, как рушишь не одну, а целых три человеческие жизни, при том, что тебе это совершенно не нужно. Ведь, насколько я знаю, у Протопопова есть жена и сын?
— Они были у него всегда — столько, сколько мы общаемся. Ему это не мешало, мне тем более. Разве что-нибудь изменилось?
— Таточка, не лукавь! Изменилось, да еще как! У него появилась надежда. И это — колоссальная угроза для его семьи. В то время как ты не испытываешь к нему совершенно никаких чувств.
— Вы уверены?
— Увы, моя милая. Абсолютно. Прости, что вмешиваюсь не в свое дело, но мне бы не хотелось, чтобы на алтарь твоей мести легли судьбы как минимум двух ни в чем не повинных людей. Поверь, Иван того не стоит, даже если тебе и странно слышать это из уст его отца.
— Я никому не мщу! Я всего лишь пытаюсь выжить. Выплыть, не утонуть.
— Вряд ли благородно топить при этом других.
— Ефим Борисович! Протопопов — взрослый человек, и все, что он делает, — его сознательный выбор.
— Таточка, повторяю: многое между вами изменилось. А он себе не принадлежит. К сожалению, сейчас именно ты несешь ответственность за происходящее. А потому призываю: опомнись! Если б ты любила его, другое дело, но…
— Вы не можете судить о моих чувствах.
— Деточка, я слишком хорошо тебя знаю. К тому же влюбленные люди не выглядят такими несчастными.
Она глубоко задумалась, а затем, словно очнувшись, произнесла:
— Мои родители говорят то же самое. Наверное, вы все правы. Но я не знаю, можно ли что-то остановить. Видите ли, Ефим Борисович… думаю, вы поймете… все уже произошло. Аннушка разлила масло.
— Часто нам только так кажется. Людям свойственно искать повод погрязнуть во зле — это легче, чем исправлять ошибки, — и в таких случаях они, как правило, прикрываются неким первоначальным, якобы непростительным, грехом. Но в действительности никогда не поздно покаяться.
— Послушать вас, я — настоящее исчадие ада.
— Нет, конечно же нет. Однако то, что ты делаешь, — в определенном смысле черная магия.
— То есть? Не понимаю.
— Позволю себе процитировать изречение из моего любимого «Draco ater»: «Черная магия есть та область тайного знания, которая позволяет входить в сношения с дьяволом и с его помощью или даже помимо него достигать реализации своих эгоистических намерений». Разве не этим ты занимаешься?
Тата побледнела.
— Вы считаете?
— Не совсем, но… Ты знаешь, я не испытываю особой приязни к Протопопову, но, когда я вижу, что между вами происходит, и понимаю, чем это грозит ему и его семье, мне становится жутко.
— А чем это ему грозит?
— По-моему, объяснять излишне. Он начнет вести себя так же, как Иван. Разве ты хотела бы этого для другой женщины? И даже для него самого?
— Вам ответить честно или правильно?
— Лучше честно.
— Раньше не хотела бы, ни за что, а теперь мне плевать.
— Именно. Я и вижу. А между тем… тебе интересно, каковы, опять же цитируя Нитибюса, «правила успеха в адских вызываниях»?
Тата вопросительно подняла брови.
— Прежде всего, необходимо «создать цельную и полную идею культа Сатаны». Во-вторых, «убежденно верить во все, даже невероятное». В-третьих, «презирать все то, что выражают понятия о добре, свете и гармонии». В-четвертых, «обладать какой-либо страстью, направленной на зло». В-пятых, «иметь совесть, погрязшую во зле, преступлениях и вместе с тем недоступную угрызениям и страху».
— И все это — я?
— Отнюдь нет, но… мне бы не хотелось, чтобы ты узнала себя хотя бы частично.
— Вы слишком деликатны, Ефим Борисович, но я вас поняла. Спасибо за откровенность. Мне нечего возразить. И все же… что выросло, то выросло. Боюсь, я не в силах ничего изменить. — Она саркастически усмехнулась: — Сатана не позволит.
У меня по спине пробежал холодок.
— Деточка, не надо бросаться подобными словами. Это — вызов судьбе. Она такого не любит.
Лицо Таты стало вдруг жестким, даже неприятным.
— Не любит? Вот как? Что поделаешь, Ефим Борисович. На всех не угодишь.
От того, как это было сказано, я лишился дара речи. Стало ясно: дело не в том, что она в чем-то повинна. Вовсе нет. Дело в том, что она не может себя простить. Ей глубоко безразлично, что будет дальше, поскольку, с ее точки зрения, она уже совершила нечто непоправимое. Характерное заблуждение грешников-неофитов.
Я воздержался от комментариев, попросил Тату принести мне в комнату чай, а когда мы там встретились, зачитал ей, как бы в продолжение разговора, следующую цитату:
«Взятая, как целое, половая магия вряд ли может похвастать какой-нибудь положительной чертой. Она не только ничего не создает — она все разрушает. Даже те случаи, когда два человека вовлекаются в процесс взаимного колдовства, неминуемо влекут за собою зло. Ибо принуждение — основное ядро всякого волшебства — является несчастием для той и другой стороны. Магия редко приносит человеку спасение, поскольку она вся основана на силе. Но что такое сила в руках человека, не сумевшего себя осилить? Ответ здесь может быть один: она — зло».
— Понимаешь, Таточка? Хоть ты и не осознаешь, но твои действия — принуждение. Оттого что человек не в силах тебе сопротивляться. Не люблю банальностей, но… мы в ответе за тех, кого приручили. А ты собираешься с ним в Испанию.
— Я еду с Умкой.
— И ты всерьез полагаешь, что он не помчится следом?
— Откуда мне знать, куда он помчится? Он свободный человек с открытой шенгенской визой. — Последние слова были произнесены с явной издевкой. Очевидно, упомянутая виза являлась источником особой протопоповской гордости. — Я не могу запретить ему въезд в Европу.
— Ты можешь — и, с моей точки зрения, должна — порвать с ним. Ты никогда не ответишь на его чувства. Он будет из-за тебя страдать, и я отнюдь не исключаю, что это его убьет. У него опасный возраст. Но скажи мне, девочка, чье положение хуже: убитого или убийцы? Пощади его, Тата! И пожалей себя.
Тата выслушала меня. Улыбнулась. Подумала. Полистала мою книгу. А потом воскликнула:
— Вот же! Посоветуйте Протопопову: «Если за ужином, после нескольких глотков вина, вытереть себе губы цветком, взятым в церкви, и подать этот цветок любимой девушке, он обязательно пробудит в ней ответное чувство любви». — И демонически захохотала.
Я только головой покачал. Что ты с ней будешь делать?
4 Лео
Я с детства упертая. Если чего решу, землю буду грызть, а своего добьюсь. К нам в десятом классе учитель пришел на практику, пацан после института, так он говорил:
— Клеопатра — очень цельная натура. Не желает размениваться на изучение столь бесполезного предмета, как география.
Нравилась я ему.
Так вот, цельная не цельная, а всегда знала, чего хочу, и такого, чтоб метаться, как заяц, в разные стороны, у меня никогда не было. А тут вдруг с ума сошла. Причем ровно тогда, когда вроде бы все, о чем мечтала, получила. Все царства мира, как Ваня говорит. И с ним, кстати, отношения наладила. Он, правда, часто смурной ходил из-за выкрутасов своей Таты, она с ним, видите ли, знаться не желала. Скажите, какая трагедия! Но дергаться перестал, утихомирился. С виду, по крайней мере. Я, понятное дело, обижалась — меня ему, значит, мало? — но выступать особо не выступала. Страдаешь — и страдай, раз без этого не можешь. А что? Бывают такие люди. Да и Зинка меня успокоила. Я ей пожаловалась, а она и говорит:
— Ну, Клепка, ты даешь! Он с ней двадцать пять лет оттрубил! Это ж больше, чем тебе самой. И ты хочешь, чтобы он такой срок на раз-два из головы выкинул? Да кто бы он тогда был? Либо полный маразматик, либо сволочь последняя. А тебе нормальный мужик попался, радуйся. И дай человеку попереживать, не лезь к нему.
Я и не лезла. Но только раньше, когда нашу жизнь вместе представляла, всегда думала: кто-кто, а Ваня точно будет счастлив — со мной ведь. Он ли к этому не стремился. И нате вам, сплошные охи да вздохи и целый список родственников, по которым у нас горе. А я все терпеть должна.
Но когда он не выдержал и признался, что ревнует свою Тату к одной шишке у них на работе, я его чуть не пришибла! Нет, он, конечно, не сказал прямо: «ревную». Завел шарманку: «мне кажется», «в моем представлении», «неправильный шаг», «я за нее переживаю», «ее не ждет ничего хорошего»…
Я слушала-слушала, да как рубану:
— Вот что, мой дорогой! Ты от нее ушел, и теперь ее дела тебя не касаются, забудь. Тоже переживальщик нашелся! Будешь мне про ревность рассказывать, я сама какого-нибудь Протопопова заведу.
Ванька сразу обиделся и мораль мне прочитал: он, мол, беспокоится о судьбе бывшей жены, это я ревную, причем совершенно безосновательно. Ага, блин. А еще мы все дружно китайские императоры.
Видела я, кстати, его соперника. Или как назвать? Сменщик? Дядя, прямо скажем, противноватый, но денежный, за версту видно. На меня — ноль внимания, и рожа блаженная: видать, у них правда роман. Тата оказалась не промах. Все-таки интересно, что мужики в ней находят? Как-никак почти сорок пять и вообще ничего особенного! А вот ведь и у Ваньки не все к ней засохло — я же вижу, что бы он ни врал, — и Протопопов ее надутый совсем крышей подвинулся. Иван рассказывал, как тот за его фифой чуть не двадцать лет увивался без всяких перспектив. Придурок. Нашел бы кого посговорчивей. Впрочем, я-то рада, что не нашел, теперь Тате без надобности Ваню возвращать. Возьмет себе Протопопова и заживет лучше прежнего. В общем, спасибо им обоим великое, мне меньше беспокойства.
В смысле, за Ваню. Но вот за себя и Антоху… такое у нас с ним завертелось, ужас. Сколько я себя ни одергивала, за руки ни привязывала — не могу это разорвать, и конец! Звонков его как самой главной радости стала ждать, а если он вдруг не объявлялся, мало ли что, всяко бывает, то места себе не находила и металась по квартире, как тигрица по клетке. Мы еще переписываться по Интернету начали, разговоров уже не хватало, я даже адрес отдельный специально для его сообщений завела. С утра, когда Ваня уйдет или пока умывается, я быстренько — прыг к компьютеру! Как ребенок под елочку — есть подарок? Если есть — счастье неописуемое, летаю, порхаю и подпрыгиваю. Если нет — хожу чернее тучи, всех ненавижу, искусать и загрызть готова. И заняться ничем не могу, иной раз до вечера, пока звонка или письма не дождусь. Наркоманка сделалась! И сколько ни думаю: нельзя, надо все прекратить, Ваня узнает, скандал выйдет, бросит еще меня — ничего не помогает. А ведь и для Антохи ничего хорошего, одни страдания, — я же за него замуж не хочу.
Хотя он зовет, чуть не каждый день. Первый раз, наверное, через неделю, как я в Москву вернулась. Позвонил и говорит:
— Клепка, у меня к тебе предложение!
— Какое, — спрашиваю, — деловое?
— Очень! Выходи за меня замуж!
Я только рот открыла. Здрасьте, думаю, не хватало. Сейчас откажу, а он звонить перестанет. Что для меня к тому времени уже был кошмар. Я ведь, маньячка последняя, наш поцелуй на вокзале снова, снова и снова вспоминала, по сто раз на день, и млела вдобавок как дурочка. Но даже думать не хотела, что все это значит.
Растерялась тогда, не сразу нашлась что ответить.
— Давно сочинил? — спрашиваю.
— Давно, — отвечает. — Как увидел тебя в лесу, так и понял: вот она, моя будущая жена.
— Скажите пожалуйста, какой провидец.
— Провидец не провидец, а некоторые вещи знаю. Никуда тебе от меня, Клепка, не деться. Моя будешь.
Меня в жар бросило, мурашки по телу побежали, голова закружилась. Хотелось кричать: «Говори, говори еще!» Но нельзя же.
— Какой ты, Тошка, самоуверенный.
Спокойно так сказала, а саму колотун бьет, руки-ноги ходуном ходят.
— Вовсе нет. Просто знаешь, как говорят: мы с тобой созданы друг для друга. Поэтому поженимся, будем жить-поживать, добра наживать и умрем в один день.
— И много мы добра наживем?
— Да уж не меньше, чем у твоего директора. А если и меньше, что за беда? Была бы любовь, остальное приложится.
— Хорошо, а где мы будем жить?
— А где хочешь! Могу я в Москву перебраться, как-нибудь устроюсь, а лучше ты домой возвращайся. Москва — сволочной город.
— С чего это «сволочной»?
— С того, что, когда мы там встречались, ты была как ежик, на которого сразу десять лис нападает, и по виду старше на десять лет. Нет, не по виду… держалась так. А дома ты другая, девчонка совсем, заводная, веселая… любимая. По-моему, Москва тебя заедает. Вот что в ней хорошего? Можешь мне объяснить? Только не говори, что музеи и театры.
Вообще-то я как раз хотела сказать: культурная жизнь, но, по-честному, музеи и театры мне до лампочки. Магазины, пожалуй, да. Хотя, по сути, и они теперь везде одинаковые. А так квартира, работа, телевизор. Если не знать, что ты в Москве, то и не догадаешься. Подумала я об этом, и так вдруг домой захотелось — не передать! Но я наваждение отогнала. Нет уж, думаю, к черту. Ты, Антоха, конечно, гипнотизер, но меня тебе не заморочить. Даром я, что ли, за свое нынешнее положение воевала? Осталось только Ваню с женой развести, и дело в шляпе, а я вдруг возьму и все брошу?
Обидно, что Ваня сам меня замуж не зовет. Наоборот, всячески этой темы избегает, а когда его к стенке припрешь, выскальзывает как угорь. Сразу делает похоронное лицо:
— Я пока не могу травмировать Тату подобными разговорами. У нее очень слабая нервная система, а мы и так причинили ей много боли. Давай немного подождем.
А еще лучше вместе порыдаем, давненько мы этого не делали. Ой, ну их на фиг!
Короче, влипла я по уши и даже не поняла, когда и как. Вот оглянешься назад и не скажешь: досюда Тошка мне был по барабану, а тут я о нем думать начала. Незаметно под кожу влез. Но теперь-то мне без него никуда, а что делать? Свихнуться можно. Пробовала предложить: перебирайся в Москву, хоть ближе друг к другу будем. Он и слушать не захотел.
— Просто так, — говорит, — никуда перебираться не стану, мне и здесь хорошо. У меня своя жизнь, друзья, работа. Вот если ты за меня замуж согласишься пойти, а с Москвой расставаться не захочешь, тогда — пожалуйста, я готов. Не думай, я быстро устроюсь, все-все у тебя будет, что только пожелаешь, я по одному твоему слову землю переверну. Но делить тебя с твоим Ваней не собираюсь, даже не надейся.
Мне от его слов и тоскливо, и сладко; наговоримся, а потом я сижу, смеюсь и слезами заливаюсь. Такая любовь пропадает! Почему Ваня меня так не любит? То есть любит, но не так? Столько с ним сложностей, сплошные шипы и колючки. А с Антохой, если б не по телефону, и говорить бы ничего не пришлось. Все с полуслова понимает, мысли читает на расстоянии.
И вот однажды он меня в очередной раз уговаривал замуж идти, а я твердила:
— Думать забудь, я для себя давно все решила. — Но сама мечтала, как все брошу и к Тошке уеду.
И вдруг он осекся на полуслове, замолчал, а потом совсем другим голосом, тихо-тихо, сказал:
— Люблю тебя, глупую. И ты меня любишь, я знаю. И чего тебе сейчас хочется, тоже знаю. Вот и давай, решайся!
Меня прямо холодом обдало. Чувствую: еще чуть-чуть — и побегу на вокзал за билетом. И что тогда будет?
В тот же день села и написала письмо. Дескать, дорогой Антоша, то, что у меня есть, бросать не хочу, мозги тебе пудрить — тоже, мне с тобой очень хорошо, но замуж за тебя не пойду. Прощай.
Два часа отправить не решалась. Протяну руку к мыши и отдерну — сердце кровью обливается. Как я, думаю, без него? Чем жить буду?
Когда отправила, ревела до самой ночи. Навзрыд. Ванька с работы пришел, перепугался:
— Что с тобой? Что с тобой?
Я его отпихиваю:
— Ничего, настроение плохое. Уйди!
И если б правда ушел, нисколечко бы не пожалела. Сдался он мне.
Прошла неделя. Я чуточку успокоилась, хотя первые дни то и дело в почту заглядывала и телефон из рук не выпускала. Антоха не писал и не звонил. Мне даже обидно стало: вот, значит, какая твоя любовь? Дунешь — и нет ее? Потом решила: ну и пожалуйста, и прекрасно, и замечательно. Хороша б я была, если бы поддалась на его уговоры и все бросила. Так хоть при своих осталась. А камень из груди мы куда-нибудь выкинем. Когда-нибудь.
Прошло десять дней. Я себя выдрессировала не проверять почту, уже целых три дня держалась. Ваня собрался в командировку. Я расстроилась: в одиночку труднее с собой справляться. Накупила фильмов, обложилась журналами. Держись, думаю, Клепка. Но пасаран.
Села вечером, диск поставила, пялюсь в экран. Толком ничего не понимаю, но все же картинки, звуки. Отвлекает.
Вдруг звонок. Я, вообще-то, сразу поняла: он. Беру трясущейся рукой трубку, а сказать ничего не могу, голос пропал.
— Клепка?
— Да…
— Ты сейчас что делаешь?
— Кино смотрю.
— Спуститься можешь?
— Куда?
— Вниз, к подъезду, куда еще?
— Ты что, приехал? — А у самой уже слезы.
— Не реви, дурочка, выходи лучше.
Убейте, не помню, как из квартиры вылетела, закрыла дверь или нет. Ничего не помню, кроме Антохи. Стоит у подъезда с васильком в руках. Где взял-то, непонятно.
— Держи, — говорит, — тебе.
Я плачу, смеюсь, губы дрожат, слова вымолвить не в состоянии.
Тошка меня к себе притянул, прижал тесно-тесно. Что со мной сделалось — не передать! Так бы и стояла всю жизнь.
А он в ухо шепчет:
— Вот, решил приехать, поговорить. По телефону ты глупая, а письма писать вообще не умеешь.
Я ему в грудь, не поднимая глаз:
— Пойдем ко мне наверх. Ваня в командировке.
— Эх, — отвечает, — оказывается, мог бы не приезжать. Ты и без телефона глупая. Я же сказал: красть и делить тебя ни с кем не буду. Я не вор. Не дошло еще?
Я молчу.
— Просто мне захотелось все это тебе в глаза сказать. Ну и поцеловать еще разок. Проверить: на самом деле ты существуешь или привиделась тогда, у костра.
— Проверил? — Я всхлипнула и нос об его рубашку вытерла.
Он меня по голове погладил, ладонь на затылок положил, ласково на шею надавил, чтоб я лицо подняла, — и поцеловал, так, что сердце зашлось.
И вот как в книгах пишут: не знаю, сколько прошло, мгновение или вечность. Я будто улетела куда-то. А когда мы друг от друга оторвались, Тошка сказал:
— Все, иди. Не могу больше, с ума сойду. Давай, Клепка, думай и решайся. Все равно другого выхода нет. Сама видишь.
Я от него отклеиться не в состоянии. Но он сам к двери меня подтолкнул:
— Иди. Я позвоню.
Круто развернулся и зашагал в темноту.
Я стою как парализованная, понимаю, что звать, спорить бесполезно, а глаза от Антохи не отрываются. Его уж не видно, а я все стою и стою.
И почему-то вдруг вспомнила одну вещь. Когда Иван метался, уходить ко мне или нет, Тата ему сказала:
— Она все равно скоро влюбится в мальчика своего возраста. Молодое тянется к молодому.
Вот ведь дура, дура, а понимает.
5 Умка
Прямо не знаю, откуда и подступиться. От Адама? Допустим.
Вначале Бог подарил нам Грансоль, и мы сказали, что это хорошо.
И хорошо не просто, а феноменально, фантастически, феерически! Честное слово, не ожидала, что так будет. За последние пять лет Татка мне все уши прожужжала про это место — они с Иваном его случайно открыли, и уж на что путешественники, а на четыре года залипли. Съездят, целый год вспоминают со словами, что назад, конечно, безумно хочется, но есть и другие страны, а потом, ближе к сентябрю, сообщают, что опять в Грансоль собрались. А то еще там не досмотрели и сям не побывали.
Я на все восторженные вопли тупо отмалчивалась. Насчет заграницы Татку элементарно с резьбы срывает, поэтому к ее рассказам я относилась скептически. Хотя она всегда говорила: сама бы увидела, сразу бы поняла.
Но вот автобус подвез нас к гостинице, мы вышли — и оно случилось. Оно — в смысле счастье. Мгновенно как-то нахлынуло, захлестнуло с головой. Любовь нечаянно нагрянет… и все такое прочее. Довольно странно влюбиться в отель, правда? А я влюбилась.
Через неделю, когда к нам присоединился Протопопов, он первым делом сказал, что обычно очень привередлив к условиям, а здесь не замечает ни старой мебели, ни мелких дырочек в шторах, ничего. Даже дверь в ванную, измазанная вонючим столярным клеем, его не смущает. Ну, дверь — это уж ему особо повезло, нас с Таткой судьба миловала.
Я его слушала и думала: вечно ты, милый, не о том. При чем тут мебель и дырочки, когда все ясно с первого взгляда? Смотришь и понимаешь — рай на земле. А почему — черт его знает. Казалось бы, ничего особенного: простой придорожный отель, белый, типично средиземноморский, три звезды. Но только он… как бы это выразить… такой любимый старый халат, в котором мгновенно чувствуешь себя дома. Как, что, отчего — понятия не имею. Безалаберный, обшарпанный уют? Или, как принято говорить, «комфортная атмосфера»? Нет, слишком просто. Скорее эманация покоя, густого, физически ощутимого. Покоя — и радости.
Мы с Таткой, как туда попали, сразу вернулись лет этак на тридцать пять назад. Мы непрерывно смеялись. Даже не смеялись, а глупо, неудержимо хихикали, умирали от хохота, давились им, икали, пищали, роняли головы на руки, падали на пол, сползали под стол. Мы всерьез боялись, что нас выведут из гостиничного ресторана, но заставить вести себя прилично не могли. Мы обе завели глупый флирт — каждая со своим метрдотелем. У Татки еще со времен первого приезда имелся поклонник, немолодой хромоногий красавец Жузеп, а мне достался смешной увалень Серхио. Наше глубоко детсадовское кокетство заключалось в том, чтобы долго смотреть куда угодно, только не на свой предмет, а потом неожиданно поймать его заинтересованный взгляд — и прыснуть со смеху: йес-с!
Нам было сладостно, всегда и везде: в номере — мы ходили друг к другу в гости пить чай, слушать музыку и болтать глупости, — на пляже и набережной, в море, у входа в отель под двумя высокими эвкалиптами, где мы собирали душистые липкие шишки, в магазинах и кафе на главной грансольской улочке, и на его расползающихся по горам окраинах, и в идущей вдоль побережья электричке. Про Барселону я уж молчу.
Татка, похоже, начисто забыла о Москве, а я не стремилась напоминать: боялась спугнуть то особенное, что успело образоваться. Поэтому приезда Протопопова ждала с опаской, да и Татка, по-моему, тоже. Еще испортит все своей взрослостью. Правда, вслух мы сходились на том, что «это, в общем-то, даже хорошо». Он возьмет машину, повозит нас по всяким местам.
В нашем отеле левое крыло, где ресторан, доверху увито плющом, перед ним бассейн, вокруг столики. Все это отгорожено от шоссе невысокой стеночкой. Там, у гипсовой нимфы с опрокинутым кувшином, Татка уселась дожидаться Протопопова. Я отправилась купаться и по дороге заметила Жузепа. Он с глубоко равнодушным видом перемещался на позицию, стратегически удобную для наблюдения за моей подругой. Та, понятное дело, старательно витала в облаках. Я посмотрела на них, усмехнулась и стала спускаться на пляж по длинной каменной лестнице. Днем она страшно раскаляется на солнце, идти босиком практически невозможно, непроизвольно поджимались пальцы, а из-за высоких перил кажется, что пропихиваешься сквозь трубу с горячим воздухом. Очень люблю жару. И запах нагретого камня.
Протопоповский рейс задержался. Он приехал, как раз когда я возвращалась с моря, и мне удалось незаметно пронаблюдать их встречу с Таткой.
То еще было кино. Заграничное. Рассказываю по кадрам.
Татка сидит, углубившись в книжку. Жузеп вьется неподалеку, проходит рядом, совсем близко. На шоссе внезапно возникает серебристая молния. Крутой вираж — взззззз! — и дорогущий автомобиль, соскочив с дороги, лихо вписывается под оливковые деревья у входа. Татка искренне ничего не замечает. Из машины выходит пружинистый, весь из себя нерусский Протопопов. Выверенным движением захлопывает дверцу. Надменно оглядывается по сторонам. Видит Татку. Подбирается сзади, наклоняется, по-хозяйски обнимает за плечи, приникает губами к щеке. Татка слегка поворачивает голову, нежно улыбается, встает. Быстрый, семейный поцелуй в губы. Оба, оживленно разговаривая, идут к машине, достают из багажника обалденно стильный багаж и, не замечая окружающего, в том числе страдальца Жузепа, направляются к стеклянным дверям отеля.
Одним словом, явление героя. Зажмите анус.
Впрочем, должна признать, что Протопопов картинничал на удивление недолго. Уже к вечеру он заразился нашим, по его выражению, «детским идиотизмом» и за ужином благополучно давился спаржей и падал со стула от хохота. Выходит, зря боялись. Он сделался такое же дитя природы, как и мы с Таткой, перестал важничать и почти забыл о своих деньгах, а когда вспоминал, то со вкусом их тратил. Единственное, что он себе позволял, — чуть дольше, чем нужно, зависать рукой над бумажником, выбирая кредитку. Типа, все видели? Еще не все? Ну посмотрите.
В Москве это коробило бы, а здесь легко прощалось: фигня. Да и как не любить друг друга, когда вместе купаешься в удовольствиях?
За неделю мы изрядно помотались по окрестностям Барселоны, и с нами непрерывно случались мимолетные чудеса, за которые наверняка надо благодарить Татку и Протопопова, хотя от этих двоих, честно говоря, тошнило. Стоило им оказаться рядом, и воздух вокруг уплотнялся, начинал гудеть и вибрировать, как высоковольтные провода. Утомляет, если со стороны. Протопопов никого, кроме Татки, не замечал — такой подсолнух, — однако, если к нему обратиться, довольно успешно имитировал беседу.
В общем, подозреваю, что подарки судьбы предназначались нашим любовничкам. А может, одному Протопопову. На отдыхе я увидела его по-другому и пожалела: человеку дали благополучие, а он, чтобы порадоваться жизни, должен свалить из дома за тысячи километров. Да и то без навыка плохо получается. Как будто его там заставляли сидеть, скрючившись над сундуками, а тут он наконец встал, собрался расправить плечи, вдохнуть полной грудью: сейчас, сейчас… только вспомню, как это делается…
Хоть к аппарату подключай.
Да, так о чудесах. Однажды вечером, уже измученные, мы приползли к поющим фонтанам. Честно отсмотрели представление; музыка стихла, свет погас, народ начал расходиться. Мы признались друг другу, что ждали большего, но тоже пошли вниз, к «фонтану-солисту». За два шага от него Татка жалобно сказала:
— Неужели мы так и уйдем без Меркьюри?
В тот же миг фонтан вспыхнул всеми цветами радуги и грянула знаменитая «Барселона», — дескать, просили? Пожалуйста! Нас обдало брызгами. Мы изумленно уставились друг на друга и рассмеялись: чем не магия? Усталость как рукой сняло.
В другой раз, гуляя по необыкновенному городу Жироне, мы поднялись по очень высокой лестнице и вышли на площадь перед кафедральным собором. Словно по волшебству, площадь опустела. Солнце стояло в зените, прямо над головой. Мы разлеглись на каменной скамье-парапете. Мимо нас проплывали облака. Было жарко, тихо, таинственно, и с неба лилось что-то такое особенное… пресловутая божья благодать? Создавалась полная иллюзия, что мы — первые люди на Земле. Говорить не хотелось. Потом Татка спросила что-то у Протопопова.
— Ничего не знаю, меня нет, я эмигрировал, — томно отозвался он.
Неизвестно откуда появились музыканты, гитарист и скрипач, заиграли что-то удивительно проникновенное. При первой же паузе со шпиля собора донеслась мелодичная птичья трель. Скрипач ответил похожей музыкальной фразой. Птичка спела еще, чуть по-другому. Скрипач повторил. Так они переговаривались очень долго, мы слушали как завороженные, а когда состязание кончилось, встали: ну уж на сегодня запас чудес точно исчерпан. Пора было идти, нас еще ждала обширная программа. Но музыканты, явно не желая нас отпускать, заиграли снова, и Протопопов, распахнув глаза, пробормотал:
— Моя любимая композиция! Я ее часто на гитаре играю.
Естественно, мы остались.
Конечно, в более прозаическую минуту я бы сказала: совпадение, но там это казалось стопроцентным, безоговорочным волшебством. Мы с ним сталкивались повсюду.
Событий было столько, что я не успевала опомниться. Мы отрывались по полной программе и, кстати, за пару-тройку дней с Протопоповым успели подрасти лет до пятнадцати-шестнадцати. Возвращаясь по ночам домой, мы до упора опускали окна машины и врубали на полную громкость безобразную российскую попсу. Нам это было по кайфу.
Еще в Москве мы с Таткой договорились обязательно съездить в Монсеррат, бенедиктинский горный монастырь. Протопопов не возражал и в дороге был почти неестественно весел. В самом монастыре он не сводил с Татки горящего взгляда, а за руку Черной Мадонны, исполняющей желания, схватился так истово, что у меня мороз пробежал по коже. Понятно, конечно, чего он просил, но… бешеные страсти до добра не доводят.
Вечером, в ресторане, между ним и Таткой разыгралась странная сцена. После нелегкого путешествия мы решили заказать вина и долго выбирали его по карте, пока, наконец, Протопопов не ткнул пальцем в самое дорогое. Потом мы со вкусом ели, пили, шутили и смеялись, а перед десертом Протопопов, осушив бокал, достал неизвестно откуда яркий цветок — точно такие, помнится, стояли в вазе у алтаря, — поднес к лицу и не то понюхал, не то мазнул им по губам. Помедлив секунду, протянул о чем-то задумавшейся Татке. Она рассеянно взяла цветок, поднесла к носу — и удивленно вскинула глаза на Протопопова.
Он молчал и смотрел на нее — тяжело, дерзко, с вызовом.
Татка, не говоря ни слова, швырнула ему цветок через стол.
— Все равно держала в руках, — мефистофельски усмехнулся Протопопов.
Я только рот открыла: что это с ним?
Татка резко встала из-за стола и пошла прочь. Протопопов проводил ее невозмутимым взглядом и заговорщицки посмотрел на меня:
— Кофе?
Он впервые так вел себя с Таткой, по крайней мере на моей памяти, и мне это не понравилось. Я несколько раз пыталась узнать, в чем дело, но Татка лишь отмахивалась: чушь, ерунда. Но что-то в ней с тех пор изменилось. Она будто снова повзрослела.
Время летело быстро, Протопопов собрался уезжать. Вечером они с Таткой вдвоем ушли в самое приятное местное кафе и просидели там до полуночи. Когда вернулись, Протопопов зашел попрощаться со мной, сбегал в номер за вещами, сел в машину и уехал в аэропорт. Утром Татка рассказала, что он хочет взять на работе длительный отпуск, снять в Грансоле квартиру или небольшой домик и пожить месяца три-четыре, если она согласна ехать с ним и Никсоном.
— А ты согласна?
Татка глубоко вздохнула.
— Ты же знаешь — о таком я всегда мечтала. Тем более с собакой. Это предложение, от которого я почти не способна отказаться. По сути, он меня покупает, а я готова продаться. Короче, Умка, не спрашивай.
М-да. Именно что покупает, и цену предлагает достойную, вот что страшно. Но все бы ничего — в конце концов, желание швырять всякое разное под ноги любимой женщины если не естественно, то объяснимо, — когда б не пара его выступлений последнего времени.
Первое прозвучало после похода по магазинам. Мы решили сделать перерыв на кофе и устроились в уличном кафе. Мы с Таткой хором сетовали на то, что не можем найти духи, которые бы нам понравились.
— Давай я тебе сам куплю! — выкрикнул, глядя на Татку, Протопопов, только что хватанувший коньяку. — На свой вкус. Ведь главное, чтобы они нравились мне.
Татка подняла бровь. Молча. Ну а я так не обладаю подобной выдержкой.
— Это с какой же стати?
— С такой! Женщина душится, чтобы нравиться своему мужчине.
— Неужели? А если все-таки для собственного удовольствия?
— Ой, давай без феминистских штучек! — раздраженно бросил Протопопов.
Запомним, подумала я и больше спорить не стала. А разгорячившийся Протопопов продолжал приставать к Татке с духами, пока она его не осадила — довольно круто. Но он и после этого не успокоился.
— Тогда давай я куплю тебе что-нибудь другое!
— Жаждешь избавиться от денег? — ледяным тоном поинтересовалась Татка.
На месте Протопопова я бы сползла под стол, а он ничего, вполне себе смело таращил на нее глаза:
— Да!
— И сколько готов ради меня выкинуть?
— Сколько угодно!
— Тогда вот урна, — показала Татка. — Швыряй все свои кредитные карточки.
Протопопов сделал вид, что очарован шуткой, но внутренне, совершенно очевидно, взбеленился. Я еще подумала: зря она с ним так. Не простит, отыграется. Голову откусит.
Это первый эпизод.
А второй, думаю, многие сочли бы незначительным, но для меня он оказался самым важным.
Мы втроем решили попить чаю у меня в номере, а пока накрывали на стол, с улицы залетела какая-то симпатичная мошка. Она мельтешила перед глазами, мы с Таткой пытались ее рассмотреть, но вскоре забыли. А когда расселись, Протопопов с гордостью объявил, что пришлепнул надоедливую тварь.
Я — известная гринписовка, поэтому искренне возмутилась. Мошка была не кусачая и очень милая.
— Зачем зря убивать живое существо? Мог бы просто выгнать в окно.
— Нечего вторгаться в наше жизненное пространство, — хмыкнул Протопопов. — А если серьезно, эти дряни разносят инфекцию, угрожают моему здоровью, а значит, не имеют права на существование рядом со мной.
— Ошибаешься. Это мы вторглись в их пространство, да еще распоряжаемся. А им наверняка неприятно наше присутствие.
Татка не принимала участия в споре. Заскучав, она легла на мою кровать и принялась листать книжку. Постепенно Протопопов перестал ее замечать и сфокусировался на мне. Чем дальше, тем больше его глаза стекленели от злобы.
Впиваясь в меня взглядом, он металлически отчеканил:
— Они нас убить не могут, по крайней мере вот так запросто, а я могу. И убиваю. По праву сильного. Дарвин.
— А ты представь, что ты крошечный и беспомощный. Вдруг появляется какая-то громадина и сметает тебя с лица земли. Вообрази, что бы ты чувствовал.
— Насекомые ничего не чувствуют.
— Откуда ты знаешь? Есть неопровержимые доказательства? Интересно, откуда? Они — живые существа. Почему ты считаешь возможным истреблять их ради собственной блажи? Возомнил себя творцом?
— В каком-то смысле. Я — человек. И создаю для себя удобное пространство.
— Значит, если в этом пространстве случайно окажется кто-то, нарушающий твои удобства, ты его убьешь? Или все же потерпишь — при условии, что у него тоже есть право там находиться? Ведь пространство не твое личное.
— Я смету с пути все, что мне будет мешать. Решительно и не задумываясь. Все — и всех.
Я поняла намек. Надо было видеть эту зверскую рожу.
Стало ясно, что дальше надо либо выкидывать его из моего, заметим, номера — либо срочно гасить конфликт. Сама бы я выбрала первый вариант, но ради Татки смирилась со вторым.
И хотя спор наш был, в сущности, схоластическим — я тоже могу при случае убить комара, — мне тем не менее стало тревожно за Татку.
Кстати, после отъезда Протопопова она все оставшиеся вечера провела у моря с Жузепом. Но было у них что-нибудь или не было — не говорила.
А я не спрашивала.
6 Иван
Скажи кому-нибудь: «Живу как в сказке» — и тебе немедленно позавидуют. А что сказки бывают страшные, и в голову не придет вспомнить.
Что ж, кому охота, завидуйте: именно в сказке я последнее время и обретаюсь. Налево пойдешь — любви не найдешь, направо пойдешь — с тоски сдохнешь, прямо пойдешь — душу потеряешь. А назад и вовсе дорога заказана.
В самом деле, впечатление такое, будто плутаю по заколдованному лесу и, чтобы к родной деревне выбраться, должен, в лучших фольклорных традициях, исполнить нечто несусветное. Пойти туда, не знаю куда, раздобыть то, не знаю что, сносить семь пар железных башмаков, изглодать семь железных хлебов, прокатиться на сером волке… или что там еще предлагается. Знать бы, что надо, я бы наизнанку вывернулся, оземь грянулся, в котел с кипящей смолой прыгнул, только бы стать как прежде — нормальным. Когда все в одном общем теле собрано: сердце, мысли, душа и прочее мясо. А я… как в стихах: был человек не воин, был человек раздвоен, был человек расстроен, расчетверен, распят…
Душа-то моя с Туськой осталась. Сколько ни притворялся, что это не так, все без толку. И однажды пришлось пойти с собой, раздвоенным (как минимум; хотя мне самое место в телепередаче для шизофреников «Мои семь я»), на откровенность, мол, что, Ваня, душа не на месте? Ой, не на месте, Ваня, не на месте. И как же нам, Вань, теперь быть? Ой, не знаю, Ваня, не знаю. Кто бы подсказал.
Главное, если б еще я, пожив несколько месяцев с Лео, осознал, что по-прежнему люблю жену, — так ведь нет же! Никаких особо сильных чувств к ней я больше не испытывал. Привязанность — да. Жалость, нежность, потребность заботиться. Интерес. Страшно хотелось поговорить, узнать, что происходит, что она думает по тому или иному поводу. Посоветоваться, пошутить. Вот, наверное, в чем дело — я остался без товарища. Организм по привычке продолжал вырабатывать дружбу — как желудочный сок, — а девать ее было некуда. Хотя людей вокруг, которых обычно называют друзьями, завелось навалом: школьные приятели, коллеги, случайные знакомцы из других городов, все, на кого раньше не находилось времени. Но ощущения товарищества — которое «сильнее счастья, больше чем любовь» — ни с кем не возникало. Такой детской, максималистской убежденности в том, что вот с этим человеком мы — одной крови. «Один за всех, и все за одного», вместе, рядом, плечом к плечу. Никогда друг друга не предадим. Сам погибай, а товарища выручай. Даже в беде познаваться не обязательно — и без проверок все ясно.
А ведь с Таткой у нас так и было. Причем казалось настолько естественным и неотъемлемым, что я — честное слово! — не думал, что могу этого лишиться, когда уйду. Вот ведь какая незадача. А теперь, что ни делай, как ни объясняйся, обратно ничего не вернешь. Я — предатель, не только в ее глазах, но и в собственных, вот что самое неприятное. Хуже того: сколько назад ни оглядываюсь, не понимаю, в какой момент это предательство совершил. Вроде бы, наоборот, поступил честно, не захотел больше обманывать. И пусть сейчас я уже не уверен, что все правильно, — неважно. На тот момент я не мог совладать со своей страстью к Лео, никакая совесть или там долг меня бы не удержали. Оставаться было подло. Почему же меня по-прежнему гложет совесть? В чем я ошибся? Был ли шанс уйти от Таты так, чтобы она продолжала считать меня человеком? Голова трещала от этих вопросов. Как надо было поступить? Честно — с самого начала? Но я вначале не знал, что у меня с Лео все так серьезно. Что же мне, докладывать Тате про все свои походы на сторону, которые НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛИ? Кому нужна эта честность? Кстати, она сама однажды сказала про кого-то из знакомых, что подобная откровенность — по сути, перекладывание ответственности на других: я совесть облегчил, а вы уж как хотите. Тата считала, что в некоторых ситуациях честность не только не полезна, но вредна, опасна и может причинить боль окружающим, а тогда лучше, чтобы человек сам нес свой грех и раскаивался про себя. Невмоготу? Иди в церковь и отмаливай, говорила Тата, Бог добрый, простит. В общем, я считаю, правильно, что не признался с самого начала. Потом ждал, что все рассосется, а дальше такое завертелось, что было уже не до честности — живым бы остаться.
Может, если б не христианская мораль, если б в обществе иначе относились к смене партнеров по браку… хотя что за ерунда? При чем тут христианство, да и мораль… Я тут случайно узнал, что и у мусульман, когда мужчина берет новую жену, это большая трагедия и страсти разгораются не меньше, чем у нас при разводе. Похоже, дело не в социальных установках, а в животных инстинктах, заставляющих охранять свою собственность, бороться за нее. Или… нет, я совершенно запутался.
И уж совсем не могу понять, почему испытал такой ужас, когда осознал, что разлюбил Тату. Точнее, не разлюбил, люблю, но уже не всем существом и вообще по-другому. Почему это так страшно? Почему так стыдно перед тем, у кого ты свою любовь отобрал? Ты же не нарочно, ты не хотел, не собирался. ОНО САМО!!! Убежало, улетучилось, просочилось сквозь пальцы. А ты и не заметил и все сжимаешь кулак, боишься выпустить счастье, а потом случайно раскрываешь ладонь — а там пусто. Не вернешь. Если бы Татка согласилась меня выслушать, я бы объяснил, что мне, когда я это осознал, было в сто раз хуже, чем ей! Если б я нашел нужные слова, она поняла бы меня и простила. Если бы…
Но самое парадоксальное во всей истории то, что чисто физиологическое влечение к ней во мне сохранилось! Не говоря уж про ревность. Терзала меня, как никогда. Пока вместе жили, ничего похожего со мной не было. А тут ни минуты покоя, да и что удивительного, когда вся работа гудит о том, что наш замечательный Протопопов завел роман с молодой девушкой. Так все решили, глядя, как он порхает. Хорошо еще, про Татку не пронюхали.
Я по натуре не очень ревнивый, а тут понял, что это самое кошмарное чувство на свете и, пожалуй, способно толкнуть человека на преступление. Казалось бы, радуйся, что Тата не одинока. Нет, у меня только одно желание — пришибить Протопопова. Как представлю его со своей женой, чувствую — сейчас разорвусь от негодования. «Сволочь, гадюка, гнида!» — крутится в голове. Я пытался с собой бороться — не получалось. Оставалась надежда, что слухи — всего лишь слухи. Или что роман действительно с молодой девушкой — чем он, в конце концов, хуже меня по части седины в бороду? Но когда сын сообщил, что «мама уехала отдыхать», Протопопов тоже ушел в отпуск. Прикажете считать это совпадением?
А на днях я проходил мимо его кабинета, и мне показалось, что он кому-то диктует наш адрес. Я против воли остановился, прислушался. Протопопов заказывал для Таты цветы! Собственно, это ничего не доказывало, но у меня в душе все оборвалось, кровь бросилась в голову. А с другой стороны, я гордился: вот какая у меня жена, какие вокруг нее страсти. Поди себя разбери. Псих ненормальный. На каждое чувство — восемь подчувств, и все крайне острые и противоречивые. Это к одной только Тате. И еще столько же — к Лео, с точно такими же метаниями и переживаниями.
Короче, если что, суд бы меня оправдал.
А Лео и в самом деле давала поводы для беспокойства. Стала нервная, раздражительная, дома не находила себе места, вдруг начинала плакать, а иногда прямо-таки нарывалась на скандал. Расшвыривала вещи, хлопала дверью, куда-то убегала. Я сначала удерживал, догонял, уламывал, уговаривал, потом надоело, перестал. Понял, что никуда не денется, побегает-побегает и вернется шелковая. Будет ластиться, в постели вытворять всякое необыкновенное. Так-то, в спокойные периоды, у нас уже страсти поутихли, случалось и по-тихому, по-семейному. Хотя если какое из моих чувств к ней и оставалось неизменным, так это влечение. Что, безусловно, меня к ней приклеивало.
Я сначала думал: плохой период, переломный, вроде подросткового. Все-таки молодая девчонка, а жизнь складывается не по-человечески, приходится приноравливаться к пожилому — чего скрывать — дядьке, который к тому же отказывается жениться. Мне ведь при мысли о браке прямо-таки дурно становилось: с ней — и на всю оставшуюся жизнь? Детей не хотел, общения с ее родителями тоже. Нехорошо, конечно, а что делать? Тут уж точно лучше честно. Но когда Лео с этим ко мне подступалась, я постыдно прикрывался Татой. Мол, сам мечтаю, но и о ней надо подумать, пусть немного в себя придет.
Да, трус. Согласен. Не отрицаю.
Правда, последнее время разговоров о свадьбе не было. Больше о том, что ей хочется съездить к родителям. Причем я говорю: поезжай, она начинает собираться, а через пару дней — бац, передумала. И так несколько раз. Я сначала внимания не обращал, но потом призадумался. Все эти бесконечные перемены настроения… Может, у нее кто появился? В грудь вонзился еще один нож. Судьба явно решила устроить мне испытание на прочность.
Как ни плохо мне было, я понял, что не хочу ничего выяснять. Устал от переживаний и юных страстей. Все чаще и чаще мне хотелось домой — в символическом смысле этого слова. Чтобы хоть немного с полным стариковским правом посидеть в кресле под пледом и с детективом. А у ног пусть копошатся внуки. А жена (даже не Тата, вообще абстрактная добрая жена) пусть подает чай с плюшками и конфетами. Предаваясь мечтам, я блаженно улыбался, и это были единственные минуты отдохновения. Очень скоро реальность возвращалась и мной опять овладевали ревность, подозрительность, стыд, раскаяние, безнадежность. Если я что и забыл в этом коктейле, то лучше не вспоминать. Я уже не рассчитывал прийти к миру с самим собой. И это угнетало больше всего.
При всем том я удачно скрывал свои эмоции и производил на окружающих вполне нормальное впечатление. Другое дело, что сам смотрел на все как из аквариума.
Самыми нормальными и естественными были отношения с сыном. В отличие от Таты он хотя бы со мной разговаривал, рассказывал об институте, правда, когда речь заходила о семейных делах, мгновенно замыкался. Но я быстро научился обходить скользкие места, и наше общение, если внимательно не вглядываться, приблизительно напоминало человеческое. С отцом дело обстояло сложнее. Он ведь человек, как это ни смешно, мягкий, но несгибаемый. То есть добрый, деликатный, неконфликтный, но настолько жестких устоев, что в вопросах нравственности полутонов не видит.
Сначала казалось, что мне никогда не вымолить его прощения, а потому не стоит и пытаться; я вроде даже смирился с нашим разрывом. Но потом, когда начал приходить в себя, мне стало тяжело переносить такое положение вещей, я решился позвонить и объясниться.
— Папа, — сказал я, — я прекрасно знаю, что ты обо мне думаешь и как ты любишь Тату. Поверь, я ее тоже люблю, потому и ушел: не мог больше обманывать. Может, ты хотя бы попытаешься меня понять? И простить. Нельзя же всю жизнь не общаться.
— Знаешь, Иван, — ответил отец, — я не Господь Бог и не вправе ни судить тебя, ни прощать. Но все человеческое во мне противится тому, что ты сделал. С логической точки зрения твой поступок малообъясним. Казалось бы, любовь — такое светлое чувство. Но… прости, это всего лишь мое личное впечатление… ты не похож на истинно влюбленного. Любовь довольно жестока в своей непреодолимости. Встретив настоящую любовь, человек, как правило, пугается — даже в самой простой ситуации. Он вдруг понимает, что больше себе не принадлежит, что теперь его жизнь полностью зависит от другого человека. Он чувствует, что обречен на этого человека — пусть и при отсутствии взаимности, просто должен быть с ним, и все. Независимо от обстоятельств. Люди многое готовы преодолеть ради любви и многим пожертвовать — в том числе душевным комфортом. Особенно если есть третья, страдающая сторона, — жена ли, муж, родители, дети, прежние возлюбленные. Но с обстоятельствами куда легче примириться, когда речь идет о настоящем чувстве: что поделаешь, форс-мажор, стихийное бедствие. Однако в твоем случае я не вижу этой роковой обреченности. По-моему, если б Тата ничего не узнала, ты пометался бы некоторое время и успокоился. Получается, ты бессмысленно разрушил нечто драгоценное, и мне действительно трудно тебя простить. Причем, похоже, ты тешишь себя иллюзией, что все еще можно поправить. Думаю, у тебя уже появилось такое желание, потому ты и решился на разговор со мной.
— Нет! — более пылко, чем нужно, возразил я. — Ничего подобного! Я сделал выбор и больше метаться не стану.
— Не спорь. Ты сам себя не понимаешь. Позволь мне быть провидцем. Не все же лавры должны достаться вашей бабе Нюре. Представляю, как легко ей быть ясновидящей: ведь «что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». А уж такие ситуации, как ваша… Ты непременно захочешь вернуться. Не к Тате — к себе. Ты придешь к ней за своим настоящим лицом. Но учти: и она не та, и ты не тот. Все уже непоправимо изменилось. Льдина между вами треснула, и если вначале каждый мог легко перепрыгнуть к другому, то теперь расстояние непреодолимо велико. Ты живешь со случайным, не нужным тебе человеком, Тата, как блоха, скачет по заграницам — через неделю опять уезжает — и день ото дня меняется, причем не в лучшую сторону. Этого не зачеркнешь. Именно потому мне так горько. И очень жаль вас обоих.
Мы говорили долго, и хотя я по старой привычке половину пропустил мимо ушей — «папаша любят пофилософствовать», — разговор что-то изменил между нами, отец несколько оттаял, потеплел ко мне. Но только легче мне и от этого не стало и к тому же, черт его знает почему, нестерпимо захотелось срочно вернуть себе настоящее лицо.
На следующий день на работе меня вызвал наш самый главный начальник и сказал:
— Слушай, Иван, через неделю переговоры с норвегами, ты подготовь что нужно по своей части и передай Протопопову. Он туда полетит.
Да уж, генерал, остерегайтесь ревности, зеленоглазой ведьмы, которая смеется над добычей. Блаженны потерпевшие мужья, которые все знают и остыли к виновницам позора.
Я не из таких.
7 Протопопов
Есть такая забава: яблоко подвешивается на ниточке, и ты его должен съесть без помощи рук. Ну, не обязательно съесть, можно, как в анекдоте, понадкусывать. Кто не пробовал, сразу скажу: очень трудно.
Именно так выглядели мои новые отношения с Татой. Но только для полноты удовольствия она была не яблоком, а невероятно гладким стеклянным шаром. В лучшем случае присосешься губами — и все.
Я сначала не понимал: что мне не так? Вроде бы получил то, к чему стремился почти четверть жизни, сполна, с горкой, с лихвой, столько, что и надеяться не смел. Первое время обомлевал от восторга, как ребенок, начисто голову потерял. Только успевал глазами хлопать и к небу их возводить: спасибо тебе, Господи, спасибо-спасибо-спасибо! Чудны дела твои, безгранично велика благодать.
Не верил своему счастью.
Мир стал ярким, звонким, волшебным, заиграл разноцветными, чарующе сочными красками. Понимаю, до какой степени банально это прозвучит, но… у меня и впрямь отросли крылья, я не ходил — летал. А когда не летал — временами реальность берет свое, — все равно немножечко, капельку, чуточку, незаметно для окружающих и невысоко над полом, левитировал. И не мог, не мог дождаться, когда опять попаду к Тате, из всего того периода помню ее одну. Она одна была — жизнь, остальное — черное небытие. Я, конечно, заезжал домой, ночевал уж точно, — но когда, как, что там происходило? Не помню. Абсолютно. Как ни странно, жена ни о чем не догадывалась — или молчала, мудрая женщина.
Мне все время казалось, что я играю самого себя у гениального выдумщика-режиссера — Феллини, а может, Кустурицы, — который щедрой рукой подбрасывает моему герою восхитительные, сказочные приключения. Я никак не мог предугадать, что будет дальше, но, едва дыша от благоговения, следовал его замыслу, понимая: рождается «шедевр мирового кино». Я стал иначе, красивее двигаться, говорить: невольно работал на зрителя, на камеру. Ловил себя на этом, немножко смущался, но меняться не хотел: любил свою роль и не стремился из нее выходить. Я не понимал, как мог довольствоваться своей прежней жизнью, и не собирался к ней возвращаться. У меня даже не было угрызений совести по отношению к семье: они много лет получали все, что им требовалось, и я заслужил право побаловать себя.
Рядом с Татой мне было бесконечно хорошо. Как я прожил без нее столько лет? Я неизбывно жалел, что не увел ее от Ивана в самом начале, и без конца твердил ей об этом.
— Если б со мной была ты, жизнь пошла бы иначе, я был бы совсем другим человеком! — восклицал я.
— Максимум, ты был бы Иваном, — ответила раз этак на пятнадцатый Тата, скептически усмехнувшись.
Я не совсем понял, что имеется в виду, но ее интонация меня смутила. Максимум? То есть я по определению хуже? Осетрина второй свежести? Это как-то не вязалось с ее поведением последнего времени. В прошлом она нередко меня критиковала, высказывала недовольство теми или иными моими поступками, теперь же почти всегда смотрела восторженным, сияющим взором и согласно кивала в ответ на любые слова. Поскольку при этом я, как правило, держал ее в объятиях, то ничуть не удивлялся метаморфозе, но сейчас, увидев на мгновение в моей идеальной возлюбленной былую Тату, ощутил легкий укол недоверия. Если я — в кино, не обман ли все это? И хотя «всех низких истин нам дороже…» и так далее, как узнать, что уготовано мне по сценарию? И кто сценарист? Она?
Я больше не верил своему счастью.
Червь сомнения рос и уже ощутимо ворочался в груди. Тогда передо мной впервые всплыл образ стеклянного шара. Чем дальше, тем больше казалось — я был почти убежден, — что имею дело не с настоящей Татой. Зачем она от меня отгородилась, бог весть, но прозрачный и вместе с тем непроницаемый барьер между нею и мной чувствовался все сильнее. Я точно знал, что внутри шара, как муха в янтаре, сидит живая, подлинная, трепетная Тата, — и это сводило с ума! Независимо от подозрений, моя любовь с каждым днем становилась отчаянней, я не принадлежал себе, готов был на преступление, на любой сумасшедший поступок. Но владеть хотел Татой, а не какой-то стекляшкой!
Шар стал моим врагом, моей навязчивой идеей. Я задался целью расколотить его.
Однажды, еще летом, мы ездили на дачу к ее родителям — мне было немного неловко знакомиться с ними, но я самым старомодным образом хотел показать серьезность своих намерений, — и там мои подозрения подтвердились. Я случайно подслушал обрывок ее разговора со свекром и понял: точно, она меня не любит! Она играет в любовь!
Что со мной сделалось, передать не могу. Убить кого-нибудь захотелось. Ее? Да. В первую очередь. Но это было бы слишком легкое наказание для Таты и слишком тяжелое — для меня; разве тогда мое отношение к ней изменится? И пожалуй, такой — коварной, порочной — она нравилась мне еще больше. Но у меня появилась сверхзадача.
«Ты будешь меня любить, будешь любить, будешь любить!» — ритмично повторял я про себя тем вечером, утопая в зеленоватом омуте ее взгляда. Ярость подстегивала меня, удесятеряла силы. Обычной нежности не было. Возможно, она почувствовала что-то не то, но на любые мои действия теперь отвечала всегда одинаково — помрачающей разум страстью. «Очнись, стань человеком!» — мысленно умолял я потом, уже излив свой гнев, чуточку успокоившись, пряча от нее слезы. Она с рассеянной ласковостью теребила волоски на моей груди.
— Тата? — позвал я.
Она подняла на меня обожающие глаза. Как они могут обманывать?
— Ты меня любишь? — Мой голос чуть дрогнул.
— Люблю, — произнесли нежные — лживые? — губы.
— Правда?
Улыбка сфинкса. Кивок. Смежившиеся ресницы.
В тот момент я решился. Ее сердце станет моим — хоть бы его пришлось вынуть из груди. Тем более что я прекрасно запомнил цитату из колдовской книги.
Магия так магия. Чем чернее, тем лучше.
В Грансоль я ехал, одержимый только этой идеей.
Но там с самой первой минуты все было настолько по-другому, что я опять поверил в ее чувства. Почти поверил. Мы много раз заходили в разные церкви, и всюду стояли цветы. Я смотрел на них едва ли не с вожделением, но все-таки не решался прибегнуть к чародейству: как известно, от добра добра не ищут. А потом… бес попутал. В Монсеррате я понял, что другого шанса может не представиться, и — была не была! — незаметно для Таты и Умки вытащил цветок из вазы под алтарем Черной Мадонны. О чем я ее просил, полагаю, не стоит объяснять.
Тата, конечно, обо всем догадалась; вышел скандал.
— Ты следишь за мной! Подслушал мой разговор с Ефимом Борисовичем! — возмущалась Тата.
— Ничего подобного! — оскорбился я. — Всего лишь самый конец, и то случайно. Искал тебя, вот и подошел к двери. А сегодня вспомнил и решил над тобой подшутить. Ты ведь не думаешь, что я всерьез верю в эту чушь?
— Думаю! И не понимаю, как ты мог? Вспомни, что было с Иваном! Ты готов поручиться, что это не подействует? А если подействует, то именно так, как тебе надо? Зачем пробуждать к жизни то, чем ты не умеешь управлять? Не веришь в чушь, ну и не лезь в нее!
Она вконец разозлилась, выгнала меня из номера. Я давно не видел ее такой нормальной и пожалел о своем поступке: все шло замечательно, а теперь кто знает, чем обернется мое волхование. Но наутро, при виде ее по-прежнему недовольной мордочки, начал успокаиваться. Вот же — ничего не случилось. Я, наверное, окончательно свихнулся, уверовал во всякое мракобесие.
Но к вечеру, чуть ли не по щелчку, Тата резко переменилась. Я не мог бы ни описать, ни объяснить, в чем эта перемена заключалась, ни доказать, что она действительно произошла, но хорошо ощутил ее физически. Буквально услышал звон, с которым лопнула доводившая меня до бешенства стеклянная оболочка. А из-под нее — наконец-то! — появилась живая Тата. Как росток из-под пленки: беззащитный, чуть сморщенный, влажноватый от пара.
Она, кажется, испугалась и немножко грустила, но была так трогательна в своей открытости, что при одном только взгляде на нее у меня непроизвольно сжималось сердце. А душа между тем пела: она — моя, вся — моя; моя, моя, моя! Оставалось лишь непонятно, благодаря чему — чарам ли, отдыху, перемене обстановки? Моим собственным скромным заслугам?
Зачем я связался с церковным цветком? Сам себя обрек на бесконечные сомнения.
Увы, назад пути не было.
Но я все равно наслаждался жизнью, как никогда прежде, и уже много лет не чувствовал себя лучше. Даже кофе пил сколько хотел, хоть это и вредно для здоровья.
Подошло время уезжать. Я знал, что теперь не смогу жить как раньше: мы с Татой должны быть вместе. Всегда. С прошлым придется расстаться. При этой мысли в груди холодело: как объясняться с женой? А ведь надо. Первое время лучше пожить за границей — пока страсти не улягутся. В день отъезда я поделился своими мыслями с Татой. Она отнеслась к идее без восторга, на который я, признаться, рассчитывал, насторожилась, ушла в себя, но потом сказала:
— Такие вопросы каждый решает для себя сам. Если ты твердо уверен, что другого пути нет… но все-таки, прежде чем «обрадовать» жену, тысячу раз подумай. Насколько я помню, это очень больно.
— О чем мне думать? Я хочу быть с тобой. Мы и так практически неразлучны. Ее жизнь нисколько не изменится, я в состоянии обеспечить всех. Но думаю, будет легче, если мы с тобой месяца три-четыре поживем не в Москве.
Тата изумленно подняла брови:
— А где? В Тамбове?
— Нет, я предлагаю — в Грансоле. Или поблизости. Согласна? Только Никсона придется взять с собой.
Тата молчала. Глаза у нее были испуганные. После очень долгой паузы она произнесла:
— Советую еще раз подумать. И я тоже подумаю, а в Москве мы снова все обсудим. Такое важное решение нельзя принимать скоропалительно.
От ее слов я испытал двойственное чувство. С одной стороны, я не связал себя жесткими обязательствами, но с другой… новая, изменившаяся Тата должна была уцепиться за меня обеими руками. По-моему. Неужели она не хочет, чтобы я принадлежал только ей? Как, в конце концов, она ко мне относится?
Я вернулся в Москву и, к своей великой радости, узнал, что жена собирается в другой город к родственникам — на месяц. Объяснение откладывалось само собой — превосходно!
Приехала Тата, и мы действительно стали неразлучны. Всюду бывали вместе, я возил ее в свой загородный дом, а в отсутствие сына оставлял ночевать в московской квартире. Стоял конец сентября, почти противоестественно теплый. Мы практически все время проводили вдвоем. Наши дни плавно перетекали в ночи, а ночи — в дни, наполненные таким золотистым, томным, медовым сиянием, что у меня постоянно щемило в груди.
Иногда случались выходы в свет: меня или Тату куда-нибудь звали, мы вскакивали, наспех одевались, не отрываясь друг от друга, подолгу не попадая в штанины и рукава, Тата припудривала щеки, расцарапанные моей щетиной, и даже губы, ярко-малиновые от поцелуев, лукаво улыбалась мне в зеркале, и мы бежали — смотреть, слушать, общаться. Мое восприятие было настолько обострено, что события того времени сохранились в памяти в виде огромных картин с подчеркнуто объемными, выпуклыми, тщательно прописанными деталями. Такой гиперреализм.
Мы ездили в лес и подолгу гуляли с Никсоном, который, к моему удивлению, с первой минуты отнесся к Тате почтительно и беспрекословно ее слушался. Он, между прочим, товарищ с норовом и никого, кроме меня, не признает, а Тату приглашал играть и вообще всячески перед ней рисовался. Я шутил: ты на всех мужиков действуешь одинаково!
С ней все что угодно — кино, выставка, ужин в ресторане, прогулка в парке, телевизор в постели — было настолько здорово, сочно и вкусно, что окончательно доказало и без того очевидное: она мне необходима. Она стала моим наркотиком, светом, водой, воздухом. Я почти не вспоминал о своем горе-колдовстве, перестал без толку обрывать лепестки: любит — не любит. Разумеется, любит! Прошло совсем немного времени, и я снова заговорил об отъезде за границу.
Тата ненадолго задумалась, а потом махнула рукой:
— Почему бы нет! Разведай насчет вариантов.
Я разведал, выбрал, списался с владельцами. Мы подолгу рассматривали фотографии в Интернете: квартира в Барселоне на Рамбле или вилла у моря на границе с Францией? Или… но сюда не пускают собак. Процесс выбора доставлял неизъяснимое наслаждение.
Месяц пролетел слишком быстро; вернулась жена. Леденея от страха, я объявил: ухожу. Мне и в страшном сне не могло присниться, что за этим последует. Не вдаваясь в подробности, скажу, что уйти я не сумел. Подумал: ладно, подождем. Пусть свыкнется с мыслью.
Я немного опасался реакции Таты, но она лишь пожала плечами: все очень понятно, жаль только, поездка срывается. Тогда я предложил лететь со мной в Норвегию. Тем более что командировка попадала на ее день рождения.
— Северная страна в такое время года? — разочарованно протянула Тата. — Вот если б Париж…
— Не расстраивайся, будет тебе Париж, — утешая, ответил я. — Но для начала давай сгоняем в Осло на недельку. — Мне в голову пришла одна мысль.
Сказано — сделано. Гостиница, виза, билеты. На этот раз обошлось без капризов, и вскоре мы улетели в Осло. С погодой невероятно повезло, и, пока я торчал на переговорах, Тата часами гуляла по Акер-Брюгге, фотографировала парусники у причала, поджидала меня в открытых кафе на набережной. При моем появлении она так радостно улыбалась, что мое сердце разрывалось от счастья. Никаким колдовством этого не добиться, думал я, изредка вспоминая свои глупые метания. Просто ей нужно было время — и путешествия, старое доброе средство от душевных ран. Да за одну такую улыбку я готов всю жизнь колесить с ней по свету! А уж за все остальное… Тата искрилась, сверкала и совершенно очаровала моих норвежских коллег.
На третий день — вторник — я, собираясь утром на очередные переговоры, сказал:
— Таточка, мы сегодня вечером уезжаем, сложи, пожалуйста, вещи к моему приходу. — Если б вы знали, чего мне стоил этот деланно невозмутимый тон.
— Как? — удивилась еще не проснувшаяся Тата. — Мы же здесь на неделю, даже больше?
— В Москву действительно возвращаемся в понедельник, но сегодня улетаем в Париж. На твой день рождения. В субботу утром вернемся сюда, и у тебя еще останутся выходные досмотреть Осло.
Как озарилось лицо Таты!
— Ура! — в восторге пискнула она и уползла под одеяло.
Кто бы устоял перед такой провокацией? Норвегам пришлось подождать. Целовать Тату было сложно — ее рот растягивался до ушей.
— Любимая моя, девочка моя единственная, — повторял я.
Тата довольно жмурилась. А я от наслаждения плакал.
Париж — город любви. Так, плутовски хохоча, сказала в самолете Тата. Она была здесь несколько раз, а я никогда. Мне казалось, сюда незачем ехать, если не с кем целоваться на улицах. И вот — дождался.
Мы сели в такси. Шофер включил радио.
«Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so», — запел Элвис.
— Еще недавно я бы подумал — розовые слюни, а теперь слушаю: это про меня.
Тата улыбнулась.
— Люблю тебя, — шепнул я.
Ее рука скользнула в мою. Она опустила голову мне на плечо, и от этого простого жеста все в моей душе перевернулось от нежности. Ночь накануне мы не спали, и воздух вокруг казался зыбким, переливчатым. Так и должно быть в Париже, думал я.
Город любви, тысяча и одна сказка каждого дня и каждой ночи.
Неужели это происходило со мной?
Старинная гостиница в двух шагах от Елисейских Полей, лифт размером со спичечный коробок внутри винтовой лестницы, номера-табакерки, Татин — в красных, мой — в фиолетовых тонах. Счастье быть вместе — в Париже. Остров Сите. Лувр, сады Тюильри. «Лидо». «Мулен Руж». Монмартр. Магазинчики. Какой-то несусветный сыр, спешно сосланный ко мне в номер (и в итоге добравшийся до Москвы). Рестораны. Официанты, обволакивающие вниманием. Парижские типы. Бесконечные чудеса, подарки судьбы. Пузырящийся, как шампанское, восторг. Немыслимая, неодолимая страсть: утром, днем, вечером, ночью. Поцелуи на улицах. «Хабанера» в метро. Две элегантные парижанки, притянутые источаемым мной тестостероном. Вы здесь один? О. Жаль. Татин день рождения; гигантский букет мелких роз, который я принес ей в номер. Ее изумление. Завтрак в кафе. Круассаны. Это самый лучший день рождения — вообще самый лучший день — в моей жизни. Спасибо!
Радость быть волшебником. Как мало для этого нужно.
Таточка. Любовь моя, радость, жизнь.
До конца дней я тебя не забуду.
— Почему с женой никогда так не было? — не выдержал я однажды.
Тата, чуть дрогнув лицом, промолчала.
Возвращаться в Осло после такой феерии было страшновато, но, как ни странно, и там все сложилось великолепно — по-своему, совершенно иначе, но великолепно. Один из моих коллег, новообращенный татопоклонник, вызвался показать нам достопримечательности, которых она еще не видела. Ей страшно понравился парк Вигеланна, где скульптуры. Я рассматривал их много раз, но только с Татой увидел по-настоящему. При ней что-то менялось в мире — она как будто стирала со всего пыль чистенькой белой тряпочкой.
Одно омрачало идиллию: истерические звонки жены.
— Не выдумывай, никого со мной нет, — бормотал я, смущенно отворачиваясь от Таты, и безжалостно вешал трубку. Сострадания не было, домой не хотелось совершенно.
— Приедем и сразу начнем оформлять визу в Америку, — объявил я в последний день. — У меня через месяц конференция в Лас-Вегасе.
Тата радостно кивнула и прильнула ко мне.
Мы летели домой, одурманенные бессонницей, прижимаясь друг к другу, бесконечно проваливаясь в дремоту. Тата то и дело роняла голову, вздергивалась, смешливо кривила губы и опять припадала ко мне.
После этого не жалко и умереть, думал я — и блаженно засыпал снова.
* * *
В Москве я первым делом попытался объясниться с женой.
Жена попыталась покончить с собой.
Я, на волне раскаяния, разорвал отношения с Татой, причем повел себя очень жестоко. И, хотя я не продержался трех дней и мы помирились, она вновь замкнулась внутри ненавистного стеклянного шара.
Я понимал, что виноват сам, и очень хотел все поправить, но… не бежать же по новой за цветами в церковь?
Пусть уж лучше заграница поможет.
8 Александра
А я, между прочим, говорила: как жареный петух в одно место клюнет, сразу ко мне прибежит. Татка, в смысле. Лягушка-путешественница.
Хотя мне про нее последнее время только от Умки сведения поступали, да и та была не слишком в теме. На Таткин день рождения я, хоть и обижалась на нее за молчание, все-таки решила поздравить. Звоню — дома никого. Я к Умке: где наша красавица? Эх, Саня, отвечает, и не угадаешь — в Париже! Сама полчаса как узнала. Протопопов повез. Причем не просто, а с заездом в Норвегию.
Я, собственно, в подробности маршрута не вникала, но не слабо, да? С другой стороны, ничего удивительного: пока все по моим прогнозам происходит. Я ли ей не вдалбливала: хватай, такие мужики на дороге не валяются! Слава богу, сообразила послушаться.
И вот вчера, наконец, диво дивное: телефонный звонок, Таткин номер на определителе. Снимаю трубку:
— Представляю, сколько медведей в лесу сдохло. Чему обязаны?
— Ладно тебе, Саня! — А в голосе, главное, никакого раскаяния. — Перестань. Меня в Москве не было, на днях только появилась. Как дела?
— Это у вас дела, а у нас так, суета бесполезная.
— Ну вот, обиделась.
— Я? С какой стати? Ты мне докладываться не обязана.
И еще минут пять в таком духе. Ничего, думаю, пусть прочувствует. Я, конечно, к человеческим слабостям отношусь философски, но и у меня какое-никакое самоуважение имеется и терпение не безгранично. Я же не утюг, чтоб меня из розетки выключать и в шкафу держать до надобности.
Короче, повоспитывала ее малость, а потом решила — все, хватит. А то так ничего и не узнаю.
— Ну, — говорю, — подруга, выкладывай, что у тебя происходит. Ходят слухи, ты теперь дни рождения во Франции отмечаешь?
— Это был подарок.
— И все?
— В каком смысле?
— Только сама поездка? А бриллиантовое колье?
— Если ты серьезно, то я к драгоценностям равнодушна.
Ну да, ну да.
— И все-таки? Протопопов еще на что-нибудь раскошелился?
— Ha букет роз.
Господи! Что за мужик пошел? Ни размаха, ни фантазии.
— М-да. Конечно, и на том спасибо, но на сорок пять лет мог бы преподнести что-нибудь памятное.
— Подстаканник? Для меня Париж и есть самое памятное.
Ага. А книга — лучший подарок.
— Чудненько, рада за тебя. Что еще нового?
— Через неделю должны были в Америку лететь, уже визу получили. Но…
— Что?
— Да так, неважно.
— Слушай, не ломайся, говори! Протопопов? Вытворил что-нибудь?
— Можно и так сказать.
— А конкретней?
— Он хотел от жены уйти, а она попыталась с собой покончить.
— Нормальный ход. Умная баба. И что?
— Он решил снова стать примерным семьянином.
Ясненько. Вот почему обо мне вспомнили.
— Погоди, сейчас за компьютером схожу.
— Да не надо, я не затем…
Неужели? А зачем же? Не стала я слушать, компьютер притащила, открыла, смотрю.
— Ой-ой-ой, до чего мы страдаем… Страсти какие невозможные… Татуська, не переживай: не сегодня-завтра явится твой козлик. Позвонит или прибежит. Буквально к вечеру жди. Татка, чем ты его до такой степени зацепила? Хотя ты же у нас Скорпион.
— И что?
— Самый сексуальный знак.
— Думаешь, дело только в этом?
— А то в чем? Мужики — создания рефлекторные. Ох, видела бы ты, какие здесь метания нарисованы!
— Все равно ничего не поняла бы.
— Потому и не объясняю, а просто говорю: Протопопов только о тебе и думает. И предупреждаю: не удивляйся, он по карте истерик и будет время от времени сцены закатывать. Пропадать иногда, даже на месяц, на два. Свободолюбие в извращенной форме. Привязанностей мужик боится.
— Что ж ты мне его так старательно сватала? Эдакую-то личность?
— А чем тебе плохо? Подумаешь. Внимания не обращай, и все. Побегает, побегает и вернется. Никуда не денется. От тебя особенно. У вас отношения завязались на таких аспектах, что вам, скорее всего, до конца жизни друг от друга не отделаться. При всем желании. Правда, от жены если вскоре не уйдет, то потом только через два года. Извини.
— Завязались — давно или сейчас?
Опять двадцать пять. Ну, раз вы настаиваете…
— И в самом начале, тринадцать лет назад, и в этом году тоже. Он может исчезать — человек, что и говорить, непростой, — но потом неизбежно будет появляться. Так что не переживай, Татусь! Поедете вы в свою Америку. Тем более у тебя сейчас не карта, а конфетка.
— Ты меня озадачила. Может, не надо ехать с ним? Зачем мне его сцены? Я и одна не пропаду — у меня там куча друзей.
— Еще чего! Пусть свозит. У тебя что, лишние деньги завелись?
— Нельзя же все мерить деньгами. — И, с ехидцей: — Душевный комфорт дороже.
— Хватит выдумывать! Говорю же: по карте на ближайшее время ты в шоколаде. Будет тебе комфорт — и душевный, и какой хочешь.
— Посмотрим.
И молчит, зависла: задумалась.
— Расскажи-ка, что Иван? — спрашиваю.
— Понятия не имею, забыла, кто это такой.
— Совсем не появляется?
— Совсем. Намеков на возвращение пока нет.
— Для ускорения процесса надо было не по заграницам шастать, а к бабе Нюре ездить. Впрочем, что уж — развлекаться тоже необходимо. Но вообще…
— Что?
— А вдруг… что, если… там наверху решили тебе Ивана на Протопопова заменить?
— Боже упаси!
— А чего? Он разве тебя замуж еще не звал? По карте я бы сказала, что только о том и думает.
— Впрямую нет, но о совместной жизни заговаривает постоянно. Одна загвоздка: я не хочу.
— Здрасьте пожалуйста! Это еще почему?
— Да по всему. Не мой человек.
— Раскидалась олигархами! Семен — не твой, Протопопов — не твой. А кто твой?
— Представления не имею. Увижу — пойму.
— Больно ты разборчивая. А лучше бы не капризничала. Для нормальной жизни нужны деньги, пойми, наконец. Поэтому сначала обзаведись источником доходов, а уж там ищи своего человека сколько душе угодно. Богатый мужик — вот наша первоочередная задача.
— Я бы предпочла веселого и доброго. С кем приятно поговорить и посмеяться. Остальное неважно.
— На голодном пайке долго не повеселишься.
— Конечно, лучше уж быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Кто бы спорил.
Спорить мы и не стали. Татка любит делать вид, что низменное ее не касается. Будто не она теперь авоськи с рынка таскает. Я как-то раньше поинтересовалась: «Чего Протопопова к делу не приставишь?» — «Он не предлагает, видимо, в голову не приходит, а просить я не хочу».
Такие мы гордые. Вот и сейчас то же самое: деньги — это земное, предмет, недостойный обсуждения. Хорошо, думаю, хочешь — изображай принцессу. До следующего жареного петуха.
Мы еще поговорили о том о сем, она про Париж песни пела, но я слушала вполуха: что мне за интерес, когда я там все равно не была и вряд ли попаду. Наконец Татка соблаговолила моей особой поинтересоваться, спросила про Фила. Ничего нового, говорю, все фордыбачит. Не хочет, чтобы мы дальше на его шее сидели. «Ищите работу, ты и твой ребенок». Темке ведь восемнадцать исполнилось.
— А ты еще не думала про работу?
Да она ж ничего не знает! Я ведь работу нашла, причем, можно сказать, с ее легкой руки. После нашего разговора стала искать место в магическом салоне — исключительно ради интереса, чтобы разведать обстановку. Ничего особо хорошего не нашла, но зато — как будто я притянула ее своими поисками — мне неожиданно позвонила одна старинная знакомая, с которой мы вместе на астрологических курсах учились. Начала расспрашивать, что и как. То, се, слово за слово — и она вскользь упомянула, что на ее бывшей работе освобождается место, точнее, кабинет. Не хочешь, спросила, арендовать и там принимать клиентов? Солидная контора и народ весьма интересный, с разными чудо-способностями.
Я загорелась, сходила, посмотрела — понравилось. Не долго думая, сняла помещение, объявление в Интернете повесила. И самое удивительное, сразу звонки пошли. Правда, большую часть людей все равно дома принимать приходится, всем по вечерам удобней, да и мне на своей кухне привычно, но в целом жизнь забурлила. Притом, что интересно, на новой работе все — и гадалка, и мужик ясновидящий, и целительница, и остальные — в один голос твердят две вещи: во-первых, что я черно-белая, есть во мне тяга к нехорошему, и непонятно, какая сторона пересилит, а во-вторых, что для перемены судьбы мне надо за границу скататься. А одна женщина, которая яйцом порчу выкатывает, когда занималась со мной, почти невзначай обронила:
— Александра, тебе обязательно надо за границу, и поскорей. Куда-нибудь недалеко, в Болгарию или Чехию. Там новую любовь встретишь, а может, и замуж выйдешь.
Я все это Татке рассказала, она воодушевилась:
— Правда, Сань, поезжай. Мне тоже кажется, ты с кем-нибудь познакомишься.
А мне от ее рассказов и самой уже захотелось. Весь вечер потом думала, думала и еще целую неделю — почти постоянно.
И вот — не знаю, колдовство это или как — мои мысли опять материализовались. Звонит вдруг клиентка, из новых, турбизнесом занимается, и спрашивает:
— Саша, не хотите съездить на недельку в Прагу? У нас очень хорошие предложения по путевкам, а эта еще и горящая — человек в последний момент отказался. Совсем бесплатно получается. Если вас интересует, с удовольствием придержу. Вы же мне так помогли, так помогли!
— Спасибо, — говорю, — подумаю.
Долго не думала, сразу решила — еду! Чем я, в конце концов, хуже Татки?
В результате мы с ней отчаливали практически одновременно, в конце ноября. Что я говорила? Протопопов через два дня приполз на коленях. Это мне, опять же, Умка поведала, Татка позвонить не соизволила. Ладно, не хочу обижаться, бог ей судья. Правда, у нее-то целое турне: сначала с Протопоповым по одному побережью, а потом в одиночестве к друзьям в Нью-Йорк и Бостон.
Ну а я скромненько — в Прагу и обратно.
Собралась, приехала в аэропорт. Брожу по магазинам. В книжный зашла, путеводитель купить. Пригодится. Взяла с полки, листаю.
— Первый раз в Прагу?
Поднимаю глаза: мужик, еще молодой, хоть и с проседью, приятный. Довольно рослый, фигуристый. Одет спортивно; рюкзачок стильный.
— А что?
— Если первый, то… буду рад показать город интересной девушке.
Девушке? Хм. Спасибо за комплимент.
— Я подумаю.
— Нет, серьезно. Я город знаю как свои пять пальцев. Часто по делам бываю. А в этот раз по случайному стечению обстоятельств дел намечается мало.
— Спасибо. Я уже сказала: подумаю.
— Летим, должно быть, одним рейсом?
Я назвала номер. Действительно, одним.
Что, впрочем, неудивительно.
— А… разрешите угостить вас кофе? Кстати, позвольте представиться: Макс. Если честно, вы мне очень понравились. Давайте познакомимся поближе. Вдруг и я вам понравлюсь?
Ох и нифига ж себе, думаю, скорость. С другой стороны, чем я рискую?
Сели мы в кафе — и как начали болтать, так чуть самолет не пропустили. Очень харизматичный товарищ оказался! Я сначала все сумку к себе прижимала, на всякий случай, а потом обо всем забыла. Он рассказал, чем в Чехии занимается — недвижимостью, и что женат, но жена давно в Америку слиняла и дочку увезла, он, можно считать, одинокий. Моими обстоятельствами поинтересовался. Я вкратце объяснила, что и как.
— А работаете где?
— Я астролог и… одним словом, колдунья.
— То-то я чувствую — совсем зачарован!
— Я серьезно. Кстати, если не секрет: когда вы родились? И где? Профессиональное любопытство.
— Увы, дорогая Сашенька, его я удовлетворить не смогу. Хоть это и странно по нашему времени, но я… подкидыш. Да-да! Не улыбайтесь. Сорок три года назад нашли меня зимой на пороге приемного покоя одной московской больницы. Мне было около трех месяцев, а в пеленках — ни документов, ни записки, ни медальона, как в старых романах… так что настоящие дата и место моего рождения никому не известны. Я воспитывался в детдоме, родных нет. В жизни пробивался сам.
Вот это да! Плохо, конечно, что ни черта не поймешь — ни что за человек, ни про совместимость. Но в любом случае внушает уважение.
Естественно, пока трепались, я успела вспомнить предсказания своих коллег. Но мне говорили: встретишь за границей, а мы из Москвы не успели вылететь. Он это, не он, поди разбери. Может, самое банальное дорожное знакомство, которое ничем не кончится.
Но понравился он мне сильно, и я ему вроде тоже — чувствовалось.
Поэтому, когда Макс спросил, как найти меня в Праге, я честно назвала отель. Захочет — появится. А я… вообще-то отдыхать еду. Могу себе позволить что хочу.
А уж дальше — как звезды встанут.
9 Лео
С кем поведешься, от того и заразишься. Народная мудрость.
Вот и я стала как Ваня. Смотрю на нас: блин! Два сапога пара, и оба не по ноге. Что он вечно киснет, что я с тоски дохну. Уж и не припомню, нахрена мне надо было такое счастье? И кто бы объяснил, почему я до сих пор ни на что решиться не могу.
Про Ваню ладно, все ясно: я его другим тысячу лет не видела, с начала знакомства. А ведь первые три недели он был… как печка из сказки: и согреет, и накормит, и отвезет куда пожелаешь. Добродушный, спокойный, веселый, шутил через слово. Бывало, пообщаемся — у меня сразу сил прибавляется. Еще думала: вот мужик! Да при нем горы своротишь. И куда все подевалось? Может, чертова баба Нюра наколдовала, чтобы нам с ним «тосковать, ни днем ни ночью покоя не видать»? Видела я такой заговор в заветных тетрадочках.
Не то чтоб покоя совсем нет. Случается. И радуемся, и смеемся. Развлекаемся. В гости ходим. Только смысла во всем — ноль. Приедешь к Ваниным школьным друзьям: все, естественно, старые пердуны под полтинник, все упакованы под завязку, у каждого — молодая жена, вторая, третья, четвертая, кто сколько подстрелил, некоторые новых младенцев налепили. Жены — одна другой моложе, все не москвички. Соберемся, мужики за выпивку и разговоры садятся, друг перед другом перья распускать, а нас с девками чуть ли не за отдельный столик ссылают. Вот как про малышню считается, что если их в одну песочницу насовали, то они в момент обязаны подружиться, заняться своими куличиками и, главное, от взрослых отвязаться, так и про нас то же самое. А чего? Понаехали в Москву, отхватили себе по «папаше» с толстым бумажником, ну и играйте теперь вместе — вы ж одинаковые. Клоны. Болтайте про тряпки, машины, брюлики, кому там чего нового подарили; про родственников из… откуда ты у нас? Ах да.
А если мне эти девчонки не нравятся? И не чем-нибудь, а ровно тем, что с виду ужасно на меня похожи? И проблемы у них такие же: старый пень под боком — от которого, какой он добряк ни будь, все равно зависишь — и птичьи права, даже при штампе в паспорте. А еще мысль, что вот сама устроилась, а маме с папой и тете Шуре с дядей Колей толком помочь не можешь. Потому что у мужика твоего, когда ты еще только думаешь к нему с просьбой подъехать, моментально на лбу надпись загорается большими неоновыми буквами: НА ВСЕХ НЕ НАПАСЕШЬСЯ. И пусть он твоих родителей в гостях принимает, пыль в глаза пускает и Красную площадь показывает, дела это не меняет. ОН НЕ ОБЯЗАН. И по сути, так оно и есть, и ты это понимаешь…
В общем, постоянно хочется либо от родни навсегда отречься, чтобы совесть не грызла, либо козлу своему по башке настучать прямо за столиком в «Национале»: глаза-то разуй, пузо! На каком свете живешь?
Девица самого богатого Ваниного приятеля, Армена, двадцать пять лет ей, как только добилась, чтобы он на ней женился, — забеременела — тут же спиваться начала. И так у нее «хорошо» дело пошло, что дочку родила уже с зависимостью. А самой и вовсе теперь никто не указ. Армен как бы переживает, но ни черта не делает, а Надька с утра бутылку сухого — вроде приличней водки — вылакает и целый день дрыхнет; с маленькой одна нянька возится. Ванька пробовал с Арменом поговорить, а тот: чего я могу? Если Надьке выпить не дать, она скандалить начнет, а ей нервничать вредно: ребенка кормит. Жуткое дело, а вмешиваться — себе дороже. Да и Надьку я понимаю: на Армена не то что без слез, без зубовного скрежета, по Ваниному выражению, не взглянешь. Туша полтора центнера, шеи нет, рожа кирпича просит. Нет, пусть он умный (Иван так считает, а по-моему, прохиндей) и в чем-то даже добрый — сколько угодно. Но чтобы девочке-дюймовочке в сорок пять килограмм весом с таким урылищем спать, никакой, нафиг, священной любви не хватит. Я бы, честно говоря, и ради особняка в Беверли-Хиллз не согласилась.
Вообще, ни одной счастливой истории, типа как у Золушки, я не знаю. Каждая что-нибудь да терпит в позе карельской березы. Тут сопьешься.
Но по большому счету, хоть я многим сочувствую, общение с ними радости не приносит. Я в Москву ехала за красивой жизнью, а страданий русского народа и дома наелась.
Я бы лучше с Ванькиной Татой общалась, если б она согласилась с нами нормальные отношения поддерживать. Бывает же, что люди со своими бывшими в друзьях остаются. И чего наша кобенится? Иван к ней так, сяк, наперекосяк: ни в какую. Знать не желает. Хотя… если б, скажем, мы с Антоном четверть века прожили, а он от меня потом к какой-то шмакодявке сбежал, я бы тоже не простила. Да что там не простила, глотку бы перерезала! Так что понять можно, все естественно, но жалко: баба-то, судя по рассказам, интересная. Даже слишком. Я бы, пожалуй, за Ваню все-таки опасалась: как бы назад не переметнулся. Хорошо, она роман закрутила, поэтому вряд ли согласится. Все же миллионера подцепила, причем, я так себе думаю, в буквальном смысле. Он, в отличие от Ваньки, совладелец компании. Обидно, что на Тате подвинут, не то я бы сама его на зуб попробовала. Какая мне разница, он или Ваня. Чего теперь, когда жизнь поломана.
С Антохой ведь у нас все кончилось. Я-то, идиотина, после его приезда решила: никуда от меня не денется. Увяз по самую макушку. Честно сказать, я к тому времени не раз подумывала Ваню бросить, только никак не решалась. Соберусь вроде родителей навестить — лишь бы уехать без объяснений, а уж оттуда по телефону огорошить, — и сразу в душе бунт: как это, взять и своими руками все порушить? Вот же, Москва, квартира — Ваня к тому времени купил, пусть однокомнатную, — машина красивая, дача, от мамы ему досталась. На работу я, кстати, в их контору перешла, зарплату дали неплохую. И от всего этого отказаться? Не могла я, никак не могла. Жалко было.
Ну и надеялась: уломаю Антоху в Москву перебраться и роман с ним заведу. А дальше как бог даст. Чего зря загадывать? Может, мы вообще друг другу не подходим. Проверим сначала, и уж после решим.
Но он оказался та еще штучка. И откуда такие берутся в наше время? Уперся: не хочу тебя ни с кем делить — и все тут. Только раз после Москвы с ним и поговорили.
Позвонил через день:
— Клепка! Привет! Как настроение?
У меня от одного его голоса мурашки по позвоночнику.
— Отличное, — отвечаю. — После кое-какого события.
— И что же это за событие за такое? — смеющимся голосом.
— А то ты не знаешь.
— Допустим, знаю. Но все-таки?
— Антош, — говорю, — ну вот чего ты уехал? Остался бы у меня. Ваня только завтра возвращается.
— Клепкин, — таким тоном, как с детьми разговаривают, — мы ж все обсудили. По-моему, я доходчиво объяснил: у меня к тебе любовь. Любовь. Знаешь такое слово? Или у вас в Москве ничего подобного уже не бывает?
— Бывает, — отвечаю, — еще как.
— Почему ж ты тогда не в курсе, что, когда эта самая любовь с человеком случается, он ни с кем свою любимую делить не хочет? Невозможно это — никак. Пойми: ты мне нужна вся, всегда, постоянно. Я хочу с тобой жить. Утром с тобой просыпаться, вечером к тебе с работы возвращаться. Свадьбу хочу. Семью. Детей. Хочу, чтобы ты была моя жена. А ты что предлагаешь? Ездить в Москву трахаться, когда твоего Вани дома нет? И начисто все опошлить? Забудь. Можешь считать, что я такой гордый.
— Антош, — я уже чуть не плакала, — ну послушай: не могу я так сразу все порвать. Время нужно. Только нам-то зачем его, это время, терять?
— Времени нужно меньше, чем ты сейчас тратишь на разговоры. Сказала: прости, ухожу — и все. Одна секунда. Тяжело, кто спорит, но… я же не заставляю. Выбирай. Как решишь, так и будет.
— Антоха! Да пойми ты!..
— Понимаю — с одной стороны. А с другой — ничего понимать не хочу. Если есть у тебя ко мне чувства, будь со мной. А на нет… как говорится, и суда нет.
— Но все же совсем не так!..
— А как? Что тебе всего и сразу хочется, это я вижу, можешь не объяснять. Про Москву я уже говорил: хочешь там жить — я приеду, устроюсь. Для начала, понятное дело, ничего особенного не обещаю. Но что землю грызть буду, не сомневайся. Только выбирать все равно придется. Два мужика — даже для тебя жирно, хоть ты и царица. Ваня твой, может, и согласился бы, а я — ни за что.
— Антоша, я тебя прошу, подожди немного, дай мне подумать…
— Нет, Клепка, на «подумать» времени у тебя был вагон. Давай говори прямо сейчас: кто? Я или он?
— Но…
Тут Антон надолго замолчал, и я тоже дыхание затаила, пошевелиться боялась. А потом он заговорил, совершенно другим, железным таким голосом:
— Понял. Все ясно. Не любишь ты меня, Клепка. Просто упустить не хочешь, натура твоя жадная не дает. Но ничего, я тебе помогу. Слушай меня внимательно: все кончено. Не пиши мне и не звони больше. Отвечать не буду.
Я оторопела, слова вымолвить не могу. Он помолчал еще секунду, сказал:
— Прощай, — и бросил трубку.
Я гудки слушаю и ни ушам своим, ни глазам, ни вообще ничему не верю. Что это? Как это? Чтобы Антоха — вот так — со мной? Да быть того не может!
Через две минуты, только-только опомнилась, набрала его номер. Не подходит. Ладно, думаю, подожду, остынет, передумает. Хожу по квартире от стены к стене, места не нахожу, каждые пять минут перезваниваю. Ни ответа, ни привета. Так прошло несколько часов. Я их как под наркозом провела — без чувств и мыслей. А когда дошло до меня, что Антоша без шуток со мной распрощался, тут-то мне каюк и настал. Как же я рыдала! Сроду такого не было. Уже и глаза заплыли, и нос до боли заложило, а я все реву и реву белугой. Кричала даже. Странно, что соседи не прибежали.
Потом — не знаю когда, стемнело уже на улице — начала в себя приходить. Заметалась: делать ведь что-то надо. Домой ехать? А Ваня как же? Странно будет, если я перед самым его возвращением свалю. Лучше подождать для приличия, видимость создать, что ничего особенного не происходит. Ладно, думаю, за сегодня-завтра Антоха никуда не денется, только в разум войдет, а на третий день к вечеру я к нему приеду и уж как-нибудь уломаю не совершать резких движений. Налила себе сладкого чаю, съела конфетку-другую, чуточку успокоилась и принялась размышлять, что Ване лучше сказать, какие вещи с собой взять и чем Антона в письме зацепить, чтоб не смог не ответить. На третьей конфетке стало казаться, что придумала я все — любо-дорого.
Включила поскорей компьютер и со страшной скоростью и кучей опечаток — будь я поспокойней, меньше б времени потратила — настучала Антошке письмо. Типа, не мучай меня так больше никогда. Знал бы ты, как я плакала. Я тебя люблю и жизни без тебя не мыслю, но пойми: Иван ради меня из семьи ушел, не могу я взять и на ровном месте — он-то ведь ничего не знает — его бросить. Дай мне, пожалуйста, время все уладить. Послезавтра я приеду, давай встретимся и все обсудим. Прошу, ответь, я очень, очень жду. Твоя Клепка.
Сто раз потом почту проверяла, и вечером, и утром, — пусто. Вот дурак упертый. Как я прямо.
Но я уже план составила и не сомневалась — победа будет за нами. Ванька вернулся, против моей поездки не возражал, и через сутки я уже к себе в Иваново катила. Мечтала, как меня Антон на вокзале встретит, обнимать-целовать бросится…
Зря надеялась.
Доволоклась до дома, пятнадцать минут передохнула, чаю с предками попила — и к Антохе. Подхожу к квартире, звоню. Цезарь загавкал, дворняга его здоровущая. Открывает мать. Цезарь — ко мне; лапы на плечи, в щеку лизнуть пытается. Насилу угомонила.
— Клепушка!
— Здрасьте, Татьяна Степановна, я к Антошке. Он дома?
Она замялась, потопталась на месте и бормочет:
— Клепушка, он ведь уехал. И даже мы с отцом не знаем куда. Далеко, по работе — и весь сказ. Какой-то у них там объект в Сибири… вроде бы…
— Что же, так молча и уехал?
— Нет, сказал: не переживайте, звонить буду. Но город не назову, не хочу, чтобы Клеопатра узнала. Она, говорит, обязательно к вам придет, поэтому я лучше промолчу, чтобы вы мой секрет не выдали. Что у вас стряслось-то, а? Чего он так вздернулся? Да ты проходи, проходи в дом.
— Нет, Татьяна Степановна, спасибо. — А сама еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. — В другой раз. Меня дома ждут, я ж только что с поезда.
— Как же вы сумели на расстоянии так поссориться?
— Сама не понимаю, Татьяна Степановна. Когда Антон объявится, скажите, что я заходила, ладно? И просила позвонить.
— Скажу, Клепушка, скажу, не переживай. Ты зайди потом, хорошо?
— Зайду, зайду. До свидания.
Никуда я, конечно, не зашла, тем же вечером назад в Москву уехала. Ни минуты покоя мне дома не было.
И нигде не было, никогда. Как поняла, что он мне действительно больше ни звонить, ни писать не собирается, для меня будто жизнь кончилась.
Что же делать-то? — думаю. Для чего по утрам вставать, умываться, причесываться, краситься, на работу ходить и в гости? С Ваней как общаться? Я только сейчас поняла, что последние месяцы жила на Антохе, как на бензине. Он один мне силы давал, причем на Ивана тоже; даже притворяться не приходилось, будто между нами ничего не изменилось. А тут вдруг щелк! — и Ваня мне стал посторонний взрослый дяденька, с которым в постель просто так не ляжешь. Неловко, стыдно, странно как-то. Не знаю, почему так вышло, сама удивляюсь.
Живу, как механизм, а в голове: Антон, Антон, Антон… свихнуться можно. Одно желание — сорваться и побежать, полететь, помчаться к нему. Увидеть, обнять, всем телом прижаться. Узнать бы только, где он. Но как? Вот ведь мука мученическая. Если с Иваном так же было, когда он в меня влюбился, не завидую ни ему, ни его Тате. Врагу такого счастья не пожелаешь.
Сначала думала: время пройдет — успокоюсь. Ни фига подобного. Чем дальше, тем хуже. Что ни случись, куда бы мы с Ваней ни шли, что бы он мне ни подарил — заметил мою тоску, вот и старался утешить, — все мои мысли только об Антохе. Пока перезванивались-переписывались, я, конечно, тоже часто о нем мечтала, но до такой степени все-таки не доходило. А тут мозги начисто отрубило, осталась одна извилина — та, которая про Антона умеет думать. Остальное на автопилоте: дом, работа, Ваня, койка.
А потом меня вдруг ударило: что же я делаю?! Неужели вот так и вся жизнь пройдет? Да не хочу! Нахрена мне Москва, если я ее в упор не вижу? На кой черт Ваня, когда я с ним ничего не чувствую, а он вдобавок этого не замечает? Страдает себе преспокойно свои собственные страдания… Что мы с ним за команда инвалидная?
Я словно прозрела. И быстро сообразила, как надо действовать. Позвонила Зинке, рассказала обо всем — до этого про Антона скрывала, чтобы она мне полоскание мозгов не устроила, — и велела:
— Как только он у родителей или вообще в городе появится, сразу мне свистни, поняла? Сразу! Немедленно! Из-под земли меня откопай, если что! Обещаешь, Зинка? Обещаешь?
— Хорошо, хорошо… — проворчала. — Ишь, бешеная. А я, между прочим, говорила: не влюбляйся. До добра не доведет. Ваньке-то пока не вздумай сознаваться. Слышишь?
Я и не собиралась. Даже если б можно было, какой смысл? Где ему меня понять?
Ведь у меня ЛЮБОВЬ.
10 Умка
Я и раньше, бывало, завидовала Татке, у нее всегда все правильней в жизни шло. Как полагается. Не то что у меня: детей не случилось, с благоверным Аркадием Анатольевичем пять лет вместе, а двадцать порознь, но не разводимся почему-то, достатком тоже похвастаться не могу — врачам у нас, сами знаете, платить не принято.
В детстве, когда меня спрашивали: «За кого ты выйдешь замуж?» — я всегда отвечала: «За короля Испании Хуана Карлоса». Искренне в это верила, хоть была и не совсем маленькая девочка, почти подросток. Вот и надо было придерживаться выбранной линии. А так…
Короче, Татке я завидовала, но не часто и по мелочи. Кольнет в душе на секундочку: черт, опять одним масленица, а другим великий пост — и тут же забудется. Встряхнешься и радуешься за подругу, как порядочная. Не желаешь, согласно Писанию, ни тряпок ее, ни осла, ни путешествий заграничных.
Но сейчас — увы. Святость моя не беспредельна. Когда третий месяц живешь воспоминаниями о Грансоле и смутными надеждами на то, что вдруг, может быть, если сложится, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, снова туда попадешь следующей осенью, то чьи-то восторженные звонки из Америки тебе как… серпом по молоту. Нет, все, разумеется, классно, и для Татки спасение, особенно после истории с Иваном, но… учитывая Осло с Парижем, полностью подавить в себе нормальное человеческое просто невозможно. У меня, во всяком случае, не получалось.
Первый раз она позвонила из Вегаса: Умка, нет слов! Это не город греха, а настоящий бред сумасшедшего, и мне здесь страшно нравится! Наслаждаюсь каждой минутой. В Лос-Анджелесе было здорово, а тут — вообще потрясающе!
Еще бы не потрясающе, когда Протопопов с новой силой для любимой Таточки расстарался. В компенсацию, я так понимаю, за свою «прелестную» выходку между поездками. Выступил он, конечно, гениально. Затеял уходить от жены — сам, между прочим, добровольно, никто не принуждал, с младенцами к горлу не подступался. Жена, к крайнему протопоповскому недоумению, не закричала: «Как прикажете, мой господин» и не уползла под корягу, а, наоборот, активно заявила протест. Уж не знаю, что вытворила, уксус пила или вены резала, Татка умолчала, но Протопопов жутко разобиделся на судьбу и немедленно выместил все на Татке. И ответственность попытался перевалить на нее же. Почему, говорит, мы с тобой решили так поступить? Ведь это чудовищно больно!
Да неужели? А раньше, до эксперимента, ты не догадывался?
Опять же — «мы с тобой»! Татка не нашлась что ответить. А он от ее молчания только раскочегарился: «Все было волшебно, а превратилось в кошмар! Я чувствую, что готов идти по трупам! Не хочу! Из-за любви к тебе я стал аморальным! Видела бы ты глаза моей жены!»
Да она в такие глаза весь прошлый год смотрела — в зеркале. И что?
Интересно, а до объявления об уходе он не знал, что изменяет жене? Я сразу вспомнила, как Иван на Лео бочки катил: та тоже крайне разрушительно влияла на его нравственность. Странная она у мужиков: вранье и двойную жизнь допускает, а честности почему-то не терпит. Но самое противное — можете меня расстрелять, я на сто процентов уверена, — если б разрыв с женой каким-нибудь образом привел к ее исчезновению из его гигантской квартиры и туда можно было бы привести Татку, Протопопов иначе смотрел бы на вопросы морали. Хоть он последнее время и заливал, что материальное потеряло для него всякое значение, он полностью изменился и понял, что в жизни истинно ценно, но… черного колдуна (Татка мне поведала про фокус с цветком) не отмоешь добела.
Ведь в реальности ситуация какая? Протопопову с Таткиным сыном и свекром не больно охота боками тереться. Значит, хотя бы на первое время надо снимать квартиру. А он этого в жизни выше крыши нахлебался. Небось как представит, что придется из своих хором черт-те куда с собакой переселяться, так дурно становится. И жаба, не сомневаюсь, душит: как? Все, что нажито непосильным трудом, жене оставлять? Да еще потом на два фронта горбатиться? Процесс накоплений заново начинать? Что называется, слуга покорный.
В общем, зуб даю: если б не это, никакие скорбные глаза его бы не остановили. Кстати, о глазах: у самого Протопопова, если ему хорошо и он в тонусе, они светятся фонарями. На отдыхе я это очень хорошо отследила. Зато в Москве все иначе — тоже наблюдала не раз, когда он при мне к Татке приезжал. Входит в квартиру дряхленьким дедушкой: серый, понурый, тусклый. А потом, через час-полтора, глядишь, энергией напитался, ожил. Взгляд заиграл, харизма, какая ни есть, на место приладилась — можно общаться. Так вот: пусть мне не рассказывают, что его «московская версия» без участия жены создавалась. Неладно что-то в датском королевстве — не только бабе Нюре, всякому ясно видно. И понятно, что Протопопову давно хотелось какого-нибудь переворота, а Татка оказалась великолепным поводом. Предпосылкой к созданию революционной ситуации. Как же: великая любовь! Где тут по-старому — нельзя. Ни верхам, ни низам.
Кризис пятидесятилетних — проблема известная. Но даже если отключиться от чисто физиологических заморочек «последнего понедельника», в таком возрасте, коли мужчина хоть в чем-то собой недоволен, он с особенной остротой мечтает о другой жизни. Естественно: самому измениться трудно, почти невозможно, да и лень на старости лет, так куда проще поменять все вокруг. Хорошо еще найти такое окружение, чтобы смотрело на тебя снизу вверх, — и мир наконец оценит, до какой степени ты мудёр.
Ну, с последним Протопопову не повезло, а в остальном, мне кажется, типичный случай. Рабочие его заслуги все в прошлом, сейчас он пожинает плоды и почивает на лаврах. Но в памяти-то сидит воспоминание о временах, когда его считали подающим надежды ученым! А люди в нем видят одно богатство. Которое мало ли откуда взялось. Таблички нет, что умом заработано. Может, нахапано — это гораздо чаще встречается. Собственно, по протопоповскому стремлению к символам успеха скорее так и подумаешь. Это ж не человек, а коллаж из престижных марок и занятий, — правда, довольно удачно составленный. Татка давным-давно говорила: «Протопопова губит природный вкус и интеллигентское воспитание. Мешают поддаться естественным порывам и утонуть в кричащей роскоши. Пошел бы он у себя на поводу — и был бы куда здоровей психически. Вредно постоянно себя ломать».
К тому же, добавлю я, когда цель достигнута, пропадает стимул развиваться дальше. Но забить на все ради какой-то сомнительной эволюции, которая неизвестно куда заведет, тоже боязно. Не всякий решится. В болоте вообще теплей, когда угнездился. Но душа просит полета, а душу не ампутируешь… вот человека и разрывает.
С женой у него, кстати, похожая история. Я не очень в курсе, что и как, но, насколько можно понять по Таткиным обрывочным замечаниям, со взаимопониманием там давно проблемы. Конечно, это по словам Протопопова; жена, скорее всего, удивилась бы, если б ей рассказали, что ее идеальный, благополучный муж много лет «тянет лямку, сжав зубы», и уверен, что все им пользуются, но никто не слышит и не замечает.
Нормальный, вообще-то, ход. Люди едут бок о бок в соседних рядах, их траектории не пересекаются — и слава богу, не то авария. А уж в одной машине попутчики, сидя рядом, вовсе не обращают внимания друг на друга. Отвлекаются очень, глазеют по сторонам. Потому-то для брачных отношений, особенно если впереди есть цель, некий «пункт Б», отчуждение — обидный, но почти неизбежный побочный эффект. Люди столь озабоченно вглядываются вдаль — как там, не замаячило светлое будущее? — что почти забывают о тех, с кем так весело выезжали из пункта А.
Другое дело, когда живешь сегодняшним днем, минутой, и тебе неважно, куда идти, — лишь бы вот с этим спутником. Но так очень редко бывает.
Короче, Протопопова подперло со всех сторон и наступил кризис. Для его разрешения, кстати говоря, подошла бы и менее достойная кандидатура, чем Татка. Ну а уж ею легко прикрываться: тут вам не хухры-мухры, а нечеловечески святые чувства! Хотя, если честно, я-то во всех протопоповских метаниях вижу не любовь, а самолюбование: вот какая у меня «Кармен-сюита». По-моему, Татка для него не живой человек, а символ, воплощение чего-то необыкновенного… черт его знает чего. Того, о чем с детства мечталось. Принцесса Греза, сказка. Если у них до быта дойдет, он, пожалуй, обидится. Причем ясно, на кого. Не на себя же.
Как, собственно, уже и произошло. Протопопов наворотил дел, довел жену, перепугался — и немедленно выкатил Татке кучу претензий. Устроил отвратительную сцену, обвинил ее во всех смертных грехах — у нее, видите ли, черное нутро и ей никого не жалко — и в довершение заявил: «Я тебя больше не люблю!» Якобы специально пытался оскорбить, чтобы она легче его забыла. Так он потом объяснял. Врал, конечно же. Просто закатил истерику от страха. Подлую и безобразную.
Татка, разумеется, оскорбилась, но все равно очень страдала и плакала. Я уж хотела ей по башке настучать: хватит рыдать из-за каждого кретина! Но не успела: через два дня Протопопов приполз просить прощения, глубоко раскаявшийся и с мешком радужных перспектив в зубах. До отлета в Америку оставалось всего ничего, Татка жутко не хотела лишаться запланированного турне — и простила, на мой взгляд, слишком легко и быстро. Я тогда еще сказала:
— Проучи его по полной программе, иначе он и дальше будет закидываться. Промаринуй как следует, пусть до последнего не знает, как едет — один или с тобой.
А она:
— Я что, Макаренко? Зачем мне это нужно?
— Хотя бы для себя.
— Я предпочитаю знать, какой он на самом деле. Можно обучить его маскироваться, но по сути он останется прежним, и все только усложнится. Да и в целом это занятие не перспективное.
— Почему?
— Вряд ли мы с ним долго продержимся.
— В каком смысле?
— Сама не знаю. Я от него устала. Любовь вообще вещь громоздкая…
— Сказала! Любовь — дар Божий, — язвительно провозгласила я.
— Ага, в большой картонной коробке с огромным бантом, за которым ничего не видно. И своя-то коробка мешается, а уж чужая… Да когда еще ее ни на секундочку нельзя отставить…
— Выражаясь проще, он тебе надоел.
— М-м-м… да.
— И что собираешься делать?
— Не знаю. Подумаю после Америки, сейчас как-то не до переживаний. К тому же в поездках у нас все меняется, компаньоны мы весьма неплохие. Впрочем, если б не его навязчивое стремление расстаться с женой, мы бы и тут вполне идиллично существовали.
— По-твоему, он действительно хочет от нее уйти?
— Понятия не имею. Вряд ли он сам знает. Думаю, он хочет всего, сразу и побольше. Ему хорошо со мной, но ни жену, ни дом он терять не хочет — свое ведь, кровное. И потом, он невероятный консерватор…
— И его пугает мысль об унитазе незнакомой формы?
— Зришь в корень. Только, Умка… ну его! Не слишком ли много мы о нем говорим?
Однако, как вскоре стало понятно, в Америке абсолютно все, в том числе Протопопов, воспринималось существенно иначе. Я сто лет не слышала такого бодрого Таткиного голоса. Даже в Испании. Там она была просто веселой, а сейчас — натуральный источник энергии. Хоть заряжайся от нее через трубку.
Несколько дней в Лас-Вегасе вместили целую жизнь. Днем оба умудрялись работать. Протопопов отваливал на свою конференцию, а Татка сидела в номере — естественно, умопомрачительно роскошном — и заканчивала иллюстрации для книжки. Пришлось взять из Москвы, сроки поджимали. Зато каждый вечер они ходили на всевозможные шоу, ужинали с протопоповскими партнерами, гуляли и даже играли в рулетку — как выразилась Татка, «тут столько всего, что на казино руки не доходят посмотреть». Ночи тоже были сильно заняты, не только естественным процессом, но и походами по разным заведениям; спать удавалось урывками. Кроме того, Протопопов в первый же день в Лос-Анджелесе взял напрокат какой-то шикарный кабриолет — на нем они в Вегас и приехали, — и теперь каждую свободную минуту они гоняли из конца в конец по городу, хотя Вегас, если я правильно поняла, не так уж велик.
Они еще собирались в Сиэтл к общим знакомым, те работали вместе с Иваном и Протопоповым, пока не уехали в Америку. Дальше Протопопов отправлялся в Москву, а Татка — навещать институтских подруг. Десять дней в Нью-Йорке и десять в Бостоне.
Ну и можно ли ей после этого не завидовать? Черной-пречерной завистью? Я так и сказала, когда она последний раз звонила, уже из Нью-Йорка. Совершенно обалдевшая. Умка, говорит, я и не подозревала, что такое бывает. Ты не представляешь, как Америка на меня действует. Извини за банальность, но это страна свободы.
— И демократии?
Она только хмыкнула в ответ.
— Так все-таки — от кого свободы?
— От всего и всех. От себя и своего социального статуса. Я здесь другая — совсем-совсем. Хожу целыми днями одна — Анька моя на работе, вечером только встречаемся, зато на углу Сорок седьмой и Парк-авеню, представляешь? — и чувствую себя преотлично — со своим возрастом, полом, внешностью, одиночеством. Понимаешь?
— Еще как. И завидую.
— Есть чему. Я давно не была такой… уверенной и сильной. Последние двадцать пять лет точно.
— А Протопопов?
— Что?
— Не скучаешь?
— Ни секунды. Некогда. Впрочем, он и не дает: пишет сумасшедшие письма, звонит постоянно.
— Что говорит?
— Как положено: люблю, тоскую, жду не дождусь возвращения. Когда приедешь, сниму квартиру, будем жить вместе.
— Ужас какой.
— Вот именно. Но я не в состоянии сосредоточиться настолько, чтобы вразумительно ему ответить.
— А что бы ответила, если б сосредоточилась?
— Что не могу бросить сына и Ефима Борисовича. Но буду иногда ночевать в этой его квартире.
— Так ты не собираешься с ним расставаться?
— Ой, Умка, слишком сложные вопросы! У меня здесь не получается об этом думать!
— Чем же у тебя голова занята? Признавайся.
— Вот, например, завтра Анька ведет меня в киноклуб. Тут образовалась компания человек в двадцать, собираются раз в месяц и обсуждают фильмы, которые надо предварительно просмотреть.
— А для тебя среди этих двадцати ни одного не найдется?
— Смешно, что ты спрашиваешь, ведь именно по этому поводу у местных дам жуткие волнения. Завтра в первый раз придет один человек… Его почти никто не знает. Год назад развелся, переехал в Нью-Йорк и работает с приятелем первого Анькиного мужа, который его и пригласил, — приятель, в смысле. Без спроса, по собственной инициативе. Слишком путано?
— Нет, нормально, сойдет. И что он, этот человек?
— Да ничего. Просто как всякий временно холостой товарищ, вызывает повышенный интерес.
— Тебе сватают?
— Там кроме меня есть пара-тройка претенденток. Помоложе.
— Ладно прибедняться-то!
— Да тут прибедняйся не прибедняйся, все равно наши акции давно упали до нуля.
— Ничего, я уверена: если он нам понравится, то…
— Все, Умка, хватит! Если серьезно, у меня в мыслях ничего не было…
Но при этом рассмеялась таким юным, счастливым смехом, что я в очередной раз ей позавидовала.
Сейчас, думаю, опять заведет роман, выйдет замуж и уедет в Америку, а я…
Впрочем, что я? Меньше чем на Хуана Карлоса я все равно не согласна.
11 Иван
Я так долго мечтал о встрече. Почти год. Продумывал ходы, выстраивал алгоритмы, перебирал варианты, возлагал надежды.
В итоге все оказалось намного проще — и совершенно бесполезно. Хотя поначалу я этого не понял.
Она вернулась из Америки под Новый год — что и было моим главным козырем. Праздник как-никак, к тому же семейный. Тем не менее, набирая номер, я не ждал, что она ответит. И вдруг услышал ее голос — еще красивей, чем прежде, глубокий, богатый оттенками, чувственный. Уверенный. Любимый. Чужой.
— Тусенька! — воскликнул я, и у меня перехватило дыхание. Вдруг стало ясно, что я потерял право называть ее этим именем. — Как я рад, что ты взяла трубку! Как приятно слышать твой голос!
На глаза навернулись слезы. Я порядком выпил для храбрости.
— Рада, что ты рад, — ответила она.
Мы говорили долго, точнее, говорил я, а она реагировала — в меру эмоционально, иронично, очень светски. Потом я вспомнил: так она беседует с посторонними. Но все равно был уверен — начало положено. Скоро все станет по-другому. Я попрошу прощения, и она изменится, оттает, вернется. Мы ведь товарищи.
Договорились встретиться; Тата сказала — лучше в ресторане.
— Я безумно счастлив! До свидания, целую тебя! — восклицал я, прощаясь.
— Гм, — нарочито поперхнулась Тата и с усмешкой добавила: — Ты ж понимаешь.
Тогда показалось: вот она, моя вредина Туська! Никуда не делась!
Увы. Если б все решалось так просто.
Я заехал за ней перед рестораном и поразился: до чего хороша! Она была такой, как четверть века назад, — нет, лучше, эффектнее, — и светилась изнутри потаенным, радостным, каким-то нездешним светом. Руки невольно потянулись обнять ее, напитаться волшебством, отогреться — но этого было нельзя, я сразу почувствовал.
Я ждал с цветами у подъезда, и Тата, выйдя на улицу, сразу предложила подняться и поставить букет в вазу: зачем таскать его по морозу? В горле стоял ком, но отступать было некуда; я переступил родной в недавнем прошлом порог, и щеки внезапно обожгло слезами. Я попытался их скрыть, и, кажется, мне это удалось — либо Тата деликатно сделала вид, будто ничего не заметила. Она вела себя очень естественно и спокойно, с легким недоумением воспринимая мое слишком очевидное волнение: ну что же ты так переживаешь?
В голове вертелось: «все как было, и все не так»… Что это, танго? Не помню. Но только моя жена, все еще моя жена, действительно неуловимо — и необратимо — изменилась. Я смотрел и не узнавал ее. Откуда взялась эта откровенно тигриная, с опасной ленцой, повадка, эта сила, пружинистость, неуязвимость? Кто эта гибельно привлекательная женщина, которой нет до меня дела?
Тата рассмеялась:
— Почему ты так смотришь?
— Ты красивая.
— Спасибо за комплимент.
— Это не комплимент, — начал я, но Тата лишь отмахнулась:
— Пойдем скорей, я голодная.
Она с нескрываемым удовольствием ела — большая кошка, грациозная даже в своей хищности, — слушала мою глупую болтовню, изредка останавливая на мне пристальный зеленоватый взгляд, кивала, коротко отвечала на вопросы об Америке, смеялась шуткам, вовремя становилась серьезной. И при этом лучилась, лучилась, лучилась — во все стороны, кроме моей, а на меня смотрела подчеркнуто внимательно, но равнодушно.
У нее кто-то появился, шепнула в ухо моя неразлучная и коварная подруга ревность.
Нечего было радоваться, что Протопопов ходит на работу, когда она в отъезде, — значит, она вообще его бросила! То-то он весь дерганый и мрачный.
— Тата, у тебя кто-то есть? — не выдержал я.
— Можно не отвечать на этот вопрос? — Она сдержанно улыбнулась, но на короткое мгновение ее лицо осветилось такой нежностью, что мне решительно все стало ясно.
Я похолодел и сменил тон. Заговорил сухо, деловито, немного ворчливо. Тата почувствовала это и долго, несколько минут, молча смотрела на меня, водя пальцами по ножке бокала. Потом ее губы дрогнули в едва заметной улыбке. К сожалению, я никогда не умел скрывать от нее свои эмоции.
Мне страстно захотелось перестать притворяться и все-все ей вывалить, скопом: что я скорблю о нашем невозвратном прошлом и умершей любви, что, вопреки здравому смыслу, мучительно люблю ее, только по-другому, что мое нынешнее чувство бесконечно с точки зрения вечности, но и его не хватит, чтобы начать все заново. Что моя истерзанная душа и разорванное в клочья сердце истекают кровью от ее безразличия. Что я устал и запутался. И с нашей встречей лишился последней надежды на спасение.
«Бедный ты, бедный», — вздохнула бы Тата, и мне стало бы чуточку, капельку, малую малость легче.
Но я ничего не сказал, наоборот, расхвастался про успехи в работе, фанфарон несчастный. А потом отвез ее домой. Она махнула мне рукой и скрылась в подъезде.
«Хана тебе, братец, — криво усмехнулся я своему отражению в зеркале на лобовом стекле. — Можешь забыть про настоящее лицо». И поехал к Лео.
Как бы я мчался к ней год назад! И куда все ушло? Кто вообще придумал раздавать и отбирать чувства? Голозадый мальчишка с колчаном? Больно, когда его стрела пронзает сердце, больно, когда ее оттуда выдирают, истязающе долго саднят, не хотят заживать раны.
Если бы знать заранее… что бы изменилось? Да ничего! В том-то и ужас.
Что сделаешь, когда любовь приезжает за тобой на черном «воронке» и, ткнув дуло между лопаток, уводит в неизвестность, в считанные часы перевернув вверх дном, выпотрошив, искорежив и растоптав все, чем ты жил раньше? Что ты можешь сделать, когда с тебя первым делом сдирают ум, честь, совесть, чувство долга и собственного достоинства?
Ничего не можешь. Уж поверьте. На себе испытал.
И не слушайте тех, кто станет возражать. Значит, их не коснулось. Не опалило.
Тем вечером я напился до беспамятства.
А утром, благостный в своем страдании и полном отвращении к себе, смотрел на Лео, которая с терпеливой брезгливостью меня обихаживала, и не понимал: что здесь делает эта девочка, такая печальная последнее время? Как ее угораздило оказаться со мной? Что за несчастливая судьба?
Мне вспомнились наши первые дни вместе: восторг, упоение, полет. Блеск карих глаз, тихий смех в темноте. Тогда казалось — жертвы не напрасны, все верно, все правильно, того стоило. Но сейчас я неожиданно понял: она совершенно переменилась. Совсем другой человек.
— Лео, ты меня еще любишь? — плохо ворочая языком, спросил я.
— Нашел время! — недовольно отмахнулась она и встала, забрав чашку. — Лежи тихо, горе!
Я послушно затих, но продолжал думать о ней — о том, что она почти не улыбается, и много грустит, и не заглядывает мне в глаза, как раньше. Ей плохо со мной — эта мысль не удивила, не стала открытием. Оказывается, где-то в глубине души я знал, что наши пути расходятся. Мне сделалось нестерпимо жаль всего сказочного и несбывшегося, что так опрометчиво посулили нам звезды. Может, еще получится все исправить?
— Лео, давай поженимся, — тоскливо сказал я, когда она вернулась в комнату.
— Протрезвей сначала, — почти зло бросила Лео, откинула за спину волосы, села в кресло и включила телевизор.
А ведь ждала от меня этих слов. Давно ждала, долго! Похоже, и у нее кто-то есть, обреченно подумал я, проглотил подступившие слезы, отвернулся к стене и заснул.
Следующее утро началось как обычно. Мы оба делали вид, что не помним о моем предложении, хотя мне первое время было неловко — как поступить, если Лео поймает меня на слове? Я не хотел жениться. Черт его знает, чего я вообще хотел. По какой-то загадочной причине я, образно говоря, очень быстро мчал вперед задним ходом — не успевая понять, куда все-таки еду и зачем постоянно выворачиваю голову. Странное чувство, нелепое положение. Шея, опять же, устает.
С Татой мы часто разговаривали по телефону. Почти каждый день. Пользуясь вновь обретенным правом, я звонил ей с работы и позволял себе тешиться иллюзией, что вернулся в прошлое. Будто никогда никуда не уходил и просто хочу узнать, не надо ли что-то купить по дороге. Тата, похоже, понимала это и разговаривала со мной будничным, домашним, до боли родным голосом, однако было не похоже, что и она тоскует о старой жизни. Наоборот, иногда казалось: упивается собственным равнодушием. Что ж, если так, я это заслужил.
Меня постоянно тянуло домой, и при всякой возможности я заезжал туда, якобы к отцу с сыном, помочь по хозяйству, но на самом деле — к себе. Тому, который «Ваня и Туся». Нерасчлененный. Тата относилась к моим визитам спокойно, даже не без удовольствия, но временами в ее словах и жестах сквозило тщательно скрываемое нетерпение: когда же ты наконец уйдешь? Меня это расстраивало, но неизбывное ощущение своей вины не позволяло роптать; я постоянно чувствовал себя… рожденным ползать. Изредка, впрочем, в груди вскипал бунт: да простишь ты меня когда-нибудь или нет? Сколько еще перед тобой выслуживаться? Но в сущности, я понимал: дело не в ней, а во мне. Я сам запрещал себе обрести покой. Отбывал наказание? Вероятно.
В какой-то момент до меня дошло, что я хожу в свой старый дом как на кладбище или пепелище — вспоминать, плакать, улыбаться сквозь слезы. Словно в фантастическом фильме, я попадал в параллельный мир, где на моих глазах безмятежно и счастливо текла жизнь дорогих мне людей, когда-то и моя тоже, но мне в ней не было места, почему-то я стал невидим! А впрочем, какое кладбище, фильмы? Все куда проще: для них умер я, бестелесным призраком путаюсь под ногами, и максимум, что еще можно ощутить в моем присутствии, — легкий, неприятный холодок.
Ужаснувшись, я покорно принял и это. Что мне оставалось?
Лео была недовольна, ревновала, боялась, что я вернусь к Тате, устраивала скандалы, рыдала. Я втайне наслаждался ее истериками: значит, я ей не так безразличен, как кажется. Значит, кому-то я все-таки нужен. Пожалуй, это одно и скрепляло наш союз. На все остальное, происходившее с нами, мы смотрели словно из окна поезда. Каждый из своего купе.
Так, скучая и предаваясь невеселым размышлениям, мы проехали зиму и часть весны. А в середине апреля, когда природа, как водится неожиданно, встрепенулась и принялась дразнить людей и зверей, так же неожиданно я осознал: все, добрались. Конечная.
Я пригласил Тату погулять в Ботанический сад — как тысячу раз прежде, в старые добрые времена. Мы долго бродили, беседуя ни о чем; вокруг, пробуждаясь, бодро расправляли ветви наши многолетние знакомцы.
Когда разговоры иссякли, мы затихли, и молчание нас нисколько не тяготило. Нам давно не было так хорошо и уютно вместе.
Вечером, уже в темноте, я подвез ее к дому, и со мной что-то произошло. Я перестал бояться и очень просто сказал:
— Тата, давай попробуем снова жить вместе.
Она удивленно взглянула на меня. Помолчала. Ласково провела пальцами по моей руке.
Виновато улыбнулась.
И отрицательно помотала головой.
* * *
Лео, дожидаясь меня, сидела на кухне. Даже не вышла встретить.
Я принес ей нарциссы и положил на столе, рядом с чашкой недопитого чая.
— Давай все-таки поженимся. Хватит уже неопределенности, — чуть менее решительно, чем собирался, произнес я.
Лео, водившая пальцами по краю чашки, на минуту оцепенела. Потом впилась пристальным взглядом мне в глаза — и внезапно шваркнула чашку о стену.
Помолчала, рассматривая разлетевшиеся по полу осколки. И, кивнув, страшным голосом процедила:
— Хватит.
На приворотах у человека все рушится, вспомнились вдруг слова Сани. Я горько усмехнулся: со мной высшие силы явно разобрались по-крупному. Не размениваясь на мелочи типа здоровья, работы и денег, они лишили меня всей судьбы целиком.
Я опустил голову, вышел из кухни и осторожно прикрыл за собой дверь.
12 Тата
Я тысячу лет не звонила Сашке. Между тем Умка рассказывала про нее интересные вещи — «пражскому роману» исполнилось уже несколько месяцев. А ведь он, по сути, завелся с моей легкой руки: не нашла бы Саня работу и не познакомилась с клиенткой, которая предложила ей съездить в Прагу, и не встретилась бы по дороге со своим, по словам Умки, «потрясающе классным» Максом. Я сама его еще не видела, но…
Раздался телефонный звонок. Эта телепатка, по обыкновению, в две минуты отловила мои мысли.
— Привет, пропащая! Как дела? Докладывай.
— Дела? Хорошо. Все в порядке.
— Как твои многочисленные козлики?
— Не преувеличивай, у меня их раз, два и обчелся. Лучше расскажи, как твой новый знакомый?
— Не такой уж и новый, мы почти полгода вместе.
— Вместе? Совсем?
— Когда Макс в Москве — да. Утверждает, что без моих пирожков жизни не мыслит. Все шуточки шутит. Но нам с ним правда очень хорошо. Хотя изредка Макс от моей астрологии чумеет и к себе на квартиру сваливает. А то, говорит, без даты рождения я — изгой на этом празднике жизни. На самом деле его тетки-клиентки раздражают. Да и в кухню не зайдешь, когда я гадаю. Опять исключительно на дому принимаю, до салона доползти времени нет: надо Максику семейное счастье обеспечивать.
— А сама-то ты? Счастлива?
— Промолчу — сглазить боюсь, все же карты его не знаю. Как у нас дело повернется, одному Богу известно. Ну и бабе Нюре, конечно. Только я до нее с прошлого года никак не доберусь. Но пока жизнь просто супер! В начале лета, наверное, в Прагу поедем с Темкой, Макс очень зовет. Он вообще хочет меня к своему бизнесу привлечь… Татка, знаешь, я действительно жутко боюсь сглазить — слишком все гладко, поэтому давай закроем тему. Не обижайся, ладно?
— Да что ты! И не думала.
— Как там твой Протопопов?
— Понятия не имею.
— То есть? Что с ним? Куда делся?
— С ним — все. Он… улетел.
— Как это — улетел?
— «Как, как». На метле. В лучших колдовских традициях. Не забыла, что он твой коллега? Умка же тебе рассказывала про цветок.
— Ты можешь серьезно объяснить?
— Могу. Дело было так: после моей Америки он все порывался уйти из дома, только…
— Жена вцепилась мертвой хваткой?
— Да, но не в том суть. Ее нетрудно понять. Зато он, опять же в лучших традициях, как настоящий мужчина, избрал весьма сложный способ ухода: постоянно клялся, что с романом покончено, а сам каждую свободную минуту бегал рыдать у меня на груди и всячески нарывался на разоблачение. Что в итоге смертельно надоело, причем наверняка не одной мне. Не знаю, чего я тянула? По глупости? Из жалости? Или еще надеялась, что с женой как-нибудь утрясется и тогда я опять съезжу с ним в Америку? Он хотел там покататься на лыжах, а я — с друзьями лишний раз встретиться. Вот такая стала корыстная — твоими молитвами. Хотя, если честно, путешествовать в его компании мне больше не улыбалось…
— Почему это? Он же тебе райскую жизнь организовал, деньгами швырялся направо и налево, сама рассказывала…
— Да. Пока мы были вместе. Но потом, при отъезде… меня кое-что неприятно поразило.
— Что?
— Он… проявил невнимательность, и я…
— Татка, не темни.
— Видишь ли… если уж о деньгах… он улетал в Москву, но ему в голову не пришло поинтересоваться, с чем я, собственно, остаюсь. Нет, я бы не взяла, но сам факт, что не озаботился, — при всей якобы любви, — как мне кажется, говорит сам за себя.
— Да уж. Мужики почти все жадные до безобразия.
Естественно. Сашка в своем репертуаре.
— Твой Макс тоже?
— Нет. Макс — исключение. Но, Татусь… в конце концов, ничего страшного! Надо было открытым текстом сказать: ну-ка раскошеливайся. Протопопов вообще воспринимает только четкие указания. Устройство такое у человека: интуиции, чувствительности — ноль. А ты к нему со своими мерками…
— Саня, не притворяйся, будто ничего не понимаешь. Тут ждешь не денег, а внимания.
— Ну, знаешь! Он тебе столько всего обеспечил, а ты…
— Мне — и себе тоже. Главным образом себе, а мне — заодно, как непременной составляющей его удовольствий.
— Да ладно! И то хлеб.
«Хлеб содержанки горек», — тут же родилась сентенция у меня в голове.
— Разумеется. Только мне вдруг стало ясно, что ему важна не я, а влюбленность в меня. Наш роман — непрерывное «сделайте мне красиво», за которое он платит. Как продюсер за фильм. И я интересую его исключительно как актриса — в рамках отведенной роли. А моя реальная жизнь — какие-то там родители, сын, свекор, магазины — только раздражает, потому что мешает съемкам. Но я же самый обыкновенный человек, а не «праздник, который всегда с тобой»… Словом, мне это не нужно, и я еще в Америке решила с ним расстаться. Просто тянула резину по инерции, не хотела сцен, объяснений. А тут все само получилось. Я даже обрадовалась.
— Что получилось-то?
— Жена выяснила, кто я такая, привлекла к делу не то экстрасенсов, не то колдунов, и они хором начали убеждать Протопопова, что я сделала на него приворот. А с ним, между прочим, с осени творилось то же, что с Иваном в прошлом году. Мы еще удивлялись, что ситуация повторяется, как в зеркале. Он метался, жаловался, что дома невыносимо плохо, но уйти не мог, не получалось. Кстати, он и злился на меня в точности как Иван на Лео.
— Здрасьте, это еще за что?
— Как за что? Испортила ему картину мира: если б не я, он бы и не узнал, на какие подлости способен.
— Ясно: ты злодейка, он — невинная жертва, а жена — святая великомученица.
— Точно. «Я не хотел, меня заставили». Собственно, это работало в обе стороны: когда он за что-то оправдывался передо мной, виновата оказывалась жена.
— Хорошо, а дальше что?
— Под Новый год посыпались неприятности. То чуть под машину не угодил на пустой улице, то собственная собака покусала, в результате — сердечный приступ и больница…
— Похоже на порчу.
— Ты-то, надеюсь, не веришь, что это я навела? А наш, как он себя называет, стопроцентный материалист поверил. Почти. Осторожно выспрашивал всякое, из чего было ясно: подозревает! И знаешь, я обиделась. Чтобы не сказать больше. Правда, до известной степени я сама виновата…
— В чем это?
— Когда он попробовал приворожить меня цветком, я разозлилась, но потом решила подыграть. Ради смеха. В Барселоне это казалось естественным. Вот и начала изображать сумасшедшую любовь, будто бы колдовство подействовало. И Протопопов если и не уверовал в магию, то, во всяком случае, засомневался — а вдруг? Хоть и говорил, что цветок — ерунда, просто я, мол, увидела, какой он хороший, и влюбилась. Я ничего не отрицала.
— Коварная. Но все-таки, что у вас произошло?
— Когда мы последний раз виделись, он сказал: «Дальше так невозможно, все равно живу только тобой, от встречи до встречи. Давай еще раз съездим в Америку, а когда вернемся, больше не будем расставаться». Рыдал, целовал руки и клялся в вечной любви, а наутро прислал сообщение: «Не могу идти по трупам. Прощай». Вот. За ночь завалило трупами так, что не пройдешь. Хотя, вообще-то, я рада. Неприятно, конечно, и Америки жалко, но уж лучше я одна съезжу, чем…
— Татка, ты что? Это ведь очередной закидон. Я же помню вашу карту. Он может полгода дома под диваном просидеть, но потом умирать будет, а к тебе приползет.
— Упаси господь.
— Объявится без вопросов. Хочешь, посмотрю когда?
— Нет! Ни в коем случае! Я не хочу с ним знаться, пойми! Да и жену его стало жалко. Наконец-то. А то я все переживала из-за своей бесчувственности.
— Может, ты и не бесчувственная, но уж больно спокойная. Говори, в чем дело? Почему тебе на Протопопова наплевать? Иван захотел вернуться?
— Захотел.
— Да ты что?! Поздравляю.
— Спасибо, но… не с чем. Он предложил, а я не согласилась.
— Совсем с ума сошла? Вот балда! Почему?
— Не знаю, как объяснить. Не хочу, и все.
— Извини, не поверю! Должна быть более веская причина. В Америке кого-то подцепила? Помню, помню: у тебя шли неплохие транзитики, я еще думала — повезло Протопопову, счастье привалит неземное. А она, глядите, на сторону подсуетилась! Не устаю повторять: мне бы твою карту.
— Санечка, не придумывай. Никого я не цепляла. Знакомилась, естественно, с новыми людьми, но…
— Морочишь ты меня, Туська, ну да бог с тобой. Все равно мы все про тебя выясним. Ты же знаешь: тайное становится явным. Особенно у меня в компьютере.
— Хорошо, хорошо, вот приеду в гости, тогда и выяснишь.
Кое о чем я действительно умолчала.
Во-первых, не призналась, как сильно меня уязвило протопоповское предательство.
Всю осень я самозабвенно играла в любовь, и это не прошло безнаказанно. Я вжилась в роль, маска приросла и стала моим лицом. Другой Таты для Протопопова давно не существовало, а новая, виртуально влюбленная, могла и умереть от разбитого сердца; он не должен был ее оставлять. Не имел права.
Тайная, недоступная ему часть моего «я» приветствовала расставание: я слишком завязла, чтобы выпутаться сама, но меня давно тошнило от собственной целлулоидности. И вместе с тем я жестоко страдала: Протопопов оказался недостоин великих чувств. Пусть иллюзорных — неважно. Все равно трагедия. Ведь в Америке кое-что изменилось: нам выпало целых три дня настоящей взаимной любви. Почти-почти настоящей.
Сиэтл завалило снегом. Все планы порушились; мы безвылазно сидели в доме друзей. Я не скучала — мне нравилось играть с их маленькой дочкой. Протопопов влажным взглядом наблюдал за нашей возней и при каждом удобном случае шептал:
— Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю!
Он говорил, что ему хочется повторять это бесконечно, как мантру, что при виде меня с ребенком у него щемит сердце, грызут сожаления о не прожитой вместе жизни. В нем проступило нечто удивительно открытое, детское, — и я устыдилась, что обманываю его, и по легкому покалыванию в душе догадалась: она оттаивает. Страшная вещь — глобальное потепление: что мне делать без ледяного панциря? Между мной и Протопоповым проблеснуло… не знаю, как и назвать… божественное? Во всяком случае, ночами, в заснеженной, ватной тишине дома я понимала, что могла бы его полюбить.
Почему же именно теперь, снова став для меня человеком и пробудив человека во мне, он решил покончить со мной зверским способом? С той, кого он «любит, любит, любит»? И кто — в его вселенной — «живет им одним»? Почему он поверил, что я способна навести порчу, почему сбежал от меня столь позорно?
Мне вспомнилась одна его фраза: «Иван устал вкушать ананасы в шампанском, ему захотелось простой жирной котлеты». И меня осенило: для Протопопова я была сказкой, которую он даже не собирался делать былью!
Потому что котлеты — отдельно.
Вот — причина; остальное — поводы.
Это не укладывалось в голове, однако и выкинуть оттуда Протопопова не получалось: без него не произошло бы то, на что я не смела надеяться. Вместе с ним отвалилась корка моего несчастья, он повез меня в Америку и помог оттаять, благодаря его стараниям я…
Не успев оттаять, влюбилась.
И это второе, о чем не догадывалась Сашка. Это вообще была моя великая тайна.
Анька привела меня в киноклуб, познакомила с теми, кого я не знала. Остальные радостно восклицали:
— Татошка! (Мое институтское прозвище.) Наконец-то к нам выбралась!
Я оживленно разговаривала со всеми подряд, хохотала, объясняла, как дошла до жизни такой — образование программистское, а работаю иллюстратором, — но краем глаза не переставала следить: не появился еще новый и разведенный? Почему-то мне страшно хотелось… понятно чего. Чуда.
И оно случилось. Стоило нам с Анькой окончательно успокоиться насчет обещанного «подарка» — не придет, собака такая, — и увлечься болтовней с бывшим однокурсником, как сзади кто-то воскликнул:
— Аня? Тата?
Мы обернулись — и мое деревянное сердце впервые за вечность дрогнуло и, волнуясь, пропустило удар.
— Миша?
Мы встретились глазами.
Обаятельный прищур, длинные черные ресницы.
Искра.
Это — он, беспомощно поняла я.
Старый-старый знакомый, еще недавно — муж Оксаны из параллельной группы. Мишка — Майк — был на два курса старше нас. С Оксаной они развелись, Майк нашел работу в Нью-Йорке и успел прожить здесь два месяца. Его как будто специально сюда переправили.
После двух секунд крайнего изумления встреча стала казаться не просто естественной — предначертанной. За весь вечер мы ни на шаг не отошли друг от друга. «Молодые претендентки» смотрели на меня косо и обреченно, но не отстаивали своих прав. Понимали: тут действует фатум. А ему лучше не мешать.
Фатум плеснул бензина в костер, бросил спичку и проворно отскочил назад, не отрывая от нас насмешливого и любопытного взгляда. Наутро после заседания киноклуба Майк улетел навещать детей, а к его возвращению я была уже в Бостоне, куда он не мог приехать из-за работы. О чувствах мы не сказали ни слова, но часто перезванивались и подолгу разговаривали, пока я гостила в Америке. То же самое продолжалось в Москве, только прибавилась переписка.
Майк настойчиво звал к себе в гости, но… для меня все было очень серьезно. Что, если для него нет? Как потом уезжать в Москву, как жить дальше?
Я малодушно прикрывалась Протопоповым. Майк «все понимал», но был уверен:
— Вы все равно расстанетесь. Так всегда бывает: он помог тебе пережить трудные времена, но на этом его роль закончилась.
Счастливец, его развод был легким, по обоюдному согласию; чувства иссякли, они с Оксаной решили разойтись — и разошлись. По-дружески, без единой царапины. Бывает же, удивлялась я, с новым интересом изучая собственные раны.
Они были очень свежи. Я не успела забыть, что такое боль, страшилась новой, не хотела ни расставаний, ни встреч и упрямо доказывала себе, что сумею просуществовать без сердца.
Влюбленность — блажь, морок, выдумки.
Но наши голоса своевольно сплетались и отдавались друг другу в эфире. Вешая трубку, мы всякий раз обрывали пуповину, которая только и была — жизнь. Чувства Майка скоро обрели название.
— Я влюбился в тебя, как ребенок, — сказал он.
Я блаженно закрыла глаза. Но ответила:
— Ничего, пройдет.
Мой голос предательски охрип; Майк не мог этого не заметить.
Происходящее безумно пугало: куда как спокойней ничего не ощущать. Целее будешь.
Протопоповские стенания и метания отвлекали от навязчивых мыслей. Но он исчез, и телепатическая связь с Майком усилилась: я знала, когда он просыпался и начинал думать обо мне, смотрела на телефон за секунду до звонка, чувствовала его настроение.
— Приезжай! — умолял Майк. — Мечтаю погулять с тобой по Манхэттену.
Межконтинентальные звонки метко били под дых.
Я теряла способность сопротивляться.
Но что потом? Я ведь не переживу, если возвышенная заокеанская любовь переродится в банальный роман.
И все-таки в какой-то момент не выдержала — поеду!
— Дошла до кассы, — пошутил Майк.
Но тут довольно серьезно заболел Ефим Борисович, его нельзя было оставить одного. А Майк слишком недавно работал на новом месте и не мог взять отпуск. Судьба, как нарочно, чинила нам всяческие препоны.
А может, это как раз не судьба? В попытке забыть «о глупостях» я проводила больше времени с Иваном, который упорно уговаривал меня снова жить вместе. Лео ушла от него, уехала домой к родителям. Он переживал, но не сильно, и как-то многозначительно сказал:
— Все, что ни делается, к лучшему.
Не хотел понять, что я, вопреки прогнозам всевидящей бабы Нюры, уже никогда не смогу считать его своим мужем. У нас и с дружбой не очень-то получалось.
Кстати, странно: едва ступив на американскую землю, я отчетливо осознала, что с колдовством в моей жизни покончено. Оно то ли не достигало на такие расстояния, то ли чахло в среде практицизма и трезвомыслия. Я радостно отрясла с ног этот прах и больше не вспоминала о магии, приворотах и воздействиях.
И вдруг мне опять приснилась Лео — в широкой мужской футболке и джинсах. Ее посещение было коротким.
— Я от него устала. Он старый!!! — с чувством воскликнула она и умоляюще на меня посмотрела. «Пожалуйста, пойми, — говорил ее взгляд. — И прости».
Я простила.
В сущности, мне следовало сказать ей спасибо: я никогда не жила так ярко, как в последний год. Не знала, что еще способна любить — неистово и пылко, как в юности. И совсем не умела быть собой.
В детстве с подружками мы однажды играли в некую сложносочиненную игру, по ходу которой мне предстояло изображать попугая и вытаскивать из мешочка предсказания. Мы очень долго их сочиняли, и все они были невероятно романтические, но одно — своего рода черная метка — звучало так: «Вы найдете свое счастье в починке телевизоров».
Как ни удивительно, сейчас подобная перспектива казалась заманчивой. Не навсегда, временно, только чтобы восстановить силы и научиться передвигаться без костылей. А то один раз я уже ухватилась за Протопопова, не представляя, как бывает иначе…
Любовь — не любовь, пусть уже фатум разбирается, сам заварил кашу. Если нам с Майком суждено быть вместе — будем, никуда не денемся. Если же нет…
Но надеюсь, что будем.
Правда, мне почему-то стало важно, чтобы он сам приехал.
А пока — пойду-ка я учить каталанский. Умка говорит, что в костеле — она католичка — висят объявления о наборе в группы, где преподают носители языка. Попрошу ее узнать расписание.
И тогда в Грансоле буду совсем как рыба в воде.
13 Протопопов
Тата, Тата.
Я совершил святотатство.
Мне было достаточно снять с груди крест и, отложив его в сторону, тихо уйти — а я зачем-то осквернил иконы, поджег храм, долго изгалялся перед небесами и — как, наверное, всякий, кто дошел до подобного безобразия, — ждал, что Боженька выглянет из-за тучки, строго погрозит пальцем и слегка шибанет молнией. Дескать, угомонись, дурень. Цыц.
И вернет все на место.
Я же не думал, что это окончательно. Скорее надеялся, что она захочет отвоевать меня у жены. Вряд ли я бы мог сопротивляться. Но Тата не сделала ни шага в мою сторону.
Только потом я представил, как мой поступок выглядит в ее глазах, и ужаснулся. Предательство, подлое предательство, — после всего, нашептанного в Америке, после моих писем и жарких слов, сказанных в телефонную трубку. Я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, и я буду с тобой…
Как мне с ней объясниться? Я набирал ее номер и тут же обрывал звонок.
Потом решился написать.
Любовь — великий инквизитор, начал я. С каким безжалостным наслаждением она выжигает тебя изнутри, рвет на куски душу, пронзает раскаленной иглой сердце, переламывает об колено волю…
Тьфу. Какая высокопарность. Хоть и абсолютная правда.
Я вот, к примеру, не вынес пыток. Чувства — мои к Тате, жены ко мне — истерзали меня так, что я готов был на все, лишь бы прекратить муки.
Знаете, как это происходит? Последнее колебание — и ты сказал, что требовалось, и, окаченный холодной водой, упал в изнеможении на спину, и тебе хорошо: не больно. И только потом, когда достанет сил разомкнуть веки, ты опять видишь своих палачей и вдруг содрогаешься: господи! Я же… товарища погубил! Но я не хотел… я не то… стойте, стойте…
А уже — все. Поздно.
Так, во всяком случае, было со мной.
Знал бы раньше, как все повернется, постарался бы убежать, спрятаться, не играл бы в рисковые игры с любовью. Опасный она противник.
Я попал в больницу с сердечным приступом и от страха за свою жизнь потерял способность трезво мыслить. В голове стучало одно: а вдруг правда порча? Экстрасенсы, они же чувствуют, не зря жене говорили? Вдруг Тата действительно обращалась к колдунье? Или сама решила испытать на мне какое-нибудь зелье? Ведь в ней определенно есть нечто ведьмовское, а в доме полно соответствующей литературы. Я-то, узнав про приворот на цветке, не успокоился, пока не попробовал, и, главное, добился результата! А раз меня с моим глубоко материалистическим умом угораздило на такое пойти, то Тата, не чуждая мистики, тем более могла — хотя бы из любопытства.
Жена, сидя у моей постели, твердила: видишь, до чего довели твои бабки и составчики? Вся любовь после них началась, а с кем ты туда ездил? Вот-вот, со своей… дьяволицей. Тогда она тебя и приворожила. А теперь что? Только молиться, чтобы ты у меня живой остался! Лежи, лежи, тихо. Не разговаривай, доктор запретил.
Под дурманом лекарств ее слова действовали как гипноз. Тата вплывала под закрытые веки Бабой-ягой в ступе, лешачихой, злыдней, болотной кикиморой. Я поводил рукой, защищаясь: чур меня, чур. Было жутко. Отделаться бы, откупиться, откреститься, проносилось в замороченном сознании.
После больницы жена предупредила: учти, Протопопов, больше я твоих штучек не вынесу. И посмотрела с угрозой. В сущности, это был шантаж, но… он меня устраивал. Оказавшись дома, я понял, что не хочу никуда уходить. Здесь, в просторных комнатах с широкими окнами, хорошо и спокойно, как в крепости, сюда вложено столько трудов, столько лет жизни. Это — мое. И жена тоже — моя. В отличие от Таты, которая вернулась из Америки такой… независимой. Было ясно: она со мной до тех пор, пока сама хочет, чуть что — вспорхнет и улетит, поминай как звали. Руки устали ее удерживать, но о том, чтобы их разжать, я не желал и думать. Добровольно отдать свое? Мало кто на это способен. Я окончательно заврался перед женой, чувствовал себя распоследней скотиной — и ничего, решительно ничего не мог изменить. Жена с упорством маньяка пичкала меня Библией и проводила разъяснительные беседы: Тата хищница, стяжательница, мужененавистница, разрушительница домашнего очага, безбожница, сатанинское отродье. Одинокие бабы, они такие. Только и смотрят, как бы украсть что плохо лежит. Ну ничего, на Страшном суде ответят за свои поступки…
Я легко пропускал мимо ушей все, кроме «сатанинского отродья». Слова пульсировали в мозгу: чем еще объяснить мое неизбывное, сверхъестественное, ничем не утоляемое влечение? Что это, как не черная ворожба? Я постоянно выискивал в Тате дьявольское — и находил, дурак!
По сути, мне нужен был повод, чтобы порвать с ней. И одновременно я умирал от любви, особенно когда мы оказывались рядом. Я видел ее — и мир расцветал; я забывал о подозрениях и утопал в нежности, и впадал в эйфорию, и не понимал, как мне быть, и знал одно: что я без нее НЕ МОГУ. Отпустить — ее, мою единственную, неповторимую и незаменимую? Да ни за что! А тут еще эта непроницаемая отстраненность… Я ревновал. Мне казалось, у нее кто-то появился.
В нашу последнюю встречу я четко осознал, что Тата для меня важнее всего на свете, я не готов ее отдать — но и не готов взять себе. Патовая ситуация. Мне стало ясно, почему из соображения «так не доставайся же ты никому» совершаются убийства. В тот вечер я наговорил миллион страстных слов, а под конец уткнулся ей в руки и расплакался, как ребенок, и долго потом целовал ее соленые ладони. Оплакивал собственное предательство, еще не зная, как постыдно скоро его совершу.
«Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня…»[1]
По-моему, она все предвидела и вполне могла такое сказать, на что я, вслед за несчастным Петром, пылко воскликнул бы: не отрекусь от тебя!
Что движет нашими поступками? Почему все самое грязное и непотребное одевается в самые красивые одежды? Почему для сохранения сомнительной верности жене я должен был продать Тату? Почему, в глубине души зная, что мной руководят обыкновенная жадность и трусость, я так пыжился перед самим собой и так упивался собственной святостью: вот моя жена перед Богом и людьми, и с ней остаюсь. И не введи нас, Господи, во искушение, и избавь нас от лукавого, и так далее и тому подобное, аминь.
Искушение — это то, чему ты поддался; об остальном не стоит и говорить. Афоризм Таты.
Но что в моем случае было искушением и грехом, а что — покаянием и искуплением, я теперь уже не берусь судить. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Очень избитая фраза, но… точнее не скажешь. А я Тату приручил. Она, возможно, считала иначе, — но так думал я, и это был вопрос моей совести. Я не имел права поступать так, как поступил, обязан был найти другой выход. Какой? Представления не имею. Но он наверняка нашелся бы.
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель…»[2]
Вот и я искал простого пути; был неверующим, позволяя себе любить Тату, и схватился за веру для сохранения имущества — и семьи, разумеется. А ведь как красиво при этом выглядел. Но все равно оказался предателем.
Между тем выбор за нами — на каждой из миллиарда развилок. Выход был, был!
Все это я понимаю сейчас, а тогда от безысходности злобился, как последняя сволочь. Так злятся на котенка, которого подобрали и выпаивали молоком, а теперь выставляют за дверь, потому что надо в командировку. Ему же не объяснишь, а он, паршивец, мяучит.
Написав Тате, что все кончено, я недели две провел в каком-то загробном спокойствии, очень радовавшем жену. С виду я стал таким, каким был всегда, а если человек ест, спит, разговаривает, ходит на работу и вообще не рыпается, кто поймет, что он умер — процентов как минимум на девяносто? Лишь потом выяснилось, что первые две недели — цветочки, все муки ада еще впереди. Во-первых, я непрерывно ждал звонка, письма, появления Таты; мои дни до последней минуты были наполнены ее отсутствием. Во-вторых, я осознал отвратительность своего поступка. В-третьих, примерно через месяц до меня дошло, что я потерял Тату навсегда. Навсегда? Выть хотелось при одной только мысли об этом. Были и в-четвертых, и в-пятых, и в двадцать пятых, но… к чему вспоминать.
Все кончено для севшего на пол, сказала однажды Тата. У нее полная голова цитат. Как напророчила: я сидел на полу, плоско, всей задницей, глупо озираясь, без надежды подняться.
Я не сразу поймал себя на том, что стал часто проезжать по набережной мимо дома ее родителей. Бросал мимолетный взгляд на их окна, наслаждался резкой, сосущей, тоскливой болью в груди, ностальгировал по нашему прошлому — и это было как короткая встреча, как улыбка или воздушный поцелуй… Тата, ты помнишь меня? Где ты, Тата? Весной мы опять собирались в Париж…
Один раз я собрал в кулак всю храбрость и решился позвонить — но она не взяла трубку.
Незаметно наступил май, свежий, душистый, теплый. Начались головные боли; мной овладело странное, томительное беспокойство. Я хорошо понимал, что унять его может одна Тата, и как-то в субботу днем, выйдя на улицу с Никсоном, не повел его гулять, а посадил в джип.
— Поедем к Тате, Ник? — спросил я своего пса.
Тот успел улечься сзади, но мгновенно вскочил, отчаянно завилял хвостом и негромко, подвывающе тявкнул. Тоже не можешь ее забыть, бедолага, подумал я.
Мы медленно ползли по набережной, я раздумывал, где бы выйти, чтобы Никсон все-таки погулял. И вдруг, повернув голову, увидел Тату: она шла к дому родителей с каким-то высоким типом. Они оживленно беседовали, смеялись, Тата бурно жестикулировала. Что-то в ее спутнике заставило меня подумать: иностранец? Я так и не понял, что именно. Собственно, было не до раздумий: меня бросило в пот, виски сдавило, в голове застучал набат, сердце заколотилось как бешеное. Я начал задыхаться и еле сумел остановить машину у обочины.
Сунув в рот валидол, я долго-долго приходил в себя.
А через пару часов вошел в квартиру — и оторопел. По холлу были раскиданы ведра, тазы, тряпки.
— Нас затопило! — раздался из дальней ванной истеричный голос жены. Что-то загрохотало. — Скорее!
Я опустил глаза и увидел воду, ползущую на меня по палисандровому паркету, укладка которого стоила мне стольких нервов. Три бригады сменил, пока нашел хороших рабочих…
Перед глазами все поплыло, потемнело — и больше я ничего не помню.
* * *
У меня случился инсульт. Больше двух месяцев мне было очень плохо, но теперь врач говорил жене:
— Он не двигается только потому, что не хочет. Утеряны мотивации. Ну-ну, не надо отчаиваться. Думаю, это следствие какой-то психологической травмы. Кем он работает? А! Понятно. Это же страшные нагрузки, колоссальный стресс! Немудрено, что вашему супругу захотелось передохнуть. У нас хроническая усталость, верно, господин Протопопов? Видите, моргнул. Значит «да». Не огорчайтесь, это бывает. Полежит, наберется сил, и мы вам поставим его на ноги, он у нас еще побегает… — Докторишка с нарочито профессиональным сочувствием похлопал мою жену по руке. Она ему нравилась, я видел. Но мне было наплевать.
Значит, я не двигаюсь исключительно по нежеланию? Возможно. Попробовать шевельнуть рукой? Нет, лучше не надо, страшновато: вдруг не получится. К тому же начнется суета…
Мне нравилась моя бессмысленная неподвижность: лежишь себе, думаешь о своем. Разговаривать не хотелось — не с кем и не о чем. Жаль только, что они не догадываются привести ко мне Тату. Ради нее я сделал бы исключение, сказал бы: «Видишь, Таточка, как смешно: я боялся потерять недвижимость, а потерял движимость».
Она оценила бы юмор.
Глупая моя девочка, зачем ей иностранец? И для чего сразу тащить его к родителям?
В нашу последнюю встречу, глядя в окно кафе, она задумчиво произнесла:
— Знаешь, я долго думала, почему Иван от меня ушел, что было не так, в чем я виновата. А потом поняла, что важно не почему, а для чего. Ведь тогда казалось: отдам все на свете, лишь бы остался, а теперь я не променяла бы свой одинокий год ни на какое семейное счастье. Мне подарили возможность стать собой, и я очень, очень этому рада.
Я кивал, думал: ты не одинока, я тебя никому и ни за что не отдам, я тоже хочу благодаря тебе измениться. А через пару часов предал. Для чего, скажите мне, Христа ради? Чтобы теперь лежать и думать о ней — часами, днями, неделями? И вспоминать сладостные секунды?
Тра-та-та-та, та-та, та-та-та, среди белья крахмально выстиранного, лежал он, отрешась от женственного, в печальном постиженье истинного…
Тоже какая-то цитата.
Впрочем, мне вовсе не печально, а хорошо, и душа спокойна. Каждый получил что хотел. Тата — себя, жена — меня, который никуда не денется, я — Тату у себя в доме. Она всегда со мной, и мне не нужно гадать, почему она улыбается, от любви или от колдовства. Черт бы побрал мои экзерсисы, ими я разбудил в себе дьявола, за что незамедлительно поплатился. Если б я не терзался сомнениями, возможно, все пошло бы иначе? Но что зря философствовать? Моя Тата нежно меня любит, и временами, когда никто не видит, она склоняется надо мной, поправляет подушки и ласково проводит прохладными пальцами по моему лбу. Я просыпаюсь и мысленно поднимаю руку, здороваясь с ней.
По-настоящему я это делать боюсь: еще узнают, что я могу двигаться, и начнется дурацкая лечебная физкультура. А так, пока меня все больше считают растением, передо мной разворачивается целый театр. Я с интересом наблюдаю за своей женой и лечащим врачом. У них роман — в самом начале. Когда он входит ко мне один, то перед осмотром непременно спрашивает с вызывающе пакостной шутливостью:
— Ну что, не устали еще отдыхать, пациент Протопопов?
Как же я мог расстаться с Татой, когда она — единственная, кто звал меня по имени?
Вчера, выходя из комнаты, докторишка приобнял мою жену за талию. Она повернула к нему лицо, осветившееся улыбкой; это было заметно даже в профиль. Интересно, он влюблен или зарится на наследство? В последнем случае его ждет сюрприз: я не собираюсь валяться вечно. Отдохну, наберусь сил — в основном моральных — и встану. То-то они обрадуются.
Как по-идиотски выразился мой эскулап, мы с ним еще спляшем.
Между прочим, медсестра, которая делает мне уколы, массаж и прочие процедуры, по законам жанра влюблена в этого опереточного фата, чего он, естественно, не замечает. Она хорошенькая и юная, лет девятнадцати, и только я один вижу, какими злыми, несчастными глазами она смотрит на доктора, любезничающего с моей женой. Та, кстати, расцветает с каждым днем, что мне, разумеется, обидно — но совсем чуть-чуть.
Мой рослый красивый сын все чаще заглядывает ко мне в отсутствие невесты — они живут у нас вместе уже больше года — и беседует с милой медсестричкой на околомедицинские темы. Та, робея под его взглядом, скромно опускает ресницы. Мой сын — биолог и всегда пропагандировал идею, что люди не созданы быть моногамными.
Я прячу улыбку, наблюдая за ним.
Как сказал кто-то из великих, а может, не очень, «жизнь — трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит».
14 Ефим Борисович
В этом году все наперекосяк. Расхворавшись в конце января — замучило давление, сердце, артрит, — я ослаб и к началу весны схватил совершенно неотвязное воспаление легких, коим и терзал своих домашних долгих три месяца, пока наконец в середине июня доктор не смилостивился и не разрешил мне выехать на дачу. Было невероятно обидно упускать самое чудесное время: я всегда любил вместе с Таточкой следить, как появляются из земли, растут и расцветают ее многочисленные питомцы. Однако в моем возрасте роптать не приходится, все-таки восемьдесят пять. Жив — и на том спасибо.
Зато и проведу за городом на месяц дольше обычного: Тата опять собралась в Нью-Йорк, Павлуша, внук, учится и работает, редко бывает дома, а поскольку я «вышел из доверия», меня не решаются отпустить на вольное житье. Возвращения моей непоседливой невестки буду дожидаться под присмотром ее родителей. С ними мы часто обсуждаем главную семейную новость — Майка. Он приезжал в мае и жил в гостинице, но Таточка со всеми его познакомила, из чего я делаю вывод, что отношения их серьезны. Приятный человек. Татины родители в восторге, а я… нет, не скажу ничего плохого, но все-таки, все-таки… что бы я ни говорил Ивану… какой бы несбыточной ни выглядела мечта… мне безумно хочется, чтобы Тата и мой непутевый сын снова соединились. Но похоже, этому не суждено сбыться. Тата на вопросы о Майке неизменно отшучивается, но, кажется, она по уши влюблена, и он, насколько можно судить, тоже. Когда я впервые увидел их вместе, то с замиранием сердца, горестным и радостным одновременно, понял, что они — пара. Я боюсь спрашивать Тату, собирается ли она замуж, но от Ивана знаю, что про развод речи не было, и в глубине души радуюсь: мало ли как жизнь повернется. Сколько за последнее время произошло всякого, что на первый взгляд казалось немыслимым.
Кто, скажем, мог предугадать, что мы наконец-то избавимся от Протопопова? Я уже приготовился терпеть его до конца жизни. И вот нате вам… не знаю подробностей, но, судя по доносившимся до меня обрывкам разговоров Таты и Умки, повел он себя гадко; недаром он мне никогда не нравился. Вольному, разумеется, воля, но, коль скоро этот господин, будучи женат, позволял себе бывать в доме и, выражаясь старинным языком, свататься — как еще назовешь? — то должен был выпутываться иначе.
Грешным делом, я сейчас радуюсь даже его болезни — знаю, знаю, очень нехорошо, не по-христиански, но в противном случае он непременно объявился бы снова, и для Таточки это была бы погибель. Она даже не замечает, как расцвела в его отсутствие, какой стала спокойной, доброжелательной, улыбчивой — прямо ангел.
И конечно, у нее не нашлось бы столько времени, чтобы ухаживать за мной, пока я болел. А так она подолгу просиживала рядом с моей постелью и, чтобы развлечь — мне было трудно разговаривать, — рассказывала обо всем на свете, в частности о том, что происходит с ее приятельницами, которых я знал или о которых слышал. И кое-что, признаться, поистине изумляло.
Например, Саша, чье участие в грустной истории Ивана и Таты было столь велико, нашла весьма необычное применение своим уникальным знаниям. Новый муж — не знаю, оформлены ли их отношения юридически, но Умка и Таточка называют его именно так — привлек ее к своей работе, и, войдя в курс дела, она придумала интересное направление: подбор недвижимости в соответствии со знаком зодиака клиента. В жизни бы не подумал, но многие с удовольствием прибегают к ее услугам, когда, допустим, не могут выбрать между двумя равноценными домами в разных городах или квартирой и частным домом или же, в свете каких-то личных обстоятельств, не знают, в какой момент лучше подписать контракт. Саша никогда ничего не искажает в угоду интересам фирмы, говорит только то, что действительно видит в астрологических картах, и успела заслужить у людей большое доверие, причем они довольно скоро начали советоваться с ней и по другим жизненным вопросам. Она и ее муж процветают; Умка говорит, что, по его словам, при Саше дела пошли так хорошо, что он подумывает, не уступить ли ей свое место генерального директора.
Кстати, об Умке: поворот в ее судьбе и вовсе невероятен! Помнится, ранней весной мы с Таточкой вместе пили чай, я — лежа в постели, она — сидя рядом в кресле, когда вдруг раздался телефонный звонок. Тата сняла трубку и расплылась в улыбке:
— Приветик.
Так она обычно говорит Умке. Я понял, что у меня есть как минимум четверть часа, погрузился в собственные размышления, но скоро задремал и проснулся от ее громкого восклицания:
— Серьезно?!
И чуть погодя:
— Ничего себе!
И вскоре:
— Ну ты даешь!
Повесив трубку, Тата некоторое время смотрела на меня круглыми глазами, с удивленной гримасой, и наконец спросила:
— Помните, Ефим Борисович, я собиралась учить каталанский язык? Умка как раз видела в костеле объявление?
— Конечно, помню, но по-прежнему считаю, что разумней было бы учить язык более распространенный, испанский, к примеру, или французский…
— Да-да, но речь не об этом. Умка по моей просьбе пошла узнать, когда и как можно записаться, и… нет, вы даже не представляете!
— Да что такое?
— В объявлении было сказано: «обращаться в зал святой Марии-Доминики Мадзарелло». Умка зашла туда после мессы. Видит, за столом человек, по ее собственному выражению, «типично католической наружности». Умка думала, это и есть носитель языка, который будет вести занятия, но оказалось, он только замещает преподавателя, своего друга, — ведет запись. Он очень подробно все рассказал, а когда понял, что заниматься собирается не она сама, а подруга, явно расстроился и стал уговаривать тоже учить язык, но лучше испанский. Совсем как вы, Ефим Борисович. Умка спрашивает: «Почему испанский и зачем он мне?» А он: «Вот приедете в Толедо, как с людьми будете разговаривать?» Умка удивилась: «Почему в Толедо?» А он: «Ко мне в гости, это мой родной город».
— Она ему понравилась, вот он с ней и любезничал, что же тут удивительного?
— А вот послушайте! Он спросил, как ее зовут, удивился ее имени — Умка, — поахал: как необычно. Тогда и она поинтересовалась: «А вас как зовут?» Он смутился, замялся, а потом, как будто извиняясь, ответил: «Как нашего короля, Хуан Карлос». Еще улыбнулся и развел руками с таким видом, мол, я не виноват.
— И все-таки — что особенного?
— Она же вечно твердила, что выйдет замуж только за Хуана Карлоса! А этот испанец ей сразу понравился! И она ему. Он сказал, что очень хотел бы снова с ней встретиться, и попросил телефон! Он приехал в Москву с благотворительной миссией всего на несколько месяцев. Представляете, какое чудо, что они познакомились?
Действительно, чудо. Только я уже ничему не удивлялся. Однажды, когда у меня была высокая температура, мне приснился загадочный сон: зеркальная гладь воды, по которой в полнейшем безмолвии расходятся концентрические круги, очевидно, от упавшего камня. Во сне я знал, что этот пруд или озеро — союз Ивана и Таты, место падения камня — их разрыв, а расходящиеся круги — магические. Повинуясь логике сна, я прилагал все усилия, чтобы внешний круг не дошел до меня, и, когда он подступил совсем близко, в страхе проснулся. И подумал: вот глупость. Но, услышав про Умкино знакомство, вдруг понял: это же точная аллегория происходящего! Со всеми, кто оказался вовлечен в историю Ивана и Таты, так или иначе сильно замешенную на волшебстве, произошло нечто особенное, неожиданное. Попробуй не поверь после этого в мистику.
В начале лета Умка заходила к нам со своим испанцем (он продлил пребывание в Москве, и они встречаются, чаще всего по делу, Умка помогает ему в сборе средств на разные детские программы). Таточку попросили нарисовать яркую картинку к объявлению, и, пока она этим занималась, я успел пообщаться с Хуаном Карлосом. Он поразил меня своим добросердечием, скромностью и деликатным юмором. Не побоюсь громких слов: светлый человек. Я бы даже сказал, лучезарно светлый. Очень располагает к себе. И Умка при нем другая, совсем не такая, как обычно. А я-то думал, что при ее кошмарной работе — она детский онколог — ей даже на время страшно остаться без защитного панциря внешней суровости.
Тоже своего рода мистика.
И… ах да, чуть не забыл самое главное! К вопросу о судьбоносной тайне имен; между прочим, в свое время мне довелось изучать и это.
Когда Иван приехал за мной, чтобы перевезти на дачу, у него был такой странный вид, что я начал допытываться, в чем дело. Ваня помялся в нерешительности, но потом все-таки рассказал, что ему утром звонила Лео, о которой он ничего не слышал пару месяцев. Она просила прощения у него и заочно у Таты за то, что вмешалась в их жизнь. Иван передал мне ее слова: «Понимаю, вам от моих извинялок не легче, но все-таки знайте, что я очень переживаю, и простите, если сможете».
Скажите пожалуйста: катарсис! Очень вовремя, горько усмехнувшись, подумал я и тут же узнал о причине небывалого перерождения. Совершенно фантастическая причина. В начале июня, в жаркий день, Лео с молодым человеком гуляла по лесу; там они заснули, надо полагать, после любовных утех, да так крепко, что Лео даже не почувствовала, как ей на руку заползла гадюка. Шевельнувшись, Лео потревожила ее, и змея мгновенно ответила — укусила! В это время они чудовищно агрессивны, в разгаре брачный сезон. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если б не молодой человек. Не растерявшись и вспомнив все, что знал о змеиных укусах, он сделал надрез и выдавил зараженную кровь, а потом на руках оттащил потерявшую сознание Лео в больницу. Случившееся, очевидно, повлияло на нее до такой степени, что, едва ее выписали, она бросилась вымаливать прощение у моего сына.
Во мне, честно сказать, этот пасхальный рассказ вызвал противоречивые эмоции. С одной стороны, хорошо то, что хорошо кончается, но с другой — боги обошлись с подлой девчонкой чересчур снисходительно. Мне даже показалось, что изначальный замысел был иным, намного более жестоким. Ее гибель таила бы в себе двойную иронию: во-первых, гадюке гадючья смерть, а во-вторых, на что еще можно рассчитывать при таком имени?
Но почему-то высшим силам было угодно пощадить разрушительницу самой дорогой для меня семьи. Если не считать короткого пребывания в больнице, Клеопатра не понесла никакой кары, наоборот, выходит замуж и на время уезжает в Сибирь, где сейчас работает ее избранник. Иван сказал, что голос у нее абсолютно счастливый. Это ли не насмешка судьбы? Иной раз я думаю: хорошо бы лет через двадцать и на пути нашей Клеопатры появилась какая-нибудь юная авантюристка… но пресекаю подобные мысли. Что будет, то будет, не нам решать. Провидению виднее.
Безусловно, в том, что Иван и Тата расстались, тоже есть промысел Божий, но его мне пока не дано постичь: слишком уж я пристрастен и слишком жалею сына. Сложный вопрос геометрии человеческих отношений: является ли правильным любовный треугольник, если счастье в нем распределено только по двум вершинам? У меня нет ответа. А впрочем, разве при рождении нам выдают документ, гарантированно обещающий счастье? Как известно, каждый сам кузнец… и это во многом правда. Что, конечно, вселяет надежды касательно будущего Ивана. Если простилось Лео, простится и ему. Во всяком случае, хочется в это верить.
Поживем — увидим.
На днях я опять вспомнил сон о магических кругах и задумался: а как события прошедших двух лет повлияли на меня самого? На первый взгляд в моей жизни мало что изменилось. Но, поразмыслив, я понял: нет. Я стал другим, мои взгляды на окружающий мир претерпели незаметную, но очень существенную — во всяком случае, для меня — трансформацию.
Оглядываясь назад, я вижу, что все началось в тот момент, когда я — вроде бы временно, из-за душевных переживаний, — потерял интерес к оккультной литературе. То, что в течение двадцати лет являлось отрадой моего существования, то, чем я так увлекся вскоре после смерти любимой жены — поскольку это укрепляло надежды на новую встречу, — в свете происходящего с Иваном и Татой незаметно приобрело в моих глазах совершенно иную окраску.
Пытаясь разобраться, что случилось с моим сыном, я читал статьи врачей и психологов о кризисе среднего возраста и мужском климаксе (да уж, каких только глупых терминов не придумано). И чем дальше, тем ясней сознавал, что и здесь информации недостаточно: я нигде не получал удовлетворительного объяснения. В результате мне стало казаться, что психология и медицина, астрология и магия, а также многие другие науки и лженауки занимаются всего лишь построением моделей, по-разному и с разной степенью правдоподобия описывающих действительность. Все теории довольно стройны, и во всех есть свои проколы, так называемые исключения, подтверждающие правила, но даже взятые вместе, эти дисциплины не позволяют всесторонне увидеть происходящее, что, конечно, говорит только об одном — о непостижимости человеческой природы. И естественно, природы вообще. Окончательная разгадка «тайны бытия», если она и есть, наверняка подобна смерти Кощея — игла в яйце, яйцо в утке, утка на дереве — и пока еще никому не давалась в руки дольше чем на одну яркую, но незабываемую наносекунду.
Охота за смыслом жизни — а для большинства под этим подразумевается смысл собственной жизни — бесконечна. И хорошо, пусть. Знать ответ на вопрос «Для чего все это?» — все равно что с рождения знать дату собственной смерти. Кстати, полагаю, что ответ, как и многое, многое другое, скрыт в нас самих, где-нибудь в ДНК. Осмелюсь предположить, что рядом есть и другая запись, запрещающая прочтение первой…
Господи, да чего в нас только нет. Не зря говорят, что каждый человек — Вселенная: добро и зло, Бог и дьявол, рай и ад, черное, белое и все градации серого. Плотно набитый мешок, из которого мы, между тем, всегда знаем, что достаем, как бы от себя ни отворачивались.
Магия, как и царство Божие, внутри нас. Недаром я всегда считал, что суть колдовства — энергетическое взаимодействие. Однако теперь мне кажется, что и оно возможно лишь постольку, поскольку люди верят в его непреодолимость. А выбор веры и ее символов — дело весьма ответственное. Пожалуй, пора бы вспомнить о кантовском «нравственном законе» — тогда и сам дьявол не страшен, ведь самые сокрушительные победы над ним мы одерживаем у себя в душе.
Поэтому мне стало гораздо интереснее изучать резервы человеческой психики. До каких глубин способно дойти самопознание — вот предмет моих нынешних изысканий. Я накупил книжек по психоанализу и аутотренингу, просиживаю над ними целыми днями и страшно жалею, что не занялся этим раньше.
Впрочем, как сказал один иерусалимский царь, время всякой вещи под небом; думаю, то, что я увлекся подобными вопросами именно сейчас, не случайно. Значит, мне пришла пора измениться.
Какое счастье, что судьба пока не лишает меня этой возможности — и этого стремления.
Эпилог Как часто бывает в фильмах, книгах — и даже в жизни — прошел год
Александра
Мы с Максом поспорили: есть что-то в моей астрологии или это ерунда на постном масле? А то он все ворчит, что я клиентам голову морочу и нас когда-нибудь выведут на чистую воду.
— Чего ж до сих пор не вывели, — спрашиваю, — а, наоборот, народ валом валит, да еще знакомых посылает? Неизвестно уже, от чего у нас больше доход — от продажи домов или от моих консультаций! — Это, конечно, изрядное преувеличение, но неважно. — Значит, людям мои советы помогают и результат их устраивает.
Макс в ответ:
— Люди, когда сами думать не хотят, где придется совета ищут, хоть у дубов-колдунов, хоть у ветра с облаками. И главное, результатом довольны, если что-то получилось. А если облом — тоже не они виноваты. И вообще, Сашуля, ты никогда не задумывалась, чего в твоих предсказаниях больше — предвидения или обратной связи? В смысле, что, когда ты говоришь: будет то-то и то-то, люди подсознательно начинают действовать в заданном направлении, а остальное отметают как маловероятное, — вот твои прогнозы и сбываются.
— А когда никто ничего не делает, скажем, из упрямства или из желания доказать, что астрология — чушь, а прогнозы все равно сбываются? Или когда я прошлое как в зеркале вижу — это как понимать?
— Ну, не всегда же, не на сто процентов, — ответил Макс. — Меня, например, в твоей судьбе не было, сама говорила. И вообще, мало ли совпадений. К тому же ты у меня колдунья, и все твои карты, руны и астрология просто помогают настроиться на нужный лад. Так мне кажется. А потом, я не говорю, что в астрологии вовсе ничего толкового нет, иначе она не существовала бы веками…
— Вот ты и на попятный, — смеюсь. — Конечно, есть, еще как! Это целая наука. Плохо, что сейчас каждый третий, кто на курсы два месяца походил, уже астролог. Оттого у людей и возникает ощущение, что все обман. Шарлатан в нашем деле хуже плохого врача. А еще, понимаешь, Макс, полностью, до минутки, судьбу предсказать невозможно. Очень многое зависит от свободной воли человека. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы направить его в нужную сторону, подсказать, куда двигаться. Почему человек не должен знать, куда лезть не следует? Зачем зря тратить силы на то, что все равно не получится? Правда, я на опыте убедилась, что люди вечно ломятся именно в те двери, которые для них закрыты. Так их туда и тянет…
— Разве всегда безрезультатно? А как же «упорство и труд все перетрут»? — улыбнулся Макс.
— Бывает, конечно, но таких упертых никакие предостережения не останавливают. И опять же, чем плохо, если они знают, что именно это дело, которым им так приспичило заниматься, будет даваться с особым трудом и выкладываться придется по полной?
Макс замолчал, смотрит на меня с прищуром.
— Чего? — спрашиваю.
— Не только красивая, но и умная попалась, — говорит. — Подфартило мне, дураку безродному. Вот только… слова твои любимые повторю: жаль, что ты карты моей не знаешь. А то тут такое дело… прямо не знаю, как сказать…
— Что? — У меня душа в пятки, так горестно он вздохнул. Неприятности, что ли, какие?
— Да вот, понимаешь…
— Макс, выкладывай, не томи!
— Была бы карта, посмотрели бы, как там у меня сегодня насчет любви… Легко будет даваться или придется, — тут он не выдержал и расплылся в дурацкой улыбке, — выкладываться по полной?
— Макс! — Я стукнула его по башке книжкой про руны — это мое новое увлечение. — Напугал до смерти!
— А у меня тактика такая. Умных, их… запугивать… надо… — еле успевая увертываться от моей книжки, сообщил Макс. — Чтоб боялись и помалкивали, всезнайки. Потому что кое в чем главный кайф — полная непредсказуемость.
И, изловчившись, сгреб меня в охапку.
Лео
Знать бы раньше, что от этого выйдет, давным-давно б в яму со змеями прыгнула!
Я ведь, когда от Ваньки ушла, с работы уволилась и домой к родителям уехала, ни на какую радость уже не рассчитывала. Крест на себе поставила. Знала от Зинки, что Антон про меня слышать больше не хочет. Она мне тогда, в апреле еще, в Москву позвонила и с места в карьер лепит:
— Клепк, это… тут дело такое… Короче, Антоха с матерью разговаривал… она ему про тебя: была, мол, искала… Так он велел передать, что у вас с ним все… забыл он тебя и вроде даже завел кого-то… Я его мать на улице встретила, около магазина, — расстроенная, сил нет! Скажи, говорит, Клепушке, чтоб не переживала, а у самой аж слезы в глазах, представляешь? Клепк! Ну ты, правда, не переживай! У тебя вон Ванька какой! А таких Антонов мы еще сто штук нароем!
Я чего-то отвечаю, да-да, ха-ха, а в грудь будто осиновый кол воткнули — пошевелиться страшно. Так потом и ходила с этим колом, с одной-единственной мыслью: скорей бы сдохнуть. Да не ходила — таскалась: шаг, другой, нога за ногу, день прошел, ну и черт с ним.
Дома, у мамкиной юбки, чуточку легче стало; чаю попьешь, поплачешься, на пирожок с картошкой, так и быть, согласишься — вроде и отпустило на время. А там уже и майские праздники подошли.
Тогда-то Антон и приехал своих навестить, мне Татьяна Степановна по секрету сообщила. Убиваюсь, говорит, из-за вас, что ж вы себе жизнь-то портите? Ведь Антоша, как услышал, что ты здесь, в лице, бедный, переменился. Вижу, не забыл он тебя! Просто фасон держит. Может, помиритесь еще?
Мне терять нечего, я и пошла к нему. Типа, бери меня, я вся твоя. Но ничего хорошего не получилось, встретил он меня с ледяным видом и на все мои слова отвечал: раньше надо было думать, я в Сибири на объекте другую девушку встретил.
Дома я, конечно, рыдала — и думала: а не поискать ли помощи в бабушкиных тетрадках? Вдруг подействует? Мне же без Антохи — никуда! Но это так, от полнейшего отчаяния, с колдовством я завязала. В жизни от него мало проку. Может, кому и нужны ненастоящие чувства, а я их выше крыши наелась. И вообще, в подобные дела лучше не соваться; меня, вон, и так уже наказали — лишили самого дорогого.
Недели на две забилась в нору, не знала, что делать, думала, думала… Про Антона от других узнавала. Он уезжать не собирался еще почти месяц, то ли отпуск взял, то ли у нас в городе по работе у него были дела, Зинка и Татьяна Степановна путались в показаниях. Тогда-то передо мной надежда и забрезжила: странно все это как-то. Не из-за меня ли он задержался, думаю. Не могла же такая любовь, про которую он мне пел, взять и без следа испариться? И про девушку свою уж больно упорно талдычил…
Попытаю-ка удачи еще разок, решила я. И однажды утром, в конце мая, пошла к его дому, села у подъезда и стала ждать, когда он своего Цезаря выведет. Дождалась. Антон, как меня увидел, вздрогнул. Я сижу. Интересно, думаю, подойдет, не подойдет? Подошел. Чуть-чуть улыбнулся. Ну что, говорит, прогуляешься с нами в лес по старой памяти?
В лесу-то все и случилось. Мы шли-шли, трепались о ерунде, Антон оттаивал, собой становился. Жарко было. Я на него и не глядела, но ничего вокруг не замечала, одного его чувствовала, всем телом, всей кожей. Потом смотрю: он меня привел на ту полянку, где я у костра колдовала. Остановился, повернулся ко мне и смотрит. Как притянул своим взглядом. Я подошла, медленно-медленно, руки ему на плечи положила, на цыпочки привстала… Он ахнул: «Клепка!» — хрипло так, и в губы мне впился. А дальше я уже ничего не помню, только дикое счастье и как засыпали под деревом.
А потом все — как в кошмаре. Жуткая боль, Антон с белым лицом, нож, кровь. Я сознание потеряла. А когда очнулась в больнице, вижу, Антошка мой рядом: глаза огромные и по щекам слезы текут.
— Клепушка моя, — шепчет, — милая, любимая, единственная, как же я испугался, что тебя потеряю! Я ведь ради тебя остался, отпуск специально взял, а про девушку все наврал! Нет у меня никого, никто мне не нужен! Умоляю, не мучай меня больше, выходи за меня замуж!
На днях у нас годовщина. И весь год, до единой минутки, — вот Антоха не даст соврать — нам было так хорошо, что я боялась только одного: как бы не лопнуть от счастья.
Протопопов
— Выйдешь за меня замуж?
Юная медсестра вскинула на меня округлившиеся глазки, вскочила со стула и вылетела из комнаты с криком: «Очнулся, очнулся!»
Так я пришел в себя. Жена потом смеялась: настоящий мужчина! Еще языком не ворочает, а туда же — барышням предложения делать.
Позже, узнав от меня про свой роман с доктором, она и вовсе чуть не умерла от хохота. Оказывается, мне все привиделось: порождение больного сознания. Врач приходил, осматривал меня, выписывал назначения и уходил, даже от чая и кофе почти всегда отказывался. У него же работа, больные. Раз или два всего в гостиной посидел, виски выпил. Это когда мы у него последние были. А если за талию в дверях приобнял, что ж с ним поделаешь. Машинально. И вообще, как ты смел обо мне такое подумать? После всего, что я от тебя вытерпела?! Ее голос звучал негодующе.
Странно, я мог бы поклясться… более того, собирался поступить благородно и предоставить жене свободу, если б она захотела… хотя, конечно, отнюдь не планировал жениться на медсестре. Даже не знаю, почему так сказал, — очевидно, минутное помешательство. Если б еще она была похожа на Тату — понятно, однако ничего общего. Разве только взгляд и улыбка, совсем чуть-чуть.
Впрочем, хватит о ней — дело прошлое. Я больше не могу и не хочу рвать себе душу. Воспоминания и так подстерегают на каждом шагу — за что ни возьмись, куда ни взгляни, о чем ни подумай. Музыка, запахи. Париж в телевизоре. Ее карандашный набросок. Луч солнца в кабинете: точно так же он падал тогда, в нашем золотом октябре. Стоит закрыть глаза, и я снова вижу янтарные искорки в ее волосах и бледный огонь в бокале шампанского…
Другая картинка: Тата укрыта моим кимоно и что-то, смеясь, рассказывает, но я не слушаю — до того люблю, что просто сил нет сосредоточиться. Ее рука вспархивает, случайно откидывает легкую ткань…
Для чего память хранит все это? Чтобы издеваться над нами, мучить?
Я как-то позвонил ей — когда мне уже разрешили выходить с Никсоном. Ее сын сказал, что она в Америке. Сердце сжалось до того мучительно, виски сдавило таким тугим обручем, что я сразу дал себе слово: никогда больше. Чего бы я добился своим звонком? Опять потерял бы разум при первых звуках ее голоса, опять захотел новой жизни, любви, перемен в себе и вокруг…
После того как речь у меня в достаточной степени восстановилась, я стал много разговаривать с женой. Соскучился по человеческому общению, и она просила: расскажи все честно. Я, конечно, знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, но все-таки решил попытаться хоть что-нибудь объяснить. Тата, начал я, — жену передернуло — устроена так, что при ней обязательно хочется стать лучше, умней, образованней, благороднее…
— Сама она очень благородная, крутить роман с чужим мужем, — не выдержала жена.
— И все-таки стремление измениться, само наличие стимула были для меня очень важны, — упорствовал я.
— А зачем тебе меняться? — Жена повысила голос. — Ты что, плохо живешь, мало достиг? Больше и пожелать грех. Посмотри вокруг — все заработано твоим трудом. Прекрасная работа, крепкая семья, сын, невестка. Внуки скоро пойдут. Ты заслужил право на отдых. Ты много читаешь, многим интересуешься, ты тонкий, умный, думающий человек, тебе всегда найдется чем заняться…
Я подавил подступившую к горлу тоску и поспешно завершил разговор.
«Хватит уже… грехопадений», — бросила напоследок жена.
Я усмехнулся, вспомнив одну из многочисленных фразочек Таты: «При грехопадении главное — не ушибиться». «И не опозориться», — добавлю я от себя.
Мне, к сожалению, не удалось ни то ни другое. Что, конечно, отбило всякую охоту к приключениям.
Жена права: стар я уже меняться. В жизни у меня все нормально, от добра, как известно, добра не ищут, а здоровье не купишь.
Вот так.
Умка
В школе что у меня, что у Татки была отличная память, и мы, понахватавшись цитат, любили ввернуть этак небрежно про «амонтильядо из толедских запасов» или «Мадрид, испанский город»: «не знаю, никогда не бывал, но пари готов держать, что — дыра»… Звучало пижонски — и как будто про колонии на Марсе.
Думала ли я тогда, что буду опаздывать на самолет в этот самый Мадрид и ругательски ругать Хуана Карлоса: неужели так трудно побороть собственное упрямство и заказать такси пораньше? Казалось бы, больше года в Москве, в курсе, какие тут пробки! Но нет: «что нам делать в аэропорту столько времени»? Лучше, конечно, дома лишний час в носу ковырять!
Вот и пожалуйста: впору разворачивать оглобли — и пусть поездка опять срывается к чертовой матери! А что, лично я не удивлюсь: вот уже полгода, стоило нам только заикнуться о ней между собой, как Хуку (так я сократила Хуана Карлоса) срочно привлекали к очередным неотложным благотворительным мероприятиям. И меня, естественно, вместе с ним. Приходилось бегать, о чем-то договариваться, выбивать, выпрашивать, организовывать — какой там отпуск, выжить бы… Дальше разговоров дело не заходило. Но теперь-то, с билетами на руках, я все-таки надеялась уехать.
В конечном итоге, можно мне хоть одним глазком взглянуть на Мадрид? Там мы — если не опоздаем на самолет — рассчитывали провести неделю. А дальше — Толедо с его запасами и родственниками Хуки, которых у него, похоже, полгорода и с которыми непонятно, как разговаривать: испанский-то я так и не выучила. Со взрослыми еще ладно, разберемся, но там же у всех — дети, дети, дети… Хука на них просто помешан, я только и слышу, что про его бесчисленных племянников и племянниц. А близнецов рано овдовевшей родной сестры, семилетних Хуаниту и Карлитоса, он вообще воспитывает как собственных, звонит каждый день и чуть ли не уроки по телефону проверяет. В жизни не видела, чтобы человек так обожал детей. В костеле с его приездом столько детских и молодежных программ появилось, сколько, наверное, за все годы со дня основания не было. Хука, как порог переступит, перекреститься не успевает — малышня на нем гроздьями виснет, и все ему что-то рассказывают, теребят, за его внимание соревнуются. Смотреть приятно. Правда, мое место сто двадцать пятое, ну да я уж смирилась.
Нет, я, конечно, преувеличиваю и вообще зря ворчу: вдвоем побыть тоже удается, и тогда мне самой хочется поскорее занять вакантное «детское место». Потому что никто не умеет слушать так, как Хуан Карлос. Он может утешить и что-то посоветовать, а может просто покивать и помолчать, но на душе все равно сразу становится легче. С ним ты словно под защитой доброго волшебника, и тебя никто не обидит. Когда мы сидим на диване и Хука обнимает меня за плечи, мне так хорошо и спокойно, как не было, наверное, никогда в жизни. Вот счастье, что мы встретились. Я уже не надеялась ни на что подобное. А тут недавно решила погадать на Библии, раскрыла наугад и сразу уткнулась в слова: «двоим лучше, нежели одному»… Я прямо вздрогнула: ну не чудо?
Живем мы пока врозь, но так часто бываем друг у друга, что, видимо, скоро съедемся. Хука знает, что формально я замужем, и это его немного смущает — все-таки он истинный католик. Ради его спокойствия я специально говорила со священником, и тот заверил, что мой невенчанный брак после двадцати лет раздельного проживания по церковным законам никак не может считаться действительным. Хука расстраиваться перестал, но тем не менее дал понять, что ему было бы приятнее, если бы я оформила развод. Он не сказал, почему это для него важно, но по-особенному посмотрел, и я странно разволновалась…
Саня всякий раз вытаращивает глаза: и за что тебе, ворчунье, послали такого хорошего человека? Не иначе как для компенсации. Умный, добрый, заботливый, ласковый, терпеливый, работящий, только крылышек не хватает…
И при всем том настоящий баран! Ну почему, объясните на милость, надо было так упираться с такси?
Нет, если мы опоздаем, я… просто не знаю, что сделаю!
— Вон уже Шереметьево, — встрепенулся продрыхший всю дорогу Хука. — Я выиграл.
Мы с ним поспорили: успеем — не успеем. На поцелуй.
— Вот пройдем регистрацию, сядем в самолет, — буркнула я, — тогда и будешь мне подставлять свою небритую щеку.
Ефим Борисович
Недавно я отметил свой восемьдесят шестой день рождения. Казалось бы, совершенный старик, а чувствую себя намного лучше, чем год назад, и все благодаря аутотренингу. Я, во всяком случае, грешу именно на свои эксперименты в этой области, хотя, разумеется, общее улучшение обстоятельств жизни тоже сыграло важную роль.
Все как-то само собой расставилось по местам. Единственное, чего — точнее, кого — мне не хватает, так это Таточки, моей любимой собеседницы. Она опять стала много разъезжать, но только теперь ее поманил не Старый Свет, а Новый, что, с моей точки зрения, в высшей степени символично. Я ей так и сказал, когда она звонила на днях, и шутка имела успех.
— Это вы, Ефим Борисович, точно подметили! — засмеялась Тата. — Жизнь озарилась Новым Светом. Не забыть бы передать Майку.
Только и твердит: «Майк, Майку, мы с Майком…» Иногда я позволяю себе ослышаться, представляю, что она сказала: «Мы с Ванькой», и грустно вздыхаю по старым — не новым — временам, когда нас было в доме четверо, и мы все вместе садились за стол, и улыбались, и любили друг друга.
Ну да что зря вздыхать. По совету ученых книжек, я стараюсь во всем видеть положительные стороны. Нам очень неплохо вдвоем с Павлушей, он повзрослел, и с ним вполне можно обсудить самые разные темы. Он намного серьезней и вдумчивей Ивана, и меня, честно сказать, это радует.
Иван, кстати, часто к нам заезжает, особенно сейчас, когда Таточки нет дома, заботится, помогает, но чувствует себя явно не в своей тарелке, хоть мы с Павлушей и стараемся делать вид, будто ничего не произошло. Есть расхожая прописная истина, касающаяся человеческих отношений, — разбитую чашку не склеишь. Признаться, раньше она казалась мне банальной и глупой. Жизнь настолько многообразна, думал я, что, конечно же, в ней найдется место любой посудине. А сейчас, на примере собственного сына и Таты, вижу — нет. Что-то, может, и имеет смысл сохранять в качестве исторической ценности, но это уже не жизнь, а кунсткамера, и не всякий на такое согласится.
Я, в силу профессии, не могу не понимать, что цивилизация, изжив себя, умирает. Таков закон, ничего не поделаешь. Очевидно, придется смириться с тем, что эпоха Ивана и Таты окончена. И все-таки… никогда больше… бесповоротные, страшные слова. И мне, ей-богу, голову хочется оторвать Ивану: ведь в данном случае ответ на вопрос «кто виноват» более чем хорошо известен. Для чего ему это было нужно, он, вероятно, и сам не знает, а между тем все погублено, растоптано, уничтожено и стремительно порастает быльем.
Кризис среднего возраста. Как легко поставить диагноз — и как мало он объясняет. В сущности, с тем же успехом можно говорить: «приворот». Так даже проще: приворот — явление волшебное, не нуждающееся в рациональных объяснениях. А «кризис среднего возраста» — что это? Десятки психологических терминов, нанизанных на нитки, как сушеные грибы. Нельзя утолить голод, размахивая перед собой грибной связкой. Точно так же невозможно преодолеть загадочный «кризис», кидаясь учеными словами.
Я не сомневаюсь: Иван, как и миллиарды мужчин до него, понимал, что с ним происходит, и вполне искренне хотел поступить правильно — а точнее, надеялся избежать неправильного. Ведь всякий на его месте знает, что правильно, а что нет. Я в данном случае не имею в виду непременное сохранение семьи, скорее, принятие решения и готовность отвечать за последствия. Увы, Ваня и владел собой не больше, чем миллиарды мужчин до него; он метался и бездумно разрушал все вокруг, подчиняясь чувству, а не доводам рассудка. Инстинкт — грозная сила.
Следует ли из этого, что человек — животное? Да, безусловно. Но животное особенное, наделенное механизмом, позволяющим обуздать собственную природу. Как называть этот не всегда удобный механизм — сознание, совесть, душа, — в сущности, не имеет значения. Главное, что он есть и дает нам возможность вознестись над собой — или не упасть до самих себя, не знаю, как правильней выразиться. Так или иначе, принимать звериный облик необязательно, и даже самому большому грешнику втайне это известно.
Вообще, праведная тропка в бурьяне нашей жизни едва различима, и все-таки многим до нас удавалось ее отыскать. Надеюсь, удастся и нам с вами, — а главное, моему сыну.
Иван
Если честно, я всегда был любитель женщин. До Таты, при первой жене, как говорится, юбки не пропускал, даже не в смысле койки, а так, вообще… взглядом обласкаешь — уже приятно.
Встреча с Татой меня, естественно, изменила — уж очень влюбился, — но, что называется, сколько волка ни корми… Красивое личико в толпе, чьи-то блестящие глазки, облегающие брючки сотрудницы — тоник, глоток свободы, маленькое каждодневное удовольствие. Что особенно замечательно, невинное: ручки-то — вот они. Предался на минутку фантазиям — и дальше побежал, по серьезным делам, на работу, с работы, в химчистку.
Сам на себя не нарадуешься: ну до чего идеален. Я — солнце, я — горячее солнце…
Конечно, были и командировки — протуберанцы порока. Но и в том имелся свой кайф: как же я любил, обожал, боготворил Татку, когда возвращался домой! Лишь сейчас понял: грядущее раскаяние придавало дополнительную сладость греху. Парадокс? Пожалуй, что нет, не очень-то. Дело известное.
Все это, увы, осталось далеко-далеко, в прошлой жизни. Теперь я свободный человек, волен делать что хочу — но не хочу ничего, и вот где настоящий парадокс. Нет, со мной все в порядке — даже депрессии нет, — только всякие, по выражению моего отца, амуры перестали меня интересовать. При том, что эстетическое чувство вкупе с физиологией остались при мне, а женщины чуют холостяка за версту. Вот такая незадача.
Я по-прежнему замечаю симпатичные мордочки и ладные фигурки и, как пес, в любую минуту могу встрепенуться и навострить уши, но почему-то, получая ответный импульс, смущенно отвожу глаза и сворачиваюсь клубочком, притворяясь, будто меня не так поняли. Я не знаю, не понимаю, в чем дело. В том, что плод перестал быть запретным? Возможно. Честно говоря, разбираться не хочется, но факт остается фактом: после ухода Лео, если не считать совсем уже идиотских приключений, я храню нерушимую верность… кому? ей? или Тате? Вопрос.
Обеим, наверное. Точнее, нашему общему тройному несчастью. Заглядывая в глаза какой-нибудь милой девушки, я невольно вижу в них слезы Таты и затравленное ожесточение Лео — и, вздрогнув, испуганно отворачиваюсь. Не хочу быть причиной страданий и сам не хочу страдать. Обжегся на молоке и дую на воду, да. Ну и что?
Отец прав: если б я по-настоящему любил Лео, все повернулось бы иначе. Тата поняла бы меня, и я твердо знал бы: другого пути нет. Мы бы справились, сумели сохранить дружбу. Сейчас ведь, в конце концов, Тате без меня только лучше. Но дело не в ней, а во мне.
Уходя из дома, я написал: дальше так невозможно, прошлое умерло, осталась одна совесть, а на этом не выплывешь. Но оказалось, что совесть тоже очень важный орган. К тому же на редкость деспотичный: попробуй поступи наперекор — замучает.
Кто-кто, а я на личном опыте убедился, как важно к ней прислушиваться.
Сейчас она велит мне быть рядом с Татой. Да, у нее Америка, Майк, успехи. Но и я могу ей понадобиться: мало ли что в жизни бывает. Пусть я потерял ее доверие, но она для меня осталась самым близким человеком, кому, как не мне, ее защищать? Кто, как не я, должен отвечать за жену, отца, сына?
Я не уверен, что хочу снова жить с ними вместе. Слишком стыдно и слишком много поломано — вряд ли починишь. Сомневаюсь, что мог бы опять чувствовать себя хозяином в своей квартире. Вот на коврике у двери, в качестве монашеского послушания, было бы ничего, терпимо. Утрирую, конечно, но в каждой шутке…
Нет, к коврику я еще не готов, остаются пока другие интересы. Но раз вместе нельзя, а рядом быть нужно, я буду. Так, где-нибудь под рукой, в пределах досягаемости, на страже. На своем месте. Все-таки для человека главное — его семья и дом…
«Ну а девушки?» — спросят скептики, разбавляя патетику.
Все уже наверняка догадались, что я пропою в ответ.
Тата
В погожие будние дни, пока Майк на работе, я часто сижу на скамейке в Центральном парке с блокнотом и делаю зарисовки — просто так, ради собственного удовольствия. Мне нравится звук, с которым остро отточенный карандаш движется по бумаге, и то особое ощущение в руке, когда она, будто сама по себе, начинает работать, и когда главным становится ни о чем не думать, не отвлекаться — и не мешать.
За полтора года я уже третий раз в Нью-Йорке и больше не чувствую себя туристкой. Я здесь живу — и мне хорошо. У меня появилось много любимых мест, но Центральный парк — любовь с первого взгляда. Если я не рисую, то хожу по дорожкам и удивляюсь тому, как все в моей жизни переменилось. Откуда взялось это умиротворение, этот безмятежный покой? Куда бесследно исчезли мои страдания? И зачем они были нужны, если сейчас я почти их не помню? Поистине, пути Господни неисповедимы. Признаться, я не надеялась на спасение — после сделки с дьяволом я и прощения не ждала.
Но, раз меня до сих пор не испепелили, может, все-таки удастся ее расторгнуть?
Вот только как? «Отпусти меня, будь человеком», — попросила я в один прекрасный день, глядя на желтеющую листву и ярко-синее небо. Услышал ли он? Не знаю. Кажется, да: на душе у меня с тех пор стало совсем легко, несмотря на совет, неожиданно переданный бабой Нюрой через Сашку: «Пускай не обольщается заморскими петухами».
Размышляя о колдовстве, дьяволе и собственных грехах, я пыталась изобразить свои переживания и вообще все, что со мной произошло, на бумаге. Незаметно накопилась целая серия рисунков, нечто вроде книжки в картинках, к которым я делала подписи, самые разные: две-три пояснительные фразы, диалог, цитату из Библии или еще откуда-нибудь, короткое восклицание. Я показала рисунки Майку. Ему очень понравилось.
— Хотя непонятно, как это назвать? Куртуазный комикс?
По манере действительно получилось что-то похожее.
Я решила довести дело до конца и однажды, сидя, как обычно, на лавочке в парке, перебирала свои листки, раздумывая, в какой последовательности их лучше расположить. Вдруг за моей спиной кто-то сказал по-английски:
— Простите, не могу сдержать любопытства: что это у вас? Я уже несколько дней за вами наблюдаю.
Я обернулась. Над моим плечом склонился мужчина в дорогом спортивном костюме, со стильной седой стрижкой, чуть растрепанной, — похоже, он бегал. Кто это? Очередное порождение моего недавнего покровителя, с которым мы вроде расстались навеки? По спине пробежал холодок.
К счастью, мужчина не замедлил представиться, и выяснилось, что он издатель. Мои рисунки, а главное, их количество привлекли его внимание, и он — «сам не знаю почему, видимо, профессиональная болезнь» — решил поинтересоваться, что это. Я начала объяснять, разговор затянулся, и в конце концов Митчелл Джонсон — так его звали — протянул мне визитную карточку:
— Позвоните. Вы ведь не возражаете против встречи у меня в издательстве?
Покажите мне человека, который бы возражал.
Мою книгу скоро издадут. С Митчеллом мы подружились, несмотря на то что он — настоящая акула: когда что-то не нравится, может отгрызть голову. Руки-ноги уж точно. Опасаясь такой участи, я сумела настоять на своем каких-нибудь жалких два раза.
— Слушайся меня, Тата (Митчелл очень смешно выговаривает мое имя), и у нас с тобой выйдет бестселлер!
Собственно, перемены в книге меня не смущают: чем она дальше от реальности, тем лучше. Я человек скрытный и не люблю обнажать раны. Но, работая с Митчеллом, невольно задумалась: а хотела бы я что-то отредактировать в своей настоящей судьбе? Подтасовать события, придумать другой финал? Я долго пытала себя и поняла: нет.
Даже при полной свободе действий я бы оставила все как было — до самой незначительной детали, самого мелкого штриха и самой последней точки.
Примечания
1
Мф. 26:34.
(обратно)2
Мф. 7:13.
(обратно)
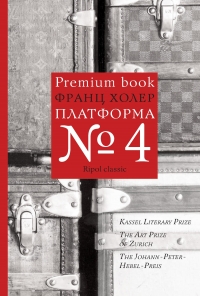


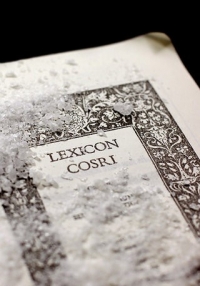

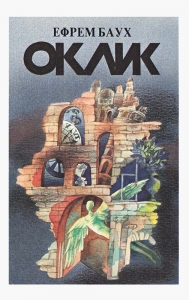

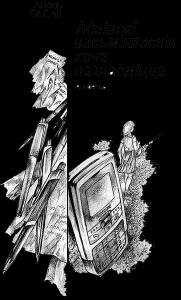
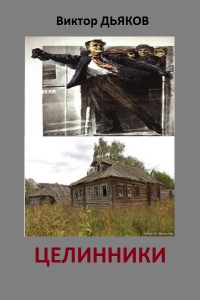


Комментарии к книге «Год черной луны», Мария Викторовна Спивак
Всего 0 комментариев