1
Евгений Куропёлкин служил в Москве стриптизёром, звался Эженом, жил сытно, с уважением к самому себе, стряхивал с белёсых усов крошки осетрины и капли крепких коктейлей, но хозяин ночного клуба «Прапорщики в грибных местах» Верчунов был им недоволен и грозил уволить. Правда, слов «под зад коленом» он пока не произносил, и это Куропёлкина отчасти обнадёживало.
Однако при всей своей беспечности и сквозняках в извилинах Куропёлкин вынужден был соображать. А куда ему в случае «Под зад коленом!» пришлось бы деваться? Происходил он со станции Волокушка Архангельской губернии. Наверное, что-то волокли куда-то, пока всё не уволокли. Делать балбесу в поселении со льнозаводом и пекарней было нечего, и он шестнадцати лет попёрся в Котлас, промцентр, да ещё и с двумя городишками рядом — Коряжмой (там — лесопильни) и Сольвычегодском (Строгановская старина, будто бы и Грозный царь заезжал, музей, культура, две дивные церкви, в виду них при тихих всплесках Вычегды в сухие дни Куропёлкин любил полёживать в играх воображений…). А в Котласе (до флотских макарон и клёшей, сначала в корабельном городе Большой Камень — Тихий океан, а потом и в других бухтах) сладости жизни баловали Куропёлкина футбольным полем, пусть и вытоптанным, и влажными губами возбуждённых свежей травой юных необходимостей с их требовательными задами (хорошо, хоть ни одна не залетела, аккуратные выросли, впрочем, если бы хоть одна залетела, всё бы проще было…). Но особую отраду давали Куропёлкину занятия в гимнастическом кружке. В ту пору Куропёлкин обучался на пожарника, а при их училище имелся крытый спортивный зал. Гимнастические снаряды были, правда, стары, на них нередко калечились, но Куропёлкину и без брусьев, колец и коня была мила чистая акробатика, не хватало, пожалуй, батутной сетки. Вот бы уж он натешился, напрыгался, накувыркался и полетал бы! Но его отвезли на флот.
Все флотские — здоровяки. К этому обязывают брюки клёш и макароны. А Куропёлкин усердствовал и на гимнастических занятиях, добрался до кандидата в мастера по акробатике. И ему во флотские праздники поручали место «Нижнего» в Пирамидах (молодые о них слыхом не слыхали), он поддерживал — идиотом — легковесных, тех, кто стоял наверху и размахивал сигнальными флажками.
И что примечательно, имел возможность посещать библиотеки и продолжать культурно-просветительское плавание.
Но вот после дембиля в компаниях пожарных Куропёлкин заскучал.
Одно тут понятно: быстрая смена стихий. Вода и Огонь.
Хотя, по правде, смена эта и не вышла стремительно-быстрой. Куропёлкин позволил себе после дембиля неспешные хождения по земле с намерением испытать себя и увидеть дальние сути России.
А вернувшись в пожарные, он не только заскучал, но и захандрил.
2
Хандрил он и перебравшись из Котласа в Москву, с целью обретения здесь светлого, пусть и с пробками, житейского пути. Готов был водить по дорогам, украшенным неуравновешенными блондинками при штурвалах, хотя бы «Ниссан». При этом с дураками трудностей не вышло бы, дураки, они создают правила и приёмы движения, и в их автопробегах по Москве передвигаться одно удовольствие. Но ни у блондинок, ни у крашеных Куропёлкин не вызвал порыва подарить ему не то что бы «Ниссан», но и потрёпанный мопед. Участвовать в тушении торфяников, взбудораженных энергией инженера Классона в разгар революционных фантазий, ему надоело. Прежде всего надоели исполнители высочайших распоряжений, появлявшиеся со своими дилетантскими глупостями на день-на два (а потом ходившие героями Обороны Москвы от пожаров, почти что наполеоновских). И Куропёлкин ушёл в грузчики.
Мешки с цементом, шпалы, пропитанные гнусным креозотом, недолго натруждали мышцы крепыша Куропёлкина, потому как произошёл Счастливый случай.
То есть показалось вдруг, что он Счастливый.
3
Случай этот произошёл в банях, то ли Рижских, то ли Ржевских. Бани эти, именно то ли — (дипломатик-политес) Рижские (вокзал рядом), то ли Ржевские (вокзал прежде назывался Ржевским и служил Ржевско-Виндавской железной дороге), были мне, жителю одного из соседних коммунальных домов без горячей воды и гигиенических удобств, утешительно знакомы тридцать два года. На первом этаже со вторыми десятикопеечными разрядами они были грязны и вонючи, в войну и после неё служили санпропускником, и пацанам, залезавшим на сугробы в надежде увидеть женщин с их тайнами, попадались на глаза лишь тощие солдатские зады. На втором же этаже — Первый разряд, чистые простыни, пиво в разлив из рук татар-пространщиков, сущий Баден-Баден! — имелась довольно неплохая парная. Пропарившись, Куропёлкин опустился в глубины второго разряда и встал под холодный душ, промыл глаза и заметил, что возле его кабинки вертится некий любопытствующий гусь. Интереса к Куропёлкину (или к особенностям его тела) он не скрывал.
— Что тебе надо? — грубо сказал Куропёлкин.
— Мужик, — быстро заговорил любопытствующий. — Не подумай про меня дурного. Я агент по трудоустройству. Ты кем сейчас деньги добываешь?
— Грузчиком.
— И сколько в месяц?
— Хватает! — рассердился Куропёлкин.
— Ты не злись! — разулыбался агент. — Тысяч тридцать. Не больше. А я тебя могу определить на место за сто тысяч.
— Это куда же? — высокомерно спросил Куропёлкин.
— Сейчас же, после бани, могу и отвести. Такой, как ты, срочно надобен.
4
И повёл Куропёлкина к Борису Антоновичу Верчунову, хозяину культурного центра, бывшего также ночным клубом с серьёзно-таинственным названием «Прапорщики в грибных местах» вольно-гимнастического направления. С танцами, кручениями вокруг шеста и со страстно-призывными освобождениями от одежд.
5
Нельзя сказать, что артистическое развитие Куропёлкина проходило успешно.
Хотя находились и у него поклонницы, и обещанные агентом деньги он получал. Правда, пока не все.
Но кому неизвестны нравы духовно-ценностных серпентариев? Хотя бы из программ «Ты не поверишь!». Тем более разбавленных присутствием бывших и ныне избалованно-удачливых прапорщиков. Да и отслужившие балетные и цирковые, мазавшие руки магнезией, были хороши! Собственно против новичка Куропёлкина Эжена они ничего не имели, но поспешили утвердить (или возвысить) свою (и так будто бы очевидную) незаурядность и уж точно успокоить себя, определив сущность Куропёлкина «Дубина дубиной». Да и держался Куропёлкин особняком. Старался не входить в спорные состояния с ветеранами клуба. На их ехидства, а порой и злые шутки, имея в виду тончайших свойств натуры прапорщиков и бывших звёзд кордебалета, грубостями не отвечал, а лишь стеснительно-добродушно улыбался. И уж совершенно укрепил мнение коллег об ущербности личности Куропёлкина случай с успешным исполнителем чувствительных номеров (стало быть, и богатеем) Звягельским. Звягельский одолевал кроссворд. Уже вывел в клеточках «кисель», «голавль», «перекос», «скатка» и прочее, но его остановил вопрос: «Французский мыслитель эпохи Просвещения». Не только остановил, но и измучил. Довел до аллергического зуда кожи всего его прекрасного тела. И, похоже, вот-вот должен был произойти у него заворот кишок.
— Девять букв, в середине буква «ш»! — моля о соломинке, восклицал Звягельский.
Испуганное молчание было ему ответом.
Проходивший мимо Куропёлкин взглянул в кроссворд и произнёс небрежно:
— Ларошфуко.
Ларошфуко, бесспорно, удовлетворил составителей кроссворда, но имя, брошенное Куропёлкиным небрежно (а по сути — протест и вызов), для артистической составляющей клуба окончательно сделало его фигурой крезанутой и чуждой. Куропёлкина пытались даже подковыривать этим Ларошфуко, но прозвище не прилипло. То ли его не могли запомнить, то ли оно вызывало несомненный мистический страх.
6
Странно, но Эжен Куропёлкин не имел коммерческого успеха у милых клубно-ночных дам. То есть на него глядели. И всё. Странно, потому как фактурой своей Куропёлкин никому из артистов (танцоров, крутанов на шесте и др.) клуба не уступал. Ну, только если двум южанам и одному японцу, превосходство их и сам Куропёлкин признавал и завидовал им творческой белой завистью. Эти трое были в шерсти на груди и там, где зрительницам нравилось. Они словно были зашиты в шкуры хищных самцов и разумно позволяли дамам, в их с границами нравственности заведении, почёсывать им свои заросли. За это шерстяные вознаграждались бумажками иных валют (носили для них финансовые пояса на бёдрах), а иногда их приглашали и в гости. И по справедливости, а Куропёлкин и не роптал. Шерстяные и поручик Звягельский (такое присвоил Куропёлкин звание Звягельскому, хотя Звягельский ни в каких армиях не служил, а некогда блистал переплясами в хоре имени Пятницкого) были лицом клуба, истинными мачо. У самого же Куропёлкина на груди колесом ни волосинки, ни даже овсы не всходили. При этом Куропёлкин был одним из нескольких феноменов, которому позволялось (или от кого требовалось) доводить свой номер до решительного конца, то есть освобождать себя от всяческих тряпок и представать перед публикой в виде античного Дискобола. Фактура, оценённая агентом по трудоустройству в Ржевских банях, позволяла. Хозяин клуба Верчунов полагал, что жанр ночных видений при этом не нарушается, а перчинка, вот она, тут как тут.
Но ни бумажек (хотя они и бывали), ни поцелуев. А хотелось бы и того, и другого. Увы…
Может, сказались тут сплетни о Куропёлкине весело прикормленных коллег, нашёптывания ими изящным ушкам с пирсингами дури о якобы его изъянах или чуть ли не о болезнях, или сами дамы почувствовали его неуклюжесть в куртуазных общениях и определили его в «Дубину дубиной». Словом, — никаких приглашений в «Сопровождающие Кавалеры» или в ночные гости. Вершиной успеха был вызов «Мужчиной на час».
Уже тогда Куропёлкин жалел о том, что произнёс злосчастное «Ларошфуко».
И себя жалел.
А хозяин Верчунов объявил, что он ему невыгоден и пусть ищет новую работу.
7
Однако под зад коленом почему-то не гнал.
А какую работу и где её нынче искать?
Возвращаться в Котлас, Сольвычегодск или в Коряжму? Или даже в уродившую его Волокушку?
Известно, какими словами его бы встретили волокушские мальчишки, если они там ещё водятся:
«Грудь моряка, жопа старика!»
Или: «На побывку едет молодой моряк,
Грудь его в медалях, жопа в якорях!».
Но и медалей не было.
И как кормить отца-инвалида, мать и трёх мелких Куропёлкиных?
Лучше повеситься.
Однако не спешил мироед Верчунов…
А один из прапорщиков, неизбежно чуявший грибные места, с улыбкой закулисного интригана сообщил (подсказал) Куропёлкину, что на него щурится некая редкая, но известная в клубе дама глубоко-страстных лет, вот Верчунов и не спешит. При этом интриган подхихикнул.
А Куропёлкин и сам замечал (мельком), что на него, опуская очки к вздрагивающим ноздрям, а иногда и поднося к глазам бинокль, посматривает объёмная дама, будто бы откупившая столик у стены, при том её опекают два молодца в брендовых костюмах «от кого-то». С молодцами дама не общалась, они лишь вминались рядом в стену, а она попивала мелкими глотками коньяк. Однажды дама подняла рюмку, как будто имея в виду его, Куропёлкина, а он только что совершил соскок кувырком в три оборота с турника (специально ввели в зрелище из-за способностей Куропёлкина), сумев на лету, но и с изяществом сбросить с себя последнюю тряпку, и раскланивался теперь перед публикой в природном телесном виде, а она очевидно улыбнулась ему, вызвав в Куропёлкине всплеск слюнявой, несообразной его судьбе фантазии.
«Но она ведь старуха!» — талой водой облил свои фантазии Куропёлкин.
В клубе она была известна как Купчиха и мадам Звонкова. Купчихой её прозвали не только из-за схожести (в размахе и линиях обнажённых плечей, в частности) с кустодиевскими любительницами чаепитий из блюдечек, но и из-за особенностей нарядов. Обслуживал мадам Звонкову самый награждённо-важный и самый юркий модельер страны. Проявляя любезность, Звонкова называла своего стилиста и портного (сам он не шил, шили его мастера) «Шустриком» и соглашалась носить изыски его творческих капризов. Ходили слухи, что Шустрик, используя нанотехнологии, одарил Звонкову нижним бельём с подогревом, а оно вышло в цену обмундирования батальона мотопехоты. Но Купчихой Звонкова не была, то есть иногда ей приходилось бывать и купчихой… Однако интересоваться, как и в каких отраслях Звонкова заработала и зарабатывает свои миллиарды, было бы дурным тоном. Журнал «Форбс» знает, наверное. И достаточно.
Вечером, часа через два после якобы запечатлённой им улыбки Купчихи, невыгодный Куропёлкин был вызван в кабинет Верчунова. В кресле сидела мадам Звонкова, курила сигару.
— Вот-с, Нина Аркадьевна, — выгнулся перед Звонковой то ли приказчиком, то ли половым (полотенце бы ему на руку), — наш Евгений Куропёлкин собственной персоной.
— Спасибо. — Звонкова встала, подошла к Куропёлкину, прощупала его бицепсы, попросила показать зубы, зачем-то достала рулетку, измерила высоту лба, длину губ и ушей Куропёлкина, произнесла:
— Беру! Доставьте завтра.
И удалилась.
Странно, что не распорядилась:
— Заверните!
Возможно, не смотрела утопию с изобилиями из жизни кубанских казаков.
8
Поначалу Куропёлкин обрадовался. И даже заважничал. Но потом намёки и подколы коллег-артистов и обстоятельства доставки его в пейзажное хозяйство (поместье) Звонковой Куропёлкина встревожили. И даже обдали страхом. Хозяин клуба Верчунов Куропёлкина поздравлял, но в глазах его было ехидство сострадания. «А что же меня-то не спросили? — будто бы возмутился Куропёлкин. — Я что, содержант, что ли, теперь? Или крепостной?» «Ты передан госпоже Звонковой в аренду», — успокоил его Верчунов. «На правах свободного агента, на манер хоккея или футбола!» — вставил оказавшийся рядом Поручик Звягельский. Плясун, было известно, следил за спортивными новостями. «И сколько же вам заплачено за свободного агента?» — строго спросил Куропёлкин. «Коммерческая тайна!» — нахмурился Верчунов. «А мне что?» «Спроси у Звонковой!» — сказал Верчунов и гнусно рассмеялся. «Спрошу, — пообещал Куропёлкин. — А где мой-то расчётный гонорар за службу в Прапорщиках и в грибных местах?» «Спасибо, что напомнил. А то я бы… — вздохнул Верчунов. — Сейчас отыщем…» И была найдена в сейфе пачка денег в целлофановой упаковке. «Распишись!» Куропёлкин расписался и рассмотрел витринную бумажку.
— Это же не рубли! — вскричал он. — И не евро с долларами!
— Ну и что? — возрадовался Верчунов. — Это песо! Других денег у нас сейчас нет. И чем песо хуже рубля?
— А что я пошлю родичам в Волокушку? На что они будут кормиться? — всё ещё кричал Куропёлкин.
— Не хочешь песо, не бери! — рассердился Верчунов. — Тебя у Звонковой будут посыпать золотом. Надоест отсылать в Волокушку слитки.
Сверкая блеском стали, как подмечено в боевых песнях, Куропёлкин двинулся на мироеда Верчунова.
Но тут было доложено, что в клуб прибыл представитель госпожи Звонковой Трескучий-Морозов с поручением.
9
— Полчаса на сборы! — распорядился возвращавшийся к рублёвой жизни мироед и кровосос Верчунов.
Понятно, что полчаса на сборы превратились в час посошка. Диктатор Верчунов, перекормленный ценой, уплаченной Звонковой за аренду свободного артиста Куропёлкина, не имел сил препятствовать излияниям чувств творческого коллектива. Он понимал, что произойдёт завтра, и был готов сейчас же бежать на Соломоновы острова и там зарыться в песок до первого землетрясения. Но от Купчихи Звонковой и её сундуков со златом бежать было бесполезно.
Артисты же пили в помещении за сценой. Куропёлкина не поздравляли, и были скорее не весёлыми, а мрачными, будто бы сами себя пригласили на поминки коллеги. Тогда в присутствии Куропёлкина и было впервые произнесено слово «Люк». Балерун по прозвищу Стружкин (голова в белых бараньих завитках) похлопал Куропёлкина по плечу, сказал: «Ну, ты, Коряжма (а Куропёлкин рассказывал в клубе о Котласе и Коряжме), молодец, пошёл на такой подвиг! Прилично получат твои родичи! Что определено в контракте?» «Я не видел контракт и не подписывал его», — заявил Куропёлкин. «Ну и беги сейчас же, куда — неважно! — горячо воскликнул Стружкин. — Иначе завтра же поутру загромыхаешь в Люк!» При слове «Люк» все замолчали, потом, правда, очнулись и шарахнули по стакану. И тут языки, сами понимаете… И услышал Куропёлкин, что мадам Звонкова на манер Клеопатры или царицы Тамары выдерживает ночь, а поутру мужика, пусть даже самого успешного в сексуальных упражнениях, раскачивают за руки, за ноги — и бух! — в Дарьяльское ущелье. У Звонковой ущелья нет, но есть какой-то загадочный Люк. Баба вроде бы невзрачная, а усадила себя в троны Клеопатры и Тамары. Сколько отважных испытателей, отночевав с ней, сгинули поутру в Люке! «Бежать, бежать тебе надо!» — шёпотом настаивал Стружкин. «Нет! — гордо произнёс Куропёлкин. — Раз дал согласие, флот позорить не могу!»
— Куропёлкин! Срочно к директору!
Начались объятия. И поцелуи. Недруги и конкуренты, растроганные подвигом Куропёлкина, будто бы он своей жертвой отвёл от них опасность быть отправленными в Люк, мокрыми щеками одобряли бывшего Старшего матроса, уходившего с камнями на ногах под воду. В подполье душ своих при этом они, как ни странно, завидовали Куропёлкину — ведь именно его выделила из них, супермужиков, золотая бочка. Что ни говори — а удар по их самолюбиям. Да и получив наслаждения первой ночью, Куропёлкин, глядишь, и выкрутится, не угодит в Люк, а ещё и получит призовые. Хотя и вряд ли. И не достоин он наслаждений и призовых! Лететь ему именно в Люк! Сам привязал камни к ногам!
И поручик Звягельский перекрестил Куропёлкина.
— Куропёлкин! Долго ещё ждать!
10
Представитель Звонковой Трескучий, худой и верткий мужчина лет сорока пяти, был сердит. Не умеют следить за ходом времени! Богема! Пуси-муси! Трескучий считался дворецким, домоправителем Нины Аркадьевны Звонковой. Несмотря на худобу и вёрткость, он производил впечатление лица властного и значительного и будто бы наделённого — по серьёзным причинам — государственными полномочиями. При некоторых движениях и проходах его ощущались выправка особого рода и вынужденные (а может быть, и проведённые в удовольствии) занятия строевой подготовкой. Фамилия Трескучий (иные полагали, что это прозвище) вызывала разнообразные толкования, не всегда для Трескучего выгодные, а то даже и обидные. Видимо, поэтому при последнем приобретении народом паспортов нового либерального (освобождённой России) образца Трескучий постарался в документах преобразовать себя в Трескучего-Морозова, что придало более определённый смысл его пребыванию на Земле, а главное — на службе. К тому же в Трескучем-Морозове было нечто боярское или княжеское (Скопин-Шуйский, Невзор-Тужила, Василий Тёмный и др.), нынче уважаемое. Впрочем, о том, что он ещё и Морозов, знали немногие.
— Время терять не будем! — сурово заявил Трескучий. — Ты, Куропёлкин, контракт подписал?
— Нет, — сказал Куропёлкин.
— Это как же? — удивился Трескучий и взглянул на Верчунова.
Верчунов лишь развёл руками.
— Так! Садись! — распорядился Трескучий. — И подписывай! Вот бумаги! Ты читать-то умеешь?
— Умею! — буркнул Куропёлкин.
Перед ним лежали бумаги вполне государственно-казённого вида. Нина Аркадьевна Звонкова именовалась в них Работодательницей, а он, Куропёлкин, — подсобным рабочим.
— Какой я подсобный рабочий! — возмутился Куропёлкин. — Я — артист!
— Артист! Артист! — успокоил его Трескучий. — Все твои способности, добродетели и изъяны, как из библиотечных ям, так и физические, нами изучены и взвешены, однако в нашем штатном расписании нет должности артиста. Но взгляни на сумму.
Куропёлкин взглянул. Взглянул и Верчунов. И ошарашенный, осел на пол.
— Опять не в рублях! — возмутился Куропёлкин.
— И чем же евро с нолями хуже твоих рублей? — язвительно произнёс Трескучий.
— Тем хотя бы тем, что в Волокушке нет обменного пункта.
— При чём тут Волокушка? — спросил Трескучий.
— Дальше что написано? — указал Куропёлкин. — «В случае неожиданного происшествия с подсобным рабочим К., сумма задатка немедленно направляется в посёлок Волокушка родным подсобного рабочего К.»…
— Именно немедленно! — заверил Трескучий. — Нина Аркадьевна — человек обязательный и щепетильный. А родичи твои смогут съездить обменять евро в Архангельск. Или в Брюссель.
— Это завтра же? — спросил Куропёлкин.
— Почему же завтра? — насторожился Трескучий.
— А после ночи приходит утро, и пожалуйте — в Люк!
— Что вы слушаете всякий бред! — возмутился Трескучий. — Смотри вот этот пункт. Действие контракта рассчитано на два года.
— На два года?! — сейчас же вскочил с пола Верчунов и глазами впился в бумаги на столе. И произошло с ним преображение, будто его подняли с эшафота и отправили на два года в Сад Удовольствий.
— На два года? — спросил Верчунов.
— На два, — подтвердил Трескучий и подмигнул Верчунову (боковым зрением Куропёлкин заметил это и заметил, что подмигивание Трескучего вышло зловещим).
— Подписывай! — чуть ли не приказал Трескучий Куропёлкину.
— Раз ваша Нина Аркадьевна такая щепетильная и обязательная, — с вызовом заявил Куропёлкин, — подпишу.
И подписал в трёх местах. При этом делал это так важно и тщательно, будто совершал историческое действо и сознавал, что эдак оно и есть.
— Всё! — сказал Трескучий. — Едем!
11
Перед выходом к автомобилям Трескучий проверил нутро рюкзачка (котомки) Куропёлкина.
— Так, — закончил осмотр Трескучий. — Допустимо. Штаны, тельняшка, две рубахи, трусы, майки, даже бритва электрическая, полотенце, три книги… Неужели книги покупаешь?
— И покупаю, — ответствовал Куропёлкин. — Но эти библиотечные. Надо вернуть.
— Вернём, — сказал Трескучий.
— Через два года? — спросил Куропёлкин.
— Не дерзи! — рассердился Трескучий. — Не зачитаем! Времени нет на всякую ерунду!.. Так, бельишко твоё проверим, нет ли вшей или клопов и их деток, прогладим, высушим. Может, завтра, чистое оно тебе пригодится… А на ночь получишь наш комплект из моих рук… Пошли!
К Куропёлкину подскочил Верчунов, обнял, зашептал на ухо:
— Не поминай лихом, Эжен! Держись! Покажи, каков ты мужик! Хотя бы две ночи продержись! Сбереги себя и нас, благодетель ты наш!
— Хватит сопли пускать! — брезгливо произнёс Трескучий.
У парадного, на ценность рож и кошельков чувствительного, входа к Прапорщикам и Грибным местам ожидали два джипа, естественно, с коричневатыми стеклами. У одного из них дышали воздухом юридической свободы два молодца из тех, что вминались в стену позади столика мадам Звонковой. Немедленно и ловко были открыты дверцы более важного автомобиля, не облагороженного, правда, мигалкой.
— Руки ему связывать, господин Трескучий? — было спрошено.
— Морозов! — с досадой произнёс Дворецкий, он же постельничий, кравчий, возможно, сокольничий и ещё кто-то.
— Извините… Господин Трескучий-Морозов. То есть снабдить ли его наручниками?
— Полагаю, он поведёт себя благоразумно. К тому же теперь он наш подсобный рабочий. Взят в аренду. Глаза ему завяжите понадежнее. И хватит.
Куропёлкина с маскарадными наглазниками, но без щелей для томных взоров, усадили на заднее сиденье, а господин Трескучий-Морозов, надо полагать, уселся к рулю.
И покатили.
12
Долго господин Трескучий не произносил ни слова. То есть, извините, — ни слова, обращённого к нему, бывшему артисту Куропёлкину. А так он матерился. И нередко. И видно, не одни лишь пробки поднимали горечь от жёлчного пузыря к свободным ёмкостям его совестливой души. Наконец его выговоры природе и безобразиям на асфальте стали затихать, а потом и вовсе прекратились, и Куропёлкин понял, что они выехали в разумно-пустые пока просторы Подмосковья, предназначенные, правда, для будущих проявлений чиновничьих добродетелей. (А эти-то земли, может, и не предназначенные. Но Куропёлкину ли было думать об этом?)
В минуты (часы?) городских ползаний внедорожника Трескучего множество соображений толкалось в голове Куропёлкина, спорили друг с другом, дрались, прыгали с перекладины турника и вылетали из Куропёлкина пустыми и терявшими на лету решимость к поступкам и тем более подвигам. Некоторые из них имели такие смыслы: раз намеревались нацепить наручники и обезглазили его, значит, боялись, что он сможет взбунтоваться и сбежать. И тогда Люк мог бы оказаться необязателен. А госпожа Звонкова и дворецкий Трескучий испытали бы неприятности. Мысли о возможности отвратить неизбежность Люка взбодрили Куропёлкина. Но он тут же осадил себя и отменил бунт в автомобиле. Да и толк-то какой вышел бы из его бунта или даже побега? Молодцы-сопроводители с удовольствием тут же развеяли бы его прах по соседним полям с навозом (ароматы доносились) своими гранатомётами.
— Ты, я понял, и впрямь благоразумен, — услышал Куропёлкин голос вовсе не трескучий, а металлический, и даже звонкий в передаче приятных дворецкому слов. — Поэтому напрягись принять со вниманием.
— Напрягся, — послушно вымолвил Куропёлкин.
— Так вот, ты отныне… — тут Трескучий запнулся, возможно, не захотел вводить и себя в заблуждение, нечто в его натуре вздрогнуло или он пожелал ужесточить порядок в отношениях с подсобным рабочим. — Ты сегодня вечером и ночью никакой не артист (Трескучий хмыкнул) Эжен Куропёлкин, а Баядера… — тут Трескучий явно растерялся, — то есть Шахерезада…
— Но это же бабы! — удивился Куропёлкин. — А я по контракту обязан исполнять ночные требования работодательницы Звонковой Нины Аркадьевны (в мыслях он уже согласился называть её — Нинон).
— О своих требованиях Нина Аркадьевна объявит тебе сама. Слово «баба» забудь. Какие-либо половые различия для тебя сегодня отменяются. Если будешь нарушать приличия, загремишь в Люк тут же. Не сможешь насладиться красками рассвета.
И дворецкий рассмеялся вовсе не звонко, а именно трескуче.
— Нет, но как же это быть Баядерой или Шахерезадой? — всё ещё не мог сдержать своё возмущение Куропёлкин. — Разве я похож на бабу?
— Ну, называй себя хоть этим… как его… Гаврошфуко! — расщедрился Трескучий. — Чем этот Гаврошфуко лучше Шахерезады? Да будь хоть Шахерезадом! Всё. Приехали.
13
И, верно, приехали, сообразил Куропёлкин. Тяжкие ворота заскрипели, раздались чьи-то приветственные восклицания. Заднюю дверцу замершего джипа открыли, и чьи-то вежливые руки возвратили Куропёлкину зрение. Он увидел, что джип стоит в парадном дворе Барского дома (каким тот существовал в его представлениях).
— Отведите его к дворовым, — распорядился Трескучий.
14
Площадь въездного двора в поместье, с собственными Брандербугскими воротами и кордегардиями, скобой (подковой) окружала одноэтажная, как бы приёмно-дружелюбная постройка с колоннадой. Там и размещался корпус для дворовых. Ноги у Куропяткина затекли, шея болела, передвигался он медленно, но сопровождавшие его лица не гнали и даже не торопили его и довели до комнатушки, похожей на одиночную камеру, только что без параши.
— Удобства в коридоре, — просветили его.
Естественно, его обследовали цепкими и просвещёнными в своём промысле пальцами. Но эти заслуженные пальцы-доки не обнаружили при Куропёлкине целлофановый пакетик с песо из сейфа мироеда Верчунова (или не пожелали преждевременно обнаруживать).
Впрочем, что они понимали в секретах морских узлов! Им бы пиявок ловить в усадебном пруду под некогда (явно, и спорить нечего) насыпанным всхолмием (может, декоративным курганом). Шея у Куропёлкина при выгрузке из автомобиля поворачивалась с трудом, но пруд и курган он углядел.
А не там ли, на вершине кургана, возможно ещё заведённого варягом Рюриком с братанами-разбойниками в малиновых кожах Синеусом и Трувором, и находился Люк? (Куропёлкин, как и автор, не предполагали, что Синеус с Трувором вскоре будут государственно отменены и признаны ошибкой летописца или невнятицей.)
15
«Завтра, при восхищении красками рассвета, — подумал Куропёлкин, — и узнаю…»
Отдав существенные, видимо, для процветания подмосковного гнезда Звонковой распоряжения, управляющий здешних мест Трескучий-Морозов посетил доставленного им Гаврошафуко.
— Ну как? — поинтересовался Трескучий. — Эта комната лишь для твоего дневного пребывания. Претензии есть?
— Нет! — буркнул Куропёлкин.
— Обедать и ужинать будешь в столовой для челяди.
— Нет аппетита, — сказал Куропёлкин. — И не будет.
И повернулся лицом к стене.
— Э-э! Не пойдёт! — рассмеялся Трескучий. — Ложкой и вилкой работать не будешь, введём питательный раствор. Исполнять ночные требования Нины Аркадьевны тебе придётся в бодром состоянии духа и памяти. И учти: после обеда камеристки Нины Аркадьевны отведут тебя к водным процедурам, отмоют всю твою бытовую и гимнастическую грязь, только тогда тебе выдадут специальное ночноё бельё.
— Ладно, — приподнялся на локтях Куропёлкин. — Дайте мне хоть попить чего-нибудь…
— Это можно, — кивнул Трескучий. — Правда, алкоголь, а значит, и пиво тебе запрещены. Как и курево. А водичку, это пожалуйста… Или, может, квас. Сейчас Евдокия принесёт…
Трескучий отбыл по делам, и в комнату тут же вошла дворовая девушка Евдокия с подносом в руках, заставив Куропёлкина опустить ноги на пол.
— Шоколадница! — воскликнул Куропёлкин.
И сам не понял сразу, почему воскликнул. Потом стал отыскивать причины своего восклицания. Должен сообщить, что Куропёлкин не только почитывал рекомендованные в библиотеках книги, но любил и рассматривать альбомы с картинками. А зрительную память имел хорошую. И ему при появлении здешней девушки с подносом вспомнилась «Шоколадница» швейцарского, что ли, художника Лиотара.
— И сам не знаю… — смутился Куропёлкин. — Можно, я буду называть вас Ладной?..
— Да как хотите! — сказала Ладна-Евдокия. — Думаю только, что случаев называть вам меня как-либо более не будет.
— Это отчего же? — спросил Куропёлкин.
— Я вижу, постель здесь не перестелили. Значит, завтра привезут нового отдыхающего. Господину Трескучему постояльцы этой комнаты невыгодны. Иначе будут недовольны его работой.
— Так это — камера приговорённых к… к Люку, что ли? — спросил Куропёлкин.
— Я вам ничего не говорила. Вы сами сделали свой выбор. Не хочу знать, ради каких выгод. Но мне отчего-то жалко вас. Зовут меня все же Евдокией. Дуней. Воду-то выпейте…
— Спасибо за заботу и сострадание, — пробормотал Куропёлкин.
16
Неожиданно для себя Куропёлкин задрых. Может, водичка Ладны и была предназначена для его успокоения. Или это было средство — на всякий случай — заранее утихомирить буяна. Вдруг возникли бы затруднения для доставки буяна к Люку. Смирным едоком Куропёлкин отобедал (без трубок с питательными растворами) в едальне для челяди. Приходили и садились за стол какие-то тихие белокудрые пейзане, напоминавшие Куропёлкину о крепостном художнике Венецианове, но при появлениях зверя Трескучего, со стеком в руке и у сапога, их несмело-благонамеренные разговоры тут же прекращались. Куропёлкину был подан здоровенный кусок мяса с кровью и запахами костра. Куропёлкин возмечтал: вот бы сейчас стакан водки из рук Ладны и хоровое пение: «Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки…»
Да, зрительная память Куропёлкина была отменная, но не фотографическая. И сытый Куропёлкин стал размышлять, отчего же дворовая девушка Евдокия напомнила ему о шоколаднице Лиотара. Если только подносом и фартуком, ну и ещё чем-то… Надо было рассмотреть её внимательнее (хотя зачем?). Но во время обеда и поедания Куропёлкиным мяса (со спаржей!) Дуня не появилась и о девицах-красавицах никто не спел…
После обеда Куропёлкину был определён полуденный отдых. Отдыхать позволили час, появились две камеристки госпожи Нины Аркадьевны и повели его к зданию водяных забав с русалками на фронтоне. Камеристки, возможно, были двойняшками, щекастые, с веснушками на скулах, на полных носах и даже на мочках ушей, смешливые. Одна из них, по имени Соня, по дороге к бассейнам и душам похохатывала и то и дело похлопывала Куропёлкина по заднице.
— Не балуй! — сердился Куропёлкин. Но не слишком строго.
Прежде всего его поставили под душ. Никогда Куропёлкин ничего не стеснялся на сцене «Прапорщиков в грибных местах», потому как был артист. А тут застеснялся. Девушки-камеристки вынуждены были остаться в купальниках, отчего-то со стразами в местах путешествий мужского естества, и принялись отскребать с его кожи нечто опасное или неприемлимое для госпожи Звонковой металлическими щётками, то и дело окунаемыми в чан с желтоватым раствором.
— Это не хлорка, — успокоила Куропёлкина камеристка Вера, — это снадобья с душистыми ароматами. Вы должны пахнуть Шахерезадой.
17
После струй душа, тоже вроде бы ароматных («Из рецептов Клеопатры», — просветили его), его отвели к жёсткому топчану, покрытому простынёй, и попросили улечься на живот для проведения массажа, дальнейшего профилактического осмотра и втирания благовоний. Руки девушек были сноровистые (видимо, учились у хороших профессионалов), сильные, но порой и нежные. Ну а Вера, похохатывая, умудрилась пощекотать Куропёлкину пятки, чему тот, естественно, не препятствовал. Он блаженствовал. Никакой Люк нигде не существовал.
— А теперь обследуем твои грешные места, — объявила Соня.
— Чего у меня нет, так это грешных мест, — заявил Куропёлкин.
А ведь, и вправду, не было.
— Давай, давай, поворачивайся на спину! — потребовала Соня.
И тут же отыскала грешный предмет. По её представлению. Ладонь её обхватила находку, и та распухла, расцвела, поднялась и раззадорилась.
— Ой! — вскричала Соня. — Да он же опасный!
Сама же ладонь свою не убирала, а сжимала её и продолжала ойкать.
И Вера подскочила к коллеге поглазеть и поучаствовать.
А Куропёлкина сейчас же прожгло желание. И догадка некая явилась к нему. Дерзко-авантюрная. У Екатерины Великой была доверенная дама, фрейлина-испытательница и подруга, Румянцева, что ли (Куропёлкин в последние годы всё же много читал, и часто — лишнее), так вот она опробовала свежих намеченных императрицей фаворитов и определяла, готовы ли они к употреблению. Не для этой ли цели были заведены камеристки Вера и Соня? Так что же тогда терять время? И похоже, что Вера с Соней были готовы к испытанию его резвости и способности к романтическим играм.
И руки Куропёлкина потянулись к бёдрам камеристок, одна — к Вериному, другая — к Сониному…
Но тут явился Трескучий.
18
— Ну как тут наш Шахерезад? — спросил он.
— Обработка происходит в штатном режиме, — ответствовала камеристка Вера. — Остаётся облагородить тело клиента благовониями Береники.
— Это хорошо, — одобрил Трескучий. — Полагаю, что завтра будет приятно пахнуть в Мексиканском заливе или на Бермудах.
— Где? — удивилась камеристка Соня.
— Шутка! — рассмеялся Трескучий. — Я пошутил.
И Соня с Верой рассмеялись. Возможно, в штатном режиме.
А Куропёлкин подумал, что Мексиканский залив и Бермуды упомянуты Трескучим неспроста, и не для смешливых камеристок, а для него, бывшего артиста и подсобного рабочего, а зачем — неизвестно.
— Слово «благовоние» происходит от слова «вонь», — сказал Куропёлкин.
Ничего вроде бы особенного не сказал, вслух подумал (в последние годы его вдруг стали посещать досужие соображения о происхождении тех или иных слов), но Трескучий рассвирепел:
— Остряк! Дерзить продолжает! Воображает себя Гаврошем Фуко! Очень скоро узнаешь, что такое вонь и от кого и от чего воняет! А вы, сударыни, ничего этакого дурного и опасного для Нины Аркадьевны в нём не обнаружили?
И произнося «сударыни», Трескучий свирепость не утерял, он будто бы хотел сейчас же услышать от камеристок нечто обличающее их клиента. «Нажил врага», — подумал Куропёлкин. Хотя что это меняло в нынешнем его состоянии?
— Ничего такого не обнаружили, — твердо заверила Трескучего сударыня Вера. — Анализы его вы вручили нам сами. Они хорошие. Для его случая — безупречные.
Трескучий хотел было что-то произнести, но телефонным звонком был отозван в иные помещения.
Вера и Соня продолжили обработку и исследование возможностей Куропёлкина, надо полагать в штатном режиме. Через полчаса вернулся Трескучий, выслушал доклад камеристок и хмуро протянул Куропёлкину пакет со специальным ночным бельем.
19
К удивлению Куропёлкина, в пакете находились одни лишь трусы. Ничего специального Куропёлкин в них не углядел. При внимательном рассмотрении их он посчитал, что это обыкновенные футбольные трусы, синие с белой окантовкой и белыми вертикальными полосками, то есть напоминающие цвета спортивных клубов «Динамо» или «Зенит». (В случае с экипировкой «Зенита» Куропёлкин проявил в своих мыслях полную неосведомлённость и даже социальную безграмотность.) Не нашёл Куропёлкин в трусах ни карманчика, ни какой-либо иной полезной подробности. Странным был выбор жанра специального белья, и странной казалась привязанность назначившего его в дело к клубу «Динамо». Или даже «Зенита» (заблуждался). Впрочем, возможно, мысли Куропёлкина блуждали в тупиках, выстланных опасной (в гололёд) для ног плиткой.
Но вдруг обыкновенные футбольные трусы (схожие с гимнастическими) имели специальные свойства? Ну, например, они были способны вызвать обострение чувств. Или напротив, могли заменить смирительную рубаху? Или же это протокольная деталь униформы для церемонии сброса в Люк?
«Всё очень скоро откроется, всё получит объяснение», — успокоил себя Куропёлкин. Смешно сказать, успокоил. Смешно и грустно.
Но всё же отчего «Динамо» или «Зенит»?..
Был ужин. С дымящимся куском мяса («Мужику необходимо…»). Было моментально-неожиданное выпадение в сон в знакомой уже комнатушке. Сильные руки подняли его из сна, и прозвучало: «Уже одиннадцать!». Куропёлкин вскочил и почувствовал, что он свеж и готов.
— Пошли! — предложили два пристенных (в «Грибных местах») молодца.
Пошли. По дороге сопровождающие Куропёлкина лица обращались друг к другу уважительно: «Сэр!».
— Вы, наверное, обожаете овсянку! — радостно высказался Куропёлкин.
— Так точно, сэр! — подтвердил один из сопровождающих. — Каждое утро по четыре порции!
20
И его ввели в опочивальню Нины Аркадьевны Звонковой.
Там он был передан сэрами постельничьему Трескучему, назвали его при этом Воеводой. («Ах, ну да! — сообразил Куропёлкин. — Трескучий-Морозов. Воевода обходит владенья свои…»).
Сама опочивальня Куропёлкина разочаровала. Ни цветочно-оранжерейных гирлянд, ни лепестков роз на полу (да и пол-то не паркетный, а из досок), ни дрожащих огоньков свечей на полу же. Ни бассейна с Бахчисарайским фонтаном. Где же проводить омовения? Метров сорок квадратных. А то и меньше.
Обстановка этих сорока метров Куропёлкина тоже удивила. Голые стены («вагонка»). Всяческие украшения, вещицы, соответствующие достатку хозяйки и её капризам, в опочивальне Звонковой отсутствовали. А мебелью были предметы чисто служебного назначения — столики, тумбочки, стулья, даже табуретки…
«Это я будто в армейской казарме оказался! — подумал Куропёлкин. — Да и женщина ли Купчиха Звонкова?»
И не создавалась ли опочивальня по указаниям и вкусам постельничего Трескучего? В иных местах бытования Нины Аркадьевны (Куропёлкин давно уже отменил и забыл манящее имя Нинон, что только прежде не могло прийти по дурости в голову обнадёженного мечтателя?), так вот в этих иных местах наверняка имелись роскоши Версаля или хотя бы Екатерининского дворца в Царском Селе (опять вспомнил картинки в альбомах).
— Это вот твоя койка, — указал Трескучий. — Одеяло верблюжье.
Трескучий откинул одеяло, будто предъявляя Куропёлкину его достоинства, и Куропёлкин заметил на наволочке подушки инвентарный номер. Койка была будто госпитальная, только что не пахла лекарствами. Пододеяльником Куропёлкина не одарили. К чему Трескучему лишние траты?
— А это вот будуар Нины Аркадьевны, — с почтением произнёс Трескучий.
«Вся опочивальня и есть будуар, или часть будуара, а это альков», — чуть было не взялся просвещать постельничего Куропёлкин, но вспомнил о Люке и красках рассвета.
Альков в нише, с ситцевыми боковинами, с ситцевым же, надо полагать, пологом, перекинутым пока через бельевую веревку, мог послужить и ложем полковника, расположенным метрах в четырёх от койки денщика.
— Нина Аркадьевна может явиться с минуты на минуту, — объявил Трескучий. — Ещё раз напоминаю. Веди себя как цуцик на морозе. Не вздумай фамильярничать. А если уж начнёшь наглеть, разорвут в клочья. Всё, идут. Марш с головой под одеяло!
21
Дверь открылась, и вошли трое.
Существо в халате до лодыжек и накрученном на голове махровом полотенце и две девушки-камеристки — Вера и Соня.
Рослое существо в халате, линиями фигуры мало похожее на посетительницу «Прапорщиков в грибных местах», всё же, надо полагать, было хозяйкой опочивальни, но также могло прогуливаться вечерами и коридором коммунальной квартиры в Сретенских переулках.
— Всё нормально, господин Трескучий? — поинтересовалась Звонкова, голос её был низкий, но, несомненно, женский.
— Всё, — быстро ответил Трескучий.
— Все свободны, — сказала Звонкова. — Хотя погодите. А где наш гость?
— Под одеялом, — сообщил Трескучий. — Рекомендовано так лежать, чтобы не быть ослепленным.
— Товарищ, — сказала Звонкова. — Как вас именовать-то?
— Эжен, — прозвучало (промычало) из-под верблюжьего одеяла. — Эжен Куропёлкин.
— Эжен, — сказала Звонкова. — Да вы же задохнётесь. Откиньте одеяло. Никто и ничто вас не ослепит.
Для Куропёлкина в её словах почудились чуть ли не ласка, даже забота о нём и приглашение к чему-то трогательно-сокровенному, и он откинул от лица одеяло.
— Да вы не щурьтесь, не опускайте веки, ничего дурного вы не увидите.
И ведь, верно, ничего дурного он не увидел.
— Так, — сказала Звонкова, — я сегодня чрезвычайно устала от дел. И вы (обращение к камеристкам) принимайтесь за свои хлопоты. Помимо прочего меня беспокоят две заусеницы.
Камеристки сейчас же пододвинули к одному из столиков табуреты и разложили на нём инструменты. Звонкова подсела к ним и протянула пальцы. Заусеницы были удалены быстро, болей Нина Аркадьевна не испытала.
— Вот сейчас освежилась в бассейне, — сказала Звонкова (бассейн, видимо, был не тот, в котором обрабатывали и исследовали Куропёлкина, а иного разряда и «близкий», может где-то за стеной), и вашим массажем удовольствовалась, а всё равно тело моё так устало носить днём нанобелье нашего лучшего портного и сарафаны его… И так ведь каждый день…
— Ваш юркий Шустрик — мошенник, — категорично заявила Вера. — И вам давно надо было отказаться от его наноуслуг.
— Ты не права, Вера, — мягко пожурила камеристку Звонкова, — он настоящий художник. Его ценят и в Париже, и в Милане.
— И в зимних окопах, — не удержалась Вера.
Куропёлкин будто бы занырнул на десятиметровую глубину (без акваланга) возле острова Русского и был невидим и неслышен. Даже пузырьки от него не восходили к прозрачной поверхности океана.
— Промассируйте мне ещё раз вмятины от белья Художника и расчешите мне волосы, — попросила Звонкова.
Чтобы исполнить просьбу барыни, Вере и Соне должно было смотать с её головы тюрбан из махрового полотенца и снять халат.
И теперь Нина Аркадьевна стояла обнажённой.
А по вспышке её глаз можно было предположить, что — и освобождённой от хлопот и вериг дня. «Я свободная и прекрасная женщина!» — будто бы сиянием исходило от неё.
Вот тут-то и произошло ослепление Куропёлкина.
Богиня! Жар-птица! А на лбу звезда горит! (Ну, это-то было бы лишним. Что хорошего, если бы на лбу прекрасной женщины горело что-либо, пусть и звезда? Тут в Куропёлкине пробудился пожарный.) А женщина стояла перед ним прекрасная. Неописуемой красоты. Как было прочитано Куропёлкиным у писателя Ухваткина, лауреата Больших премий, принадлежавшего к направлению Доусши. Впрочем, Куропёлкин, не обожжённый до слепоты и пепла, мог бы кое-что и описать, если бы его спросили. Но никто не спросил.
22
По своим заботам Вера и Соня поворачивали Нину Аркадьевну, и Куропёлкин увидел всё, что мог и что хотел.
А увидел он, что Звонкова не такая уж пышнотелая, какой выглядела в «Грибных местах», при этом, естественно, совсем не костлявая. Но и не рыхлая. Пресс её (теперь к пожарнику Куропёлкину прибавился кандидат в мастера спорта по акробатике) был явно накачан, наверняка Нина Аркадьевна выгадывала время для напряжений на тренировочных снарядах. Да и низ живота её был хорош во всех его подробностях, и украшал его чудесный рыжевато (но не осенний) — русый лесок, приглашавший в свои грибные места (сейчас же Куропёлкин посчитал, что мысль его нехороша и унижает красоту). Какая женщина, какое тело! И плечи её не подпирал и не прямил каприз модельера Шустрика, они не были плечами замоскворецкой купчихи или капитана полиции а, свободно-покатые, вместе с изяществом шеи заявляли о тонкостях породы барыни Звонковой. Рядом с ней камеристки Вера и Соня выглядели именно дворовыми девками.
Какая женщина! Какое тело!
«Бесстыжая баба!» — воскликнул (про себя!) Куропёлкин.
Смотрит в зеркальце, радуется себе и будто не помнит о том, что в четырёх метрах от неё замер гость Эжен.
Да его просто нет, этого гостя Эжена. Тьфу! А стоит ли стыдиться букашки какой-то!
И тут камеристки повернули Нину Аркадьевну к Куропёлкину спиной, предъявив (естественно, не думая об этом) арендованному артисту совершенство линий и форм бёдер, ягодиц и стройно-протяжённых ног их барыни. Эти линии и формы были для Куропёлкина важнейшими для его зрительских оценок красоты и, стало быть, для возникновения его чувств к той или иной женщине. Конечно, производили на него впечатление — и глаза женщины, и разные её выпуклости, и запахи, и походка, и особенности смеха (хохотушки часто попадались глуповатыми), но…
Красота стояла перед Куропёлкиным не мраморная (из альбомов), а живая, и Куропёлкин испугался за себя. Всё в нём могло (и должно было) сейчас воспылать, а уж предмет, признанный камеристкой Соней опасным, обязан был, забыв об угрозах Трескучего, повести себя воином, не побоявшимся окружившего его конного воинства враждебных обстоятельств. Но Куропёлкин ощутил, что никакой воин не восстанет, а вместо него, теряя силы, шевелится какая-то мелкая и мерзкая гусеница… Вот тебе и специальные футбольные трусы. Но может, и не в них было дело…
— Ну, всё, Нина Аркадьевна, — сказала Соня, — спину и поясницу мы вам хорошо промазали снадобьями. Надеюсь, она не будет беспокоить вас ночью.
— Спасибо, милые, — сказала Звонкова. — А волосы?
Волосы её были с тщанием расчесаны и опали струями по спине до бёдер.
— Вот, Нина Аркадьевна, ваш ночной напиток! — камеристка Вера протянула барыне бокал с тёмно-жёлтой жидкостью.
И тогда до Куропёлкина дошло, что Звонкова — ведьма.
23
— Все свободны, спасибо, — сказала Звонкова. — Все, конечно, кроме нашего гостя.
Девушки-камеристки чуть ли не выпорхнули из опочивальни, а Трескучий выходил явно без охоты, при этом быстро взглянул на «нашего гостя» с выражением: «Даю понять!», породив в Куропёлкине не только готовность к сопротивлению, но и ощущение бессилия.
Конечно, — она ведьма, возбуждался Куропёлкин, а её постельничий Трескучий — вампир. У того к ночи и клыки вытянулись и заострились. Звонкову намазали змеиными снадобьями, она шарахнула бокал неведомого зелья, сейчас она улетит в туманы, наверняка в нише алькова имеется щель к небесам, улетит к своим ночным блаженствам или к городским безобразиям, а вампир Трескучий примется за него, Куропёлкина. Вылакает кровь, а может, и прочие жидкости, а добрейшие девы Вера и Соня явятся тут же клювастыми птицами-грифами, сожрут падаль, останутся от него лишь кости, и никакой Люк не потребуется. А скорее всего здесь и нет никакого Люка. Но что ныть-то! Тебе показана «неописуемая красота» — плати! И всё же Куропёлкин на всякий случай снова прикрыл себя некогда рекомендованным средством от ядерного взрыва — простынёй, здесь — одеялом и перекрестился. Сейчас начнётся действо ведьмы, двух её пособниц и жестокого вампира, кому, видимо, для продолжения жизни свежая кровь необходима каждый день. Может, и ещё каких страшилищ призовут на помощь.
И сейчас же Куропёлкин услышал будто бы вздохи и стоны, а потом и радостный свист улетающего тела.
Улетела ведьма. Надолго ли? И с чем вернётся?
24
— Эжен, — услышал Куропёлкин. — Да что вы всё под одеялом прячетесь? Вам не мешает ночник?
Пришлось Куропёлкину снова откидывать с головы одеяло. Ночник на тумбочке у стены светил.
— Не мешает, — сказал Куропёлкин.
Вернулась? Или отлетело лишь её тело, а голос был оставлен в опочивальне для деловых (или ритуальных) нужд? Да и её ли прозвучал голос?
— Не мешает, — повторил Куропёлкин.
— А я вот без ночника спать не могу, — голос был всё же Звонковой, — с детства.
«Кошмары, что ли, совесть мучают?» — предположил Куропёлкин.
— И извините, пожалуйста, что я легла к вам спиной. Наиболее удобная для меня поза. Проблема с позвоночником, авария…
«Разжалобить хочет! — подумал Куропёлкин. — А потом, расслабленного, — бац! — и придавит. Да при этом какое-нибудь чудовище веки пудовые попросит ему приподнять» (это Куропёлкин видел в кино).
— Вам следует обратиться к травматологам из Инфизкульта, — знатоком посоветовал Куропёлкин.
— К кому и куда я только не обращалась…
Ничего себе, сообразил Куропёлкин, обнаглел, принялся давать медицинские советы миллиардерше. Или смешнее того — рекомендовать ведьме травматологов Инфизкульта!
И Куропёлкин притих.
— Ради приличия, — заговорила Звонкова, — я могла бы поставить рядом с вами ширму. Но мне неприятны, даже и за полотняной стеной, чужие звуки, шуршание, возня, будто бы подготовка к зловредному действию. Надеюсь, вам понятны причины моего решения?
— Понятны, — сказал Куропёлкин.
— Ну и хорошо! Почему вы — Эжен?
— Я — Евгений. Евгений Макарович Куропёлкин.
— Евгений… Тоже имя — не самое красивое, — установила Звонкова. — Отчего же вы не хотите откликаться на Шахерезаду? Или хотя бы на Шехерезада?
«Что же тут плохого-то! — обиженно подумал Куропёлкин. — Имя моё, видите ли, некрасивое! Так зачем же брали в аренду-то!»
Сказал:
— Откликаются собаки. И кошки, эти-то не всегда. И при чём тут Шахерезада или Шахерезад?
— Сейчас я объясню, — сказала Звонкова.
25
И просветила Куропёлкина.
Её, Нину Аркадьевну, изводит бессонница. Таблетки и прочие химические изделия фармацевтов ей запрещены, они вообще вредны людям, а в случае с ней и втрое вредны. А с утра в делах она должна быть словно омытой живительной водой из источников Камчатки. Пробовали и травы, и китайские отвары из ядовитых насекомых, ползучих гадов и костей уссурийских кошек, но все эти бесспорные средства не помогали, а только вызывали томление организма. Наконец, одна из знакомых светских дам, то ли с серьёзным сочувствием к здоровью Звонковой, то ли с издёвкой завистницы, посоветовала завести ей Шахерезаду, способную укачивать своей болтовнёй и доводить до глубоко-беспробудного сна. Звонкова плохо помнила о каком-то Бахтияре, преодолевшем бессонницу, и о болтливой красотке Шахерезаде, но мысль о том, что в её уединении, где была запрещена установка всяческих телефонов и каких-либо других средств коммуникации, будет валяться чужая женщина, её покоробила. «Ну, тогда назначай на место Шахерезады, — тут завистница явно язвила, — какого-нибудь мужика. Мужики, они куда разнообразнее в приёмах победы над бессоницей. А не понравится ночью — утром вон его! И бери нового!» Концепция завистливой, но отважно-бывалой дамы была с энтузиазмом (так показалось) принята постельничим Трескучим и начала осуществляться со свободной тратой средств.
Естественно, о сути ситуации Куропёлкину было открыто решительно не всё, но он был человек сообразительный. К тому же ни единому слову мадам Звонковой можно было не верить.
— Со мной вы ошиблись, — всё же посчитал нужным сказать Куропёлкин.
— Почему же? — возразила Нина Аркадьевна. — Вас отбирали люди сведущие. И посчитали, что вы человек начитанный.
— Начитанный?! — Куропёлкин чуть было не рассмеялся. — Я, в лучшем случае, человек нахватавшийся. Любил посещать библиотеки. И библиотекарш. И нахватался каких-то сюжетных обрывков.
— Проверим, — сухо сказала Звонкова.
— Вам бы пригласить какого-нибудь доцента. Или профессора. Обо всём бы вам рассказали.
— Призывали и таких, — сказала Звонкова. — Толку никакого. От их учёных терминов приходила жуткая скука и даже тоска, насекомые дохли, и ни на секунду сна… Так что пришла ваша очередь, нахватавшегося…
26
— Хорошо, — вздохнул Куропёлкин. — Попробую исполнить ваши ночные требования.
Ему хотелось спать, устал за день арендного состояния, пошло бы всё на… Вот именно!.. пошло бы всё подальше, Люк так Люк, но и перед Люком не лишним было бы выспаться.
— Вот что, Эжен Куропёлкин, — услышал он. — Против ваших зевот я ничего не имею. Хочу только предупредить. Вполне возможно, что вы сейчас возьмётесь пересказывать мне или «Графа Монте-Кристо», или «Робинзона Крузо», или «Трёх мушкетёров», или «Собаку Баскервилей». Так вот, многие этим начинали. И…
— И их тут же — в Люк! — продолжил Куропёлкин.
— В какой ещё Люк? — будто бы удивилась Звонкова.
— В обыкновенный, — резко сказал Куропёлкин.
— Не знаю никакого Люка! — заявила Звонкова. И было понятно, что она врёт.
— Между прочим, я вам про собаку Баскервилей такую историю рассказал бы, — расстроенно произнёс Куропёлкин, — что вы и во сне бы веселились и не захотели бы просыпаться.
— Хватит болтовни! — сказала Звонкова.
27
— Как прикажете! Вытягиваюсь по швам! — сказал Куропёлкин. — Вы читали роман Стига Ларссона «Девушка с татуировкой Дракона»?
— Не читала, — сказала Звонкова.
— Ну, как же! — возгордился Куропёлкин. Будто бы сам он читал роман Стига Ларссона. То есть он и вправду читал (принимался читать), но одолел всего лишь семьдесят страниц из здоровенного тома. Рекомендован роман был ему библиотекаршей Безруковой Антониной, несомненно проявлявшей сугубый интерес к его атлетическим наворотам мышц, проступавшим, по мнению Антонины, и через вязаный свитер. Упомянутая выше зрительная память отложила в его голове совершенно ненужные ему сведения и оценки, какие можно было теперь сообщить Звонковой. Зазывные сведения эти на обложках книги крюками крупного шрифта цепляли внимание доверчивого покупателя. От Куропёлкина теперь Звонкова узнала, что роман издан в Европе миллионными тиражами, а автора романа признали гениальным.
Объявленная гениальность С. Ларссона слушательницу не взволновала, а вот слова о миллионах оказались для неё интересными.
— Миллионы, значит! — прошептала она возбужденно. — Так, так, так, продолжайте!
Легко сказать — «продолжайте»! При попытках продвинуться в одолении романа Куропёлкин, в своей съёмной квартирке на Большой Переяславке, засыпал несколько раз и полагал, что и сейчас Нина Аркадьевна при пересказе сочинения Ларссона долго бодрствовать не сможет, а скоро задрыхнет и даст выспаться до Люка ему, Куропёлкину.
— Что же вы замолчали? — сказала Звонкова. — Ларссон так Ларссон. Татуировка так татуировка. Валяйте!
— Хорошо, — пробормотал Куропёлкин. Сейчас же понял, что и те немногие страницы, которые он заставил себя прочитать, он забыл, или почти забыл, что Стиг Ларссон ему не поможет, а придётся сочинять нечто, не имеющее отношения к выбранной им книге, но хотя бы складное, и если враньё его пойдёт именно складно, то продолжит враньё. Всё равно никто завтра не станет сопоставлять его фантазии с подлинными историями книги. Да и спросить за это враньё будет уже не с кого.
Странно, но всё же кое-что из будто бы забытого стало вспоминаться Куропёлкину, и это его обнадёжило…
28
— Так вот, дело там происходит в Швеции… — начал Куропёлкин.
Замершая дама будто бы шевельнулась.
— Ну, там шведская семья, — продолжил Куропёлкин, — это… да вы сами знаете лучше меня. Примечательно лишь, что в одной из таких семей существовал главный герой романа журналист Микаэль Блумквист. Два мужика и одна женщина. Люди порядочные, события в этой семье происходили как бы автономные. Но что-то я влип сейчас в семейные отношения. Не в них в книге суть. Существовал в Швеции, то есть в книге Ларссона, в начале тысячелетия мошенник и напёрсточник банкир Веннерстрём. Этот мошенник напридумывал всякие приёмы, чтобы облопошивать и своих шведских финансистов, и дураков из Восточной Европы, и заработал миллиарды крон. И вот тогда журналист Микаэль Блумквист…
— Погодите, погодите, — заговорила Звонкова, — стало быть, миллиарды, стало быть, миллиарды крон…
Сначала её (или её интерес к его болтовне) оживили слова о миллионах, теперь вот были упомянуты миллиарды.
— Эжен, и как же были добыты-то, по вашему мнению, из воздуха эти миллиарды? — спросила Звонкова.
— Если бы я чего понимал в деньгах… — искренне расстроился Куропёлкин.
— Напрягитесь и вспомните, что написано Ларссоном об афёрах банкира Веннерстрёма.
Опять же, легко сказать — «вспомните».
И тут, к удивлению Куропёлкина, и не к удивлению даже, а чуть ли не ужасу его, из нашего рассказчика понеслись слова, неизвестно откуда взявшиеся и ему неподвластные. Полчаса (ход времени Куропёлкин чувствовал без стрелок на циферблатах) арендованный подсобный рабочий излагал историю обогащения мошенника Веннерстрёма, будто бы сейчас книгу Ларссона держал перед собой, излагал со всеми финансовыми подробностями, суть которых он не понимал да и не держал их в голове. С чего бы вдруг текст шведа навалился на него и зазвучал, причём озвучены были и страницы, пропущенные при чтении Куропёлкиным по причине их занудства?
А мадам Звонкова слушала, Куропёлкин ощущал это, историю афёры Веннерстрёма чуть ли не с упоением. И когда Куропёлкин замолчал, она заключила:
— Были у него ходы остроумные. А так афёра — простенькая. Но может, простотой и наглостью он и брал… Так что же совершил журналист Микаэль Блумквист?
— Ага, — обрадовался Куропёлкин. — Микаэль Блумквист. Он, как я рассказывал, был третьим или первым в шведской семье. Женщиной в ней была Эльвира.
— Меня не интересует шведская семья, — резко сказала Звонкова. — Так что предпринял журналист Блумквист?
— Ну, это уже скучно, — сказал Куропёлкин. — И ничего нового. Или неожиданного.
— Не вам оценивать ситуации! — осадила Звонкова Куропёлкина. — Излагайте, что было.
— Возвращаюсь на свой шесток, — помолчав, произнёс Куропёлкин. — Раз у нас тут изба-читальня.
29
Куропёлкин полагал, что дерзость его (хотя бы в голосе), по меньшей мере, вызовет раздражение хозяйки. Но нет, мадам Звонкова промолчала.
И понёс Куропёлкин всякую чушь (правда, с некими достоверными воспоминаниями о текстах романа) о том, как честный и независимый журналист Микаэль Блумквист выступил с разоблачениями мошенника Веннерстрёма, но судом был признан неправым в своих публикациях, оболгавшим добросовестного бизнесмена и приговорён не только к штрафу, но и к реальному, пусть и недолговременному, тюремному заключению. Тогда и прозвучала команда: «Ату!» той самой девушке с татуировкой дракона.
— Кто такая? — тихо спросила Звонкова.
— Ну как же! — опять будто бы удивился Куропёлкин. — Жуткая девица — сыщица, Саландер по фамилии, из детективного бюро… название забыл… способна на всё!
Куропёлкин был готов сейчас же продолжить нести увлекательную фантазию о девице Саландер, но Звонкова упредила его (и расстроила) полузевком:
— А где у неё была на теле татуировка?
— На лопатке, — вспомнил Куропёлкин.
— На какой?
«А ведь на левом плече Звонковой, — пришло в голову Куропёлкину, — что-то чернело, будто жук какой-то с длинными лапками, или нечто похожее…»
— На правой, — сказал Куропёлкин на всякий случай. — На правой лопатке.
— Ну и хорошо, — пробормотала Звонкова, зевнула сладко, и по её дыханию Куропёлкин понял, что она заснула.
Куропёлкин даже пожалел, что в его фантазиях более не нуждаются.
Но мысли его, освобождённые от необходимости возбуждать воображение, вернулись к земным реалиям, и Куропёлкин увидел, что одеяло сползло со Звонковой в глубину алькова, и ему снова открылась спина и задница женщины идеальных для него форм, и он понял, что спать ему не удастся.
«Бесстыжая баба! Ведьма! — чуть не вскричал Куропёлкин. — Ни о ком, кроме себя, не думает!»
Однако тут же ощутил, что в его специальных футбольных трусах никакая, даже самая мерзкая гусеница уже не шевелится и не дёргается. Так что же было злиться на Звонкову?
Ему бы застонать от тоски. Но он не застонал.
Открылась дверь, и в опочивальню вошел Трескучий. Вампир он или не вампир — было сейчас не важно. Проявлял он себя постельничим. Поправил одеяло на барыне, прикрыл её красоты, а проходя мимо Куропёлкина и, видимо, имея в виду его подпольные мысли, жестом римского императора опустил перед его носом к полу большой палец. Под полом, что ли, находился Люк?
Направленный в Люк императором, Куропёлкин повернулся на левый бок и попытался уберечь себя под одеялом. «Чёрти что! — сокрушался Куропёлкин. — Одноразовых ночных посетителей Клеопатры или Тамары Дарьяльской можно понять, а я-то во что вмазался?»
Дверь за постельничим Трескучим закрылась…
— Ежен! Или Евгений! — услышал он. — Вы, говорят, специалист по Ларошфуко.
Куропёлкин промычал нечто. Мычание это можно было толковать по всякому. Хотя бы и так: да, я с Ларошфуко в корешах.
— Познакомьте меня, — просительницей прозвучала Звонкова, — с каким-либо высказыванием мыслителя.
«Ничего себе!» — ужаснулся Куропёлкин. И вдруг выпалил:
— Если острие шпаги затупилось или, хуже того, неожиданно обломано, следует ответить на выпад судьбы или на козни недоброжелателей острием разума или языка.
— Запишите!
— У меня нет ни бумаги, ни карандаша, — всё ещё чуть ли не дрожа от удивления, произнёс Куропёлкин.
— Хорошо, — сказала Звонкова. — Повторите. Я запомню.
Куропёлкин повторил. Запинался, заикался, но вроде бы повторил. Всё, что ли? Нет.
— Почему мыслитель вдруг вспомнил о шпаге? — поинтересовалась Звонкова.
— Ну, как же! — чуть ли не привстал Куропёлкин. — Он же был герцог! А какой же герцог ходил в семнадцатом веке без шпаги?
О Ларошфуко и его герцогстве Куропёлкин вычитал (неизвестно зачем, фамилия, что ли, заинтересовала) в каком-то справочнике, но ни единого высказывания герцога-мыслителя он не знал. Ему бы сейчас провалиться от стыда.
И он провалился в сон.
30
— Что-то вы заспались, сударь!
Кто-то прошелестел над Куропёлкиным. Не ангелы ли?
Куропёлкин разлепил веки.
Нет, не ангелы. Смешливые камеристки — Вера и Соня. И одеяло на нём верблюжье. И лежит он вовсе не в райских кущах, а в опочивальне мадам Звонковой, то бишь — в её избе-читальне.
— А где Нина Аркадьевна? — испуганно произнёс Куропёлкин.
— Спохватился! — рассмеялась камеристка Соня. — Нина Аркадьевна вот уж как три часа назад улетела по делам. Тебя разрешила не будить. Но валяться здесь тебе уже нельзя. Неприлично. Вот тебе твои джинсы, свитерок, майка, кроссовки. Специальное ночное бельё сдашь нам. А мы отведём тебя в знакомую тебе комнатушку…
— Одиночку, — поправил Куропёлкин.
И тут же чуть было не спросил: «А как же Люк?», но промолчал, не стал испытывать судьбу. Насчёт Люка объявят. Объявили же пока ему камеристки (уже в комнатушке-одиночке приговоренных к…) о том, что на завтрак он уже опоздал, но если он подъедет к горничной Дуняше и ублажит её словами, может и получит утренние калорийные угощения, необходимые ему для работы, а они, Вера с Соней, придут к нему после обеда и поведут к водным процедурам, массажам и благовониям.
— Нет аппетита! — капризно заявил Куропёлкин. — На кой мне нужны ваши утренние угощения!
— Это уже проблемы горничной, — холодно сказала Вера.
Однако при появлении в комнатушке горничной Ладны-Дуняши, шоколадницы Лиотара, аппетиты в Куропёлкине возобновились. И были вознаграждены кашей геркулес и хорошо прожаренным цыплёнком табака.
— И что же, — сытым барином (сытым боцманом?) и уж точно сытым котом, — поинтересовался Куропёлкин, — у вас всем подают на завтрак цыплят табака?
И тут же вспомнил о своей птичьей фамилии.
Сказал мечтательно-скромно:
— К такому завтраку да кружку бы пива!
— Зазнался! Пива ему! Не возгордись! — сказала горничная. — Вижу, снабдить тебя свежим постельным бельём распорядиться господин Трескучий не пожелал.
Но вдруг она будто бы улыбнулась. То ли Куропёлкину. То ли чему-то, ему неведомому.
— Господин дворецкий ходит нынче злой, голодный и именно трескучий. Эко ты его допёк! К удовольствию многих! Но будь начеку! Он не простит тебе конфуза. Такой прокол в безупречной многолетней службе. Пусть и на одну ночь. А так как бельё в этой комнате не велено было менять, можно предположить, что нынешней ночью конфуз будет отомщён. Трескучий — господин изобретательный. А теперь ещё и голодный. Так что, держись. — И горничная Дуняша неожиданно для Куропёлкина ласково погладила его волосы и чмокнула его в щёку.
Уплывая в свои интересы, горничная Дуняша приложила палец к губам…
Господина Трескучего словно и не было в поместье. Во всяком случае, Куропёлкина он не инспектировал. И это Куропёлкина радовало. Встречи с Трескучим он не желал. Не только не желал, но и побаивался её. Но избежать её, понятно, было нельзя. Трескучий явился к нему, отобедавшему с челядью, в комнату-одиночку.
— Эй, Гаврош Фуко! Бездельничаешь! Получи депешу от моей хозяйки.
На листке бумаги было напечатано: «Евгений, срочно подготовьте свои соображения о том, брал ли взятки А.А. Каренин или не брал».
31
— Как это подготовить? — растерялся Куропёлкин.
— Как велено, так и подготовить, — скрипуче-трескуче произнёс дворецкий (воевода) Трескучий-Морозов.
— Мне для этого надо перечитать «Анну Каренину», — словно бы к небесам обратился с просьбой Куропёлкин. — Мне, господин Трескучий, надо бы хоть на час получить книгу Толстого…
— Ха! (Далее матерные слова.) Может, тебя хоть на час отвезти в Монте-Карло сыграть в казино и искупаться? — зловеще рассмеялся Трескучий. — Может, надо срочно завести курьеров-скороходов, чтобы они для тебя, недоучки, таскали книги из библиотек?
Куропёлкин был готов выступить с громким протестом и напомнить о том, что он по условиям контракта обязан исполнять ночные требования госпожи Звонковой, а администрация госпожи должна способствовать этому, но слово «недоучка» осадило его и отменило его протесты.
Кто же он, как не Недоучка! Недоучка и есть!
Причём наглый Недоучка! Бессовестный!
Куропёлкину стало стыдно.
Он решил. Если госпожа Звонкова соизволит посетить нынче опочивальню, а его приведут туда по необходимости, первым делом он должен будет извиниться перед женщиной, не рассчитывая на проявления её милостей, за свою вчерашнюю авантюру. Вчера он был удивлён, а потом и доволен собой. Вот ведь как завернул! Теперь же помрачнел. Чему радоваться-то! Шарлатанить он не любил, перед женщинами в особенности. Что он знал о Ларошфуко? Только то, что тот жил в семнадцатом веке, был герцогом и что-то изрекал. И вдруг он взял и выпалил необъяснимую для него самого фразу, вызвавшую удовольствие госпожи Звонковой. Когда он, Куропёлкин, имел какую-либо шпагу? И уж тем более имел ли он какое-либо право мудрствовать по поводу острия разума и языка? Это он-то, недоучка! Если бы он высказался за купцов и солепромышленников Строгановых, современников Ларошфуко, он бы ещё мог найти себе оправдания — всё-таки был любопытен и внимателен в музее Сольвычегодска и кое-что о Строгановых помнил.
Но Ларошфуко…
Нет, пусть Звонкова рассвирепеет, распорядится отправить его в Люк или отдать ради утоления жажды дворецкому Трескучему, он не сможет сегодня же не объясниться с ней по поводу Ларошфуко и его шпаги. А то ведь случится с женщиной незаслуженный ею, возможно, и деловой провал.
После обеда (с обязательным стейком с костра), в ожидании объяснения с Ниной Аркадьевной, Куропёлкин ходил угрюмый и неожиданной нелюдимостью своей на водных процедурах огорчил (или даже обидел) как будто бы доброжелательных к нему камеристок Веру и Соню. Зазнался, что ли, от удачи? Таким было их предположение. На самом же деле, их обиды были вызваны не слишком горячими откликами Куропёлкина на их ласково-манящие старания во время массажей. Куропёлкин и сам был удивлён холоду собственных откликов. Неужели вручённые ему вчера специальные футбольные трусы оказывали на него воздействие и вне строгостей опочивальни? Так или иначе в половине одиннадцатого Куропёлкин был введён постельничим Трескучим в опочивальню с указанием занять своё место и укрыть морду одеялом.
32
Минут через пятнадцать камеристки сопроводили госпожу к ситцевому алькову.
Куропёлкин очень быстро сообразил, что госпожа Звонкова явилась к месту отдохновения не просто оживлённая, но и употребившая. Правда, в меру. Обьяснения Нины Аркадьевны (камеристкам, но вышло, что и Трескучему) причин её весёлости вынудили Куропёлкина отказаться от разговора об изречении Ларошфуко.
Оказывается, это изречение привело вовсе не к провалу или конфузу, а, напротив, к деловой удаче. Среди прочих сегодняшних мероприятий мадам Звонковой был приём-встреча с виднейшими бизнесменами Франции в одной из резиденций Нины Аркадьевны, особняке, построенном Фёдором Шехтелем. Естественно, там присутствовали и наши успешные дельцы, и служебно одетые парижане, штатные люди из французского посольства. В увертюрных разговорах (велись они, конечно, в стилистике светской благопристойности и благоразумия) прозвучали колкости, взаимные неудовольствия партнёров или особ конкурирующих, в иной среде или в иных правилах приличия способные перейти в базарно-бабьи перепалки. Но здесь не перешли. И всё благодаря такту и остроумию, порой по справедливости и жёсткому, хозяйки делового собрания Нины Аркадьевны Звонковой, миллиардерши. Достойной героини журнала «Форбс».
В конце концов, всё кончилось хорошо. И политес был соблюдён, и спорщики разулыбались, и наметились выгодные сделки, в частности, выгодные и для самой Нины Аркадьевны Звонковой. А когда её попросили высказать своё мнение о нынешнем вечере, Нина Аркадьевна, подняв бокал с шампанским, оценила добрыми словами своих гостей, сумевших разрешить недоразумения в обстановке разумного дружелюбия.
— Я вспомнила при этом, — сказала тогда Звонкова, — высказывание одного из великих просветителей Франции, Ларошфуко: «Если остриё шпаги затупилось или, хуже того, неожиданно обломано, следует ответить на выпад судьбы или на козни недоброжелателей остриём разума либо языка».
Сейчас же раздались аплодисменты. Звонкова извинилась перед публикой за то, что она прочла высказывание Ларошфуко на русском, французский ей известен, но у неё плохое произношение. Но вот советник… Один из советников Звонковой, мгимошный выпускник, артистично перевёл Ларошфуко с русского на французский, и тогда возникла чуть ли не овация. Как же вовремя остроумец Ларошфуко вынырнул из века семнадцатого и совпал с днём сегодняшним!
Пили благодушно и ели с аппетитом блюда, заказанные в двух ресторанах — «Савойе» и «Национале», но Звонковой создавал напряжение худенький француз, оказавшийся специалистом по Ларошфуко. Услышанное им сегодня суждение мыслителя было ему незнакомо, хотя текстами Ларошфуко он занимался лет десять, начав эти занятия в Сорбонне. В подлинности слов Ларошфуко, приведённых авторитетнейшей женщиной, известной как дока в точных науках, он не имел права сомневаться, но умолял сообщить ему источник их публикации или хотя бы их рукописного нахождения. («Это же сенсация! Она требует исследования!») Слава богу, смена гостей возле Звонковой то и дело отгоняла от неё надоедливого француза. Наконец догадливый мгимошный выпускник сообщил французу, что именно он случайно наткнулся на высказывание Ларошфуко в записках знаменитого графа Завадовского, но это было в его студенческие годы, и теперь он не знает, где эти записки.
И француз отстал на время.
Зато другой посольский француз, отпускавший Звонковой комплименты, заверил её в том, что она за свои заслуги перед французской культурой и экономикой рано или поздно будет удостоена ордена Почётного Легиона.
33
— Всё было прекрасно, — сказала Звонкова, — но возбуждение проходит, надо укладываться.
И постельничий Трескучий был удалён из опочивальни.
Повторилась вчерашняя сцена с раздеванием богини (или ведьмы), с массажем озабоченной болями её спины и втиранием в эту прекрасную спину и не менее прекрасные ягодицы (ягодные места) благовоний.
Теперь Куропёлкин был даже благодарен Трескучему, снабдившему его специальными футбольными трусами.
— Ну, — сказала госпожа Звонкова, улёгшись в ситцевом алькове в удобной для проблем её позвоночника позе, — продолжайте историю с журналистом Блумквистом и девушкой с татуировкой дракона на правой лопатке, как её…
— Саландер, — вспомнил Куропёлкин, — Лисбет… Лизой по-нашему…
Он замолчал, медлил, тянул время, всё ещё полагал, что теперь в отсутствии каких-либо иных слушателей Звонкова поинтересуется, откуда Куропёлкин откопал оказавшееся для неё столь полезным и своевременным изречение Ларошфуко. Нет, не поинтересовалась. Скорее всего, ей было довольно слов (и отпущенной ему теперь роли знатока предмета) находчивого мгимовского выпускника о каких-то записках графа Завадовского. А он, карманный и укрытый от людей Куропёлкин, тут ни при чём.
«Ну, ладно! — подумал Куропёлкин. — Стало быть, можно ей врать дальше!»
И принялся врать. То есть фантазировать.
Чего он только не напридумывал про приключения журналиста Блумквиста и отчаянной девицы Лисбет Саландер! А также про интриги создателя и хозяина влиятельного детективного агентства Арановского (как раз он-то тонко направлял действия Лисбет Саландер). В ход пошла и шведская семья с центровой участницей журналисткой Эльвирой. И против шведской семьи слушательница сегодня не возражала. Выпадали из ночной истории Куропёлкина финансовые сюжеты, недоступные рассказчику, но и это Звонкову, похоже, не заботило.
«Да она, наверное, в своих мыслях, — расстроился Куропёлкин, — всё ещё пьёт шампанское, а может, и коньяк на приёме с французами. Так она и не заснёт».
А ему уже надоели все эти Блумквисты и Саландеры. А в особенности негодяй Веннерстрём. Да и воображение его устало.
И тут раздался храп. С присвистом. Тихий, деликатный, но храп. Куропёлкину неожиданно стало неловко за Звонкову. Богини, даже потерявшие конечности, храпеть не могли. Ведьмы же храпеть были обязаны, но, по мнению Куропёлкина, куда более громко, противно и нагло, гудками простуженного паровоза, например. Или воем падающего истребителя. Со стонами и матерными словами в паузах.
Куропёлкин совестливо заёрзал под верблюжьим одеялом. Будто он-то именно и храпел. Впрочем, он, исполнив свои ночные обязательства, имел право теперь и захрапеть.
— Так что вы, Евгений, — услышал он, — думаете по поводу Каренина?
— То есть?
— Вам что, — удивилась Звонкова, — не передали днём моё задание?
— Передали.
— И что же, по вашему усмотрению, брал ли Каренин взятки или не брал?
— Я читал «Анну Каренину» лет семь назад, — сказал Куропёлкин, — ещё в Котласе. Чтобы иметь, как вы выразились, своё усмотрение, мне надо было перечитать или хотя перелистать роман, но, увы, такой возможности у меня не было…
Куропёлкин сразу же спохватился:
— Нет, я ни на что и ни на кого не жалуюсь. Просто о книге у меня осталось смутное представление…
— Ну, пусть смутное… Так брал или не брал?
— Не брал, — сказал Куропёлкин.
— Почему?
— А зачем ему брать? Он был государственный муж с убеждениями о пользе Отечеству. И не бедный.
— И всё?
— Нет. Прежде всего он был человеком с понятиями о чести.
— А нынешние государственные мужи, — засмеялась Звонкова, — этих понятий не имеют, что ли?
— Не имеют, — сказал Куропёлкин.
— А олигархи?
— Не имеют. Зачем им понятия о чести?
— То есть и я живу, среди прочих, без понятий о чести?
— Теоретически да, — сказал Куропёлкин. — Но мне ваш случай пока не слишком ясен.
— Всё! — сказала Звонкова, и как будто бы сердито. — Спать!
Однако успокоиться не смогла:
— А вы, Евгений, имеете понятия о чести?
— Имею, — самонадеянно твердо, даже с вызовом произнёс Куропёлкин. Но тут же будто смутился: — Имел, по крайней мере…
34
Наступил третий день пребывания арендованного подсобного рабочего Куропёлкина в поместье госпожи Звонковой.
Что значит — «наступил»? Куда наступил? На кого наступил? Если только на злыдня Трескучего, дворецкого и постельничего… На свою шею (вампирью?) привёз он сюда из клуба «Прапорщики в грибных местах» очередного Шахерезада. Как всегда поутру хозяйка, Нина Аркадьевна, унеслась по делам в столицу (но может быть, и в столицу Поднебесной), а бездельнику Гаврошу Фуко позволила дрыхнуть (хорошо хоть не в своей опочивальне), и что уж самое унизительное для Трескучего-Морозова — было её распоряжение доставлять в поместье книги по требованиям Эжена Куропёлкина.
Пока госпожа Звонкова в отъезде и делах, а Куропёлкин именно валяется в безделье и скуке в своей комнатушке-одиночке, иногда, правда, напрягая мозги, а заказанную им книгу Толстого никто, похоже, не собирается доставлять, автор попытается объяснить возможному читателю, с чего бы вдруг Звонковой потребовалось знать, брал ли царский чиновник Каренин взятки или нет.
Но сразу и не объяснишь… С чего бы начать? Возьму, пожалуй, и начну с выпускного эпизода девушки (девочки ещё, пустые забавы с наглыми лапающими ровесниками, с их мокрыми от портвейна губами не могли её отвлекать), да, девочки Нины Звонковой. Из всех тем противного её натуре сочинения она выбрала как будто бы наиболее допустимую — «Наташа Ростова как зеркало русской женской души». Кинофильмы она смотрела…
Но и эта тема оказалась для неё неподъёмной. Будто штанга в двести килограммов для хрупкого существа.
После трех часов (а может, и трёх столетий) хождения её мозгов по мукам (за эти часы могла бы исполнить дипломную работу на Мехмате при Воробьёвых горах) девочка Нина Звонкова изготовила зеркало русской женской души со странной (не всегда в кинотеатрах Нина была внимательна, отвлекали мысли о цифрах и технических загадках), да, с неожиданно странной историей главной героини выпускного сочинения.
Её Наташа Ростова по причине страстной любви к светскому шалопаю изменила мужу, её лишили родительских прав, бессердечные люди сидели в социальных службах и в райотделе по делам несовершеннолетних, светский шалопай загулял с другой, Наташа в отчаянии бросилась под паровоз… паровоз вызвал сомнение Звонковой, паровозов она не видала… стало быть, Наташа бросилась под трамвай возле кинотеатра Повторного фильма, там вроде бы трамваи когда-то ходили (росла Нина рядом с Никитской площадью)… теперь Звонковой не понравилось слово «бросилась»… нет, конечно, трамвай сам наехал на Наташу, несшую тяжёлые сумки с картофелем, купленным на Палашёвском рынке, и чуть не зарезал… именно грузовой трамвай, перевозивший какие-то стулья, о чём назавтра появились заметки в газетах, прочитав их, старый муж расплакался и отпустил к Наташе их фактически беспризорного сына…
Геннадий Ильич, преподаватель литературы, с симпатией поглядывавший на красотку Звонкову (сама она считала себя уродиной), поулыбался печально: «Хорошо хоть напоследок Наташа не срослась у неё со знойной женщиной Грицацуевой!», вздохнул и отправился переписывать сочинение.
35
Нина Звонкова, гордость и удивление школы, да и всего района, обязана была получить золотую медаль.
Естественно, ситуацию с сочинением Звонковой следовало обсудить на Педсовете. Без протокола и с соблюдением в дальнейшем обета молчания. Работа Звонковой читателей рассмешила, но их реакция была упрятана в тишину и выразилась лишь деликатными улыбками. Учёные люди посчитали, что и такая работа (тем более без грамматических ошибок) выпускнице простительна. Звонкова росла Принцессой Точных Наук, прославила школу победами на всевозможных конкурсах, олимпиадах, турнирах, порой мирового уровня, и этого было достаточно. А Мария Ионовна Гурьянова, историчка, даже произнесла похвальное слово сочинению Звонковой. Точные науки, по её мнению, как раз и помогли Звонковой, используя гротесковый приём и иносказания, дать вековой срез (или вековое зеркало) русской женской судьбы, её души и её доли, её пути, в обстоятельствах эпохи, из князей в грязи, из ампирного дворца и золоченых карет к сумкам с картошкой, к сыну-беспризорнику и грузовому трамваю, чуть её не зарезавшему. Учёные люди покивали Гурьяновой, но тихо пришли к выводу, что среди надзирающих над выпусками из школ найдется немало педантов и просто дураков, какие с мнением преподавательницы истории не согласятся, а потому сочинение Звонковой надо переписать.
И Геннадию Ильичу, словеснику, было разрешено (поручено) сделать это…
В Принцессы Точных Наук Нину Звонкову произвёл её папаша Аркадий Платонович Звонков. Правда, не сразу. Вальяжный господин (тогда ещё товарищ) Аркадий Платонович не состоялся как оперный певец (бас-баритон), жил с долговременными досадами на не принявших его в Большой театр бездарей и завистников, но стал безукоризненным главным бухгалтером чулочной фабрики, своей находчивостью способствовавшим процветанию чулочников. И собственной семьи, естественно.
Однажды Аркадий Платонович увидел в руках дочери (третьеклассницы тогда) книжку, при этом глаза у Нины были влажными. Читала она какую-то английскую сентиментальную муть, может быть, слезливую историю Джейн Эйр писательницы Бронте. Аркадий Платонович отобрал у Нины книжку, произнеся педагогические слова:
— Не вздумай и дальше брать в руки всякую ерунду! Не следуй рекомендациям матери, иначе вырастешь неудачницей! Не отвлекайся от главного, что есть в тебе. Ты, как никто, умеешь считать. И рассчитывать. Причём на редкость изобретательно. Запомни. Ты — Принцесса Точных Наук. В этом твоя суть.
— И что же, — заинтересовалась юная Звонкова, — если есть Точные Науки, значит, должны быть и Науки Неточные? Зачем они-то нужны?
— Они и вовсе не нужны. Все гуманитарные якобы науки неточные, а потому ложные, — заявил Аркадий Платонович. — Гуманитарное образование ведёт в никуда. А вот эта дребедень с соплями (кивок в сторону сочинения Бронте) — одно из приложений к пустым изысканиям гуманитариев.
Вскоре многие книги из квартиры Звонковых были отправлены в ссылку на дачу, а позже и на даче Нина Звонкова их не обнаружила.
И это обстоятельство её никак не расстроило.
36
Дочь Аркадия Платоновича Звонкова неудачницей не выросла.
Напротив…
Автор, как и Евгений Макарович Куропёлкин, ни бельмеса не смыслит в финансовых делах, видел только в кинокадрах ажиотажные столпотворения на биржах с истерическими (победными или чуть ли не погибельными) выкриками-воплями молодых людей, ищущих выгод в столкновениях акций. Вот и всё. Ну, и читал я когда-то роман Драйзера, но ничего из него не помню. Стало быть, сюжет романа был мне не интересен. Да на какой хрен мне узнавать, кто и как прихватывает (или вдохновенно сотворяет, будто Шестую симфонию) свои миллиарды. Если они ему или ей нужны. И было мне не важно, откуда взялись миллиарды признанной некогда вундеркиндом Нины Аркадьевны Звонковой. И в журнале «Форбс» при её представлениях особых подробностей не приводилось. Ну, было известно об её успехах «в точных науках», в математике, физике, химии, в знании цветных и редкоземельных металлов, она кончила два уважаемых вуза, защитила кандидатскую, а ту признали докторской. О приватной жизни Нины Аркадьевны мало кто знал. Создавалось впечатление, будто бы всей жёлтой прессе и самым наглым папарацци упреждающе и удовлетворительно заплачено за то, чтобы ни единая невыгодная для Звонковой строчка и уж тем более фотография на глаза публике не попадались. И светские проказницы, обозревающие в Глянцах дневные и ночные удовольствия сливок общества, поводов для ехидств над деловой женщиной Звонковой почти не имели. А поводы были. Их могли вызвать хотя бы наряды из мастерской Народного художника Федерации, юркого Шустрика. Но вокруг личности госпожи Звонковой словно бы возник энергетический забор с зонтом недоступности и неприкосновенности. А за этим забором порой происходило и нечто для обывателя неожиданное.
Скажем, случился в жизни Нины Аркадьевны срыв. Или загул. То ли надоела ей суета с необходимостью чуть ли не каждый день придумывать (и осуществлять) удивляющие партнёров и конкурентов (этих — загоняющие в тупик) бизнес-сюрпризы. То ли стала задрёмывать её деловая хватка. То ли взыграли в ней, наконец, гормоны. Взбунтовались и взыграли.
Был дурман. Были наваждения, чуть не сладостно-романтические. Это у неё-то, у Звонковой! Были три замужества, недолгие. Были любовники и любовницы (забавы с теми или пробы забав, — самое скучное, мода). В мужья попались один недотёпа (Бавыкин, первый) и два дельца охотничьей породы. Этот недотёпа, Бавыкин, даже увлек её феерическим, но сумасбродным проектом, возбудил в ней азарт игрока, хоть сейчас лети в Лас-Вегас или Атлантик-Сити, не полетела, всё ещё поддерживала затею Бавыкина, но потом обиделась на него, ей в ту пору был нужен мужчина, а он утопал в своих сумасбродствах. И что теперь осталось от первого мужа? Если только Люк… Два последующих мужа были живчики и умельцы в постельных утехах, красавчики, но уж слишком быстро Звонкова ощутила и в том, и в другом оголодавшего лиса, притянутого к добычам запахами из курятника. Впрочем, их добычи, и немалые, по убеждению императора Веспасиана, запахов иметь были не должны. Вальяжный господин Аркадий Платонович Звонков, седой, но всё ещё значительный, с заведёнными недавно бакенбардами, тростью английского лорда вытолкал добытчиков (имена их Звонкова постаралась забыть) из жизни Принцессы Точных Наук (теперь, возможно, Королевы?) и призвал её к делам.
Нина Аркадьевна к делам вернулась, но не сразу. А ещё покуролесила. Потом гормоны её успокоились (или насытились?), и успокоилась пропустившая веселия юных и молодых лет женщина Нина Аркадьевна Звонкова. И всё же можно было предположить, что где-то под бетонными плитами её натуры лишь утих (или замер на время) интерес к мужчинам и к мужскому телу. Потому, и поддавшись совету знакомой, искреннему или высказанному с кривой усмешкой, завести Шахерезаду, она решила приглашать в исполнители её ночных требований исключительно мужчин. Не хватало ещё глупых и назойливых баб в её опочивальне!
Так и существовала госпожа Звонкова, прибавляя к своим миллиардам рубли и копейки, центы, юани и еврики. «Форбс» о ней не забывал, в политику она не лезла, помнила о дурных примерах, репутацию среди деловых людей и рыцарей власти имела самую благопристойную.
Всё было хорошо. Если бы не одно обстоятельство.
37
У влиятельных людей, с кем приходилось иметь Звонковой дела, были жёны, дочки, подруги и порхающие вокруг золотых клеток мухоловки-охотницы и пикирующие к тем же клеткам ястребихи из инкубатора невест маэстро Либенштока.
То есть обыкновенные бабы. Одни — добравшиеся до высот жизни, до бриллиантов, яхт и вилл в Марбелье. Иные — те самые охотницы, но уже залетевшие в светские стаи. Третьи — сброшенные с высот жизни в серые мерзости среднего класса. Иначе — выгнанные мужьями, чаще с щедрыми вознаграждениями, конечно, если они не были уличены частными детективами в житейских грехах. Ради замены их на более юных блондинок из Соль-Илецка или Шумерли.
Так вот госпожа Звонкова, вынужденная, ради соблюдения неписаных правил, всё же посещать светские сборища, этих обыкновенных баб опасалась. Их сплетни, их злорадные словечки, вызванные завистью (они-то — при мужьях или на содержании, а она — при собственных миллиардах), их ночные нашептывания приличным людям не могли не вредить её делам. Но суть была и не в одних делах. Эти бабы или дамы как бы и не держали её за равных себе. Их разговоры в отсутствии серьёзных мужчин (но в присутствии нагловатых содержантов разного сорта) были как бы демонстрациями культурной осведомлённости светских душек. Или «штучек», по классификации Салтыкова-Щедрина. Всё они (душки или «штучки») знали, всё читали, бывали на всех премьерах, с горячностью судили о достоинствах модных режиссёров Червякова или Балабасова, спорили по поводу бунта актёров Таганки, интересовались, надо ли читать новый роман Мураками (спрашивали об этом и у Звонковой, а потом многозначительно кривили губы), хихикали, рассказывая о «личной жизни» некоего тенора, самопровозгласившего себя Золотым голосом Евразии и Антарктиды, а какой у него золотой голос, в крайнем случае — фибралитовый; восхищались гастролями приглашённых групп «Юрай Хип», «Ди Пёплз» и чувствительными (в шансонно-блатном с девичьими слезами маринаде) песнями какого-то Стаса… И всё это не выглядело выпендрёжем, а казалось естественным проявлением свойств и интересов женщин, достойно занявших место в элите. И хотя Звонкова знала цену себе и этой самой элите и её женщинам, она в их обществе, вопреки своим установлениям, ощущала комплекс неполноценности. И будто бы стеснялась саму себя. Слышала за спиной, да если и не слышала, то чувствовала. «Тюха-Матюха!», «Марфута без парашюта!», «Купчиха толстобрюхая!», «Ага! Её специально так одевают, чтобы обнаружилась её суть!». Обижаться на сливочных дам или расстраиваться из-за их чуть ли не брезгливого отношения к ней было унизительно и глупо, но Звонкова и обижалась, и расстраивалась. Однажды в своей опочивальне даже слёзы пустила по щекам. Решила: более в светской жизни не участвовать. Но тут же поняла: её «прогулы» породят ещё более обидные сплетни и ехидства.
И особо злорадничать станут шоссейные писательницы. Расцвела мода. Уже с десяток изгнанных из теремов заповедного шоссе жён навыпускали романы (сами сочинили или их белокуро-бледноликие негры) с историями бескорыстных любовей, а потом и незаслуженных страданий главных героинь. Книги их имели спрос. И не только в больничных киосках. Эти писательницы были нынче в моде, и в вечерне-ночных круговертях с шампанским и ликёрами (ну и с «Хеннесси») держались властителями дум. Иными ими и признавались. Естественно, они не могли не выразить своего отношения к низкопробной или низкопородной «нуворихе» мадам Звонковой. Правда, выражали его осторожно, мало ли чего, всё-таки миллиарды были у неё, а не у них… Должен заметить, что Нина Аркадьевна излишне болезненно относилась к степени колкостей собеседниц, преувеличивала их и неоправданно терялась при разговорах любителей или даже знатоков искусств и литературы. Странно это было, странно… Вот и когда в умном, но пустом разговоре одна из светских дам попыталась узнать её мнение о Алексее Александровиче Каренине и о том, брал ли он взятки и допускал ли откаты, она первым делом посчитала, что тут явный подвох, подкоп под неё, и все ждут от неё сейчас неуклюжей нелепости, растерялась и стала что-то невнятно мямлить. Тут же извинилась, мол, мысли её всё ещё не здесь, а на утренних не слишком удачных переговорах, такая у неё подневольная доля, такие хомуты и оглобли. То есть обострила в себе (осознала сразу) чувство неловкости и создала повод для новых ехидств. Взяла со стойки коктейль из крепких, пила глотками, а не цедила соломинкой, как того требовал этикет. Трудно вспоминала, кто такой Каренин, а когда вспомнила, стала вслушиваться в разговор о взятках, откатах и крупном царском сановнике. Разговор шёл без смешков и подковырок, а как будто бы с искренним интересом к нравам значительных людей девятнадцатого века, в пору реформ Александра Второго. Но уж история была тем более одной из самых неточных наук и никогда не способствовала предприятиям Нины Аркадьевны. Однако она вдруг испытала зависть к искренне спорящим. И её-то мнением интересовались, видимо, всерьёз.
Но её мнение, высказанное впопыхах, могло лишь расстроить её саму, кстати, оно, вынужденное растерянностью и секундным смятением, оказалось бы наверняка несправедливым. И стало бы мешать ей жить дальше.
Но мысли об этом были перелётные. Посетили Звонкову и унеслись дальше по пути своего передвижения.
Осталась одна. Или две. Кто она, Звонкова, такая? И не надо ли покончить с Люком?
38
Впрочем, и эти две мысли держались в Звонковой недолго.
Вопрос о Каренине был задан Нине Аркадьевне ещё до привоза в зону её отдыха подсобного рабочего Куропёлкина и до её интеллектуального успеха на приёме деловых людей Франции.
Соображения о Люке рассыпались сразу. А что с ним делать-то? Засыпать его или взорвать нельзя. Если только возвести над ним стальной колпак. И укрыть от любопытных камуфляжной декорацией. Звонкова постановила с Люком не спешить, там само собой что-нибудь и определится… И в рутине дней забыла о Люке.
Звонковой бы забыть и о Каренине и его отношении к деньгам, а она не могла забыть.
Ей всё ещё казалось, что просьба собеседницы высказать мнение о Каренине была связана неизвестно каким образом, но связана с необходимостью её, Звонковой, самооценки и своей натуры, и собственной деловой практики.
С чего бы вдруг возникла такая необходимость, Звонкова объяснить себе не могла.
В небоскрёбе Звонковой на Вернадского в тесноте стеклянных квадратов и прямоугольников имелись справочно-вспомогательные службы. Одной из них, согласно профилю, было поручено (допускалось приглашение академических спецов) изготовить докладную о личности А.А. Каренина, о его нравственных и деловых установлениях. И в частности, исследовать ситуацию со взятками, брал ли их А.А. Каренин и на какие доходы (или хотя бы средства) он существовал.
Докладная, на взгляд Звонковой, вышла бестолковой. Бестолковой для её интереса. Личность сановника стала для неё понятной. Это ладно. А вот ответа на запрос о взятках она не получила. Никаких подсказок в тексте романа исследователи и аналитики (и их чуткие компьютеры) якобы не нашли. А один из нагловатых профессоров, из приглашённых с обещанием достойного гонорара от Звонковой, специалист по Достоевскому, одарил Звонкову советом: «Мадам! При ваших возможностях и ваших деньгах целесообразно было бы отправить в девятнадцатый век частных детективов с „жучками“ и камерами наблюдения, они бы всё выяснили. Впрочем, и в девятнадцатом веке были отменные детективы. Могу снабдить вас адресом японского бесполого, а потому и неподкупного сыщика Ри Фандо, а также номером монастырской кельи бесполой же, но проницательной монашенки Пелагеи (не спутайте с певицей). Желаю удач в ваших изысканиях».
«Каков наглец! Каков издеватель! — взъярилась Звонкова. — Ни копейки ему гонорара!»
Но тут же решила отменить своё намерение. Издеватель мог пустить в публику шуточки по поводу её скупости. Или мстительности.
А тут как раз подошёл день приёма деловых людей Франции.
39
Звонкова всех удивила. И тех, кто был среди гостей, и многих людей элиты, в особенности дам, своим смягчившим неловкости приёма обращением к мнению Ларошфуко. Иные из наших дам, и некоторые писательницы в их числе, и слыхом не слыхивали, кто такой Ларошфуко. И удивление это зашуршало по Москве.
Вышла на том приёме ещё одна тонкость.
К Звонковой подошел знакомый посольский, из советников по культуре, с неожиданными комплиментами внешности мадам Нинон. Звонкова насторожилась. Что-то угадывалось скрытое за кружевами его похвал. Обращался он к ней по-русски, мол, ощущает ее затруднения с французским произношением, а потому вести легкий разговор ему проще именно по-русски. Звонкова скоро поняла, в чём суть его доброжелательного подхода.
— Мадам Звонкова, — спросил посольский, — кто ваш кутюрье?
Звонкова с гордостью назвала фамилию маэстро Шустрика и напомнила посольскому, что это наш Народный художник мирового уровня, его почитают и во Франции, в Париже не раз проходили его шумные показы.
— Вы находитесь в заблуждении, — покачал головой посольский, — показы его проходили, главным образом, в вашем торгпредстве, а за его стенами ваш маэстро во Франции вовсе не авторитет.
Звонкова молчала, выжидая продолжения слов посольского.
— Вы достойны иных нарядов и украшений, — сказал наконец посольский. — Ваши формы, ваша осанка, извините, ради Бога, ваша красота требуют не таких громоздких и тяжеловесных одежд, какие вы привыкли носить. Впрочем, посчитайте это бестактным суждением легкомысленного парижанина. Вы и так хороши. Ещё раз извините…
И посольский с целованием руки хозяйки приёма и поклоном покинул общество Звонковой.
«А что, — подумала Звонкова, — может, и впрямь отогнать от себя этого народного художника Шустрика, обаятельный-то он обаятельный, и улыбчивый, но больно надоело мне рядиться под Купчиху и носить его нано нижние вериги с подогревом!..»
40
А через день Звонкова улетела в Поднебесную. Но не в столицу её, а в выставочный город Шанхай. На следующий вечер вернулась в Москву. С прибыльными контрактами, но усталая.
В опочивальне уже лежал под верблюжьим одеялом приготовленный постельничим Трескучим к ночным бдениям подсобный рабочий Куропёлкин.
Успокоенная (или удовлетворённая) знакомыми Куропёлкину прикосновениями сильных, но и осторожно-нежных рук камеристок Веры и Сони, ублажённая целебными благовониями, Звонкова улеглась в алькове, спиной к Куропёлкину, указующих слов не произнеся.
— Продолжить историю девушки с татуировкой дракона? — на всякий случай спросил Куропёлкин.
— Ай! Ай! — пробормотала Звонкова утомлённо, но и с раздражением. — Зачем? Сейчас засну и всё.
Но тут же вспомнила важное:
— Евгений, так брал Каренин взятки или нет?
— Не могу сказать ничего нового, — неуверенно произнёс Куропёлкин.
— Вы не перечитали роман Толстого? — с удивлением и укоризной спросила Звонкова.
— Мне так и не доставили «Анну Каренину», — сухо сказал Куропёлкин.
— И что же вам привезли? — спросила Звонкова.
— Вот как раз три тома Стига Ларссона с этой самой девушкой с татуировкой и ещё почему-то какие-то описания уличных прогулок по городу Тамбову.
— Какому городу? — будто бы не поверила Звонкова.
— Тамбову… Может, поводить вас сейчас экскурсоводом по Тамбову? Там были хорошие тамбовские окорока и бегали волки…
— Всё. Хватит, — сказала Звонкова. — Завтра разберусь. Так брал Каренин взятки или нет?
— Я же не перечитал Толстого…
— Но у вас было время порассуждать об этом, — настаивала Звонкова.
— Было… — согласился Куропёлкин.
— И как же вы рассудили?
— Не брал, — сказал Куропёлкин. — И буду стоять на своём.
— Ну и хорошо! Ну и ладно! — Звонкова словно бы обрадовалась. — И всё! И спать!
И, похоже, дневная гостья Поднебесной сейчас же заснула.
41
Утром Куропёлкин был отконвоирован в более звёздное место пребывания. Правда, всё в том же флигеле для дворовой челяди, но на втором этаже. С прихожей, с окном (в нём был виден и Люк), с помещением для раздумий и гигиенических удобств (без душа и тем более ванны), но всё же… При этом водные процедуры под надзором и при участии камеристок вовсе не были отменены.
Имелась у окна в распоряжении Куропёлкина бамбуковая этажерка для книг, и на одном «этаже» её уже были уложены три тома всемирного детектива Стига Ларссона и книжонка А. Митрофанова «Тамбов. Уличные прогулки». С «Анной Карениной» Звонкова, видимо, ещё не успела разобраться.
Конвой, сопровождавший новосёла Куропёлкина к его дневному «люксу», состоял вовсе не из двух силовых молодцов, а всёго лишь из горничной Дуняши. В самом факте сопровождения Дуняши Куропёлкину увиделось послабление режима.
— Так, — улыбнулась Дуняша при осмотре жилища Куропёлкина, — господин Трескучий всё-таки был вынужден снабдить вас свежим постельным бельём. Морозной свежести. Пододеяльник просто хрустит. Но не обольщайтесь. В господине Трескучем уже не хрустит, а скрежещет злоба на вас. И как бы ни благоволила к вам Хозяйка, он найдёт способ, причём самый изощренный, чтобы спустить вас в Люк и исполнить свою функцию. Ого! У вас и книги появились. Три вон какие толстые! На год хватит. Дадите почитать?
— Да хоть сейчас! — обрадовался Куропёлкин.
Тут же и спохватился. А что, если Звонкова пожелает узнать новые истории журналиста Блумквиста и девушки с драконом на правой лопатке? Но не предлагать же Дуняше прогулки по городу Тамбову. Зачем её-то мучить? Кстати, почему или с какой целью подсунули ему эти тамбовские путешествия?
— Дуняш, — осторожно спросил Куропёлкин, — а наш господин Трескучий родом, случайно, не из Тамбова?
— Нет вроде бы… — сказала Дуняша. — Он вроде бы вспоминал о детстве в каком-то сибирском городе… В Кемерове… Да, в Кемерове.
— Ну, ладно, — сказал Куропёлкин. — В Кемерове так в Кемерове. Вот, Дуняша, если хотите, возьмите для начала первый том Стига Ларссона.
— Возьму, — сказала Дуняша.
А Куропёлкину стало весело. «Снова придётся врать и выдумывать! И хорошо! И мне интересно! Куда приятнее, чем одолевать семьсот страниц про шведскую жизнь с финансовыми афёрами!» Весело стало Куропёлкину ещё и потому, что горничная Дуняша улыбнулась ему и чмокнула его в щёку. Помады на её губах не было, и криминальных следов для служб господина Дворецкого она не оставила.
— Я за вас беспокоюсь, Евгений Макарович, — прошептала Дуняша. — По какой причине, не знаю… Ну, хотя бы и из-за того, что вы раздражаете этого изверга Трескучего… Вы уж живите поосторожнее, иначе вы многих расстроите.
— Постараюсь, — важно произнёс Куропёлкин. И сразу ощутил, какой он сейчас надуто-напыщенный. И дурак.
— А вот с Хозяйкой вам может и повезти, — сказала Дуняша. Но будто бы не слишком радостно. — Однако вам следует поспешать к завтраку.
Поспешил. И снова получил удовольствие от хорошо пропечённого цыплёнка табака с белой спаржей. Еле сдержал отрыжку. Выразил благодарность поварам, мол, готовите не хуже, чем в лучших ресторанах Тбилиси. Естественно, в Тбилиси он никогда не был. Повара расчувствовались и поощрили Куропёлкина ещё одним цыплёнком табака, сообщив при этом, что цыплята — местные, своё счастливое детство проводили на здешней птицефабрике. Но, может быть, поощрение Куропёлкина было вызвано и не его комплиментами кухне (искренними). А некиим странным поворотом (пусть даже и временным) в ожидаемо-непременном сюжете с очередным Шахерезадом. А нынче в поместье не знали, чего ожидать дальше. Именно поэтому, на всякий случай, кухня, а уж тут люди работали ушлые и прозорливые, позволила себе проявить лояльно-общепитовское внимание к оголодавшему клиенту. И это внимание было бы допустимым при возможных объяснениях перед дыбами в застенках воеводы Трескучего (если такие застенки и дыбы имелись. Но почему бы им и не быть?)
И Куропёлкин это понимал. Хотя и впадал уже в легкомыслие удачливой будто бы безответственности. «А-а-а! Пусть будет, что будет!..»
И вот после второго цыплёнка табака Куропёлкин, скинув кроссовки, улёгся на свою новую койку, хрустел пододеяльником, глядел в потолок. Делать ничего не хотел, общаться ни с кем не желал, и даже инспекторский приход горничной Дуняши не вызвал его воодушевления.
— Ну и как, Евгений Макарович, — поинтересовалась горничная, — насытились, или ваш организм требует добавки?
— Сыт именно по горло, — вяло произнёс Куропёлкин. — Лежу удавом, перевариваю.
— Настоящему мужику и надо есть сытно, — наставительно, со знанием жизни, сказала Дуняша. — Особенно при вашей стати и при ваших усердиях.
Куропёлкин озаботился и захотел вызнать, какие такие усердия, требующие сытной еды, имеет в виду Дуняша, но выговорил более (для себя) важное:
— Настоящему мужику сейчас бы кружки две пива холодного!
— Ну, вы и озорник, Евгений Макарович! — рассмеялась горничная. — Вам ведь не дозволено! А вы уже второй раз заговариваете со мной о пиве. И даже не думаете о том, что, если я проявлю слабость и добуду вам пива, я на следующий день буду сослана уборшицей в Елабугу, в какой-нибудь филиал фирм госпожи Звонковой.
— Извините, Дуняша, — опечалился Куропёлкин. — Не подумал. Вовсе не хотел бы, чтобы у вас возникли неприятности. Лезет в голову всякий бред. От сытости и от скуки. Каково валяться бездельником при домашнем-то аресте.
— Евгений Макарович, лучше домашний арест, — сказала Дуняша, — чем…
Не договорила.
— Дуняш, — сказал Куропёлкин, — при нашем знакомстве вы обращались ко мне на «ты». А теперь…
— Евгений Макарович, подумайте и сами поймёте, — сказала горничная. — А что касается скуки, то у вас, скажем, есть оконце с видом, в частности, на Люк. Внимательному наблюдателю будут возможности развлечься…
42
А вот к водным процедурам сопровождающих у Куропёлкина по-прежнему было две.
Камеристки Вера и Соня.
Надо заметить, что проявляли они себя по дороге более сдержанно, нежели в прежних случаях. Среди прочего, не похохатывали и не шлёпали ладонями по заднице Куропёлкина, вызывая (в первый день пребывания подсобного рабочего в поместье) его добродушные протесты: «Не балуйте!».
В бессловии прошли обязательный путь, облака не мешали солнцу, поместье казалось пустынным, и Куропёлкин поглядывал на всхолмье, признанное им курганом, на вершине которого и размещался Люк.
Он и до прихода Веры с Соней, по подсказке горничной Дуняши, постоял у «собственного» оконца, понаблюдал за подробностями здешнего быта, встречами и разговорами людей госпожи Звонковой (вернее, жестикуляциями — как в немом кино — этих людей). Но в особенности внимание Куропёлкина привлекал Люк. И движения вблизи него, надо полагать, служителей Люка, мужиков в фиолетовых комбинезонах и в фиолетовых же бейсболках. Движение возле Люка на глазах Куропёлкина возникало дважды, и оба раза было связано со сбросом в Люк мусора. При этом крышка Люка приподымалась, явно с помощью механических устройств. И было очевидно, что она прозрачная и будто бы сотворена из хрусталя. При играх солнечных лучей на стыках хрустальных клиньев взблёскивали переливы цветов радуги.
Бывший пожарный и флотский понимал толк в механизмах и кое-что сообразил. В первом случае фиолетовые мужики сбрасывали в Люк чёрные мешки, знакомые горожанам, и крышка Люка была приподнята метра на полтора. Во второй раз к Люку подъехала мусороуборочная машина с дворовыми серьёзными ящиками, и крышка Люка воздвиглась хрустальным куполом на шарнирные опоры и даже отъехала в сторону, чтобы не мешать опрокидыванию контейнеров.
Что надо, Куропёлкин углядел.
Углядел, в каких местах фиолетовые мужики пальцами в перчатках приводили в действие подъёмные механизмы.
Но зачем это было ему надо?
Куропёлкин и сам не знал…
43
Впрочем, в хозяйстве всё пригодится, рассудил Куропёлкин.
— Какие вы нынче строгие и важные, — заявил он камеристкам.
— Просто мы внимательны к обстоятельствам жизни, — сказала Вера. — Да и вы изменились, Евгений Макарович. Нынче вы уже не такой забавник, каким были при нашем знакомстве.
— Если я и проявлял себя тогда забавником, — печально произнёс Куропёлкин, — то это всего лишь на нервной почве.
— Теперь-то под вами, похоже, твёрдая почва…
— И стал я смиренный и послушный, — сказал Куронёлкин.
— Не согласились бы, — прожурчали камеристки.
Водные процедуры прошли нынче быстрее и скучнее обычного. Удивило Куропёлкина отсутствие дворецкого Трескучего, как правило посещавшего приготовления к ночным бдениям Гавроша Фуко. Правда, в последние дни заходил Трескучий ненадолго, минут на пять или на три, видеть Куропёлкина ему было, похоже, противно, он на него и не смотрел, оставлял ему пакет с чистым специальным бельём и удалялся. Сегодня же он и вовсе не появился, а комплект со специальным бельём, естественно подготовленным Трескучим, Куропёлкин получил из рук камеристки Веры.
Не появился он и в опочивальне Нины Аркадьевны Звонковой.
Саму же госпожу Звонкову Куропёлкину пришлось поджидать до половины двенадцатого ночи. Дела, дела, дела, любезный Евгений, извините. И связанные с ними липкостями протокольных необходимостей комплиментарные фуршетные стояния и застольные сидения. И приятно, и тягомотно-пустые потери делового времени. Ну, вы понимаете меня, любезный Евгений. «Ничего себе, — подумал Куропёлкин, — уже „любезный Евгений“! К чему это и зачем?»
— Я весела и сыта! — провозгласила Звонкова. — И спать!
«И замечательно!» — подумал Куропёлкин.
— Так, — тут же услышал Куропёлкин. — Ну, Евгений, рассказывайте дальше.
— Что рассказывать? — растерялся Куропёлкин.
— Продолжение истории шведского журналиста Блумквиста и девушки Лисбет Саландер с татуировкой Дракона на правой лопатке. Мне интересно.
«Вот тебе раз!» — озаботился Куропёлкин. Но тут же вспомнил о том, как он чуть ли не обрадовался при мысли о новой необходимости врать и фантазировать по поводу сюжета из шведской жизни. Это было сразу после того, как он разрешил горничной Дуняше взять ради развлечения первый том Стига Ларссона. Так что же было теперь озабочиваться? Вперёд, к победе над хитроумным мошенником Виннерстрёмом!
И пошло! И поехало!
«Вам бы романы сочинять, гражданин начальник!» — такие слова Куропёлкин не раз слышал от «подозреваемых» в отечественных детективах. И сейчас они возникли в его сознании. Возникли и будто бы подбросили охапку сухих прутьев в костёр фантазёра.
Какие только чудесные приключения не происходили на этот раз в рисково-увлекательной жизни Микаэля Блумквиста и Лисбет Саландер!
Звонкова слушала об этих приключениях, казалось, с увлечением, и это Куропёлкина поощряло. Лишь одно обстоятельство насторожило его. Ему почудилось, что его слушательница (лица её он, естественно, не видел) то и дело подхихикивает. Странная мысль явилась к нему…
44
Так или иначе, Звонкова стала задрёмывать. Куропёлкин был готов к тому, что под конец их общения она возьмёт да и задаст ему какой-нибудь каверзный (или хотя бы неожиданный) вопрос. Могла, конечно, и снова заговорить о Каренине и взятках, и он, Куропёлкин, продолжил бы отстаивать своё суждение о Каренине и взятках. Но нет, она не вспомнила о Каренине.
Заснула.
Куропёлкин смотрел на неё, спящую, и снова любовался линиями её тела, пусть и укрытыми одеялом.
Сон Нины Аркадьевны был будто бы уже спокойный, но всё же она вздрогнула, чуть двинулась вперёд с привычно-нагретого места, одеяло сползло с неё, и Куропёлкину открылась нагая спина Нины Аркадьевны и нагие же её ягодицы. Куропёлкин сразу же убрал голову под одеяло, и под одеялом веки слепил, ожидая немедленного прихода постельничего Трескучего.
Никто в опочивальню госпожи Звонковой (работодательницы) не вошёл, и толкотнёй энергии жизни Куропёлкин был возвращён к рассмотрению восхитительного тела Нины Аркадьевны.
А Звонкова дернулась, возможно, ощутила, что одеяло сползло с неё, и вернула его на свои красоты. Вряд ли она думала при этом о каком-то Эжене Макаровиче.
45
Проснувшись в опочивальне, Куропёлкин удивился тому, что он ещё жив. И ещё более был удивлён, что разбудила его и возвратила к реалиям жизни горничная Дуняша, объявившая уже на пороге его квартирки в дворовом флигеле:
— Ну, Евгений Макарович, более я вам не собака-поводырь.
— Как это понимать? — спросил Куропёлкин.
— Вам разрешено свободное передвижение внутри поместья без права выхода за заборы, — сказала Дуняша.
— То есть? — удивился Куропёлкин. — И кем разрешено?
— Более ничего не могу вам сообщить, — сухо, будто бы была из-за чего-то раздосадована на Евгения Макаровича, сказала Дуняша, — не имею для этого ни полномочий, ни знания.
— Удивительно это, — пробормотал Куропёлкин. И тут же поинтересовался у горничной, вышло — что из вежливости, словно ничего более путного или более серьезного не могло ему сейчас прийти в голову: — И как, Дуняша, начали ли вы читать шведский детектив?
— Начала! — оживилась Дуняша. — Двести страниц уже прочла!
«Шустрая, однако, читательница! Двести страниц! А я и семидесяти толком не одолел…» — подумал Куропёлкин. И тотчас вспомнилось ему вчерашнее ночное соображение. Состояло оно вот в чём. Не выслушала ли до прихода в опочивальню госпожа Звонкова изложение Дуняшей трети первого тома Стига Ларссона? А потому при безответственной болтовне его, Куропёлкина, она и похихикивала?
И что?
К Люку-то его не направили. И даже разрешили воробьём обыкновенным погулять по здешним закоулкам. Скажем, в поисках мошек. Пусть и на час. Пусть и без права на прыг-скоки через заборы. Всё равно приятно.
Хотя и подозрительно.
Даже если его болтовня и могла понравиться.
Не затевала ли с ним госпожа Звонкова какую-то выгодную для себя игру? Или просто забаву? И кем была в этой игре горничная Дуняша?
С улыбчивой прежде Дуняшей ухо стоило держать востро.
46
А после завтрака Дуняша Куропёлкина снова удивила.
Поинтересовавшись, хороши ли были нынче цыплята табака, и услышав от Куропёлкина одобрение поваров кухни для дворовой челяди, сказала:
— Да небось эти цыплята вам уже надоели?
— Пока не надоели, — благодушно, отводя ото рта зубочистку, произнёс Куропёлкин.
— И мысли ваши, Евгений Макарович, — с неожиданной (сегодня) игривостью или даже таинственностью спросила Дуняша, — о необходимости двух кружек пива после сытного завтрака вас не покинули?
— Да если бы они вздумали меня покинуть, — заявил Куропёлкин, — я бы их догнал! Но увы… Да вы и сами знаете…
— Знаю, — подтвердила горничная. — А потому вы сейчас, а я выйду, крючок дверной набросьте, да, вам крючок на двери приделали, и соблюдайте конспирацию. Извините, настоящих кружек на мойке нет.
Последние слова Дуняша произнесла уже без всякой игривости, а с очевидным волнением. Когда же она вышла, вскочивший с лежанки Куропёлкин, обнаружил в прихожей на полу две бутылки пива «Жигули. Барное». Что это за «Барное» такое, Куропёлкин не знал, но какое это имело сейчас значение? Кружек во флигеле для дворовых, действительно, не держали, и Куропёлкину пришлось пить «из горла».
Через полчаса Куропёлкин валялся на лежанке на этот раз именно удавом и пребывал в ленивых рассуждениях. Что бы это всё значило? И как поступить с пустыми бутылками, имея в виду соображения конспирации? Разыскивать сейчас Дуняшу и выспрашивать у неё совета было бы делом, недостойным мужика. Да и какую он имел необходимость подставлять Дуняшу? Пожелал удовольствий — выкручивайся сам!
Впрочем, так уж и подставлять? А может быть, тут совсем другой случай?
Может быть, тут и отсутствие (якобы отсутствие) господина Трескучего вписывается в строку? А девушка Дуняша принимает (вынужденно или по собственной прихоти) участие в неведомой Куропёлкину игре? И подставляет не он Дуняшу, а она его, в соответствии с чьими-то расчётами? Но какие-такие заслуги его или добродетели требуют от кого-то интриг и расчётов? И к чему должны привести эти расчёты?
В дверь прихожей постучали.
Крючок Куропёлкин давно откинул, а промытые и начисто вытертые бутылки «Барного» пива подсунул под тощий матрац, не слишком на вид свежий.
Вошла горничная Дуняша. Была строга. Сказала:
— Евгений Макарович, не тратьте время на слова благодарности. Если, конечно, вы мне за что-то благодарны. Нужно теперь же вынести из нашего флигеля пивные улики и избавиться от них. Я этого сделать сейчас не могу по многим причинам… Потом объясню…
— Как вынести и как избавиться? — озаботился Куропёлкин.
— Избавиться, — сказала Дуняша, — сбросив бутылки в Люк. Вынести — проще простого. У вас свобода перемещения. Прогуляйтесь. У нас сейчас шампиньоны на склонах всхолмий. Вот вам пакет для грибов, потом их пожарят на кухне, и соломенная шляпа от солнца.
— Пакет и грибы — это понятно, — рассудил Куропёлкин. — Но — Люк-то?
— У вас было время понаблюдать за Люком из оконца, — сказала Дуняша, — а вы, как я поняла, человек бывалый и сообразительный.
— Ну, предположим, — согласился Куропёлкин.
И всё же он стоял перед Дуняшей в растерянности.
— По моим сведениям, — перешла на шёпот горничная, — нынче хозяйка не вернётся из дальних поездок в поместье, ну и Трескучего вроде бы не будет. Люди без присмотра займутся домашними делами, и любитель шампиньонов вполне может бродить, где пожелает, в одиночестве. И приезд мусорной машины сегодня не ожидается…
— Понял, — сказал Куропёлкин.
47
И отправился с двумя порожними бутылками в пластиковом пакете в грибную прогулку.
Не поинтересовался у Дуняши, отчего вдруг с утра начался сегодня такой хитроумный наворот внезапно-экстренных обстоятельств. Не поинтересовался, потому как не захотел вынуждать Дуняшу, всё ещё ему симпатичную, врать.
Тем более что Дуняша, шоколадница от Лиотара, нынче — барменша из мюнхенской пивной, провожая за грибами, снова чмокнула его в щеку.
Но не был ли это поцелуй Иуды?
Да хоть бы и был им! Он, Куропёлкин, полагал себя свободным в своих выборах и обязан был сам, не надеясь ни на кого и ни на что, решать собственные житейские затруднения. Тем более втягивать в эти затруднения людей посторонних. Сейчас же он принялся оправдывать необходимость совершить явно невыгодное для него действие — метание бутылок в Люк — обязательствами контракта. Курение и алкоголь (и пиво пусть и в два с половиной градуса было приковано к алкоголю сухо-трезвым начальством, страдающим за народное здравие) были запрещены Куропёлкину контрактом. Плевать бы ему на контракт, но он держал в голове важный теперь пункт творческого соглашения с работодательницей Звонковой. Если бы его застали за распитием или хотя бы обнаружили свидетельства его падения, его могли бы лишить гонорара, да что его, его-то ладно! — а вот (и это главное) в Волокушку не пошло бы нуждающимся ни копейки за уже честно исполненный им труд. При этом сам-то Куропёлкин понимал, что он лукавит, что его тянет к Люку нечто неотвратимое, чуть ли не сладострастное, на простое любопытство не похожее, он был готов к погибельному полёту огнёвки к пыланию электрической лампочки, и это желание было для него сейчас существенно острее всего. Он жаждал хоть что-либо открыть в тайне (пусть и единственно для него) Люка, но что и зачем, и сам не соображал.
Впрочем, слова о погибельном полёте — преувеличение чувств Куропёлкина автором. На отчаянные и легкомысленные поступки он был способен. Но безрассудным не был.
Уже прогуливаясь не спеша (не нестись же сразу с позвякивающими в пакете бутылками к Люку) по зелёному с цветными пятнами простору поместья, Куропёлкин начал успокаиваться.
А вдруг события нынешнего дня складывались именно наивно-простодушно? Бывает же так… Пивом угостили, поддавшись его двухдневным мечтаниям, и тут же кто-то из дворовой челяди, скажем, или из людей кухни на Дуняшу наябедничал, и нужно было немедленно избавиться от двух криминальных бутылок. Ценности устава жизни в усадьбе Звонковой и в отношениях в ней жителей были Куропёлкину неизвестны. А он, получалось, судил о них исходя из своих привычек. Или оглядываясь на события прожитого им, сопоставляя их с происходящим с ним теперь, выводил из них правила здешней жизни. Так или иначе, в случае наивно-простодушного совпадения сегодняшних событий горничную Дуняшу нечего было подозревать в чём-то постыдном.
Но впрочем, не стоило отменять и соображения о чьей-то игре или интриге, подумал Куропёлкин. Но как-то холодно подумал. Будто игра эта (возможная) была ему безразлична и его не касалась. Понятно, что вряд ли её мог затеять кто-то из дворовой челяди. Им-то зачем? А если она была зачем-то нужна людям, здесь значительным, это обстоятельство становилось для Куропёлкина интересным. Но кто были лица здесь значительные? Проще всего было бы объяснить слежку за ним, Куропёлкиным, и даже не игру уже, а провокацию со стороны дворецкого и постельничего Трескучего-Морозова, кого Куропёлкин несомненно раздражал и явно лишал каких-то привилегий своим долгожительством в опочивальне Звонковой. Ничего себе долгожительством! Шесть дней всего лишь как его сюда привезли! Но и этот срок вызывал у Трескучего зубовный скрежет и потребность в незамедлительных каверзах. Но коли сюжет сегодняшнего дня был заварен Трескучим, ожидать долгого течения его не приходилось. Терпел, терпел Трескучий и вот не выдержал, пока госпожа Звонкова прогуливалась по набережным Сингапура, решил её удачливого Шахерезада подловить. Пока ещё не подловил, но вот-вот, через полчаса, подловит…
Но вдруг всё и не так просто? Но вдруг игра с недоступными Куропёлкину смыслами выходит за заборы усадьбы Звонковой и отсутствие самой Нины Аркадьевны этой игрой предусмотрено?
Однако в любом случае его безусловно подтягивают к Люку и действиям вблизи него. Там-то всё и должно проясниться. То есть и должно было бы проясниться. И для предполагаемых игроков, и для самого Куропёлкина…
«Ну, что же! Ну, что же! — думал Куропёлкин. — Оно и к лучшему! А то ведь и ноги „затекли“, и руки обленились, и скукой беспомощного ожидания будто спелёнут!»
А пока Куропёлкин бросал в пакет с бутылками грибы шампиньоны. Сорванные или вырванные им. Ножа не имел. То есть он не был уверен в том, что это именно шампиньоны. В местах его детства шампиньоны не водились. А в королях засолки там держали грузди и рыжики. Шампиньоны Куропёлкин увидел впервые в Москве в овощных палатках. Шляпки их были крепкие, но мелкие, и, по понятиям Куропёлкина, росли грибы в каких-либо оранжереях или в особых помещениях, но не на свободе. Грибы, рекомендованные Дуняшей, были размером с блюдце, пахли травой и именно грибами, некоторые из них крошились, были уже стары, но находились и экземпляры, пригодные для жарева.
Не забывая о готовности поспешать к Люку, Куропёлкин позволил себе присесть в траве и оглядеть достопримечательности усадьбы Звонковой. Место, в котором он теперь сидел, находилось будто бы в центре оврага. Невдалеке от замеченного им прежде пруда. Теперь Куропёлкин убедил себя в том, что его предположение (при наблюдениях из оконца) подтверждается. За Люком, метрах в пятидесяти, подальше от барского дома, стоял не забор, а тянулась кирпичная крепостная стена, не кремлёвская, понятно, аршина три в высоту, но вполне убедительная, с зубцами и амбразурами. Как бывший артист «Прапорщиков в грибных местах» (при мыслях об этом Куропёлкин чуть было не рассмеялся. Он хоть и не прапорщик, но угодил в грибные места, впрочем, довольно странные. А мысль об иных грибных местах из него тотчас выветрилась). Так вот, как бывший артист, он имел представление об авансценах. И теперь посчитал, что местность, в которой он расположился с пакетом на коленях, словно бы — авансцена для Люка. Овраг от барского дома до крепостной стены за Люком был как будто гладко выбрит — ни единой постройки, ни кустика, не говоря уж о деревьях, одна травка с полевыми цветами и отчего-то с грибами шампиньонами. Ну, ещё и пруд. С высоких берегов оврага все подходы и подъезды к Люку прекрасно простреливались, и вряд ли какое воинство недоброжелателей госпожи Звонковой или хотя бы дворецкого Трескучего смогло бы завоевать Люк. Но зачем завоёвывать Люк? А он, Куропёлкин, идиот, на глазах наблюдателей, на виду у их чувствительных приборов, обязан был подобраться к Люку.
И подобрался.
48
Петлял, петлял, будто был намерен ввести в заблуждение наблюдателей, изображал из себя дурака, увлечённого добычей шампиньонов, совал в раздутый уже пакет грибы помельче и покрепче, но подобрался.
Причём подобрался со стороны крепостной стены.
Подобрался и заробел. Залёг в траве, здесь она была погуще и повыше, и затих.
Слышал за стеной шумы, иногда крики, звуки автомобилей, возможно, там располагались серьёзные службы поместья и наверняка именно оттуда выезжали к Люку мусороуборочные машины и вытаскивали чёрные пакеты люди в фиолетовых комбинезонах.
Вспомнив о фиолетовых мужиках, Куропёлкин встал. Что валяться-то! Оглядел выступающую из травы вершину Люка. Горловину его. Она явно была изготовлена из железобетона. Внизу горловины в серой стене тянулись кругляшки чёрных вкраплений. Из своего оконца Куропёлкин как будто бы определил, куда нажимали пальцы мусорщиков. Выходило, что определил приблизительно. И теперь, пригибаясь, а иногда и почти ползком обследовал вход в Люк. В траве обнаружил подсказки. Ковбойский сапог со шпорой, стоптанным каблуком и оскаленной пастью (в таких сапогах являлся в ночной клуб заслуженный стриптизёр Поручик Звягельский). И рядом с сапогом — измято-намученный жизнью полуботинок фабрики «Скороход». Можно было предположить, что эти бедолаги выпали при разгрузке из яшиков мусороуборочных машин. Стало быть, надо будет искать место нажима пальцем левее. Но Куропёлкин всё оттягивал действие. «Ага! — вспомнил он. — Надо же вытащить пивные бутылки из-под шампиньонов…» Сразу же отругал себя, отважился, нажал. Не туда, снова не туда, и наконец угадал. Хрустальный купол Люка приподнялся, именно на полтора метра, и замер на полусогнутых металлических опорах.
Не раздумывая, Куропёлкин швырнул в Люк пивные бутылки. И будто бы услышал из глубин чей-то матерный крик. Люк возмущался. Куропёлкин позволил себе перегнуться через борт Люка и разглядеть, что и как там в колодце Люка. Солнце прямыми лучами помогало исследованию Куропёлкина. Колодец был раза в три пошире обычного городского канализационного, но и в нем имелись скобы для путешественника под землю и обратно. «А что, если попробовать?.. — мелькнуло в голове акробата. И тут же получило резолюцию: — Ни в коем случае!»
Надо было уходить. Но Куропёлкин продолжал стоять и глазеть вниз. Вспомнил о валявшихся в траве сапоге и башмаке. Человек аккуратный, он посчитал нужным отправить в колодец забытый фиолетовыми мужиками мусор.
49
И тут же услышал удивлённо-радостное:
— Ещё!
Швырнул и изделие фабрики «Скороход».
— Флотский, ещё! — раздалось уже не из глубин колодца, а будто бы из-под ног Куропёлкина.
— Больше ничего не имею, — растерянно произнёс Куропёлкин. — И извините. Я спешу.
Не уходить, а бежать надо было Куропёлкину. И быстрее.
— Флотский, а может, спуститесь к нам в гости?
— Нет, нет! — заторопился Куропёлкин. — Нет времени!
— Трусите? И не желаете удовлетворить своё острейшее любопытство?
— Не желаю, — решительно сказал Куропёлкин.
50
И остался стоять вблизи так и не закрытого им Люка. Он уже знал, что спустится в Люк. Руки зудели. Но посчитал, что надо немного повременить. Не хотелось, чтобы его спуск, хоть бы и недолгий, проходил в присутствии Голоса, назвавшего его флотским (или колодезного существа, вступавшего с ним, Куропёлкиным, в разговоры), и тем более при его участии. Кстати, не питалось ли это существо — Колодезник или дядя Люк — рваными башмаками? Башмаками — это ладно. А не проглатывало ли оно и не переваривало ли затем сбрасываемых в Люк Шахерезадов? А теперь оно оголодало из-за проколов в служебной деятельности дворецкого Трескучего, связь с Трескучим здесь очевидно угадывалась, и для этого Колодезника или дяди Люка, уставшего от пожирания башмаков, явление Куропёлкина вышло несомненным подарком. Пивные бутылки, надо полагать, организм Колодезника не принял. Другое дело, что заманить Куропёлкина спуститься в гости Голосу не удалось. Но вдруг он был способен вылезать за добычей из Люка?
«И всё же поползаю по скобам!» — постановил Куропёлкин. А потребовал этого акробат.
Куропёлкин вспомнил о пакете с грибами. Не лезть же в колодец с раздутым пакетом. И неудобно, и раскрошишь шампиньоны. Бросить их в колодец? Шиш! Хозяйственный человек, приученный жизнью к правилу: «Главное, чтобы добро не пропадало!», он не был намерен выбрасывать своё добро кому ни попало, тем более пожирающему рваную обувь, пакет же Дуняшин и грибы следовало донести до кухни. К тому же летящим вниз пакетом не стоило раздражать Колодезника или вызывать его возбуждение и, что уж самое опасное и вовсе не нужное, — стряхивать с него сытый (после поедания ковбойского сапога и скороходского полуботинка) сон, возможно, сон гигантской Мокрицы. А потому Куропёлкин со старанием уложил пакет с грибами в траву погуще, а подумав, прикрыл его соломенной шляпой странно-гибридного вида — и не сомбреро она, и не защитница от новороссийского жара чумаков на степных шляхах, не крышка для голов вьетнамских рисоводов.
Тянуть дальше было стыдно. И Куропёлкин перелез через борт Люка.
Руки его стосковались по физическим напряжениям. Да и не одни лишь руки. Всё тело. И сразу же, к радости Куропёлкина, он ощутил, что за шесть дней безделья, валяния в душных комнатушках и нежных касаний рук массажисток, без удовольствий игр со штангой и гирями, прочими железками, верчений на перекладине, он не захирел, не усох и жаждет силовых подвигов. Ну, не подвигов, конечно, и не рекордов (тоже мне Алексеев!), а необходимого ему теперь выхода энергии.
Скобы шли с трёх сторон колодца. Куропёлкин опробовал верхние скобы всех трёх спусков и понял, что в случае неожиданного сброса в Люк мусора можно будет вмяться в проём между спусками и уберечься от падения и пролития на него малоприятных вещей или жидкостей. Куропёлкин не сразу, но обнаружил камень-кнопку, позволившую ему деликатно опустить хрустальную крышу Люка. При этом убедился, что тем же самым «пультом» можно будет Люк открыть.
И пустился путешествовать в глубь колодца.
51
Дал себе для пробного спуска (а случится ли не пробный?) минут пятнадцать (достаточно для рекогносцировки), а потом — извольте! — назад и наверх!
Но не получилось…
Увлёкся! Здорово было не без лёгкости переставлять тело, ухватываясь за нижние скобы, и устраивать для себя рискованные комбинации с переворотами, с перехватами рук, с упражнениями будто на шведской стенке, — принимал, например, позу «в упор» усилиями одной лишь руки. Дурачился, упивался своей силой и свободой передвижения, хоть вверх, хоть вниз, свободой, обеспеченной его профессиональным умением делать всё, что пожелает, сходной, скажем, со свободой мастеров фристайла на склонах Альп (где Куропёлкин, естественно, не бывал).
— Флотский, не надоело? Ты уж метров двести одолел! Куда же ещё-то. Остановись!
Опять Голос! Опять голос Колодезника. Или хуже того — голос гигантской мерзкой Мокрицы.
Куропёлкин тут же взглянул вверх. Солнце было ещё дообеденное. Но прошло, конечно, больше пятнадцати минут, отпущенных Куропёлкиным путешествию. Полчаса прошло. И действительно, Куропёлкин спустился поболее, чем на двести метров.
— Полчаса, полчаса! — подтвердил Голос.
Повернувшись (вывернувшись) спиной к скобам, Куропёлкин попытался высмотреть Голос или же обладателя Голоса — Колодезника либо Мокрицу. Не высмотрел. А в колодце, под хрустальным сводом, было светло. Но может, Колодезник или Мокрица проживали здесь невидимками? Отчего бы и нет? Мало ли что могло происходить в поместье, где Дворецким числился неизвестно какой породы господин Трескучий-Морозов.
— Флотский! Не надрывайся! Не рискуй! Отдохни! Сейчас мы выдвинем для тебя батут. Он во всю дыру колодца. Успокоишься на нём и решишь, как быть тебе дальше.
— Ну конечно! — рассмеялся Куропёлкин. — Обойдусь без чьей-либо помощи!
— Ты же любишь резвиться на батуте! — напомнили Куропёлкину.
— Вам-то что? — начал раздражаться Куропёлкин. — Посадите меня на свой батут, а потом проглотите и переварите без отходов. Раз господин Трескучий никак не сможет сбросить меня на ваш батут.
— Ну, смотри, это даже обидно, — произнёс невидимый Голос, — хотелось просто пообщаться с тобой. Нет так нет. Ползай, как хочешь. Мешать не будем…
И всё притихло. И свет, солнечно-хрустальный, вроде бы потускнел…
Стыдно было бы Куропёлкину сразу же подниматься по скобам вверх. Вышло бы, что он испугался (или хотя бы растерялся) и готов бежать от Колодезника и сопливой Мокрицы. И Куропёлкин, вопреки соображениям разума, посчитал нужным спуститься ещё, пусть и на метров сто.
И спустился.
Спускался на этот раз не спеша, с намеренной степенностью даже, имея в виду Колодезника и Мокрицу (не исключалось, что и господина Трескучего тоже), не следили ли они теперь за бессмысленными движениями подсобного рабочего, не посмеивались ли над ним? То есть он будто бы прогуливался сейчас (для них) с удовольствием и без страха…
Но сам не знал, куда и зачем. И уж никаких удовольствий более не испытывал.
Боковым зрением заметил в стене, слева от себя, бледное световое пятно. Всмотрелся. «Ба! — сообразил Куропёлкин. — Да тут вход куда-то… В пещеру, что ли?..»
52
От скоб к пятну вели мостки из двух досок. Не раздумывая, Куропёлкин шагнул на мостки. Действительно, перед ним был вход в пещеру. Будто шквал ветра подтолкнул его в спину, Куропёлкин пошатнулся, его тут же чьи-то руки втянули в чужое для него пространство. Сзади раздалось пневматическое шипение («Двери закрываются…»). Уже твёрдо стоя на ногах, Куропёлкин обернулся. Вход в пещеру был задраен.
— Так, — произнёс Куропёлкин. — Кто же я теперь? Узник? Заложник?
53
— Не узник и не заложник, — услышал он. — А — гость.
— Вы кто? — спросил Куропёлкин. — Колодезник? Мокрица? Или видоизменение Трескучего?
— Взгляните.
В пещере, в глубине её (или где там?), будто бы зажглись свечи, и Куропёлкин метрах в пяти перед собой за столом (или за обтёсанным валуном) увидел сидящего мужика. Человека, извините. Как показалось Куропёлкину, на плечах того был то ли халат, то ли плащ, на голове же его торчал колпак, возможно, Звездочёта. Какой-то предмет лежал перед ним на плоскости стола, сидящий, в плаще или халате, рассматривал его со вниманием, вертел, иногда подносил к глазам, а в правом глазу его, похоже, держалась лупа. Логично было предположить, что исследователя занимает чей-то череп и его тайны. Куропёлкина стало знобить. Но тут на столе хозяина (хозяина ли?) пещеры вспыхнул электрический светильник в форме свечи, и Куропёлкин увидел, что предмет на столе — вовсе не череп, а ковбойский сапог со стоптанным каблуком и ощеренной пастью. Его, Куропёлкина, подарок Люку. И загадочный халат или плащ надо было признать именно халатом сапожника. Удивляла лишь лупа. Это была лупа часового мастера, а не сапожника. Но мало ли какие у кого чудачества и привычки.
Сапожник стянул с головы колпак и встал.
Шагнул навстречу Куропёлкину.
Нет, все же на нем был плащ-накидка с разлетающимися полами.
— Разрешите представиться, — произнёс хозяин пещеры. — Бавыкин Сергей Ильич. Первый, но бывший муж известной вам Нины Аркадьевны Звонковой. Получивший от неё, возможно слышали, справедливое почётное звание — Недотёпа. Недотёпа и Недотыка.
И протянул Куропёлкину руку.
— Куропёлкин, — пробормотал Куропёлкин, пожимая руку хозяина. — Я…
— Мне о вас многое известно… — сказал Бавыкин. — Пройдёмте в гостиную.
54
Гостиная, куда был введён хозяином Куропёлкин, никак не могла вызвать мысли о том, что она находится вне пределов городского или загородного элитного дома. Какая уж тут пещера! Единственно, что могло напомнить о пещерах, так это потолок. Натяжной, видимо. С тремя сложными люстрами, ровный (переверни гостиную — и на нём мог бы плясать и вертеться вокруг шеста Поручик Звягельский), из евро, наверное, материалов. Но вблизи люстр с него свисали диковинного вида палки, будто бы порождения пещер, Куропёлкин никак не мог запомнить, то ли они сталактиты, то ли сталагмиты. Здесь эти свисающие острия были явно декоративными.
А вот в помещениях, по которым Сергей Ильич Бавыкин сопровождал Куропёлкина в гостиную, подлинные приметы пещеры сохранялись. В частности, в мастерской сапожника, где Куропёлкин наблюдал за обследованием хозяином ковбойского сапога. Дальше прошли залом, озадачившим гостя смыслом своего назначения. Возможно, здесь случались кабинетные занятия Сергея Ильича. Две стены были заняты книжными полками. С книгами, заметим. А вот другие стены были покатые, клыкастые, злые. Куропёлкина же (мимоходом) заинтересовало целое воинство глобусов. Глобусы стояли в ряд, штук десять их, большие, куда крупнее школьных. Голубые с зелёным и светлокоричневым шары вращались, а из них торчали какие-то тонкие металлические предметы. Удивила Куропёлкина одна странная конструкция. В подставке для шара глобуса не спеша поворачивался то ли куб, то ли параллелепипед, обклеенный, кстати сказать, картами планетарных материков и океанов.
— Об этом и о починке обуви, — бросил Бавыкин на ходу, — расскажу позже. Если пожелаете узнать…
Куропёлкин пожелал, но вслух желание своё высказывать не стал.
При входе в гостиную Бавыкин расстегнул верхние кольца плаща и сбросил его на каменную скамью у порога. Стол был накрыт на две персоны.
— Садитесь, Евгений Макарович. Откушаем и выпьем за встречу.
— Не могу, — заявил Куропёлкин. — Мне надо возвращаться на свой шесток. А уж пить я не имею права по условиям контракта.
— Экие трудности! — рассмеялся хозяин. — Прожуете две таблетки, и каких-либо последствий нашей с вами беседы никто не учует.
— А карабкаться по скобам к выходу из колодца? — напомнил Куропёлкин. — Осоловею после застолья и засну по дороге…
— Мои ассистенты подымут вас к Люку. За две минуты. В гамаке.
— В гамаке? — возмутился Куропёлкин. — Меня и в гамаке?
— Стало быть, вы плохо знаете историю флота, — сказал Бавыкин, бывший муж. — Команды каравелл Колумба возвращались в Испанию, отдыхая в гамаках. Подвесные сетки карибских индейцев оказались чрезвычайно удобными для морских путешествий. Потом появились новые комфорты, и о гамаках забыли… А так для флотских в гамаках не должно быть ничего постыдного…
— Уговорили, — сказал Куропёлкин.
55
— Хочу отблагодарить вас за подарок, — сказал Бавыкин, разливая в стопки белую жидкость.
— Это сапог, что ли, и древний скороходовский полуботинок доставили вам радость? — спросил Куропёлкин.
— И они тоже, — кивнул Бавыкин. — Но главное событие для меня нынче — это возможность общаться с вами.
— Чем же я так замечателен? — поинтересовался Куропёлкин.
— Тем, что вы человек, — сказал Бавыкин.
— Вы — одиноки. Или вы здесь — узник? И вам не дано отсюда уйти? — озадачился Куропёлкин.
— Уйти отсюда можно, — сказал Бавыкин. — Хотя бы вон той дорогой.
Было указано, какой дорогой. За спиной Бавыкина тотчас вспыхнули лампы, может, и студийные «юпитеры», осветилась анфилада помещений, чуть ли не для танцевальных залов, или для проведения банкетов, или же для устройства ёлок для детишек (там и пожарный понадобился бы). А где-то вдали засуетились люди, иные в поварских колпаках, иные — в латах и с алебардами, над этими тихо зависали, возможно, дрессированные летучие мыши (А может, ушаны? Или нетопыри? Поди их разбери…).
— Вас окружает много людей, — сказал Куропёлкин.
— Много, — согласился Бавыкин. — Но почти нет собеседников.
— Но ведь вы, Сергей Ильич, можете уйти этой самой дорогой, — великодушно посоветовал Куропёлкин.
— Вы можете, — сказал Бавыкин. — Я же нет. А вы можете уйти и не вернуться к исполнению надобностей Нины Аркадьевны Звонковой.
— Толку-то что от этой возможности, — вздохнул Куропёлкин. — Куда бы я отсюда ни девался, следопыты Звонковой и Трескучего меня всё равно изловят.
— Тут вы правы, — согласился Бавыкин.
— Даже если бы я решил прогуляться новой для себя дорогой, — рассуждал Куропёлкин, — на всякий случай, чтобы узнать, как можно ею воспользоваться, так, вообще… она небось в несколько километров, а мне надо вернуть пакет с грибами горничной, чем скорее, тем лучше… Но вас-то что держит здесь?
— Обязан отвечать, — грустно улыбнулся Бавыкин, — за состояние часовых поясов в сухой сохранности. И главное — за то, чтобы они не перепутывались, не заскакивали один за другой и не завязывались морскими узлами.
Обьяснение это показалось Куропёлкину странным. Или хотя бы удивительным. И при чём тут были морские узлы при часовых поясах? Однако предложение Бавыкина выпить за часовые пояса он одобрил.
— А ведь вы, Сергей Ильич, — высказал мнение Куропёлкин, — для меня чем-то похожи на капитана Немо.
Что-что, а уж томики «20 тысяч лье под водой», «Таинственного острова» и «Детей капитана Гранта» имелись в библиотеках Тихоокеанского флота.
— Личность Немо мне симпатична, — сказал Бавыкин. — Но он жил под водой, я же — здесь, под землёй. И эпохи технические — у нас разные. Мне начинать было проще, хотя и не менее трагично. Но зачем он и зачем я, ни ему, ни мне не было известно.
— Но вам же доверено сохранять в порядке часовые пояса! — воскликнул Куропёлкин.
— Это да, — усмехнулся Бавыкин. — Но часовым поясам и без меня безобразничать не велено. Надзираю я совсем над другим. Сам, к сожалению, вынудил себя стать этим надзирающим.
Потом сидели почти молча, выпивали и закусывали, и сожалевший было об отсутствии собеседников Бавыкин будто бы теперь в собеседнике и не нуждался. Закуски подавали хорошие, а уже был откушан борщ с пампушками и зубчиками чеснока. «Обслуживают лучшие рестораны», — просветил Бавыкин. И главное — для Куропёлкина — не подносили к столу служки хозяина пещеры, сладко-улыбчивые, но словно бы немые, угодливые в поклонах — из китайских притвор, не подносили они московские изыски, так называемые «суши», те в удалении от океанов были употребимы лишь при наличии в карманах средств от диареи и изжоги.
— Мне было известно, — сказал Бавыкин, — что вы мужчина энергоёмкий, но вы меня своими передвижениями по скобам удивили.
— Энергоёмкий? — удивился Куропёлкин. — Первый раз слышу такое о себе. И просто не знаю, что такое энергоёмкий мужчина.
— Ну, не обязательно мужчина, — сказал Бавыкин. — Энергоёмкий человек.
И тогда он начал бормотать что-то, отрывочно Куропёлкину доступное, из чего Куропёлкин вывел, что он, будучи энергоёмким, для какого-то большого дела подходящий и нельзя терять время и нужно приспособить его…
«Надо бежать! — сообразил Куропёлкин. — А то сейчас же возьмут и приспособят!» Но как бежать-то? Вход в пещеру задраен. Уходить рядами освещенных помещений? Но тогда бы пришлось возвращаться из-за крепостной стены к Люку и пакету горничной Дуняши. Хотя бы так…
Однако при этом когда бы он смог объявиться на месте приложения сил, оговоренном контрактом?
— Вас, Евгений Макарович, заинтересовали глобусы, — поднял голову, будто очнувшись от дремоты, Бавыкин. А выпили изрядно.
— Заинтересовали, — из вежливости согласился Куропёлкин.
— Тогда, прошу вас, пройдёмте к ним, — предложил Бавыкин.
56
Откуда-то возникла тёмно-синяя спортивная куртка на плечах Бавыкина. На спине хозяина пещеры белели слова «Общественная оборона».
— Там дует, там много дыр, — предупредил он. — Не будет ли вам холодно?
— Заходили, по надобности, и в Ледовитый океан, — ответствовал Куропёлкин.
Приблизились к вращавшимся учебным пособиям. Действительно, в помещении полупещеры с книжными полками и глобусами дуло. Но дуло (или задувало на минуты) из разных мест, причём как бы струями воздуха, то тёплыми, то студёными, и откуда исходили эти струи, Куропёлкин понять сразу не смог. Бавыкин то ли внутренним приказом, то ли нажатием невидимой кнопки распорядился прекратить вращение шаров и странной фигуры с четырьмя углами.
— А что это за монстр с углами? — понтересовался Куропёлкин.
— Об этом потом, — таинственно усмехнулся Бавыкин. И возобновил движение шаров и монстра с углами. — Вы, наверное, обратили внимание на то, что наши глобусы чем-то проткнуты. Или пробиты.
— Обратил, — сказал Куропёлкин. — То какими-то штырями, то будто проволокой или даже шашлычными шампурами. Это важно?
— Важно, — сказал Бавыкин. — Хотя и не очень… Пробитых мною глобусов много. Иные — по вздорной горячности и нетерпению, иные — в серьёзных целях.
Теперь Куропёлкин ощутил, что струи воздуха бьют именно из дыр, пробитых в глобусах Сергеем Ильичом Бавыкиным.
— И что же это за серьёзные цели? — спросил Куропёлкин.
— Долгая история, — опечалился хозяин пещеры. — Рос некогда злой и обидчивый мальчик. Вундеркинд, по понятиям тех дней, но злой. Однажды ему вместо обещанных и ожидаемых хоккейных коньков подарили глобус. С моралью. Мол, перестань гонять с мальчишками шайбу. А займись тем, к чему расположен. Науками. Злой мальчик, то есть я, обиделся и проткнул глобус кухонным ножом. А потом к нему пришла озорная и поначалу безответственная, но позже — маниакальная мысль: «А не проткнуть ли планету Земля чем-нибудь насквозь?» И ведь проткнул!
— И где же этот прокол? — спросил Куропёлкин, всё ещё принимая слова Бавыкина за шутку, на манер его фантазии о морских узлах на часовых поясах. — Или протык? Или пробоина?
— А мы с вами сейчас в ней и находимся, — сказал Бавыкин, бывший муж, недотёпа, вундеркинд и злой мальчик. — Вы приподняли купол Люка и принялись спускаться в глубину пробоины.
Лавина новостей наползла на сознание Куропёлкина обломками или валунами ужаса, непонимания, недостижимостью знания, и, чтобы выкарабкаться из их завала, Куропёлкин заставил себя спросить, чуть ли не игриво и беспечно спросить:
— И чем же вы проковыряли Землю, Сергей Ильич, неужели пальцем?
Бавыкина, похоже, обидела несерьёзность и тем более игривость собеседника. Помолчав, он сказал:
— Считайте, что пальцем. А впрочем, можно сказать, что и дрелью. И отбойным молотком. По примеру Стаханова.
— Ну да?! — удивился Куропёлкин.
— Но вообще-то не берите в голову, Евгений Макарович. Всё равно вам, как и большинству наших современников, понять тут что-либо не дано. Да и не надо. Оно — и к лучшему. Давайте выпьем за глупость не получившего в день рождения хоккейные коньки. Иногда требуется выпить и за глупость.
Открылась дверца углубления под книжными полками, и оттуда на фигурной доске выехали бутылка мадеры и два бокала. К мадере были приданы ломтики плода манго. Выпили.
— Если Люк — это начало пробоины, — принялся за своё Куропёлкин, — то где же выход из неё? Не в Индийском ли океане?
— Кабы я знал! — сокрушённо выговорил Бавыкин. И опустился на каменное сиденье.
57
— Вот тебе раз! — воскликнул Куропёлкин.
— Тем не менее я и впрямь не знаю, — сказал Бавыкин. — Я и предполагал, что проткну Землю к югу от Африки и близко к Антарктиде. Но с пробоиной происходили чудеса. Она мне не подчинялась. Не думайте, Евгений Макарович, что я просто дилетант и фантазёр. Я дока в своём деле и в точных науках. Сейчас я упрощаю. Да и о существенном и истинном вам не дозволено знать. Я окончил МИИТ, факультет Мосты и Туннели. Потом работал в Одинцове, а вам, наверное, известно, какие у нас в стране туннели исхитрялись создавать. Но о МИИТе — это так, капли из предыстории главного. Об остальном — штрихами. Существо планеты будто бы сопротивлялось нашим расчётам и усилиям и уводило нашу дыру подальше от своего ядра. Уже в проектах пробоина на бумаге изгибалась, лишалась поката, а иногда и упиралась чуть ли не в остров Грумант, то бишь Шпицберген. Маялись мы, маялись, пока не пришла мне в голову мысль о чемодане.
— О каком чемодане? — напрягся Куропёлкин.
— Вот о том самом, с четырьмя углами, какой показался вам странным, — сказал Бавыкин.
И только теперь Куропёлкин заметил под брюхом «чемодана» знакомую ручку из чёрного кожзаменителя.
— Но при чём тут чемодан? — спросил Куропёлкин.
— Неистребимый фольклор школяров, — рассмеялся Бавыкин. — Ему, возможно, лет двести. Неужели в вашей школе в Волокушках не было чудака или озорника, отвечавшего на уроке географии или астрономии словами: «Земля имеет форму чемодана»?
— А ведь, действительно, был! — вспомнил и обрадовался Куропёлкин. — Был, Гришенька Рыжий, дурачок.
— Но может, и не дурачок? — задумался Бавыкин. — А может, он — наивный носитель древнего, но отвергнутого знания… Или хотя бы осколков этого знания… Но неважно… Важно, что после того, как были изготовлены глобусы-чемоданы, расчёты наши с их помощью стали более разумными и практичными. Но всё. Далее понять что-либо вы не сможете.
— Но выходит, что вы так и не знаете, где кончается ваша труба, ваша дыра или пробоина, — сказал Куропёлкин. И сразу понял, что вызвал раздражение Бавыкина.
— Ну, не знаю! — взвился Бавыкин. — Не знаю! Уже отправляли… всякие там окольцованные предметы и животных, с самыми чуткими нанодатчиками, никаких следов! Но то, что конец пробоины есть, зафиксировано! Это ведомствам известно!
— Каким ведомствам? — спросил Куропёлкин.
— Вы дурака, что ли, из себя разыгрываете? — возмутился Бавыкин. — Всё. В дальнейшем разговоре с вами я не нуждаюсь! А вы можете подвести горничную Дуняшу, и в шампиньонах ваших начнут плодиться червяки.
— Это так, — согласился Куропёлкин.
58
Похоже, Бавыкин провожал Куропёлкина удручённый, а гостем недовольный. А провожал он Куропёлкина к задраенным вратам пещеры, ведущим к колодцу и пристенным скобам. Но в помещении с обувью Бавыкин не выдержал, заговорил.
И будто бы подобрел.
Снял с крюка кожаный фартук, поднёс его к лицу.
— Как хороши запахи кожи, ваксы и жёлтого гуталина и как хороша промасленная дратва, коей можно подшивать трехслойные подошвы к калязинским валенкам, но эти, к сожалению, здесь редки. А как приятно зажимать во рту выточенные тобою деревянные гвозди! Какой-то из моих предков, видимо, был сапожником. Понимание этого пришло ко мне здесь. И, увы, по причине скуки.
Куропёлкин намерен был возразить Сергею Ильичу и указать на то, что нынче проще и экономнее покупать новые башмаки и туфли, нежели связываться со сложностями ремонта обуви. Но Бавыкин и слушать бы его не стал.
— Скучно мне здесь, Евгений Макарович, — тихо произнёс Бавыкин. — Скучно. И заняться нечем. В книгах, все они обязательно с любовными историями, — враньё. Телевизор приговорён мною к пожизненному отключению. Ну, если только музыка. И починка обуви.
— Неужели вы, Сергей Ильич, и футбол не смотрите? — чуть ли не ужаснулся Куропёлкин.
— Не смотрю, — сказал Бавыкин.
— И даже, если «Спартак»…
— Тем более.
Надо было бы не задерживать хозяина пещеры по дороге к разведению врат, вдруг передумает, но Куропёлкин понял, что Бавыкину необходимо поделиться с ним ещё какими-то соображениями, не выговорился он, видимо, до сухости в горле. Но Куропёлкин молчал, боясь нарушить (или спугнуть) нечто в настроениях Бавыкина. Вопросы, способные подтолкнуть хозяина к продолжению разговора, старался не выпустить на волю. Наконец Бавыкин сам сказал:
— Вас сразу же удивила моя сапожная мастерская. Я уже говорил, что починкой обуви я занялся от скуки. И оттого, что во мне будто проснулись ощущения, сладостные для кого-то из моих предков. Вся эта дратва, вакса, гвозди во рту, кожаные фартуки… Кстати, творю я здесь непременно под музыку (новое нажатие кнопки, и голос Шаляпина загремел под сталактитами или сталагмитами: «Благословляю вас, леса, долины, горы, воды…»). Вот взгляните, это же теперь произведения искусства!
Куропёлкин взглянул.
На двух полках (их тут же подсветили) у стены, за раздвижными стёклами, стояли отреставрированные, надо полагать Бавыкиным, экземпляры обуви, в том числе, наверное, и исторические (ботфорты со шпорами), почти все — «с одной ноги», правой либо левой. Произведения ли они искусства или не произведения, Куропёлкин судить не взялся бы, но выглядели они впечатляюще, будто музейные экспонаты.
— Но как вы добываете все эти башмаки и туфли? — не смог удержаться Куропёлкин.
— Тут проблемы, — вздохнул Бавыкин. — Добычи у нас скудные. И чаще всего — с помощью батутных сеток, на одну из которых мы приглашали вас спрыгнуть, успокоиться и отдохнуть.
— То есть? — не понял Куропёлкин.
— Ну, батут — это упрощённо, для доступности вашего понимания. Будем считать, что при сбросе мусора мы используем некое устройство, двух— и трёхслойное, какое может сортировать и пропускать дальше всякую дрянь и оставлять для нас нечто забавное и интересное. Но старая обувь попадает в контейнеры фиолетовых уборщиков крайне редко. И потому вам особое спасибо за сегодняшние сапог и башмак.
— Мне-то за что? — сказал Куропёлкин. — Они, видно, выпали при опорожнении контейнеров, а я не люблю беспорядок.
— Более не буду вас задерживать, — сказал Бавыкин. — И я заинтересован в том, чтобы у Дуняши не возникло неприятностей.
— Надеюсь, что мы с вами ещё увидимся, — сказал Куропёлкин.
— Вряд ли, — покачал головой Бавыкин. — Или понять суть натуры Нины Аркадьевны я по-прежнему неспособен.
И движением руки Бавыкин предложил Куропёлкину пройти к выходу из пещеры.
— Думаю, что ваша пробоина заканчивается в Колумбии, — произнёс Куропёлкин. Сам удивился тому, что ляпнул.
И сейчас же испугался. Врата пещеры опять с шипением раздвинулись, Бавыкин стоял за его спиной и ему ничего не стоило отправить болтливого посетителя в Колумбию. За подтверждением только что совершённого им, Куропёлкиным, географического открытия.
59
Куропёлкин лежал вблизи Люка, в траве с цветами ромашками и лиловыми колокольчиками, жевал сочный стебелёк, щуря глаза, смотрел на солнце и никак не мог заставить себя встать.
Было ему хорошо.
С высот, из-под небес опадал на него голос Шаляпина: «Благославляю вас, леса, долины, горы, воды…»
Хорошо…
И голова была ясная, поднять её Куропёлкин мог без усилий, никакие промиле не были бы в его организме обнаружены даже и новейшими средствами автоинспекций, и дыхание его порочных зловоний не извергало. Болей в руках и спине почти не было. Его вернули из колодца (хрустальный купол Люка опустили) трезвым и здоровым, вполне возможно не дав ему осознать это, именно в гамаке.
«…И посох мой благославляю. И эту нищую суму…»
Опять голос с небес. А рядом в траве затрещал кузнечик. Вроде бы не по сезону. Куропёлкин с намерением упрекнуть кузнечика повернул голову. И увидел рядом с собой крепкую, суковатую палку (обтёсанную) с фигурной рукояткой. Палка-щуп грибника, что ли? Или посох странника? Тут же лежала и сума, то есть пакет Дуняшин, набитый грибами. Сергей Ильич Бавыкин, бывший муж здешней хозяйки, и в подземном разговоре с Куропёлкиным выражал озабоченность по поводу благополучия горничной. Что же, теперь подбросом палки или даже посоха он давал знак Куропёлкину поторопиться, так выходило?
А Куропёлкин и не думал торопиться. Успею, полагал он. Ничего с этой Дуняшей не случится. Ещё неизвестно, ради чего (да и только ли по своему интересу?) она угостила его пивом и отправила по грибы и к Люку.
Всё это надо было переварить.
И лень, естественно, удерживала Куропёлкина. Даже и не лень, а некое расслабленное состояние, вызванное благодушным к нему сегодня отношением мира. Будто бы благорасположением к нему, Куропёлкину, всего и всех.
Вот так, случалось, полёживал некогда на берегу славной Вычегды юный Куропёлкин, ощущал себя бескорыстным мечтателем, каким и был, радовался красоте и гармонии всего сущего (этакие пафосные слова, правда, не приходили ему в голову), загорелое тренированное тело его обдувал июльский ветерок, он слушал всплески волн неспешной реки, и мысли, успокоенно-умиротворенные этими ровными всплесками, уводили его в дали дальние собственной судьбы, в коей всё должно было быть устроено разумно и благополучно. Но и не без приключений. Люди северных земель, с берегов Двины, Сухоны, Печоры, той же Вычегды, энергичные, предприимчивые или даже просто любопытные, часто оказывались землепроходцами и землеустроителями новых пространственных приобретений России, из тех, что вышли к Тихому и Ледовитому океанам и добрались до Аляски. Куропёлкин знал о них. И чем же он, паренёк из Волокушки, был хуже своих предков?
Тем, что вырос простаком, ответил себе Куропёлкин.
А по нынешним временам, стало быть, дурнем. И даже — дважды дурнем. В простоте своей уверовавшим в то, что, пусть и вынужденно следуя обстоятельствам и правилам взбаломученной жизни и не нарушая собственных понятий о чести, всё же можно добыть если не яхту, то хотя бы скатерть-самобранку и к ней — четыре колеса (с запасным). Склонность же к приключениям, порой беспечным, порой отчаянно-бездумным («А пошло бы всё!..»), и привела его в конце концов к колодцу Люка.
Так зачем же было теперь куда-то спешить?
Когда ещё выдадутся в его жизни мгновения благоудовольствия и тишины, важно, что и душевно-чувственной, с лаской солнечных лучей и беспокойством о нём, Куропёлкине, послеполуденного ветерка?
Может, и никогда более не выдадутся…
60
«Ба! Да уже три часа! — сообразил Куропёлкин. — Эко меня разморило!». А голову, однако, так и не поднял. По его расчётам выходило, что часа два с лишним он провёл в колодце в компании с Сергеем Ильичом Бавыкиным (если, конечно, такой господин ему не привиделся) и с ассистентами пещерно-колодезного господина. И больше часа провалялся в траве у Люка. Ну и ладно, решил Куропёлкин. Предобеденного аппетита он не ощущал, значит, в гостиной у Бавыкина они всё же откушали. Вблизи Барского дома никакой суеты не наблюдалось, автомобили не шумели, никто истошно не вопил, пушки замка Ив не палили, и надо полагать, благополучию горничной Дуняши пока ничто не угрожало. Куропёлкину можно было и ещё поваляться, день всё равно обещал быть бездельным. А вот завтра, по предчувствиям Куропёлкина, госпожа Звонкова должна была вернуться из дальних бизнесстранствий. Но Куропёлкина обеспокоило то, что его и впрямь разморило, свежесть, подаренная ему при возвращении из колодца, из него изошла, и к чему было жить дальше разбитым и варёным?
Продолжать бездельничать можно было и в своей квартирке с оконцем. А ещё лучше в прохладе водных процедур. И Куропёлкин вынужден был проявить силу воли. Встал, украсил себя соломенной шляпой и отправился восвояси. Именно восвояси.
Из свобод полевого простора (пусть и ограниченного забором) в тесноту и обязательности жизни по контракту.
Имея в руке посох, Куропёлкину неловко было бы шагать по привычке энергично или хотя бы степенно (не при трости же он с набалдашником!). Следовало посоху соответствовать. И поплёлся Куропёлкин уставшим паломником, исходившим пол-России, спину чуть ссутулив. Лапти бы ещё ему на ноги. Видел: на откосах оврага, часа три назад пустынных, бродят охотники за шампиньонами, иные из них и с палками-щупами. Посчитал, что и ему сейчас полезнее выглядеть одним из гриболюбов. Посох его принялся тыкать в траву и раздвигать её, и вскоре Куропёлкиным была обнаружена кочка, плотно обросшая летними опятами — рыжее в зелёном, красиво!
Куропёлкин очистил кочку, любил аромат летних грибов, но мять и запихивать их в пакет с шампиньонами не стал. Вышло бы кощунство. А соломенное-то украшение башки — на что? И опята были без ущербов уложены им в прогулочный головной убор.
На кухне столовой для дворовой челяди ценность летних опят поварами была поставлена под сомнение, мол, не ели, мол, не пробовали, а потому и по сей день живы. Куропёлкин возмутился, у него-то на подозрении были как раз местные шампиньоны.
— Шампиньоны забирайте на общую сковороду! — заявил он. — А опята я пожарю сам и исключительно для самого себя. И никаких дел об отравлении граждан не заведут.
Поворчав, ему определили место и ёмкости для мытья и чистки опят (те, выросшие в траве, в сложной чистке и не нуждались), а потом и предоставили конфорку для сковороды средних размеров. За жаревом грибов его и отыскала горничная Дуняша.
— Ну, как прогулялись, Евгений Макарович? — поинтересовалась Дуняша. — Вижу, вы с добычами…
Грибы были пожарены и опробованы.
— Хороши!
— Хороши! — согласился Куропёлкин. — И ручаюсь. Никаких неприятностей они вам не доставят.
— Ощутим часа через четыре, — сказала Дуняша.
Из чада кухни вышли в теплынь двора.
— Прогулялся я удачно, — сказал Куропёлкин. — Вы ведь это хотели узнать, уважаемая Дуняша? И ноги размял, и руки, и на солнышке погрелся, и грибов набрал, и водицы напился вовсе не из лужи. Теперь возвращаю вам пакет вместе с соломенной шляпой. Посох же оставлю себе на память… С вашего позволения.
— Значит, водицы вы напились вовсе не из лужи… — будто бы в раздумье произнесла Дуняша.
— Нет, не из лужи… — подтвердил Куропёлкин.
Дуняша молчала, смотрела под ноги, возле них в рабочих путешествиях передвигались рыжие муравьи.
— Кипятком, что ли, их залить? — озаботилась Дуняша. — Уж больно они ехидно-кусачие…
И тут же спросила:
— Евгений Макарович, вы видели его?
— Видел…
— И разговаривали?
— И разговаривал, — кивнул Куропёлкин.
— Ну, и как он там? — будто бы невзначай, попусту, будто бы и не нуждаясь в ответе поинтересовалась Дуняша. Сама же смутилась, глазами принялась отыскивать нечто невидимое в небесах.
А Куропёлкин растерялся. Снова привиделся ему Сергей Ильич Бавыкин. На вид — не сапожник даже, а скажем — конторщик, не из самых важных, меленький в толпе, в толкотне её, скорее всего, беспомощный, но и никого не раздражающий, если задавят, то не со зла, а женщины такого, пусть и пепельно-невзрачного мужичка, но с глазами мечтателя, ещё и пожалеют. И в то же время он, Сергей Ильич, в своих самоощущениях и в проявлениях их, посчитал Куропёлкин, — Титан, один из управителей Планеты, неважно какой она формы — шара или чемодана, куда до него капитану «Наутилуса»! Но каких слов ждёт о нём теперь Дуняша? И какие соображения стоит высказывать теперь ему, Куропёлкину?
— Да вроде бы с ним всё нормально… — осторожно произнёс Куропёлкин.
— А он… — робко начала Дуняша.
— Как я понял, — сказал Куропёлкин, — он относится к некоей горничной с симпатией. Попросил меня поспешать, чтобы моя задержка не сказалась на её благополучии. Вот и посохом снабдил…
— Бедняга, — вздохнула Дуняша.
— Отчего же — бедняга, — сказал Куропёлкин, на всякий случай, — по-моему, он не считает себя беднягой.
— Вам о многом неизвестно, — сказала Дуняша.
— Очень о многом, — согласился Куропёлкин. — Истинно так. Но может, оно и к лучшему…
Сам же подумал: «Каково было бы узнать титану и властелину Сергею Ильичу Бавыкину, выпускнику МИИТа, что никакой пробоины в чемодане не случилось, а он, бывший муж госпожи Звонковой, сидит в своей пещере при колодце наблюдателем за сбросами мусора и использованных Шахерезадов? Хотя, не исключено, что он догадывается об этом и отвлекает себя от разочарований судьбы починкой обуви?»
И Куропёлкину стало жалко Бавыкина.
Ему бы себя пожалеть.
61
— Евгений Макарович, — спросила Дуняша, — вы не голодны? А то ведь я могу принести обед в судках в ваше обиталище?
— Спасибо, Дуняша, — сказал Куропёлкин, — наверное, буду сыт до ужина.
Был уверен, аппетитом его Дуняша якобы заинтересовалась только ради того, чтобы вызнать, приглашал ли Бавыкин Куропёлкина к столу, а стало быть, и к доверительному разговору.
Вызнала.
А дальше что?
Дуняша молчала. Не из-за неё ли, девицы-красавицы, подумал Куропёлкин, Сергей Ильич стал бывшим и определён в сапожники? Отчего бы и нет? Опережая возможные слова Дуняши, Куропёлкин спросил:
— Пока я собирал грибы и грелся на солнышке, какие-либо распоряжения по поводу моих служебных обязанностей не поступали?
Дуняша, похоже, не сразу поняла, о чём он спрашивает.
— А-а, — наконец дошло до неё. — Нет, никаких новых распоряжений…
— И книг не привозили?
— Не привозили.
— Странно…
— Но ночевать вам велено сегодня снова в опочивальне Нины Аркадьевны.
62
— Слушаюсь и повинуюсь, — сказал Куропёлкин.
И отправился на поиски любезных камеристок Сони и Веры, в дом водных процедур. Уже три дня, завершая массажи и втирания благовоний, именно камеристки выдавали ему комплекты специального белья для опочивальни. Присутствие в поместье дворецкого и постельничего, воеводы Трескучего-Морозова в последние дни никак и ни в чём не проявлялось. Возможно, Трескучий советником и топ-распорядителем отправился в команде госпожи Звонковой в дальние страны и тем ослабил страхи и напряжения в жизни дворовой челяди, увлёкшейся в его отсутствии собиранием грибов-шампиньонов.
Но Куропёлкин ощущал, что Трескучий — и далече, и здесь — наблюдает за ним, злыднем, и в пещеру Бавыкина несомненно запускал лапу-щупальце со сладострастным интересом.
Вера и Соня были по-прежнему приветливы, но шутили меньше обычного и касались тела клиента Куропёлкина явно с некой осторожностью, можно было предположить, что им рекомендовали соблюдать дистанцию в отношениях с подсобным рабочим, на которого уже израсходовали непомерно много спецбелья (всё тех же футбольных трусов) и вызвали излишние расходы.
Но может быть, они сами чего-то опасались и чем-то были удивлены и без посторонних рекомендаций и подсказок?
Во всяком случае, порой Куропёлкину казалось, что Вера с Соней неизвестными ему обстоятельствами жизни удручены.
Хотя, конечно, мысли Куропёлкина могли забрести в заросли заблуждений…
Однако попытки Куропёлкина побалагурить и развеселить барышень к удачам не привели.
— Какие-то вы сегодня, девушки, кислые. Будто чего-то боитесь, — протянул Куропёлкин.
— Да и вы, Евгений Макарович, — ответствовала хохотушка Вера и произвела путешествие тёплой ладонью от солнечного сплетения к особо опасному предмету Куропёлкина, — нынче какой-то сонный.
— Ваше спецбельё меня укачивает уже вторую неделю, — сказал Куропёлкин. — К тому же я сегодня выходил по грибы. И возможно, меня хватил солнечный удар.
— Насчёт спецбелья судить не стану, — сказала Вера. — Нам каждый раз передают его из лабораторий опечатанным. А вот перегреться на солнце вы позволили себе напрасно. Вам нужно пребывать теперь в боевой готовности.
— С чего бы вдруг? — спросил Куропёлкин.
— В боевой интеллектуальной готовности, — серьёзно уточнила Соня.
— И всё же — с чего бы вдруг? — не мог успокоиться Куропёлкин.
— А с того, что Нина Аркадьевна должна явиться сюда обновлённой. Не сегодня, так завтра, — сказала Вера.
Обе камеристки явно ожидали удивлений Куропёлкина и, естественно, вопросов об обновлении Нины Аркадьевны. Но Куропёлкин посчитал, что никаких слов ему произносить не надо, ни слов удивления, ни слов вопрошающих. Сами барышни не выдержат и всё выболтают.
И кое-что выболтали. Выходило, что Звонкова путешествовала вовсе не в Китай или в какую-нибудь Мьянму, а побывала в Париже, в Милане и потом снова в Париже, имея целью совершить обряд по приобретению нового имиджа. Причём совершала обряд с присущим ей тщанием и научным подходом. Естественно, гардероб её при консультациях со всяческими Лагерфельдами был решительно обновлён. Такие дошли до камеристок сведения. И будто бы скоро последует поездка Нины Аркадьевны в Лос-Анджелес к кудесникам фабрики грёз ради продолжения смены имиджа.
— С чего бы вдруг? — опять только и смог вымолвить Куропёлкин.
— Очень может быть, господин Эжен, — серьёзно произнесла Соня, — вы со своими достоинствами, нами проверенными, снова пробудили в ней женщину, и она решила воздействовать на вас женскими чарами.
И сразу же Соня расхохоталась.
Так развеселила её нелепость собственного предположения.
— Только этого не хватало! — будто бы испугался Куропёлкин.
— Соня шутит, — сказала Вера. — Выдаёт кем-то желаемое… Не пугайтесь и не волнуйтесь! Это нас с Соней волнует, терпения не хватает, какой и в каких нарядах вернётся наша Нина Аркадьевна из Парижа и Милана!
Слова «кем-то желаемое» Куропёлкин тотчас связал с постельничим Трескучим и даже предположил, ради чего им, Трескучим, — «желаемое». Нетерпение же камеристок увидеть госпожу было объяснимо. А вот отчего Звонкова отважилась изменить имидж, в разумениях Куропёлкина застыло тайной.
— Ну как же! — воскликнула Вера. — К Нине Аркадьевне в последние дни возбудился интерес французских культурных слоёв. Она им какие-то их собственные тексты открыла и истолковала. Её зовут читать лекции в Сорбонне. Орден ей обещают…
— Подвески! — рассмеялась Соня. — Или подвязки…
— Помолчи! — прикрикнула Вера. — Не ходить же ей по Парижу в сарафанах и в белье с подогревами да и с причёской замоскворецкой купчихи!
— Это верно, — важно согласился Куропёлкин. — И что же, нам её сегодня ждать?
— Мы-то ждём и сегодня! — сказала Вера. — И вам бы советовали не задрыхнуть. И вот вам опечатанный комплект спецбелья.
63
В опечатанном, сургучом узаконенном, пластиковом пакете Куропёлкин нащупал футбольные трусы. Опять, видимо, динамовские.
«А вдруг сегодня не динамовские? — трепет надежды возник в нём. — А спартаковские?»
Нет, при приведении спецбелья в боевую готовность выяснилось, что опять динамовские. Но почему в его упованиях возникли именно спартаковские трусы, Куропёлкин ответить не смог бы. Ему был симпатичен клуб из Владивостока «Луч-Энергия». Правда, команда из Владика уже несколько лет играла во втором дивизионе, и Куропёлкин забыл в Москве подробности расцветки тихоокеанских Круиффов и Зиданов. Напоминаний о тельняшках и об Андреевском флаге в их форме не было, на поле они выходили в чём-то жёлтом и черном. Вряд ли ведал об этих далёких, но нашенских трусах и постельничий Трескучий.
Заняв своё служебное место в опочивальне Нины Аркадьевны и устроившись там с комфортом, Куропёлкин не мог успокоиться. Причину своего неуспокоения он отыскал в неготовности достойно исполнить договорные обязательства Шахерезада. Тем более Ларошфуко.
Расслабился нынче. И устал.
«А ведь если она явится сейчас, — думал Куропёлкин, — болтовнёй о чём её придется развлекать? Не развлекать, а утихомиривать. Сны навевать на её новые парижские ресницы. Неужели опять затевать раскрашивание истории шведского журналиста Блумквиста и девушки с татуировкой Дракона? Или хуже того — открывать тайные обстоятельства своих отношений с герцогом Ларошфуко и вспоминать о всяких остроумно-французских штучках, услышанных им от герцога?»
«Нет, — решил Куропёлкин, — усыплю её рассказами о новых приключениях капитана Немо, тоже ведь придуманном французом…»
Но при этом ни слова не произнести про другого Немо, того, кто ублажает себя починкой обуви и пробил чемодан. А скорее всего и не пробил. А служит ударником в рок-группе «Наутилус-Помпилиус».
Но не осчастливила своим возвращением в опочивальню ни камеристок, ни добросовестного подсобного рабочего госпожа Звонкова.
64
Выспаться Куропёлкину удалось в своей квартирке с оконцем.
Его не будили. И даже не звали завтракать за столы с дворовой челядью.
Потягиваясь и зевая, Куропёлкин подошёл к оконцу.
У Люка стоял грузовик с мусорными контейнерами.
Хрустальный купол Люка беззвучно, взблёскивая в празднике утреннего солнца, степенно возвысился над зелёным подвсхолмием, и сине-серый кран приволок под хрустальные бока унылый короб контейнера, наклонил его и высыпал собрание городской дряни в колодец Люка.
«Ну вот, — подумал Куропёлкин, — случатся нынче Сергею Ильичу Бавыкину подарки. Если, конечно, повезёт. Если в контейнеры, на его счастье, попала хотя бы лодочка московской щеголихи сороковых годов и её отловят батутные устройства».
Куропёлкин тотчас представил, как из доведённой до совершенства и облагороженной, с ароматами свежей ваксы, туфли, пусть даже и столичной куртизанки, в своей гостиной Сергей Ильич вливает в себя утоляющий одиночество напиток.
Но в честь кого вливает? О ком думает при этом? О румянощёкой горничной Дуняше? О бывшей жене Нине Аркадьевне Звонковой, поменявшей в Париже (неизвестно зачем) имидж? Или ещё о ком-то?
Но тут Куропёлкина же напугало (обожгло) внезапное соображение.
Ну, предположим, была отловлена туфля. Может, и валенок с галошей (розовое внутри) перепал на этот раз Сергею Ильичу. Но весь остальной-то мусор куда был опрокинут фиолетовыми мужиками?
При путешествии по скобам колодца никаких тошнотворных запахов Куропёлкин не учуял. Никакой тухлятины. А нос у него был щепетильный. Пачулями, как в одном виденном Куропёлкине спектакле, не пахло. Правда, он не знал, что такое пачули, но не важно…
То есть можно было посчитать, что колодец содержат люди аккуратные. И опрятные. А никакие вентиляции помощь им оказать не могли бы. Всё равно чем-нибудь да пахло бы. Стало быть, гуляли дальше мысли Куропёлкина, где-то, возможно, что и не на самой отдалённой глубине, с мусором решительно расправлялись. Ведь есть же какие-то инновационные средства по истреблению мусора и его преобразованию в полезные вещи. А потом эти полезные вещи можно было особенными туннелями миитовца Бавыкина вывозить куда надо, хоть бы и в Старую Купавну, в товарных видах.
«Рудники (а может, и копи) дворецкого Трескучего, — отчего-то пришло в голову Куропёлкина. — Невьянская башня Демидова (это уже опять из кино), фальшивые деньги… Может, у Трескучего из мусора и деньги фальшивые добывают, испекают и чеканят…»
Почему бы и нет?
Но вовсе не соображения о фальшивых деньгах напугали Куропёлкина. Все деньги в истории людей — фальшивые и существуют как обменные фантики, скажем, в игре «дочки-матери», породившей среди прочего девчачье выражение «мало не покажется», ставшее нынче бандитско-полицейской грозностью.
Нервную дрожь Куропёлкина породили мысли о современных (с лазерами, с электронными системами управления и прочим техническим оснащением) способах переработки мусора. И мрачные видения со скрежетом и тресками дробильных агрегатов, визгом пил с мелкими и большими зубьями, с выбросами из форсунок серной кислоты, пожирающей людскую плоть, пришли в голову Куропёлкину. Дурак! Легкомысленный дурак! И ведь, подписывая контракт и не рассчитывая на особые выгоды (лишь бы родичей прокормить), он слышал о Люке и о том, что Шахерезад, не выполнивший условия контракта, сейчас же мог быть отправлен в Люк.
Дурак!
И при этом такая гнусность! Ну, ладно, вешали бы тут за провинность, расстреливали бы, со скал бы сбрасывали, на кострах бы сжигали, всё было бы не так обидно, а то ведь отправляли на свалку, в мусорно-безотходное истребление!
Куропёлкин затосковал…
65
Постучали. Визит к Куропёлкину совершала горничная Дуняша.
— Что-то вы грустный, Евгений Макарович? — спросила Дуняша.
— Плохо спал, — сказал Куропёлкин.
— Понятно, — сказала Дуняша, — а она не приехала…
— При чём тут какая-то она! — возмутился Куропёлкин. Тут же и смирил возмущение. — Воздухом, возможно, надышался свежим вчера. Будто дурманом…
— Возможно и такое, — согласилась Дуняша. — Но вот для вас получено предписание. Думаю, оно отвлечёт вас от грусти.
И Дуняша вручила Куропёлкину пакет, а с ним и сплетённую из ивовой лозы корзину со стопками книг и журналов.
66
— Я вижу, Дуняша, вы всё же чем-то озабочены…
— Не берите в голову, Евгений Макарович. Мои заботы мелкие… — вздохнула Дуняша. — Кстати, вы не голодны? На завтраке-то вы не были…
— Нет аппетита, — заявил Куропёлкин.
— А утолить жажду? Пиво не возникло в желаниях?
«Ну, уж нет! — чуть ли не испугался Куропёлкин. — Уже пожелал пива. Хватит!»
— Ну вот, если шоколад… — надумал наконец Куропёлкин.
— Плитку?
— Нет, шоколада горячего, жидкого… Напитка. Чашку.
Явное подозрение отразилось в глазах горничной. Но в чём можно было подозревать Куропёлкина?
— Нет, — сказала Дуняша. — Шоколадных напитков у нас не держат.
— И всё-таки, Дуняша, вы чем-то озабочены…
— Не один вы, Евгений Макарович, пожелали чашку шоколада. Были и другие любители…
— Давно?
— Увы, давно. — И Дуняша, чуть ли не со слезами на глазах, покинула (будто выбежала) жилище Куропёлкина.
67
Куропёлкин разорвал пакет, достал из него листок с предписанием.
Прочитал.
«Евгений Макарович, будьте добры, потрудитесь прочитать книжки. Просьба: к вечеру подготовьте соображения. На тему: „Поэзия молодых нулевого десятилетия ХХI века“».
68
Ну, спасибо, восхитился поручением Куропёлкин. Ну, спасибо! Не произвели ли при этом его в профессоры гуманитарного университета? Или хотя бы в доценты?
Стихи он давно не читал, и даже текст Государственного гимна помнил туманно. В книги же поэтов, рекомендованных ему застенчивыми библиотекаршами, чаще всего любительницами Э. Асадова, заглядывал в пору полового созревания и полового же ученичества, тогда и сам сочинял какие-то идиотские стишки с объяснениями в любви Елизавете Сёмгиной, недоступной волокушской красавице, пятнадцати лет, троечнице.
Потом болезнь отшелушилась и прошла.
Доступная Куропёлкину поэзия размещалась нынче начинкой в фанерных шлягерах и не задерживалась в его сознании.
И вот теперь его призывали в ценители сочинений нулевого десятилетия.
Действительно, осознал Куропёлкин, сегодня будет не до грусти и тем более тоски.
В корзине, способной принять десятка четыре спелых голубых груздей (это вам не шампиньоны!), были уложены несколько тоненьких сборников стихов, пара альманахов, эти — пошире и посолиднее, а под ними обнаружились два серьезных тома «Библиотеки античной литературы» — сочинения Горация и «Золотой осёл» Апулея.
Эти-то авторы в поручении вовсе не упоминались, а на страницах «Золотого осла» Куропёлкин не увидел ни строчек лесенкой, ни рифм, то есть в том, как эти две книги примазались к обязательным, следовало ещё разобраться.
Пообедав наскоро, Куропёлкин сообщил камеристкам, что сможет побыть у них не более получаса, срочное поручение, и залёг у себя в квартирке, обложившись изданиями нулевого десятилетия.
Сразу понял, что нынешнее поручение мог заказать человек (или кто он там?) мстительный и его, Куропёлкина, ненавидящий. Про стихи Трескучий наверняка слышал, может, и про кота учёного или про работника Балду, но уж ловушку с ехидствами для Куропёлкина должен был бы придумать какой-нибудь более просвещённый, нежели сам дворецкий, подсказчик.
Пытаясь быть добросовестным, Куропёлкин потратил часа два на чтение книжек. Но заскучал, стал зевать, мысленно извинялся перед творцами, мол, это он такой тупой и бесчувственный, а очень может быть, что их стихи хороши и нужны людям.
Но ведь Нине Аркадьевне требовались не зевоты и извинения. Требовались соображения.
Первым делом Куропёлкин сообразил, что почти в каждой из книжек есть авторские предговорения. Типа — «Коротко о себе». «А прежде я скажу…», «По секрету всему свету», «Утренняя автобиография» и т. д. Вот из этих предговорений или увещеваний читателя, решил Куропёлкин, и можно было что-либо выудить для основательных соображений.
Охотнее всего допускали откровения лирические дамы. Кстати, почти все они просили называть себя поэтами, а не поэтессами. Поэту Ирине Акульшиной в слове «поэтесса» виделось пренебрежение к таланту и к свойствам её личности. «И вообще, — писала Акульшина, — поэтесс куда больше среди мужчин, якобы стихотворцев, нежели среди женщин». Бесспорно к разряду поэтесс, по мнению Акульшиной, относился нервический кудряш Есенин. При этом дама, то есть барышня нулевого десятилетия будто бы смутилась и принялась уверять, что её натуре чужды высокомерие и наглость и что её лирические состояния точнее было бы называть напряжённой неловкостью.
«Во как!» — обрадовался Куропёлкин.
Напряжённая неловкость!
Неплохо!
Куропёлкин достал из тумбочки листы бумаги и шариковую ручку (третий день как выдавали) и вывел: «Напряженная неловкость». Что-то близкое его личности почудилось в этом Куропёлкину. Но о каком напряжении размышляла Акиньшина и о какой неловкости? А вот о таких. Мятежная душа поэта (к какому мятежу расположенная, не уточнялось) напряженной струной готова была звенеть для множества людей, умела уже звенеть и звенела. Но тут и возникла неловкость. А надо ли звенеть? Кто её услышит или хотя бы начнёт слушать? И надо ли вообще открывать свою душу, свои стоны, свои всхлипывания, свои радости и свои открытия? Кому они в суете безнравственных и бестолковых дел нужны? Жулью, что ли, циничному? Но если вдруг кому-то и нужны, и уже в свои листочки выплеснуты и выкрикнуты, то как их до других-то людей донесёшь? Перед тобой сразу же поставят мясорубку коммерции и расчета — а выйдет ли прибыль от твоих сочинений? Отсюда и напряжения души с талантом, и несвободы слововыражения. И твои собственные метания, как ребёнка-то кормить, Коленьку трёхлетнего? И приступы самобичевания — а не бездарь ли ты, раз нет на тебя спроса? И что же ты нагличаешь, навязывая свои стихи людям?
Напряжённая неловкость.
Многие слова Акульшиной были выписаны Куропёлкиным в листы основательных соображений (кстати, некоторые из её стихотворений читать ему было приятно, «не дурно, не дурно»…). Один из листов он разорвал на полоски и закладками просунул их в книжонки, наугад, вдруг на «выбранных» им страницах обнаружатся стихи, какие госпожа Звонкова потребует прочитать.
Взял альманах «Провинция», изданный в Воркуте. Расстроился.
69
Но недолго сидел расстроенным.
Сразу наткнулся на большую статью именно о молодой поэзии нулевого десятилетия. Если бы начал с неё, не надо было бы и читать увертюрные (саундтрековые) строки «Предговорения» Ирины Акульшиной. Известно, писал автор статьи некий Алексей Б., что в пору исторических сломов авангардом литературы становится поэзия. Так, скажем, случилось в шестидесятые годы прошлого века. Отчего же нынешняя поэзия тиха и скромна, «не высовывается», нет среди молодых — трибунов и кумиров, Евтушенок и Вознесенских? И что уж совсем удивительно, не спешат стать стихотворцами пленительные рублёвские дамы (и барышни из схожих местностей), а ведь у них есть растянутые часы золотого досуга и богатейший лирико-драматический опыт с обольщениями, разводами и трагедиями раздела имущества и детей. Вывод прост — поэзия нынче невыгодна. Приносит копейки (и то в редких случаях) и не приносит славы. Однако остались, к счастью, — заповедники совести и искренних чувств, лишённых корысти и тщеславия, не жаждущих коммерческих добыч. Это провинция. Чему свидетельство — наш альманах (Алексей Б.). Далее Алексей Б. разбирал высказывания И. Акульшиной (та, выходило, проживала в Воркуте) и во многом соглашался с ней. И в его статье встречались слова «напряжённая неловкость», «душа — не товар», «коммерческая несвобода слововыражения» и т. д. В конце статьи Алексей Б. приходил к мнению о нераскупленном поэтическом поколении. Была кличка «потерянное поколение». К молодым литераторам нулевого десятилетия можно было бы прикрепить бирку «прикупленное поколение». И только поэты этого десятилетия оказались (или сами выбрали свою, неугодную дельцам стезю) «нераскупленным поколением». Это обстоятельство порождало в Алексее Б. отчаянные надежды.
Черти что! Куропёлкин чуть ли не застонал. Чем он занимается? Какие глупости, в которых ничего не понимает, втягивает в себя! Почему не находит в себе силы заявить о несогласии выполнять поручение, какое выполнить не может? Зачем врать-то? В угоду кому или чему?
Но парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь…
При чём тут какой-то парус? Ну, порвали его и порвали… И что? Зачем рычать-то?
Но мусор! Спустили мусор! Вот что! Ты это видел сам. Так что сиди и не рыпайся. Ведь уже порвали парус.
Песню (или рычание) про парус Куропёлкин не любил. Потому как не понимал её смысл. Что это за парус такой, который порвали (и кто порвал?), и что за события следуют вблизи порванного паруса? И почему певец пожелал каяться?
Но вот что такое сброшенный мусор, Куропёлкин знал в чётких предположениях, и лучше было не попадать спецпредметом в мешки фиолетовых уборщиков и уж тем более в контейнеры службы городской очистки (впрочем, почему — тем более? Всё едино…).
А потому Куропёлкин заставил себя вернуться к поэтическим сборникам и альманахам. Полагал, что суждения Акульшиной и Алексея Б. вряд ли запомнит слово в слово и сумеет с толком передать их Заказчице соображений о нулевом десятилетии, и старательно, именно высунув язык (тяжко давалась Куропёлкину работа писарчука), исписал полторы страницы. При этом подумал, что авторство Алексея Б. не обязательно будет Нине Аркадьевне открывать, посчитаем, что схожие мысли могли возникнуть и в голове подсобного рабочего Куропёлкина. «Понтярщик! — тут же осадил себя Куропёлкин. — Понтярщик!».
Но понял, что нынче желает угодить Нине Аркадьевне, да так, чтобы она удивилась ему, была довольна им и даже произнесла бы нечто одобрительно-ласковое. Вот тебе раз! Неужели он соскучился по госпоже Звонковой, бывшей жене начальника мусорного колодца Бавыкина, жаждал перед ней отличиться и…
«Никаких „и“! — сейчас же грозно постановил Куропёлкин. — Никаких!»
Но в корзине, задвинутой было под койку, полёживали Овидий и «Золотой осёл». Вот тут Куропёлкин ощутил себя виноватым перед античной литературой и её «Библиотекой». О «Золотом осле» он, кстати, слышал что-то заманное… Он достал из корзины два тома в суперобложках и решил хотя бы пролистать их. Время у него ещё было.
И можно было предположить, что и Овидий, и «Золотой осёл» подложены кем-то в корзину нулевого десятилетия со смыслом.
Или с умыслом.
70
За обедом пронеслось, прошелестело:
— Хозяйка вернулась!
Для кого хозяйка, для кого госпожа Звонкова, для кого — Нина Аркадьевна.
«Нинон», — пропел про себя Куропёлкин.
Когда-то на тацплощадках крутили французское танго «Нинон». Оно было грустное, певец расставался в нём с любимой девушкой Нинон, по её, видимо, желанию, он тосковал и, похоже, готов был расплакаться. Умилений и тоски Куропёлкин сейчас не испытывал, но томление (чего? Да всей натуры!), да, томление всей натуры бывшего Старшего матроса, позже — артиста ночного клуба, а ныне — подсобного рабочего Куропёлкина явно происходило.
Горничная Дуняша подтвердила: да, хозяйка Нина Аркадьевна вернулась. Но в глазах её Куропёлкин не увидел радости, ну, вернулась и вернулась, и что?
— Из Парижа вернулась? — спросил Куропёлкин, ожидая услышать Дуняшины оценки (хотя бы предварительные) преобразований Нины Аркадьевны. И слова о всяких дамских штучках, случившихся в путешествиях госпожи в Париж и обратно.
— Из Парижа, — сухо сказала Дуняша. — Но я её пока не видела. А вам бы, Евгений Макарович, стишки сейчас бы следовало перечитать внимательнее.
Но совету Дуняши Куропёлкин последовать не смог. Его увлёк роман карфагенского писателя Апулея о Золотом осле. Да и стихи Овидия о науке любви заинтересовали и удивили его.
В отличие от Дуняши, камеристки с их воздушными натурами, барышни-плутовки Вера и Соня были возбуждены.
— Так чего вы особенно ждёте? — поинтересовался Куропёлкин.
— Всего! — заявила Вера. — Что бы довело нас до умопомрачения!
«Этак и меня они своими возбуждениями, — подумал Куропёлкин, — доведут до умопомрачения!»
Надо было успокоиться и даже в мыслях перестать называть свою работодательницу — «Нинон». Какая она для него Нинон!
Ко всему прочему, раз вернулась в поместье госпожа Звонкова, следовало ожидать и появления здесь дворецкого Трескучего, при котором и мельчайшие вольности в соблюдениях режима вряд ли были возможны.
Возбуждения камеристок никак не отразились на их служебных усердиях. Куропёлкина они обслужили с привычной уже ласковой доброжелательностью. Впрочем, нынче телесные проявления этой доброжелательности показались излишними.
«Ничего, — подумал Куропёлкин, — сейчас придёт этот изверг Трескучий и снабдит меня спецбельём усиленной строгости».
Однако дворецкий и постельничий Трескучий, если он вернулся в поместье к исполнению вампирских обязанностей, посещать подсобного рабочего при водных процедурах не посчитал нужным, и выдача спецбелья опять была доверена камеристкам.
Но может, Трескучий всё еще отсутствовал в здешней местности?
И такое не исключалось…
И было указано камеристками Куропёлкину: ожидать вызова в опочивальню в своей квартире.
71
Вызова пришлось ждать незаслуженно долго.
Куропёлкин нервничал, переваливался с боку на бок, ворчал.
Динамовские трусы оказались более свободными, нежели прежнее спецбельё. И это Куропёлкина насторожило.
Он мог предположить, что его работодательница Нина Аркадьевна так увлеклась (баба всё же!) демонстрацией своих новых прелестей и нарядов (а возможно, и подсказанных ей, или приклеенных к ней, новых поведенческих манер а-ля какая-нибудь там Катрин Денёв), то есть до того разошлась, расхвасталась и распавлинилась, что до сих пор не нашла сил сойти с подиума и прекратить вертеть перед публикой бёдрами в парижских обновках. Ей ли помнить сейчас о подсобных рабочих типа Шахерезада или Ларошфуко и их чувствах? Тут мысли акробата Куропёлкина моментально кувыркнулись. На какие такие чувства имели права Шахерезад и Ларошфуко? Ни на какие. А если бы и допустили прорастание любых чувств, те тут же должны были быть урезонены спецбельём.
Чтобы проверить свои соображения, Куропёлкин позволил себе вернуться мыслями в строки Овидия и Апулея.
Лучше бы не возвращался…
Томление снова ощутил он. Возможно, и томление не всей натуры, а лишь самой чувствительной её части. Томление сладкое…
Но оно подсобному рабочему Куропёлкину было противопоказано…
72
Тут и явилась в опочивальню оживлённая компания. Хозяйка Нина Аркадьевна и обе камеристки. Камеристки ахали и охали, продолжая восторгами одобрять красоты и приобретения великолепной госпожи. Нина Аркадьевна их восторгами была явно довольна, тело её украшало кимоно в ярчайших пятнах (крупных) и изгибах цветных полос. «От Кензо?» — будто бы в первый раз желали убедиться камеристки. «От Кензо…» — великодушно кивала Звонкова. Куропёлкина Нина Аркадьевна не замечала. Был он тут необязателен. «А бельё неужели из рыбьёй чешуи?» — не утихали камеристки. «Осетровых пород, — отвечала Звонкова. — Невесомое. И не колется. Без подогрева, но тёплое…»
— А где наш Женечка? — спросила Нина Аркадьевна, удивив своим интересом не только Куропёлкина, но и барышень-камеристок.
— Да вот же он! — рассмеялась Вера. — Унырнул с головой под одеяло. Он же у нас стеснительный!
— Ну что ты, Женечка такой стеснительный! — чуть ли не воркуя, произнесла Звонкова. — Никто тебя не обидит!
И она ласково, словно бы ребёнка, погладила Куропёлкина по головке, появившейся из-под верблюжьего одеяла.
«Нинон…» — прошептал Куропёлкин.
— Ну и как, Женечка, — спросила Нина Аркадьевна, — то есть, извини, Евгений Макарович, брал ли Алексей Александрович Каренин взятки или не брал?
— Не брал! — сминая свою растерянность, непоколебимо, отважным Джордано, произнёс Куропёлкин. — Не брал! Однако в помощь моему убеждению мне так и не доставили роман Толстого.
— То есть как? — удивилась Звонкова. — А что же вам доставили сегодня?
— Стихи молодых нулевого десятилетия, — сказал Куропёлкин. — И без всяких объяснений — два тома «Библиотеки античной литературы». Овидия и Апулея.
— Кого? — резко спросила Звонкова.
— Овидия и «Золотой осёл» Апулея.
И Куропёлкин почувствовал, что Нина Аркадьевна и представления не имеет о том, кто такие Овидий и Апулей. (Впрочем, он-то чем просвещённей деловой дамы?)
— Безобразие! — воскликнула Звонкова. — Завтра же разберусь и накажу! Какие ещё Овидий и Апулей! Вредители! Всё. Я устала. Слишком много удовольствий и впечатлений в последние дни. Девушки, готовьте меня ко сну!
Куропёлкину был повод обрадоваться в надежде, что утомлённая Нина Аркадьевна рухнет сейчас в сон и позволит ему, Куропёлкину, закончить день живым и практически здоровым.
Но рухнуть в сон ей предстояло лишь после необходимых, чуть ли не обрядовых процедур с участием умелых рук камеристок. Сразу было сброшено кимоно от Кензо, и Нина Аркадьевна опять оказалась перед заинтересованными очами Куропёлкина обнажённой. Стыдно ему было упрятывать на этот раз голову под одеяло, и он был вынужден на госпожу Звонкову глазеть. Прежние свои оценки наготы совершенной женщины («Сволочь!», «Шлюха!», «Ведьма!»), естественно, приходили на ум, однако сегодня он не способен был употребить их даже в мыслях. Но явившееся ему в голову выражение «музейная красота» сейчас же, слава Богу, приподняло Нину Аркадьевну на пьедестал в Греческом зале и образовало непреодолимую дистанцию между Куропёлкиным и мраморами госпожи хозяйки.
У Куропёлкина было время кое о чём поразмышлять. Скажем, о том, почему он вдруг стал Женечкой и удостоился ласковых (для него и эротических) прикосновений, а через минуты он же был возвращён в уважаемые Евгении Макаровичи? Но размышлять о чём-либо он не был сейчас способен. Он глядел на Нину Аркадьевну, а она уже по сюжету процедур стояла спиной к нему… Болтовнёй же своей камеристки отвлекали якобы любимую ими госпожу от исполнения потребностей её утомлённого организма.
Но наконец-то они умолкли, госпожа улеглась в скромном своём алькове и мгновенно уснула.
Сомнений в прочности её сна у Куропёлкина не было, и он подумал: «Ну и ладно. Свободен. Можно и самому придремать. Заслужил…»
Сон Нины Аркадьевны был тихий, непорочно-целомудренный…
«Устала бедняга… Нинон…» — беззвучно умилялся Куропёлкин.
— Эжен, — услышал он деловитое, — так каковы ваши суждения о поэзии молодых нулевого десятилетия?
— Ну… — растерянно пробормотал Куропёлкин. — Всё же я, Нина Аркадьевна, в этом деле (чуть было не произнёс «дундук», однако поднапрягся и не сразу, но отыскал слово, подходящее для знатока Ларошфуко)… я в этом деле профан…
— И это все ваши суждения? — спросила Звонкова, как показалось Куропёлкину, с ехидством разочарования и будто бы с угрозой, этим разочарованием, возможно, вызванной.
Куропёлкину не захотелось огорчать Нину Аркадьевну. И он заговорил. Вывалил скороговоркой соображения И. Акульшиной и теоретика Алексея Б. (этого не упомянул, сам, мол, горазд на понимание явлений), снабдил свою энергично-торопливую речь выражениями (чужими) типа — «нераскупленное поколение», «напряжённость неловкости», «коммерческая несвобода словоизвержения, извините, слововыражения», нёс эту ахинею минут пятнадцать, начиная верить в значимость (или даже справедливость) произносимых им слов.
И выдохся.
Спать хотелось…
— Вы, Евгений Макарович, — спросила Звонкова, — сами-то стихи писали?
Вопрос этот смутил (или напугал?) Куропёлкина. Стыдно было ему выговорить правду. Желание спать пропало. Но и врать Нине Аркадьевне отчего-то сегодня не хотелось.
— Писал, — провинившимся молокососом пробурчал Куропёлкин. — Было такое. Посвящал какие-то идиотские стишки однокласснице в сельской школе. Больше я не грешил. И что же, вам смешны и совершенно бесполезны мои сегодняшние соображения?
— Нет, нет, ни в коем случае! — воскликнула Звонкова. — Очень, очень полезны! А уж ваши изыскания о нераскупленном поколении вышли как бы экономическими и, возможно, подвигнут меня на реально-выгодные дела.
— А не кажутся ли мои мысли однобокими и излишне категоричными? — робко поинтересовался Куропёлкин.
— В однобокости и категоричности, — сказала Звонкова, — часто укрывается своя сила. Мысли ваши потребуются мне завтра в первой половине дня, и прошу вас сейчас же запишите для меня всё, что тут вы произнесли.
— У меня здесь нет ни бумаги, ни ручки, — сиротой прозвучал Куропёлкин.
Кнопкой была вызвана камеристка Вера. За пять минут на её планшете корейских кудесников зачернели буковки литературоведческих и экономических соображений Куропёлкина.
Вера удалилась, а Звонкова будто уже выспалась и желала далее бодрствовать.
73
— А теперь, Женечка, почитайте мне стихи, — попросила Звонкова, — из сборников, вам присланных. Только не увлекайтесь.
— Я, конечно, ходил в кружки самодеятельности, плясал и пел, играл купцов с приклеенными бородами, — принялся оправдываться Куропёлкин, — но чтец-декламатор из меня никакой…
— Ничего, ничего, Женечка, — успокоила его Звонкова. — Не прибедняйтесь. Дикция у вас, как у Евгения Леонова. Все слова внятные.
«Ничего себе похвала!» — подумал Куропёлкин. Но это «Женечка», произнесённое дважды, до того растеплило его горячим сливочным маслом, размазало геркулесовой кашей по фаянсовой тарелке с розовыми цветами, что Куропёлкин не смог не выполнить просьбы Нины Аркадьевны и прочитал четыре произведения из сборников молодых.
74
При чтении четвёртого из них Звонкова заснула.
И всерьез.
Но теперь не мог заснуть подсобный рабочий Куропёлкин. Она назвала его «Женечкой», она ласково погладила его, как ребёнка, по головке.
Нинон…
Что бы это всё значило?
Обольщаться чем-либо Куропёлкин себе не позволял, жизнь — лучший учебник знания, и его многому научила, и теперь радоваться было нечему, ну, Женечка, ну, холеной, с парижскими запахами рукой по головке, и что? Ничего. И не стоило обволакивать себя фантазиями или хуже того — цветастыми, как кимоно от Кензо, видениями надежд. Дамочка вернулась из Парижа и Милана в кураже, восхищённая собой и своими приобретениями, готова была стать несвойственно-щедрой, от этих своих щедрот и одарила его, Куропёлкина, и Женечкой, и поглаживанием волос, хорошо хоть не догадалась ещё потрепать по щеке.
Куропёлкин повернулся на левый бок и закрыл глаза.
Вот бы перевернуть свои мысли… Неизвестно, правда, на какой бок…
А Куропёлкину ещё долго предстояло ворочаться на своей лежанке при свете ночника.
При смене очередной беспокойной позы (перед тем он маялся — и дремота не приходила — на животе, уткнувшись носом в подушку) Куропёлкин обнаружил: одеяло сползло с Нины Аркадьевны в глубину алькова и спина работодательницы решительно открылась для его наблюдений.
Неожиданные, почти забытые шевеления внутри специального белья чуть ли не испугали Куропёлкина. Зачем эти шевеления и почему вдруг? Можно было предположить, что в отсутствие соблюдателя строгостей режима господина Трескучего спецбельё ослабло, его давно не заменяли новыми надёжными комплектами, а лишь перестирывали, вот и перестирали, вызвав повреждение смирительных свойств тканей и лишив их возможности воздействовать на нарушения приличий.
Негоже это, думал Куропёлкин, негоже!
Завтра же заявлю камеристкам, Вере и Соне, чтобы они более не баловались с его спецбельём и не возбуждали в нём свободу желаний.
К нему отнеслись сегодня незаслуженно ласково, доверчиво, и он не мог ответить на эту ласку грубостью или дурным поступком.
Нинон…
75
— Ну что, Евгений Макарович, — спросила горничная Дуняша. — Добыть для вас пива?
— Ну уж нет, Дуняша, — будто бы испугался Куропёлкин, — обойдемся на этот раз…
— Напрасно, — покачала головой Дуняша, — может, более и не будет такого случая…
— Надо понимать это как предупреждение? — спросил Куропёлкин.
— Да что вы, Евгений Макарович! — воскликнула Дуняша. — Не имею полномочий предупреждать кого-то о чём-либо. Так, высказываю тишайшее предчувствие… Не хотите пива, и не надо. Будем кормить вас стейками и шашлыками. Мужику для поддержания сил требуется мясо с кровью. А вам сегодня это особенно необходимо.
— Ещё одно тишайшее предчувствие? — спросил Куропёлкин.
— Не берите в голову! Приходите на завтрак, — сказала Дуняша.
— Спасибо…
— И за кого вы меня, Евгений Макарович, принимаете, если полагаете, что я вас могу о чём-либо предупредить? — Дуняша направлялась уже к двери, но остановилась и по сути повторила высказанное секундами раньше. Значит, это было для неё важно. Подумав, добавила: — При этом вы находитесь у нас сейчас чуть ли не в положении профессора. И не только…
И не было на этот раз в её глазах благожелательности, а были неодобрения (удач профессора-фаворита?) и ехидство, а может быть, и неожиданная для Куропёлкина враждебность.
Выяснять, из-за чего на него дуется горничиая и какие такие удачи она приписывает «профессору, и не только…», Куропёлкин не стал. Да и не у кого было выяснить. Горничной уже не было в его логове с оконцем.
«Не добыть ли вам пива?» — это предложение Дуняши сразу же удивило его, а теперь и вовсе казалось ему подозрительным. Однажды он уже относил пивную тару к Люку и собирал грибы шампиньоны. Нынче-то с чего бы вдруг было предложено ему запрещённое контрактом угощение? Собственными ли хлопотами Дуняши оно было вызвано? Или включено необходимым действием в коварные козни, кому-то выгодные? Возможно, он уже существовал в этих кознях, не зная о них и о их сути, и теперь был выделен в определённое действующее лицо, типа — дурак, и по сюжету чьих-то игр — совершать полезные для кого-то поступки. Что значит, для кого? Прежде всего, конечно, для домоуправителя господина Трескучего! Но впрочем, может, и ещё кого-то, для него, Куропёлкина, даже и немыслимого…
Вряд ли в неосмысленностях ситуации были упрятаны лишь интересы (или печали?) горничной Дуняши, шоколадницы, чей напиток отсутствовал в поместье госпожи Звонковой.
Неужели всё же её расстроили удачи (какие? какие?) «профессора, и не только»? Кого — и не только? Любимчика? Или… «Женечка», ласковая рука гладит волосы, а потом… А потом! Любовника, что ли? Такого быть не может. Никогда.
Однако…
Сладкие мысли потекли в голову Куропёлкина. Теперь он был Емеля на печи. Мечтатель. Но кто же из русских людей не мечтатель?
На эти бы сладкие мысли да призвать бы пчёл из двух ульев!
Но Куропёлкин пчёл не призвал.
76
Напомнил себе, что здесь он в лучшем случае — умственная игрушка. Или даже шут.
77
Обеденный стейк Куропёлкин прожевал вяло. От предложенной ему ещё одной порции мяса отказался. Увял.
Горничная Дуняша нашла его после обеда.
— Хандрите, Евгений Макарович? — поинтересовалась Дуняша. — Напрасно. Имею сведения от госпожи Звонковой.
— Какие? — взволновался Куропёлкин.
— Для вас — чрезвычайно благоприятные, — сказала Дуняша. — Для вас… Впрочем, при нынешних обстоятельствах иного и нельзя было ожидать.
Опять Дуняша выказывала своё неодобрение каких-то нынешних обстоятельств и каких-то удач Куропёлкина. Куропёлкин промолчал…
— Сведения такие, — вздохнув, сказала Дуняша. — Вам передана благодарность. И воздушный поцелуй. Считайте, что почти орден. Блестящий успех Нины Аркадьевны на каком-то международном симпозиуме. И вот вам новые книги для работы.
И были переданы Куропёлкину «Анна Каренина» в двух томах (наконец-то!) и книга с картинками «Китайская пейзажная живопись».
— И всё? — спросил Куропёлкин.
— Ну, и воздушный поцелуй, — сказала Дуняша. — Воспроизвести его я не смогу. И нечего вам хандрить. Вы ведь теперь Женечка.
— Вы, Дуняша, дерзите, не знаю по какой причине, — сердито сказал Куропёлкин.
— Кстати, уважаемый Евгений Макарович, — сказала горничная, — у вашей двери стоит ботинок.
— Какой ботинок? — удивился Куропёлкин.
— Хорошей кожи. Но временем искалеченный. С акульей пастью, — просветила Дуняша. — Выбрасывать его я не отважилась. Потому как не знаю, откуда он взялся. Может, сам пришёл. А может… Так что сами решайте, что с ним делать, вдруг он вам пригодится… Всё. Откланиваюсь.
78
Куропёлкин держал в руках книгу о китайской пейзажной живописи и раздумывал. Наверное, Нина Аркадьевна всё же собралась ехать в Китай и ей для какой-то частности понадобились знания о китайских пейзажистах. Новое задание не слишком озаботило Куропёлкина. Во Владике в годы его службы не раз устраивали выставки исскуства из музейных собраний сопредельных земель — Поднебесной, Восходящего солнца, стран поменьше — Кореи, Монголии. Куропёлкин с любопытством их посещал, вбирал в память свитки и гравюры, запоминал разъяснения экскурсоводов, часто — иноземцев, и теперь самонадеянно полагал, что он — в теме. А присланную книгу лишь стоит пролистать.
Да и не до книг ему сейчас было!
Он не подвёл, не опозорил работодательницу Нину Аркадьевну Звонкову.
Он не посрамил Нинон!
«А в нём душа кенаркой пела…» — вспомнилось Куропёлкину. Откуда эти слова? С танцплощадок Котласа и Владика (в дни увольнений). Там мужик в ритме и при звуках фокстрота рассказывал: «Она в киоске торговала холодным квасом и ситро…» И так далее. «И оглянувшись, увидала: стоит парнишка молодой… И он стоял и повторял: „Какой у вас чудесный квас!“, а про себя твердил хитро: „Вы лучше кваса и ситро!“».
Да, в нём, Куропёлкине, душа кенаркой пела.
Он не подвёл, не посрамил госпожу хозяйку. Она по электронной почте отправила ему воздушный поцелуй. Он заслужил. Женечка…
Растроганный Куропёлкин намерен был отправиться в травяные просторы с шампиньонами и нарвать для Нины Аркадьевны букет полевых цветов с ромашками, гвоздиками, колокольчиками, львиным зевом. До того стал нежным…
79
Но его остановили камеристки. Явились к нему, об их сеансе он нынче забыл, и они обеспокоились.
— Чтой-то вы к нам опаздываете? — спросила барышня Соня. — График нарушаете. А у нас ведь очередь!
— Вы уж поспешайте, Евгений Макарович, — сказала Вера, — а то ведь госпожа в своих усталостях от трудов невыносимых надумает рано отойти ко сну… А что это у вас, у двери, стоит такой рваный и вонючий башмак?
— Не знаю, — сказал Куропёлкин. — Сам пришёл. И не уходит.
Следовало ожидать привычных шуток и подтруниваний камеристок. Но Вера с Соней были серьёзны. И смотрели они на Куропёлкина холодно-строго и даже будто бы с мало объяснимой укоризной.
— Больно вы сегодня важные, — сказал Куропёлкин.
— Это вы, Евгений Макарович, теперь важный, — сказала Соня. — Нам вот за вами гоняться приходится. Говорят, что вас вот-вот из подсобных рабочих переведут в советники.
— С чего вы взяли? — спросил Куропёлкин.
— Нам лучше знать, — сказала Вера. И — ни мгновения улыбки.
— Но особо не радуйтесь, — вступила Соня. — Ведите себя внимательнее и благоразумнее… И не раздражайте вонючим ботинком. И через полчаса, ваше начитанное сиятельство, ожидаем вас на процедурах.
80
«А в нём душа кенаркой пела, и пить хотелось без конца…»
Не отставала глупость от Куропёлкина. Не отлипала.
Постановил: на водных процедурах постою под холодным душем, хоть полчаса, пока дурь не изойдёт.
Изошла.
— Вот что, барышни, — сказал остывший и благонамеренный Куропёлкин. — Трескучий здесь или где?
— Не имеем права знать, — сказала барышня Вера. — Но что — вам Трескучего не хватает? Или как? Мы вам надоели?
— Ни в коем случае! — воскликнул Куропёлкин. — Вы для меня, как родные! Но вы стали жалеть меня. Вы без присмотра Трескучего балуете меня ночным спецбельём. Оно словно — без напряжений, одрябшее, из перестирок и с меня чуть ли не сползает. Не стесняет и не жмёт. Это приятно. Но… Вы ведь сами просили меня быть благоразумнее.
Вера с Соней переглянулись, и Куропёлкин понял, что они молча переговорили о важном, о чём сам он запрещал себе думать.
— А потому прошу вас, — продолжил Куропёлкин, — выдавать мне сегодня и впредь суперстрожайшие комплекты спецбелья, какие только есть у вас на складах. Пусть и с колючей проволокой внутри. Или со стальными шипами.
Вера и Соня стояли перед ним, склонив головы.
Возможно, хотели возроптать и возразить. Но не возразили.
Принесли, видимо с секретного склада, несколько знакомых (на вид) упаковок с компьютерными словами на прозрачном пластике: «Совершенно секретное наноспецбельё. Применяется в экстренных случаях и по приказу».
Доверили Куропёлкину самому выбрать (вышло, что на ощупь) упаковку. Выбрал.
81
Киоск с холодным квасом и ситро пропал. Душа парнишки молодого насытилась и перестала петь кенаркой.
Но до обычного вызова в опочивальню оставались часы, а волнение Куропёлкина — и без кенарки — не угасло, и, чтобы отвлечься, Куропёлкин стал полистывать «Каренину», а потом принялся за Овидия и Апулея. Наконец, дело дошло и до китайской пейзажной живописи.
Но книги задерживались в руках Куропёлкина минут на пять. Не то чтобы он их отбрасывал, нет, бережно клал рядом, уважал труд печатников, да и что было швыряться книгами, они-то в чём были виноваты? Тем более что, посидев минуты две с закрытыми глазами, снова брал доставленные ему тома. Но никак не мог сосредоточиться. Труднее всего воспринимал сейчас слова в «Анне Карениной». Листал, листал страницы, но так и не наткнулся на главы, из которых можно было бы понять, брал ли взятки Алексей Александрович Каренин.
Мысли его горбились и опадали, будто волны в семь баллов на подходе к Авачинской бухте. Слава Богу, не в шторм, а именно в семибалльности беспокойства. Взбаломучена была и душа подсобного рабочего Куропёлкина.
Иногда он вспоминал о башмаке с акульей пастью (зубы у акулы были, правда, из деревянных гвоздиков острием вверх). Башмак всё ещё стоял в прихожей. Попал он туда, и сомневаться не стоило, в сопровождении горничной Дуняши и явно был либо предупреждением, либо подсказкой, как повести себя при обострении нынешней ночи. Впрочем, мало ли чего добивалась на самом деле хитрющая горничная. Никакие обострения были теперь Куропёлкину не нужны, и он погасил в себе мысли о башмаке.
Ну, вонючий, ну, рваный, без сапожных парфюмов и аромазитированных вакс, он Куропёлкина не раздражал, пускай стоит, решил Куропёлкин. Башмак воняет, если кто незваный и возмутится, пусть зажимает ноздри и подносит к носу платок от Пака Рабанна (видел в рекламе).
Проказница Дуняша! Или провокаторша…
Завтра, решил Куропёлкин, попрошу её сварить суп из этого башмака и пусть дегустирует его.
Но получалось так, будто он оттягивает ритуал облачения себя в спецбельё, осмотра его технического состояния и подготовку его к безошибочной эксплуатации.
В спецбельё ему опять были определены футбольные трусы традиционного покроя (и длины), но на этот раз трусы он получил никакие не динамовские. А какого клуба и из какого города, неизвестно. Это Куропёлкина вначале встревожило. А потом он подумал, что, может быть, так и надо. Свежий клуб, свежая энергия, боязнь (у свежего ночного комплекта — боязнь опозориться, будет служить верным и старательным бойцом-охранником: «Рады стараться, ваше благородие господин Старший матрос!»). И так далее. Куропёлкин скоро убедил себя в том, что трусы являются частью формы команды «Луч-Энергия» из Владивостока. Чёрное с жёлтым. «Вы мужик — энергоёмкий!» — совсем недавно Куропёлкин услышал от кого-то. От кого? Не важно. Но как понимать — энергоёмкий? Это он много, что ли, в себя энергии втягивает? Или, напротив, сидит, вместив в себя множество энергий (из Тихого океана, например) и не знает, что с ними делать?
Не важно! Не важно! Куропёлкин натянул на себя совершенно-секретные тихоокеанские трусы.
В нетерпении натянул.
А потому и забыл о существенном.
И не сразу вспомнил об этом.
Да как тут не забыть, если он сразу же ощутил торжество нерушимой крепости! Он был теперь бастион Раевского. Он был неприступен. Ложные блажи исчезли. Он был холоден, как ледник Федченко.
И стал наконец-то спокоен. До того спокоен, что задремал…
82
Дремотное его состояние было нарушено стуком в дверь.
Камеристки Вера и Соня явились с розыском.
Тут-то Куропёлкин и вспомнил о существенном.
Именно камеристки имели право оснащать Шахерезада ночным спецбельём и сопровождать в опочивальню.
— Ба! — поморщилась Соня. — Башмак-то ещё сильнее воняет!
— Вот наш Евгений Макарович, — сказала Вера, — наверное, и угорел от своего башмака. А Нина Аркадьевна уже прикатила в господский дом.
— Я готов! — воскликнул Куропёлкин.
— Оно и видно! — усмехнулась Соня. — Но мы обязаны проверить соблюдение техники безопасности, качество по ГОСТУ и силу крепления сегодняшнего спецбелья. Снимайте трусы, Евгений Макарович.
Не получилось. Спецбельё приложилось к Куропёлкину второй кожей. Вера и Соня пытались освободить тело Куропёлкина от совершенно-секретной шкуры, но не вышло.
— Значит, действительно, — задумалась Вера, — спецбельё не китайское, а, как и уверяли нас, произведено нашей космической фирмой.
— И материал, видишь, — согласилась Соня, — из нанотехнологий для выходов в открытый космос. Слышишь, прямо звенит. Броня.
— Точно! — обрадовался Куропёлкин и пропел: «Броня крепка, и танки наши быстры, а наши люди — хули говорить!»
— Фи, Евгений Макарович! — воскликнула Соня. — Да что же вы такое поёте? Как можно с такими словами появляться в опочивальне Нины Аркадьевны?
— А что же в них дурного? — рассмеялся Куропёлкин. — Это мотопехотные слова, и флотские! В ту ночь решили самураи… а наши их… (удержался от уточнения флотскими словами)… Это гимн броне! И спасибо, что вы меня ею снабдили!
Камеристки посчитали необходимым всё же — для игры в совесть — хоть кое-как, хоть на глазок проверить надежность спецкомплекта. Но оттянуть и на сантиметр от тела Куропёлкина космический материал не получилось. Оставалось проверить состояние подсобного рабочего и его брони на ощупь. Проверкой камеристки, да и сам Куропёлкин остались довольны.
И повели его в господский дом.
Башмак по-прежнему вонял. И будто бы ухмылялся.
83
Нина Аркадьевна появилась в опочивальне в половине одиннадцатого.
Оживлённая, весёлая, помолодевшая.
Праздничная.
Вчера Куропёлкин не разглядел её новую стрижку. Сегодня разглядел.
На Купчиху, позволявшую себе посещать ночной клуб «Прапорщики в грибных местах», она никак не походила.
Не могла такая женщина, пусть и не поднося к глазам перламутрово-театрального бинокля, наблюдать за провинциально-местечковыми мучениями даже поручика Звягельского и троих волосатогрудых звёзд ночного театра господина Верчунова. Такую тонко-нежную, просвещённую женщину должно было бы тянуть на концерты в Большой зал Консерватории с участием Спивакова и Башмета. Или — в худшем случае — на представление цирка «Дю Солей».
Наверняка и вульгарный акробат Эжен Куропёлкин был ей теперь противен.
По справедливости.
А как преобразовались движения и повадки Нины Аркадьевны!
Истинно — Нинон!..
Исчезла начальственно-механическая резкость пластики Хозяйки, дамы из Форбс-списка, нынче движениями своими Нина Аркадьевна напоминала Куропёлкину забавную и вовсе не кусачую зверушку, из породы то ли кошачьих, то ли куньих. Даже и выгибы спины зверушки не были злыми и уж тем более чему-то или кому-либо угрожающими.
«И замечательно! — подумал Куропёлкин. — И слава Богу!»
Ко всему прочему.
«Броня крепка, и танки наши быстры, а наши люди…» Уточнение Куропёлкину снова не потребовалось. Главное, что броня действительно была крепка и боеспособна. И следовало высказать благодарность космической промышленности за доброкачественное изделие.
Куропёлкин слышал, что «Буран» испекали в Самаре. Вот спасибо и Самаре.
Не дожидаясь массажных услуг камеристок и втирания ими целебных благовоний, Нина Аркадьевна направилась к койке приготовленного Куропёлкина, и на этот раз не только взлохматила его вихры, но и чмокнула его в лоб. Облобызала.
«Броня крепка…» — принялся успокаивать себя Куропёлкин.
— Как хорошо, что я дома! — радостно воскликнула Звонкова.
И прежде чем предоставила своё тело рукам камеристок, снова подошла к лежанке Куропёлкина, снова погладила подсобного рабочего по головке и облобызала, теперь, как показалось, с особым чувством. Сказала, всё ещё переживая нынешнее событие:
— Нынче прекрасный день! Если бы вы знали, Женечка, какой успех мы с вами имели на симпозиуме! Оригинальность мышления, чуть ли не научного! И прочее. Суждения наши под названием «Взгляд на русскую поэзию нулевого десятилетия» будут опубликованы в каком-то академическом сборнике. Ты молодец, Женечка!
И снова — ласковая женская рука на голове Куропёлкина.
«Броня крепка!» — чуть ли не вышептал Куропёлкин. Броня и впрямь была крепка и боеспособна. Это хорошо. Неужели его и в самом деле переведут из Шахерезадов в советники?
Разволновался не один лишь Куропёлкин. Похоже, смутились и наверняка ко многому привыкшие камеристки. Они явно засуетились, заторопились, возможно, в намерении быстрее освободить госпожу от своего присутствия.
И не мешать.
«Да она пьяная, что ли? — подумал Куропёлкин. — Ну, если не пьяная, то подвыпившая… Имела, стало быть, основания для радостей… Вот если накурилась или приняла дозу, тогда хуже…»
В принципе Куропёлкину было всё равно теперь, пьяная она или принявшая дозу. И так, и эдак могла продолжить куролесить. Или, напротив, сейчас же свалиться и заснуть. Но, пожалуй, вариант с наркотой был бы ему куда неприятнее, нежели нынешние алкогольные удовольствия госпожи Звонковой. В наркоте был беспросвет, а беспросвет в жизни Нины Аркадьевны был для Куропёлкина нежелателен.
Почему?
Куропёлкин и себе не вызвался бы отвечать сейчас, почему… Имел опыт. Насмотрелся на ширялок. Пусть и немногих. Быть вблизи одной из них Куропёлкину не хотелось.
Но вот процедуры были завершены, и обнажённая госпожа Звонкова проводила камеристок к двери опочивальни. И тут Куропёлкин понял, что Нина Аркадьевна не пьяна, а всего лишь именно возбуждённая, для чего и впрямь имелись причины. Ну, может быть, осушила несколько рюмок, не исключалось, что и существенного напитка. Но движения её не казались сейчас критическими или рискованными, а пластика обновлённой в Париже Звонковой по-прежнему вызывала восхищение подсобного рабочего, и это его обрадовало. То есть ни о каком беспросвете и речи не могло идти.
Хотя ему-то что?
А Нина Аркадьевна о нём будто бы забыла. Ей явно недоставало сейчас в опочивальне зеркала. Тело её, пожелавшее осуществлять себя в стихиях танца или в ритмике ритуальных движений восточной женщины, требовало отражений в зеркалах Версальского дворца. Но отражалось оно лишь в глазах восторженного Куропёлкина.
А Куропёлкину приходилось остужать себя и напоминать себе о том, что он уже не Женечка и никакой не советник, а всего лишь нанятый Шахерезад. И как Шахерезаду, должно было ему войти в состояние сосредоточенности и внимания, то есть быть готовым к умной (смешно!), во всяком случае к обязательной, по условиям контракта, беседе с работодательницей. О чём же придётся говорить? Если о прибывшей, наконец-то, сегодня «Анне Карениной», то тут было всё проще простого. «Не брал! Не брал! Не брал! И не давал! И отстаньте!». «Китайская пейзажная живопись» и Овидий с Апулеем, это ладно. И здесь Куропёлкин поплавать не мог, а о китайских видениях гор, туманов, дождей в зелёных распадинах он и вовсе не отказался бы посудачить с Ниной Аркадьевной и сравнить при этом китайских и японских художников (то есть высказаться по поводу своих впечатлений от выставок во Владике).
— Нина Аркадьевна, — кротко спросил Куропёлкин, — какая у нас нынче ночная культурная программа?
Госпожа работодательница прекратила на минуту своё пребывание в стихии радостного танца. Опустилась со звёзд на доски опочивальни. Вспомнила о Куропёлкине.
— Женечка! — рассмеялась Звонкова. — Какая может быть сейчас культурная программа! Главное — упорхнуть от всех дел и забот в сон!
Но вместо того, чтобы направиться к своему алькову, она снова подошла к лежанке Куропёлкина, присела на верблюжье одеяло, стала ворошить его волосы, наклонилась к его лицу, коснувшись его грудью, расцеловала, прошептала:
— Женечка! Мне так уютно и спокойно с тобой…
Но тотчас встала, видимо вспомнив о чём-то важном. И отправилась к ситцевому алькову. Укрылась одеялом. Впрочем, освободив лицо, сказала:
— Я, Женечка, устала. Я вся в томлении. Или — в истоме. Никаких лекций и рассуждений, никакой китайской живописи, она потерпит. Если только расскажешь об Овидии и «Золотом осле»… Но недолго.
То, что долгий разговор она не выдержит, Нина Аркадьевна подтвердила сразу же. Только Куропёлкин сообщил госпоже о начальных приключениях героя Апулея, как она несомненно и безоговорочно заснула. На этот раз даже и с мгновениями храпа. Возможно, залегла неудобно и обидно для органов дыхания.
Возможно, она и туфли позабыла снять.
При появлении Нины Аркадьевны в опочивальне Куропёлкин, естественно, не мог не заметить, что она разгуливает по крашеным доскам пола не босиком и не в шлёпанцах, как обычно, а в туфлях на каблуках сантиметров десять ростом (глаз Куропёлкина). Ясно, что из Парижа или Милана.
И вот теперь она наверняка рухнула в сон, не сбросив с ног парижские обновки. Камеристки при проведении процедур вряд ли бы решились посоветовать снять их. Хотя свежие, нерастоптанные, они могли стеснять ступни Нины Аркадьевны и причинять боли её нежной натуре.
Мысли Куропёлкина слоились в разброде.
Но не чувства.
Чувствам был отдан единственно возможный приказ. Никаких томлений и истом! Застыть, заледенеть! Не пикнуть! Не вспоминать и о броне. Мало ли что…
И всё!
А мысли копошились, вползая смутой и растерянностью в душу Куропёлкина. Женечка, с ним в опочивальне женщине комфортно и спокойно, тёплая (или жаркая?) рука её ласкает его голову, губы её целуют его щеки и ухо, язык её проникает к его языку и любезничает с ним… Как это всё понимать? Как это всё оценить? Как отвечать на действия Нины Аркадьевны, Нинон?
А никак. Не берите, Евгений Макарович, в голову. Лежите себе смирно, терпите. Исполняйте условия контракта. Может, секундный каприз подвёл работодательницу к его лежанке. Может, блажь какая или игра. А то может, и проверка, вызванная, с брызгами шампанского, возбуждением хозяйки от удач во всемирном бизнесе… Дотерпи, Евгений Макарович, до утра. Утро, как известно…
Легко сказать, дотерпи! Даже если он и закрывал глаза, видение тела Нины Аркадьевны не пропадало. А потому Куропёлкин и не старался отводить глаза от ситцев алькова, оправдывая свой интерес беспокойством (по контракту) подсобного рабочего (о том, что он побывал в артистах, он, похоже, забыл) по поводу лёгкости снов работодательницы или, напротив, каких-либо затруднений в них.
А затруднения, несомненно, были. Мёртвый поначалу сон спящей красавицы скоро стал взволнованно-беспокойным. Нина Аркадьевна, не открывая глаз, будто сотворяла какие-то приятные ей движения, руки бродили по её телу, ласкали соски грудей, гладили живот, опускались ниже, при этом госпожа постанывала и вздрагивала. Потом она рывком, сбросив одеяло снова в глубину алькова, перевернулась на живот. Лежала на животе, вздрагивала сильнее, чуть ли не дёргалась, парижские туфли, похоже, и впрямь остались обузой на её ногах, причиняя ей боль, и Куропёлкин, ради облегчения страданий утомлённой женщины, решился на поступок. Встал. Стараясь передвигаться бесшумно, подошёл к алькову, остановился в сомнении. Но женщина прошептала со сладостной надеждой: «Женечка!», и Куропёлкин отважился освободить её от болей.
Он снял грубой своей рукой туфлю с левой ноги Нинон, и тут в опочивальне прозвучал резкий треск. Куропёлкин запоздало понял, что с треском была разрушена броня совершенно-секретного белья и разрушена справедливо восставшим естеством его натуры.
— Женечка! Войди в меня! — томно-призывное услышал Куропёлкин. Или ему показалось, что он услышал это.
И он вошёл.
Ноги Нинон раздвинулись, спина её прогнулась, приподняв бёдра, никаких возражений против присутствия в её теле не последовало, напротив, Куропёлкин почувствовал, что ему тут рады, так продолжалось минут сорок, женщина помогала ему (и себе), постанывала, шептала: «Да! Да!», «Ещё!», «Быстрее!», «Быстрее!», и так продолжалось до мгновений, когда оба они взлетели в выси и опали оттуда в беззвучье альковных простыней.
84
Беззвучье вышло недолгим.
— Негодяй! — вскричала госпожа Звонкова. И не вскричала даже, а заорала базарной бабой. — Что вы делаете?
— Пересказывал вам, — пробормотал Куропёлкин, — сюжет «Золотого осла» Апулея… Вы просили…
— Негодяй! Мерзавец! — кричала Звонкова. — Охрана! В Люк его! В Люк! И немедленно!
85
— Естественно, ваше сиятельство! — радостно ответствовал дворецкий Трескучий, якобы где-то пропадавший. — Сейчас же и в Люк!
Место уединения в поместье госпожи Звонковой превратилось сейчас в место общественное, подуказное… «В общественных местах»… Какие только люди не явились сюда ради спасения спящей красавицы. Но, конечно, дворовая челядь не была допущена в опочивальню. Вот и горничной Дуняши Куропёлкин не увидел в толпе, готовой к самосуду. Впрочем, может ли увидеть подробности человек, которого разгневанные собеседники имеют поводы разорвать на куски, подвесить к крюку на потолке или даже поджарить на костре и сожрать? И вдруг Куропёлкин, не соображая, что делает, вскричал:
— Земля имеет форму чемодана!
А Нина Аркадьевна, миллиардер, её сиятельство госпожа Звонкова, уже наспех задрапированная камеристками в жёлтые и синие ткани, возвышалась в алькове и, вытянув руку со вскинутым над подданными сверкающим мечом (меч Куропёлкину привиделся, сверкали перстни на пальцах госпожи), повелевала голосом… (опять же показалось Куропёлкину, чушь вползала ему в голову) голосом Екатерины Великой:
— В Люк негодяя! В Люк!
— Земля имеет форму чемодана! — снова выкрикнул Куропёлкин.
Нина Аркадьевна, похоже, опешила. Похоже, утверждение, озвученное сейчас сменным Шахерезадом, было ей знакомо. Но смятение Звонковой продолжалось недолго. Свирепость раздосадованной императрицы вернулась к ней. Она взревела:
— В Люк! Незамедлительно! Сейчас же!
Большой палец её левой руки указывал вниз, на доски пола.
— Повинуюсь! — трагиком произнёс господин Трескучий. И тут же расхохотался, вызвав несоответствием жанру действа возмущение хозяйки. Поняв это, рухнул на пол, проявив готовность подставить шею палачу или самому сейчас же спрыгнуть в Люк. Хотя попытался и разжалобить хозяйку:
— Простите, ваше сиятельство… Торжествует справедливость… Не удержался… Наконец-то негодяй проявил себя!
— Никаких личных торжеств и никаких промедлений! — продолжала кричать Звонкова.
«Ведьма! Ведьма!» — поставил печать Куропёлкин, не обнаруживший, впрочем, при теле притянувшей его женщины ни хвоста, ни какого-либо пушистого или хотя бы колючего отростка.
— Последняя просьба! — вклинился в крики Звонковой Куропёлкин.
Молодцы Трескучего, сопровождавшие совсем недавно мадам Купчиху в клуб «Прапорщики в грибных местах», заломили руки Куропёлкину и согнули его.
— Пусть говорит! — дозволила Звонкова.
— Верните тельняшку! Чистую! — потребовал Куропёлкин.
— Что ещё? — спросила Звонкова.
В это мгновение Куропёлкин углядел в сборище ретивых и любопытствующих лицо шоколадной горничной Дуняши. И эта пробилась в опочивальню…
«А не потребовать ли ещё в придачу к тельняшке башмак? Пусть он и вонючий…» — ворвалось вдруг в сознание Куропёлкина желание. Но оно тотчас было признано им нелепым и бессмысленным, и отклонено.
86
За дверью опочивальни на голову Куропёлкину был наброшен плотный колпак без прорезей для глаз. Зачем? Может, это было сделано ради соответствия церемониям здешних казней? Одному из молодцов Трескучего, видимо, было доверено снять с Куропёлкина побеждённую им секретно-смирительную броню (будто ордена или эполеты с него срывали, барабанная дробь при этом прозвучала зловеще). Тут же преступника освободили от колпака и позволили натянуть на себя джинсы и тельняшку, действительно, чистую и даже выглаженную. Обувью Куропёлкина не снабдили, так что и вонючий башмак был бы сейчас на нём неуместен.
Шпагу над его головой не ломали. При этом, видимо, учитывали требования Табели о рангах.
Под барабанную дробь и стон контрабаса прибыла мусорная машина. Куропёлкина зацепили за пояс крюком крана и подняли на помост кузова. Там уже стояли люди Трескучего, наверняка в фиолетовом, и те принялись впихивать, вминать Куропёлкина в чёрный контейнер, уже набитый, видимо, в городе мусором.
— Погодите! — услышал Куропёлкин голос господина Трескучего. — Вздёрните его!
Крюком мусоровоза Куропёлкина выдернули из контейнера и воздвигли в воздухе над автомобилем.
— Ну что, умник, Фуко Ларош? — рассмеялся Трескучий. — Понял теперь, что гуманитарные науки ведут в никуда?
Куропёлкин готов был с горячностью возразить, в гуманитарных науках он, к сожалению, мыльный пузырь, мокрое или пустое место, именно к сожалению, но подумал, что слова его будут посчитаны Трескучим попыткой угодить ему и промолчал.
— Ладно! — сказал Трескучий. — Я сегодня счастлив и щедр. Правда моя! А потому для облегчения мук и последнего удовольствия готов предложить татю и вору стакан водки. Если не возражаешь.
— Не возражаю, — сказал Куропёлкин.
— А может, и не стакан, а пол-литровую кружку?
— Да, — сказал Куропёлкин, — кружка будет полезнее.
— Поставьте его на твёрдую плоскость! — распорядился Трескучий.
Опустили на помост. Вручили пивную кружку, заполненную до верху светлой жидкостью, тремя передыхами, чтобы не закашляться, Куропёлкин жидкость проглотил. Крякнул.
— Закуску? — спросил Трескучий.
— Какую вам не жалко.
Ко рту Куропёлкина подали дольку лимона. Проглотил. Сказал:
— Спасибо. Но надо бы вовремя.
— Ну, всё! — приказал Трескучий, стоял он в кабриолете с откинутой крышей и будто бы готов был принимать парад в день Независимости в любой освободившей себя стране. — Упаковывайте его и везите к Люку.
Куропёлкина снова принялись вминать и упихивать вовнутрь сокровищ нынешнего сбора. После добродетельной акции господина Трескучего, то есть после восприятия дарованного пол-литра водки, Куропёлкин должен был быть хотя бы добродушнее в чувствах к окружающему его миру и незлоблив к ударам судьбы. Или вообще не чувствовать их и всяческие подробности, сопровождающие их не чувствовать. Петь, как Паваротти, о солнце мио, и всё. Ничего подобного. Всё было, как было. Он был вмят в ящик с мусором. И сразу ощутил, что сидит на половине разбитого унитаза и под ним течёт бурая жидкость из других унитазов, что лоб его притиснут к какой-то книжке, отодвинувшись на полсантиметра, он увидел, что книжка имеет название: «Мужчина после сорока» и часть страниц из неё вырвана («А мне ещё до сорока — шесть лет»), книжка съехала ему на плечо, на голову же Куропёлкину навалились гнилые листья капусты с изделиями детских желудков, это ладно, а вот явные отбросы какого-то японского ресторана стали сразу же угнетать Куропёлкина. Потом на контейнер слили желеобразную дрянь, отчего вокруг Куропёлкина возникло сильное канализационное удручение. «Как бы у меня тельняшка не провоняла», — озаботился Куропёлкин.
— Ну, всё, можно доставлять! — услышал Куропёлкин.
— Доставляйте!
И тут же Куропёлкин увидел, что возле его голой правой пятки стоит знакомый башмак. И башмак этот совершенно не вонял.
Минут десять понадобилось на то, чтобы мусорная машина, не поспешая, на манер похоронных лафетов видных особ государства, приблизилась к Люку.
— Как будем? Контейнером? Или за руки за ноги? — прозвучал вопрос.
— С персональным уважением, — был ответ. — За руки и за ноги.
Была включена над контейнером запись совершенно неоправданной нынче музыки польского романтика, автора, между прочим, «Собачьего вальса» (Куропёлкин видел по Культуре передачу о печальной истории «Собачьего вальса», сам играл его на баяне). В Куропёлкина вонзились соображения о мусороперерабатывающем производстве и о том, кем он выйдет оттуда — прессованным ли куском пивных дрожжей или брикетом хозяйственного мыла…
— Начинайте! — прозвучало. — И в последнюю свою секунду вбей в себе в башку! Гуманитарные науки ведут в никуда!
И ведь молодцы выволокли его из контейнера за руки и за ноги, вынуждены были завопить: «Эх, дубинушка, сама пошла!», как ни странно, Куропёлкину в последний его миг привиделось, как он лежит в солнечный день на берегу тихоструйной Вычегды и слушает вздохи волн светлой реки.
87
Солнце слепило в глаза Куропёлкину. Он лежал на мокром песке. И боялся открывать глаза. Дважды открывал и увидел: вода. Но это была не Вычегда. Это было море. Или океан.
Но может, это было не то и не другое. Может, это был Тот Свет.
Тишина озадачила Куропёлкина. Ни море, ни океан перед ним не звучали. Вода была бесшумная и идеально гладкая, будто лёд хоккейного катка. Но воду ото льда Куропёлкин был способен отличить и сейчас. Лёд не лёд, но никаких движений в водоёме не происходило. Лишь рябь солнечных бликов оживляла поверхность водоёма, и то — будто бы сама по себе.
И ничто у Куропёлкина не болело.
Значит, Тот Свет.
Однако птицы… Летали над Куропёлкиным и то и дело пикировали на нечто, привлекающее их внизу.
Куропёлкин приподнялся на локтях и попробовал осмотреться.
И тут же понял, что всё у него болит, и если он не в аду и ему не сочли необходимым сообщить об этом, то, стало быть, он живой.
«Гуманитарные науки ведут в никуда!» — вспомнилось Куропёлкину.
Вот тебе и в никуда…
При этом выяснилось, что сильнее всего болят у Куропёлкина левое плечо и левая сторона головы, и, по познаниям Евгения Макаровича, моряка, акробата и артиста, не по внутренним причинам, а вследствие ушибов, будто отправленного в Люк преступника не раз ударяло в какой-то угол, не обязательно Пятый! Куропёлкин мельком, но всё же углядел, что справа и слева от него тянутся невысокие темно-серые холмы (сопки?), а сзади к морю-океану подходит лесок…
Теперь Куропёлкин ощутил не только боли, но и нестерпимую жажду. А за его спиной в леске слышалось журчание.
Встать Куропёлкин не смог, но получилось доползти до деревьев леска (тут до Куропёлкина наконец-то дошло, что в леске растут не берёзы и не осины, а развесистые пальмы). Был обнаружен ручеёк, и, лакая из него пресную воду, Куропёлкин пролежал полчаса. Отполз на место прежнего своего пребывания, посчитал, что отыскивать пищу под пальмами и на их ветвях пока не стоит. И сил нет, и обожраться до заворота кишок было можно. Решил полежать вблизи воды ещё часок. А то и подремать.
Он уже ощущал, что здешний песок совсем не мокрый, а обжигает, последние влажности тельняшки изошли паром, и надо искупаться, но и на это у него не возникло сил.
Закрыл глаза. И начались грёзы.
Кто он? Колумб? Или Робинзон Крузо? То есть кем ему приятнее было бы проснуться? Вспомнилось: «Колумб Америку открыл, чтоб доказать Земли вращенье…». Чушь какая! Про морехода и открывателя Нового Света Куропёлкин прочитал много. На какой хрен ему надо было доказывать Земли вращенье? Он отправился в плавание за какой-то корицей, ванилью и всякими прочими пряностями. И был обременён всемирным государственным тщеславием и государственной же ответственностью. Зачем они Куропёлкину?
Другое дело Робинзон Крузо, сотрапезник капитана. Он не собирался что-либо доказывать человечеству Открытием, он просто был флотский, но с ним случилось Крушение. А потому Куропёлкину логичнее было соотносить себя с Робинзоном. При этом возникала очевидная надежда. Робинзон, помнилось Куропёлкину, был поощрён подарками Океана, виноватого в кораблекрушении. И теперь Куропёлкину следовало ожидать от вод Океана поднесений, какие помогли бы ему сохранять и устраивать жизнь в условиях одиночества. В мечтаниях его среди полезных подарков сейчас же возникли бочонок с ромом, бочонок же с порохом, ружьё или какое-нибудь другое подходящее стреляющее оружие, набор плотницких инструментов, ящик с банками говяжьей тушёнки, посуда, нож с вилкой и воспитанная, непривередливая коза. Не лишними были бы тулуп ночного сторожа и зонтик от дневного солнца…
Но при бесплодном безветрии вряд ли что-либо могло было быть принесено водой на прибрежный песок.
И всё же Куропёлкин приоткрыл один глаз.
И увидел: метрах в пяти от него что-то плавает. Что-то будто кожаное. И на песке уже что-то белеет. «Неужели плавает бурдюк с ромом?» — мысль об этом вызвала взрыв энергии в Куропёлкине.
Теперь Куропёлкин смог вскочить и броситься в воду. Увы, плавающий предмет оказался всего лишь знакомым башмаком с акульей пастью от щедрот горничной Дуняши. А белевшее на песке огорчило Куропёлкина ещё хлеще. Это была зеленоватая брошюра «Мужчина после сорока» (перевод с польского), к которой злые люди совсем недавно заставили Куропёлкина притиснуться лбом.
Впрочем, отчего же — совсем недавно? Может быть, год назад. Или сто лет назад?
Надежды Куропёлкина получить дары на манер приобретений Робинзона Крузо никем не были приняты во внимание. «На хрен ты нам сдался, дядя! — ответил ему Океан. — Получай, что заслужил!» Под ноги Куропёлкину, а песок уже обжигал их, был вытолкнут взятый в рамку со стеклом в трещинах фотографический, раскрашенный ретушёром портрет Дуче Муссолини (Куропёлкин вспомнил: да, был такой рядом с ним в контейнере, но с чего бы в московском мусоре оказался портрет Дуче?). Следом вынесло здоровенный пакет с китайскими петардами. Болтались на воде открытки с романтическими ликами скромной учителки и политической шалуньи (или страдалицы за народ) из Партии Шуб. Единственно, что обрадовало Куропёлкина, — это две упаковки Останкинских сливочных сосисок. Упаковки были просроченные. Но что было теперь для Куропёлкина непросроченным?
Куропёлкин решил размять ноги. Походил. И увидел: серо-синеватые холмы, справа и слева от него вовсе и не холмы и не сопки, а киты, скорее всего усопшие. Сами ли они выбросились на песок и улеглись на нём по экологическим надобностям, или их вместе с ним, Куропёлкиным, выплеснула непредвиденная московскими синоптиками волна, Куропёлкину выяснять было неохота. Тем более что правая рука его нащупала в кармане джинсов зажигалку. Прежде там её не было. Но возможно, и джинсы его выгладили (хотя какой идиот гладит джинсы?) и по рассеянности сунули в его карман собственную зажигалку. А потому о китах мысли надо было отложить, а думать следовало сейчас (сейчас же!) о сосисках («президенты, как и дети, любят есть сосиски эти…») и восполнить силы энергоёмкого организма, Куропёлкин, чуть ли не прыгая (надо было натянуть хотя бы башмак), добрался до леска, наломал на каких-то кустах под пальмами сухих ветвей, нанизал на прутья просроченные останкинские, сливочные, сотворил костёр и отправил в желудок, забыв о завороте кишок, обе упаковки, для кого-то признанные мусором.
Теперь можно было рассмотреть китов.
88
Осмотру помешали вертолёты.
Два вертолёта ползли по небу издалека и пока — почти бесшумно.
Куропёлкин перепугался. Хотя, что могло перепугать заблудшего неизвестно куда, в его-то нынешнем положении?
Вот что. Мысль дурацкая. А вдруг в вертолёте, в одном из них, сидит всемогущий дворецкий Трескучий с бумагами контракта и как только долетит, так и возьмёт за шиворот подсобного рабочего и вернёт его в распоряжение бизнес-бабы. Вот что. А та его, негодяя, — в Люк! Этот поворот мысли позволил Куропёлкину заулыбаться и освободил его от неудобств и глупостей в ощущениях. Он мог порвать на себе рубаху и прокричать в водные просторы: «Нате, жрите! Бросайте в Люк!».
Однако на нём была не рубаха. А рвать тельняшку Куропёлкин посчитал делом постыдным. Или даже греховным.
И вообще надо было забыть о Люке.
Был ли он в реальности, этот Люк? Может, какая неведомая Куропёлкину сила перенесла его сюда. Куда сюда? Ясно, что не на берег подмосковного водохранилища при Канале, куда Трескучему ничего не стоило добраться за полчаса на автомобиле. Воздух ощущался Куропёлкиным морской.
Но вот незадача с башмаком…
Зачем он был подброшен Куропёлкину? И отчего на него, достаточно рваного и вонючего, не обратили внимания расхваленные батутные устройства подземного сапожника Бавыкина? По логике они должны были бы выделить из мусора не только башмак, но и самого Куропёлкина.
Не выделили и не забрали ни башмак, ни Куропёлкина.
Или вся дрянь из контейнера Трескучего и его фиолетовых людей была отправлена в путешествие, минуя Люк? А тот существовал лишь для устрашения граждан.
А вдруг, а может быть (и ещё — может быть!), теория Бавыкина, выпускника МИИТа, факультет Мосты и Туннели, диплом с отличием, теория о том, что Земля имеет форму Чемодана, была подтверждена, и он, Куропёлкин, вместе с Башмаком оказались первыми пилотами, послужившими этому подтверждению?
«Нет, это чушь и бред!» — отругал себя Куропёлкин. А ведь сам орал недавно (главное, опять — недавно!), в памятную ночь, в ночь Золотого Осла: «Земля имеет форму Чемодана!». И одна мелочь вертелась в сознании: «А как же боли в левом плече и левой стороне головы…» То есть, по опыту и представлениям Куропёлкина, такого рода ушибы могли быть связаны с ударами тела, тем более проглотившего пол-литровую кружку народного напитка, о несомненные углы. А шар, как известно, углов не имеет.
Но это мнение Куропёлкин решил держать при себе. До поры до времени…
89
Тем более что, пока он, сытый, нежился на горячем песке, блуждая в ложных углах своих соображений, подлетели два вертолёта и, распугав бездельно-наглых птиц, принялись кружить над китами.
Куропёлкин, спохватившись, бросился было бежать к леску, под сень пальм, но сразу понял, что бегущий, да и ползущий по-пластунски, и даже вкопавшийся в песок, умными приборами вертушек он всё равно будет замечен и удостоится охоты. А потому застыл на песке, раскинув руки, будто был, как и каждый исследуемый кит, выброшенно-усопший.
90
Так он пролежал почти два часа, пока вертолёты, закончив работу, не улетели восвояси.
Разведку провели, теперь должны были появиться люди, призванные выяснить причины очередной гибели китов. Когда их доставят, воздухом или водой, можно было только предполагать, но Куропёлкин посчитал, что произойдёт это скоро. Но для того, чтобы не попасть в неприятную для него ситуацию, Куропёлкину нужно было передвигаться по раскалённому песку. Стало быть, требовалось обзавестись какой-нибудь обувью.
Башмак оказался даже свободнее сорок четвёртого размера Куропёлкина, но с ноги не сваливался. А вот для правой ноги подыскать достойное приспособление вышло делом маетным. Попадались какие-то фанерки, дощечки, пачка подарочных физиономий московской светской мадмуазели в нераспакованном целлофане, но они для подошв были нехороши. Наконец в двух шагах от берега Куропёлкин увидел синюю грелку с дырой у горлышка для пробки (а уже попался ему на глаза узкий шнур от послевоенного телефона) и, стянув резиновую подошву шнуром, изготовил сносную пляжную обувь.
Запахи морей Куропёлкин знал. Не всех, конечно… Дважды обошёл глобус (по теории Бавыкина — чемодан, стало быть — обогнул) водными дорогами, однажды — на паруснике, через год — с изменениями курсов и заходов в гавани во время визитов дружбы. Нынешняя вода Тихим или Великим океаном не пахла. Видимо, Куропёлкин находился теперь в Западном полушарии. По легкомысленному суждению Куропёлкина, пробоина Бавыкина должна была бы иметь выход в Колумбии. По поводу Западного полушария необходимо было ожидать расположения звёзд в ночном небе. Куропёлкин посчитал, что разумнее было бы ночевать где-нибудь под пальмами. Ко встречам с местными властями и разговорам с ними Куропёлкин не был готов. Образование не позволяло. Не обогатило его знанием иноземных языков. Сплести бы вблизи пальм какой-нибудь шалашик, не допустить в него клопов и муравьев-термитов и продрыхнуть в нём до десанта экологов. И при их высадке прикинуться глухонемым и потерявшим память.
Сейчас же вспомнил: а каннибалы? А пираты? Поспишь тут! И выбрал простейшее решение. Закопаться в песок. Отдохнуть. Успокоиться. И обдумать: что с ним и как быть дальше. При подлётах вертушек солнце так било Куропёлкину в глаза, что он не смог определить, какой страны были эти тяжёлые стрекозы. То, что они не принадлежали Вашингтону, Куропёлкин всё же понял.
Солнце тем временем потихоньку перебиралось по небу вдоль берега с китами, левыми от Куропёлкина, опускаясь при этом к грубостям и несуразностям Земли. Стало быть, прямо перед Куропёлкиным был Север (интересно, где находился Северный полюс на Чемодане Бавыкина?)… Тут с предполагаемого Востока потянул ветерок. И завоняло. Вспомнилось сразу, из детства, слышанное от кого-то из вернувшихся в Волокушку «от хозяина»: «Один американец засунул в жопу палец и вытащил оттуда говна четыре пуда…»
Но при чём тут американец?
Завоняло знакомой Куропёлкину московской канализацией.
Кое-какие догадки Куропёлкин тут же запретил себе выстраивать.
Но всё же…
Запрещённые догадки не думали подчиняться разуму Куропёлкина и дерзили ему назло. А может, они были вызваны чувствами самосохранения, в нём, как ни странно, не истреблёнными.
«А киты? — соображал Куропёлкин. — Мы-то в Москве ко всему привыкли. И всё выдюжим. И запахи, и лекарства, и пищевые добавки, и курс рубля, и егэ, и братьев Фурсенко, и золотые голоса с фанерными шарманками, а киты-то, нежные создания природы… Они-то как? Им-то как?» Не из них ли, в частности, приготовляют тончайшего свойства шедевры парфюма? И вот теперь не с ним ли, Куропёлкиным, через пробоину Бавыкина в среду обитания китов попали отвратительные отходы людских привычек и удовольствий? Они-то наверняка вызвали у китов физические, погибельные страдания и душевную тоску, подтолкнувшую водных млекопитающих к групповому самоубийству? Или — в случае их выброса на горячий песок — к публичному самосожжению.
Тоскливо стало и на душе Куропёлкина (донимали бы его в детстве столовыми ложками рыбьего жира, тоска его могла быть сейчас менее острой). А так он лежал в горячем ещё песке с чувством вины. Если бы он не стал рассказывать Нине Аркадьевне сюжет «Золотого осла» (а он на самом деле и не стал рассказывать, брал теперь на себя лишнее), может, эти морские скотины и резвились бы сейчас в своей стихии, здоровые и мордатые, и испускали бы из себя петергофские фонтаны. И всё же Нина Аркадьевна была прекрасна — и в проходах по опочивальне, и в алькове, и даже когда она, возвысившись над подданными, повелевала в гневе:
— В Люк! В Люк негодяя! В Люк!
Конечно, он поступил тогда не благородно, но жалеть о чём-либо сейчас не собирался. Тем более что ужасы воображённого им мусороперерабатывающего производства его миновали.
Будем считать, что миновали…
91
А солнце при этих его мыслях опустилось в нагретое им, солнцем, место. И быстро стало темнеть.
Каша соображений продолжала вариться в голове Куропёлкина. Выбраться на прогулку ему было лень. Вся энергия удалилась из него в песок. Из новых соображений явилось такое. А не у подножия ли вулкана он расположился? Так горяч был песок. Куропёлкин видел в киносюжетах. В песке ли, в иной ли мягкой почве неподалёку от вулкана туземцы тушили мясо, коптили рыбу, варили яйца вкрутую, запекали птицу. Да, именно так. Куропёлкин обеспокоился. А может, в акте запекания яиц преступника и заключался воспитательный смысл Люка, и вовсе не в порче курортной местности запахами городских отбросов. После придирчивой проверки Куропёлкин убедился в том, что, даже если его мысль о назначении Люка верна, в случае с ним никаких перевоспитаний не добились. Но скорее всего мысль была глупостью. Зато зашевелилось другое беспокойство. А вдруг что-нибудь учинит Луна с её приливами и отливами? А насчёт их, здешних, Куропёлкин представления не имел. И надо было бы, наверное, выбраться куда-нибудь повыше, на террасы леска с пальмами. Но там могли квартировать ползучие ядовитые гады. Или хуже того — лениво-безобидные на вид удавы, каким наверняка надоело переваривать мохнатых мартышек.
Но эти мысли Куропёлкина проглотила лень. «Что будет, то будет! — решил Куропёлкин. — Дождусь экологов, а там посмотрим…»
И заснул в тепле странного своего путешествия. Не сняв Башмака и грелки-галоши.
92
Но разбудили его вовсе не экологи.
Разбудили резко, грубо, силовым усилием патрульного мента («Этого — в вытрезвитель!») или копа. Все они одинаковые.
Фонарём плеснули в глаза.
Небо было чёрное. Куропёлкин успел увидеть звёзды. Карибы. Или Мексиканский залив.
Эко его занесло.
Приказано было встать.
Сам виноват. Вылез по пояс из тепла приютившего его песка на свежий воздух, и вот — пожалуйста…
Хорошо хоть не Сомали. Хорошо хоть не пираты.
А кто? Эти, что ли, лучше? Рожи бандитские, смуглые. Усы, как лопасти вертолёта. Чёрные тараканы. Латиносы.
У берега покачивался катер береговой охраны.
Двое латиносов, с «калашниковыми» для устрашения врагов, жестами повелели Куропёлкину идти к катеру. Друг с другом общались на испанском. Или на португальском. Кто их знает… Куропёлкин не знал. Форма подсказала: не кубинцы. А жаль. Кубинцы могли знать хоть какие-нибудь русские слова. Не судьба. Стало быть, предстояло оставаться глухонемым. Латиносы по дороге к катеру веселились, обсуждая обувь Куропёлкина, наверняка допускали оскорблявшие пленника шутки, но могли ли они обидеть глухонемого и скорее всего — умственно отсталого. Впрочем, матерные слова он расслышал бы и понял бы их, но словарный запас конвоиров был удивительно беден. Латиносы были однолики, но у одного из них Куропёлкин углядел рыжие пятна на виске и в усах. «Подпалый», — определил Куропёлкин. Именно Подпалый показался ему старшим на катере. Латиносы о чём-то спросили Куропёлкина, но поняли, что от его мычания толку выйдет мало. Болтали друг с другом. Подпалый выложил на столик фотографии и стал тыкать в них пальцем. Черноусый, в тексте старой румбы — Кукарача, с доводами старшего согласился. Куропёлкин изловчился взглянуть на снимки. Так. Латиносы разглядывали знакомый уже Куропёлкину берег с двумя рядами замерших китов и идиота в тельняшке на песке, раскинувшего руки на манер распятого страстотерпца.
93
Кукарача подтолкнул Куропёлкина к пристенному столику с фотографиями, сделанными с высоты и укрупненными, выкрикнул что-то Куропёлкину, проворонившему подлёт вертушек (видимо: мол, это ты?), Куропёлкин кивнул. Подпалый тотчас связался по рации, надо полагать, с начальством, сообщил, кого они изловили среди китов. Тут же Куропёлкину был отдан приказ раздеться. При этом с особым ожиданием и даже удовольствием сторожевые люди смотрели на его обувь. Куропёлкин покачал головой, мол, стесняюсь оказаться голым. Тогда с него уже без слов содрали тельняшку, и Кукарача удивлённо — радостно вскричал:
— Песо!
94
В руке у него покачивался целлофановый пакет с расчётной суммой, выданной Куропёлкину мироедом Верчуновым в день прощания с ночным клубом «Прапорщики в грибных местах».
Возмущение, а по-иному — нервное потрясение, чуть было не вернуло Куропёлкину голос. Но он проявил силу воли и не заговорил. Обследовали сейчас же джинсы и трусы возвращённого к жизни утопленника. Трусы обыкновенные, домашние, всё же были оставлены Куропёлкину, скорее всего, он попал на берег страны католиков, морально устойчивых. Джинсы же были изувечены ножом и бритвами, однако никаких тайников с кладами в них не обнаружили, и обрезки их полетели в воду. Куропёлкин, а к нему так и не вернулись голос и слух, бросился к воде, будто бы желая вернуть штаны, но был остановлен ударом Кукарачи. Однако изловчился сбросить в воду спасательный круг. Теперь Подпалый и Кукарача (Куропёлкин был уже уверен, что Кукарача состоит исключительно из фуражки и усов) принялись изучать десерт.
То есть Башмак и шлёпанец из резиновой грелки.
Для новых беспокойств у Куропёлкина причин вроде бы уже не было. Одно его насторожило. Обнаружив упаковку с песо, по мнению Куропёлкина заметно потолстевшую (возможно, Верчунов ощутил в подбрюшье рези совести и отправил своему бывшему артисту премию, но каким способом?), Подпалый о находке начальству по рации заявлений не сделал, а со значением поглядел в глаза Кукарачи. Возможно, послал понятный тому пиратский сигнал.
Кукарача кивнул и принялся изучать Башмак. Не забыл и нож. Действия Кукарачи (тот сразу прошептал: «…инглиш…») вызвали яростное возмущение Куропёлкина. А главное — сострадание к заслуженному предмету обуви и спутнику Куропёлкина в неведомом прежде путешествии, по сути своей — первооткрывателю.
Однако Башмак повёл себя вполне прилично. Выдержал пытки и ни единой медной монеты из себя не выпустил. А вот когда Кукарача с Подпалым воздвигли на столике дизайн-проект из синей резиновой грелки, Куропёлкин разволновался. А из-за чего, собственно? Да, для удобства передвижений по песку он в «пятку» шлёпанца стелькой или чуть ли не каблуком всё же вместил (засунул) нераспечатанную пачку (колоду) подарочных открыток с фотографиями ловкопорхающей мамзели. И вот теперь пальцы Кукарачи явно нащупали пачку, выволокли её из резинового чрева, и Кукарача снова имел повод вскричать:
— Песо! Контрабанда!
95
В его руке опять трепыхался пакет с денежными знаками.
И — из переглядов Подпалого и Кукарачи — стало понятно Куропёлкину, что проблему с контрабандой и песо, в частности и из сейфа мироеда Верчунова, будут решать здесь же на катере без всяких докладов начальству. Тут-то и состоялось нервное потрясение, позволившее возвратиться потерянному голосу Куропёлкина.
— Я — рашен! — заорал Куропёлкин. — Доставляйте меня к консулу!
И для достоверности заявления принялся бить себя в грудь: «Рашен!».
Теперь онемел Подпалый. Возможно, мысли его перекрутились в попытках соотнести появление рашена с отвратительными запахами во вселенной и выбросом на песок безответственных животных.
— Рашен? — физиономистом засомневался Подпалый.
— Рашен, рашен, — подтвердил Куропёлкин. — Уес, уес!
Кукарача скривил рожу, мол, не верю.
— Раша субмарина! — произнёс Куропёлкин, развивая легенду, должную произвести впечатление. И пальцами обеих рук указал вниз, как он полагал, на дно Океана. — Крушение, капут, финиш, ай, я, — и взлёт кистей вверх, с разгрёбом рук по-лягушачьи, мол, всплыл, и вот он один, уан фор экипаж…
Слеза могла покатиться по щеке Куропёлкина.
— Субмарина… Рашен… Нэйм? — строго спросил Подпалый.
— «Волокушка»! — незамедлительно ответил Куропёлкин. — Атом… Реактор… Пожар… Фойёр!.. Там… Внизу… Миля отсюда, меньше… — И решительный жест в сторону, к востоку от берега с китами.
А там уже вылезала из воды Луна.
Куропёлкин полагал, что сведения о затонувшей атомной подводной лодке (русской причём) должны были быть немедленно доведены до руководства не только мелкой (видимо) страны Подпалого и Кукарачи, но и до администрации Белого Дома и вызвать беспокойство в мире. Или во всяком случае интерес к его, Куропёлкина, личности.
Но Подпалый к рации не прикоснулся. То есть с контрабандой и песо, понял Куропёлкин, дело было решенное, да и со своей атомной субмариной «Волокушкой» он, пожалуй, перестарался. Лишние хлопоты и опасности никому не нужны.
— Пить… — просипел Куропёлкин. Просипел опять же для усиления драматизма просьбы.
Пил долго, проливая пресную воду из протянутой ему фляги на грудь, икать начал. Потребовал:
— Ром!
Подпалый, изображая гостеприимного доброжелателя, передал ему бутылку со светло-бурой жидкостью. На этикетке Куропёлкин углядел слова: «Республика Доминикана». Вот, значит, он где. Хотя, конечно, и ром мог оказаться контрабандным. Во всяком случае, вкус он имел достойный, и к нему были бы вполне уместны одноглазый попугай в бандане, с боцманскими манерами, и пиастры. И ему ли, Куропёлкину, пережившему драму субмарины «Волокушка», должно было терпеть снисходительное к нему отношение каких-то карибских бандитов? Ко всему прочему, отобравших у него пиастры!
— Субмарина… «Волокушка»… СОС… Морзе!.. — напомнил Куропёлкин.
— Уес! Уес! — успокоил его Подпалый.
Сейчас же заработал двигатель катера, и сторожевая посудина побрела в сторону Луны.
Прошло полчаса, а никаких разговоров по рации так и не происходило, Подпалый же с Кукарачей сигналили друг другу глазами, и Куропёлкину ничего не стоило разгадывать эти сигналы. А Кукарача потянул его на палубу катера, якобы с интересом — куда дальше-то плыть к субмарине? Хитёр был Куропёлкин и ловок, однако не смог уберечься от ожидаемого им подвоха и был сокрушён ударом чего-то тяжёлого по затылку.
96
Его выбросили за борт. И он утонул.
97
Тем не менее он сидел на садовой скамье, крашенной белилами, и смотрел на Луну.
Сидел одуревший, будто его ударили по башке именно пыльным мешком. Ни крови, ни содранной кожи Куропёлкин не обнаружил, ну, шишка, правда, была. Возможно, нечто тяжелое или даже острое по джентльменским традициям доминиканосов было упаковано во что-то щадяще-ватное. Потерявший сознание Куропёлкин, из уважения к традициям и из вежливости, обязан был утонуть. Однако он сидел на скамье и смог даже прочитать на одной из досок спинки слова «Парк „Останкино“», выведенные казённой инвентарной краской. Рядом же перочинным ножиком вырезали — «Федька — дурак!». То есть скамья принадлежала Москве и должна была стоять на аллее невдалеке от телебашни. А она плыла и везла куда-то продрогшего Куропёлкина.
«А как сейчас она? — подумал Куропёлкин. — Наверняка не может заснуть и мается у себя в алькове. Или смотрит в тоске на эту же самую Луну…»
Ему бы вспомнить о часовых поясах и уж точно сразу же схватить огнетушитель и залить свою дурацкую башку пеной. Но откуда Куропёлкин мог добыть здесь огнетушитель?
А у этой в опочивальне размещен сейчас очередной Шахерезад, завидовать кому не стоило.
«Черти о чём ты думаешь?!» — начал Куропёлкин деликатно, но тут же перешёл на боцманские слова.
И вдруг понял, что ему в мире всё безразлично. И собственная его жизнь-планида, и киты на берегу, и нагло-трусливые жулики-доминиканосы, и пакеты с песо, и очередной Шахерезад, и бабёнка Звонкова, то ли ведьма, то ли просто стерва…
И надо было сейчас же сползти со скамьи и утопиться…
98
«Это из-за стервы и ведьмы, что ли, утопиться?» — сейчас же возмутился Куропёлкин.
Нет, утоплением наказывать себя вышло бы делом позорным, сползать со скамьи он не стал. И даже убрал из воды ноги. Вспомнил, что совсем недавно на них была обувь. Потеря Башмака отчего-то снова расстроила Куропёлкина.
Впрочем, в Башмаке-то мародёры, даже и отодрав подошву, ничего не нашли. Башмак отплыл в прошлое. Важным для Куропёлкина стало теперь не уже случившееся с ним, а то, что могло произойти дальше. Важным и интересным.
Разъяснение непонятностей, обрушившихся на него в последнюю пору, а стало быть, и оценку степени своей вины в странных (для него) событиях Куропёлкин решил отложить на потом, сейчас же главным было — не избегать никаких новых испытаний (приключений!), истребить в себе страхи и даже позволить себе порой быть беспечным. И пусть всё идёт, как идёт. По воле волн.
Но волн-то сейчас не было.
Или были?
Ведь скамья-то из Останкинского парка куда-то плыла.
Но от скамьи пахло берегом усопших китов. Или содержимым контейнера, куда старательные услужники Трескучего и Звонковой засунули, вмяли его, нарушившего приличия подсобного рабочего Куропёлкина.
Вспомнил: на разбойном катере бандос Кукарача то и дело зажимал нос, сплевывал и бормотал:
— Гуано!
Вполне возможно, это бормотание было частью подвоха, с целью ввести матроса с субмарины «Волокушка» в раздражение, а взволнованного, его и огреть.
Слово «гуано», действительно, раздражало Куропёлкина. Он знал, что гуано было особым достоянием государства Чили, происхождением своим связанным с птичьим помётом, то есть с чем-то жидким, способным с лёту, с высот извратить наряды людей и имеющим жалко-упрощённый запах. Разве могло их гуано сравниться с нашим, крепким и выразительным!
Не могло!
Неожиданный порыв ветра подкрепил мысли Куропёлкина. Знакомые ароматы усилились. Неужели останкинская скамья, сама, по своей воле, возвращалась к берегу с китами? А ведь рябь на воде стала лишь чуть рельефнее. Или, может, здесь существовало глубинное течение (либо даже оно только что возникло или кем-то было возбуждено), какому должно было вернуть Куропёлкина к месту его вчерашнего обретения чувств и сознания? Но зачем кому-либо было необходимо (выгодно) вертеть Куропёлкина в углу водного пространства, им пока неопознанного и неназванного? Или, может, его желает всосать пробоина Бавыкина в недра Чемодана и вернуть его в хозяйство госпожи Звонковой. Ну уж нет! Да, он позволял себе порой быть и беспечным, но не да такой же степени! Хватит кататься обобранным дураком на парковой скамейке и вдыхать ароматы то ли московских мусорных сборов, то ли переливы продуктов тления усопших китов, то ли выхлопы от пузырей лежавшей на дне субмарины «Волокушка». Хватит. Хватит торчать здесь и ждать от кого-то помощи или исполнения заслуженного им наказания. Надо искать Землю!
Надо ощутить себя навигатором и мореплавателем! И вперёд! Пока не полный. Но вперёд!
99
Впрочем, какую именно Землю искать, Куропёлкин не знал.
Какую-нибудь. Твёрдую. Сушу. Большую Сушу. Материк. Хотя он был бы согласен и на остров. Необитаемо-таинственный. Без людоедов. И с магазином-баром под пальмой. И чтобы хозяйкой в нём при пивном кране была горничная Дуняша. Она же шоколадница. И чтобы никакие посудины к их острову не шлялись.
100
Тут автор (то есть я) считает необходимым объявить читателям истории Евгения Макаровича Куропёлкина, если такие сыщутся (или образуются), что ни в мореплавании, ни в навигационном деле он ничего не смыслит. Ни по каким морям не ходил, ну, если только прокатился однажды на теплоходе с бассейном из Сухума до Ялты. Про приливы и отливы я читал лишь в книгах. Оттуда же пришли ко мне слова «астролябия» и «секстан». Никогда не бывал я в Западном полушарии, где, по убеждению Куропёлкина, он находился сейчас. Не имею никакого представления об особенностях тамошнего водного, подводного и сухопутного мира, неизвестны мне в реалиях приметы быта земного пространства, куда занесло Куропёлкина. Не загорал я на пляжах Флориды и Мексиканского залива. Не наслаждался диксилендами Нью-Орлеана. Не видел акул. Лишь кое-что стало известно мне о вынужденных хождениях Куропёлкина как по воде, так и по суху. Это кое-что известное возбудило во мне фантазии, скорее всего косвенные и искажающие суть произошедшего.
А возможно, и не фантазии вовсе, а так, смысловые вариации.
101
Как бы этого ни хотелось Куропёлкину, но скамья с ним прибыла именно к берегу усопших китов. Впрочем, вышло, что оно и к лучшему. Случились неожиданные, но полезные приобретения.
Может, где-то там, в поместье госпожи Звонковой, уже был репрессирован и отправлен в Люк очередной Шахерезад. А может, прибило, даже подчиняясь лени и неге штиля, а потому и с опозданием, к берегу китов отправленные еще вчера изделия человеческих организмов и творения людских рук, пришедшие в негодность? Или, может, и впрямь всё это были свидетельства недавнего (предусмотренного Дефо) кораблекрушения, ставшие нынче трофеями адмирала Куропёлкина.
Где-то к востоку от берега китов услышались теперь дальние (относительно дальние) металлические звуки, голоса моторов, лязги и звяканья, солнце вот-вот должно было вынырнуть из воды, прогрев, где следует, в тамошние дневные часы — по необходимости расписания, антиподов из дальних стран, где люди ходят вверх ногами и не сваливаясь при этом в глубины космоса с овального бока глобуса. А стало быть, должны были объявиться экологи, а может, и морские спецы с намерением выяснить, присутствует ли где-то на дне русская субмарина «Волокушка». Или нет.
И значит, надо было срочно удирать отсюда. Куда-нибудь подальше.
Среди приобретений же Куропёлкина самым важным было признано весло. Почти все остальные обновки были уложены им в пластиковый пакет, полтора метра на метр, и должны были послужить Куропёлкину в дальнем путешествии. Среди них оказались предметы, явно не имевшие отношения к жизни среднерусской равнины, они нарушали не только предположение Куропёлкина о том, что гибель китов была следствием выброса отходов одной из восточноевропейских столиц, но и усиливали сомнения в верности теории Бавыкина.
Да и Башмак, ныне утраченный, этому сомнению способствовал. Но что-то обидное, унизительное даже, было в осознании Куропёлкиным того, что он мог залететь в Икс-тропические пределы, минуя Люк. К мысли о сути и статусе Люка он привык. Поиски нового смысла можно было произвести только со скрежетом и гудением извилин.
Облегчение приносили лишь мысли о Бермудах. Тут где-то рядом должны были располагаться Бермуды. И не вписывалась ли их геометрическая фигура в один из углов Бавыкинского Чемодана?
Но вдруг его, Куропёлкина, занесло в Заграничье Земли, в какой-нибудь параллельный мир (Куропёлкин почитывал и американскую фантастику), откуда вернуться к нормальной жизни, скажем в ночной клуб «Прапорщики в грибных местах», было бы чрезвычайно затрудительно.
Успокаивало гипсовое весло.
Вряд ли такое весло могло завестись в параллельном мире. Вполне возможно, оно происходило из того же парка, что и скамья морехода. Или скамья-мореход. Свет Луны был достаточен для того, чтобы разглядеть надпись на лопасти весла: «из коллекции Удавкина». То есть стояла в парке вполне благонамеренная девушка с веслом, молодая, крепкая, в гипсовом же купальнике, никому не мешала. Но стала антиквариатом. И находчивые умельцы-собиратели поделили её аккуратно, разобрали, распилили чуть ли не приёмами щепетильных реставраторов. И было добыто девушкино весло, без единого сколка и огрызка арматуры. Но возможно, оно надоело собирателю и было выброшено в мусорный контейнер.
Куропёлкин опробовал весло в воде, было оно тяжеловато, но гребки им вышли обнадёживающими. Обзавёлся Куропёлкин и запасным веслом — дворницким скребком для зимних климатических рекордов. И скребок «кыргыза Чолпона с Дмитровки» (выцарапано ножом) плавал нынче вблизи китов.
102
Пластиковый пакет и запасное весло были приторочены к парковому сухогрузу, и Куропёлкин, перекрестившись, отправился в плавание, сам не зная куда.
Где находятся «Норд», «Ост», «Зюйд» и «Вест», он, естественно, определил, но карт не имел. Что было бы, если бы он двинул на Север, куда его влекли интуиция и логика (оттуда по-прежнему слышались металлические звуки людских усердий), он мог лишь предполагать — там наверняка состоялась бы новая встреча с Подпалым и Кукарачей, а снова увидеть их рожи Куропёлкин не желал.
Забыл сообщить, что Куропёлкин среди прочих дармовых подарков кораблекрушения обнаружил на песке офицерскую плащ-палатку с капюшоном, продырявленную и в порезах, но полезную при ночных сыростях и прохладах. Накинул её на плечи, влез на сиденье скамьи, раскачивая средство передвижения, отыскал центр тяжести. И с помощью гипсового весла превратился в каноиста.
Емеля на печи! Мореход на парковой скамье!
Как тут не рассмеяться! Над собою, дураком!
Ну, посмеялся! А дальше-то что?
И направил скамью подальше от китов и звякающей суеты возможных поисков сгинувшей субмарины «Волокушка», курсом на норд-вест.
103
И поплыла скамья, должная стоять на парковой аллее…
Далее рассказ о хождении Куропёлкина к Большой Суши пойдёт сбивчивый, лоскутный, а то и состоящий из клочков.
И будет в нём больше фантазий и предположений автора, нежели смутных впечатлений Куропёлкина, ставших известными мне позже.
Куропёлкин, доверявший фарту Тихоокеанского флота и своему нюху (можно сказать, полинюху, то есть знанию девятнадцати запахов пройденных им морей и запахов и вкуса их воды), по-прежнему был убеждён, что находится в Мексиканском заливе.
Но в каком месте залива, сказать бы он не решился. Залив был до вредности большой.
Если бы у него была навигаторская карта, он мог бы сообразить, что ему было бы выгоднее взять курс на норд-ост, а потом повернуть на запад, тогда бы он не потерял двух суток. По крайней мере. К островам, малым и средней протяжённости, подходить он опасался, мало ли какие чудаки продолжали жить на них, даже выезжая порой на летние Олимпийские игры ради медалей в спринтерских дисциплинах. Прежние здешние дикари-гурманы ещё во времена путешествия Колумба в Индию были замечены в увлечении каннибализмом. Карибы, Бермуды, что с них взять! И получилось так, что, исхитряясь избежать встреч с ними, каноист Куропёлкин проплутал в мелких проливах и совершенно напрасно (о чём узнал позже) обогнул с юга Кубу и вышел к западу от её подбрюшья. Далее никаких суш вокруг не виделось. И теперь Куропёлкин отважился идти прямо на Север.
104
Из слов Куропёлкина позже мне стало понятно, что движение его посудины происходило главным образом ночами.
Но и по ночам на просторах Мексиканского (согласимся с Куропёлкиным) залива было тесно. Да и над водными просторами этими много чего летало. И в водах под Куропёлкиным, не всюду, конечно, какие-то фосфоресцирующие мелочи светились, водили хороводы и куролесили, названий и сути их Куропёлкин, к своему стыду, не знал… При мысли об этом соображения Куропёлкина остановились и замерли. Пожалуй, что и замёрзли. Но тут же и отогрелись, породив в Куропёлкине чувство удивления. И вот почему. О стыде он вспомнил лишь в связи с собственным незнанием сути каких-то подводных светляков и их научных кличек! Вот тебе раз! Более Куропёлкин вроде бы ничего не стыдился. И ни в чём и ни перед кем не был виноват!
«Ни в чём не виноват! — постановил Куропёлкин. — И нечего стыдиться!»
Чувства вины и стыда вышли бы сейчас кандалами и наручниками гребца гипсовым веслом.
Убрав из своих соображений «стыд» и «вину», Куропёлкин посчитал, что он, как мореход, боится выглядеть смешным и оттого стесняется передвигаться в дневные часы. И было из-за чего стесняться! Представляете, босой детина, в тельняшке и трусах c курочками (днём Куропёлкин, естественно, сбрасывал с себя плащ-палатку, беспорочный штиль был установлен здесь будто бы навечно), стоял в позе каноиста на каких-то сбитых досках непонятного назначения и греб странным предметом неизвестно куда и неизвестно зачем.
Поначалу Куропёлкин при приближении к нему и титаников, и пижонских яхт, ясно, что без парусов, но с топ-красотками и с прогуливающимися повесами, и мелких рыбацких фелюг бросал на доски скамьи весло (выходило, что сушил), укладывался на скамье лицом к спинке, прикрыв голову сложенной плащ-палаткой, и ждал взрывов смеха.
Но никто не смеялся.
Пальцами на него показывали, ему аплодировали с богатых туристских палуб, сдували с холеных ладоней воздушные поцелуи, бросали в воду гостинцы, иные из них в форме бутылей, возможно для того, чтобы поощрить подвиг одержимого одиночки и снабдить вещами, полезными для эксцентрического и опасного путешествия. А может, посетителями зоопарка желали ублажить неведомого им зверя. Две девицы с борта яхты «Отель „Калифорния“» отправили ему для облегчения жизни и уловов морепродуктов огромный сачок, какой мог извлечь из воды и мурену. При этом приветственно завизжали.
Сколько же развелось на Земле добродетельных и сердобольных людей, растрогался Куропёлкин.
Ко скольким же выходкам чудиков, часто совершенно неразумным, они привыкли, что готовы выкрикивать слова «Браво!» даже и дуракам, собравшимся переплыть Атлантический океан в неподгораемой сковороде «Тефаль»?
А он-то кто, Куропёлкин из Волокушки, — чудик-простак или авантюрист по необходимости?
А может, Земля и впрямь имеет форму Чемодана?
105
Тем временем в Москве, невдалеке от проспекта Вернадского…
106
Сачок, презентованный Куропёлкину от щедрот и красот «Отеля „Калифорния“», оказался чрезвычайно полезным…
Но слово «Калифорния» сразу же озаботило и даже огорчило Куропёлкина. Неужели он бродил не по Мексиканскому заливу, а катался на скамейке в Тихом океане?
Тогда получался конфуз. Тогда выходило, что в грибных местах прапорщиков он изнежился, предоставил сухопутной моли шкуру морского волка и не смог отличить запахи Тихого и Атлантического океанов. То есть опозорился.
Кстати, тогда он и сообразил, что воздух вокруг него чист и берегом усопших китов не пахнет.
Принял это к сведению.
Принял, и о Калифорнии постарался забыть. Да и отчего расстроился-то? Это ведь яхта называлась «Отель „Калифорния“»! А если бы на её борту объявлялось — «Отель „Антарктида“»? Что же тогда надо было испугаться — не в гости ли к пингвинам запустили его?
Дурень!
Но требовалось подобрать дары океана и случайных благодетелей его путешествия. Тут-то и пригодился калифорнийский сачок. В дело его Куропёлкин решался направлять лишь когда море вблизи него пустело. Не хотелось на глазах людей посторонних уподоблять себя московским бомжам, промышлявшим на задних дворах с мусорными контейнерами. И нищим, выпрашивающим гуманитарную помощь (картофельный порошок и т. д.), времён свердловского волейболиста, бросившего в приступе властолюбия страну «На шарап!», тоже быть не хотелось. Куропёлкин вытаскивал из воды плавающие предметы и быстро отправлял их в пластиковые пакеты. Ночью однажды осветился рядом со скамьёй Куропёлкина и заверещал рыбацкий катер, смотрела с катера на Куропёлкина грудастая негритянка средних лет, смеялась, а потом швырнула к скамье моток хорошей верёвки. Куропёлкин не успел и криком выразить благодарность доброй душе, но катер тотчас слился с чернотой ночи. А ещё днём долетела до Куропёлкина, знаком восхищения и сочувствия, упаковка скотча. Верёвка, поосновательнее и покрепче бельевой для посушки постирушек во дворах и на балконах, и скотч! Вот это праздник! Вот это радость! Для любого Робинзона. И давно не вязал Куропёлкин морские узлы!..
107
А тем временем в Москве, невдалеке от проспекта Вернадского, на двадцать третьем этаже офиса было созвано экстренно-мажорное совещание. Ждали Нину Аркадьевну Звонкову…
108
Все подарки судьбы Куропёлкиным были осмотрены, иные и обнюханы, оценены и уложены в пластиковые пакеты.
Пакеты же были теперь приторочены к скамье не накрученными в спирали теми же целлофановыми отходами, а скотчем и надёжными верёвками чернокожей рыбачки. Не спеша приторочены. То есть Куропёлкин положил себе не волноваться, не психовать и не торопить себя, а как шли (они со скамьёй), так и идти. Куда-нибудь и придём. Тем более что в его трюмах имелись и жратва и питьё.
Не хватало лишь пиастров. И одноглазого попугая. Ну, и так ладно…
Ром у Куропёлкина, во всяком случае, был.
И не только ром.
Куропёлкин благодушествовал. Вёсла, и гипсовое, и запасное, скребок от кырзыза Чолпона, дворника с Дмитровки, были на ночь привязаны к скамье. Впрочем, после ужина Куропёлкин отвязал гипсовое весло и, прикрыв весло плащ-палаткой, превратил его в подголовник (можно сказать, что и в подушку). Ужин Куропёлкина вышел поздним и комплексным. Косяк мелких рыбёшек, типа наших килек, хамсы, а может, и шпрот, подошёл к кораблю Куропёлкина и любопытствовал. Ещё у берега усопших китов Куропёлкин поднял с песка набор для игры в дартс производства Махоркинского промкомбината братьев Дрызгуновых. С дротиками и мишенями. Во всех сериалах про ментов (теперь про понтов, что ли?) в кабинетах оперов рядом с плакатом «Не болтай!» крепились на стенах мишени детского дартса, и в случаях профессиональных досад лейтенанты, при висяках, метали в них детские же дротики. Куропёлкин посчитал, что может стать рыбобоем (вдруг — акула!). Он не спешил. Рыбёшки не уходили, иные будто тёрлись о деревяшки скамьи. Куропёлкину стало даже неловко открывать охоту на простодушных, видимо, существ. Но раз задумал оборонный (против акул) опыт… К тому же — пусть поймут эти зеваки, к чему может привести простодушие… Привело оно к шести охотничьим трофеям Куропёлкина. Остальные участники опыта с дротиками сейчас же расплылись по своим интересам. Подкинут сострадателями Куропёлкину был и перочинный нож со многими способностями. Им Куропёлкин быстро очистил и распотрошил рыбу. Задумался. Куропёлкин не возражал и против сырой рыбы. Но сейчас заскучал по рыбе жареной…
Однако нынешние переживания требовали и успокаивающей награды. Куропёлкин достал из одного из пакетов бутыль (эту на ощупь), извлёк оттуда же сухой паёк (на случай падения лайнера компании «Айр Франс»). На пайке в прозрачной коробке с запахами стюардессы, несомненно парижанки, лежало нечто стеклянное, пришлось стеклянное вынуть. Оказалось — серьёзных размеров лупа. Как она попала к нему на борт, Куропёлкин не помнил. И что ему было делать с лупой? С совершенно бесполезной вещью? Ну, днём, при солнце, можно было бы, вспомнив детство, попробовать выжечь на верхней доске спинки скамьи какое-нибудь слово. А почему бы нет? Ведь все корабли и яхты имели имена. И ему бы, скажем, выжечь имя «Нинон»… Фу ты! Ещё чего! Но хотя бы поджарить добытую рыбёшку. Однако сейчас висела над Куропёлкиным полная созревшая Луна. И Куропёлкин пожелал начать ужин с бутыли.
Слово «ром», правда, мелкое, под более крупным и жирным, с завитушками, словом, утвердило Куропёлкина в мнении о том, что свирепый указ распоясавшейся госпожи Звонковой превратился для него в путёвку романтического путешествия в тёплых водах, в отпуск, который он, несомненно, заслужил умственными трудами. Даже штиль в этой путёвке был предусмотрен и нарушен быть не мог. Тут возникла странность. На вид бутыль была полна и винокурами закупорена. Нет, выяснилось, что пробку всё же кто-то вытаскивал. И сейчас пробка, подчиняясь пальцам Куропёлкина, тихо выползла из горлышка бутыли. Снизу пробка была обмотана куском плотной бумаги, видимо, для крепости закупорки. Куропёлкин хотел было выкинуть пособницу пробки в воду, но хозяйственный мужик в нём выругался, и Куропёлкин засунул её в потаённый кармашек тельняшки под подбородком, откуда, впрочем, уже были конфискованы Кукарачей запасы песо. При воспоминании о песо, то бишь пиастрах, Куропёлкин резко поднёс бутыль ко рту и с жадностью принял в себя струю исторической жидкости.
Заткнул пробку. Посидел, прижавшись к спинке скамьи. Почувствовал, что скамья не успокоилась на ночь, а куда-то плывёт, не сбавляя хода. Луна же будто застыла в небе. В руках Куропёлкина оказалась лупа, сама, что ли, приползла? Или припрыгала? Куропёлкин повертел лупу, а потом захотел созорничать, стал ловить в пучок лунные лучи. Поймал. Навёл на доску скамьи. Доска зашипела, и, управляя лупой, Куропёлкин вывел на белой деревяшке большую чёрную букву «Н…» Удивился. Уложил на обмытый солёной водой скребок кыргыза Чолпона добытую дротиками рыбу, полил её по хребту ромом (дезинфекция). И направил на неё луч лунного гиперболоида.
109
И рыба зашипела…
И уже через десять минут была прожарена, получив хрустящую, золотистую корочку.
«А может, сапожник Бавыкин прав? И я оказался на чужом боку чемодана в стране антиподов, и здесь Луна — светило, согревающее планету?»
«Без поллитры не разберёшься! — решил Куропёлкин. — Тем более на пустой желудок!»
В коробке, пахнущей, по представлениям Куропёлкина, стюардессой «Айр Франс», была соль, перец, сыры, кусок грудки галльского, надо понимать, петуха, пластмассовые нож, вилка и ложка, то есть ничего интересного для человека, свалившегося с самолётом или его обломками с небес. А вот рыбёшки, размером всё же с хорошую салаку или небольшую сельдь, да ещё и с хрустящей корочкой, да ещё и поперчённые, и промоченные ромом, манили.
Сытым гурманом Куропёлкин посидел в неспешных раздумьях, глазел на Луну — не обратной ли стороной, неизученной и для кого-то тёмной, она была к нему повёрнута, и не из неё ли исходила энергия, способная жарить рыбу и, возможно, вялить и коптить её. При этом Куропёлкин, естественно, не переставал сбулькивать в глотку карибскую жидкость. Через полчаса Луна начала над ним разбухать и дёргаться, а в голове его стали возникать мечтания. Куропёлкин забеспокоился. Штиль штилем, но непредвиденная волна могла вдруг смыть Куропёлкина и превратить его в человека за бортом. В целях безопасности Куропёлкин прилепил себя лентами скотча к корпусу корабля, называемого пока буквой «Н» и приписанного к порту Останкино. Нет, к военно-морской базе Останкино.
Куропёлкин сделал ещё несколько глотков антидепрессанта, но на этот раз увидел, что слово с завитушками над словом «ром» читается как «Великоустюжский», и расстроился. И даже испугался.
«Всё! — приказал себе Куропёлкин. — Надо заставить себя выспаться!»
Впрочем, отдавать себе это приказание вышло делом лишним. Сон немедленно напал на Куропёлкина, утопил в себе, о глубине погружения в него Куропёлкин позже вспомнить не мог. Чернота и всё. Редко, но были случаи, когда Куропёлкин перебирал и оказывался в черноте и неподвижности бесчувствия. Выныривал из них с болями в голове и сухотой во рту. Теперь же тихое возвращение Куропёлкина к смутно-дремотным видениям бытия произошло часа через два. И оно не было тяжким. Первыми принялись щекотать пятки Куропёлкину, потом добрались до его коленей и ласками же стали покусывать мочки его ушей баборыбы, по домашнему — русалки. Они нисколько не встревожили Куропёлкина. Напротив, ощущения его были сладостные, будто он оказался снова восьмиклассником в Волокушке, где к нему во снах являлись жаркие женщины, после чего под ним на простыне оставались мокрые пятна. Теперь же Куропёлкин понял, что у ласкавшей его баборыбы нет чешуи, нет ни единой чешуйки и нет хвоста, обнажённое тело её знакомо прекрасно, он узнал её и прошептал: «Нинон!», блаженное его состояние должно было длиться вечно…
Но тут в Куропёлкина будто бы стало что-то толкаться, жёстко-колючее, и не только толкаться, но и раскачивать его и прижимать к чему-то твёрдому, сладость дремоты сменилась испугом и болью, он разодрал склеенные веки. Он прозрел.
Перед ним была не Нинон, не даже баборыба. А была Акулья пасть. Челюсти.
Добросовестно исполненные ленты скотча помешали резким движениям Куропёлкина, однако он всё же привстал, столкнув в воду плащ-палатку, а реакция акробата, не растраченная им, помогла его расторопности, и он в мгновение всунул, всадил в пасть акулы гипсовое весло.
Акула сжала челюсти, желая избавиться от ненужной ей дряни или заглотать её, вполне возможно, гипс при этом раскрошился, но сталь завода «Серп и молот» не подвела, и острия прутьев арматуры Девушки с веслом пропороли её пасть и зашили её.
И Акула, испытывая, видимо, болевые спазмы, дергаясь, унырнула в прогретые солнцем (или луной?) глубины. Не направилась ли она на знакомый Куропёлкину берег в компанию к китам?
Во сне ли это происходило или наяву, Куропёлкин не сразу понял. Потом понял. Весла у него теперь не было.
А на верхней доске парковой скамьи чернело выжженное — «Нинон»…
110
В Москве, неподалёку от проспекта Вернадского, на двадцать третьем этаже офиса холдинга госпожи Звонковой проходило совещание. Третье за последние дни по привычному уже сюжету.
Нина Аркадьевна спустилась из своих кабинетов, и хотя вызывала сегодня легкие мысли о Катрин Денёв или даже о Брижит Бардо времён Бабетты, сотрудники ждали от неё всего, в частности, редкого для неё взрыва сумасбродства. Или самодурства.
Экраны операционного зала на трёх стенах, словно бы в хозяйстве режиссера теленовостей, были включены, и на нескольких из них полёживали смирные киты.
— Это новые материалы? — спросила Звонкова.
— Сегодня получены, — сообщил оператор у пульта.
— Начинайте с панорамы, — сказала Нина Аркадьевна.
Тотчас же на экранах возникли общие планы южного моря с берегом большого острова и рядом — крупные планы фрагментов запрошенной госпожой Звонковой панорамы. Создавалось впечатление, что там, в южном море, произошёл подводный взрыв с выбросом на гладь воды всяческих предметов, как цельных, так и раскуроченных. Правда, исключительных свойств штиль как бы протестовал против мнения о взрыве и выбросах. Однако на восточном берегу острова Гаити, в Доминиканской республике, лежали теперь безжизненными десятки китов. А с ними и их вожак. Один из экспертов, с манерами и изяществами выпускника МГИМО, доложил Нине Аркадьевне, что у специалистов за три дня исследования выработались два объяснения происшествия. Первое: пищевое отравление совокупно с воздействием неопознанных газов. Второе: киты совершили коллективное самоубийство, вызванное скорее всего провокационными проповедями о конце света вожака-сектанта, возможно, человека амфибии, удостоенного их доверием.
— Покажите его! — потребовала Звонкова.
Показали.
На экранах появился кадр с вожаком-сектантом. В протяжённой линии китов был разрыв, и в нём на песке возлежало существо мелкое, в тельняшке и в цветастых трусах от грубого персонажа мульфильма «Ну, погоди!». Существо было признано человеком, скорее всего, мужского пола. Впрочем, последнее требовалось ещё подтвердить. Так вот, предполагаемый мужик валялся в середине китоповала в некоей жертвенной позе, раскинув руки, и выглядел таким же бездыханным, как и смущённые его проповедями водяные великаны.
— Увеличить, Нина Аркадьевна?
— Подождите, — сказала Звонкова.
Она будто ждала каких-то событий. И дождалась.
— Снимали с вертолёта, — пояснил оператор.
Правая рука мужика в тельняшке дёрнулась, поднялась и принялась почёсывать полосатую грудь. Приподнял мужик и голову. Глаза его оставались закрытыми. В них било солнце.
— Теперь увеличьте! — потребовала Звонкова.
Увеличили. Лицо мужика сразу заняло всё пространство большого экрана. На других экранах мужик продолжал привставать, тереть глаза, начал оглядываться и зажал нос, видимо, здешние запахи были ему неприятны.
— Дайте голограмму! — распорядилась Звонкова.
Сейчас же возникло голографическое изображение изучаемого объекта.
— Это как понимать? — в гневе обратилась Звонкова к тихо сидевшему на совещании Трескучему.
Трескучий, будто сжавшийся в секунду, пожал плечами.
— Это он! — вскричала Звонкова.
— Он… — прошептал Трескучий.
— Так, — сдерживая себя, сдерживая рычание в себе, произнесла Звонкова. — Изловить и…
— И повесить! — подсказал ещё один эксперт, молоденький, МГИМО он, надо полагать, не кончал.
— Что? — взревела Звонкова.
— Изловить и повесить… — пробормотал молоденький. — Я просто процитировал Пушкина… Сцена на литовской границе… Бегство Гришки Отрепьева… Извините… Не удержался…
А сам уже понимал, что извинения его не спасут.
— Изловить и доставить! — приказала Звонкова.
Телефонный звонок призвал её в иные деловые места.
— Изловить и доставить! — повторила Звонкова уже у дверей.
— При американских-то порядках, Нина Аркадьевна! — взмолился Трескучий. — Как же тут…
— Мы ведь и не знаем, где он теперь, — сказал оператор. — И они не знают. Мы лишь ищем и исследуем…
— Вот и исследуйте! — бросила Звонкова. — Но в любом случае. Изловить и доставить!
111
А и сам Куропёлкин не знал, где он теперь.
И в какую сторону гнать велосипед, то есть грести запасным веслом, нынче уже дворницким скребком кыргыза Чолпона, он не знал.
Да и надоело ему путешествие.
А очень скоро он попал в зону необъяснимой мути (мути ли, облака ли какого, богатого наркотическими парами — от конопли, маковых семян, от листьев коки или от вредностей химии, либо ещё чего-то, ему неведомого?), и представления о дальнейших его хождениях по морям и океанам стали совершенно смутными. Хотя, конечно, что-то он всё же соображал. Муть — смутное — смута в нём соединились. И он посчитал, ради простоты восприятия собственного соображения, что выпил в моменты благодушия какую-то смутную дрянь.
Слово «палёное» Куропёлкин не употреблял. Его придумали несведущие люди.
Но что-то он выпил, несомненно, смутное (или смутившее его) из дармовщины первого дня его странствия на парковой скамье «Нинон» (тогда ему было будто бы всё равно — странствия куда и зачем, теперь же в мгновения прояснений мыслей эти «куда и зачем» Куропёлкина беспокоили). Куда и зачем? И что ждёт его по прибытии на твёрдости суши?
Может, и не надо никуда плыть?
Первый опустошённый им сосуд Куропёлкин выбросил за борт ради украшения дна. И, несмотря на сомнения, остались в его памяти слова этикетки: «Великоустюжский ром».
Великий Устюг, радующий людей поблизости от Котласа и Сольвычегодска, километрах в сорока от них, а стало быть, и доступный для жителей Волокушки, содержал не только Дедов Морозов и ёлочных Снегурочек с их почтовыми отделениями и бумажными складами детских иллюзий, но и, породив, отправил в дороги дальние многих известных мореплавателей и открывателей новых земель. Были на то причины. Любопытствующий посетитель музеев в Сольвычегодске и Устюге Куропёлкин, естественно, не мог не знать их имена. И сейчас их не забыл. Ерофей Хабаров, Семён Дежнёв, обогнувший Чукотку, Владимир Атласов, погулявший по Камчатке, Василий Шилов, сообщивший миру об Алеутских островах. И им в студёных водах не благосодействовали ни удивительные штили, ни горячие пески под пальмами.
Но в пору Семёна Дежнёва не было Менделеева. И, стало быть, не было водки. Однако мореходы, особенно в ледовитых водоёмах, дабы не удручить организмы хворями, да и просто для бодрости духа, вынуждены были согревать себя. И отчего же им было не допустить к целебному употреблению проверенный открывателями Америки напиток? Так что не следовало относиться с сомнением к этикетке «Великоустюжский ром». (Но были ли во времена Дежнёва этикетки? Вряд ли…) Не важно. И Куропёлкин, со страстью фаната и земляка выгораживая добродетели Великого Устюга, считал, что дрянь он, по рассеянности, употребил лишь после приставания (непредвиденного) к нему акулы. Хотя, казалось бы, не могло быть во вселенной такой дури, какая была бы способна сокрушить организм и порядок мыслей тихоокеанского моряка. На гранитах выбито: «Всё пропьём, но флот не опозорим!».
Оставалось думать, что его и впрямь занесло в параллельный мир.
112
Вскоре последовали этой мысленной блажи подтверждения.
Была ночь, и имелась всё такая же экологически чистая печка в ночной планетарной системе — Луна. И после проглота вскрытых ножом двух банок армейской тушёнки (старики в Волокушке нахваливали военные и послевоенные подачки заморского союзника) Куропёлкин с удовольствием согласился со вкусовыми ощущениями земляков. Рыбу он нынче не гарпунил дротиками, обленился, банок с консервами, казалось ему, должно было хватить дней на десять.
Тушёнка, естественно, была запита. А потом Куропёлкин и просто выпил. Запивал он, как объяснял себе, — для равномерности и благопристойности действий желудка. А пил — от скуки и безделья.
При инспектировании Куропёлкиным трюмов корабля (напомним — пакетов), выяснилось, что бутылей с ромом в них осталось немного, главное в запасах — флаконы (333 гр., как именуется эта ёмкость, Куропёлкин вспомнить не смог) с виски, больше же — с текилой, то есть все — с самогоном…
Наподнабрался, решил Куропёлкин, хватит, и нечего оправдывать себя печальной мордой Луны и параллельными мирами. Сейчас по этой морде (лику оборотному!) слеза потечёт. От полюса к полюсу. Есть ли у Луны полюсы, Куропёлкин засомневался. Да и хрен с ними! И вроде бы жидкости на Луне отсутствовали. Тем более хрен с полюсами и отсутствием на печальном лике жидкостей! Всё опять стало Куропёлкину безразлично, неразумно и могло быть оправдано лишь зевотой.
Лень и безразличие ко всему помешали на этот раз Куропёлкину перед погружением в сон приклеить себя лентами скотча к доскам скамьи.
И это его спасло.
113
Давно уже спокойно-прилежный корабль Куропёлкина «Нинон» был ровен в движении и, по убеждению Куропёлкина, надёжен. И никаких пробоин ожидать в нём не приходилось.
А тут его начало трясти. При штиле-то. «Ну, ладно, — посчитал Куропёлкин. — Потрясёт его, а потом всё и успокоится…» Убаюкавший себя Куропёлкин хотел было закрыть глаза, но увидел, как мимо него по сиденью скамьи прошли три крысы, одна большая, вторая мелкая, крысёнок, третья — большая. Они торопились, но у края скамьи остановились, повернули головы в сторону Куропёлкина и оскалили пасти. Даже крысёнок. И сиганули в воду.
Покинули корабль. Выразили своё отношение к капитану. А может быть, о чём-то попытались предупредить его…
Мерзкие твари.
Поплыли они быстро, умеючи, на норд-вест, и это Куропёлкину надо было запомнить.
Мерзкие твари, но чувствительные. И с соображением. Дрессировать их не берутся.
Откуда они взялись? И где проживали? И не только проживали, сволочи! Но и жирели, жрали гнилые капустные листья, выходит, что и путешествовали. И размножались! Сами, что ли, забрались в мусорные контейнеры ради поисков лучшей доли? Или же не посчитали нужным покидать парковую скамью в надежде на то, что она превратится в корабль «Нинон»? Превратилась, но оказалась предрасположенной к кораблекрушениям…
Скамья под Куропёлкиным начала дергаться, хлебать из океана левым бортом, между досками забили фонтанные струи. Покидать «Нинон» в панике Куропёлкин посчитал делом недостойным судовладельца, и он, будто бы никуда не спеша, стал отвязывать от досок пластиковые пакеты с провизией и предметами снаряжения (освобождал грузовые трюмы). И только когда вокруг «Нинон» забурлила вода и корабль стало втягивать в злую воронку, он оттолкнулся от скамьи и, обвязанный пакетами, резко принялся отдаляться к югу от воронки.
Плыл он кролем, несся скутером, будто ожидал взрыва (а почему бы и нет?), и уткнулся лбом в нечто твёрдое…
Твёрдое пахло резиной, и за него можно было уцепиться руками.
«Покрышка от тяжёлого автомобиля… — сообразил Куропёлкин. — Грузовика…»
Взобрался на палубу покрышки, вытянул ноги, лежал, стараясь отдышаться. Отдышался. Привязал пластиковые пакеты и скребок кыргыза Чолпона к кольцу покрышки. После этих аварийных действий опустил зад в теплый срединный проём покрышки, раскинул руки, успокоился.
Посмотрел на север. Ни воронка, ни тем более скамья «Нинон» невооружённым глазом Куропёлкина обнаружены не были.
Штиль, штиль, штиль.
Но ведь что-то взволновало крыс и утопило «Нинон»!
Пришлось Куропёлкину доставать флакон текилы во вспоможение своим фантазиям и страхам…
114
Дальше в морском хождении Куропёлкина пошла уже и не муть, а черти что…
В том, что он расположился на покрышке от КамАЗа (скоро выяснилось), ещё ничего особенного, пожалуй, не было. Такие покрышки ездили в песках до Дакара, и ничего…
«Погоди! — сказал себе Куропёлкин. — Но Дакар-то вовсе не в Америке, а в Африке!» Сейчас же на ум ему пришёл кинофильм «Пятнадцатилетний капитан», он его, естественно, смотрел. И не раз. Там охотник за насекомыми изловил якобы в Боливии муху цеце и закричал то ли в недоумении, то ли в радости (открытие всё же энтомолога): «Это Африка!» И действительно, негодяй, зловещий работорговец Нэгоро «завёл» шхуну «Пилигрим» с помощью топора, подложенного под компас, в Африку, а именно в Анголу.
Что лезло Куропёлкину в дурную голову! КамАЗ (на покрышке, и вправду, увиделись ему буковки, сообщавшие о том, что она — изделие нижнекамских шинников), Дакар, пески, муха цеце, якобы связанное с ними утопление процветавшей было посудины «Нинон», и при этом — штиль, беззвучный, без ряби на воде, без отливов и приливов, и из-за своей безукоризненности — несомненно, странный. То есть не земной, не реальный. То есть соответствующий нереальности параллельного мира.
Ещё дня два или три мотало Куропёлкина по просторам или, напротив, стеснениям мира параллельного. Ел ли он что-либо в те дни, пил ли, было неважно. Но, похоже, что ел и пил. Во всяком случае, флаконы с текилой являлись позже в видениях Куропёлкину. Даже вкус текилы при этом он чувствовал, и его тошнило. Какие-то существа, похожие на людей, вступали с Куропёлкиным в разговоры, они вытаскивали Куропёлкина из воды (покрышку из Набережных Челнов или Набережных Китов унесло вскоре из-под спавшего Куропёлкина, наш мореход успел лишь ухватить пластиковый пакет и удержал его себе в приданое), так вот, эти существа вытаскивали его на свои судёнушки — катера с сетями, моторные баржи, набитые мексиканцами, возжелавшими жить в богатой стране, остроносые лодки контрабандистов или пиратов. (Но были ли в параллельном мире мексиканцы, богатые страны и пираты?) Эти же существа потом выбрасывали его в ту же воду. Чем-то он становился им неприятен. Из-за чего-то он не подходил параллельному миру.
Неприятие это однажды проявилось ощутимо. И вклеилось в память. Куропёлкин тихо, мало соображая, лежал, прижавшись к низкому борту, можно сказать, плоскодонного дощаника, из-за пропажи ветра ставшего галерой. Отработав гребцом вахту, Куропёлкин и улёгся почивать. Дремоту его нарушил здоровенный, голый по пояс мужик. Кубинец, возможно, то ли контрабандист, то ли проводник в Штаты обнадёживших себя латиносов (хотя опять же, какие могли быть тут Штаты и латиносы?).
Якобы кубинец спросил:
— Русский?
— Русский, — пробормотал Куропёлкин. — Рашен… Иес…
Якобы кубинец нагнулся к Куропёлкину, клешнями своими вцепился в тельняшку собеседника, притянул его к себе, зашипел:
— Песо! Давай! Давай! Гони!
— Какие песо? — всё ещё бормотал Куропёлкин, всё ещё не мог сообразить, где он и чего от него хотят.
— Песо! — теперь уже рычал якобы кубинец, такому с плетью в руках надзирать в Алабаме над рабами из Анголы, завезёнными негодяем Нэгоро. — Песо! Ты угощал песо доминикана! Ты курьер. Ты должен был привезти и нам! Давай! Гони!
— Нихт ферштейн! — только и мог произнести Куропёлкин.
А требователь песо уже начал черными своими лапищами обшаривать несговорчивого русского.
— Песо в сейфе у Верчунова… — принялся было оправдываться Куропёлкин, но тут в нём проснулся и восстал кандидат в мастера спорта международного класса по акробатике, нижний в Пирамидах, и агрессору был даден отпор.
115
Однако тут же возникли осложнения.
Пристававший к Куропёлкину завопил, моля о пощаде. Или призывая кого-то на помощь. К нему тут же приблизились человек семь, видно было, что в выгоде разговора заинтересованных. Сами же они в перекидке между собой слов произносили — «Верчунов», «Мафия», «Москва», опять же «Песо», и Куропёлкин успел подумать, что он, и впрямь, может, болтается не в Мексиканском заливе, а у берегов Колумбии, и неужели Верчунов был связан с колумбийскими наркобаронами?.. Больше он уже ни о чём не думал. Сопротивление Куропёлкина к удаче не привело. Его на этот раз обследовали всерьез, подносили к его телу какой-то суперчувствительный наноприбор, долго водили им по животу задержанного, прикладывали его и к заднице Куропёлкина. Отсутствие при Куропёлкине и в нём самом песо или хотя бы даже каких-то задрипанных долларов вызвало обиду и раздражение исследователей. Они взяли Куропёлкина за руки за ноги и выбросили за борт.
Набежавшей волны и теперь не возникло…
116
Общупанный и обнюханный злыднями пластиковый пакет остался у них трофеем.
И уплыл в никуда вместе со скрывшейся с глаз Куропёлкина усердной галерой.
Одиноким в и так грустной вселенной ощущал себя Куропёлкин. Да и нигде не имел он теперь прописки. Кем он стал по своему гражданскому статусу? Никем. Он в Москве не был бы допущен фейсконтролем даже и в хитровскую ночлежку. И уж тем более в ночной клуб «Прапорщики в грибных местах». А для муниципальных чиновников он уже был невидим и не имел тела. Взвыть хотелось Куропёлкину. Но кому было бы интересно вытьё бесполезного мужика? Кого бы оно растрогало? Никого. Да и издавать громкие и внятные звуки, находясь в позиции пловца на спине, было неудобно. Жалкий, с хрипами, стон бы случился. Жалкий и постыдный.
«А не утопиться ли? — опять подумал Куропёлкин. — Нырнуть и не всплыть. Замереть на дне вместе с субмариной „Волокушка“. И всё…»
Мысль об этом показалась Куропёлкину сладостной. И даже чушь с субмариной в неё легко уложилась, сделала её будто бы совсем убедительной и весомой. И неотложной.
Не раздумывая более, Куропёлкин начал погружение. Оттолкнуться для нырка вниз было, увы, не от чего, но Куропёлкин изловчился сделать под водой кувырок и резко направиться на дно. При этом он будто бы забыл о том, что он флотский, может продержаться под водой (без драйверского, естественно, снаряжения) минуты две с лишним, проныривал и по семьдесят метров, и поэтому, не исключено, что за эти минуты Океан, знакомый с его натурой, сможет заставить его образумиться, не пожелает его убивать и отправит обратно в жизнь на грешной Земле.
Что и случилось.
К тому же известно, что в проруби не тонет, без радости подумал Куропёлкин… Впрочем, как и в тёплой воде…
117
И снова его подобрали.
Подобрала яхта из тех, что в ветрах не нуждается.
Владелец её (предположение автора, потом и робкое предположение Куропёлкина) был миллионером не из первого ряда. Но имел, среди прочего, возможность содержать яхту и катать на ней дам и барышень, отвечавших уровню его культуры и эротических вкусов. Впрочем, об этом Куропёлкин не узнал. Да и на кой ему надо было знать всякие чепуховые подробности!
Получил же он представление о трёх сеньоритах, составивших нынче компанию предполагаемому хозяину яхты.
Помог подняться на борт по трапу Куропёлкину негр в бежевой фуражке с крабом, молодой, но с седыми висками. Три путешественницы за столиком под Луной и китайскими фонариками с интересами наблюдали за появлением на палубе нового пассажира. Смеялись. Куропёлкин к тому времени обогатился новым средством передвижения — гимнастическим конем без ножек, плавать на нём, правда, можно было лишь сидя на коне (бревне в коже) верхом, ну и держась за него, получалось отдыхать, иногда и часами. Никаких других приобретений в хождении Куропёлкина не случилось, и он был вынужден появиться перед прогуливавшимися красотками в мокрых тельняшке и трусах неудачливого мультизлодея. Куропёлкин застеснялся. Но одна из дам поманила его загорелой рукой в перстнях. То есть пригласила в застолье.
Куропёлкин был голоден и хотел пить. А перед гостьями владельца яхты имелась еда, пусть и одни деликатесы, и в благоудовольствие к ней — напитки. Куропёлкин готов был Тарзаном с прибрежных пальм или даже обезьяной с них же рвать куски белковых веществ и бутылку, неважно с чем, опрокинуть в пасть. Но сдержал себя. Ладони из приличия вытер о тельняшку. При этом он не мог не вспомнить, что в недалёком (или далёком?) прошлом он служил артистом, и попытался произвести некие, будто бы элегантно-джентльменские (или хотя бы уважительные по отношению к дамам) движения.
Опять рассмеялись.
Но смех, понял Куропёлкин, был доброжелательный.
— Сиддаун, плиз, — предложила рыжеволосая.
Впрочем, все три пассажирки были в разной степени рыжеволосые.
Две из них (одна — в зелёном бикини, другая — в чёрном с жёлтыми разводами), изучив прикосновениями нежных пальцев достоинства бицепсов Куропёлкина и мышц его живота, проявленных мокрой тельняшкой, воскликнули, будто дамы высшего света в Москве: «Вау!». И чуть ли не силой усадили Куропёлкина в плетёное кресло, стоявшее между ними.
Вели тихий разговор, какой не мешал бы утопленнику насытить чрево и утолить жажды разных свойств, чему способствовали напитки разных свойств, правда, не таких убедительных, как виски, ром и тем более водка с горилкой.
То есть барышни (сеньориты, мамзели, миссы, фройлены) морскими волками быть не могли. Не могли быть и пиратами. И всё равно были хороши. А выглядели всё лучше и лучше.
— А-а-а-ах! — с восторгом выдохнул Куропёлкин. И срыгнул.
Стыливо стал прикрывать ладошкой рот.
Но опять срыгнул.
Собеседницы же его обрадовались, рожи кривить не стали, захохотали одобрительно и подняли большие пальцы. Мол, завидуем аппетиту и жизнелюбию, с такими боями и мачами дело иметь приятно.
Поинтересовались (Куропёлкин судил по жестам), кто он и откуда и как оказался у них за бортом. Ласково-заинтересованные взгляды, тела несомненных обольстительниц отыскали в подполье сытой сейчас натуры Куропёлкина фанфарона. И болтуна. Впрочем, болтун не имел средств проявить себя.
— Я — русский, — начал Куропёлкин. — Рашен… Москва… Моряк… Морской волк…
Тут Куропёлкин замялся. Морской волк… Это он сидел в плетеном кресле в трусах морского волка, что ли? Да и поняли ли его новые подруги, что он морской волк? Или хотя бы просто — русский моряк?
— Мариман! — ткнул Куропёлкин пальцем себе в грудь. — Мичман! Боцман!
Чуть было не аттестовал себя: «Капитан!», но это было бы чересчур. Остановился на боцмане.
— Рашен боцман! — с гордостью утвердил себя в звании Куропёлкин, влил в себя голубоватую жидкость из бокала, ликёр, наверное. И почему-то добавил: — Моби Дик!
— Вау! Рашен боцман! — воскликнула, как показалось Куропёлкину восторженно, идеально рыжеволосая («Фара» уже прозвал её Куропёлкин из-за глазищ-фар). Она будто бы ждала от него новых слов.
А негр, вернувшийся из кают, куда заходил, видимо, с докладом владельцу яхты, стоял у перил рядом с выходом на трап и глядел на ночного подкидыша (подплывыша) с опаской.
Сеньорита в зелёном бикини вдруг стала испуганно оглядываться, потом зажала нос пальцами и застонала. Лицо же красавицы в чёрном с жёлтыми разводами бикини исказили спазмы, она вскочила, и было видно, что её вот-вот вырвет.
И Куропёлкин ощутил, что принявшая его на борт яхта вошла в плотность известной ему вони. А пассажирам яхты неизвестной. Скорее всего, неизвестной. Но может быть, запахи московских отбросов и богатств «Водоканала» мало чем отличались от запахов канализаций иных замечательных городов? А тут случилась их малообъяснимая концентрация?
Или это так заблагоухали пожелавшие поваляться на песочке жизнелюбивые некогда киты?
118
Теперь вскочил Куропёлкин. Криком, с боцманским оснащением смысла, почему-то он обратился именно к негру. Будто тот был самой существенной личностью на палубе.
— Назад! Назад! Стоп машина! Полный цурюк! Полный назад! — кричал Куропёлкин. — Там рашен субмарина… Атом!.. «Волокушка»!.. Я боцман «Волокушка»! Она буль-буль и на дне… Я один… уан… всплыл… Туда не надо!
И Куропёлкин движением рук (артист Верчунова!) показал публике, как происходило «буль-буль» и каким вышло его восхождение от пострадавшей субмарины к поверхности океана.
Что он так взволновался? Отчего потребовал от негра полного цурюка и перемены курса? Зачем снова начал нести бред про субмарину «Волокушка»?
Стало быть, в нём не утих фанфарон и бахвал. Это одно.
Но вдобавок, что удивительно, ему вдруг стала противна вонь, какую он выдержал у Берега Китов, а она, по предчувствию Куропёлкина, должна была только усилиться. К тому же получалось, что он был причастен к этой вони и теперь будто бы угощал ею приютивших его женщин, а двух из них чуть ли не довёл до рвоты. Нехорошо как-то выходило…
— Уес, — сказала безусловная рыжеволосая, с глазищами, Фара, по Куропёлкину. — Рашен субмарина «Волокушка»?
— Уес! Уес! — подтвердил Куропёлкин. — Субмарина «Волокушка»!
Сеньорита Фара, бесаме муча, понял Куропёлкин, стала озабоченной. А может быть, её что-то и напугало.
— А вы, собственно, кто? — строго она спросила по-русски. И Куропёлкин от неожиданности не сразу понял, что именно по-русски. Если бы не ростовское хеканье («вы хто»). И если бы не украшенные для убедительности завитушками с бантиками слова из его же боцманского лексикона.
Были услышаны Куропёлкиным звуки двигателей — над водой и на воде. Они явно приближались к их яхте.
— Так хто вы? — повторила Фара. «Голос не иначе как офицерский…» — подумал Куропёлкин.
Употребление Фарой слов чужого языка, похоже, нисколько не удивило ни её подружек, ни внимательного к движениям Куропёлкина негра.
А на столике перед Фарой возникло стрелковое оружие неведомой Куропёлкину системы. С глушителем.
Его появление превратило Куропёлкина в партизана.
— Я есть боцман, то есть Старший матрос ракетного атомного подводного линкора «Волокушка», — твёрдо, с достоинством ветерана Тихоокеанского флота, произнёс Куропёлкин. — Наша субмарина по плохо объяснимым причинам потерпела крушение в здешних водах… Мне удалось спастись…
— Так, — зловеще выговорила рыжеволосая. — А на самом деле — вы кто? Говорите правду!
— Правду? — будто бы задумался Куропёлкин. — Хорошо… Их бин агент намбер зеро зеро сибен, агент МИ-6… Подробности не для вас, а для высших чинов и специалистов…
Офицер Фара снова озаботилась. И, видно, что всерьёз.
— Чтобы доложить о вас высшим чинам, в чем вы, видно, заинтересованы, — сказала Фара, — я должна знать ваше имя…
— Штирлиц, — без раздумий чистосердечно признался Куропёлкин. — Штирлиц.
— Как, как? — удивилась барышня с оружием.
— Штирлиц! — теперь уже удивился бескультурью собеседницы Куропёлкин.
Три грации на прогулочной яхте переглянулись, о чём-то потолковали, и было ясно, что ни о каком Штирлице они и слыхом не слыхали. И негр, чьи предки некогда могли проживать рядом с хижиной дяди Тома и к кому дамы обратились с вопросом, губами и глазами выразил недоумение.
Они ничего не знали о Штирлице!
(Или придуривались?)
И они верили в то, что где-то здесь, поблизости, затонула русская атомная субмарина «Волокушка»!
Стало быть, он, Куропёлкин, истинно находился теперь в параллельном мире!
Ни малейших сомнений.
Способность же здешних лунных лучей, собранных лупой в пучок, прожаривать свежую рыбу и выводить на досках слово «Нинон», отменяла и малейшие сомнения.
Но неужели в параллельном захолустье, не ведающем о Штирлице, были обязательны — невыносимый штиль, валяющиеся на песке киты и вызывающая рвоту вонь?
Вертолёт уже завис над яхтой с Куропёлкиным.
И тут произошло неожиданное для Евгения Макаровича. Его огрели чем-то тяжёлым, но не острым, тренированные руки приподняли его и понесли куда-то (Куропёлкин чувствовал себя ещё живым), а потом его, теряющего сознание, и швырнули в воду…
119
Нина Аркадьевна Звонкова проводила очередное экстренное совещание. Как и совещание накануне, оно было нервным.
Её приказ «Изловить и доставить!» не был исполнен.
— Где он находится сейчас? — спросила Звонкова. — Где он?
— Нам неведомо, — ответил специалист по изловлению и доставке, к кому и был обращён вопрос госпожи Звонковой.
Присутствующие напряглись. В этом «неведомо» был элемент фронды и даже проявление некоего недовольства специалиста диктатом владетельной дамы. А дама имела возможности и даже права володеть присутствующими.
— Включите экраны, — распорядилась Звонкова.
Экраны вспыхнули.
— Так где он?
— Он пропал, Нина Аркадьевна, — волнуясь, будто бы за судьбу подсобного рабочего Куропёлкина, доложил эксперт, определённый заниматься визуальным слежением за подзагулявшим в недозволенных ему пределах контрактником. — Зафиксировано затопление его плавучего средства «Нинон», приписанного к парку «Останкино» в должности скамьи садового назначения. И более он не поддавался наблюдениям. Ни днём, ни в ночную пору. Ни нашими приборами. Ни местными разведаборигенами. То есть известным спецслужбам известной державы.
— Так, — произнесла Звонкова. Теперь уже без пугающих мелких тварей интонаций, а деловито и сухо. — К визуальным наблюдениям мы ещё вернёмся. Сейчас жду аналитического разбора всевозможной информации о нашем сотруднике. В прессе, в телевидении, в сплетнях, в слухах, в зачатках будущих легенд.
Встал аналитик чрезвычайных случаев.
— Возможно, что гражданин Куропёлкин всё ещё жив и находится где-то поблизости от западного побережья Флориды. И в других местах он наследил, то есть оставил на воде пузыри с запахами. Но наиболее ценным свидетельством его присутствия после утопления «Нинон»…
— Прекратите упоминать «Нинон»! — приказала Звонкова.
— Извините… — растерялся аналитик. — После, значит, утопления… является акула… Да, уничтожена акула, метавшаяся возле здешних пляжей с открытой пастью. Позже выяснилось, что голубая шестиметровая акула металась не в поисках жертв, причиной тому были её страдания. Акула не могла сомкнуть челюсти. Их, нижнюю и верхнюю, пронзил и сковал странный предмет. Туземцы, даже и из спецслужб, так и не поняли его назначение. Нам же очевидно, что это — весло гипсовой девушки из Останкина, стоявшей рядом с упомянутой уже парковой скамьёй… Мореход Куропёлкин использовал это весло по назначениию…
— Позавчерашняя информация! — раздражённо сказала Звонкова. — Что имеется нового?
— Свежая информация ещё не обработана с научной тщательностью, — неуверенно сказал аналитик. — Возможны заблуждения. Но несомненна суета с применением морских и надводных сил, связанная с поисками и обезвреживанием субмарины «Волокушка».
— Субмарины «Волокушка» нет, — заявила Звонкова. — И быть не может!
— Никаких «Волокушек»! — из тишины возникло подтверждение Трескучего.
— Есть мелкая информация из слухов, из сплетен, из домыслов безответственных СМИ, — продолжил аналитик. — Будто существует какой-то странный пловец и путешественник, на время возникающий из пучин, сам же будто бы живущий на дне. Со дна он всплывает исключительно для раздачи песо партизанам Боливии и наркокурьерам Колумбии. У него секретная тельняшка с неощутимыми тайниками. Он всплывает, выдаёт кому надо песо, как доминиканские, так и колумбийские, и тут же тонет.
— Это не Куропёлкин! — возмущённо воскликнул Трескучий. — Откуда у нашего Куропёлкина песо?
— Это всё? — спросила Звонкова.
— Есть ещё… — неуверенно сказал аналитик. — О субмарине не велено упоминать, но…
— Говорите! — сказала Звонкова.
— Из недостоверных сплетен. В прессу не прорвалось. Или не допущено. Будто бы Куропёлкин утонуть не мог, на дне не живёт, а задержан спецслужбами и спрятан в подземных казематах, где его пытают не только в связи с затонувшей субмариной, но и с гибелью китов и с выбросом зловонного материала в атмосферу региона…
Совещатели притихли. Или даже замерли. А госпожа Нина Аркадьевна, похоже, растерялась…
120
— Я повторяюсь, — пробормотал аналитик, голос его дрожал, он ошушал себя гонцом, принёсшим деспоту горькую весть, — сплетни эти безусловно недостоверные.
— Однако… — зловеще протянула Звонкова.
И вдруг раздалось бодрое, даже со смешком, чуть ли не радостным:
— А не нужны ли вам легенды, уже возникшие? Хотя бы одна?
Легенду предложил учёный человек с бородкой (из-за бородки его и посчитали учёным, наверняка даже и доцентом).
— Легенда родилась два дня назад в курортном Канкуне, в ресторане «Ацтеки», на берегу Мексиканского залива, как раз напротив Кубы, — просвещал признанный доцентом. — Ацтеки, что с них взять! (Опять смешок.)… Простаки. Монтесума, Марина… Их, не имевших лошадей и отрывного календаря из-за неумения производить бумагу, облапошил мошеник Кортес, завоеватель…
— Короче, — сказала Звонкова.
— Был у них миф о добром боге белокуром Кецалькоатле. Однажды тот из-за стечения коммунальных обстоятельств улетел за подмогой к светлым силам на плоту из змей. Потом вернулся… И стали сытыми латинские страны. Но на днях, в досадах, по новой легенде от ацтеков курорта Канкун, он взлетел в небо на плоту…
— Из русалок! — прозвучал откуда-то голос неблагоразумного, будто бы урезоненного несколько дней назад. Теперь, видимо, к нему была применена сила.
— Так что, — заявил доцент, — ни в каких казематах наш Куропёлкин не содержится, а скоро объявится в Москве. Если уже не объявился…
— А может, его вместе с плотом всосала в себя и отправила куда надо пробоина в Чемодане, и надо посоветоваться с гражданином Бавыкиным? — неизвестно к кому, возможно, и к высшим силам обратился Трескучий.
— Какая пробоина? Какой чемодан? — зашелестело удивление. — Какой Бавыкин?
— С каким ещё Бавыкиным советоваться! — возмутилась Звонкова и вскочила. — Никаких Бавыкиных! Никаких пробоин! И наш подсобный рабочий вовсе не белокурый!
Она отправилась к дверям совещательного помещения и выкрикнула:
— Изловить и доставить! В каземате ли он или не в каземате, утоп он или не утоп, проживает ли он на дне или нет, для меня не имеет значения! Изловить и доставить! И немедленно! Даже если он перекрасился и попытался сбежать от нас на плоту, хоть бы и из русалок, тем более его требуется изловить и доставить! Изловить и доставить!
С тем и удалилась.
Воодушевлённая и прекрасная, как Екатерина Великая, распорядившаяся взять Крым.
121
Куропёлкин увидел: на указателе металлического столба, нёсшего вахту на обочине шумной дороги летящих автомобилей, имелось слово (на английском, понятно) «Голливуд».
Куропёлкин так и осел на песок.
Вот тебе раз!
Значит, Голливуд! Значит, Калифорния! Значит, Тихий или Великий…
Или всё же — параллельный мир?
Нет, волны набегали на берег, где нынче оказался Куропёлкин. Робкие пока. Но — волны. Стало быть, и не параллельный мир.
Однако — Голливуд!
Но Голливуд, известно, — похлеще параллельного мира!
По автостраде (или как там она у них называется) наверняка должны были проезжать по делам копы, шерифы и их дорожные патрули. Не заметить его, Куропёлкина, они не могли. Ну и пусть скорее замечают и сковывают его наручниками.
Но не замечали.
Вылезать же на автостраду и размахивать для привлечения внимания тельняшкой (не трусами же!) Куропёлкин посчитал неразумным. Калифорнийские нравы и привычки были ему неведомы. Что тут могут посчитать дурным тоном, а что сексуальным домогательством, он не знал.
И ещё Куропёлкин понял, что ни к каким действиям он пока не готов и ему надо выспаться. Тем более что спешить куда-либо нужды у него не было. Но на суше он мог поджариться или подкоптиться. И если мокрые тельняшка и трусы кое-как облегчали ему жизнь, то передвигаться босым по песку было невыносимо даже и для такого терпеливого мужика, как Куропёлкин.
Кое-как он сполз по песчаному откосу к воде и там вкопался в песок, оставив для общения с воздухом лишь ноздри и рот. Насыпал, чтобы кожа не сгорела, песок даже на лоб и скулы. Всё же что-то соображал.
И даже мысли в нём какие-то бродили. Скажем, как тут ему прижиться. И устроиться. Прикинуться жертвой амнезии? То есть жертвой катастрофы, вызвавшей амнезию, не обязательно уступившим в спасательной шлюпке место детям или беременной негритянке, но и упавшим в море пассажиром расколовшегося в небе авиалайнера. Или, раз уж тут Голливуд, пробиться на одну из фабрик грёз на роль глухонемого, но способного мычать, смоленского бомжа, курьера русской мафии…
122
Куропёлкин чуть было не захлебнулся. Его окатила волна. Добродушная, но вполне необходимая в тихий день у юго-восточного бока Калифорнии.
У дальних волн белели даже буруны.
Куропёлкин вытащил голову из песка.
Ниже, в полуметре от его ног, покачивалась в воде парковая скамья с выжженным на белёных досках корпуса плавучего средства лунным именем «Нинон». А на песке справа от Куропёлкина лежала обувь. Прибывший вместе с Куропёлкиным в Западное полушарие Башмак сорок четвёртого размера и сотворённая из синей резиновой грелки галоша-сандалия. Приплыли с ними чудесным образом («тут откуда ни возьмись…») и обрывки верёвки. Для поддержания Башмака и галоши. Куропёлкин украсил ступни произведениями сапожного мастерства и прогулялся вдоль берега. Ноги размял…
К его удивлению, столба с указателем «Голливуд» на обочине автострады не было. «Здесь никогда и не стояло…»
123
Опять же чудесным образом был возвращён Куропёлкину и один из пластиковых пакетов, притороченный им к корме сухогруза «Нинон». Со жратвой и напитками! И не только с ними.
И забыв о своих фантазиях о трудоустройстве на фабрике звёзд в ролях (хотя бы в массовке) смоленских бомжей, Куропёлкин откушал и утолил жажду. В его пакете (грузовом трюме) отыскалась вяленая корюшка, явно сахалинская (кто же так щедро смог одарить его? Не иначе как приставленный к нему ангел-добытчик), банки с химическими жидкостями типа колы и фанты. Но, к счастью, остались в пакете ради поддержания организма Куропёлкина и бутылки с бельгийским пивом.
Удовольствиям Куропёлкина стал мешать толстячок лет пятидесяти, в сомбреро, в пятнистой гавайской рубахе и в белых, закатанных до колен штанах. Поглядывая на него, Куропёлкин быстро сообразил, что мистер, возникший перед ним, вовсе не толстячок, первое впечатление о нём было вызвано толстым носом картофелиной любопытствующего калифорнийца. Глаза его были мелкие и цепкие. «Не агент ли это с киностудии, не надобен ли ему статист славянской внешности на роль бродяги или бича? — надежда с наглинкой зашевелилась в Куропёлкине. — Так вот же он я! Что сомневаться-то!» А мистер забрёл в воду, обозрел Куропёлкина со стороны моря, постучал пальцами по сиденью скамьи «Нинон». И спросил:
— Ты оттуда?
Спросил по-русски. Без акцента.
— Откуда оттуда? — поинтересовался Куропёлкин.
— Ну, оттуда! — и Толстый Нос указал движением руки куда-то за автостраду и в небо.
— Да, оттуда, — согласился Куропёлкин.
— Мы вас ждали через две недели. — Толстый Нос вышел из воды.
— Так получилось, — уверенно сказал Куропёлкин. — Нанотехнологии…
Толстый Нос протянул Куропёлкину руку. Куропёлкин её пожал.
— Земля… — сказал Толстый Нос.
— Земля, — подтвердил Куропёлкин.
— Земля… — повторил Толстый Нос, но уже как бы с удивлением и ожиданием от Куропёлкина каких-то существенных слов.
— Земля… — пробормотал Куропёлкин.
— Земля! Земля! — вскричал Толстый Нос! — Вы что же, забыли? Или не знаете? Или вы — самозванец?
— Земля имеет форму чемодана! — выпалил Куропёлкин.
— Ну вот! Ну вот! Наконец-то! — обрадовался Толстый Нос и принялся обнимать Куропёлкина.
124
Присели на песок, Толстый Нос принял из рук Куропёлкина бутылку бельгийского пива. А уж очищенная корюшка вызвала его патриотические слёзы. И конечно, выброс патриотического же желудочного сока.
— Брат! — умилился Толстый Нос. — Ну, ты меня разволновал. Я аж взопрел от переживаний! Теперь же какое благоудовольствие!
— А у меня в пакете и флакон виски есть, — сказал Куропёлкин.
— Прекрасно! — обрадовался Толстый Нос. Но тут же и озаботился. — Нет, прежде надо заняться делами. И самое важное — разместить или спрятать тебя. Но прежде… Ты привёз?..
— Чего привёз? — спросил Куропёлкин.
— То, что должен был привезти.
— Я не получал указаний что-либо куда-то везти. Я личность мелкая. Птичка-невеличка, — сердито произнёс Куропёлкин.
— У тебя был чемодан? — спросил Толстый Нос.
— Не помню, — сказал Куропёлкин, — на пути сюда я терял сознание… Память частично потеряна… Опять же нанотехнологии… Возможно, мне и вручали чемодан, но размером со спичечный коробок… А то и с зажигалку…
Сам же задумался. А может, и впрямь в мусорный контейнер где-то рядом с ним, но не на виду, закладывали обыкновенный чемодан с чем-то необходимым для переправки в Калифорнию?
— Кстати, — сказал Куропёлкин, — несколько часов назад я видел здесь придорожный столб с упоминанием Голливуда. Теперь его нет.
— Был такой столб, — кивнул Толстый Нос. — Его ставили исключительно ради идентификации вашей милости. Теперь убрали, чтобы не путать добросовестных граждан. Никакого Голливуда здесь нет. Эта дорога ведёт в Майами.
— Так… — пробормотал Куропёлкин.
— Судя по твоей заросшей роже, — сказал Толстый Нос, — ты болтаешься в здешних водах не первый день.
— И я так думаю, — сказал Куропёлкин.
— Но мы-то ждали тебя через две недели, — чуть ли не с укором произнёс Толстый Нос.
— Стало быть, у вас ошибки в расчётах, — сказал Куропёлкин.
— Это ты — пловец-призрак? — спросил Толстый Нос. — Тогда, выходит, что тебе заменили легенду?
— Какую ещё легенду? — удивился Куропёлкин. — Какой ещё пловец-призрак?
— Пловец-призрак то и дело поднимался из глубин и выдавал песо неизвестно кому и тут же пропадал…
— Я никому ничего не раздавал, — насупился Куропёлкин.
— А ну встать! — приказал Толстый Нос. — Руки соединить над головой!
— Хенде хох! — согласился Куропёлкин.
Разведывательную работу пальцев Толстого Носа по телу Куропёлкина можно было признать профессиональной.
— Пусто, — поморщился Толстый Нос. — Если только внутри организма…
— Между прочим, — вспомнил Куропёлкин, — меня вот так же ощупывали на каком-то сторожевом катере и обобрали. Оставили без штанов. Изъяли валюту…
— Песо? — спросил Толстый Нос.
— Можно посчитать, что и песо. Всего лишили…
— А это что? — обрадовался Толстый Нос.
И был предъявлен Куропёлкину комок замятой плотной бумаги, спрессованной временем и невзгодами пребывания в океане и добытый пальцами Толстого Носа из тайника в тельняшке Куропёлкина. Доминиканос Подпалый изымать её не посчитал нужным, Это была бумажная обтяжка пробки «Великоустюжского рома».
— Чертёжики тут какие-то… — сообщил Толстый Нос. — Так что же это?
— А вот это уже не вашего чина дело! — сурово произнёс Куропёлкин.
125
— Понял, — сказал Толстый Нос.
— Ну вот и хорошо, — сказал Куропёлкин. — А потому верни документ. Он ещё кому-то необходим для исследования.
В возведении спрессованого комка бумаги («с чертёжиками») в «документ» происходило и как бы возведение самого Куропёлкина в личность значительную, наделённую важными полномочиями.
Сразу же он ощутил неловкость. Что он выпендривается-то перед вполне безобидным, надо надеяться, исполнителем мелких поручений Толстым Носом?
— Понял, понял! — заспешил Толстый Нос. — Вспомнил свой чин. Ради меня не стали бы снаряжать в плавание подводную лодку.
Помолчали.
— Об этом забудем, — великодушно заявил Куропёлкин.
— Значит, вот что, — сказал Толстый Нос. — Отправляюсь за средствами транспортировки. Веди себя так, будто тебя здесь и нет. На трассу не вылезай, людей не пугай, даже если знаешь языки, разговоров ни с кем не веди и вообще держись где-нибудь рядом со своей скамьёй «Нинон» и так, чтобы тебя было трудно заметить…
126
Вернулся Толстый Нос часа через три. Куропёлкин к тому времени был в раздражении, будто бы приставленный к нему порученец оказался нерасторопным и бестолковым, а может, и вовсе попивал теперь виски в каком-нибудь придорожном баре и попыхивал там же сигарой.
«Зарвался ты, Евгений Макарович! — вынужден был сказать себе Куропёлкин. — Зарвался!»
Понимал: раздражение его задержкой Толстого Носа вызвано тревогами. Он уже давно не думал о собственном будущем. Если не считать, конечно, полудремотных мечтаний о карьере в Голливуде. Рождённых, в частности, ложным указателем.
Сейчас же возможные варианты будущего стали пугать Куропёлкина.
Кстати, а надо ли было верить так называемому Толстому Носу (впрочем, называемому именно самим Куропёлкиным), не уподоблен ли тот был кем-то пропавшему столбу с ложным указателем?..
Тревоги Куропёлкина были на время примяты появлением Толстого Носа. Куропёлкин сидел на скамье «Нинон». Волны покачивали её. Толстый Нос спустился к воде и произнёс:
— Земля!
— Имеет форму чемодана! — немедленно ответил Куропёлкин.
— Ну вот и хорошо, — обрадовался Толстый Нос. — Очень хорошая форма для Земли. А вот у тебя внешний вид плох. Даже довести тебя до автомобиля выйдет делом затруднительным. Вот тебе халат для выхода на ринг. Вот тебе пляжные шлёпанцы. А со штанами разберёмся на месте.
Толстый нос разгрузил спортивную сумку. Уловил досаду или даже грусть в глазах Куропёлкина. Сказал:
— Что ты смотришь на это барахло с тоской? Ты пловец-призрак. И эти вещи — призраки. Сор земной. Завтра их смоют волны покруче. Мне же распоряжений забрать их не давали.
— Башмак… — сказал Куропёлкин.
— Что — башмак? — не понял Толстый Нос.
— Надо забрать башмак, — сказал Куропёлкин. — Он нужен не только мне. Не зря он догонял меня дважды…
— Ну, хорошо, — вздохнул Толстый Нос. — Башмак башмаком. Но не волочь же отсюда и парковую скамью. Или и в ней есть нужда?
При этих словах человека, знающего о том, какую форму имеет планета Земля, на палубу плавучего средства «Нинон» откуда-то из недр песка выскочили три крысы, две — большие, третья — мелкая, неспешно прогулялись по белёным доскам и по очереди нырнули в воду.
И скамья из Останкинского парка сейчас же была утянута внезапным водоворотом в чуждые для неё глубины.
— Забирать «Нинон» нет нужды, — печально произнёс Куропёлкин.
— Я догадался, — сказал Толстый Нос.
А Куропёлкин с места не сдвинулся, стоял, прикрыв тельняшку и трусы наброшенным на плечи мохнатым халатом небитого пока боксёра. И очами усталого морехода, покидавшего открытые им моря и суши, глядел в дали дальние. Ему бы ещё и длань простереть над этими водами.
— У нас нет времени, — напомнил Толстый Нос.
127
В автомобиле ему было предложено спокойно отнестись к бархатной повязке, прикрывшей ему глаза.
Спокойно отнёсся.
То есть протестовать не стал. И уж тем более не произвёл силовых актов сопротивления. Смысл-то какой был бы в них?
Относительно спокойствия…
«А не доставят ли меня сейчас под гневные очи госпожи Звонковой?» — дребезжало, а потом и гремело в Куропёлкине.
Может, ложный указатель придорожного столба должен был приглашать путника не в Голливуд и не в Майами, а в какой-нибудь подмосковный Дмитров?
Однако откуда в Дмитрове море?
Впрочем, вполне допускалось, что олигарша Звонкова имела владения в здешней скромной местности и её гневные очи могли прожечь преступную натуру подсобного рабочего без доставки его в безводное Подмосковье.
И не действовал ли здесь свой Люк?
Или хотя бы филиал его…
128
Бархатная повязка была снята.
Нет, не Подмосковье.
Рай в субтропиках. Или в тропиках.
Пение райских птиц. Порхание бабочек с павлиньими красотами на крыльях. Сами павлины, гуляющие в подстриженных травах.
И не единой берёзы.
И никаких признаков Люка. Или подобья Люка. Но мало ли как мог укрыть или трансформировать Люк изобретательный домоправитель Трескучий!
— Не снимайте халата, — сказал Толстый Нос. — Здесь есть охрана. И люди обслуги. Гастарбайтеры. Из таджиков. Из персиян, значит. То есть почти иранцев. Ваше исподнее может смутить или даже удивить их.
— Хорошо, — сказал Куропёлкин. — Но жарко…
— Не спрашивайте меня, — сказал Толстый Нос, — чья это вилла. И во Флориде, и в Калифорнии много русских имений или хотя бы квартир. И не только певичек или звёзд спорта, но и более серьёзных людей, чаще всего по именам публике неизвестных. Хозяева нашей виллы сейчас живут в иных местах. Вы будете здесь как бы садовник. Или хотя бы газонокосильщик. Правила существования на вилле вам объяснят. Главный дом теперь пуст. И будет пуст. Он был бы для вас слишком громоздким и скучным. А вам определено бунгало рядом с бассейном. Будут у вас какие-либо претензии, сообщайте о них привратникам, назовём их так.
— Стены у вас высокие и основательные, — произнёс Куропёлкин.
— Стены хорошие, — согласился Толстый Нос. — Но вы не должны ощущать себя в застенке. Они — для вашей свободы и безопасности.
— Я так и понял, — сказал Куропёлкин. — И долго пребывать мне в состоянии свободы и безопасности?
Спросил и отругал себя. Невежлив и неккоректен был его вопрос. И обиден для приставленного к нему человека с мелкими вроде бы задачами — разыскать его, принять и устроить с удобствами (с удобствами ли?) на явочной вилле. Впрочем, откуда было знать Куропёлкину, мелок ли был агент Толстый Нос или вынужден был перед ним валять дурака?
— Вы уже ставили меня на место, уважаемый пловец-призрак, — сказал Толстый Нос. — Да, общение с вами будут проводить люди другого уровня. И даже другого круга. А потому, сколько времени вам тут пребывать, в их компетенции.
— А где Башмак? — спросил Куропёлкин и будто бы удивился своему интересу.
— Башмак в вашем бунгало, — сказал Толстый Нос.
— Надеюсь, его не успели отремонтировать и обмазать гуталином…
— Нет, конечно, — сказал Толстый Нос. — И в мыслях не было. Его лишь обследовали экологи и врачи-вирусологи из карантинных служб, не прибыли ли с ним какие болячки. Что же касается гуталина, то им в Новом Свете уже не пользуются даже амазонские племена.
— И прекрасно, — заключил Куропёлкин.
Сам же подумал, что Башмак успели изучить не только карантинные службы, но и исследователи более утончённые и более государственные. Возможно, ими изловлены и плавучее средство «Нинон», и галоша-сандалия на левую ногу из синей грелки, и даже три крысы, две большие и одна мелкая (этих-то уже наверняка посадили к детектору лжи и расспрашивают), а как же, надо же выяснить, с какой целью атомная субмарина «Волокушка» доставила к берегу Флориды пловца-призрака.
«Вспухаешь ты, Евгений Макарович! — отругал себя Куропёлкин. — Ноги у тебя уже от слона! Вот-вот и хобот отрастёт!»
— Сейчас я отведу вас в ваше бунгало, — почтительно, будто японский служка, сказал Толстый Нос, — там, посчитаем, вам будут оказаны услуги салонов красоты, просьба при объяснимых ваших проблемах не напоминать стилисткам или массажисткам о делах амурных, вы обязаны проявить себя аскетом, это уже мой совет вам на ушко, если всё пойдёт хорошо, необходимое позже восполнится, потерпите…
— Потерплю, — вздохнул Куропёлкин.
— Нинон? — спросил вдруг Толстый Нос.
— Какая Нинон? Какая ещё Нинон! — теперь уже почти вскричал Куропёлкин. Готов был выругаться, заменив доступными ему словами банальное: «Чур меня!». Но лишь перекрестился.
— Успокойтесь, — сказал Толстый Нос. — И учтите, без особого решения из этой страны вас не выпустят. Вообще никуда не выпустят. Привыкайте к этой мысли.
129
К удивлению Куропёлкина и вопреки аттестациям Толстого Носа, все московские гастарбайтеры на вилле оказались чернокожими.
На первый взгляд.
А потом Куропёлкин разглядел: есть среди них и просто смуглые — креолы, мулаты. А уж среди массажисток и парикмахерш — истинные шоколадки, негритянки и те же креолки и мулатки. А одна из них — и девушка из Гонолулу.
Но Куропёлкину было рекомендовано, на ушко, проявлять себя аскетом.
Однако его организм и без всяких рекомендаций пожелал нынче быть аскетом.
Упадок сил и полное ко всему безразличие.
И явно причиной этому безразличию не могли быть начавшиеся после прибытия Куропёлкина на тихую виллу беспрерывные ливни и чуть ли не ураганные порывы ветра. Какой уж тут параллельный мир!
В бунгало же Куропёлкина было сухо и комфортно, кормили сытно, и можно было толочь время, почитывая газеты и позёвывая, наблюдать за мельканиями суеты жизни на телеэкранах, чего Куропёлкин давно не делал. Не задерживал, правда, пультом бейсбол. Скучно… И никаких забот не испытывал.
Его отмыли, выбрили, а главное — постригли, приодели, одарили даже чёрной бабочкой и шляпой, что дало Толстому Носу повод произнести: «Ну прямо Кларк Гейбл! Только у того уши были побольше и плечи поуже! Или — Гарри Купер! Или — Синатра!»
Комплимент ли это или чёрный юмор Толстого Носа, рассудить Куропёлкин не мог. О Гейбле и Синатре он имел кое-какое представление. Но вряд ли он мог походить на них.
А Толстый Нос в тот день покинул виллу.
Газеты и еду с напитками приносил Куропёлкину мулат Самуэль. Похоже, к людям славянской внешности он относился чуть ли не с ужасом. Но, впрочем, и с уважением. Русский знал, однако не проявлял знания.
Оказалось, что на юге Штатов издавалось много русских газет. То есть газет на языке, доступном для понимания занесённого сюда Куропёлкина. Работали (выяснилось при нажимании на кнопки пультов) и телепрограммы на русском языке с интересными сюжетами и для свежих поселенцев, прибывших из Москвы или Могилёва-Подольского. Или даже Усть-Катава Челябинской губернии.
И Куропёлкин, читателем и зрителем, узнал кое-что для него любопытное.
Несколько раз предъявляли публике словесный портрет таинственного пловца-ныряльщика, при мерцании бермудских огней вблизи него, прозванного уже пловучим голландцем, поясной портрет, составленный на основе впечатлений разной важности зачарованнных свидетелей. И ведь простоватым своим ликом был похож на показанной картинке странный пловец-ныряльщик именно на него, Куропёлкина. Единственно, что возмутило Куропёлкина, пририсованные к нему заросли чёрной шерсти на груди, плечах и руках. Да если бы он, Куропёлкин, обладал таким обилием шерсти на теле, стал бы сдавать его в аренду подсобным рабочим сообразительный коммерсант Верчунов?
Не стал бы!
И надо же — какое совпадение! Дня через два в газете «Истинная Пальмира», издававшейся где-то рядом, во Флориде же, в городе Санкт-Питерсбурге (обнаглели местные придурки, почему уж не обозвали свою провинцию Санкт-Ленинградом?), на четвёртой странице Куропёлкин увидел фотографию Верчунова, хозяина сердечно-памятного (теперь!) ему, артисту, ночного клуба «Прапорщики в грибных местах». Верчунов именовался в газете известным в Восточной Европе музыкальным продюсером, но артистическая якобы его деятельность служила ему лишь крепдешиновым прикрытием. В Майами он был разоблачён как деятель русской мафии. Пока ещё неизвестно какого уровня. При обыске Верчунова в его вещах была обнаружена впечатяющая сумма колумбийских, мексиканских и доминиканских песо, оказавшихся фальшивыми. Из показаний Верчунова следует, что прежде во Флориду проник его опытный сообщник. Личность его пока не установлена. Но кое-какие зацепки имеются… Из косвенных же сведений выходит, что Верчунов и его люди (или же его хозяева) занимались продажами больших партий оружия, что может привести к пожизненным приговорам преступникам…
130
Куропёлкину бы взвыть или напиться до одури. Но он этого не сделал.
Вспомнились слова Толстого Носа: «Из этой страны вас не выпустят. Вообще никуда не выпустят. Привыкайте к этой мысли…»
К ним были добавлены и другие слова, обращенные как бы и не к Куропёлкину. В них Толстый Нос делился мыслями со стенами, в каких они с человеком, знавшим о Земле как о чемодане, были на время помещены судьбой. Или необходимостью приключений. Толстый Нос сожалел вслух о бездумстве простака, способного затеять вдруг побег из убежища, ему предоставленного. Оказывается, в этой части Флориды было много рек, их проток, озёр и болот. Они были набиты, как кильки в банке, злыми и полуголодными, из-за изобилия сородичей, аллигаторами. Миновать их без профессиональных проводников не было никакой возможности. Естественно, от глупых смельчаков не оставалось и скелетов.
Проживали здесь в озёрах и существа безобидные. Даже добрые. И потому редкие. Ламантины. От них якобы и пошли водяные дамы, относимые простофилями к разновидностям русалок. Ламантины — ласковые, будто замшевые, истинно женщины, хотя обязательны среди них были и самцы, но в своих играх-удовольствиях они способны были партнёра придавить, а в случаях страсти — его до потери сущности закусать.
Ещё и аллигаторы! Еще и ласковые ламантины!
Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты! То есть не лазал бы ты через забор, задумав сбежать неизвестно куда! И неизвестно от кого! Тебя с удовольствием встретят аллигаторы и дружелюбные ламантины…
131
Да и вообще, чего он так испугался? За что ему могли присудить пожизненное? И уж тем более электрический стул. Вряд ли Верчунов, отчего-то оказавшийся в Майами и разоблачённый там, стал бы признавать в нём, Куропёлкине, соучастника в делах контрабанды и изготовления фальшивых песо. И в особенности торговли крупными партиями оружия. Выгодно ли ему это было? Нет. Да и не сталкивался он с Куропёлкиным в Западном полушарии.
Но вот отчего сам Верчунов (на фотографиях был именно знакомый Куропёлкину Верчунов) столь скоропостижно оказался во Флориде, у Куропёлкина возникли соображения. Верчунов сбежал. Сбежал от гнева госпожи Звонковой, особенности натуры которой он хорошо знал. И если даже не от её гнева, то хотя бы от тихого признания ею его некомпетенции. Выходит, он поставил гнилой продукт. Или просроченный. И должен был отвечать за недобросовестность. Или даже за плутовство. И видимо — по понятиям. И имея в виду известный ему Люк… Тут соображение Куропёлкина на секунду прогнулось и потребовало выпрямления. Он не захотел признавать себя гнилым продуктом. Да и Верчунов мог отправиться в дальние страны не из-за страхов, а по своим экономическим интересам.
Через день Куропёлкин прочитал в газете «Московские развлечения» (Москва-Сити, штат Пенсильвания) ещё об одном сюжете с фальшивыми песо. Вся четвёртая страница газеты была забита телепрограммами на неделю (меленькими буквочками) российских каналов. Так вот, под программами для любителей поглядеть в Пенсильвании на Стаса Михайлова и Григория Лепса и выслушать их вместились мелкие заметки уголовной хроники. В одной из них сообщалось о конфискации у офицеров сторожевой охраны Доминиканской республики Фернандеса и Гонсалеса больших сумм фальшивых песо. Офицеры объяснили свои приобретения случайностью. Во время спокойного ночного дежурства они ловили удочками тунца и выволокли из воды странный черный пакет с денежными знаками. Откуда приплыл пакет, они могли лишь строить предположения. Но скорее всего он приплыл из Японии.
132
И Куропёлкин успокоился.
На время.
133
Из Японии, непременно из Японии!
Из газет и телепередач, даже и на английском языке (Куропёлкин был способен уловить их смыслы, пусть и не всегда точно), было понятно, что Америка живёт в ожидании больших экологических неприятностей. По Тихому океану после Фукусимского землетрясения волнами гнало к берегам Северной Америки японскую свалку. С радиоактивными фрагментами. Показывали километровые пятна с погубленными цунами деревьями, раздроблёнными стихией хрупкими островными домишками, помятыми автомобилями и просто кучами бытового мусора, двигавшимися в сторону Калифорнии. Смытая ураганом с восточного бока страны Самураев дрянь, предполагалось, должна была добраться до Америки и опоганить её через несколько месяцев. И уж никак не ожидали её появления в Мексиканском заливе и в Карибском море. Но японцы хитры и зловредны. И наглы. А со своими техническими исхищрениями и с высокомерно-обиженным отношением к оккупантам Окинавы и законодателям мод в бейсболе были и вообще способны на всё. Им ничего не стоило опередить движение течений и раньше срока загнать мусор не только к Голливуду, но и в закрытый полуостровом Юкатан Мексиканский залив. А уж уговорить какую-то сотню китов ради соблюдения приличий чести заняться убиениями себя (пользоваться мечами при этом безрукие млекопитающие возможности не имели, но выбросы их из воды в отравленные воздухи можно было приравнять к харакири) было для японцев делом простеньким. Единственно, что не вписывалось в японскую версию происшествия, это запах, прочувствованный многими вблизи берегов Доминиканы и Кубы. Это был не японский запах. Явственно, не японский. Гейши с таким запахом не могли бы вызвать интереса. И тем более тяги к умственному общению с ними. Но ни парфюмеры, ни мормоны, ни служители газгольдеров, ни социальные работники, призванные в аналитики, разумного объяснения этому запаху дать не могли. И недоумения притихли, а потом и утекли, оставив справедливой японскую версию.
Очень невнятно писали (а по ТВ Куропёлкин и вовсе ни кадра, ему интересного, не увидел) о русской атомной субмарине «Волокушка», якобы затонувшей в местах, где особенно резко (тошнотворно) был чувствителен и вонюч (признаем всё же) японский запах, фукусимский его букет. Движение плавучих средств в тех водах было тесным, много разгуливало здесь, в частности, на яхтах людей праздных и избалованных, им и пришли в голову фантазии и страхи по поводу русской субмарины. Якобы даже три очаровательные любительницы ночных прогулок и купаний пригласили на палубную беседу из пучин пловца-ныряльщика, на вид — атлета. И этот пловец назвался единственно уцелевшим боцманом субмарины «Волокушка» и одновременно агентом 007 Штирлицем. Позже яхтсменки отказались от своих фантазий и пообещали посвятить свои жизни кормлению детей в горных районах Бурунди. И в островном государстве Туамоту.
В русскоязычной диаспоре якобы много смеялись над ночными купальщицами. Неужели они не смотрят русские сериалы? Неужели они не знают о том, что национальный герой России Штирлиц в силу возраста не мог служить боцманом на субмарине «Волокушка». Хотя… Хотя, если Родина позовёт, а старшие прикажут, наш Штирлиц с охотой вступит в схватку с коварными врагами человечества даже и под маской агента 007…
Впрочем, это мнение посчитали шуткой выходцев из Одессы. Или, скоре всего, из Бердянска. Однако несколько взволнованных исследователей и напуганных историей неврастеников (на манер генерала или политика из прошлого, вскричавшего: «Танки! Русские танки в Нью-Йорке!»), наняв драйверов, поспешили к месту предполагаемого кораблекрушения субмарины. И были вознаграждены. Правда, никакой подводной лодки, и даже обломков её, не нашли, зато обнаружили останки серьёзного парусника, по первым впечатлениям, испанского галеона начала семнадцатого века, очень может быть перевозившего золото инков в Старый Свет.
Личность спасшегося боцмана затонувшей субмарины «Волокушка» Штирлица при этом уже ни в каких публикациях не вспоминалась.
134
Ну и хорошо, посчитал Куропёлкин. Ну и прекрасно!
Ни пожизненной изоляции, ни тем более электрического стула ему не светит. В торговле крупными партиями оружия, зловредного для безопасности Штатов, его никто обвинять не собирается. И полицейских он не убивал. Но что вдруг пристали к нему фантазии со страхами? В своих плаваниях (кстати, глазея на карты в атласах, он сообразил, что без всякой на то нужды обогнул Кубу и вернулся «на попутных» к берегу Китов и уж оттуда его прибило к Флориде, мореход хреновый, моряк с печки бряк!), так вот, в плаваниях в карибских водах он вроде бы ничего всерьёз не боялся. Не до того было.
А теперь нервничал. Дурак дураком. Кому он нужен? Ну, если только нанимателям виллы. Хозяевам Толстого Носа. Рано или поздно они объявятся и разъяснят ему, зачем он им нужен. А там посмотрим…
А вдруг — госпожа Звонкова? Пришло однажды в голову Куропёлкину. Вдруг ей взбрело в голову вернуть «своё». Она из тех, кто не привык терять «своё»… Да пусть и взбрело! Её высшая мера наказания — Люк — на нём уже была испробована. И всё же мысль о Звонковой была Куропёлкину неприятна. Но чего было ему теперь бояться. Как бы она могла дотянуться до него ухоженными в салонах когтями? Мало того что он находился внутри солидного государства, склонного исполнять свои законы и недоступности, он проживал ещё и под наблюдением (с горячим интересом к нему), надо понимать, гангстеров, а людям Звонковой следовало ещё ради свидания с ним одолевать и заборы Куропёлкинского острога. Но перед заборами жили на воле прожорливые аллигаторы и навязчиво требующие ласк ламантины.
Так чего и впрямь следовало опасаться? Да ничего!
Надо было получать удовольствия от благ куроротного содержания в Майами, плавать в бассейне с океанской водой, возиться с металлом в гимнастическом зале, недавно обнаруженном, смаковать напитки Нового Света, насыщать себя блюдами из лучщих местных ресторанов, поглядывать на прогулки павлинов и уповать на то, чтобы всё это продолжалось бесконечно. Не хватало баб. Но думать о женщинах Куропёлкин себе запретил. Совсем недавно урок общений с ними был ему преподан. И надолго.
135
Однако вскоре Куропёлкин заскучал.
Так заскучал, что, наткнувшись в поисках кроссвордов на русском на самоучитель английского языка (на русском же) и словари, решил заняться самообразованием. Да и другие книги принялся листать не спеша.
Но скука не прошла.
И тревога добавилась к скуке. Возможно, что и не тревога, а досада.
Да за кого же они его принимают? Или они о нём забыли, посчитав личностью никчёмной, нужды в которой у них нет, и он обречён на пожизненное пребывание в вилле под опёкой аллигаторов и ламантинов? Но выгодно ли им (не аллигатором, конечно) будет тратиться на кормление его, никчёмного путешественника, и на содержание обслуги?
Но вдруг они (никакими другими словами Куропёлкин не мог назвать хозяев Толстого Носа) уничтожены в мафиозной войне, и о нём, Куропёлкине, теперь некому думать, кормёжка скоро прекратится, и на виллу вот-вот нагрянет гость с бляхой шерифа.
Такие мысли струились теперь в голове Куропёлкина.
136
Но вот наконец ожидаемый Куропёлкиным посетитель явился.
Куропёлкин сидел в комнате с книжными шкафами, произведённой им в читальню и кабинет, и от нечего делать перелистывал (сам удивился своему интересу) книгу отечественного учёного Ю. Виппера об искусстве Северного Возрождения. Зевнул. Подошёл к окну и увидел распугивающий бездельников павлинов чёрный джип. Выходить к гостям Куропёлкин не посчитал нужным. И лебезить неизвестно перед кем не хотелось, и уровень своей миссии в Западном полушарии разумнее было притаить, пусть сами его оценят, да и поважничать Куропёлкин был не против. А потому из комнаты со шкафами выходить он не стал. А вытянув с полки неопознанную книгу, будто бы увлёкся её чтением. Очки бы ему ещё на переносицу!
Без стука вошли в «кабинет» двое. Толстый Нос ввел господина (Мистера? Сеньора? Дона? Пахана? Или агента ФБР?) лет сорока пяти, рослого поджарого брюнета, в светлом костюме и шляпе, сдвинутой чуть назад.
— Земля… — протянул руку посетитель.
— Имеет форму чемодана, — успел сообразить и вспомнить Куропёлкин.
— Для некоторых людей я — Борис, — сказал посетитель, — вам же удобнее будет называть меня просто Барри. Как распорядитесь обрашаться к вам? Надеюсь, не как к Штирлицу.
— Удобнее всего будет именовать меня Крыловым Фёдором Алексеевичем, — сказал Куропёлкин. — Или просто Фёдором.
— Хорошо, — кивнул Барри и оглядел помещение. Изучил потолок и стены. Покачал головой. Сказал: — Здесь неуютно. И нет бара. Надо перейти в место более гостеприимное.
— Как скажете, Барри, — согласился Толстый Нос.
«Стало быть, и за мной наблюдали, — подумал Куропёлкин, — и меня выслушивали… С чего бы я вдруг вызвал такой интерес?»
Сразу понял, что последнее его соображение — лукавое. Или даже лицемерное. И как бы признающее значительность (для её разгадывателей) своей личности. Будто бы не знал, что странно объявившегося в Америке человека непременно станут прослушивать и без радости наблюдать на экранах. Разные люди с разными интересами.
Ну и ладно, посчитал Куропёлкин.
137
Толстый Нос привёл их в зал отчего-то сырой. Но прохладный. Окон он не имел, стены были бетонно-серые, и Куропёлкин предположил, что его завели в подземный бункер.
Нажатием кнопок Толстый Нос вызвал явление из стен круглого стола, трёх жёстких деловых кресел с высокими спинками и столика на колёсах, типа ресторанного, с сосудами и закусками.
— Присаживайтесь, Фёдор, — не пригласил, а указал для кого Борис, а для кого Барри, выговор он имел идеально московский, будто готовился стать лицедеем в Щепкинском училище. — Что будем пить? Виски? Водку? Армянский коньяк?
«Штирлиц вроде бы пил армянский коньяк…» — пыжился вспомнить Куропёлкин.
— Армянского коньяка теперь нет, — сказал Куропёлкин. — Виноградный спирт — турецкий, хозяин, кажется, в Лондоне. Арарат со звёздочками на этикетках — поддельный.
— Что же тогда пьют нынче в Москве? — будто бы искренне удивился Барри.
— Из коньяков, — просвещал Куропёлкин, — «Белый Аист», тираспольский, не путать с молдавскими подделками. «Кизлярский», опять же если настоящий. Да, есть ещё «Старый Кёнигсберг», на французских спиртах… А так — жуют водку…
— А вы эрудит, отец Фёдор, — развеселился Барри. — Давайте выпьем за Москву и именно за Одиннадцатый проезд Марьиной Рощи!
Выпили, причём выпили виски со льдом, но без содовой, пожевали ломтики лимона.
— Теперь вот что, Фёдор, — произнёс Барри. — Разъясните-ка мне, как вы и зачем оказались в здешних краях. Не в поисках же средств на постройку свечного заводика.
После этих слов Толстый Нос отодвинул своё кресло от круглого стола, достал из кармана сложенную газетёнку и принялся что-то отыскивать в ней.
— Понятно, что вы прибыли сюда вовсе не боцманом атомной субмарины «Волокушка», — продолжил Барри. — Тем более что такой субмарины в российском флоте нет. Субмаринам этого класса дают имена областных городов. А Волокушку, простите, мы смогли отыскать лишь среди посёлков городского типа.
— Посчитайте, — сказал Куропёлкин, — что я фантазёр и бахвал.
— Попробуем посчитать, — усмехнулся Барри. — Хотя и с большими допущениями. Глупо было бы вам на ходу сочинять свежую легенду. Глупо и наивно. Но, наверное, у вас уже и так заготовлены и иные варианты вашего появления здесь, ваших целей и вообще вашей личности. Так как вы попали сюда?
— Если бы я знал, — вздохнул Куропёлкин. — А уж зачем я попал сюда, мне неинтересно. И гадать я не собираюсь.
— Зато у нас есть кое-какие предположения, — сердито сказал Барри. — То, что вы напридумали по поводу субмарины «Волокушка», подтверждают ваши способности фантазёра или даже вруна. И тем не менее кто-то поверил в достоверность ваших сведений.
— То есть? — спросил Куропёлкин.
— А то, что команды с новейшим оборудованием отправлены на поиски русской субмарины. Мало ли что… Тут ведь возможен неожиданный и хитроумный маневр…
— А как же подводные археологи и дайверы, открывшие засыпанный илом испанский галеон с золотом инков?
— Газетные утки! — рассмеялся Барри. — Для отвода глаз. Я же говорил, к вашим фантазиям разные люди и разные службы отнеслись серьёзно. А потому нам интересно услышать от вас, хотя бы в виде очередных фантазий, как и зачем вы явились сюда.
— Конечно, мои объяснения выглядят нелепо, — сказал Куропёлкин, — но я и впрямь не знаю, как и зачем.
— Нелепо, — согласился Барри. — Вы знакомы с профессором Бавыкиным?
— С каким, простите, профессором? — удивился Куропёлкин.
— Бавыкиным.
— Ни с какими Бавыкиными я не знаком, — заявил Куропёлкин.
— А если подумать?
Подумал. Да, фамилия Бавыкина как будто бы уже подпрыгивала в мыслях Куропёлкина. Бавыкин… Бавыкин… А ведь, действительно, встречался он с каким-то Бавыкиным. И совсем недавно.
— Вспомнил! — радостно воскликнул Куропёлкин. — Знаю я некоего Бавыкина. Однажды имел с ним разговор. Он редкостный для наших дней сапожник. Маэстро обуви, а не сапожник!
— Не из его ли коллекции башмак путешествовал с вами и с вами же прибыл к берегам Флориды?
— Какой башмак? — снова принялся валять дурака Куропёлкин.
И сразу же понял, что перебирает. Двадцать два. Господин-мистер Барри сидел напротив него иронистом. Хотя Куропёлкин в спокойствиях виллы о Башмаке якобы забыл, но сейчас вспомнил о нём моментально. Вспомнил и о том, как его вдавливали в гниль и вонь мусорного контейнера, а к согнутой (скрюченной) ноге его прижимался Башмак с открытой пастью.
Куропёлкину стало стыдно. Перед Башмаком, что ли?
— Ах, этот Башмак! — будто бы обрадовался Куропёлкин. — Очень смутно представляю, как он путешествовал. Может быть, он должен был следить за мной? Вы его не исследовали?
— Исследовали! — явно сдерживая раздражение, произнёс Барри. — Исследовали! Но об этом потом. Ответьте. Назвавшийся Фёдором. А теоретические работы профессора Бавыкина вы читали?
— Где же я мог их читать? — удивился Куропёлкин.
— В научных журналах.
— Я — и научные журналы! Вы смеётесь!
— Вы лукавите, господин Фёдор! Или товарищ Фёдор! — теперь уже зло выговорил Барри.
138
— Вы лукавите, — повторил Барри, но более миролюбиво.
— Отчего же лукавлю? — чуть ли не обиделся Куропёлкин.
— Вы, Фёдор, прикидываетесь простаком и неучем, — сказал Барри. — А вы не простак и не неуч.
— Не вижу оснований, — проворчал Куропёлкин, — для такого рода суждений.
— Вы вводили в заблуждение и хозяев клуба «Прапорщики в грибных местах», и экспертов госпожи Звонковой. То ли стеснялись своих знаний, то ли вам невыгодно было проявлять их в компании неотёсанных тарзанов. Принцип — не высовываться. Иначе вас посчитали бы чужим и, стало быть, подозрительным. Тем не менее вы засветились, вспомнив без нужды и мимоходом Ларошфуко. Вы — флотский, а в городе с портом, где вы служили, есть Университет, и не самый худший.
— И что?
— По нашим сведениям, вы три года были студентом этого Университета…
— Студентом-заочником. И не три года, а два с половиной… И если вы не хотите называть меня неучем, то называйте недоучкой…
— И недоучкой вас нельзя называть. Нам известно, что вы способны к саморазвитию. И стремитесь к нему. И не только стремитесь, но и преуспели в этом. Возможно, пошли дальше людей дипломированных. Наверняка начитаннее многих из них. А потому и не исключено, что вы знакомы с публикациями профессора Бавыкина.
— Нет, не знаком, — сказал Куропёлкин.
И ведь не соврал.
— Отчего вы согласились использовать пароль, — спросил Барри, — в котором форма Земли названа чемоданом? Вам назначили этот отклик или он был назначен по вашей просьбе?
— Да никто мне ничего не назначал! — возмутился Куропёлкин. — Никто не говорил мне ни про какие пароли!
— Однако на слово «Земля» вы незамедлительно произнесли необходимый отклик, убедив нас в том, что вы тот человек, какого мы ожидали.
— Не знаю, — сказал Куропёлкин, — так вышло само собой. Случайно. Или с перепугу.
— Тем не менее в публикациях Бавыкина, кстати появлявшихся в свои годы и в популярном журнале «Наука и жизнь», вам доступном, не раз употреблялось выражение «Земля имеет форму чемодана». И вы утверждаете, что оно вылетело из вас случайно. Или с перепугу.
— Это выражение, — рассмеялся Куропёлкин, — было известно и в ходу, как бы фрондёрское, для всех оболтусов из младших классов в мои школьные годы. И не нужен был нам никакой профессор Бавыкин!
— Хорошо, — медленно произнёс Барри. Помолчал. И сразу же, будто в намерении совершить наскок на собеседника, спросил: — Минутами раньше вы признались, что имели, пусть и мимолётный, разговор с Бавыкиным. Хотя бы даже и не с профессором.
— Что значит признался! — воскликнул Куропёлкин. — Я вспомнил некоего Бавыкина, вроде бы сапожника, но в делах — художника-реставратора обуви.
— Где вы имели с ним разговор? И в связи с чем?
— Не помню, — сказал Куропёлкин.
— И всё же! Где проходил разговор? В городе, на улице, на природе, в закрытом помещении?
— Не помню! — повторил Куропёлкин. — Злоключения последних дней ослабили память. Я даже не уверен, как зовут меня истинно.
— В паспортах, — заявил Барри, — вы именовались Евгением Макаровичем Куропёлкиным.
— Надо же! — сокрушённо вздохнул Куропёлкин. — Всё-то вы обо мне знаете!
— Многое знаем, — кивнул Барри.
— Тогда к чему сегодняшний допрос?
— По неведомой нам причине вы не желаете быть искренним. А это настораживает. Вы прибыли к нам пустой. То есть явно не курьером. И не открываете нам цель прибытия.
— Ваша настороженность мне понятна, — сказал Куропёлкин. — Но оцените и мою настороженность. Мне неизвестно, кого представляете вы. То ли вы из, мягко сказать, русского приключенческого братства. Но вдруг вы из ЦРУ. Отгадать я не в силах.
Барри встал, бросил сепаратно проводящему время Толстому Носу:
— Богдан, не дай заскучать Евгению Макаровичу! Я покину вас на пару минут. Подышу под пальмами.
139
А ветви пальм наверняка забавляли ветер и ливень, обязательные в последние дни, — мог позже предположить Куропёлкин. С ковбойской шляпы вернувшегося через полчаса Барри стекала вода. Где и чем дышал господин Барри, знать Куропёлкин не имел возможности. Да и на кой ему была нужна эта возможность! А вот Толстый Нос вдыханию Барри воздуха под пальмами, то есть временному убытию старшего по команде (или же по мафиозной артели), обрадовался.
— Что будем пить? — поинтересовался Толстый Нос.
И подмигнул Куропёлкину. Вроде бы дружелюбно. Мол, не тушуйся. Не такой же у нас Барри и грозный.
«Знаем мы это якобы сочувственное подмигивание», — подумал Куропёлкин. Сказал:
— Виски. Раз мы во Флориде.
И вдруг спросил:
— Ты в вашей связке — бурлак?
Ожидал удивления или хотя просьб объяснить смысл вопроса, но Толстый Нос ответил спокойно:
— Посчитаем, что бурлак. Но не из тех бурлаков, чья песня зовётся стоном. Да и не стонали бурлаки. Это красное словцо литератора. Матерились, крякали в местах напряжений, а так шли молча или пели. Чего стонать-то! Ну, ноги натёрли или плечи, ну, выдохлись. Так в кабаке — боли снимут. И я приглашаю сейчас тебя в кабак. Вот виски! Стонать нет нужды!
— И какая цифра у тебя на пятке?
— Коммерческая тайна, — сказал Богдан Толстый Нос, употребив. — А главное — профессиональная. А ты — что? Решил снять бабки за сотрудничество? Не зарывайся. Люди наши злые. А предъявить тебе на продажу, похоже, нечего. Но впрочем, чувствую, тебя на чём-то серьёзном подцепят. И очень скоро.
140
Вернулся господин Барри. Он же якобы Борис.
С ковбойской шляпы его капало на пол. Но свидетельств ливня на белизне пиджака и брюк не имелось.
Уселся напротив Куропёлкина, молчал, страдал молча, будто бы нечто в минуты вдыхания свежего воздуха под пальмами расстроило или даже огорошило его.
Толстый Нос сейчас же вернулся к месту положенного ему нахождения.
— Ну что, Евгений Макарович Куропёлкин, — сказал Барри, — будете ли вы со мной наконец-то откровенны? Кстати, отчего у вас такая странная фамилия? Вроде бы не поморская…
— Не занимался древесными изысканиями, — пробурчал Куропёлкин. — Не знаю.
— Вы не допили виски, — заметил Барри. — Возможно, я испортил вам настроение. Давайте улучшим его!
Выпили.
— И в чём же я с вами не откровенен? — спросил Куропёлкин. — Что вы хотели узнать от меня? Что вам не терпится узнать?
— Прежде всего, — сказал Барри, вроде бы доверительно, вроде бы обращаясь к брату, — нам не терпится узнать, где находится южная дыра в Чемодане Бавыкина, из которой вы и были исторгнуты в Мексиканский залив.
— Опять! — воскликнул Куропёлкин. — Да кабы я знал, исторгнут я или не исторгнут, и, если и исторгнут, то в каком месте и зачем!
— Даже если вы не читали научных трудов профессора Бавыкина и имели с ним разговор исключительно о сапожном мастерстве, в натуре вашей, склонной к изысканиям и авантюрам, не могли не возникнуть определённые соображения…
— Может, они и возникали, но память о них у меня отшибло.
— Снова вы упорствуете!
— Зато у вас наверняка имеются определённые соображения, связанные с вашими интересами, мне неизвестными.
— Интересы наши вот в чём, — сказал господин Барри. — Нам важно знать всё о пробоине в Чемодане. Где проходит и как действует труба или туннель из странных проектов профессора Бавыкина.
— Полагаю, что в коммерческих целях, — попытался было съязвить Куропёлкин, но колючее продолжение фразы отменил.
— В коммерческих, — кивнул Барри. И признался, опять будто своему: — Дыру можно использовать как прекрасное транспортное средство для перебросок товара… Но и не исключены акции политические…
— До моего появления здесь, — задумался Куропёлкин, — вам подобные проекты вряд ли приходили в голову. Но теперь вы много чего накопали…
— Да уж, накопали! — рассмеялся Барри.
— Но, видимо, узнали не всё, что вам необходимо, — сказал Куропёлкин.
— Нам? — спросил Барри. — Или нам с вами?
— Я сам по себе, — сказал Куропёлкин.
— Ты меня начинаешь раздражать! — резко встал господин Барри. — Нам это надоело! Ты либо пытаешься вызнать нечто у нас, выгодное для себя, и, стало быть, ты нам — чужой. И враг. Или желаешь сорвать куш, навязав свои условия сотрудничества с нами.
— И какие же у вас условия такого сотрудничества? — спросил Куропёлкин.
— А их и нет, — с удовольствием произнес Барри. — Либо — либо. Либо — на корм аллигаторам в протоках. Либо безоговорочное исполнение наших поручений со вниманием и без лукавств.
— А если…
— Какие могут быть если! — рассмеялся Барри. — Даже если бы произошло невероятное событие и ты сбежал бы отсюда, чем бы это для тебя всё закончилось? В лучшем случае? Сообрази. Мы прищепили бы тебя к делу контрабандиста, валютчика и торговца оружием для террористов Верчунова — вот тебе и пожизненный приговор.
— Как же мне это надоело! — вздохнул Куропёлкин.
— Что надоело?
— Всё! — воскликнул Куропёлкин. И выругался.
— Не ори! — рассердился господин Барри. — Если тебе в голову забежала блажная надежда на то, что есть третье «либо», ты ошибаешься. В крайнем случае обойдёмся без тебя. Да и не в крайнем. Сами выйдем на профессора или сапожника Бавыкина. Будет нужда, доставим его и сюда. А тебя, кто б ты ни был, даже если к тебе окажутся добры аллигаторы, мы сыщем и в любом уголке литосферы. Но пока ещё попробуем разговорить партизана. И учти — с изощрениями!
«Как мне это надоело! — в отчаянии подумал Куропёлкин. — Взять, что ли, сейчас и рассказать всё, что мне известно, о Люке, в частности, вдруг отстанут или даже к делам пристроят, а там — посмотрим! Что мне жалеть всех этих дармоедов Трескучих или сумасбродных пробивателей Дыр в Чемоданах, зачем мне страдать из-за них? И вправду — зачем? А-а-а! Была не была! Расскажу!»
141
— Ещё три минуты на раздумья! Не больше! — объявил Барри. — И — допрос с изощрениями новых технологий. Предупреждаю, болевыми. Богдан, понял? Готов?
Толстый Нос встал. Сказал Куропёлкину:
— Я — бурлак. И ничего личного. Как и положено мне говорить. И заранее прошу извинения.
142
В это мгновение (впрочем, мгновений и не было) Куропёлкин перестал существовать (без технологических изощрений Барри и Толстого Носа и к удивлению флоридских собеседников). А когда ожил, оказался за одним столом с дворецким госпожи Звонковой Трескучим.
143
— Ну, что, негодяй, — произнёс Трескучий, — вернулся из дальних странствий? От нас не скроешься!
— Где я? — пробормотал Куропёлкин.
Еле нашел силы для произнесения звуков. Всё вокруг затягивало мутью. Может, он опускался на дно протоки с аллигаторами? Но значит, там и пребывал в засаде (долго ли?) неутомимый служака Трескучий? Или тот уже и сам был Аллигатор?
— Отчего же негодяй… — сумел вышептать Куропёлкин (под водой, что ли? Однако пузырьки из его рта не потянулись вверх), — где я?
— Где? Где? — расхохотался Трескучий, теперь-то, понятно, не Аллигатор. — Ясно, что не во Флориде! Но негодяй, он и во Флориде негодяй и готов изменить Родине, выдав врагам её государственные секреты!
Веки Куропёлкина склеились.
«Какие секреты… кому измена… но ведь был готов…» — поплыло в утихающем сознании Куропёлкина и утонуло.
И всё же он успел услышать чей-то знакомый голос. Но не понял, женский он или мужской. Да и не было нужды понимать.
— Оставьте его! — приказал голос. — Ему ещё отсыпаться трое суток. Если не больше.
144
Отоспался.
Но желания открыть глаза не возникало. Он будто бы ещё не проснулся.
То есть на секунду правый глаз он всё же приоткрыл и успел увидеть окно. За окном — деревья. Но окно было зарешеченное. А потому и не захотелось просыпаться.
Хотелось не хотелось, и не проснулся, но разговор двух собеседников над ним, спящим, Куропёлкин со вниманием прослушал.
Одним из собеседников был злыдень Трескучий, другим — спокойный и, видимо, знающий себе цену или расположение в Табели о рангах господин средних лет.
— Взять вилы да расшевелить его! — шипел Трескучий. — Притворяется! А он же государственный преступник! Должен быть наказан! Выдал важнейшие секреты!
— Это какие же? — вроде бы с усмешкой произнёс собеседник.
— Мы можем сверху на них насрать и нассать, — чуть было не вскричал взволнованный Трескучий, но, видимо, сообразил что-то и перешёл на таинственный шёпот, — это же похлеще атомного оружия, а им пришлось бы снизу какой-нибудь особенной клизмой отвечать на наши возможные удары. И то если бы им стало известно направление пробоины…
— Чрезвычайно вульгарное и примитивное толкование… скажем… ситуации, — заявил собеседник. — Впрочем, иного от вас ожидать и не следовало. Так какие государственные секреты и кому выдал, на ваш взгляд, преступник Куропёлкин?
— Кому, — снова принялся шептать Трескучий, — положено знать вам. А секреты, надо полагать, такие. Откуда, где и зачем он выскочил в Мексиканском заливе. И наверняка проговорился про Люк…
Тут, вероятно, Трескучему был подан предупредительный знак. Может, палец приложили к губам.
— Понял, понял… — зашипел Трескучий.
— Думаю, что вы ничего не поняли и не способны что-либо понять, — услышал Куропёлкин. — Это, впрочем, не важно. Но на чём основаны ваши предположения о выдаче государственных секретов? На догадках или на точной информации?
— На сердечной уверенности патриота! — уже громко заявил Трескучий.
— Всё ясно, — произнёс собеседник. — Мы забираем Куропёлкина.
— Вот уж нет! — вдруг возрадовался Трескучий. — Здесь частное владение, и любым вторжениям будут даны отпоры! А вы вряд ли захотите шума и огласки, при нашем-то раздолье демократии!
— Это уже не ваше дело! — зло сказал собеседник. — Хотя, конечно, естественным и законоверным будет сотрудничество с госпожой Звонковой.
Трескучий рассмеялся.
— У Нины Аркадьевны свои счёты с этим негодяем и насильником. Она имеет право разобраться с ним сама!
145
— Это её проблемы, — услышал Куропёлкин. — И её чувства. Государству они не интересны. И будьте добры, в ближайшие часы измените условия содержания гражданина Куропёлкина. Пусть, по мнению Звонковой, её обидчика… Ну, обидел её, и молодец! И она, дура, должна была благодарить его за удовольствие! Поняли? Кстати, верните Куропёлкину (прозвучало приказом) Башмак.
— Понял, — хмуро произнёс Трескучий.
146
Никаких изменений условий содержания проснувшийся наконец Куропёлкин не обнаружил.
Хотя, как же…
Решетки на окне не было. Да и окон-то прибавилось. Именно окон, а не оконцев, по ласковой аттестации горничной Дуняши-Шоколадницы.
«Ага, а в домишко-то меня поселили новый!» — сообразил Куропёлкин. Но виды-то из окон были подмосковно-знакомые, с липами и тополями и без пальм.
Люк из окон Куропёлкина виден не был.
Неужели его взяли и ликвидировали? Скажем, взорвали, засыпали или ещё что-нибудь сотворили с ним.
Вряд ли.
И денег у государства и госпожи Звонковой не нашлось бы. И уничтожать сапожную мастерскую фантазёра Бавыкина вышло бы делом исторически неразумным. И невыгодным.
Хотя кто определял теперь, какие кому выгоды были выгоднее?
Посчитаем так, постановил Куропёлкин. Скорее всего Люк камуфляжно-ловко укрыли, как Большой театр в первый год войны Отечественной.
147
Решёток-то нет (показуха для чуждых Звонковой сил?), но это не означало, что он, Куропёлкин, не находится сейчас в заточении. В одиночке замка Иф…
Следовало изучить одиночку.
Помещений Куропёлкину предоставили несколько. Чердак. Три комнаты («меблированные») на первом этаже и нечто вроде бункера под, по разумению Куропёлкина, кабинетом. Звание кабинета было присвоено им комнате с книжной полкой и письменным, надо полагать, столом. На нём из глиняной кружки торчали шариковые ручки.
Были подарены Куропёлкину душ и санитарный узел, освобождённый от совмещения услуг. Отыскал он и две двери, одну — с засовами, в прихожей первого этажа, другую — под сводами бункера. Попытки Куропёлкина открыть их и выйти пожевать травинки к удачам не привели.
Задраен был замок Иф, и аббатом Фариа нигде не пахло. Пахло левкоевых свойств парфюмом. Очень может быть, парижским.
О парижском парфюме Куропёлкин сейчас же приказал себе забыть.
Значит, заперт. Спасибо.
Значит, госпожа Звонкова сильна. И не государственным службам тягаться с ней. Ну, соблюдёт она на время правила лояльности, политических амбиций не проявит («Зачем? Упаси Боже!»), а потом его, Куропёлкина, забытого всеми, пилкой для ногтей и раскурочит. Приговор ею произнесён. Технические средства пока отказали.
Тогда Куропёлкин и ощутил, что более всего его волнует возможность встречи с госпожой Звонковой. По разнообразным причинам. Иным из них будто бы Куропёлкину неясным.
148
Однако, похоже, его и не думали кормить.
А ни кухни, ни холодильника в новом жилище Куропёлкина не было.
«Не объявить ли мне голодовку? — зашло в голову Куропёлкину. — И собрать пресс-конференцию…»
Ему сейчас же бы рассмеяться собственной дурости (кому объявить-то? какую такую пресс-конференцию?), но выходило, что последние искорки иронического отношения к самому себе потухли и излетели чуть видным дымком.
Услышал звонок в дверь первого этажа.
— Завтрак, господин Куропёлкин, — прозвучало за дверью.
— Я закрыт, я задраен, — сказал Куропёлкин.
— Над притолокой есть кнопка, нажмите на неё, пожалуйста…
Нажал. Открылось.
Перед дверью стоял молодой мужик с бабочкой и выправкой официанта, но отчего-то в поварском колпаке.
— Вы кто? — спросил Куропёлкин.
— Стюард, Евгений Макарович, — было ответом.
— Стюард? — удивился Куропёлкин. — У нас — что тут? Аэробус? Тогда предпочёл бы стюардессу. Или «Титаник»? Или подводная лодка «Волокушка»?
— Шутить изволите, Евгений Макарович, — вымучил улыбку стюард.
— Изволю шутить, — согласился Куропёлкин.
— Что ж, вам положено…
— Именовать-то как? — спросил Куропёлкин.
— Анатолием, — сообщил стюард. — Можно просто — Анатоль. Вот ваш завтрак. На скатерти-самобранке. И книга Жалоб и предложений. Заходить к вам запрещено. А потому придётся переставить наш поднос на ваш передвижной столик в прихожей.
И переставил. Со своей передвижной самобранки.
— Надеюсь, что угощения, — сказал Куропёлкин, — не пахнут горечью миндаля.
— Что вы! — воскликнул стюард Анатоль. — Наша кухня под надзором. Никаких отрав! А в случае с вами отравы… извините… неприятности в желудке… и вовсе не входят в чьи-то планы…
— Посмотрим, — строго сказал Куропёлкин.
— Всё! Я бегу! — задёргался Анатоль. — Я ничего такого не сказал. Вы ничего не слышали. Приду с обедом. Заберу посуду.
Унёсся, хлопнул дверью, но не в раздражении, а из-за спешки.
Куропёлкин хотел было выкрикнуть что-то вослед стюарду, может, блюда на обед заказать. Но не смог открыть дверь. И кнопка над притолокой не помогла.
Заперт. Задраен.
149
Завтрак на подносе был прикрыт льняной салфеткой. Вероятно, от мух.
Во второй (от прихожей) комнате к окну был приставлен круглый стол, какой можно было признать обеденным.
Сняв салфетку с даров кухни под надзором (по словам стюарда Анатоля), Куропёлкин понял, что голодовку он начнёт без объявлений, политических лозунгов и пресс-конференций.
Какую дрянь ему подали!
Еда и напитки (если они были) размещались в тюбиках и в тощих пластиковых флаконах. На них имелись этикетки с названиями блюд (блюд!) и мелкими разъяснениями приёмов глотания в условиях невесомости и экстренных ситуаций.
Его принялись готовить к путешествию на Марс, что ли? Что-что, а к изощрённым способам мести госпожа Звонкова вполне могла быть способна. И мести, и укрощения (либо устранения) конкурентов. Иначе откуда у неё миллиарды, воспеваемые журналом «Форбс».
Та ещё Нинон!
И всё же…
И всё же, все тюбики и тощебокие флаконы Куропёлкин в себя выдавил.
Со злости и от любопытства.
На Марс, так на Марс!
Нет, с такой дрянью лететь на Марс было бы скучно. Какие-то кисели, крошки гречневой каши с молоком, тягучие сопли с овсянкой, сэр, и лососёвыми отходами, лишь однажды скудные капли коньяка.
Нет, решил Куропёлкин, на Марс не полечу.
Но кто тебя спросит?
150
Отчего-то икая, будто объелся в широкую масленицу блинов, Куропёлкин отправился в кабинет. Прихватил книгу Жалоб и предложений. Жар вулканической сейчас натуры потребовал немедленно выговорить (на бумаге) требования Ультиматума.
Да что же это получается, люди добрые! Жил себе поживал припеваючи, зубочистки менял, вкушал осетрину, а порой — и свежую воблу с икрой, служил при сверкании огней и женских глаз в артистическом клубе, получал премиальные из нежных рук и зарплату, эту — в песо, то бишь не в рублях, а в валюте, и вот теперь такое с ним вытворяют! Кормят соплями из каши геркулес и фальшивых лососей!
Очень быстро Куропёлкин сообразил, что с этими слезливыми восклицаниями по поводу неустройств судьбы уместно было бы обращаться к простакам на паперти церкви в Нижних Мнёвниках или, содрав фуражку с башки, хромать в проходах пригородных электричек. И ешё. Куропёлкин вспомнил чьи-то слова. Сейчас любого, сделавшего в книге Жалоб запись длиною в страницу, можно причислить к писателям. Кто у нас нынче не писатель?
Куропёлкин писателем стать не пожелал.
На первой же странице книги Жалоб он вывел Маршальское (Адмиральское) слово: «Ультиматум!» и далее пушечными стволами прямой наводкой направил в сторону своих притеснителей и захватчиков пункты требований. В голову приходили всё новые желания с уязвлениями притеснителей (например: «Снабжать пропитанием Башмак, он давно просит Каши!»). Наконец Куропёлкин успокоился. И закончил Ультиматум совсем уж наглыми словами: «Иначе можете не рассчитывать на моё сотрудничество с вами!»
Кто, в каком именно сотрудничестве с ним, Куропёлкиным, нуждался и зачем, не имело значения.
151
Вспомнив о Башмаке, Куропёлкин решил проверить, доставлен ли он в его жилище. Нет, распоряжение, отданное Трескучему, похоже, выполнено не было.
При внимательном осмотре-обходе комнат и бункера Куропёлкин попытался выявить слуховые жучки и глаза видеокамер, не выявил. А был убеждён в том, что они есть. Ну, есть и есть, успокоил Куропёлкин себя и надзирателей. Валяйте, поощрил он их, слушайте и наблюдайте, если вам интересно. Нам, артистам, интерес зрителей важен и приятен.
При простукивании Куропёлкиным стен в столовой, напротив обеденного стола, непредвиденно открылась дверца, и из-за неё выехал плоский телевизор.
На полке рядом лежал и пульт управления медиа-средством. Всё это были подарки людей, наверняка не знавших о каком-либо Ультиматуме или Меморандуме Куропёлкина. Да и Куропёлкин в своих неопубликованных пока и никем не прочитанных требованиях о телевизорах упоминуть забыл.
Интересовала Куропёлкина сейчас лишь событийная информация. И сразу же Куропёлкин в программе «24» увидел сюжет из Японии. На острове Сикоку поспели квадратные (или кубические?) арбузы. Показывали, как эти арбузы выращивают. Муки, муки для людей. Для людей и ягод. Но — бизнес. И убогость пространств островов. И любовь японцев к новым технологиям. Тут хитрая (но по сути — простейшая) технология должна была обеспечить дешевизну транспортировки тяжёлых и безалаберно-неуклюжих (по форме) ягод. Построить их все в ряды, уложить друг над другом. Устандартить и уровнять. И прекрасно!
«А почему бы им не выращивать арбузы сразу в форме чемоданов, с ручками из бахчевых плетей?» — пришло вдруг в голову Куропёлкину.
Следующее соображение показалось Куропёлкину логичным и даже разумным. Сейчас же надо было устроить его свидание с сапожником Бавыкиным. Хотя бы для беседы по поводу починки Башмака. Но эгоизм возможного предпринимателя (при условии заиметь бахчи в Соль-Илецке или в Камызяке под Астраханью) обращаться с идеей арбуза-чемодана к чудику Бавыкину запретил. У того хватит своих забот и блажей. И Куропёлкин искажать смыслы и порядок требований Ультиматума не стал.
К тому же тотчас было разъяснено, что квадратные японские арбузы поспевают не для еды, а для интересов рекламы, так вышло, влажная плоть их приобретает форму, но не добирает сахара, и они безвкусны. Японцы хитры, но порой — и без толку. Стало быть, рентабельность идеи и бахчей в Соль-Илецке следовало ещё серьёзно обдумать.
Внутри дома ни с того ни с сего закуковала кукушка. Куропёлкин отправился по звуку отыскивать её гнездо и на чердаке увидел ходики.
Время они провозглашали обеденное.
152
Понятно, что незамедлительно позвонили в дверь.
Стюард Анатоль выглядел официантом-жонглёром, выигравшим в сытом городе Сингапуре стометровку с полным подносом в правой руке.
— Анатоль, — поинтересовался Куропёлкин, — ты опять, что ли, с тюбиками?
— Ну, понимаете, Евгений Макарович, — попытался вразумить Куропёлкина Анатоль, — я всего лишь посыльный…
— То есть опять тюбики, — заключил Куропёлкин. — При всём моём уважении к посыльным я должен под зад коленом вернуть тебя к твоим шефам из кухни «Под надзором».
— Это ведь вам на пользу! Вам! — воскликнул Анатоль. — Вас же исследуют, чтобы приравнять к лётчикам-испытателям! Или даже к… И тут свои правила питания…
— К кому, к кому? — взъярился Куропёлкин. — Может быть, ещё и к собачкам Белке и Стрелке? Впрочем, ты о них и не помнишь.
— Насчёт к кому, это мои ошибочные и ненужные догадки, — тихо заговорил Анатоль. — Забудьте о них. Так я оставлю вам обеденный поднос?
— Ни в коем случае! — грозно разъяснил Куропёлкин. — Катись с ним подальше! И более меня не разочаровывай! Поголодаю для пользы тела. Не в первый раз. И если подохну — тоже не беда.
— Вы меня обидели, — грустно произнёс Анатоль.
— Катись, катись! — подбодрил его Куропёлкин. И тут же спохватился: — Передай своим шефам вот эту книгу Жалоб и предложений.
— Ой! — спохватился и стюард Анатоль. — Разволновался и забыл. И вам велено передать посылку.
Из клеёнчатой сумы, свисавшей с ремня у левого бедра, Анатоль извлёк посылку и вручил её Куропёлкину.
Посылка в кремовой упаковочной бумаге выглядела горбатой, её стягивала бечёвка, а важность ей придавала блямба сургуча.
Куропёлкин разорвал бечёвку и высвободил из-под сургуча Башмак.
Башмак по-прежнему требовал Каши.
153
Через час в дверь снова позвонили.
И опять звонил стюард Анатоль.
— Простите, Евгений Макарович, — поспешил Анатоль, — прошу вас, не захлопывайте дверь! Два слова!
— Ну, ладно. Два слова. И не более!
— Во-первых, раз вы решили голодать, мне необходимо вернуть на кухню утреннюю посуду. Вот вам пакет.
Куропёлкин накидал в пакет тюбики и флаконы, доставил их Анатолю.
— Спасибо! Большое спасибо! — раскланялся Анатоль. — Теперь во-вторых. Люди, которые сейчас размышляют, заводить ли с вами сотрудничество, не всё поняли в смыслах некоторых ваших требований.
— Это каких же?
— Ну, например, что значит ваше последнее требование.
— Не последнее, а концевое. И что же такого особенного в этом требовании? — спросил Куропёлкин.
А сам и не помнил, что он сгоряча под конец потребовал.
— Скрасить моё одиночество, — будто чтецом телеподсказчика принялся повторять требование Куропёлкина Анатоль, — скрасить моё одиночество присутствием вблизи меня Баборыбы мезенской породы…
«Надо же! — подумал Куропёлкин. — Какие толковые мысли приходят иногда мне в голову!»
Спросил будто бы в недоумении:
— Ну, и что же тут такого непонятного? Для счастливых дней мне необходима Баборыба.
— Кто такая Баборыба? — растерялся Анатоль.
— Обыкновенная Баборыба. Мне нужна самая простая, но красивая, — сказал Куропёлкин. — Мезенская. Без чешуи, без плавников и без хвоста. Ходит по траве босиком. Рост, желательно, — 172–175 см. Шатенка. В крайнем случае, брюнетка. Но не крашеная.
— Что ещё?
— Ах да, — вспомнил Куропёлкин, — условия. Чтобы выросла на естественных кормах, без пищевых добавок и норвежских красителей для якобы форелей и лососей…
— А есть баборыбы-то?
— Вот тебе раз! — возмутился Куропёлкин. — Конечно, есть. Были и есть! В давние времена поморы в своих хождениях на кочах на Грумант брали баборыб, те и кашеварили, и врачевали… Иди! Запомни и передай непонятливым.
— Передам, — испуганно пообещал Анатоль.
— Ну и всё, — сказал Куропёлкин. — Два слова я выслушал.
И, дурак, захлопнул дверь.
А она снова и при нажиманиях на кнопку над притолокой открываться не пожелала.
Закрыт. Задраен.
154
«Ничего, — подумал Куропёлкин, — вот добудут и доставят Баборыбу, опять явятся с разговорами…»
Странно, но ни вечером, ни на следующий день желания пожрать не возникало. То ли выдавленное из тюбиков было до того отвратительным, что уничтожало в организме Куропёлкина любые аппетиты. То ли, напротив, его снабдили какой-то энергетической баландой, способной обеспечить его жизнедеятельность на дни вперёд. Или даже подготовить его к непосильным подвигам.
Каким? Стюарду Анатолю явно было назначено проговариваться. Его, Куропёлкина, якобы исследовали. Не обследовали, а исследовали. Будто бы как лётчика-испытателя. Или как… космонавта, что ли? Накось выкусите! Ни в какие исследуемые-обследуемые попадать он не согласен. Ничего с подносов Анатоля, чтобы потом не оставлять кому-то материалы для анализов, жрать не будет. Подопытной тварью сделать себя не позволит. Воду из рукомойника в санузле он попробовал, в воде разбирался, хорошая вода, в сухой голодовке он продержится неделю. А то и с десяток дней.
«Всё. Побездельничаю. Почитаю. Там какие-то книжки на полке, — разрешил себе Куропёлкин. — Телевизор смотреть необязательно. А стены надо будет попростукивать ещё раз. Вдруг какие-нибудь полезные кнопки и обнаружатся…»
Вспомнил, что на чердаке успел взглянуть лишь на ходики.
Поднялся на чердак и проторчал у чердачных окон полчаса. Виды из них напомнили Куропёлкину о походе за грибами шампиньонами. Впрочем, утверждать, что именно здесь он шлялся с пустыми бутылками в пластиковом пакете, Куропёлкин не стал бы. Возможно, его приволокли в иное поместье госпожи Звонковой.
Однако не красоты Подмосковья удерживали Куропёлкина у окон.
Метрах в пятидесяти от его жилища стояла доставленная, судя по вмятинам в траве, тягачом фура. То ли холодильник-рефрижератор. То ли прицеп для перевозки контейнеров (с японскими арбузами, мелькнула шутейная мысль).
Никаких рабочих звуков не раздавалось, муравьи в комбинезонах вблизи фуры не суетились. Стояла ли она здесь прежде, Куропёлкин не знал. Поутру наблюдать её Куропёлкину вроде бы не приходилось. Впрочем, и сейчас внизу из окон первого этажа он фуру не смог увидеть.
Мимолётное было соображение о том, что его приволокли в иное имение Звонковой, возобновившееся в Куропёлкине, вдруг расстроило его. С чего бы? А вот с чего, принялся объяснять себе Куропёлкин. Душ душем, но здесь наверняка нет Дворца водных процедур и нет смешливых массажисток Сони и Веры с их нежно-умелыми руками. И уж, конечно, в привычном для неё поместье оставлена (и к кому-то приставлена) горничная Дуняша Шоколадная. Было бы иначе, она нашла бы способ напомнить о себе.
И к горести своей Куропёлкин сейчас же понял, что мысли эти сходны со взмахами плетёной мухобойкой с намерением отогнать в жаркий день шершней и оводов. А те далеко не отлетали, но и не жалили, а оставляли Куропёлкина наедине с главной причиной его расстройства. Не было здесь камеристок Веры и Сони, горничной Дуняши, значит, в ином имении находилась опочивальня его работодательницы Нины Аркадьевны Звонковой, и в неё допускались теперь новые Шахерезады и Лароши Фуко.
«Идиот! — отругал себя Куропёлкин. — О чём ты горюешь? Необходимо прекратить думать об этой злодейке и ведьме!»
155
В день начала голодовки Куропёлкина произошло ещё одно событие.
Куропёлкин затосковал и будто в детстве прижал к щеке любимую игрушку. Вместо плюшевого медведя ею оказался Башмак. И надо же, Куропёлкин успокоился. Решил поблагодарить Башмак и погладил его. Прошёл пальцами по носу Башмака и, когда отводил руку от его пасти, нечаянно нажал на один из гвоздиков нижней, позволим сказать, челюсти.
И тут же раздалось:
— Слушаю вас!
Куропёлкин вздрогнул, отдёрнул руку.
Потом, в рассуждении «мало ли что может померещиться», снова нажал на говорящий гвоздь (гвоздики, стальные и деревянные, торчали вверху и внизу, прозвучавший гвоздик был деревянный).
— Слушаю вас, Евгений Макарович, — объявили Куропёлкину. — Что вы хотите сообщить?
— Земля имеет форму чемодана! — выпалил Куропёлкин.
— Истинно так! — был ответ.
Башмак выпал из рук Куропёлкина.
От греха подальше и чтобы не помешали сну, Куропёлкин отнёс его в бункер и прикрыл подушкой, лежавшей там на сундуке.
156
Утром Куропёлкин фуры на поляне у своего дома не обнаружил. На месте фуры стояла избушка будто бы из Берендеева царства. С резными наличниками, с высокой щипцовой крышей, с дымарём, покрытая черепицей, не малая, в пять окон по бокам и двумя узорчато украшенными крыльцами. «Ропет» — пришло в голову Куропёлкину. Хотя он не слишком хорошо помнил, кто такой Ропет. Замеченные вчера Куропёлкиным вмятины на траве, следы прибытия тягача и фуры, исчезли. Повидимому, их покрыли свежим дёрном. Как проплешины на Варшавском стадионе в дни памятно-скандальных футбольных баталий. И всё же Куропёлкин углядел неряшливости в укладке пластин дёрна. Кое-где бурела неубранная потревоженная здешняя почва. Может, по колее фуры прокладывались какие-то коммуникации, а времени на их декоративные укрытия не хватило.
Судить о назначении избушки Куропёлкин не брался. Придёт время, ему объявят. Или он сам о чём-то догадается.
Что позже и случилось.
Как и было указано стюарду Анатолю, поутру он не стал разочаровывать Куропёлкина. Не звонил он в обед да и во время ужина. Ну и молодец. Или молодцы его шефы.
И всё-таки кому-то, без подносов, позвонить в дверь не мешало бы. Куропёлкин, уж точно, не стал бы захлопывать её, попридержал бы её и всунул в щель книгу потолще… Впрочем, и тогда его усердия вышли бы бесполезными, а вмиг был бы найден способ возобновить его заточение.
Жалеть себя Куропёлкин отказывался. Жалеть принялся тугодумов-исследователей. Неловко им, видимо, являться на беседы к Куропёлкину. Не с чем. Сидели они теперь над требованиями узника и маялись. Головы ломали, бедняги.
Но, может быть, не маялись и не ломали головы. А тетрадку в линейку с его требованиями сразу же выбросили в мусорное ведро. Хотя… Хотя требование о баборыбе они всё же прочитали. И озаботились. Иначе не прислали бы с вопросами Анатоля.
Вот пускай и увлекаются историей, привычками и эротическими особенностями мезенских баборыб! Он и сам с удовольствием занялся бы практическими упражнениями с баборыбой. Но где она?
А возможно, никаких исследователей рядом и нет. И совсем в другом месте они решают мелкую заковыку с гражданином Куропёлкиным.
«И думать о них надо прекратить! — возмущенно постановил Куропёлкин. — Их нет… Но есть пока я. И буду жить, сколько дадено, сколько получится, в своих радостях. В мечтах и фантазиях!»
И вот о чём возмечтал. Явилась бы ему сейчас в струях душа золотая рыбка, он попросил бы её установить рядом с его жилищем мемориальную скамью из аллей Останкинского парка и украсить её гипсовым веслом крутобокой девушки. И чтобы хоть раз в день позволяли ему выходить, пусть и на цепи, подышать подмосковной свежестью и на час доверяли ему управление несомненным плавучим средством.
Но не спешили исследователи. Упорствовал и избежавший конфликтов с флоридскими аллигаторами Куропёлкин. (И была ли Флорида, и водились ли в ней аллигаторы?)
Но неподчиняемое разуму болезненное желание наступить на ноющий зуб потянуло Куропёлкина в бункер.
Перед тем Куропёлкин посмотрел на корешки книг, оставленных ему для утоления умственного голода. «Чур меня!» — готов был вскричать Куропёлкин. На полке стояли два коричневых тома «Анны Карениной» и три тома сочинения Стига Ларссона. Были там и другие книги, потоньше, но запоминать их названия Куропёлкин не пожелал.
И спустился в бункер. Что Куропёлкин посчитал признать ноющим зубом? Разумеется, Башмак.
Башмак лежал под подушкой и был тих. Куропёлкин осторожно приподнял его двумя пальцами, но нажать на говорящий гвоздик всё же убоялся. Позволил себе лишь прогулять Башмак по бункеру, переворачивал его так и эдак. Но ни звука не выдавил.
И слава Богу!
Куропёлкин намеревался было вернуть Башмак под подушку (хорошо себя вела), но подумал: отчего быть мебелью в бункере определили сундук с лоскутными одеялом и подушкой? Может, здесь полагалось отдыхать домовому? Против присутствия рядом с ним домового Куропёлкин не возражал бы.
Куропёлкин сдернул одеяло с сундука и стал постукивать по его крышке, надо признать, довольно обшарпанной. Сундук наверняка изготовили лет сто назад. А то и раньше.
Сундук был будто пустой.
Замок на кованых петлях не висел, и Куропёлкин приподнял крышку сундука. Чёрный колодец увиделся ему. Освещение в бункере было дрянное, и понять, насколько глубок колодец, Куропёлкин не мог.
Крышку он сейчас же и решительно захлопнул.
Отношений с колодцами иметь он более не желал.
Куропёлкин поспешил наверх, не задержался на первом этаже, испуг приволок его на чердак, при этом он принёс туда, поближе к небесам, и Башмак, в желании уберечь его от соседства с сундуком-колодцем. Башмак и так уже намаялся в путешествиях.
157
Дня четыре голодающий Куропёлкин валялся на лежанке и листал книги.
«Анну Каренину» с полки снимать он не стал. Знал, что и без ковыряний в тексте романа, и даже в случае если бы он ослаб характером и, поддавшись чужой воле, начал заново одолевать страницы Льва Николаевича и наткнулся бы на факты, порочившие влиятельного чиновника Каренина, он всё равно и у расстрельной стены выкрикнул бы: «Нате стреляйте! Но взяток он не брал!»
А вот громоздкими томами Стига Ларссона Куропёлкина неожиданно увлёкся. И ему стало стыдно. Какую чушь он, в беспечности озорства и безнаказанности, нёс в опочивальне арендовавшей его дамы. Впрочем, болтовня Куропёлкина вроде бы ей тогда нравилась. Ну, хотя бы усыпляла. Однако в романе-то, шуточно пересказываемом, речь шла вовсе не о столкновении журналиста с мошенником, а о трагической беде, вызванной деяниями нацистов. Его, Куропёлкина, клоунада не совпала с сутью жизни.
Но перед кем было ему теперь стыдно? Кабы он сам знал об этом. Оправдание: мол, барахтался в чужих правилах игры, сейчас его не устраивало. Будто бы не он сам вляпался в игры с чужими правилами! Из-за чего, кстати? Получается, из-за денег, что уж совсем Куропёлкину было противно, из-за склонности к авантюрам и принципу «А-а-а! Пусть всё будет, как будет!». А главное — из-за собственной дурости, проявленной в первом разряде Рижских или Ржевских бань! Из-за куражного состояния провинциального обалдуя, затосковавшего от одиночества (да ещё и без любви и без любящей женщины) в страшном городе, куда припёрся в грёзах будто бы здоровяка и удачника. А ведь и коренным московским жителям впору было сегодня очуметь в суете, толкотне локтями и прочих прелестях жестоких свобод и добыч.
Вот и он добыл удач целый сухогруз. Для перевозки отходов. Из порта А. в порт Б. По вертикальному боку Чемодана. Да ещё и говорящий Башмак в придачу.
158
На шестой день голодовки Куропёлкина в дверь прихожей позвонили. Куропёлкину бы вскочить и поспешить к кнопке над притолокой, а он и ноги не пожелал спустить с лежанки на пол и даже зевнул (для кого — неведомо), спать он вовсе не собирался.
Более в дверь не звонили и не стучали.
Возможно, стюард Анатоль, вспомнив о последних рекомендациях Куропёлкина и составив мнение о его натуре, отправился к шефам, на кухню, с докладом и за советами.
А Куропёлкин вскоре пожалел о том, что не поплёлся к двери, пусть как бы нехотя, в раскачку и с остановками, со скоростью откушавшего ядов таракана. Нет, голодовка пока ещё не изнурила его. Вода из-под крана и предполагаемый энергетический заряд из тюбиков поддерживали в нём чуть ли не бодрость. Истомило его ожидание чего-то неизвестного, но и неизбежного, и состояние неопределённости хода или поворота его судьбы. В частности, и чисто бытовой неопределённости. А что может быть противнее, даже и для терпеливого человека, нежели ожидание.
Так и валялся Куропёлкин на лежанке два часа, тупо клял себя.
«А не подняться ли мне на чердак и не нажать ли на гвоздь Башмака?» — лишь однажды явилось Куропёлкину осознанное желание. Оно тотчас было отвергнуто. Из-за его бесполезности. И из-за лени пожелавшего.
И всё же опять позвонили.
На этот раз Куропёлкин направился к двери. Степенно направился. Словно бы стюард Анатоль мог видеть проход по дому человека, оторванного ерундовиной от важных дел, и оценить уровень его самоценности.
— Ну, что? — сурово спросил Куропёлкин. На кнопку он пока нажимать не стал. — Анатоль, опять тюбики?
— Я не Анатоль! — услышал Куропёлкин.
Голос прозвучал женский.
«Неужели Звонкова?!» — взволновался Куропёлкин. Выкрикнул будто в испуге или с дыбы в застенках Трескучего:
— Каренин взяток не брал! Не брал!
— Мне-то что взятки и ваш Каренин!
— А вы кто? — растерялся Куропёлкин.
— Нажмите на кнопку, Евгений Макарович.
Куропёлкин нажал на кнопку и открыл дверь.
159
На нижней ступеньке крыльца стояла горничная Дуняша.
У ног её лежали кирпич и толстенная книга.
— А кирпич-то зачем? — удивился Куропёлкин.
— Вас, Евгений Макарович, единственно кирпич удивил? — спросила Дуняша. — Или даже испугал. Будто я террористка.
— В последние дни… или недели… — сказал Куропёлкин, — я отвык от женских голосов. И не узнал ваш. Так к чему кирпич?
— Да не пугайтесь вы, Евгений Макарович, поставьте кирпич на порог, чтобы дверь не захлопнулась. Или вы чем-то другим напуганы?
— Другим! — рассмеялся Куропёлкин. — Мне почудилось, что сюда явилась госпожа Звонкова.
— Ей-то зачем нужен такой визит? — сказала Дуняша. — Если бы вы ей понадобились, вас бы к ней доставили под белы руки.
— Не думаю, — возразил Куропёлкин.
— И ещё, Евгений Макарович, — сказала Дуняша, — я возвращаю вам книгу, я брала её у вас почитать…
И протянула ему первый том Стига Ларссона.
— Да у меня-то здесь на полке все три тома! — воскликнул Куропёлкин. — И я их одолел. Мне стало стыдно. Какую чушь я молол, ублажая…
— Перед кем стыдно? — быстро спросила Дуняша.
— Перед самим собой, — вздохнул Куропёлкин.
— Перед самим собой — это разумно, — оценила Дуняша. И будто бы осталась довольна ответом Куропёлкина.
— А если бы…
— А если бы, вышло б глупостью! — резко сказала Дуняша.
— Вам дозволено входить в этот дом? — спросил Куропёлкин.
— Дозволено, — сказала Дуняша. — Но лучше нам поболтать где-нибудь на воздухе. Там, за домом, есть скамейка.
— Согласен, — кивнул Куропёлкин.
И, действительно, за домом обнаружилась скамейка.
К скамье, к одной из её ножек, было приставлено гипсовое весло девушки, выполнившей нормы ГТО. А скамья, судя по инвентарному знаку, принадлежала парку «Останкино». И именно на этой скамье (или подобии её) Куропёлкин избороздил моря и океаны. Теперь он встревожился. А нет ли на спинке скамьи выжженного пучком лунных лучей названия плавсредства «Нинон»? Нет, не было. И три крысы, две большие и одна мелкая, на ней не сидели.
— Как это понимать? — спросил Куропёлкин.
— Что именно?
— И вас, Дуняша, и этот эаслуженный пароход. Или скорее — это каравелла…
— Насчёт себя я могу объяснить, — сказала Дуняша. — Насчёт пароходов и каравелл догадываюсь.
— Ну и…
— Давайте присядем, Евгений Макарович, — предложила Дуняша.
Присели.
— Не вы ли, Евгений Макарович, — сказала Дуняша, — выставили требования, а в них в первых пунктах стояла замена стюарда Анатоля на местную горничную.
— Надо же! — покачал головой Куропёлкин. — Надо же! И вы, Дуняша, стало быть, местная горничная? Или вас откуда-то срочно доставили сюда по чьей-то необходимости?
— Для вас это важно?
— Важно. Очень важно.
— Эко вы разволновались! — удивилась Дуняша. Но и укор был в её удивлении. — И что же для вас важнее узнать? Не привезённая ли я сюда специально? Или — здесь ли находится опочивальня Нины Аркадьевны? А вас тянет на место преступления?
— Не считаю себя преступником, — сказал Куропёлкин. — А важнее мне узнать, куда меня занесло или куда меня завезли на этот раз.
— Туда же, куда завозили прежде, — сказала Дуняша. — И я здешняя, и всё та же. Но у вас теперь, видимо, иной статус.
Какой у него, по предположению Дуняши, нынче статус, Куропёлкин выяснять остерёгся.
— Но здесь из окон другие виды, — сказал он, — не бродят грибники и нет…
— Люка, — подсказала Дуняша. — Всё есть, но отсюда виды, действительно, более доброжелательные.
— И Вера с Соней здесь? — поинтересовался Куропёлкин.
Дуняша нахмурилась. Долго молчала. Видно, раздумывала, стоит ли человеку с неизвестно каким статусом, не исключено, переведённого из подсобных рабочих в разряд упразднённых лиц, выдавать дворовые подробности. Но разговор, похоже, прекратить она была не намерена, Куропёлкин чувствовал это, что-то явно она хотела вызнать и от него. Для себя. Или по чьему-то поручению.
— Веры и Сони здесь нет, — сказала Дуняша. — Они высланы в отдалённые поместья Нины Аркадьевны и там выданы замуж. Вера — за тренера по конному спорту, Соня — за шеф-повара ресторана для гостей.
— С чего бы вдруг? — спросил Куропёлкин.
— Не уберегли девичью честь. Камеристкам беременность не дозволена.
— Восемнадцатый век! Крепостное право, что ли? — возмутился Куропёлкин.
— Они подписали контракты с жёсткими правилами, однако дети их будут иметь непьющих отцов с перспективами.
— Вами правит Салтычиха?
— Моя и ваша Салтычиха, возможно, и не заметила высылки камеристок. Где ей при её-то мировых затеях! Правит здесь Герасим, и вы для него, извините, даже и не жалкая собачонка…
— С этим, Дуняша, и связаны, что ли, домыслы о моём новом статусе? — предположил Куропёлкин. — И что же это за новый статус и кем он может быть утверждён?
— Вот уж без понятия, — сказала Дуняша. — Полагаю, что к вам явится наш Герасим и всё разъяснит. Но он злой. Прежде, до…
— До Люка…
— Да. До вашего грехопадения и выдворения в Люк, поговаривали, что вас возведут в советники… А теперь… А теперь вас и вовсе называют геонавтом, но неизвестно, хорошо это или плохо…
— Ничего хорошего в этой глупости нет, — мрачно выговорил Куропёлкин.
— Тем не менее вы под надзором государственных служб, пока вы Кролик, но обидеть вас будет трудно. Нина Аркадьевна, естественно, не дура, чтобы хоть в чём-то препятствовать государственным интересам.
— Ну, спасибо, Дуняша, — сказал Куропёлкин, — успокоили. Геонавтом, говорите? И Кроликом? Но кролик-то тут при чём?
— Простите, Евгений Макарович, несуразность пришла в голову, — с горячностью заговорила Дуняша. — Кролик — это из чужих слов о вас, но я их слышала.
— А что это за избушка выросла за ночь и стоит теперь за нашими спинами?
— Знать не дано, — сказала Дуняша. — Может, строят палаты к прибытию вашей Баборыбы.
— Вам и о Баборыбе известно? — удивился Куропёлкин.
— Ну как же! Ваши требования прорабатываются. Отзвуки их долетают и до внимательных ушей.
— Надо же! — сказал Куропёлкин. — Я и сам-то не обо всех их помню. Вытолкнул их из себя сгоряча и в досаде! Про скамью вроде бы ничего и не потребовал, а так, ощутил лишь некий ветерок желания.
«Экие красивости прут в голову! — подумал Куропёлкин. — Впрочем, объяснимые. Ведь рядом женщина…»
— И что же, и про Баборыбу вы не помните? — во взгляде Дуняши было явное ехидство.
— О Баборыбе помню, — с твёрдостью в голосе произнёс Куропёлкин. — И отменять это требование не намерен.
— Вот вы какой, значит, Евгений Макарович! — продолжала ехидничать Дуняша. — Подавай вам какую-то мезенскую Баборыбу, а здешние красавицы вам и за грош не нужны. Вот и отправили из-за вас Веру и Соню на выселки.
160
— То есть как? — воскликнул Куропёлкин. — Я-то тут при чём?
— Подсчитайте сроки, Евгений Макарович. Вы мужчина бывалый… А у нас тут всё происходит стремительно.
— Ну, может, там что-то и было… при первых купаниях… — пробормотал Куропёлкин. — Но я тогда подумал, что это обязательная проверка и подготовка… Почему же их именно из-за меня выслали и наградили непьющими мужьями?
— Да я шучу! Шучу! — заявила Дуняша. — А может, и не шучу… Но понимаю, отчего вам понадобилась Баборыба.
— По поводу здешних красавиц, — всё ещё пытался оправдаться Куропёлкин. — Вы ведь сами об этом сообщили, в одном из самых первых пунктов требований упоминались вы.
— Я вне ваших интересов, а вы — вне моих, — сказала Дуняша.
— Печально, — сказал Куропёлкин.
Дуняша уточнила:
— Вне ваших интересов как женщина. Замену стюарда Анатоля вы затеяли не из-за симпатий ко мне, а потому, что он вам непонятен и ненадёжен.
— Вы-то, Дуняша, для меня ещё более непонятны. Но чрезвычайно мне симпатичны. И сейчас я любуюсь вами.
И ведь, действительно, любовался. Нынче «Шоколадница» Лиотара не приходила ему на ум. Уместнее было бы назвать её Молочницей, из тех, чья кровь с молоком. Впрочем, зачем называть Молочницей? Вышло бы упрощение. Вышла бы игра в слова… Шоколадница, Молочница… Но опять поползли банальности. Крепкая, как девушка с веслом. (Весло, что ли, прислонённое к скамье, подсказало?) Рядом с ним сидела простая девушка, опрятная, пахнущая скошенными травами, хозяйка в доме, где живут сытно и ласково-уважительно друг к другу, ситцевый сарафан открывал её чистую кожу и влекущие линии её крепкого (всё же крепкого!) тела, светлые волосы её были плотно зачёсаны к затылку и спускались к плечу тугой пшеничной косицей. Серые глаза её смотрели то лучисто, то печально. Куропёлкину захотелось прижаться к Дуняше, погладить её загорелую щёку, но действия его могли оказаться для Дуняши неприятными. Для него, ощутил Куропёлкин, Дуняша по судьбе была неприкасаемой. Тоска вцепилась в Куропёлкина. Отчего же такая несправедливость?
— Вы, Дуняша, позвонили в мой каземат, — сказал Куропёлкин, — не просто так. В чём смысл вашего прихода?
— Я была направлена к вам, Евгений Макарович, горничной, — сказала Дуняша, — чтобы узнать, надо ли вам подавать еду и в каком виде. Или вы…
— Околели, — сказал Куропёлкин. — Нет, не околел. И пока сюда не доставят Баборыбу, голодовка моя не закончится.
— Тут случай сложный, — сказала Дуняша. — С рыболовством у нас сейчас очень плохо. И если вы будете тянуть, к вам готовы применить меры.
— Какие меры! — рассмеялся Куропёлкин. — Уже применяли меры!
— Вы ответили на самый существенный вопрос, — сказала Дуняша. — А про своё желание пожалеть и приласкать меня — забудьте! Оно — временное. И унесётся с вашим же ветерком желаний.
— Но вы-то, Дуняша, и ещё о чём-то хотели у меня узнать…
— Ни о чём! — резко сказала Дуняша. — Да, забыла сообщить вам. Вас называют не только Геонавтом и Кроликом, но ещё и каким-то Пробивателем.
— Понял, — сказал Куропёлкин. — Но с мастером восстановления обуви я не имел общений со дня охоты за грибами шампиньонами.
— Неужели? — удивилась Дуняша.
— Именно так, — сказал Куропёлкин.
— А Башмак? — спросила Дуняша.
— Поутру он находился в этом доме, — сказал Куропёлкин. — Путешествовал вместе со мной. Единственно, потерял свойственный московским помойкам запах.
— Это не страшно, — сказала Дуняша. — Не искушайте его. Берегите. Не нажимайте на что-либо в нём. Он ничего не сообщал вам?
— Ничего, — сказал Куропёлкин. — Мне-то зачем водить с ним разговоры?
— Тем не менее он может однажды заговорить сам и попросить вас о чём-то, — взволнованно произнесла Дуняша.
— Принял к сведению, — кивнул Куропёлкин.
— Ну, всё, — встала Дуняша, поправила подол сарафана. — Миссия исчерпана.
Встал и Куропёлкин.
— Дуняша, — сказал он, — вы не знаете, что это за колодец в моём, будем считать, доме?
— Какой колодец? — заинтересовалась Дуняша.
— Я приподнял крышку сундука в бункере и увидел черноту колодца. Не филиал ли это Люка?
— Обжёгшись на молоке… — покачала головой Дуняша. — Нет в вашем доме никаких колодцев. Сундук в подвале — обыкновенный, для меховых вещей и валенок с галошами. Может, ещё пригодится в зимнюю стужу. Может, вашу Баборыбу привезут сюда на санях тройки с бубенцами и в рыбьих мехах.
— Ехидничаете, Дуняша, — сказал Куропёлкин. — Досадила вам моя Баборыба.
— Всем досадила…
После этих слов Дуняша чмокнула Куропёлкина в нос и рассмеялась:
— Счастливого вам голодания! Полагаю, что дней через пять меня пригонят сюда опять. Для оценки вашей жизнедеятедьности. И увижу я рожки да ножки. Покатятся слёзы из моих очей!
Ехидства не было в её глазах. А лукавство было.
— Слёзы мне не нужны, — сказал Куропёлкин. — А визита вашего буду ожидать с надеждой.
161
Проводив Дуняшу (взглядом всего лишь, но и чувством: «Ноги-то у неё какие красивые, ядрёной крестьянки, но должной носить не лапти, а туфли на шпильках»), Куропёлкин отправился в бункер к сундуку.
Прежний осмотр сундука вышел нервно-торопливым. Теперь Куропёлкин спешить не стал. Поднял крышку и почувствовал: пахнет, не резко, но пахнет нафталином. Домашний запах этот, знакомый и горожанину, и сельскому жителю, успокоил Куропёлкина, и он позволил себе согнуться и чуть ли не головой достать днища сундука. Колодца не было. Куропёлкин рассердился. На себя. Что же он испугами своими озадачивал Дуняшу? В сердцах он даже попытался сдвинуть сундук в угол бункера. И сдвинул. Пол под сундуком был земляной.
Для чего затащили в бункер сундук, Куропёлкин размышлять не стал. Хотя почему бы и не поразмышлять. Не обязательно о сундуке. Но и о сундуке, как о мелочи. А так следовало переварить всё, что он узнал в общении со здешней горничной Дуняшей.
Подошёл к двери в прихожей и увидел, что кирпича, обеспечивавшего свободу двери, и книги, возвращённой ему, нет. И сколько он ни нажимал на кнопку над притолокой, дверь ему открыть не позволили.
162
«Перебьёмся», — подумал Куропёлкин.
В бункере он обнаружил металлическую перекладину и возобновил простейшие упражнения для напряжения мышц.
Дуняша стращала его приходом с проверкой его жизнедеятельности (или просто жизнеспособности) через пять дней. А дверь в прихожей заскрипела и отворилась на два дня раньше.
Посещали Куропёлкина управляюший воевода Трескучий в сопровождении двух молодцев, известных Куропёлкину ещё по ночному клубу «Прапорщики в грибных местах», тогда вминавшихся в стены у столика мадам Звонковой.
— Добро пожаловать, господин Трескучий! — вежливым хозяином проявлял себя Куропёлкин.
— Трескучий-Морозов! — гневно поправил его визитёр.
— Ах, извините, господин Морозов-Трескучий! — воскликнул Куропёлкин. — Или гражданин?
— Не паясничай! — крикнул Трескучий.
Решительно, важной персоной он прошёл в комнату, названную жильцом «столовой», уселся на стул и приказал Куропёлкину:
— Иди сюда!
Куропёлкин последовал, хотел было присесть на стул напротив домоуправителя, но Трескучий заорал:
— Стоять!
— То есть я должен стоять, как царевич Алексей перед папашей Петром на картине Ге, так что ли? — спросил Куропёлкин.
— Какого ещё ЕГЕ?
— Не ЕГЕ, — сказал Куропёлкин, — а Ге. ЕГЕ — это из школы для воспитания любителей сканвордов. А я присяду. Отчего это я буду стоять перед вами?
— Оттого, что ты негодяй, насильник и государственный преступник! — с ударом кулака по столу и прокурорским грохотом в голосе произнёс Трескучий-Морозов.
При этом он снял чёрные очки, изготовленные для того, чтобы наводить на окружающих ужас, достал жёсткий футляр, хранилище изделия оптиков, защёлкнул его, а Куропёлкин успел прочитать на крышке футляра золочёные слова: «Константин Подмышкин, кутюрье. Маде ин Люксембург. Если не будете видеть, вернём доллары».
«Подмышкин вроде бы снабжал Звонкову, — вспомнил Куропёлкин, — нижним бельём с подогревом…»
А Трескучий поднял глаза и вперил взгляд в Куропёлкина.
Взгляд этот был совершенно зловещий.
Куропёлкин на секунды задумался: что это за банальность явилась ему в голову — «вперил взгляд»? Как можно вперить взгляд? И вообще, что такое — вперить?
Впрочем, о чём он думал сейчас?!
Молодцы тут же оказались рядом с Куропёлкиным.
— А почему они не прихватили наручники и дубинки для усмирения негодяя? — спросил Куропёлкин.
— Обойдутся и без дубин. Они способные, — обнадёжил его Трескучий. — Продолжи только валять дурака!
— Хорошо, — сказал Куропёлкин. — Тему государственных преступлений оставим пока в отдалении. Не вам, господин Трескучий-Морозов, решать, кто государственный преступник, а кто нет. Для этого есть более компетентные люди. А с чего вы взяли, что я насильник?
— Ну, ты, Куропёлкин, наглеешь! — снова вскричал Трескучий. — Или ты не знаешь, что делают в зоне с такими, как ты? Узнаешь!
— А что, есть заявление потерпевшей? — спросил Куропёлкин. — Или оно вот-вот будет написано?
— Ну… — протянул Трескучий. И жестом повелел молодцам проветриться на солнышке в воздушных струях.
— Я так и знал, — сказал Куропёлкин, — что никаких заявлений и жалоб на меня нет, да и потерпевшей, похоже, нет.
— Ты, негодяй, нарушил правила контракта и должен быть наказан!
— А я разве не был наказан за какой-то необязательный для пунктов контракта поступок? — спросил Куропёлкин.
— Я что-то этого не помню, — сказал Трескучий. — Ты вот сидишь напротив меня живой, здоровый и наглый. И голодовка тебя не изнуряет. Или, может быть, тебе кто-то подносит жратву?
— Пчёлки подносят нектар и амброзию, — сказал Куропёлкин. — Только залететь не могут. Даже форточек здесь нет. Что же касается наказания, то оно было смягчено вашими милостями, господин Трескучий, той самой пол-литровой дозой водки, без неё, скорее всего, я и не смог бы стать Пробивателем. За что я вам благодарен.
— Каким ещё Пробивателем? — будто бы не понял Трескучий.
— Толком не знаю, — сказал Куропёлкин. — Но, видимо, мне скоро разъяснят.
Лукавил Куропёлкин. Лукавил.
— Насчёт государственного преступника и насильника мы вроде бы разобрались, — сказал Куропёлкин.
— Не разобрались, — категорично заявил Трескучий. — Ещё будем разбираться. Вот вернётся Нина Аркадьевна!
— А насчёт негодяя-то как? — спросил Куропёлкин. — И тут надо дожидаться присутствия госпожи Звонковой?
— Не надо, — сказал Трескучий. — Генетическая экспертиза позволит определить твою вину в доведении до потери чести невинных, по сути дела, юных камеристок Софьи и Веры…
Трескучему бы слезу пролить по поводу драмы камеристок.
— Вот как! — возмутился Куропёлкин. — Интересно! Очень интересно! А если я не соглашусь подвергать себя генетической экспертизе?
— Заставим!
— А вдруг мои исследователи, — предположил Куропёлкин, — посчитают ваши экспертизы лишними, мешающими им?
Какие исследователи, Трескучий спрашивать не стал. Знал какие.
— У них нет на тебя прав! — сказал Трескучий. — Все права на тебя — у нас. Мы живём в законопослушной стране, и никакие системы не могут нам что-либо указывать. А испорченные тобой девушки Вера с Соней напишут заявления, о каких ты напомнил.
Куропёлкин растерялся.
— Что вы хотите от меня? — спросил он. — В чём смысл вашего прихода?
— Вот уж нет необходимости объяснять… — начал Трескучий.
— Узнику, в темнице сырой, — подсказал Куропёлкин.
— Именно так, — сказал Трескучий. — Требовалось напомнить тебе, кто ты есть. Ты узник. И ты наш узник. А темница у тебя, к сожалению, не сырая. Общение же с тобой так называемых исследователей возможно лишь в случае, если мы и Нина Аркадьевна проявим добрую волю. Но положение твое от этого не изменится.
— То есть, — сказал Куропёлкин, — вы полагаете, что продержите меня узником до окончания срока контракта? Но ведь я видел в нём пункт о возможностях разорвать контракт. Кстати, мне так до сих пор и не выдали экземпляр контракта.
— Выдадим, выдадим! — рассмеялся Трескучий. — Ты, Куропёлкин, — полный идиот и специально валять дурака тебе не требуется. Завтра же покопаемся в канцелярской пыли и выдадим тебе контракт, тобою подписанный. И чего там только не будет нагорожено в пользу законных прав работодательницы!
— Нина Аркадьевна, — сказал Куропёлкин, — имеет репутацию делового человека, порядочного в отношениях со своими партнёрами.
Теперь Куропёлкин вызвал у Трескучего приступ истерического хохота.
— Это ты-то, Куропёлкин, — отхохотав сказал Трескучий, — для госпожи Звонковой партнёр? Да после того, что ты с ней сделал, она ждёт не дождётся, чтобы раздавить тебя, как гадину!
— А что такого плохого я ей сделал? — сказал Куропёлкин. — Я доставил ей удовольствие. Так посчитали и сведущие люди. Я слышал. Среди прочего, господин Трескучий, камеристки и я в день прихода в опочивальню действовали по вашим инструкциям, и, стало быть, камеристки со мной вместе ни в чём не виноваты, и не вы ли снабжали меня секретно-нейтрализующим спецбельём, внезапно оказавшимся негодным?
— Ах, вот ты как заговорил! — вскричал Трескучий. — Ты — никто! Ты ни для кого не существуешь! Тебя нет.
— Как это нет! — возмутился Куропёлкин. — Меня никто не вычёркивал из списков избирателей. И я обязан исполнять свой гражданский долг. А меня могут избрать депутатом или президентом. И если что, я напишу заявление в Конституционный суд о нарушении моих прав.
— Оно туда не дойдёт!
— Найду способ.
— Не дойдёт! — продолжал веселиться Трескучий. — Ты из мёртвых душ. Тебя нет. Ты шёл, шёл и вдруг — бац! — провалился в колодец!
163
— Уже проваливался, — сказал Куропёлкин.
— На этот раз ты не возродишься! Да и колодец, как средство, не обязателен, — скривился Трескучий.
— Такое ощущение, господин Трескучий, что это не работодательница Звонкова, — сказал Куропёлкин, — ждёт не дождётся, чтобы придавить гадину, а вы…
— Закрой рот! — приказал Трескучий. — Ты меня достал!
— Вы меня возненавидели, — не мог остановиться Куропёлкин. — Я — ваша оплошность. Но вы возненавидели не её, а меня.
— Хватит! — мрачно произнёс Трескучий. — Слова о том, что ты очень скоро будешь в мёртвых душах, — не шутка.
— Верю! — сказал Куропёлкин. — И чувствую: что-то вас останавливает от поспешных действий. Что-то вы хотите от меня узнать. Или получить.
— Всё ещё продолжаешь наглеть! — Трескучий встал. Но молодцев для подтверждения свирепости угроз приглашать не пожелал. — А ведь ты мог бы усмирить гордыню и постараться предпринять что-то для облегчения своей участи.
— Написать чистосердечное признание, что ли? — спросил Куропёлкин. — И в чём же?
— Это ещё успеется, — сказал Трескучий. — А пока я жду твоего сотрудничества с нами… Со мной.
— Какого рода сотрудничества? — заинтересовался Куропёлкин.
— Информация о характере и корысти исследователей, с которыми тебе всё же придётся контактировать. Это сотрудничество вызвано обережением интересов Нины Аркадьевны. И…
— Вас понял, — сказал Куропёлкин. — И…
— И… — совсем уж неожиданно для Куропёлкина шепотом (только что по сторонам не оглядываясь) произнёс Трескучий. — Тут вопрос деликатный… Есть такой человек… Бавыкин… Тебе не приходилось с ним встречаться?
— Не помню, — быстро сказал Куропёлкин.
Трескучий сощурил глаза:
— А с чего бы ты тогда… в ту ночь… кричал: «Земля имеет форму чемодана!»?
— Не знаю, — искренне сказал Куропёлкин. — Блажь какая-то! Будто бы и не я кричал!
— Ну, хорошо, — спокойно выговорил Трескучий. — Не помнишь, ну и не помнишь. Не знаешь, ну и не знаешь. Но раз в чьих-то дурных мозгах завелась мысль посчитать тебя Пробивателем, встреча с Бавыкиным возможна. И если даже она не произойдёт, то всё равно в беседах с тобой эта фамилия будет упоминаться, и ты, хмырь нагло-сообразительный, поймёшь, о чём идёт речь.
— И что? — спросил Куропёлкин.
— А то, что всё, что связано с Бавыкиным, должно быть известно мне.
— То есть вы склоняете меня к тому, чтобы я стал осведомителем? — сказал Куропёлкин.
— Мне склонять тебя к чему-либо противно! — брезгливо произнёс Трескучий. — Меня заботит спокойствие и здоровье Нины Аркадьевны. А тут возникает, знаю это, опасность для её процветания.
И далее было сказано уж совершенно доверительно:
— Ведь и тебе, я знаю, Нина Аркадьевна не безразлична… Ради неё-то…
И сразу же Трескучий поспешил:
— Я не в тех смыслах. Мне главное — процветание большого дела и государственное служение! Ну, так как?
— Я понял! Понял! — заверил Куропёлкин. — Но если я сейчас же поднесу ладонь к виску, не имея фуражки, как делают, ямайкские бегуны, и заявлю: «Есть. Сегодня и приступаю!», вы мне не поверите. Так что дайте мне время подумать.
— Даю! — великодушно сказал Трескучий. — Два дня. И хватит дурью маяться. Прекращай свою голодовку. Иначе будем кормить насильственно.
— Это вряд ли у вас выйдет, — сказал Куропёлкин. — Я человек — упёртый. И пока мне не предоставят для совместного проживания Баборыбу, голодовку я не отменю.
— Где же я добуду эту идиотскую Баборыбу? — вскричал Трескучий.
— Почему именно вы? — сказал Куропёлкин. — Мои требования адресованы многим. А идиотская Баборыба мне вовсе не нужна.
— А ты, что, не понимаешь, что твоё требование иметь сожительницу, да ещё и особенных свойств, в чешуе, может огорчить тонко чувствующую и беззащитную женщину, одну из самых достойнейших?.. — сказал Трескучий.
— Это кого же? — спросил Куропёлкин.
— Всё, что тебе было положено знать, — сказал Трескучий, — ты от меня узнал. Итак — два дня.
164
«Блефовал Трескучий, блефовал! — решил Куропёлкин. — Давить и размазывать меня, как гадину, ему невыгодно. Какой во всем этом деле, кроме неприязни ко мне и опасений, связанных с личностью профессора Бавыкина, у Трескучего интерес? Неужели наш сухой деляга и циник влюблён в Нину Аркадьевну Звонкову (как вурдалак в ведьму?) и видит в приближавшихся к ней людях враждебных ему негодяев?»
Нет, размышлял Куропёлкин, это слишком простоватое суждение. Хотя есть в нём и здравые предположения. Куропёлкин и раньше не исключал того, что Трескучий не просто верный служака, но и влюблённый в хозяйку… Кто? Рыцарь? Офицер? Самец-мужик? Вряд ли — Рыцарь (хотя именно Рыцарем Трескучий мог держать себя в своём понимании жизни)… Но всё это неважно, рыцарем ли, самцом ли, вурдалаком ли, неважно! Двигало Трескучим несомненно нечто более для него существенное, нежели симпатия или любовь к женщине. Что-то было поверху видимых деяний и служений управляющего Трескучего, что-то значительное влекло его к планетарным или даже космическим, по понятиям Трескучего, удачам, и, если бы удачи эти состоялись, оправданно-выгодным приложением к ним вышла бы любовь к персонажу журнала «Форбс».
Тщеславным существовал в представлениях Куропёлкина господин Трескучий-Морозов. Тщеславным. Дать бы ему Волю. Дать бы ему Власть. А помнил Куропёлкин о людях, какие получали (иные добивались сами, чаще всего способами подлыми) Власть и Волю и обещали дать Волю толпам. Как бы не оказался таким господин Трескучий. Не мог верить ему Куропёлкин. И не собирался этого делать.
А блефовал Трескучий, решил Куропёлкин, вот почему. Натуру его, Куропёлкина, Трескучий изучил и посчитал, что он её понял. Напрасно так посчитал. Куропёлкин был нужен ему, как некое временное подсобное средство (информатор, связной, ну, и ещё кто-то — пока Куропёлкиным не разгадано, разгадаем, а теперь прикинемся напуганным и корыстным).
Кстати, сообразил вдруг Куропёлкин. Было произнесено: «Всё, что тебе было положено знать, ты от меня узнал…» Ну, уж дудки! А деньги? А с деньгами-то как? Пусть предоставляют справки из бухгалтерии, сколько уже заработано арендованным тружеником, посылали ли деньги в Волокушку и прочее!
Пока не отчитаются и пока не доставят мезенскую Баборыбу — никаких соглашений ни с какими силами!
165
По поводу успешной поимки и доставки к нему Баборыбы Куропёлкин разумно-трезво сомневался.
Сам он был способен отлавливать Баборыб лишь во снах.
166
Сны эти были иногда — сладостные. Иногда — кошмарные.
167
Через два дня Трескучий посетил узника один. Без молодцев. Выглядел он вялым и будто бы чем-то (или кем-то) оконфуженным.
А Куропёлкин ожидал его финансово озабоченным. Впрочем, посчитал, что воителем ему проявлять себя пока не стоит, а лучше побыть жалобщиком. Пусть он для Трескучего остаётся напуганным и корыстным.
— Чтой-то ты такой отощавший? Скелет какой-то? — с интонациями сострадающего коллеги, посещавшего в лечебнице больного товарища, может, даже безнадёжно больного, поинтересовался Трескучий.
— Потрогайте мои бицепсы, — предложил Куропёлкин.
Трогать Трескучий не стал. Побрезговал.
— Вид у тебя какой-то нерадостный, — сказал Трескучий.
— Затосковал, — вздохнул Куропёлкин.
— С чего бы?
— Сон приснился дурной, — сказал Куропёлкин. — Волокушку увидел. Избу нашу. Избы наши северные, крепкие, а тут вроде бы крыша стала протекать, и близкие мои сидят оголодавшие, в продуктовые лавки не выйдешь с пустыми карманами…
— Это ты к чему? — насторожился Трескучий.
— А к тому, господин Трескучий… — начал Куропёлкин.
— Морозов, — напомнил Трескучий.
— Мне проще было бы обращаться к вам по имени и отчеству, — сказал Куропёлкин.
— Ещё чего! — нахмурился важный сановник. — Для тебя я именно господин Трескучий-Морозов. И более никто. Пока. Так к чему ты клонишь?
— А к тому я клоню, господин Трескучий-Морозов: а фантики-то где? Я провожу дни на галере в окружении аллигаторов, условно говоря, а исполнение финансовой благодарности-то где? Вот я и затосковал. Тем более что средств на пропитание меня вы не тратите. Совесть-то где ваша?
Выговорив это, Куропёлкин тут же голову в плечи втянул. Ожидал грома с молниями и градом, залпа корабельных орудий. Но господин Трескучий-Морозов даже и на крик не перешёл. Он будто растерялся. Он будто был не готов к ответам на финансовые претензии подсобного рабочего (или кто теперь Куропёлкин?).
— Не имею доступа к финансовой деятельности концерна. Не в курсе работы бухгалтерий и кассиров, — сказал Трескучий. — Вот вернётся человек компетентный, разберёмся.
«Не мой ли это работодатель? — подумал Куропёлкин. — Хотя что в этом странного? Странность в том, что Трескучий не стал читать мне мораль, упрекать в скупердяйстве и не сообщил, что я из-за своих негодяйских поступков — доведении невинных барышень до потери чести, например, — вообще лишён каких-либо денежных компенсаций и вознаграждений».
Напротив, Трескучий был нынче, похоже, доброжелателен к Куропёлкину и ни о каких его проступках не напомнил. И даже не попытался поставить под сомнение саму необходимость оплаты трудов Куропёлкина.
Из чего можно было вывести суждение о том, что он, Куропёлкин, в ближайшие дни, предположим, до возвращения компетентного человека, не должен был опасаться преследований и гонений. Впрочем, это суждение могло оказаться ошибочным, а Трескучий в своих интересах валял дурака.
Но Куропёлкин уже подготовил себя к отпору атаки господина Трескучего-Морозова. Нет справки об авансе, выплатах, отправке денежных переводов в Волокушку, нет Баборыбы, и, стало быть, двух дней на раздумывание было недостаточно.
— Я тебя не тороплю, — упредил Куропёлкина Трескучий. — Два дня прошли, но я тебя не тороплю. Думай, думай. А если надумаешь, учти. Задача твоя будет усложнена.
Будто бы и не с узником, и не с государственным преступником вёл сейчас разговор Трескучий.
— Какое-то движение происходило вчера и сегодня в свежей соседней избушке… — на всякий случай сказал Куропёлкин.
— Ты что — видел? Что-то слышал? — нервно спросил Трескучий.
— Нет, — сказал Куропёлкин. — Просто почувствовал.
Он чувствовал, что и работодательница его и финансово компетентный человек находятся вовсе не в отдалении и тем более не в заморских странах, а где-то здесь, рядом, но говорить об этом Трескучему не стал.
— Слушай и смотри! — чуть ли не приказал Трескучий. — И будь внимательнее к мелочам.
— Самому было бы интереснее смотреть и слушать. Да что увидишь из чердачного окна? — сказал Куропёлкин. — Хоть бы на час в день разрешали посидеть на скамейке. Пусть и под присмотром. Зачем тогда доставляли скамью?
— О скамье не тебе судить, — сказал Трескучий. — И не мне. Но если пожелаешь принимать из рук горничной шашлыки и цыплят табака, получишь право на прогулки.
— Я не могу отменить требование о Баборыбе! — решительно сказал Куропёлкин.
— Мы можем отменить подачу в этот дом воды.
— Вам не позволят, — сказал Куропёлкин.
— Откуда тебе известно?
— Откуда, не знаю, — сказал Куропёлкин. — Но известно.
— Те, которые якобы не позволят, — сказал Трескучий, — голодающим тебя не потерпят. Не желаешь есть шашлыки по-карски, цыплят под прессом, и я бы ещё, пойдя на нарушение правил, пиво с воблой добавил, будешь заглатывать их гадости.
— Не добудут Баборыбу, — сказал Куропёлкин, — ничего от меня не добьются.
— Ну, ладно, — встал Трескучий. — Дуракам везде у нас дорога.
Вспомнил о чём-то. Или сделал вид: мол, только что вспомнил о какой-то пустяковой мелочи.
— Да! Мы вернули тебе Башмак. Как он? Что с ним?
— Вернули, — подтвердил Куропёлкин. — И, видимо, изучили. Но ремонтировать не стали. До вашего прихода сегодня он стоял на чердаке.
— И более ничего?
— Ничего, — пожал плечами Куропёлкин.
— Береги его, — посоветовал Трескучий.
— А как же! — воскликнул Куропёлкин. — Он же мне будто родственник. Мы с ним столько путешествовали! И не вы ли подбросили его тогда в мусорный контейнер?
— Об этом помолчим, — сказал Трескучий.
И убыл по делам.
168
«Что-то изменилось, — подумал Куропёлкин. — Что-то заскрипело в здешнем королевстве… Но мне-то что от этого? Ведь дозволения ни у кого не спросят, а возьмут и, действительно, отключат воду…»
Не отключили.
Но теперь к затосковавшей будто бы во сне натуре Куропёлкина добавилась тоска реальная. Затосковал желудок. Слюны прибавилось, и пищеварительные соки потребовали для себя работы.
Шашлык по-карски, не снятый с шампура, запах дымка, капли горячего сала стекают на блюдо, а на нём уложены кружочки фиолетового крымского лука и ломти тёплого ещё, чуть подсоленного лаваша, а рядом — соусник с гранатово-ткемальным услаждением; примятый гнётом цыплёнок табака, корочка золотистая, манящая, мясо острое от приправ и чесночной подливы, отрываешь пальцами хрустящее крылышко — одно удовольствие; а уж если и в вобле к пиву обнаружилась бы непересохшая икра, то о чём можно было бы ещё мечтать? Ну, скажем, попросить у Трескучего ко всем подаркам голодающему добавить (давно не пробовал) белоснежный брус сливочного пломбира, стоивший в бронзовом веке сорок восемь копеек?
Да на кой сдалась Куропёлкину Баборыба, плавающая лишь в его снах!
Эким тонким провокатором повёл себя господин Трескучий. Почему — тонким? Не он ли, Куропёлкин, сам потихоньку подготовлял себя к искушениям?
Видимо, возникла какая-то необходимость для Трескучего и наверняка для его работодательницы в том, чтобы создалось впечатление, будто именно их усилиями Куропёлкин был сломлен и отказался от голодовки и Требований, а не в ходе сотрудничества с чужими силами. То есть вышло бы, что он свой, здешний, и все права на него истинно существуют лишь в пределах условий контракта.
«Ага! Сейчас! — взъерепенился Куропёлкин. — Шашлыками и воблой решили меня купить и урезонить!»
Он тут же вспомнил слова Трескучего о том, что требование получить сожительницу, да ещё какую-то Баборыбу, чрезвычайно огорчит одну из самых достойнейших женщин, естественно, Нину Аркадьевну Звонкову, и мысль об этом решительно возбудила в нём бунтаря.
169
В упованиях он провалялся на лежанке часа два.
Задремал.
И был разбужен бесцеремонным похлопыванием чьй-то руки по плечу.
Над ним стояли два молодых человека в тёмно-синих пилотках и в тёмно-синих же, похоже, фирменных куртках, возможно, из персонала обслуги воздушных перевозок. А возможно, и из каких-нибудь особенных служб.
— К чему такая бесцеремонность? — возмутился Куропёлкин. — Человек отдыхает, а вы…
— Вы ошибаетесь, Евгений Макарович, мы старались быть деликатными. Но отдых ваш пришло время прервать.
— Вы кто? — спросил Куропёлкин.
— Мы те, кто должен показать вам дорогу в лабораторию. Я — Николай. Он — Василий.
— Пока не добудете Баборыбу — никаких лабораторий! — заявил Куропёлкин.
— Не слышали о баборыбе, — сказал Николай. — Нам лишь поручено довести вас до лаборатории. И всё. Один вы не найдёте туда дорогу.
И было Куропёлкину понятно, что они от него не отстанут.
— Ну, ладно, — сказал Куропёлкин, — надо привести себя в порядок.
— Приводите, — согласился Николай. — Ну вот. Теперь мы спустимся в подвал.
— В бункер, к сундуку, — сказал Куропёлкин.
Николай взглянул на него. Но слов не произнёс.
Спустились.
«Сейчас шарахнут чем-нибудь по башке, откинут крышку сундука и сбросят в колодец, какого якобы нет…» — подумал Куропёлкин.
— Не нервничайте, Евгений Макарович, — сказал Николай, — мы отвечаем за вашу безопасность. Вы нужны науке целым и здоровым.
170
В бункере крышку сундука откидывать не стали, а провели Куропёлкина сквозь стену. Или стены.
171
И стали показывать дорогу.
Можно было сравнить путешествие Куропёлкина с хождением москвича, выбравшегося из вагона аварийной подземной электрички и поспешавшего к спасительно-спокойному месту в пространстве. Были и отличия. Под ногами Куропёлкина не имелись шпалы и рельсы, не обгоняли его истерично орущие в панике люди, а Куропёлкину не было нужды поспешать, выхода на поверхность Земли, видимо, не предполагалось. И люди в темно-синих пилотках сопровождали его спокойные. Николай и Василий. То ли конвоиры, то ли санитары.
Поначалу Куропёлкин полагал, что при его проходе в Лабораторию создадутся картины, знакомые ему по фильмам об учёных, в частности и отечественным. Покатятся какие-то вагонетки или электрокары с установками-роботами, откуда-то примутся выбегать люди в стерильных халатах с криками: «Термояд! Нет, не термояд! А я говорю, термояд!» Ну, и прочее.
Ничего похожего не наблюдалось.
Скучно было Куропёлкину.
«А не ведут ли меня к профессору Бавыкину?» — мелькнула мысль.
— Что-то далеко шляться приходится, — высказался Куропёлкин.
— Увы, всё из-за юридических утрясок, — как будто бы согласился с его досадой Николай. — Впрочем, вот мы и пришли.
172
Нет, привели Куропёлкина вовсе не к профессору Бавыкину.
А жаль.
Белая дверь с табличкой «Лаборатория» висела (или стояла?) в воздухе, и когда сопровождающий Василий просительно постучал по ней, она дёрнулась, повалилась набок и исчезла, а второй сопровождающий, Николай, жестом пригласил Куропёлкина в Лабораторию.
— Всё. Наша миссия закончена. Заходите.
И Куропёлкин зашёл в зубной кабинет.
173
Легко себе представить, какие ощущения может испытать даже отважный и умеющий переносить боли человек, если его, ни с того ни с сего и не предупредив, возьмут и втолкнут (Куропёлкина, впрочем, никто и не вталкивал) в зубной кабинет.
Но очень скоро Куропёлкин понял, что он обманулся и попал вовсе не к стоматологу. Хотя дядя в белом халате вполне мог сойти и за стоматолога. Померещились Куропёлкину и орудия пыток — бормашины тридцатилетней давности, клещи, никелированные крюки, ванночки для сплёвывания слюны с кровью. Они будто бы были в момент прихода, а сейчас исчезли.
Дело было сделано. Кем-то. Эффект произведён. В лечебных заведениях Куропёлкин чувствовал себя беззащитным и готов был подчиняться любому требованию медицины.
И теперь он заробел.
— Добрый день, Евгений Макарович, — сказал лжестоматолог, — зовут меня Александр Семёнович. Ну что ж, начнём…
— Чего начнём? — хмуро спросил Куропёлкин.
— Ну, если не начнём, то продолжим, — сказал Александр Семёнович.
Сейчас же под его нижней губой появилась рыжеватая бородка клинышком, и Куропёлкин обеспокоился: не станет ли лабораторный человек называть его «батенька»?
— Чего продолжим? — теперь уже грубияном поинтересовался Куропёлкин. — Вы, кстати, доктор?
— Доктор, доктор! — успокоил его Александр Семёнович.
— Вам бы надеть пенсне, и вы бы стали похожи на меньшевика, — сказал Куропёлкин.
— На кого?
— На меньшевика. Были такие люди. В революционных фильмах они спорили с большевиками, а те их потом ставили к стенке.
— Спасибо за изящное сравнение, — сказал Александр Семенович. — А продолжим мы исследование вашего организма.
— Я не давал согласия ни на какие исследования! — возмутился Куропёлкин.
— Вы, конечно, Евгений Макарович, достояние республики, — сказал доктор, — но вы и обыкновенная человеческая особь…
— Что значит «достояние республики»? — удивился Куропёлкин. — С чего вы взяли?
— Так мне объявили, — обиженно сказал Александр Семёнович. — Чем вызвана эта оценка, не знаю. Но для меня вы простой гражданин, и вы обязаны подчиниться общественному правилу, то есть пройти диспансеризацию. Проводят её по месту жительства, и потому с разрешения Нины Аркадьевны Звонковой мы явились сюда. Тем более что в последний раз вы проходили диспансеризацию четыре года назад.
— Она, то есть госпожа Звонкова, в курсе дела? — спросил Куропёлкин.
— Конечно, конечно, — заверил Александр Семёнович. — И никаких предварительных условий выслушивать мы не обязаны. Диспансеризация есть диспансеризация.
Куропёлкин скис. Слова о Баборыбе проглотил.
— Раз надо, — сказал он, — то — что же…
174
И началось.
И покатилось.
Куропёлкину сразу стало понятно, что он втянут в нечто более существенное, нежели диспансеризация, и тяжкопереносимое. Он не знал, как отбирали людей в космонавты, но иные процедуры, им нынче испытанные, возможно, использовались при тех отборах.
Однако слова «Пробиватель», «достояние республики» взбудоражили его, вполне возможно ложно-преувеличенными оценками случившегося с ним. А явное посягательство Трескучего-Морозова и наверняка госпожи Звонковой на суверенитет и на самодержавие его личности, да ещё и с несоблюдением финансовых обязательств, тем более так взволновало его, что Куропёлкин решил не протестовать, а с терпением выдержать так называемую диспансеризацию.
А там посмотрим.
Позже Куропёлкин старался забыть (но забыть не мог) подробности исследований и испытаний, которые с ним затевали. И крутили его в камерах с устрашающей аппаратурой, и заставляли плавать и кувыркаться в невесомостях (поначалу это было приятно-забавно Куропёлкину, но потом отсутствие мышечных напряжений стало раздражать силового акробата). Проверяли крепость и мощь ударов его плечей, сначала — правого, затем — левого, по каменным твёрдостям и, что уж совсем было не по душе Куропёлкину, заставляли его ходить босым по гвоздям, битому стеклу, глотать горящую паклю. Зачем — при этом не объясняли, принуждали Куропёлкина жевать всякую юго-восточную гадость, хорошо если прожаренную и хрустящую, — великаньих для Среднерусской равнины тараканов, сороконожек, червей, пить змеиную кровь. Нет чтобы угостить его кедровыми орехами.
Ага, дошло до Куропёлкина, угостите кедровыми орехами! Получилось, сдался бы…
Кстати, забыл сообщить, что Куропёлкина сразу же убедили разжевать и проглотить серо-бурую замазку, якобы с её помощью безболезненнее было проводить исследование кишок и желудка.
Дня через два Куропёлкин понял, что это была никакая не замазка, а подсунутая ему энергетическая жратва, нарушившая принципы его голодовки. А уж якобы необходимое для правил диспансеризации поедание червей и тараканов вообще отбросило его в толпу гурманов-сладкоежек.
Но Куропёлкин, памятуя о посягательствах Трескучего и Звонковой, не роптал.
Не роптал он и когда его вывозили куда-то неизвестно каким видом передвижения, но очевидно — не воздушным, в особо оборудованные помещения, где между прочим опрашивали его с помощью детектора лжи.
Не роптал он до поры до времени.
175
Время это наступило через две недели.
Куропёлкина ввели в кабинет вовсе не во врачебный, а в чиновничий, стол в нём был обит зелёным сукном, на сукне этом размещался орёл с двумя клювами и бутылки с лимонадом и минеральной водой. Сидел за столом спортивного вида ровесник Куропёлкина в легкой куртке олимпийской сборной, будто бы пошитой из красно-белых обоев.
— Присаживайтесь, Евгений Макарович, — предложил хозяин кабинета.
— Вы кто? — спросил Куропёлкин.
— Селиванов. Андрей. Так и зовите Андреем, — заулыбался Селиванов. — Можно посчитать, председатель комиссии по вашей диспансеризации.
— Ну и как? — спросил Куропёлкин.
— Результаты прекрасные, просто прекрасные! — заявил Селиванов.
И Куропёлкин вспомнил: этот голос он слышал в первые дни возвращения в поместье Звонковой. Он прикинулся тогда спящим, а над ним спорили Трескучий и, как выяснилось теперь, Селиванов. Именно Селиванов произнёс слова: «Она получила удовольствие».
— Что же такого прекрасного? — спросил Куропёлкин.
— Вас не только признали практически здоровым, — сказал Селиванов. — И более того. У вас наблюдается превышение практического здоровья. И главное — вы чрезвычайно энергоёмкий и пробивной.
— Энергоёмким меня уже называли, — сказал Куропёлкин, — и посчитали, что я чему-то соответствую, а вот пробивным…
— Кто называл энергоёмким? — быстро спросил Селиванов. — И чему соответствуете?
— Не помню, — отмахнул от себя важный, видимо, для Селиванова вопрос. — А вот с чего бы я пробивной? Вот уж нет у меня никаких карьерных успехов. И не намерен я куда-либо пробиваться.
— Пробивной — в другом смысле, — загадочно сказал Селиванов. — Но об этом потом.
«Ах, ну да, меня же называют Пробивателем!» — вспомнил Куропёлкин.
— И потом, Евгений Макарович, — сказал Селиванов, — вам многое может быть открыто. Но до этого вы должны подписать документ о неразглашении.
Документ сейчас же явился в руки Куропёлкину.
— Это пожалуйста, — сказал Куропёлкин. — Что же, мы не понимаем, что ли? Государство!
И дал на бумаге со штампами обязательство не разглашать.
— Вот и замечательно, — заявил Селиванов. — Теперь предлагаю поговорить о ваших приключениях в Мексиканском заливе. Как вы туда попали, изучают учёные люди, и это уже не наше дело.
— Поговорим мы об этом, — сказал Куропёлкин, — лишь после того, как ко мне будет доставлена Баборыба.
176
И опять Куропёлкин попытался перечитать «Анну Каренину».
Режимом Трескучего ему было дозволено выходить из дома на час (оглядываясь на ходики) и посиживать на мореходной скамье. Но Куропёлкин чувствовал, что поблажка Трескучего (мадам не принималась в расчёт) — вынужденная и что домоправитель подчинился силе, какой не мог не подчиниться.
При первой же прогулке Куропёлкин обнаружил на знакомой доске скамьи выжженное слово «Нинон». Две недели назад его на скамье не было.
Кто его выжег и зачем?
Горничную Дуняшу с судками и подносами к Куропёлкину не присылали, видимо, были осведомлены о том, что Куропёлкина даже и без его желания накормили (и надолго) питательными смесями.
Но Куропёлкин вёл себя так, будто голодовку он продолжает и поддерживает свой организм исключительно водой из крана.
Через день к нему, сидевшему на персональной каравелле «Нинон», приблизились двое.
Одним из них был стюард Анатоль, он сопровождал низенького, согнутого возрастом, почтенного господина, вызвавшего у Куропёлкина мысли о добряке из диснеевской «Белоснежки».
Куропёлкин не успел вскочить, а почтенный гражданин испросил разрешения:
— Мы присядем, Евгений Макарович?
— О чём вы говорите! — воскликнул Куропёлкин.
— Удочкин Сергей Митрофанович, — протянул руку Куропёлкину визитёр. — Ихтиолог, профессор, член многих академий. Вопреки моей фамилии до рыбьего мяса не охоч. Ну, если только севрюга под хреном…
— Чем обязан? — спросил Куропёлкин.
— Баборыба, — сказал профессор Удочкин. — Своим заявлением вы ошарашили ихтиологическую науку. И конечно, рыболовов, для которых поймать язя — подвиг жизни. Ведь баборыб нет.
— Есть! — вскричал Куропёлкин. — В особенности если принять во внимание новейшую теорию о том, что Земля имеет форму Чемодана. Есть Баборыба! Это такая же истина, пусть мелкая, не всеобщая, но истина, как и то, что севрюга с хреном хороша.
177
— Вы не представляете, как я рад вашей убеждённости! — возликовал профессор Удочкин.
— Не понял, — сказал Куропёлкин. — Я на вашем месте не слишком ликовал бы. Моя убеждённость излишне романтическая и сродни грёзе.
— И замечательно! — продолжал радоваться Удочкин. — Замечательно! Вся реальность рождается из грёз и туманов!
— Не буду возражать, — сказал Куропёлкин. — Чем, вы считаете, я могу посодействовать вам?
— Помочь представить нам желаемый образ заказанного вами экземпляра.
— Я же передал кому надо требования об особенностях экземпляра, — сказал Куропёлкин. — Анатоль, ты что стоишь? Не топчи землю. Садись.
— Мне не по чину! — скрестил руки на груди Анатоль. В правой руке его была чёрная папка с тесёмками.
— Евгений Макарович! — воскликнул профессор. — Согласитесь, что ваши указания чисто эстетического характера, и вообще их можно отнести к капризам. Поймайте то, неизвестно что…
И Удочкин обиженно запыхтел.
— Ничего себе! — заявил Куропёлкин. — Вес, рост, две ноги, две ягодицы… Какие же это эстетические указания? Это потребность моей жизни.
— Есть разработанная наукой, — уже упрямо, с укором неучу, сказал Удочкин, — классификация рыб, их отрядов и пород. Существо, какое вы пожелали, науке неизвестно. Возможно, оно лишь создано вашим воображением. Но нам нужно точно знать направление поисков морского продукта. Или речного продукта.
Куропёлкин растерялся.
— Ну, я не знаю… — пробормотал Куропёлкин. — Если бы я умел рисовать…
— Ваши рисунки смогли бы помочь лишь милиционерам, — сказал Удочкин.
— Милиционерам уже ничто не может помочь, — сказал Куропёлкин.
— Ах, ну да! Ну да! — закивал профессор. — Но это ничего не меняет. Вы же всё равно нарисовали бы существо сказочное…
— Сказочное существо, — сказал Куропёлкин, — отловить проще всего.
— Не согласен с вами, — покачал головой Удочкин. — Но не буду вступать с вами в дискуссию. Анатолий, подайте нам папку.
178
Папка, поданная Удочкину прежде стюардом Анатолем, а ныне ассистентом профессора-рыбоведа, была рослая, высотой в метр.
— Да садись ты, Анатоль! — потребовал Куропёлкин.
— Никак нет, — сказал Анатоль. И отчего-то поклонился Куропёлкину и Удочкину.
Профессор развязал тесёмки папки и стал предъявлять Куропёлкину, будто производилось дознание, ватманские листы с изображениями рыб.
— Это пиранья… — сказал Куропёлкин. — Это ротан, он же головёшка, та ещё сволочь, это сиговые — простипома и пелядь, хороши имена, это стерлядь, это — калуга амурская, это опять пелядь…
— Вы, оказывается, знаток! — удивился рыбовед.
Куропёлкин же вспомнил, как однажды он сидел в пивной во Владике или в Корсакове и заказал к напитку вяленую поронайскую корюшку, официантка чуть ли не расплакалась, ничего дальневосточного нет, а завезли с какой-то речушки Иртыш из Тобольска сиговые — простипому и её сестру, извините, пелядь. Позор для Тихого океана!
Тут Куропёлкин спохватился.
— Что вы мне подсовываете! — возмутился он. — Картинки с рыбёшками, поставленными на хвосты башками вверх!
— Желаем выяснить, — Удочкин совершенно не смутился, — в какой из пород можно будет выискивать Баборыбу, скорее всего — мутантку…
— И позволяете себе оскорблять её, — расходился в гневе Куропёлкин, — причисляя её к простипомам, пелядям или к гнусным пожирателям водяной живности — ротану!
«Что я дурю его?! — ругал себя Куропёлкин. — Зачем издеваюсь над заслуженным человеком?»
Но остановиться не мог.
— Что вы подсовываете мне эти рыбьи морды. Эти плавники, хвосты, шкуры из чешуи. Я же требовал, чтобы всего этого не было! А рыбьи глаза? На них смотреть тошно!
— Мы ожидали подобной вашей реакции, — спокойно сказал Удочкин. — Приготовили и варианты возможных баборыб.
И можно было догадаться, что сам профессор доволен предлагаемыми вариантами.
Были переданы в руки Куропёлкина листы с портретами в рост преображённых стараниями профессора рыб. Рыбьи морды остались на них прежними. Но тела их, действительно, освободились от чешуи, плавников и хвостов. Тела их, правда, были прикрыты купальниками, стилизованно-старомодными, иные — с панталонами в кружевах, что могло вызвать мысли об эстетических ущербностях моделей.
— Мне нужна не рыбобаба! — вскричал Куропёлкин. — А Баборыба! Всё в ней должно быть прекрасно! И лицо, и глаза, и наряды. Впрочем, наряды не обязательны! Кстати, в какие это шмотки вы обрядили своих красоток? И главное, повторюсь, она должна рожать, как рожают бабы, а не снабжать икрой браконьеров.
— По поводу икры мы помним, — мрачно пробормотал рыбовед. — А по поводу купальников ваши претензии нам обидны. Их создавал знаменитый кутюрье сам Константин Подмышкин.
— Гоните в шею этого Подмышкина! — не мог успокоиться Куропёлкин. — Пусть одевает чабанов и фабрики звёзд!
— Евгений Макарович, — подскочил к Куропёлкину Анатоль, — вы хоть подскажите нам, кого лицом должна напоминать ваша Баборыба.
— Кого! Кого! — всё ещё кипел Куропёлкин. — Да хотя бы Катрин Денёв. Молодую! Или шоколадницу Лиотара… Или… Или девушек Боттичелли…
«Ну и хватил!» — подумал Куропёлкин.
Профессор Удочкин стоял подавленный, сгорбившийся, с папкой, тесёмки завязать не смог, бормотал:
— Мы вас поняли, поняли…
Куропёлкину стало жалко его.
179
Будто бы и не было рядом профессора, ведущим в разговор вступил Анатоль.
— Вот что, Евгений Макарович, — сказал он, пожалуй, нагловато. — Зачем вам для совместного проживания именно Баборыба? Рыбы, они — холодные, иные и ледяные.
— Дальше что? — спросил Куропёлкин.
— Так ведь спешат… Новый проект какой-то… В спешке отловят для вас какой-нибудь ледяной и стервозный экземпляр…
— Дальше что?
— Не проще ли вам заказать Жар-Птицу? Их и отлавливают чаще, и…
— Вот что, сынок, — сказал Куропёлкин. — Я учился на пожарного и работал им. Мне, что, класть каждую ночь в койку брандспойт?
— Извините! — отшагнул от Куропёлкина Анатоль.
180
А Куропёлкин подошёл к профессору Удочкину.
— Прошу прощения у вас. И у чабанов. Не хотел вас обидеть или расстроить. Но блажь свою я отменять не буду.
— Вы меня нисколько не расстроили! — заулыбался вдруг Удочкин. — Раз вы так уверены в том, что Баборыба должна существовать, мы отыщем её и отловим. И состоится мировое открытие.
181
«Вот тебе раз!» — задумался Куропёлкин.
Зачем я морочу голову милейшему профессору, досадовал на себя Куропёлкин, выходит, что я и издеваюсь над ним.
Ну и ладно, тут же он и успокоил себя. Этот Удочкин небось за гонорары, и не малые, согласился на неисполняемое задание и при этом надеялся на открытие мирового уровня: «А вдруг?». Надежда — стимул жизни и прилива энергии всех искателей. И тех, кто сторожит лох-несское чудовище, и тех, кто желает хотя бы запечатлеть видеокамерой ящеров, плавающих в якутских озёрах (в морозы они вмерзают в лёд, что ли?). Стало быть, он, Куропёлкин, подарил радость ещё одному искателю, готовому открыть и, главное, первым описать редкостное водяное существо — Баборыбу.
Стоило ли его жалеть? Вряд ли…
182
В эти дни за «избой Ропета», опять же в ночные часы возник шатёр. Высоченный. И видно было, что он не из брезента, а наверняка из материалов космических. При порывах ветра внутри шатра угадывалось нечто овальное. Может, там ставили «банку» для гонок на мотоциклах по вертикальной стене, модных лет сорок назад. Сколько таких «банок» или «бочек» стояло на привокзальных или рыночных площадях множества городов! А может, в шатре готовили аттракцион для новых рискованных опытов над Куропёлкиным.
183
Тогда и посетила Куропёлкина горничнвя Дуняша. На вид — чрезвычайно озабоченная и будто бы чего-то стыдящаяся. К тому же — несомненно печальная.
— Евгений Макарович, — сказала Дуняша, — на этот раз я пришла сюда по желанию одного человека, не буду говорить кого… Но он находится в сомнениях…
— Почему так?
— Сомнения, я полагаю, вот какие… Надо ли вообще встречаться с вами… И не выгоните ли вы этого человека в первый же момент встречи…
— И вы, Дуняша, — сказал Куропёлкин, — его парламентёр, что ли?
— Нет, — сказала Дуняша, — я скорее сейчас исследователь почвы и атмосферы…
— Передайте человеку, ради которого вы явились ко мне изучать атмосферу, — сказал Куропёлкин, — что почвы и воздухи здесь самые благонамеренные и ничем не отравленные…
— Вы так незлобивы? — спросила Дуняша.
— Чего? — удивился Куропёлкин.
— Более ничего не скажу, — произнесла Дуняша. — Единственно посоветую: принимать посетителя и вести разговор вежливее было бы в доме, а не на воздухе, в особенности не на останкинской скамье.
— Спасибо за совет, — пробурчал Куропёлкин. — Если вообще возникнет желание вести с кем-то разговор.
— Моё дело предупредить вас о возможности визита…
184
Удивили Куропёлкина слова: «Вы так незлобливы?»
По отношению к кому незлоблив?
До произнесения этих слов Куропёлкин был уверен, что Дуня хлопотала или предупреждала его о встрече с сапожным мастером Бавыкиным, к личности которого, по догадке Куропёлкина, Дуняша имела интерес.
Какой — неважно.
Но ни мельчайших поводов сердиться или досадовать на Бавыкина у Куропёлкина не было.
И о возможности разговора Бавыкина с ним, Куропёлкиным, Дуняше хлопотать не следовало. Куропёлкину и самому была бы интересна беседа с надзирателем над часовыми поясами и мусорными сбросами.
У Куропёлкина создалось впечатление, что разным силам — и флоридскому пижону Барри, и отечественному диспансеризатору Селиванову — Бавыкин и его усердия не слишком понятны, каждому — в разной степени, и они пытались вытянуть из него, Куропёлкина, какую-то необходимую им информацию о Бавыкине. А флоридский Барри и вовсе пригрозил отыскать его в любых слоях литосферы, чтобы выпытать у него секреты о Бавыкине (об этих угрозах не следовало забывать!).
Однако и Куропёлкину хотелось кое о чём спросить Бавыкина…
Ко всему прочему на чердаке имелся Башмак с говорящим гвоздём. Отчего бы Бавыкину самому не предупредить Куропёлкина о необходимости общения? Странность была во всей этой истории…
Но при чём тут какая-то незлобливость?
185
Недоумения Куропёлкина рассеялись следующим утром.
Но тут же сгустились и разместили Куропёлкина в сметанную плотность своих туманов.
186
Утром Куропёлкин позволил себе включить телевизор, но звуки телевизора заглушили чьи-то чугунные или каменные шаги.
«Шаги Командора!» — встревожился Куропёлкин.
Позже Куропёлкин посчитал, что звуки шагов ему не то чтобы прислышались и их вызвали не воздействия колебаний воздуха, но это были и не слуховые галлюцинации, прозвучали они как бы внутри него, в душе его, или в натуре его.
Кстати, человека, о встрече с которым хлопотала Дуняша, к месту проживания Куропёлкина доставила лошадь, и её неспешные шаги по траве были бесшумными.
Так или иначе, слышимые или не слышимые шаги Командора заставили Куропёлкина вскочить, выключить телевизор и прикрыть его сдвижной пластиной стены.
Тотчас знакомо постучали в дверь прихожей, и Куропёлкин нажал на кнопку над притолокой.
— Вот, Евгений Макарович, — сказала Дуняша, — и обещанный вам гость. Если что, я прогуливаюсь вблизи вашего дома.
187
С крыльца Куропёлкин увидел гостя.
Гость спрыгивал с лошади чрезвычайно ловко и, можно посчитать, изящно, вопреки же предположениям Куропёлкина был вовсе не всадником и ожидаемым господином Бавыкиным, а всадницей.
Ради чего, и уж неведомо для кого, лицо всадницы было прикрыто вуалью, Куропёлкин не уразумел.
— Милостиво просим, Нина Аркадьевна, — произнёс Куропёлкин. — Хотя полагаю, что ни в каких приглашениях и тем более в просьбах милостивых вы не нуждаетесь. Вы хозяйка в этих местах. Хозяйка Медной Горы.
— Медных гор здесь нет, — сказала Нина Аркадьевна. — И медь мне здесь не нужна.
Куропёлкина подмывало просветить госпожу Звонкову сведениями об уральской мифологии и истории Данилы Мастера, но он посчитал, что это его просветительство выйдет бестактным.
Самое главное — он не понимал, кто в нынешнем эпизоде людской комедии или драмы (некогда — артист всё же, из-за отсутствия штатной единицы перемещённый в подсобные рабочие, но в душе — артист, впрочем, и акробат, и пожарный, и флотский), так вот он не понимал, кто нынче находится в какой роли. Госпожа-мадам Звонкова могла быть и Миледи, и Бетюнским палачом, а он, Куропёлкин, по понятиям Звонковой, был зверь и насильник. Насчёт Миледи и Бетюнского палача Куропёлкин, возможно, ошибался. Нина Аркадьевна могла ощущать себя и простодушной пастушкой («Пиковая дама», П.И. Чайковский, пастораль), чьи идеалы или хотя бы девичьи нравственные представления погубил якобы знаток Ларошфуко.
Долго молчали. Госпожа Звонкова не пожелала сесть возле стола и потихоньку двигалась вдоль стен гостиной, иногда касаясь пальцами досок вагонки.
Куропёлкину стало казаться, что визитёрша и сама не знает, зачем она на лошади и в вуали прибыла к дому узника. И ещё к нему прибрела мысль о том, что какие-либо слова с определённостью смыслов, вслух произнесённые сейчас, могут привести к окостенению отношений двух персонажей — хозяйки и её подсобного рабочего, отношений, возникших в поместье госпожи Звонковой. Окостеневшие, они были бы Куропёлкину противны. Пока же без слов и оков решительных оценок, они были зыбкие и вызывали у Куропёлкина некие серебристые чувства. И будто бы в молчании его и визитёрши возникали какие-то энергетические токи, и в них Куропёлкин ощущал симпатию к женщине, вину перед ней и чуть ли не умиление ею…
Всё это, в особенности умиление, требовалось истребить!
— Что вас привело ко мне, Нина Аркадьевна? — нашёл в себе силы спросить Куропёлкин.
— Откуда я знаю… — ответила Звонкова.
— Но варианты-то цели или смысла вашего визита, возможно, вы способны были бы определить, хотя бы для себя, — сказал Куропёлкин. — Предположим, испепелить меня взглядом. Или заставить бегать по потолку…
— Евгений… — последовала пауза, похоже, Нина Аркадьевна выбирала приемлемое обращение к Куропёлкину. — Евгений, отчего вы решили дерзить мне? Или вы ни о чём не помните?
— Я обо всём помню, — сказал Куропёлкин. — Но я не слишком понял, почему вы явились сюда всадницей и скрыв глаза под вуалью… Или накидкой… Но отворять калитку вы не собирались… А выражения ваших глаз я не увидел и теперь не вижу…
— Накидка — непрозрачная, — сказала Звонкова, — а вуаль — прозрачная. И внимательный человек смог бы разглядеть в женщине с вуалью её глаза…
— Не лучше было бы, Нина Аркадьевна, — сказал Куропёлкин, — вам открыть лицо?
— Хорошо, — сказала Звонкова. — Как пожелаете, так и будет.
И Куропёлкин увидел её глаза.
То есть ничего нового для себя он в них не открыл.
Хотя почему не открыл?
Прежде, правда, ему не приходились часто взглядывать в глаза работодательницы. Ослепляли его иные достопримечательности Нины Аркадьевны. Но он знал, что глаза её — то зелёные, то серые. Теперь же они порой становились светло-карими. И не было в них зла, страсти испепеляющей, а угадывавалось непривычное для персонажа журнала «Форбс» смущение и будто бы желание выговорить нечто приятное для собеседника.
188
Смутился и Куропёлкин.
Слова к нему не являлись.
— Вот что, — произнесла, помолчав, Нина Аркадьевна, — я пришла сказать, что мне неприятно возведение на моей земле аквариума для вашей Баборыбы. А лошадь и вуаль — вздорная блажь. И — если хотите — прикрытие собственной неуверенности. Или неправоты…
— Какой аквариум? — удивился Куропёлкин.
— Под шатром.
— Но это ваша земля, — сказал Куропёлкин. — Вы можете не допустить возведение.
— Есть государство, — сказала Звонкова. — Есть его службы. И его интересы.
189
— Но никакой Баборыбы нет! — воскликнул Куропёлкин. — Это моя фантазия!
И тут же понял, что желает успокоить визитёршу, чьи глаза, как ему показалось, повлажнели.
— Раз она возникла хотя бы в вашем воображении, — сказала Звонкова, похоже, с печалью в голосе, — значит, она вам желанна.
«Сейчас я и утону в умилении… — испугался Куропёлкин, — и это госпожу работодательницу наверняка обрадует… неизвестно, правда, почему…»
И он сказал грубовато:
— Сдалась вам моя Баборыба!
И добавил:
— Вам небось хватает новых Шахерезадов!
190
— Шахерезады и Ларошфуко отменены, — услышал Куропёлкин. — Что же касается наших общений, то они оказались не только мне не бесполезны… Наше с вами эссе о молодых поэтах нулевого десятилетия, да, я… в дни вашего отсутствия… кое-что добавила в текст, так вот наше с вами эссе опубликовали в серьёзном журнале, а главное — мои структуры создали издательство ради выпуска книг этих поэтов, оно пока убыточное, но со временем станет доходным.
— Это очень благородно, — сказал Куропёлкин, — приятно было услышать. В особенности мне понравилось выражение: «В дни вашего отсутствия…».
— Извиняться перед вами я не собираюсь, — сказала Звонкова. — И от вас я не слышала просьб о прощении.
— Просьб о помиловании… — подсказал Куропёлкин. — А вы в них сейчас нуждаетесь?
— Нет, сейчас не нуждаюсь, — мрачно произнесла Звонкова. — Тем более что вы мне во многом неподвластны. Вы оказались в сфере государственного интереса…
— А то бы? — спросил Куропёлкин.
— А то бы… А то бы… — начала Звонкова. — Нет, промолчу…
— И на том спасибо, — сказал Куропёлкин. — Но раз я вам в чём-то неподвластен и в прошениях моих, да и вообще, видимо, во мне вы не нуждаетесь, почему бы нам не разойтись с миром и не прекратить действие известного контракта. Тем более что Шахерезады здесь нынче якобы отменены.
— Ни в коем случае! — воскликнула Звонкова. — Об этом не может быть и речи! Тут случилась бы потеря возможной выгоды. А на потерю выгоды мы не пойдём.
— Какой ещё выгоды? — заинтересовался Куропёлкин.
— Ну, это уже моё дело, какой, — сказала Звонкова.
— Занятно, — сказал Куропёлкин. — Занятно. Но порядочно ли хозяевам раба, посаженного на цепь в уверенности, что он еще притянет к ним выгоду, не выполнять финансовые обязательства, прописанные в контракте.
— Что вы имеете в виду? — спросила Звонкова.
— Я имею в виду свои пустые карманы, — сказал Куропёлкин. — Или я выведен из расчётных ведомостей по причине отсутствия?
— Тут какое-то недоразумение, — неуверенно сказала Звонкова. — В отчёте господина Трескучего сообщено, что все ваши услуги оплачены по справедливости и по реальной ценности…
— Очень может быть, что и оплачены, — сказал Куропёлкин. — Но только каким способом? Ясно, что не через кассу. Господин Трескучий объявил мне, что он не имеет доступа к материальным фондам и финансам.
— Он именно так объявил вам? — Звонкова внимательно поглядела на Куропёлкина.
— Именно так, — сказал Куропёлкин.
— Ладно… — тихо произнесла Звонкова. — Независимо от чего-либо все условия контракта будут соблюдены.
Эти слова были произнесены с интонациями маршала Жукова, обещавшего взять Зееловские высоты и Берлин (впрочем, откуда мне известно об интонациях маршала Жукова? Так, предположения…).
— То есть никаких пунктов контракта, — сказал Куропёлкин, — я не нарушал? И никаких проступков за мной не замечено?
— Будем считать, что так, — сказала Звонкова.
191
— Но тогда почему же отосланы в дали дальние и награждены нелюбимыми, но якобы праведными мужьями камеристки Вера и Соня? — спросил Куропёлкин.
Какой уж тут маршал Жуков с Берлином и Зееловскими высотами перед логовом врага! Боги Олимпа рассвирепели, выслушав слова Куропёлкина.
Нина Аркадьевна рассердилась всерьёз.
Но вот глаза и ноздри её вроде бы успокоились, и она произнесла:
— Вы, господин Куропёлкин, истинно наглец! И вы ничего не поняли. Вы не можете понять женщину. Вам недостаточно вашей Баборыбы. Вас будто бы заботят судьбы камеристок и их отдаление от вас. А ведь вы отнеслись к ним легкомысленно. Как и к другой… то есть как и к другим женщинам…
— Камеристки вели себя по протоколу приготовлений к ночам в опочивальне, следуя указаниям домоправителя Трескучего. О чём другая женщина обязана была бы знать. И нечего приписывать им, — резко сказал Куропёлкин, — и мне легкомысленные забавы.
Впервые за дни общений Куропёлкина со Звонковой Нина Аркадьевна выкрикнула бранные слова по-боцмански и посоветовала подсобному рабочему знать свой шесток.
192
Она отправилась в прихожую, но остановилась. Сказала:
— Приходится унижаться перед вами. Думаю, что до поры до времени. А сейчас прошу: избавьте наши земли от дурацкой скамьи с гипсовым веслом и названием корабля — «Нинон».
— Мне разрешено господином Трескучим проводить на скамье час в день, — сказал Куропёлкин.
— И явление скамьи, и разрешение сидеть на ней — произошло вопреки мнению Трескучего, и только вы можете испросить убрать скамью.
— Я не стану этого делать, — сказал Куропёлкин. — Кстати, я — по-прежнему подсобный рабочий? Или ещё кто?
— Вы подсобный бездельник, — сказала Звонкова.
Сказала, но Куропёлкину показалось, что прошипела…
193
И уже у двери прихожей Звонкова снова задержалась.
— Главное в разговоре случилось, — сказала она. — Но вот одна мелочь…
— Слушаю вас, Нина Аркадьевна, — сказал Куропёлкин.
— Вы встречались с Бавыкиным?
— Был случай… — осторожно сказал Куропёлкин.
— Вам известно, что он — мой бывший муж? Один из трёх бывших… — Звонкова сразу будто бы умалила значение в своей жизни Бавыкина.
— Известно, — кивнул Куропёлкин.
Звонкова сделала вид, что удивилась:
— Надо же…
— Это вы к чему? — спросил Куропёлкин.
— Думаю, что вам, хотите вы или не хотите, устроят встречу с Бавыкиным…
— И что?
— Мне надо бы передать ему… — сказала Звонкова, но замолчала. Сообразила вдруг, что говорит с человеком, доверять какому нельзя. — Нет, мне ничего не надо.
И опустила (сбросила!) вуаль на лицо.
Дверью в прихожей произвела грохот.
194
На лошади ли отправилась к своим добродетелям госпожа Звонкова, Куропёлкин наблюдать не мог.
Поднялся на чердак, уселся у окна, на Башмак не смотрел.
Нехорошо было Куропёлкину. Неловко как-то.
«Неловко как-то…» — мерзкие слова. Другие слова: «Ничего вы не поняли!» — были не справедливыми. Всё он понял.
Но испугался.
Себя испугался. Умиления своего. И готовности забыть свои же установления и снова стать рабом так и неразгаданной им женщины. Или ведьмы.
«Нет, убирать скамью с гипсовым веслом, — пообещал себе (будто поклялся) Куропёлкин, — я никому не позволю!».
195
Спустя неделю его разбудил стук в дверь прихожей.
На крыльце стоял профессор Удочкин.
— Ну всё, Евгений Макарович, — сказал Удочкин. — Отловили!
Он сиял.
— Кого? — спросил Куропёлкин.
— Баборыбу! — воскликнул Удочкин. — Кого же ещё-то?
— Какую ещё Баборыбу? — продолжал тереть глаза Куропёлкин.
— Ту самую, которую вы потребовали! Во всех соответствиях, и рост, и вес, и все дамские привычки и умения, и способность к продолжению рода! — торжествуя, произнёс профессор.
— И где же она? — спросил Куропёлкин.
— Привыкает к здешнему климату, — сказал профессор. — Но скоро вы сможете её увидеть. Вам предстоит опознать её, привыкать к ней и переходить к бытовому режиму совместного проживания.
— Что значит — скоро? — с трудом выговорил Куропёлкин.
— Вы приведите себя в порядок, — посоветовал профессор, — оденьтесь, позавтракайте и приходите к скамье «Нинон».
— Завтракать и обедать я буду лишь после знакомства с Баборыбой, — сказал Куропёлкин.
— Ваше дело, — заявил Удочкин. — Или — ваш удел!
196
Позавтракал Куропёлкин водой из-под крана.
Уговаривал себя не спешить.
А сам спешил.
Не терпелось, не терпелось, не терпелось ему увидеть воплощение собственных ночных видений. Чувства его при этом двоились и играли в чехарду. То есть он был готов увидеть создание совершенное и ему необходимое. И был готов (даже желал этого) к неудовольствиям и придиркам по поводу несоответствия отловленной особи его эротическим ожиданиям и понятиям о красоте. А коли это была бы и не живая плоть, а ловко исполненное умельцами изделие, да ещё и доставленное, скажем, из провинции Хейлунцзян Поднебесной, он сейчас же сочинил бы ругательную отказную, то бишь рекламацию.
197
И всё же, и со спешкой своей, он растянул приготовления к выходу на полтора часа.
Вышел. Радуясь свежему ветерку, теперь уж точно не торопясь, прошагал к останкинской скамье, сел. Заметил: не исчезли ни гипсовое весло, ни выжженное лунными ли лучами, солнечными ли слово «Нинон». Стал посматривать по сторонам. Любопытствующую всадницу с вуалью заметить не смог. Не было её… Возможно, успокоилась…
Не сразу, но наконец, откинув полу шатра, появились профессор Удочкин и стюард Анатоль.
— Ага, вы уже здесь, Евгений Макарович, — обрадовался Удочкин. — Тогда приглашаю вас под сень шатра.
Прошли. То ли в момент прихода Куропёлкина шатёр расширился и раздулся, то ли он имел особенные свойства, недооценённые Куропёлкиным, но он оказался огромным. Цирк в нём мог работать с основательной труппой. Однако арены под шатром не было. Не имелись и ряды для зрителей. Главное пространство в шатре занимал аквариум.
Прежде при порывах ветра угадывалось Куропёлкину в шатре нечто овальное, похожее на «бочку» для гонок на мотоциклах по вертикальной стене. Ошибался Куропёлкин. Аквариум стоял перед ним старомодных линий, с восемью углами и вертикалями плоских стёкол.
— Нынче вроде бы мода на аквариумы в виде шара, — обратился Куропёлкин к профессору Удочкину, — а этот будто из коридоров детской стоматологии для успокоения ребёнков, но только большой…
— Вы ошибаетесь, Евгений Макарович, — деликатно сказал Удочкин. — Именно шарообразные аквариумы вышли из моды. Овалы искажают зрительные объёмы и пластику движений водяных существ. Не только в серьёзных деловых офисах, но и в богатых виллах рыбы плавают сейчас в традиционных стеклянных параллелепипедах…
— Чемоданах, — сказал Куропёлкин.
— Каких чемоданах? — удивился профессор.
— В обыкновенных, — сказал Куропёлкин. — Вы знаете, что Земля имеет форму чемодана? Я же вам говорил про такую теорию.
— Не помню, — признался Удочкин. — То есть какого чемодана?
— Вот такого, как этот аквариум, — сказал Куропёлкин.
Удочкин в растерянности взглянул на стюарда Анатоля. Тот кивнул.
— Я не без труда привыкаю к вашим шуткам, Евгений Макарович, — сказал Удочкин. — Но, действительно, посчитаем, что перед нами водяной чемодан…
«Зачем я опять валяю дурака, — подумал Куропёлкин, — перед милейшим человеком?»
— А где же Баборыба? — спросил он.
— Её готовят, — сказал Удочкин. — Давайте присядем на эти вот кресла.
Кресла были пластиковые, из тех, что украсили стараниями московско-австрийской бизнес-дамы ряды футбольных стадионов. Уселись втроём. И стали глазеть на аквариум. Вполне возможно, глазел один Куропёлкин, а Удочкину и Анатолю наверняка все подробности водоёма уже поднадоели.
Куропёлкин разглядел аквариум. Он был метров в шесть или даже в семь высотой и внутренним стеклом (ну, если не стеклом, то чем-то другим, прозрачным) был разделён на две равные доли. Над шестиметровым слоем воды в обоих отсеках располагались помещения, можно назвать — воздушные. И обстановка в них была знакомых Куропёлкину предбанников, со шкафом для одежды, полотенец и простыней.
— После того как вы увидите Баборыбу, — объявил профессор Удочкин, — и насладитесь её купанием, вы, если пожелаете, сможете занять свой отсек в аквариуме и понырять в его водах, вы же, если верить документам диспансеризации, способны находиться под водой чуть ли не три минуты и проплывать без выхода на поверхность семьдесят метров…
— Не без этого, — важно согласился Куропёлкин.
— Какой отсек вы выбираете?
— Да мне всё равно, — сказал Куропёлкин. — Ну, давайте правый…
— На невидимой отсюда стороне аквариума, — сказал стюард Анатоль, — имеются совмещённые комнаты для общений вас и Баборыбы.
— Спасибо за информацию, — сказал Куропёлкин.
198
— И вот что, — продолжил Анатоль. — Чтобы у вас не создались ложные ожидания. Вы как-то легкомысленно отнеслись к моим словам о спешке… какой и кого, не скажу… Наша нынешняя отловленная Баборыба — глухонемая. Ледяная она или не ледяная, я не знаю. Но она — глухонемая…
— То есть?
— То есть она на вид баба, но молчит как рыба об лёд…
199
— Евгений Макарович, — объявил профессор Удочкин, — начинается.
— Весь внимание, — и Куропёлкин в волненин прижался к спинке кресла.
В шатре, не имевшем оконцев или хотя бы прорезей для солнечных лучей, темно не было, а воду в аквариуме мгновенно подсветили, и на дне в левом отсеке обнаружился грот, вход в который был украшен выкрученными природой раковинами «поднеси к уху и слушай музыку моря», перламутровыми створками жемчужин, сердоликами из прибрежных песков и даже костяными панцирями малых черепах.
«На кой хрен такие роскошества? — удивился Куропёлкин. — Не иначе как из-за намерения отвлечь меня и всучить мне липовый товар».
Волнения ожидания в нём сейчас же притихли.
И тут из грота вынырнула девушка в сиреневом купальнике и резиновой шапочке для купаний в городских бассейнах.
— Это кто? — спросил Куропёлкин.
— Баборыба! — радостно объявил профессор Удочкин. — Наблюдайте за ней внимательнее. Для первого выплыва ей отпущено две с половиной минуты.
Куропёлкин наблюдал внимательно, а через минуту — и с интересом.
То есть поначалу он отнесся к зрелищу спокойно. Ну, вынырнула пловчиха, на сотни других виденных им похожая. Женщина как женщина. Скорее всего должная обеспечивать сопровождение диковиной особи и в случае чего поддержать и обезопасить её, не дать ей растеряться и как-либо оконфузиться.
Но никакое другое существо своим появлением в аквариуме Куропёлкина не порадовало. И через две с половиной минуты, объявленные Удочкиным, девушка в сиреневом купальнике, проделав несколько, по понятиям Куропёлкина, акробатических движений, схожих с трюками гимнасток-художниц, подплыла к порталу грота и в нём исчезла.
— И это всё? — спросил Куропёлкин.
— Всё, — сказал Анатоль. — Пока всё.
— А где же Баборыба?
— Это и была Баборыба! — обиженно произнёс Удочкин. — Как вы этого не поняли? Мы так старались! Неужели вы такой нечувствительный? Это же ваша судьба…
— Какая ещё судьба! — возмутился Куропёлкин.
— Теперь, Евгений Макарович, — холодно сказал Анатоль, — вы обязаны подписать важную бумагу.
— Какую ещё бумагу? — сердито взглянул на Анатоля Куропёлкин.
— О том, что вам, Евгений Макарович, — сказал Анатоль, бывший стюард, а теперь неизвестно какой, но несомненный чин, — по вашему требованию отловлена и предоставлена Баборыба…
Перед Анатолем возник пюпитр, но не для нот, а для важной деловой бумаги.
— Погодите, — растерянно сказал Куропёлкин. — Мне нужно всё обмозговать.
— Обмозговывайте, — сказал Анатоль. — Но недолго…
— Вот что, Анатоль, или кто ты там! — грозно сказал Куропёлкин. — Заткнись! Ты для меня никто. И обмозговывать я буду без твоих советов.
200
Куропёлкин закрыл глаза.
Две с половиной минуты он будто бы просматривал видеофильм. Сиреневая купальщица, да ещё со спортивными навыками, ему понравилась. Правда, иные Баборыбы плавали в его снах. Но откуда им здесь взяться? Однако отчего же и с этой вполне привлекательной (хотя бы на первый взгляд — телом) женщиной не позабавиться и не поучаствовать в непонятной ему игре? Ведь иначе можно было бы подохнуть от скуки и одиночества…
201
— Значит, так, — сказал Куропёлкин.
И тут же замолчал. Будто бы не додумал думу.
— Значит, так, — повторил Куропёлкин. — Посчитаем, что это именно Баборыба. Что она отловлена и предоставлена мне…
— Ну вот! — ожил Анатоль.
— Помолчи! — от Анатоля Куропёлкин тут же отвернулся, обращался он исключительно к профессору Удочкину. — Но самым важным пунктом в моём требовании было: «Для совместного проживания». Баборыбу я, предположим, увидел, но ощутить и понять, способна ли она к совместному проживанию, то есть почти к семейно-полюбовному, возможности я не имел. Ко всему прочему купальник у неё таков, что самые существенные для женщины места для меня не открылись.
— Поверьте нам! — чуть ли не взмолился профессор. — Просто она девушка стеснительная и добродетельная, сам бы влюбился в неё, и она не согласилась выплыть из грота обнажённой. А так, поверьте нам, в ней всё, как полагается!
— Так что же, — сказал Куропёлкин, — моё совместное проживание с ней будет состоять из сеансов наблюдений за её застекольными добродетелями? А может, она резиновая и надувная?
— Какой ужас вы говорите! — замахал руками профессор.
— Так или иначе степень совместимости со мной, — сказал Куропёлкин, — я должен для начала изучить хотя бы на ощупь.
— Ужас! Ужас! — причитал профессор.
— Что может быть проще! — воскликнул Анатоль. — Вас сейчас впустят в ваш отсек, вы там поплаваете чуток, успокоитесь, подниметесь в предбанник и там в комнатах общений вы сможете проверить свойства нашего вам подарка на ощупь. Или как пожелаете.
— У меня нет плавок, — сказал Куропёлкин. И сразу понял, что сморозил глупость.
— Нет проблемы! — воодушевлялся Анатоль. — Сейчас будут. Хотя вы были бы хороши и функциональны и без плавок.
— Ты ещё и пошляк, Анатоль! — поморщился Куропёлкин.
— Извините, ваше благородие! — сказал Анатоль. И выкрикнул: — Вундеркинд! Сюда и немедленно!
Посчитал нужным сообщить Куропёлкину:
— Это служитель аквариума. Хозяин воды.
Насчёт «немедленно» у служителя Вундеркинда были свои соображения. На вид — мужичок был шустрый, но к Анатолю он приближался не спеша и без особого, видимо, желания что-либо произвести немедленно.
— Вундеркинд, вот наш главный и влиятельный заказчик. Уважь его!
Служитель Вундеркинд уважил влиятельного заказчика, из кучи тряпок выбрал для него плавки («Не с секретного ли они склада нижнего охранительного белья господина Трескучего-Морозова?» — пришло в голову Куропёлкину), вещи заказчика уложил в пакет магазина «Эльдорадо» и впустил Куропёлкина в шлюзовое устройство, очевидно схожее со входом в грот с раковинами и камнями. Вода в аквариуме оказалась пресная, с запахом реки, довольно тёплая. Куропёлкин покувыркался с удовольствием, глаза ему не щипало (под водой глаза он не закрывал), но задерживаться в воде не стал, а выбрался на воздух.
И засмущался.
«Дурак! — осаживал себя Куропёлкин. — Разбежался в нетерпении… Даже забыл спросить, как к ней обращаться…» Обернулся в поисках служителя Вундеркинда. Может быть, тот был человеком осведомлённым. Но служитель до предбанника не добрался.
«Да она же глухонемая!» — вспомнил Куропёлкин.
Хотел было причесаться, но карманы халата, естественно, были пустые.
В комнате же Куропёлкина на задах аквариума с диваном для отдыха в углу нашлись и зеркало, и предметы ухода за внешними красотами хозяина, даже пилочки для ногтей лежали на стеклянной полке перед зеркалом, имелась тут и бритва электрическая. А в тумбочке под зеркалом были обнаружены Куропёлкиным средства гигиены и эротической обороны.
— Эй, дядя, что вы тут капаете на пол! — услышал Куропёлкин. — И людей заставляете наводить чистоту. Разве это хорошо?
Сзади водил по полу шваброй служитель Вундеркинд. Серенькие волосы его от прямого пробора разлетелись к ушам. Упреждая резкие слова Куропёлкина, он проворчал:
— Она вас ждёт, а вы тут топчетесь!
Отвечать Вундеркинду Куропёлкин не посчитал нужным. И шагнул в комнату Баборыбы.
202
Та сидела на своём диванчике и мелкими глотками, с остановками, пила воду «Святой источник». То ли минеральную из Парголово, то ли из струй кранов «Водоканала», то ли, действительно, из лесного родника. Кто знает, какие жидкости заполняют нынче сосуды для утоления жажды.
Куропёлкину почудился запах сигареты, но он посчитал, что ошибается. Сам он не курил и мог спутать запах табака с неведомым ему парфюмом подводной девы.
При подходе к ней Куропёлкина девушка все ещё в сиреневом купальнике будто бы вмялась (в страхе?) в кожаную спинку дивана. Куропёлкин будто бы испугался своих намерений выявить способность девушки (в мыслях он старался не называть её сейчас Баборыбой) к совместному проживанию и даже — хотя бы проверить на ощупь — ледяная ли она, резиновая или надувная из новейших материалов.
Куропёлкину стало жалко её.
Будто бы она была его дочкой. Или даже внучкой его.
Какие уж тут проверки способностей к совместному проживанию!
Куропёлкину захотелось дать понять сиреневой девушке, что опасаться его не следует.
В жизни Куропёлкина возникали знакомства с глухонемыми, один из них, кстати удачливый параолимпиец, был его тренером по акробатике во Владивостоке, и теперь Куропёлкин попытался движениями рук и губ выказать отношение к напуганной (им!) девушке.
Однако в ответ она мотала головой и, видимо, ещё больше пугалась существа в распахнувшемся одеянии.
Куропёлкин спохватился и стянул халат поясом.
Движением ладони вверх Куропёлкин предложил особе отловленной и предоставленной встать. Поняла, встала. Следующим жестом Куропёлкин пригласил её (особь, особу, девушку) приблизиться к нему. Приблизилась. Куропёлкин протянул к ней руку, как бы предупреждая её, что он сейчас до неё дотронется. Не возражала, ждала. Удивился. Девушка была не только не ледяная, но и пылкая. Хорошо это или плохо, решить он не смог. «Потом выясним», — пообещал он себе. Зачем-то поднял левую руку девушки и носом уткнулся ей в подмышку. Пахло хорошо, водой реки и цветком жёлтой кувшинки, иначе кубышки.
Потом он всё же решил осмотреть места, для совместного проживания существенные. Девушка его намерений не поняла. Тогда Куропёлкин посчитал нужным действовать по принципу: «Делай, как я!». Может, сообразит… Сообразила. Куропёлкин скинул с себя халат, стянул плавки. И новая подруга его без всяких колебаний сняла купальник и предоставила все особенности своего тела Куропёлкину.
Тут и произошло с Куропёлкиным нечто странное. Ему бы доводить до конца испытания, а он заробел, и в голову его зашла блажь, будто он может доставить невинному существу, не осведомлённому пока о своеобразии людской любви, огорчения и даже физическую боль.
И он отступил от подаренной ему девушки, чмокнул её в щеку и застыл в шаге от неё.
Но прежде он ощутил пылкость прижавшегося к нему женского тела.
Девушка смотрела на него сейчас с удивлением. Или даже с разочарованием.
— Дядя, — услышал он, — ты будешь заканчивать испытания? Или дашь персоналу отдохнуть?
— Тётя, — сказал Куропёлкин, — что-то я не видел особых трудов персонала. И в ваших советах я не нуждаюсь.
— Моё дело сливать воду, — проворчал Вундеркинд. — Мне нужно знать, можно ли сливать.
— Сливайте, — разрешил Куропёлкин.
— Чао, — на всякий случай Куропёлкин обернулся к речной девушке, помахал ей рукой и по подсказке Вундеркинда, прихватив пакет со своими вещами, по приставной лестнице спустился к профессору Удочкину и Анатолю.
203
Чувствовал затылком, что девушка смотрит ему вслед всё с тем же недоумением и досадой.
«А неплоха она, неплоха! — думал Куропёлкин. — Неплоха Бабо… Баборыбушка…» Понял: Баборыбой называть её ему будет неловко, Баборыбушкой выходило слащаво. И он снова подумал о красоте и желанности её тела.
Но сейчас же вспомнил о теле женщины, более совершенном и желанном.
Однако та женщина была ему чужая…
И вредная.
И ей предстояло ещё портить судьбы людям. И обзавестись тёмно-серым куцым хвостом с иглами дикобраза.
204
— Что-то вы быстро? — удивился Анатоль.
— Всё, что надо, я выяснил, — сказал Куропёлкин.
— И всё же очень быстро, — продолжал недоумевать Анатоль. — Вы могли бы и не спешить.
— Мне хватило времени! — в раздражении произнёс Куропёлкин.
— Замечательно! — воскликнул Анатоль. — И какие у вас остались претензии?
— Никаких, — сказал Куропёлкин. — Пока никаких.
— Слово «пока» нас не волнует…
— Единственно, — сказал Куропёлкин, — мне как-то надо её называть. Хотя бы в мыслях. Ведь наверняка в документах вы определили ей имя и фамилию.
— Это к вам, профессор, — сказал Анатоль.
— Фамилия у неё, естественно, Мезенцева, — сказал Удочкин. И засмущался. — И вот ещё… Ну… Её записали Лосей…
— Какой такой Лосей? — спросил Куропёлкин.
— Главной рыбой Мезени считается, сами знаете, сёмга, из отряда лососевых. Отсюда и имя. Не называть же её Лососиной…
— Лося… Лося… — Курапёлкин попробовал проверить красоту звучания нового имени. — Нет, всё же оно какое-то дурацкое.
— Отчего же дурацкое? — возразил Удочкин. — Есть же схожие имена. Олеся, Зося, мужское имя Ося. Или Люся.
— И вправлу, хорошо звучит, — рассмеялся Анатоль. — Лося! Мезенская Баборыба семужного посола!
Профсссор Удочкин укоризненно взглянул на весельчака.
— Лося так Лося, — сказал Куропёлкин.
— Предстоит ещё много трудов по её просвещению, — сказал Удочкин, — в частности, и для того, чтобы она поняла, что её зовут Лосей…
Анатоль резко оборвал его:
— Тут не наши заботы. Нам важнее сейчас, чтобы господин Куропёлкин подписал наконец-то бумагу и признал, что он получил Баборыбу без изъянов и не имеет никаких претензий к ловцам означенной Баборыбы Мезенской, по имени Лося Мезенцева. Я уже говорил вам, Евгений Макарович, о том, что серьёзные люди спешат с новым проектом, но в случае с вами они были, пожалуй, терпеливы… Вот эта бумага, ознакомьтесь с её текстом.
«Бумага» состояла из трёх листов с меленькими строчками тесного текста, Куропёлкину стало лень её читать. И он решительно расписался в трёх указанных ему местах.
— Ну и замечательно! — снова воскликнул Анатоль. — Конец вашим голодовкам и начало сотрудничества с серьёзными людьми!
— С кем именно? — спросил Куропёлкин.
— Ну хотя бы с самим Андреем Сергеевичем Селивановым.
— С Селивановым так с Селивановым, — сказал Куропёлкин.
— Ну, всё! — потёр руки Анатоль. — Надо отметить поимку и доставку Баборыбы. Баборыба и нам приятна, и, надеюсь, подарит удовольствия Евгению Макаровичу.
— Я не возражаю! — обрадовался профессор Удочкин. — И где же мы сможем отметить?
— Сюда нам и доставят, — сказал Анатоль. — И напитки, и вкусности, особенно для упёрто голодавшего.
— Контракт запрещает мне употреблять здесь горячительные напитки, — сказал Куропёлкин.
— Какой контракт! — рассмеялся Анатоль. — Здесь наша территория, и распить ящик шампанского помешать нам никто не может.
— Вы, Анатоль, причисляете себя к серьёзным людям? — спросил Куропёлкин.
— Ну, отчасти, да… — неуверенно произнёс Анатоль.
— И что, серьёзные люди, желающие со мной сотрудничать, — поинтересовался Куропёлкин, — пьют шампанское?
— Ну как же, кто не рискует, тот не пьёт, — с пафосом провозгласил Анатоль.
— А я вот, — сказал Куропёлкин, — не пью эту дрянь.
— Вы шутите? — не поверил Анатоль.
— Нет, — сказал Куропёлкин. — Я — флотский. И от такой газированной бурды у меня случается изжога и тянет в сон.
— Я вас понимаю, — сказал профессор Удочкин. — Но у меня есть фляжка…
— Наверняка с ромом, — предположил Анатоль, — раз у нас сегодня рыбный день…
— Перестаньте ерничать, господин Столяров, — сказал Удочкин. — Ваши функции в нашем деле мелкие и вспомогательные, а вы себя держите чуть ли не главным советником!
— Я зарвался, я зарвался, герр профессор! — пропел Анатоль. — Но сейчас закончились наши с вами усердия. И я готов выпить из вашей фляжки хотя бы и луховицкий самогон.
— Вы — попрыгун, — сказал Удочкин, — но далеко не упрыгаете. Мои же усердия вовсе не закончились. Во фляжке у меня напиток чистый, но особенный. Кто не побрезгует, выпьет со мной.
Служитель Вундеркинд прикатил на двухъярусном колёсном столике закусь и напитки, в частности и бутыль Новосветского шампанского. Заявление Куропёлкина он либо не слышал, либо игнорировал. По блуждающим (или блудливым?) его глазам было понятно, что и он не прочь составить компанию гражданам обмывателям. Присел на корточки и, выказав нетерпение, бутыль шампанского откупорил с шумом и вылетом пробки и был готов, будто бы на этапе «Формулы-1», полить победителей. Но всё ещё ловкий акробат и пожарный Куропёлкин руку Вундеркинда перехватил и направил шипучую струю в глотку жаждущего.
Недопитая бутыль сейчас же была конфискована Анатолем с криком:
— Брысь, шваль водопроводная!
— А вы-то кто, господин Столяров? — сухо спросил Удочкин.
— Я-то кто? — вопрос Удочкина раззадорил Анатоля. — Я-то не какой-нибудь умник и знаток рыбьих глаз. Я — креативный менеджер! Я — продюсер и сотворитель чудес! Ладно, Вундеркинд, разливай шампанское по бокалам! С Новым годом и днём рождения прекрасной Лоси Мезенцевой!
— За Лосю я буду пить исключительно из фляжки профессора! — сказал Куропёлкин.
— А вдруг там какой-нибудь отвар из сушеных лягушек! — захохотал Анатоль.
— Тем более! — сказал Куропёлкин.
205
Утром в своей избушке, или приюте узника, он ощутил, что голоден.
Зверски голоден.
Но посчитал, что сам он с большой ложкой выпрашивать еду никуда не направится. Если кто-то вспомнит о нём, то и хорошо, а если потребности его организма никого не волнуют, то и вовсе замечательно.
Стал вспоминать вчерашний день. Что в нём было? Баборыба. Осмотр её. И сидение вблизи аквариума с обмыванием отлова и доставки… как её… Лоси Мезенцевой… Пил из фляжки профессора Удочкина… О чём-то спорили. Он, Куропёлкин, чуть было не подрался с креативным менеджером, то есть чуть ли не вмазал в рожу Анатолю. Анатоль принялся подтрунивать над Куропёлкиным, мол, тот обмишурился, подписал Бумагу, не испытав важнейших свойств Баборыбы, заробел, что ли, или не способен, или уже и не мужик, а может, как растяпа, вспомнил о любви к иной женщине и, стало быть, проявил себя лохом и подкаблучником, а ему подсунули чёрти что! Но Бумага-то подписана! Профессор Удочкин возмутился. Как это — чёрти что? Анатоль суетился мелким бесом, похихикивал, советовал профессору помалкивать, а коли совесть позволит, корпеть над монографией о невиданной Баборыбе, жаль только, что Куропёлкин отказался провести с отловленной дамой решительный (и для монографии) опыт, он же, Анатоль, ради науки готов пойти и на сексуальный подвиг. И захохотал. И нечего травить людей жидкостями из кунсткамеры. Профессор Удочкин вскочил и быстрыми шагами вышел из шатра. Куда — неизвестно. Куропёлкину стало скучно, и он последовал за профессором, но нигде Удочкина не было. Будто он взвился лёгким соколом и улетел. Возвратиться в шатёр к аквариуму и заставить Анатоля разъяснить высказанные им туманно-ехидные слова он не пожелал.
Пошёл спать.
И теперь ему было нехорошо.
Возможно, от того, что оголодал. А возможно, из-за напитка профессора Удочкина.
Но возможно, и из-за ощущения, что он вчера что-то не сделал. Или сделал не так.
И тоска пришла к Куропёлкину. На кой хрен ему эта Баборыба? А в тяжких снах сегодняшних, скорее всего вызванных фляжкой профессора Удочкина, к нему подплывали Баборыбы, не только в сиреневых купальниках, касались, гладили его тёплыми боками, и все ликами своими походили на юную Катрин Денёв.
А Лося мысли о Денёв у Куропёлкина не вызывала… Но кто вызывал?
Нинон…
Однако Нинон существовала в ином измерении, в пределах стенок земного Чемодана, и имя её на доске останкинской скамьи можно было выжечь только пучком лунных лучей.
В реке Мезени водилась сёмга и многие другие вкусные и красивые рыбы. Но Баборыбы в ней не плавали. И не в Чемодане ли Бавыкина была отловлена нынче Лося Мезенцева?
«Ладно, — посчитал Куропёлкин, — все эти Ниноны и Лоси сейчас не существенны!»
Существенным было то, что ему хотелось жрать.
206
Деликатный стук в дверь прихожей отвлёк Куропёлкина от раздумий.
В дверном проёме он увидел председателя комиссии по диспансеризации Селиванова, просившего называть его просто Андреем.
— А вы-то небось ожидали встретить на пороге горничную Дуняшу с дымящимся стейком на подносе? — спросил Селиванов.
— Мне грубостью, что ли, ответить на ваши слова? — сказал Куропёлкин.
— Не надо никак отвечать, — сказал Селиванов. — Сейчас мы пройдём в иное помещение, и там ваш голод будет утолён. Если вы согласны, следуйте за мной.
207
И Куропёлкин последовал за Селивановым.
Они спустились в погреб или бункер, и там Куропёлкин сквозь стену был переправлен в знакомый ему уже чиновничий кабинет со столом в зелёном сукне и птицей орёл с двумя клювами.
— Я, — сказал Селиванов, просто Андрей, — после совета с медиками предложил бы вам потерпеть ещё денька три и не прибегать к услугам вашей горничной и её и вашей Хозяйки. После голодовки вам полезнее употребить пищу из тюбика. Здоровее будете!
— Иного вы и не предложите, — сказал Куропёлкин.
Тут же в кабинет вошла девушка из приёмной чиновника, секретарша или даже помошница, и украсила часть стола перед Куропёлкиным тремя тюбиками на тарелках и тремя чашечками для выдавленных угощений. Три змейки Куропёлкин в нетерпении выпустил в чашки, змейки вышли разных цветов — зелёная (салат?), красная (не замена ли стейка с кровью?) и синяя (это что же такое?), чайной ложкой отправил кушанье себе в глотку и сразу понял, что объелся. И отрыжка возникла, и икота вот-вот должна была продолжить её.
— Чем желаете запить? — обеспокоилась офисная барышня в непременных очочках. — Соком? Минеральной водой?
— Пивом, — сказал Куропёлкин. — Здесь я, как понимаю, вне территории контракта, и могу угостить себя пивом.
— Светлым, портером или элем? — спросила барышня.
— Светлым, — сказал Куропёлкин. — Немецким. Японским из Саппоро — не надо.
Сразу же вместо тюбиков и вылизанных чашек перед Куропёлкиным воздвиглись мюнхенская кружка и пять бутылок пива.
— Я на работе не пью, — сказал Селиванов, — но отчего же для легкости разговора и мне не промочить горло?.. Спасибо, Тамара, будет нужда, я вас вызову.
208
Сытый и благодушный Куропёлкин со своего места мог наблюдать за уходом барышни. И отметил, что и бёдра её, и ноги, а пожалуй, и походка её — истинно секретарские…
— Итак, Евгений Макарович, — сказал Селиванов, — голодовку вы закончили. С чем я вас и поздравляю. И как сказано в Бумаге, претензий к нам, именно к нам, вы не имеете.
Куропёлкин хотел было высказать недоумения по поводу вчерашней болтовни менеджера и сотворителя чудес Анатоля Столярова, но делать этого не стал.
— Никаких претензий к вам у меня теперь нет, — сказал Куропёлкин.
— И прекрасно, — сказал Селиванов. — Тогда начнём с того, на чём оборвался наш последний разговор. То есть он был и первым… Я просил вас тогда рассказать о всех подробностях вашего пребывания в Мексиканском заливе…
— Да я уж и не помню этих подробностей, — сказал Куропёлкин. — Там были и видения, и неизвестно что, мной непонятое…
— Вот, вот! — оживился Селиванов. — Нам важны все эти видения и вами непонятое! Вы способны описать это?
— Не способен, — угрюмо сказал Куропёлкин. — Какой из меня писака!
— А если к вам приставить человека с диктофоном? — спросил Селиванов. — Сможете вы, не спеша и с паузами, навспоминать и о частностях, и о сути ваших хождений по морям, по океанам?
— Пожалуй, смогу, — сказал Куропёлкин.
— Вот! — воодушевлялся Селиванов. — Вот! При этом не опасайтесь с нашей стороны каких-либо подвохов. Подозрения тщеславного господина Трескучего признаны нами ложными и корыстными, преследующими несомненно эгоистические цели. И, что не исключено, цели и интересы и госпожи Звонковой. Для нас эти подозрения не важны. И нас в ваших, скажем, мемуарах более всего будут волновать не ваши поступки и даже переживания, а внешние обстоятельства, начиная со сброса в Люк, сопровождавшие вас в путешествиях. Имейте это в виду.
— Хорошо, — сказал Куропёлкин.
— Когда вы сможете начать работу со звукозаписью?
— Да хоть сегодня, — сказал Куропёлкин.
— Прекрасно, — обрадовался Селиванов. — Сегодня и начнём! Вопросы у вас есть?
— Кто такой Барри? Что это за вилла в Майами? Каким образом Верчунов, хозяин ночного клуба «Прапорщики в грибных местах», оказался в Америке и был там арестован?
— Выясняется, — быстро сказал Селиванов. — Поставим вас в известность. Ещё?
— Исследована ли записка из бутылки?
— Вот тут возникли закавыки, — сказал Селиванов. — Есть загадки. Но они волнуют экспертов… Всё?
— Всё, — сказал Куропёлкин.
209
— Теперь перейдём к разговору более серьёзному и более деликатному, — сказал Селиванов.
Куропёлкин насторожился.
— И мне придётся сейчас, как принято говорить, ужом вертеться на сковородке, — вздохнул Селиванов и замолчал. — Да… У меня-то к вам отношение сложившееся и вполне определённое. Другие ещё не утвердились в мнении и решают, как с вами быть.
— Чего решать-то? — сказал Куропёлкин. — Обратно — в Люк! И крышку задраить!
— Вы неправильно меня поняли, Евгений Макарович, — сказал Селиванов. — Негласно вы признаны Достоянием Федерации и Пробивателем. Вы — первопроходец. Вы осуществили невиданный в истории человечества пролёт сквозь Землю. У многих испытателей, прежде вас опробовавших систему профессора Бавыкина, удач не случалось. Вы — первый! Вы пронзили, вы пробили планету, пусть для начала лишь один её бок, но пробили! Хвала вам и честь! Вас сперва в шутку называли Афанасием Никитиным. Мол, сходил за три моря. Какой уж тут Афанасий Никитин! Вас уместнее было бы уподобить Магеллану. К тому же при нынешнем-то развитии техники вы не были существом подопытным, Стрелкой какой-нибудь, или даже роботом, а оказались самостоятельным навигатором и пилотом, менявшим по необходимости маршрут полёта, что зафиксировано службами слежения. Движения и силовые приёмы вашего тела обеспечили вам проход, пробив в тяжелейших геологических породах, и случился подвиг, равноценный, скажем, шагу Нила Армстронга на лунный грунт…
— Ну уж, так и равноценный! — заскромничав, не согласился Куропёлкин. Искренне не согласился.
— Равноценный, равноценный! — заспешил Селиванов. — И не спорьте! Да и вообще неизвестно, высаживались ли американцы на самом деле на Луну или нет. А с вами случай бесспорный.
— Для вас, может, бесспорный, — сказал Куропёлкин. — Для меня — нет.
Селиванов задумался.
— Ну, возможно, познакомившись с вашей историей, — сказал он, — я увлёкся ею. И теперь горячусь. Вот и выходит, что верчусь ужом. По крайней мере, в разговоре с вами. То есть я признаю вас Пробивателем и Первопроходцем и считаю, что вы достойны наград и федеративного признания. Да что там — федеративного! В иные годы вас, проезжавшего, предположим, в открытых автомобилях по главным улицам столиц, забрасывали бы цветами, лицо же ваше вычеканивали бы на аверсах памятных медалей… Кстати, лицо у вас вполне подходящее для поездок с цветами и для медалей. А улыбка, редко правда, бывает такая же обаятельная, как у незабвенного… Ну, ладно… А вот фамилия ваша, простите, — сносная лишь для какой-нибудь Козюльки…
— Почему же для Козюльки? — обиделся Куропёлкин. — Во-первых, для Волокушки. Во-вторых, я никогда не стеснялся своей фамилии, ею удостоились мои предки, и в ней нет ничего постыдного…
— Да что это за птица такая — куропёлка?! — продолжал горячиться Селиванов. — Дурь какая-то! У вас, что, в Волокушке водились куропёлки?
— Водились! — сказал Куропёлкин. Хотя знал, что не водились. А впрочем, с чего он взял, что не водились?
— Водились не водились, не имеет значения! — воскликнул Селиванов. — Но Куропёлкин — фамилия не для героя и не для кумира толп. Человека с такой фамилией не станут забрасывать цветами и возить в лимузинах по столицам!
— А на кой мне ваши столицы и лимузины? — спросил Куропёлкин.
— Вам-то не нужны, — стал утихать Селиванов. — Вам-то не нужны…
В кружке его пива почти не уменьшилось, он поднял её, поднёс ко рту, но, не пригубив пива, опустил кружку на стол. Что-то не успокаивалось в его соображениях и требовало уточнений или логических согласий. Куропёлкин снова понял, что Селиванов его ровесник — сейчас и на вид. В иные же мгновения, видимо, ощущение себя государственным человеком, живущим заботами о престиже и мощи Отечества, наваливало на его плечи возраст вневременной важности. Можно было представить Селиванова в облике ответственного гражданина (подобающий костюм, темно-синий, двубортный, белая рубашка в полоску, галстук уважительно-серьёзный, но не мрачный, запонки недорогие, однако и не копеечные, часы, без поводов для раздражений, всего лишь за какие-нибудь две-три тысячи долларов). Такой Селиванов мог бы удачно заседать в Палате избранных, в верхнем ряду по соседству со Спикером. Но сейчас он был — ровесник, просто Андрей, отчасти растерянный или расстроенный чем-то, и сидел он не в парламентском прикиде, а в спортивной курточке поверх рыжей водолазки. И курточку надел на этот раз скромную, без олимпийских красно-белых обоев якобы от «Боске».
210
— Что-то я и впрямь увлёкся, — сказал Селиванов. — И стал нести слова безответственные. А главное — неразумные. Действительно, при чём здесь ваша фамилия? На Руси к каким только фамилиям не привыкали! А в других странах она и вовсе не стала бы раздражать. Я-то хотел говорить совершенно об ином. И именно тут поворот разговора начинает быть деликатным. То есть и не разговор, а вся ситуация с вами.
— И что же я такого натворил? — спросил Куропёлкин.
— Евгений Макарович, ничего вы не натворили! — опять взволновался Селиванов. — Ничего дурного вы не натворили. Но подвиг… Да и такого уровня… Он… Подвиг должен быть красив. Или хотя бы выглядеть красивым. Можно сказать, эстетически великолепным. А в вашем случае он, к сожалению, сопровождался запахами московской канализации и гнилью столичных мусорных контейнеров. Это явление было будто бы не замечено, а если кем-то и замечено, то списано на катастрофу в Фукусиме и на вызванные там течения, пригнавшие японский мусор к американским берегам. Но мы-то знаем, что произошло. И выходить с документами по поводу признания вашего подвига и достижения Страны могло бы оказаться делом сомнительным. Злопыхатели посчитали бы ваш подвиг причиной экологической катастрофы, и нашей стране приписали бы позорные деяния, в частности убиение китов и отравление залива неведомыми газами, то есть фактически — химическая атака.
— Я не убивал китов! — возмутился Куропёлкин. — А для отравления воздуха Мексиканского залива, откуда во мне столько газов?
— Мы об этом знаем, Евгений Макарович, знаем! — с горячностью заверил Куропёлкина Селиванов, просто Андрей, и, наконец, отхлебнул пива. Но сейчас же обзавёлся парламентским прикидом. — Однако нынче мы не можем обнародовать ваше имя и правду о вашем подвиге. Это пока невыгодно. Не входит это сейчас и в расчёты силовиков. Ваш пробив Земли имеет стратегическое, оборонное значение. По вульгарному и циничному выражению господина Трескучего, мы их можем теперь обосрать и обоссать, а они пусть обтираются. Может, оно и так. Но нам острые, тем более унижающие кого-то, отношения с чужими странами не нужны. И надо подготовить новое проявление технических достижений державы и вашего подвига в более благородных, эстетически приемлемых обстоятельствах. Готовится новый проект… Кстати, с вами не связывался профессор Бавыкин?
— Не связывался, — сказал Куропёлкин.
— Значит, пока не возникла необходимость, — предположил Селиванов. Или подумал вслух.
— И кем же я буду проживать в пору подготовки нового проекта? — спросил Куропёлкин.
— Увы, Евгений Макарович, придётся вам пока пожить засекреченным человеком, — вздохнул Селиванов.
— Секретным узником, что ли? — поинтересовался Куропёлкин. — Или Железной маской?
— Ну, Евгений Макарович, экие у вас мрачные фантазии! — пожурил Куропёлкина Селиванов.
— Я вообще фантазёр, — сказал Куропёлкин.
— В силу обстоятельств засекреченными людьми, — сказал Селиванов, — до поры до времени оказывались не только испытатели новой техники, но и её творцы, блестящие теоретики и конструкторы.
— Имею об этом понятие, — сказал Куропёлкин. — Но они, иные и в оковах, жили бурно и в общениях со своими коллегами. А мне, что же, так и околачиваться в этом домишке?
— К сожалению, вами подписан контракт с госпожой Звонковой, — снова вздохнул Селиванов, — а она — дама при силе, влияниях и связях и умеет отстаивать свои интересы, даже незначительные. Наша тяжба с ней может и не привести к удачам. Конституция… Так что придётся вам потерпеть. Мы сможем вызывать вас в наши центры на занятия. Сейчас создаётся отряд пилотов-пробивателей, не только для нашей планеты, но и для Луны, и, возможно, для Марса. Там-то они будут, пожалуй, важнее для исследований недр, чем на Земле-матушке. Станете читать лекции и проводить практические занятия…
— Какие ещё практические запятия? — испугался Куропёлкин.
— Там увидим…
— Я повешусь здесь от скуки, — пообещал Куропёлкин.
— Это невозможно! — вскричал Селиванов. — Вы — человек ответственный! И вы теперь Пигмалион!
211
— Какой ещё Пигмалион? — нахмурился Куропёлкин.
— Не вы ли потребовали для совместного проживания Баборыбу?
— Ах, в этом смысле… — сообразил Куропёлкин. — Боюсь, что профессор Хиггинс из меня не получится. К тому же она — глухонемая, и, как я понял, откровениями любви — не тронутая. А я человек не только ответственный, но и щепетильный, и она для меня будто беззащитная сирота…
— Стало быть, времени для скуки не останется, — рассмеялся Селиванов.
— А где же я смогу разместить её? — спросил Куропёлкин. — Не в этой же избушке…
212
Селиванов задумался.
— Евгений Макарович, — сказал он, — вам и в этом случае, к сожалению, придётся пока потерпеть… Мезенцева… Лося… Она, как бы это сказать… Одно дело представить вам барышню в аквариуме, другое — подготовить её именно к совместному проживанию… Необходимо время на карантин, выработку привычки находиться вне воды, то есть адаптацию, а уж потом и на житейские университеты при внимательном отношении к разуму и организму несомненно нежного существа специалистов разных мастей — и психологов, и медиков, и сексопатологов, и спортивных тренеров, и, конечно, мастеров женской красоты — модельеров, стилистов и виртуозов макияжа. Да много кого ещё. Радует, что девушка оказалась сообразительной и способной к обучению. Вот сейчас мне доложили, она толково осваивает язык мимики и жеста…
Куропёлкин молчал. Не знал, как реагировать на слова Селиванова. Сказал:
— Просьба. Ни в коем случае не допускать к воспитанию… Лоси… кутюрье Подмышкина.
— Ваше право, — кивнул Селиванов. — Ваше… Учтём.
«Учтёте, как же…» — почти неслышно проворчал Куропёлкин.
— Видимо, я рано подписал Бумагу о том, что не имею к вам никаких претензий, — сказал он. — И когда же моя барышня Лося закончит ваши университеты?
— Думаю, что очень скоро! — заверил Селиванов. — Занятия с ней идут убыстренными темпами. А она, повторюсь, оказалась способной. К тому же мы сократили курс занятий. Или круг преждевременных занятий.
— Каких именно? — спросил Куропёлкин.
— Ну там, танцы, правила этикета, хотя бы умение держать вилку…
— Это кто же такие программы придумал? — спросил Куропёлкин.
— Умные люди, — сказал Селиванов. — У будущего триумфатора-пробивателя в его поездках по странам должна быть ослепляющая людей подруга.
— Это не умные люди, — сказал Куропёлкин.
— Может, и не слишком умные, — сказал Селиванов. — Но дальновидные.
— Разрешите мне не жить дальними годами, — сказал Куропёлкин. — А сейчас мне тошно…
— Вы капризничаете, Евгений Макарович. — Селиванов кажется рассердился. — А некая задержка с появлением возле вас Баборыбы связана ещё и с тактическими соображениями…
— С какими же? — спросил Куропёлкин.
— Пока мы будем посвящать Баборыбу в странности сухопутной жизни и создавать жилищные условия для неё с вами, госпожа Звонкова в суете своих дел может успокоиться и станет меньше злобиться на пребывание в её пределах, да ешё и рядом с вами, Баборыбы. А то ведь она возьмёт да и причинит нашей Лосе ущерб, возможно, и непоправимый.
— С чего бы вдруг? — спросил Куропёлкин. — Ей-то зачем?
— А то вы не знаете? — с ехидством взглянул на Куропёлкина Селиванов. — Лукавите вы, Евгений Макарович, лукавите!
— Хорошо, — сказал Куропёлкин. — Потерпим ещё немного. Но недолго.
213
— Вот и ладно, — радостно воскликнул Селиванов, просто Андрей. — А сегодня вашей Лосе покажут фильм «Моя прекрасная леди» с Одри Хёпберн.
— Не рано ли? — засомневался Куропёлкин.
— Не рано! — решительно заявил Селиванов.
214
Через два дня поутру постучала в дверь Куропёлкина горничная Дуняша.
— Добрый день, Евгений Макарович, — улыбнулась Дуняша — Не знаю, по чьему высочайшему повелению, но с сегодняшнего дня вас должны обслуживать наши повара. Это так?
— Возможно, — сказал Куропёлкин.
— Вот — меню. На три дня. Выбирайте и заказывайте блюда. Будто вы в санатории.
— Благодарю, — и Куропёлкин принял из рук Дуняши ресторанные листки.
— На сегодня вам на всякий случай приготовлены каша геркулес и два яйца всмятку. Вы не откажетесь?
— Не откажусь, — сказал Куропёлкин. — Давно не ел горячего!
Тут же был доставлен Куропёлкину завтрак, и в минуту оголодавший его проглотил. Из-за нетерпения и из-за того, что на время навык обращаться с яйцами всмятку был забыт, уголки губ Куропёлкина оказались вымазанными жидким желтком.
— Добавки? — спросила Дуняша.
— Нет, — сумел проявить силу воли Куропёлкин.
Потом Куропёлкин с удовольствием, с азартом даже, шариковой ручкой ставил галочки в предложенных ему меню. Блюда упоминались в них, действительно, будто бы из столовой дорогого санатория. «Да они же потом такие деньги за них повычитают!» — предположил Куропёлкин. И расстроился.
Но из чего повычитают?
И на чьём довольствии будет существовать рядом с ним Баборыба? Да небось за её прокорм и туалеты мадам Звонкова и злопамятный Трескучий с него, Куропёлкина, шкуру сдирать будут!
И вправду, на кой хрен пришла ему в голову блажь о Баборыбе?
Следовало обсудить финансовые проблемы содержания Лоси Мезенцевой с чиновником Селивановым. Вдруг и за обучение в житейских университетах с него потребуют уплаты.
Что же он раньше-то не задумывался о возможных последствиях собственной блажи?
И вот теперь он Пигмалион. В Шахерезадах и Ларошфуко побывал. Насладился. А в связи с тем, что занятия Баборыбы с хореографами временно отменены, не вспомнят ли об его удачах на сцене «Прапорщиков в грибных местах» и не произведут ли ещё и в Учителя Танцев?
Идиот. Изначально идиот. А после якобы счастливого случая в Ржевских банях и подписания контракта с работодательницей Звонковой — идиот по нарастающей.
Теперь же ещё — и заслуженный и перспективный Пробиватель.
— Вот, Дуняша, заполнил, — сказал Куропёлкин.
И неожиданно для себя спросил:
— И кто же у нас теперь Шахерезад?
215
— Разве Нина Аркадьевна не сообщила вам, что Шахерезадов у нас более нет? — удивилась Дуняша.
— Ах, да, — вспомнил Куропёлкин, — она говорила. Но разговор у нас вышел колкий, даже колючий. И я не всем её словам поверил.
— И, пожалуй, вы ей надерзили, — сказала Дуняша. — Она вернулась от вас расстроенная и обиженная…
— Нина Аркадьевна пыталась навязать мне условия, — сказал Куропёлкин, — и напомнить мне о том, что я здесь раб, а деньги мне и не собирались платить. И это мне не понравилось.
— Ну, надо же! — сказала Дуняша. — Это не вы ли, по совершенно необъяснимым для меня причинам, продали себя в рабы, а теперь, ощутив себя Пробивателем, возбуждаете себя к голодовкам и протестам?
— Обсуждать это с вами, Дуняша, я не намерен, — сказал Куропёлкин.
— Вы спросили меня о Шахерезадах, — сказала Дуняша, — я ответила. По поводу ваших финансовых обид я рассуждать не собираюсь. То ли вы жадный, то ли вам надо кого-то кормить, ваше дело. Возможно, другие люди для вас никто. Отчего-то вы не спрашиваете меня сегодня о Вере и Соне…
— Вы же сами, Дуняша, сообщили мне, — сказал Куропёлкин, — что Нина Аркадьевна их выслала и оженила…
— Так вот, — сказала Дуняша, — и Вера, и Соня на днях возвращены в нашу с вами усадьбу именно Ниной Аркадьевной.
— С мужьями?
— С мужьями, — сказала Дуняша. — О чём они не жалеют.
— И чем их мужья здесь занимаются? — спросил Куропёлкин.
— Служат на конюшенном дворе. И довольны. И Вера с Соней довольны.
— На конюшенном дворе конюхов не секут?
— Вы мрачно шутите, Евгений Макарович! — сказала Дуняша. — Или даже зло!
— Я рад за Веру с Соней, — сказал Куропёлкин. — И за их мужей.
216
Рад не рад. Но удивлён.
Хотя почему бы и не рад? При условии, что Вера и Соня, действительно, довольны, пусть и промежуточным разрешением их житейских ситуаций.
А чему же удивлён-то?
Не подействовал ли на решение Нины Аркадьевны разговор с ним, Куропёлкиным. И если подействовал, то каким своим углом? Предположения возникали в Куропёлкине разной остроты. При этом, можно сказать, и пёстрые. Вроде бы угол и пестрота — из несовместимых рядов, но в соображениях Куропёлкина они сейчас совместились.
Итак, если распоряжение Звонковой состоялось после визита всадницы с вуалью в хижину подсобного рабочего или подсобного бездельника, значит… А что значит? Вот что. Или в подпольях натуры Звонковой заскреблась совесть и Нина Аркадьевна ощутила себя виноватой перед камеристками. Или поступок её был показушный, захотелось барыне пустить пыль в глаза ему, Куропёлкину. Мол, вот я какая добродетельная и отходчивая, зла не помню. А всяким Куропёлкиным не дано понять женщин — и всех женщин вместе, и одну единственную женщину… И как было на самом деле? Понимал ли Куропёлкин эту одну-единственную? Нет, не понимал. И не был способен понять.
Но его к ней тянуло. Даже теперь. Хотя бы в мыслях. Запрещал себе думать о ней. Но то и дело думал.
Вот и сейчас вспоминал, какие конкретности были высказаны в памятный день всадницей. Получалось, будто Звонкова явилась к Куропёлкину выразить недовольство его желанием иметь при себе Баборыбу. Это раз. И потребовать, чтобы с её земли были изгнаны гипсовое весло и, в особенности, останкинская скамья с выжженным на ней именем «Нинон». Это два. И это была первая встреча госпожи Звонковой с подсобным рабочим после отправления ею Куропёлкина в Люк. И, естественно, первый их разговор после возврата провинившегося (оскорбителя) в место контрактного пребывания. (Тут Куропёлкин снова задумался: кем и как был произведён его возврат?) Люка будто бы и не было. Но и недовольство Нины Аркадьевны (по поводу Баборыбы) и её требование (убрать скамью «Нинон») выглядело подтверждением уровня их отношений. Мол, знай, кто хозяйка и кто слуга.
Выглядело… А женщина отчего-то со своими недовольствами и требованиями прибыла к нему всадницей и набросив на лицо вуаль. Подчинилась блажи, сказала она. Блажи…
Но кроме произнесённых слов и видимых действий, было в тот день ещё и нечто, ощутимое лишь двумя участниками встречи. И это не ощутимое другими, но уже существовавшее в «одной-единственной», по её понятиям, женщине, вызвало тогда в Куропёлкине опасное (для него) чувство умиления. Но умиление это было тут же погашено словами Нины Аркадьевны, в фантазиях — Нинон, о потере выгоды. На просьбу (предложение) Куропёлкина освободить его от крепостной зависимости она ответила резко. Она не была намерена расторгать унизительный для него контракт, потому как не желала терять возможность выгоды. Гадок или не гадок он был Нине Аркадьевне, неважно, выходило так, но возможная выгода от него, Куропёлкина, решала всё, а государственный интерес к личности Пробивателя и вовсе мог манить её салютными огнями. К тому же, не исключено, что, нет, не уважение, а некие, скажем, сомнения возникали в персонаже журнала «Форбс». А верно ли (выгодно ли) ведёт она себя с возвращённым Куропёлкиным? Не с надеждой ли на будущее Куропёлкина был связан визит всадницы и проявленный ею интерес к его отношениям с Бавыкиным, бывшим мужем и не таким уж Чудиком, а вполне способным оказаться даже и в фаворе у решающих людей в государстве. Отсюда и категорическое заявление о том, что разрыва контракта не будет. Ни к чему потеря выгоды…
Да, он, насильник и преступник, отправленный в Люк и вернувшийся из путешествий, теперь для госпожи Звонковой — выгода.
217
Да, подумал Куропёлкин. Выгода. Но это мои предположения.
Именно его. А если они несправедливые?
Каких новых выгод Нина Аркадьевна Звонкова не сможет добиться? Такая уж она ненасытная? Ну, рубль к рублю, доллар к доллару, это ладно. Это пусть. Но, насколько изучил Нину Аркадьевну Куропёлкин и о чём он не раз размышлял, госпожа Звонкова в государственные выгоды втискиваться не будет. Если сами не позовут. И уж точно, не будет искать выгод в обход государственных интересов или вопреки им. Она не дура и не могла не понимать, что кроме огорчений в подобных случаях ничего хорошего не получит. Держала в памяти известные многим примеры. И в живописные предгорья Акатуя попасть не стремилась.
Господин Трескучий, тот был горазд на корыстные и безрассудные авантюры. Но Нина Аркадьевна наверняка отклонила бы его тщеславные проекты и жужжание. В этом Куропёлкин был уверен.
Вот если бы госпожу Звонкову попросили поучаствовать… Но, может, уже и попросили…
Тогда, стало быть, и не боязнь потери выгоды заставила Нину Аркадьевну усесться на лошадь и степенной рысцой приблизиться к жилищу подсобного рабочего-бездельника. (Кстати, не конюхи ли, бывший водитель и бывший ресторатор, экстренно призванные в мужья Веры и Сони, готовили теперь лошадей к выездкам Нины Аркадьевны? Врочем, какое это имеет значение?)
А сам-то Куропёлкин… Вот сейчас он сидит голодный после убогого завтрака и выстраивает предположения о действиях и чувствах своей хозяйки. И видит в них лишь дурное и невыгодное для себя. А знает ли он, человек, прозванный Пробивателем и якобы побывавший в недрах Земли (или Бавыкинского Чемодана), о глубинах натуры Нины Аркадьевны Звонковой? Хотя бы об истинных мотивах её появлеиия в его затворе? Не знает! И, похоже, затрудняется или даже не желает узнать. Стало быть, он человек поверхностный и тупой и ему приятнее ходить в незаслуженно обиженных.
А ведь не одни лишь неприятности узнал Куропёлкин в общениях со Звонковой. Помимо любований ею случались и совпадения умственных интересов. Как ни странно, но теперь история с Ларошфуко виделась ему забавной. А уж исследование творений молодых поэтов нулевого десятилетия и вовсе представлялось ему светлым пятном в его жизни. Пожалуй, и Нине Аркадьевне, тогда Нинон, общения с ним были по нраву.
Сейчас Куропёлкин, после каши геркулес и двух яиц всмятку, принялся уверять себя в том, что было бы неплохо, если бы, несмотря ни на что, его труды Шахерезадом в опочивальне продолжались. Он бы и копеек требовать не стал у домоправителя Трескучего.
Может, и госпоже Звонковой были интересны общения с ним, и теперь она жалела, что они прекратились? Не оттого ли глаза её на последней встрече с ним влажнели?
А Люк?
Глаза влажнели! Крокодиловы слёзы! Ведьмины лицемерия!
Но, может, он сам отправил себя в Люк?
218
Сам не сам, но память о повлажневших глазах Звонковой следовало истребить.
Вон из головы и нервных окончаний Нина Аркадьевна Звонкова! Тем более что в конце разговора она заставила его вспомнить, где его шесток.
Да здравствует Баборыба, Лося Мезенцева, и её Пигмалион, Эжен Куропёлкин!
Виват им!
219
Однако воспитание Лоси в житейских университетах затягивалось. Об этом сообщил посетивший Куропёлкина Селиванов, опять просто Андрей. Заминки были вызваны неожиданными затруднениями при освоении Лосей Мезенцевой мимики и жестов таких расплодившихся на Земле народов, как китайцы и индусы. Сообщение это удивило Куропёлкина. Сам он не нуждался в знании мимики китайцев и индусов, ни даже людей суахили, и на кой его вынуждали скучать в эротическом нетерпении из-за всяких самурайских жестов, в них небось будут выбросы рук и ног из карате. И не заставят ли мезенскую беднягу изучать ещё и китайскую каллиграфию.
— Может, и она пригодится, — сказал Селиванов. — Потерпите. А вам, Евгений Макарович, не мешало бы познакомиться с языком и нравами эскимосов.
— Чего? — возмутился Куропёлкин.
— Ну, хотя бы чукчей, — принялся успокаивать его Селиванов. — Да вы не бросайтесь на меня. Я ведь и сам физически крепкий.
— Три дня, — сказал Куропёлкин.
— Через три дня она будет ещё не вкусная, — сказал Селиванов.
— Какая есть, такую и подавайте, — сказал Куропёлкин. — Ни коптить, ни подсаливать её не надо! И загонять в томатный соус тоже!
— Ну, это конечно! — рассмеялся Селиванов. — А заминка ещё и в том, что шалаш-то для вас уже приготовлен, но свойства и расположение его опять же приходится оговаривать с госпожой Звонковой, а вы её натуру знаете… У Лоси же есть серьезные пожелания по поводу мебели.
— Три дня, — повторил Куропёлкин. — И не более…
220
А пока Куропёлкин объедался.
Цыганок не хватало с разноцветьем юбок и лент. Хотя присутствие цыган потребовало бы хлопания пробок, брызг шампанского и скатертей для залития их вином. Но, как было объявлено Куропёлкиным, шампанского он терпеть не мог, и, стало быть, цыганки в его застольях могли лишь мешать ему поглощать острые южные супы и мясные блюда с запахами мангалов и раскалённых углями решёток барбекю. Снова было отказано в приёме японских и прочих морепродуктов, потому как, по убеждению организма Куропёлкина, употреблять тихоокеанские деликатесы можно было только в припортовых ресторанах. Путешествия в тысячи километров способны были сделать морепродукты гадостью или отравой.
«А Баборыба — речной продукт?» — влетело вдруг в голову Куропёлкину.
Сейчас же это соображение было отогнано Куропёлкиным. И отлетело в сторону Сингапура.
А Куропёлкин отодвинул от себя блюдо с люля-кебабами. Есть расхотелось.
Всё же он нагреб ложкой из упаковки с буквами «СССР» в никелированную чашку порцию двухцветного пломбира и, будто мальчиком из детсада, пригоговорённым проглатывать манную кашу и понуждая себя к подвигу, съел лучшее в мире мороженое, запивая его пепси-колой.
И пепси, и кола были для него врагами, химической ядовитой дрянью, после употребления которой требовалось долго отмывать стаканы и чашки, но эти пепси и колы пунктов контракта не нарушали. А Куропёлкин постановил: в пределах владений госпожи Звонковой соответствовать теперь каждой букве и каждой запятой контракта.
— Но, может, какие другие напитки? — спросила Дуняша. — К мороженому подошли бы коньяк и херес.
— Я не пьющий, — просветил Дуняшу Куропёлкин. — А горячий шоколад здесь не готовят.
— На кухне нет составляющих для шоколада Лиотара, — сказала Дуняша.
— Напрасно, — сказал Куропёлкин. — Монтесуме утренние вливания шоколада помогали царствовать в государстве ацтеков.
— Вы знакомы с Монтесумой? — спросила Дуняша.
— Не успел познакомиться, — сказал Куропёлкин. — Не вышло. Не удалось добраться до его страны.
— Не надоело ли вам, Евгений Макарович, играть в Шахерезада? — спросила Дуняша.
Куропёлкин растерялся. Замолчал.
— Хорошо, — сказал Куропёлкин, — вы хотели что-то от меня узнать?
— Не только я…
— Что касается вас, — сказал Куропёлкин, — то я должен вас огорчить. Никаких общений с интересующим вас человеком у меня пока не было. А что занимает вашу госпожу…
— Может, мою, а может, и ещё чью-то…
— Но мне её нынешние заботы не слишком хорошо известны…
— Ну, если вы не дошли до каких-то пониманий Нины Аркадьевны, — сказала Дуняша, — то и не надо вам знать о её заботах. Единственно сообщу, что она велела снабжать вас книгами, какие пожелаете прочитать…
— Греческие мифы! — выпалил Куропёлкин. — И пьесу Шоу «Пигмалион» в любом переводе. Для саморазвития.
— Не думаю, что ваша заявка, — сказала Дуняша, — обрадует Нину Аркадьевну.
— Меня это не волнует, — заявил Куропёлкин. — А волнует вот что. Кормите вы меня вкусно и, видимо, кухне в ущерб. Прошу сохранить все чеки на услуги вашего ресторана. Я оплачу их до копейки.
— У вас штанов-то приличных нет! — рассмеялась Дуняша.
Куропёлкин смутился.
Дуняша продолжала смеяться.
— Вы, Евгений Макарович, уверены, что ваша Баборыба посчитает, будто ей полагается пребывать в купальниках, а её бойфренду — в плавках. Думаю, вы ошибаетесь. Лося уже увлеклась гламурными журналами, слов не понимает, но картинки рассматривает, и её уже тянет в светскую жизнь. Так что заводите хотя бы хорошие штаны.
— Заведу, — сказал Куропёлкин.
— На какие шиши? — спросила Дуняша.
— На те, которые мне не платит ваша хозяйка.
— Моя хозяйка! — возмутилась Дуняша. — Ну и дурень вы, Евгений Макарович. И ничего-то вы не понимаете!
— Уже слышал, — угрюмо сказал Куропёлкин.
221
А ему на другой день доставили два тома «Мифов народов мира» и четвёртый том из собрания сочинений Бернарда Шоу. И к ним в придачу отчего-то «Книгу о вкусной и здоровой пище». Чтение пьесы Куропёлкин решил отложить. Стал искать в «Мифах» историю Пигмалиона. Сведения о том были умятые в несколько строк и довольно скудные по смыслам. Ну, был Пигмалион царём Кипра (о том, что на Кипре можно было устроить офшорное изобилие беспечным, но всемогущим богам Олимпа, даже смышлёному Гермесу, покровителю воров, плутов и торговцев, и в голову не приходило). Зато на острове процветало множество красивых, торгующих телом женщин. Пигмалион по причине застенчивости и благородного воспитания этих женщин чурался, жил одиноко и в томлениях натуры. Из-за этих томлений он сотворил из слоновой кости прекрасный скульптурный образ. А потом упросил вышедшую из местных пен Афродиту вдохнуть в костяную девушку, Галатею, жизнь. По одной из версий чудесной сказки, та вдохнула в создание скульптора не только человеческие свойства с нежным телом, с кровообращением и прочим, но и свою натуру, придав ему собственные линии и черты лица. Одно дело — игрушка из слоновой кости, другое — живая плоть. Видимо, в те дни Афродите царь Кипра был более чем симпатичен.
Да, ещё Куропёлкин вспомнил строчку о том, что Пигмалион был, как художник, влюблён в собственное творение, пусть и костяное.
222
Но к чему эти суждения о Пигмалионе?
Два смысла видел сейчас Куропёлкин в истории с Галатеей. Чистоплотного Пигмалиона заставила приняться за создание Галатеи сексуальная озабоченность. С костяной куклой Пигмалион насытить мужские потребности, понятно, не мог. И даже когда Афродита оживила Галатею, одарив её, предположим, и впрямь собственным темпераментом, даже тогда Пигмалион жил возбуждённо-голодным. Да, именно предположим. То есть предполагал Куропёлкин. И по его предположениям (или фантазиям) получалось, что совпадение Пигмалиона с женщиной Галатеей не вышло идеальным. И он, Пигмалион, ощутил свою ответственность перед её судьбой и необходимость (уже эгоистическую) воспитать женщину, совершенную для совместного проживания.
«Ну, и не страшно! — убеждал себя Куропёлкин. — Интересно даже! Профессор Хиггинс занялся Элизой Дулитл с холодным расчётом, на спор, как материалом для научной работы. Мне же необходимо проявить горячие, если не горячие, то хотя бы нежные чувства к женщине. А там, что будет, то будет!
Подавайте мне Баборыбу!»
Ухарь-купец взыграл в Куропёлкине.
Подавайте!
223
И подали Куропёлкину Баборыбу.
224
Но сначала дружелюбный чиновник Селиванов сквозь стену в бункере отвёл Куропёлкина в шалаш, то есть в обустроенный уголок для совместного проживания, и Куропёлкину показалось, что шалаш расположен частично под землёй. Шалаш был, конечно, особенный, завершение имел высокое, схожее с крышами оранжерей, и свет в нём был яркий и живой.
— Как в Париже, над новыми помещениями Лувра, — сказал Селиванов. — Ну, вы помните.
Куропёлкин в Париже не бывал. Но помнил.
— И имеется отсюда проход к бассейну-аквариуму. Что существенно. Вас это должно радовать.
Куропёлкин кивнул.
— Вот это спальня, вот это комнаты для работы, вот комнаты для уединений на случаи размолвок, вот гардеробная со шкафами для одежды, левый — ваш. Взгляните.
Куропёлкин открыл дверцу шкафа и удивился богатству своего гардероба.
— Это что? Всё моё? — спросил Куропёлкин.
— Ваше, — сказал Селиванов.
— Тут мы дошли до самого интересного, — сказал Куропёлкин.
— Для кого?
— Для меня. Я нищий, — сказал Куропёлкин. — Последний гонорар, выданный мне Верчуновым в доминиканских песо, у меня отобрали пираты карибских морей. Чем и как я буду оплачивать и этот шалаш, и наряды Мезенцевой, и её капризы, и мои новые шмотки?
— Ах, вот что! — Селиванов заулыбался. — Это уже не ваши заботы. Кстати, песо, выданные вам Верчуновым, очень может быть, вам будут возвращены.
«И чего я буду делать с этими деньгами?» — подумал Куропёлкин. Сам же спросил:
— А что, в истории с Верчуновым есть новости?
— Об этом потом, — строго сказал Селиванов.
— А с Барри?
— Тоже потом. Вас же сейчас более всего волнуют финансовые опасения. Не возложат ли на вас затраты на шалаш и содержание вашей сожительницы. Опасения ваши небеспочвенны. Баборыба — ваш каприз. За исполнение капризов полагается платить. Но в вашем случае произошла как бы сделка, и ваши заботы о затратах стали нашими заботами. И давайте прекратим об этом говорить.
— А госпожа Звонкова? — спросил Куропёлкин.
— Это уж вы сами должны иметь соображения о её участии в устройстве хотя бы этого шалаша, — сказал Селиванов.
Куропёлкин нахмурился. Ощутил, что его обеспокоенность последних дней, как выразился Селиванов, финансовыми опасениями, да и в особенности высказываемыми им на публику (Дуняше, Трескучему, Звонковой, теперь вот Селиванову), была ему неприятна и превращала его в сопливого жалобщика и неудачника. Почему превращала? Он и без словесных излияний, без соплей и мокрот был неудачник.
И никогда, пожалуй, не старался быть удачником.
Жил в чемодане под названием «Авось».
При чём тут чемодан? С чего бы он возник сейчас? Из воспоминаний о Бавыкине, что ли? Ну, пусть чемодан… И не брал ли тот чемодан в путешествия, а то и в магазины Хозяин, и не подозревавший, что в его клади существует какая-то неведомая ему мелочь по фамилии Куропёлкин. И к чему Куропёлкина могла доставить тара (упаковка) «Авось»? Ну, не чемодан, а, скажем, останкинская скамья «Нинон»? Ни к чему… Но вдруг — к кому-то? К чудесной девушке Галатее…
Будем считать, что именно к Галатее, решил Куропёлкин. И он согласился (теперь уже твёрдо) стать Пигмалионом. Согласился. И будет им.
Отсыл Селивановым к соображениям об участии Нины Аркадьевны в устройстве шалаша вызвал раздражение Куропёлкина и нежелание думать о нём. И всё же Куропёлкин втиснул своё понимание позиции Звонковой в неизбежность её (естестественно, при досадах Нины Аркадьевны) сотрудничества с государственными интересами.
225
Хотя какие при этом могли возникнуть досады Нины Аркадьевны?
Шалаш был объектом временным (контракт Куропёлкин подписал на два года и полагал, что при надзоре Селиванова продлить его не смогут), и наверняка поблажки Нины Аркадьевны стараниям важных сил принесли бы ей неплохие дивиденды.
И вряд ли каприз какого-то Куропёлкина с доставкой к нему Баборыбы должен был всерьёз уязвить её душу.
Но почему-то Куропёлкин хотел думать, что при этом он обманывает себя. Однако это его хотение было дурью.
226
И вот ему явили заказанную им Баборыбу.
То есть он уже видел её в водах аквариума и в помещении, названном им предбанником. Но тогда Баборыба была для него словно бы полуфабрикатом в сиреневом купальнике. Теперь же к нему в шалаш была приведена Лося Мезенцева, млекопитающая.
227
Лося оказалась рослой, длинноногой. Она и при первом свидании увиделась длинноногой. Но тогда Куропёлкину важнее было выяснить, ледяная она или не ледяная. Пылкость её тела удивила его. И он помнил о ней.
Занятия в житейских университетах позволили ей сотворить перед Куропёлкиным реверанс и вытянуть руку ладонью вниз для куртуазного поцелуя.
Выглядела Лося невестой. То есть, по понятиям Куропёлкина, невестой. Не было на ней ни фаты, ни белого наряда, но пошитое с учётом форм девушки платье из крепдешина (позже узнал) с красными маками на голубом поле напомнило Куропёлкину о виденных им в Котласе и во Владике невестах.
— Прекрасно! — обрадовал Селиванова Куропёлкин. — Сейчас я покажу Лосе наши апартаменты.
И увидел: Лося следит за движениями его губ и за его жестами.
— Ни в коем случае! — громко произнёс Селиванов. — Показ, и в особенности её нарядов в гардеробной, — потом. Сперва — интим!
— Это как пожелает девушка, — деликатно рассудил Куропёлкин.
— Сначала интим! — будто бы приказал Селиванов.
И, повернувшись к Лосе, произвёл щелчок пальцами. Лося кивнула, видимо, поняла его. Согласилась.
228
— Интим так интим, — сказал Куропёлкин.
229
— Замечательно! — воскликнул Селиванов.
— Но интим, — сказал Куропёлкин, — предполагает обязательным отсутствие наблюдателей.
— Это понятно, — согласился Селиванов. — Это будет обеспечено. Другое дело, что, по причине особенностей организма Лоси, интимное действие должно быть проведено в воде. Или хотя бы начато в воде. Вы готовы к эротическому воссоединению в речной жидкости?
— Готов не готов, но попробуем, — сказал Куропёлкин. — Хотя более трёх минут под водой не продержусь.
— Но начать успеете…
— А девушка? — взволновался Куропёлкин.
— Это её условие, — сказал Селиванов.
— Как же вы разгадали смысл её условия? — засомневался Куропёлкин.
— Лося стала кое-что соображать и уметь, — сказал Селиванов.
И сейчас же Лося уловила новый жест Селиванова, предложила Куропёлкину взять её под руку и провела его крытым переходом к своему предбаннику в аквариуме. О её стеснениях и беззащитностях первой встречи и думать не было повода. Но опять застеснялся, заробел сам Куропёлкин: а получится ли у него?
Вот ведь фокус!
А ведь желал, чтобы получилось.
И девушка явно желала начала совместного проживания.
Пожалуй, даже нетерпеливей Куропёлкина.
В предбаннике девушка прижалась к Куропёлкину, стала целовать его в губы («пылкая, пылкая!» — думал Куропёлкин) и даже будто руководила им, направляла его руки, понуждая их к действиям и ласкам, заставила мужчину раздеть её и сама освободила его от немногих уже одежд.
Попасть в воду, как уже знал Куропёлкин, можно было не только минуя нижние гроты, но и с верхних мостков-трамплинов. Именно с мостков и увлекла девушка Куропёлкина в брызги тёплой воды. Опускаться на дно не стали, застыли друг против друга под мостками, ну, метрах в трёх под ними, и Лося рукой попыталась ввести чуть увядшее было от волнения оружие Куропёлкина в жаркое естество своего тела.
И всё шло хорошо, и все должно было доставить радость Куропёлкину, но тут энергичная рука Баборыбы (неужели бывший плавник?) дёрнулась вверх, и испытываемая им подруга рывками брассистки повлекла Куропёлкина на воздух.
Два взрыва пузырьков кислорода выталкивали, выбрасывали их в мир существ, избавившихся и от жабр, этих старомодных средств газообмена, и от плавников, существ, отвыкших от них сотни тысяч лет назад. Или миллионы лет назад.
И отловленная по его прихоти Баборыба отвыкала от них? Или даже сумела отвыкнуть?
А может, она просто устала? Утомилась от непривычных для неё физических нагрузок, вызванных стараниями угодить возжелавшему её свирепому сухопутному животному?
Впрочем, подъём их к предбаннику вышел таким внезапным и скоростным, что Куропёлкин не успел удивиться или расстроиться всерьёз.
Но расстраиваться ему и не пришлось. Вовсе не утомлённая девушка в безводном предбаннике потащила его к ложу со свежайшим бельём и периной, будем считать, на гагачьем пуху, и их с Куропёлкиным испытания на совместимость продолжились и впрямь одарили Куропёлкина безусловным ощущением радости жизни.
230
Однако продолжались они недолго.
В некие мгновения Куропёлкину казалось, что его подруга спешит. Вернее, торопится. Но эти мгновения и мысли сейчас же были забыты и лишь позже получили разумные объяснения. Спешка её и даже быстрая и неожиданная для Куропёлкина смена поз (когда только сумели просветить?), естественно, была вызвана ненасытностью теперь уже женщины и ненасытностью, яростней, похоже, самого Куропёлкина.
Всё соответствовало испытанию, и интенсивность его могла лишь обнадёживать Куропёлкина.
И всё же Куропёлкин был сегодня зануда. Либо зануда, озабоченностью строже, — педант. Как-никак — испытания, и он в них — экзаменатор. А кто же ещё? А потому все мелочи, требующие оценок, в его мозгу шевелились и никуда не упрыгивали. Летучая мыслишка «…вернее торопилась…» то и дело возвращалась к нему. Спешила — это жадность в любви. А торопилась — совсем иное. Торопилась кончить. Торопилась из-за чего-то. Торопилась к чему-то.
Но ведь так оно и вышло!
Чмокнув Куропёлкина в щёку, завершив действо, Лося Мезенцева набросила на плечи махровый халат и понеслась в Шалаш, а в Шалаше проскочила в гардеробную и — к своим шкафам!
Понятно, Куропёлкин поспешил за ней.
231
Тогда-то он и услышал первые звуки, вылетевшие, вырвавшиеся из организма Лоси Мезенцевой, Баборыбы. Звуки эти не походили ни на попискивание дельфинов, ни на кваканье лягушек, ни тем более на воркование обленившихся голубей на асфальте московских дворов. Нечто похожее на стоны, будто приглушённые, скажем, подушкой, но подушкой лицо Лоси прикрыто не было, Куропёлкину услышалось в конце их с Лосей экзаменационного упражнения.
Теперь же звуки вчерашней (или вечной?) Баборыбы были острые, резкие, высоких нот, горячие, к ним можно было приставить пожарные лестницы и восклицательные знаки. Звуки, изданные Лосей, если что-то педанту Куропёлкину и напомнили, то прежде всего — восторги московских, не из бедных, дам в магазинах с модными нарядами. Опять же ничего странного не открыл Куропёлкин в своих соображениях. Видимо, его Баборыба и вправду преуспела в житейских университетах, увлеклась красотой форм и удач гламура (её ведь готовили и к светской жизни, слова Селиванова) и поисками соответствий своего тела с этими формами и удачами.
И не только.
Из существа РЫБА ОБ ЛЁД под влиянием новых своих интересов она стала способна звуками оценивать объекты своих пристрастий.
Тем более что Лосины звуки рождались исключительно в гардеробной при осмотре шкафов (их там ей было отведено из семи — шесть) и примерке людских заменителей исторической чешуи.
И это не могло не радовать Куропёлкина. Скоро, понадеемся, можно будет с ней поговорить. И даже обсудить, для начала, хотя бы и новый, восемьдесят третий роман Шиковой.
232
И потекли будни совместного проживания Куропёлкина с Лосей Мезенцевой.
Первые их дни бурными назвать было нельзя.
А Куропёлкин ожидал от них страстей.
Необъявленные его сетования, видимо, были учувствованы Селивановым, тот явился успокаивать его.
Суть монолога Селиванова была такая. Не ускоряйте ход событий. Лосенька (главное — Лосенька!) в первый же день потратила столько энергии, что она сейчас чуть ли не обесточена. Ещё одно несвоевременное напряжение, и она может погибнуть. А ведь начиналось всё даже лучше, чем предполагали. Она, к удивлению многих, и звуки стала издавать! А потому следует проявлять терпение и спокойствие. Возобновление энергии в Лосе будет происходить лишь капельными дозами. Стало быть, никакого секса. Пока. Если хотите выразить своё к ней отношение, погладьте её ласково по головке, шепните ей нежные слова. Правда, она их не услышит, но неважно… Таким нередко протекает совместное проживание… Вы сами его потребовали… Но зато потом-то!
— Вы меня поняли, Евгений Макарович? — спросил Селиванов.
— Понял, — мрачно сказал Куропёлкин.
— Она сейчас спит, — сказал Селиванов. — Не будите. Сон для неё теперь полезнее всего.
— Как быть с её питанием?
— Вас будет по-прежнему обслуживать горничная Дуняша, — сказал Селиванов. — Меню можете разнообразить. Испытуемая Мезенцева, по рекомендациям диетологов, пока будет принимать спецпищу.
— Из тюбиков? — спросил Куропёлкин.
— Из тюбиков, — кивнул Селиванов.
— Я за неё рад, — сказал Куропёлкин. — Глядишь, проголодается и оживёт.
— А что касается ваших звукозаписей, Евгений Макарович, о путешествиях в Мексиканском заливе, — будто бы вспомнил Селиванов, — то они потихоньку расшифровываются. И будет о чём поговорить.
— Это пожалуйста, — сказал Куропёлкин. — Это хоть завтра.
— Завтра не выйдет, — сказал Селиванов.
233
Не вышло и послезавтра.
А полусонные будни Баборыбы с кормлением из тюбиков продолжились.
Полусонное или, скажем, чуть ли не сомнамбулическое её существование происходило в одном из помещений Шалаша, аттестованном Селивановым как комната на случай размолвок. Порой Мезенцева вставала, бродила по комнате с закрытыми глазами, иногда выбредала в коридор, принюхивалась, что-то или кого-то искала, но явно не его, Куропёлкина. Удобства в её обиталище были, а пищу ей подавали через оконце, стилизованное под тюремное, но с выпендрёжем дизайнеров. Открывались ли при тюбиковых угощениях глаза Лоси (Лосеньки, по Селиванову), Куропёлкин не знал. Селиванов попросил его время от времени наблюдать за состоянием сожительницы (это слово безнадёжно не нравилось Куропёлкину, да и никакого сожительства не происходило, разве что находились они под одной стекляной крышей). В первые дни и даже ночи Куропёлкин, обеспокоенный тяготами приспособления Баборыбы к жизни с таким чурбаном, как он, всё же заглядывал в комнату Лоси, слышал её посапывание (опять же — звук!) и успокаивался. Да наверняка, полагал он, за ней присматривают, и кому надо.
Поначалу радовало Куропёлкина, но потом стало раздражать, вот что. Выходы Сомнамбулы в коридор, а в нём имелись зеркала, в разных одеяниях. То в какой-то шляпке с фиговинами «от королевы» и взблёскивающими камнями (наверняка стразами). То в ковбойских сапогах со шпорами. То в шубёнке из песца. То с браслетами на запястьях рук, а порой — и на ногах. И всё это на голое, но нежное тело. Иногда, правда, к браслетам добавлялся и сиреневый купальник.
Да на кой хрен мне нужна такая подруга, возмутился наконец Куропёлкин.
И вообще, хватит. Покуражился и хватит! Добился своего, получил Баборыбу, провёл с ней испытания, и хватит!
Пришла и ещё одна мысль. В последний момент экзаменационного испытания Куропёлкин ощутил безусловную радость жизни. Теперь же он сомневался в том, что та радость была истинно безусловной. Вспоминались и другие испытания и радости жизни. Были среди них случаи и поярче. А полусонная Баборыба стала ему противна. Придуривается, сволочь, решил Куропёлкин.
Был вызван Селиванов.
234
— Всё, — сказал Куропёлкин. — Отправляйте Баборыбу обратно в реку Мезень. Мне с ней скучно. Никакого совместного проживания нет и не предвидится.
— Одним из условий сотрудничества с нами, — сказал Селиванов, — было исполнение вашего требования отловить и доставить вам Баборыбу для совместного проживания. Отловили и доставили. Затраты — на её обучение, на Шалаш и на кормление… А вы… Это непорядочно. К тому же вы подписали Бумагу.
— От сотрудничества с вами, Андрей Сергеевич, я не отказываюсь, — сказал Куропёлкин. — Но от пребывания с Баборыбой под одной крышей прошу освободить. Мне эта сонная дура надоела. Не тратьтесь на Шалаш и на аквариум, а я перейду опять в свою избушку, тем более там остался Башмак…
Селиванов стоял растерянный.
— Вот уж чего не ожидал от вас, Евгений Макарович, — сказал он. — Ведь Лося — создание совершенное, но не ожившее…
— И что?
— Но вы-то — Пигмалион.
— Я мужик тридцати четырёх лет, — сказал Куропёлкин, — и мне нужна баба!
— Это что — новое требование? — спросил Селиванов.
— Никакое не требование! — вскричал Куропёлкин. — Я же сказал, что от сотрудничества с вами не отказываюсь!
— Мы бы и не позволили вам отказаться, — сказал Селиванов. — Если желаете, переходите в избушку. От этого ничего не изменится. Вы сами притянули к себе Баборыбу. Вот-вот энергия в ней возобновится. И вы ещё будете изнурённым от удовольствий с ней.
235
Всё же Куропёлкин стал ночевать в избушке.
Порой включал телевизор.
И передал с Дуняшей список книг, якобы необходимых для культурного развития. Новый, восемьдесят третий роман Шиковой (а может, Голяковой, какая разница) заказывать он не стал, Баборыба, похоже, не смогла бы дорасти до него разумом.
Четыре дня Куропёлкин не посещал Шалаш (и не тянуло). Иногда выходил посидеть с книгой в руке на скамье «Нинон» и поглядеть в глаза Солнцу. Появлялась Дуняша со столиком на колёсах, язвила, интересовалась, с чего бы это он так скоро охладел к красавице из северных вод. Дуняшины ехидства вызвали ворчание Куропёлкина. Но повесть Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева» не закрыл. «А чтой-то вы, Евгений Макарович, не взяли на прогулку „Книгу о вкусной и здоровой пище“? Не хотите ли заказать что-либо из названных в ней блюд? Кстати, вы ни разу не попросили приготовить вам шедевры из рыбы».
— Никаких блюд из рыбы! — вскричал Куропёлкин.
— А вот, скажем, «Осетрина по-монастырски», — продолжила настаивать Дуняша. — Её очень любит Нина Аркадьевна. И потому у нас её прекрасно готовят.
Куропёлкин вскочил. И так, будто бы сейчас же был готов прибить горничную.
— Это вы не по просьбе ли хозяйки душу мне теребените? — кричал Куропёлкин.
— Да вы, Евгений Макарович, от неудач, что ли, взбеленились? — спросила Дуняша, отбежавшая от Куропёлкина метров на пятнадцать. — Серьёзно. Вы почитайте про рыбные блюда. Сейчас на кухню доставили пойманных в Свияге сомов.
— Ещё одно слово, — сказал Куропёлкин, — и я объявлю голодовку!
— И станут вас кормить из тюбиков! — рассмеялась Дуняша.
236
В ту минуту Куропёлкин всё же подумал о Баборыбе. Не хотел думать, но подумал.
Ведь, действительно, пообещал себе (и твёрдо!) стать Пигмалионом и заняться воспитанием пока что полуфабриката.
Тогда это решение показалось ему интересным, но позже его затоптала лень. «А на кой я буду тормошить её и напрягать себя?» — думал теперь Куропёлкин.
И лезли в голову мысли о пойманных в Свияге сомах. А ведь был сыт, подавлял отрыжку минеральной водой, а из сомов некогда был доволен лишь сомами горячего копчения и — надо же! — не мог сейчас отогнать от себя мысли о сомах. «Может, сходить всё же в Шалаш?» — юркнуло желание. Сразу же Куропёлкин осадил себя. Ну уж нет! Пусть проживает одна и в своём измерении.
Или в своём углу Чемодана.
Соображение о том, где и как пребывает в последние дни Баборыба (Шалаш при этом в виду не имелся), показалось Куропёлкину занятным. Что за измерение, принявшее нынче в себя (на время или навсегда?) предполагаемую его подругу?
Вполне возможно, что и сам Куропёлкин, после пробивания им земной коры и выпадания в Мексиканский залив, побывал в двух неизвестных ему дотоле измерениях, и именно там ему увиделась приманившая его Баборыба. Но там была успокоенная безветрием солёная вода (лунными лучами же можно было поджарить рыбу), а нынешняя Баборыба, прозванная Лосей Мезенцевой, плескалась в воде речной или даже артезианской. Однако не исключено, что и карибская Баборыба, и здешняя, предоставленная ему, была одна и та же. Тогда следовало понять её затруднения и не допускать пренебрежительного отношения к ней.
Однако он теперь ни в каких отношениях с ней и не находился. Или даже не нуждался в них. Но при этом то и дело приходила к нему тоска. Явно вызванная отсутствием вблизи него женщины. Всё же не приблизиться ли ему самому к Лосе, не вернуться ли в Шалаш? Но что-то, неподдающееся словесному определению Куропёлкина, останавливало его. Может быть, досада? На что? Или на кого? На Селиванова и его службы? И на его запреты, приведшие к полусонному послушанию Лоси? Или на самого себя? На свою фантазию и на своё упрямство, потребовавшее осуществить неосуществимое?
Или на Баборыбу?
237
Но на неё-то из-за чего досадовать?
Однако возвращаться в Шалаш Куропёлкин всё же не пожелал.
Если сейчас Лося, по предположению Куропёлкина, пребывала в ином измерении, то проникнуть в её измерение он всё равно не смог бы.
Вот если бы она сама пожелала и попробовала бы выбраться из своего угла Чемодана, из своего сумеречного измерения и приползти к нему, Куропёлкину, под горячий бочок!
Не пожелала и не приползла.
Надо понимать, что ей куда приятней было утопать в своих нарядах из гардеробной.
Вот отчего и тлела в Куропёлкине досада.
Что же ты, стерва, прикидываешься Сомнамбулой и не обслуживаешь?
238
На этот раз Селиванова вызывать не потребовалось. Сам явился в избушку Куропёлкина.
— О Лосе говорить не будем, — сказал он. — Заботиться о ней и уж тем более заниматься её воспитанием вы не намерены. Это ваше дело. Позже, пожалеете, опять же ваше дело. Ладно. Расшифрован ваш рассказ о днях и ночах в карибских морях, он мог бы быть поживее, и ничего, почти ничего неожиданного и занимательного для нас в нём нет.
— Ну, извините, — сказал Куропёлкин.
— Вы уверены в том, что гибель китов связана с вашим выбросом в карибские воды? — спросил Селиванов.
— С выбросом или выкидышем? — поинтересовался Куропёлкин.
— Ваша острота, Евгений Макарович, — сказал Светланов, — не слишком уместна…
— Какая же острота? — удивился Куропёлкин. — Я до сих пор не могу оценить суть или, точнее, суть важности произошедшего тогда со мной…
— Вы лукавите… — покачал головой Селиванов.
— Какой смысл мне лукавить? — сказал Куропёлкин.
— Не знаю, — сказал Селиванов. — Но нам-то ясна суть произошедшего с вами. Вы же, выходит, растерялись, и растерявшись, заюлили, порой — с бессмысленными вывертами, в частности, напридумывали околёсицу про субмарину «Волокушку».
— А вы бы не растерялись? — обиженно прервал Селиванова Куропёлкин. — И я ещё, значит, заюлил…
— Не посчитайте мои слова выговором и издёвкой, — поспешил объясниться Селиванов, — возможно, я неловко выразился… В следующий раз вас осведомят о том, что и ради чего будет происходить, и вы сможете обойтись без всяких оплошностей…
— В какой ешё следующий раз?! — испугался Куропёлкин.
— Это ещё не скоро, — заверил Селиванов. — Будет время обо всём узнать и всё осмыслить.
— Не собираюсь участвовать ни в каком следующем разе! — заявил Куропёлкин. — С меня достаточно одного раза!
— Вы сейчас нервничаете, Евгений Макарович, — сострадая Куропёлкину, произнёс Селиванов. — Но потом успокоитесь и привыкнете к необходимости исполнять своё предназначение. А люди вам спасибо скажут.
— Это вряд ли.
— Вас обидели мои неловкие слова, — сказал Селиванов. — Но это ведь вы только поначалу растерялись. Но потом-то… Потом-то, исключая, конечно, дурацкого Штирлица, вы проявили сообразительность и гибкость, особенно в Майами… И будто бы даже имели вполне достоверную легенду, в неё ваши собеседники почти поверили… Кстати, как вам сподобилось узнать пароль для встречи с людьми Барри-Бошдана?
— Это насчёт Земли и Чемодана, что ли? — спросил Куропёлкин. — Откуда мне ведомо? Во мне прозвучал внутренний Голос!
— Складно, — сказал Селиванов.
— И интуиция, — добавил Куропёлкин, — подсказала.
— Складно, — повторил Селиванов.
— То есть мои отношения с людьми, принявшими меня в Майами, под вопросом? — спросил Куропёлкин. — Или они вызывают непрояснённые сомнения?
— Сомнения порождены мелочами, — сказал Селиванов. — Но они ничего не решают. К вам существует нерушимое доверие. И вам, именно вам назначен к исполнению следующий шаг в освоении секретов Вселенной.
239
— Как красиво-то! — воскликнул Куропёлкин. — С моей фамилией и секретов куриного насеста или пивного ларька освоить невозможно!
— По поводу вашей фамилии мы уже говорили, — сказал Селиванов. — И нет нужды к этой теме возврашаться. Вы на новое и более ответственное пробивание — кандидат номер один.
— Ну, уж… — чуть ли не с угрозой произнёс Куропёлкин и жестом показал, каков у него несломленный и несогнутый обстоятельствами жизни нрав натуры.
— Иного выбора вам, Евгений Макарович, — сказал Селиванов, — не предоставят. Вы — созданный природой идеальный экземпляр для осуществления открытий профессора Бавыкина и обязаны служить Отечеству.
— Послужил уже и не раз, — сказал Куропёлкин. — А теперь пойду в дезертиры. Или повешусь. Или… Что ещё хуже… Вернусь под опеку госпожи Звонковой.
— А она вас, — рассмеялся Селиванов, — сразу и в Люк!
— Вы полагаете? — растерялся Куропёлкин.
— И это нам как раз было бы на руку! — воодушевился Селиванов. — Этот вариант нами даже не рассматривался. Надо же!
— Вряд ли Нина Аркадьевна, — неуверенно выговорил Куропёлкин, — способна за один и тот же проступок назначить повторное наказание.
— А это уже будет наказание за обретение Баборыбы! — радостно заверил Куропёлкина Селиванов.
— Я повешусь, — пообещал Куропёлкин.
— Не выйдет, — сказал Селиванов. — Родина не допустит.
— Посмотрим, — буркнул Куропёлкин.
— Я вас не запугиваю, Евгений Макарович, — сказал Селиванов. — Я просто стараюсь, чтобы вы привыкли или хотя бы начали привыкать к неизбежности нового подвига…
— За что мне это наказание? — вздохнул Куропёлкин.
— Да что вы, Евгений Макарович, — не выдержал Селиванов, — как баба нервная! Не хватало, чтобы вы ещё слезу пустили… Видимо, пришла пора свести вас с Бавыкиным…
240
— Да на кой мне ваш Бавыкин! — рассердился Куропёлкин. — Разговор с ним ничего не изменит. А обувь мне чинить не надо.
— То есть с обувью у вас всё в порядке?
— Да, — подтвердил Куропёлкин.
— Хорошо, — сказал Селиванов. — Стало быть, встречу с Бавыкиным устраивать не будем.
241
— Впрочем, Сергей Алексеевич, — вспомнил Куропёлкин, — одна из кроссовок у меня продырявлена гвоздём.
242
— Хорошо, — сказал Селиванов. — Ваша проблема с кроссовкой будет учтена…
И исчез.
Возможно, удалился (взлетел или унырнул) в своё измерение.
Но возможно, в этом же измерении помещался сейчас и сам Куропёлкин.
Что же касается объявленной дыры в кроссовке, то её не было. И зачем он придумал злокозненный гвоздь, толком Куропёлкин понять не мог. Будет ли учтена его проблема с якобы подраненной кроссовкой, его волновало мало. Хотя желание встретиться с надсмотрщиком над часовыми поясами и кое о чём расспросить его в Куропёлкине несомненно существовало.
Но Башмак молчал. А навязывать кому-либо общение с собой Куропёлкин не любил.
То, что его принялись готовить к новому подвигу (сброс в Люк, выходило, привёл к его первому, по чьим-то понятиям, подвигу), не могло не встревожить Куропёлкина. Какой он был остолоп! Убоявшись немилостей мироеда Верчунова и увольнения из ночных прапорщиков (на что жить-то в Москве?), сунулся в хозяйство неведомой ему мадам Звонковой. Где теперь Верчунов с фальшивыми песо? Но вдруг и его посчитали нужным вернуть на историческую родину? Только этого не хватало! Видеть его мерзкую рожу Куропёлкин не пожелал бы. А вот побывать в Грибных местах своих бывших коллег-артистов, даже таких, как Серёженька Стружкин и «шерстяные», он бы не отказался. А уж потрепаться с поручиком Звягельским вышло бы просто удовольствием.
«Стоп! — сказал себе Куропёлкин. — Расчувствовался! Может, мемуары начать писать о Грибных местах? Нечего жить приговорённым к подвигу! Бежать! И чем скорее, тем лучше! Не пугаться аллигаторов и ламантинов в майамских протоках, а придумать верный способ исхода отсюда…»
243
Но и в день своего решения ничего путного не придумал.
И дальше будто бы не спешил.
Однако уверил себя в том, что нечто остроумное и исполнимое придумает. И понял, что встреча с Бавыкиным нужна ему именно для того, чтобы придумать.
Вот потому-то, видимо, он и выкрикнул в спину уходившему Селиванову неожиданную и для него самого фразу о гвозде и дыре в кроссовке.
И положил себе: ждать.
Заказал новые книги. Среди них объёмно-увесистый Энциклопедический словарь.
И самое существенное. Заказал Дуняше на обед рекомендованную ему «Осетрину по-монастырски».
— О! Наконец-то! — обрадовалась Дуняша. — Ваш заказ будет одобрен Ниной Аркадьевной!
— Неужели она интересуется моими вкусовыми пристрастиями? — спросил Куропёлкин.
— Очень даже интересуется, — заверила Дуняша.
— И небось циферками заносит в долговую книгу ущербы от моих кутежей и пиршеств?
— Какой же вы мелочный человек, Евгений Макарович! — воскликнула Дуняша. — Да что значат для хозяйки ваши копеечные траты!
— Ну, если её не волнуют мои траты, то наверняка их учитывает господин Трескучий, — сказал Куропёлкин. — И всё им учтённое позже будет использовано против меня.
— Его сейчас здесь нет, — сказала Дуняша.
— А Нина Аркадьевна здесь есть, — будто бы лишь для себя произнёс Куропёлкин, — и её интересуют рыбные блюда…
Дуняша, похоже, ждала от него новых слов.
— А Башмак всё молчит, — сказал Куропёлкин.
— Это вы к чему? — насторожилась Дуняша.
— Молчит, и всё.
— Но вы ведь можете нажать на один из гвоздей, — сказала Дуняша.
— Вам это нужно? — спросил Куропёлкин. — Именно вам, Дуняша?
Ответить Дуняша долго не решалась.
— То есть и без моего нажимания на обувной гвоздик вы, Дуняша, можете обойтись? — спросил Куропёлкин.
— Могу, — подумав, сказала Дуняша.
— Из чего следует предположение, что у вас и без Башмака-путешественника есть способы связываться с важной для вас личностью…
— Это ложные предположения! — разволновалась Дуняша.
— Дуняша… — укоряюще протянул Куропёлкин.
— Прошу, Евгений Макарович, — взмолилась Дуняша, — никому не говорите о своих догадках!
— А мне и некому здесь говорить о чём-либо… — печально сказал Куропёлкин.
— Ой, Женечка! — воскликнула Дуняша-Шоколадница. — Не зарекайтесь! Вас ещё ждут радости! И приятные разговоры.
244
— Это где же ждут? — спросил Куропёлкин. — Здесь? Или в других местностях?
— Неважно где! — сказала Дуняша. — Главное — заказывайте рыбные блюда!
245
«Осетрина по-монастырски», несомненно, понравилась Куропёлкину. Единственно, нехорош был хрен. «Да, — призналась Дуняша. — Поспешили. Свой, домашний, не всегда успевают готовить…»
А Куропёлкину пришли на ум Волокушка, отчий дом. Вспомнил, как он мальчишкой приготовлял (или, вооружённый тёркой, участвовал в приготовлении) хрен, в особенности к холодцу или к заливной рыбе. Любил это занятие. Плакал, но любил.
В Волокушке, в соседних избах, уже резали очищенные палки корней хрена, бросали кусочки их в жерла мясорубок и струйками выдавливали чуть жидкую белую массу в приготовленную посуду. Ощущали досады в горле, шмыгали мокрыми носами, слёзы утирали и вертели рукоятку кухонного инструмента… В доме Куропёлкиных уступки новым способам готовки пищи не одобрялись, наверченный мясорубкой хрен там не нравился, и Женьке приходилось (без протестов, а по житейской привычке) брать мелкую тёрку и с терпением измельчать на ней ядрёные палки хрена… А если добавить в жижу чайную ложку уксуса… А если бросить в неё щепотки сахара… Это был хрен так хрен! И к студню, и к рыбе!
— А у вас, Дуняша, каша из банки детского питания, а не хрен! — укорил горничную Куропёлкин.
— Из тюбика, — смутившись, призналась Дуняша.
— Вот тебе раз! — удивился Куропёлкин. — Приехали!
Намерен был поинтересоваться, неужели и Нина Аркадьевна, хозяйка, была согласна употреблять поспешный этакий хрен, но будто испугался своего интереса. Зачем интересоваться мелочами чужого быта, не имеющего к его жизни никакого отношения?
А вот Волокушка снова стала ему мила. Жил бы он там и теперь, кем — неважно, конюхом ли, трактористом ли трелёвочного, плотником, сборщиком трав, охотником за груздями и клюквой, не мотался бы по России вослед поманившим его выгодам, любопытству и сладко-туманным фантазиям… Жил бы сейчас пусть и бедно, но в свободе честного гражданина, в спокойствии уговора с людьми и природой. И никто не требовал бы от него готовности к бессмысленному подвигу…
246
Если бы да кабы.
Бежать!
Но будто бы ожидал какого-то решительного знака судьбы и соображения о планах побега откладывал.
Сытно было ему и комфортно.
Энциклопедический словарь Куропёлкин заказал исключительно для того, чтобы со вниманием прочитать статьи о внутреннем строении Земли. Заглянул в них и тут же захлопнул словарь. Зачем запугивать себя заранее? К тому же мало ли какие отчаянные чудеса могли прийти в голову укротителю Чемодана и реставратору обуви Бавыкину?
А вот раздел «Рыбные блюда» с картинками в «Книге о вкусной и здоровой пище» Куропёлкин изучал теперь с удовольствием.
Рыбы рекомендовались к кулинарным опытам речные. Куропёлкин вдруг понял, что за последние месяцы его бестолковщины он чуть ли не забыл названия многих именно речных рыб. Щука, линь, сырок, окунь, судак и даже карась будто выпали из его памяти, и что уж совсем безобразно, печорская навага с икрой к блинам широкой масленицы давно не попадала на его стол. Одной из причин этой, как теперь понимал Куропёлкин, глупости стала пропажа из магазинов обычной, некогда дешёвой рыбёшки и забитость прилавков искусственными норвежскими, а потом и немецкими лососями и форелями, откормленными в рыбьих угнетениях какой-то химической дрянью, розовыми от химических же красителей и воняющими перебором рыбьего жира. От них Куропёлкина тошнило.
На кухню госпожи Звонковой доставляли рыбу здоровую, пахнувшую именно рыбой, и блюда из неё не могли не радовать Куропёлкина. Но однажды он заказал сковородку (именно сковородку!) печорской наваги. Навага эта водилась мелкая, а ценилась не меньше питерской или сахалинской корюшки. Время лова её было коротким. Но Куропёлкин посчитал так. Раз одни заинтересованные силы добыли для него Баборыбу, значит, силы им противоборствующие или хотя бы недовольные Баборыбой постараются исполнить его желание и угостят жареной печорской навагой. Не обязательно с блинами. Главное, чтобы наваги хватило для утоления обеденного аппетита. И ведь заказ приняли без удивлений и без ссылок на сезонно-путинные трудности. Спросили только, в сметане готовить рыбу или как?
— Без сметаны! Без сметаны! — проглатывая слюну, объявил Куропёлкин. — И чтобы хрустела.
Сам Куропёлкин жарил печорскую навагу, отобрав особи с икрой (на сковородку укладывалось до пятнадцати штук) и очистив их от внутренностей, на растительном масле, редко — на сливочном. От сливочного взлетало меньше горячих брызг, но оно обходилось дороже. Главное было добиться, чтобы корочка рыб стала солнечно-загорелой и хрустела.
К радости Куропёлкина, повара на кухне оказались добросовестными (конечно, нашлись поводы поворчать, мол, у него-то самого, Куропёлкина, навага вышла бы вкуснее), но и поднесённое Дуняшей блюдо несомненно было вкуснятиной.
— А вот вам, Евгений Макарович, — прошептала Дуняша, — бонус за добродетельный и разумный аппетит.
И добыла из карманов сарафана две банки пива «Золотая бочка».
247
В тот вечер и заглянул к Куропёлкину озабоченный чиновник (или даже сановник?) Селиванов.
— Евгений Макарович, — сказал он, — не кажется ли вам, что в последнюю неделю вы ведёте себя бестактно?
— В чём это выражается? — спросил Куропёлкин.
— В вашем увлечении рыбными блюдами.
— Какая уж тут бестактность? — выразил удивление Куропёлкин. — Моему организму надоели кавказские кушания, а рыбы полезны для работы мозгов. Кого я обижаю?
— Вы, Евгений Макарович, — строго спросил Селиванов, — не забыли, что у вас есть Баборыба?
— Баборыба? — сказал Куропёлкин. — И где же она есть?
— Сами знаете, где она, — сказал Селиванов, — и что с ней…
— Что с ней, я не знаю, — сказал Куропёлкин. — И что же, даже при скуке и одиночестве я должен помнить о каких-то бестактностях и перейти на поедание мышей и тараканов?
248
— Я этого не говорил, — сказал Селиванов. — Просто прошу вас ещё потерпеть. Хотя бы один день.
249
Через день к Куропёлкину была приведена Баборыба, Лося Мезенцева.
Лёгкая, живая, жизнерадостная, в белом брючном костюме, видно, что избавилась от обесточенности, телом снова пылкая. При этом будто бы готовая следовать любым проявлениям чувств своего повелителя.
— Ну вот, Евгений Макарович, — радостно провозгласил Селиванов, — ваша замечательная Лося соскучилась. Не сопроводите ли её в ваш Шалаш? Кстати, она в совершенстве освоила искусство мимики и жеста.
Лося провела рукой по лицу Куропёлкина и поцеловада его в губы. И сейчас же потащила его из избушки вон, знаками давая понять, что требует любви. И сейчас же.
В предбаннике Лося, будто участница эротических фильмов, принялась сладко-нервно расстёгивать все пуговицы, какие на ней были, и, освобождённая от угнетающих её сегодня тряпок, чуть ли не порвала ремень Куропёлкина и выданные ему в Майами штаны. А потом и сбросила Куропёлкина с мостков в подогретую воду аквариума. Там произошло их озверение (не обрыбление же!), и продолжалось оно под водой, как и в первый раз, две с половиной минуты, видимо установленные кем-то исходя из медицинско-гигиенических, а возможно, и из психологических соображений.
Но и в сухих местах Лося, Баборыба, не успокаивалась и будто бы желала своей страстью проучить заказчика её отлова, увлёкшегося нынче поеданием рыбных блюд. Коли так, то Куропёлкину не было никакого резона избегать этих проучений или втемяшиваний правоты неразумному, они были для него хороши. Тем более что подруга его была упруга, нежна и ненасытна.
250
— Свершилось! — подытожил Селиванов. — Теперь вам, Евгений Макарович, как порядочному человеку и тем более — моряку, негоже будет нарушать интересы хрупкой, но страстной женщины, напротив, вы обязаны опекать её и слиться с её натурой.
251
Неделю длилось Пигмалионство Куропёлкина.
Принимать пищу Куропёлкину приходилось теперь в гостиной Шалаша. Дуняша здесь не появлялась, что дало повод для разнообразных соображений Куропёлкина. К его удивлению, его подруга Лося оказалась вегетарианкой. Причём некоторые блюда, чьё явление сопровождалось хлопками одобрения Лоси, были, на вкус Куропёлкина, странными. Суп из кувшинки-купальницы, из её цветов, листьев и корней можно было бы и принять (Куропёлкин, правда, пробовать его не пожелал, ещё чего!). А вот каша из сушёных цветов сурепки показалась ему (и по запаху) отвратительной. Вообще Лося заказывала себе угощения, какими вполне могли морить домашних грызунов, способных распространять инфекции. Тут Куропёлкин вспомнил о крысах с плавательного средства «Нинон», двух больших, одной малой, их он давно не видел. Очень может быть, они остались в Майами. Но за столом Куропёлкин был бдителен, следил, как бы по причине рассеянности не прихватить вилкой из тарелки подруги кусочки салата или второго и не донести их до рта. Да и компоты Лося пила, не исключено, из сваренных мухоморов. Впрочем, не балдела от них, как боги Олимпа или воины из окружения Одина. Удивляло Куропёлкина и то, что речная Баборыба с жадностью поедала дары Океана, морские водоросли, морскую же капусту и всякую, по мнению Куропёлкина, дрянь, типа пошлого существа кукумарии с рисом. Хотя, подумав, рассудил Куропёлкин, пускай ест всё, что ей нравится и что полезно её организму. Да и что он знал о свойствах каких-либо растений? Скажем, подали как-то Лосе суп из лапландских орхидей. Какие такие в Лапландии орхидеи? Ну ладно там, мхи. Об орхидеях в Лапландии Куропёлкин не слышал. Но на вид тарелка лапландской жидкости выглядела прилично, и Куропёлкин от иронии отказался.
Однако положение главного в их совместном проживании (а кого же ещё?) и просто бывалого мужика заставило Куропёлкина обратиться к юной Баборыбе с полезными советами. Занятие было трудным. Одно дело — пальцами, движениями рук и губ пригласить подругу к путешествию в постель и в воду аквариума, другое — объяснить, возможно выросшей в заблуждениях барышне, вкусовую ценность, скажем, цыплёнка табака. Лося, внимательно воспринимавшая доводы Куропёлкина и даже направлявшая нос к объекту рекомендации, тут же нос воротила и будто ругательствами оценивала совершенства, доставляемые, как говорили Куропёлкину, из ресторана «Арагви». За семь дней те же чувства вызвала и рекламная кампания, затеянная Куропёлкиным с прославлением шашлыка по-карски, бакинских тава-кебабов, молочных поросят в соево-гранатовом соусе, осетинского мясного пирога «фычин», острой испанской паэльи, котлет из индейки. Всё было отвергнуто. Да ещё и с каким-то высокомерно-брезгливым хрипом.
Единственно, что согласилась попробовать Лося, скорее всего из вежливости (но воспитывали ли в Лосе чувство вежливости?), были вареники двух видов — с творогом и с вишнями. Вареники неприязнь у Лоси не вызвали, напротив, была съедена и добавка.
Был призван в советчики Селиванов.
— Ничего странного и ничего страшного, — объяснил Селиванов. — Организм вашей подруги развивается и приспосабливается к общепринятым нормам потребления пищи. Было бы хуже, если бы она начала с мяса мадагаскарских муравьедов. А тут всего лишь лютики… Они отцветут… Перейдёт на улитки… Вы и сами будете ими угощаться, они сейчас в моде… Главное, чтобы вам было приятно с Лосей в ночные часы…
252
В ночные часы оно, естественно…
И не в одни лишь ночные часы…
И тогда Куропёлкин посчитал, что Пигмалион Пигмалионом, взрослый мужик взрослым мужиком, но воспитание Лоси должно было быть ненавязчивым и нежным, без розг и без приглашений барышни в угол. И уж, конечно, не следовало создавать проблемы из-за несовпадения их обеденных интересов, и чтобы эти несовпадения не повлияли на их ночные часы и аквариумные.
Пришла мысль. Вести с Лосей разговоры с помощью изданий с картинками. Сразу выяснилось, что Лосе милы журналы. Прежде всего — гламурные, с моделями одежды и ювелирными новостями.
Лося, прислонившись к плечу Куропёлкина, сама листала журналы и находила картинки ей интересные. Забыл сообщить, что перед тем Куропёлкин предпринял иную просветительскую попытку. Раскладывал перед барышней альбомы из серии «Музеи мира» и иногда даже делал паузы в просмотрах, однажды, скажем, минут пять держал перед глазами Лоси «Шоколадницу» Лиотара (без всякой будто бы сверхзадачи), но вызвал лишь зевоту просвещаемой им девы. Иногда, правда, Лося оживлялась, это — в случаях присутствия на героинях полотен парчовых одежд, мехов и драгоценных украшений. Интерес, с почёсыванием переносицы, несомненно, вызвали у Лоси купеческие портреты и их современная разновидность — картины бескорыстного ретушёра Шилова, подарившего москвичам, без всякого с их стороны желания, музей имени Шилова.
После эпизода с Шиловым Куропёлкин и посчитал нужным воспользоваться помощью гламурных журналов.
При этом обнаружилось, что Лосю в житейских университетах научили писать и даже привили кое-какие понимания сути букв и цифр. Чему Куропёлкин, естественно, обрадовался. И конечно, обрадовали старшего по совместному проживанию исполненные Лосей зарисовки платьев, рекламируемых журналом «Космополитен». «Неужели, — умилялся Куропёлкин, — у неё ещё совсем недавно вместо рук были плавники?»
Развитие Лоси продолжалось. И теперь её стали интересовать не только платья, блузки, кулоны с изумрудами, но и автомобили, не самые дешёвые. Пальчиком Лося проводила по цифрам под снимками иномарок, губы её шевелились, порой она взглядывала на Куропёлкина явно с желанием спросить его о чём-то, для неё важном, а однажды Куропёлкин будто бы услышал девичий шёпот: «А это мы сможем с тобой иметь?» Куропёлкин растерялся. «Ты заговорила?» — спросил он. Немота была ему ответом. Лося лишь смотрела на него, а потом начала гладить предлагаемый журналом жёлтый автомобиль («Ситроен», — сообразил Куропёлкин. — Но вроде бы «Ситроен» разорился…) Так, рассудил Куропёлкин, размечтался, до слуховых глюков довёл себя. «Зашептала!.. Если бы!» Но отбросим глюки, подумал Куропёлкин. А вот если бы Лося, в реальности, попросила подарить ей «Ситроен»? Или хотя бы «Мицубиси-Паджеро»? Что бы он ей ответил? Скорее всего, он, сегодняшний, пообещал бы подарить. Бахвал!
Однако на какие шиши?
Селиванов притягивал его к новому подвигу.
Но подвиги, пусть и в редких случаях, ещё и поощрялись. Стало быть, надо было не увиливать от своего, по Селиванову, предназначения и заработать средства для поддержания их с Лосей сладкой жизни. От этой жизни он пребывал нынче в удовольствиях.
Ничего иного Куропёлкину сейчас не требовалось.
253
Но однажды Куропёлкин ощутил, что они с Лосей вроде бы устали друг от друга.
То есть он-то, пожалуй, и не утомился. Он-то был готов к труду и обороне. А вот Лося, Баборыба, снова, похоже, и впрямь послабела. Очень может быть, из неё, всё ещё угнетенной особенностями сухопутной жизни, утекла энергия.
Лося потеряла интерес к гламурным журналам.
Не такими сладкими стали для неё и часы ночные и аквариумные. Куропёлкин не мог не чувствовать этого. При том Лося жестами изображала тяготы своего организма, но жалобы её напомнили Куропёлкину о знакомых ему жалобах, свойственным дамам, выросшим не в речных струях, а в гуляниях по асфальтам, теперь же — по плиткам тротуаров. То у Лоси, надо понимать, заболевала голова, то ей надо было срочно пить мезим или же средства от диареи.
Куропёлкин, естественно, сострадал подруге, но и расстраивался.
Мог бы посчитать, что Лося капризничает или дуру валяет, но полагал, что дуться на неё будет неприлично. Насилий не производил, уверил себя в том, что всё само собой изменится и к лучшему.
Однако к лучшему ничего не менялось. И Куропёлкин заскучал. Попытался сделать Баборыбе вразумления (с итальянской остротой жестов), но Лося лишь повернулась и улеглась к Куропёлкину спиной. На вопросы Куропёлкина Селиванов отвечал невнятно и в который раз порекомендовал потерпеть. Причём на временные энергетические потери бывшего водяного существа ссылок не последовало.
254
«Хорошо, — рассудил Куропёлкин. — Снова потерпим. Но — на расстоянии от этой вздорной и ленивой бабёнки».
И перебрался на ночлеги в свою избушку.
255
Сразу закуски и горячие блюда с компотами и киселями стали поступать ему из кухни госпожи Звонковой.
— Не надолго вас хватило, Евгений Макарович, — съязвила Дуняша.
— Пришёл послушать Башмак, — осадил горничную Куропёлкин. — А он всё молчит.
Дуняша, похоже, помрачнела.
— Не ожидала от вас, Евгений Макарович, такой бестактности, — заявила Дуняша.
— Извините, Дуняша, — поспешил сказать Куропёлкин. — Вовсе не хотел вас обидеть. А сюда перебрался, потому как захотел побыть в одиночестве, книги почитать и подумать кое о чём…
— Ну, коли так, — произнесла Дуняша, — то, конечно…
И ушла.
А Куропёлкин поднялся на чердак, к Башмаку, подавил в себе искущение нажать на деревянный гвоздик, а взглянув в окно, увидел: по некошеной траве прогуливалась барышня Лося Мезенцева в белой шляпке и ампирном платье Татьяны Лариной под руку с господином Трескучим. Важный господин Трескучий что-то властно и строго говорил Лосе, а та лишь послушно кивала.
256
Из упрямства, но, возможно, и из гордыни Куропёлкин в Шалаш не бросился, а в беспокойстве провёл в избушке остаток дня.
257
Но утром нового дня Куропёлкин не выдержал и вернулся в Шалаш. Лося его, приданная ему Баборыба, почивала, сытная, жаркая, бессовестная, плечи её, мягко-овальные, плечи плавающего существа, и правая грудь были обнажены, и в Куропёлкине взыграло.
Он стал гладить волосы, а потом плечи и грудь подруги, у той расклеились веки, но спросонья понять Куропёлкина она вроде была не способна, его же действия становились всё решительнее, вот он уже и руками принялся изображать движения брассиста («давай поплывём») и даже вышептал, неизвестно зачем:
— Пойдём в воду!
— Ты, Куропёлкин, — услышал он, — идиот. Теперь, вижу, полный. Твоя вода мне остоебенела!
258
Куропёлкин превратился в соляной столб. Или в монумент гранитный. Или даже в ствол осины, и листочки на нём задрожали в предчувствии Хаоса. Первоначального.
259
— Ты, Куропёлкин, — услышал он, — идиот! Теперь, вижу, полный! Твоя вода мне остоебенела!
260
«Ну вот, — остановил дрожание жестковатых листьев Куропёлкин. — Будет теперь с кем поговорить. И кое-что выяснить…»
261
Лося не привстала при своём выкрике, а привскочила.
— И не вздумай, — заявила она, — более называть меня Баборыбой и этим тухлым именем Лося!
— И как же теперь тебя именовать? — спросил Куропёлкин.
— По глупости судьбы я именно Мезенцева, хотя с рекой Мезень наш род никак не связан. А в паспорте я Мезенцева Людмила Афанасьевна.
— То есть Люся, — сказал Куропёлкин. — Чем же Лося хуже Люси?
— Люся — это Гурченко, а меня называли Милой.
— Мне наплевать, — сказал Куропёлкин, — Лося ли ты, Люся или Мила, ты теперь навсегда Баборыба, раз согласилась ею стать, по каким причинам — не знаю. Так почему тебе так противна вода?
— Мне было пять лет, а может и три, когда бабка отволокла меня в бассейн в перспективную секцию. И дальше двадцать лет были годами мучений. Ноги отбиты о дны бассейнов. Но в первую сборную, к олимпийским медалям и ко всяким благам, так и не попала.
— Так ты синхронщица? — спросил Куропёлкин.
— Синхронистка! — громко сказала новообретённая… кто? Пока неизвестно кто… Пусть будет Людмила Афанасьевна Мезенцева.
— Всё равно до выяснения ситуации с твоим нанимателем Селивановым, — сказал Куропёлкин, — ты остаёшься для меня Баборыбой с неизбежностью исполнения сожительских отношений.
— Ну, это уж шиш! — заявила синхронистка, по ошибке судьбы — Мезенцева.
— Но тебе за твою игру и труды явно деньги заплачены, — сказал Куропёлкин, — вот и придётся отрабатывать их.
— Не твоё холопское дело! — сказала добытая для Куропёлкина эротик-дива.
— Интересно узнать, — сказал Куропёлкин, — ради чего ты продалась, согласившись изображать Баборыбу?
— Никакого желания открывать свои житейские проблемы не имею, — сказала Людмила Афанасьевна. — Кстати, «тыкать» друг другу нам не стоит. Фактически мы с вами не знакомы.
— Если не считать нескольких часов близости с притворствами вашего тела… Хорошо, Людмила Афанасьевна, будем с вами на «вы». Хотя могу предположить, что вы сегодня же возвратитесь в Большую жизнь.
Мезенцева промолчала.
— Меня не отпустят, — сказала она.
Потом добавила:
— Прошу вас, Евгений Макарович, не сообщайте сейчас же Селиванову о моей выходке. Позвольте ещё несколько дней побыть вашей Баборыбой.
262
Куропёлкин позволил.
Смотреть на бывшую Лосю ему было противно.
Впрочем, а чем он был лучше её?
Ничем.
Он сразу же принялся искать оправдания не попавшей в олимпийскую сборную синхронистке. Что такое профессиональный спорт, имел представление. Он исключительно по глупости оказался подсобным рабочим в хозяйстве госпожи Звонковой. А у Милы Мезенцевой наверняка имелись серьёзнейшие причины ввязаться в авантюру с преображением в Баборыбу. Для него, Куропёлкина, Баборыба была блажью. А вот для Мезенцевой всё могло кончиться и прыжком в пропасть…
263
Позволить-то Куропёлкин позволил побыть ешё Баборыбой, но сказал, что ему необходимо переварить открытие у себя в избушке. Баборыбе же посоветовал на случай проверочного прихода Селиванова снова встречать того в полусонном и утомлённо-обесточенном состоянии.
И удалился в избушку.
264
И было что там обдумать и переварить.
Сразу же пришли на ум порученец и менеджер Анатоль и профессор-рыбовед Удочкин.
Ну ладно, Анатоль. Сразу было видно, что прохиндей. Но романтический-то профессор Удочкин, радостно пообещавший написать монографию о Баборыбе! Он-то кто? Неужели его смогли убедить в том, что неведомая Баборыба отловлена в северных реках и что её отлов, отлов доброго и доверчивого существа, мог быть более вероятным и удачным, нежели поимка свирепого снежного человека и кровопийцы в украинских курятниках — чупакабры.
Вряд ли. Не идиот же он. Хотя и фантазёр.
Ладно, решил Куропёлкин, вынесем за скобки менеджера Анатоля и профессора Удочкина. Пока.
Главное, что к нему отнеслись удивительно серьёзно и не то чтобы искательно, но с явным старанием ублажать его капризы. Выполнение его требований, вываленных в кураже на бумагу Книги жалоб и предложений, по неосознанной даже им самим прихоти, так вот выполнение их ретиво, с какой-то даже унизительной поспешностью тревожило, а то и пугало Куропёлкина. А ведь в результатах этих требованиях у Куропёлкина, пожалуй, и не было особой нужды, как и в отлове и доставке придуманной им Баборыбы. Похоже, захотел бы он для развлечений иметь при себе, скажем, Кинг-Конга или для философических собеседований говорящего панамского ленивца, ему приволокли бы и Кинг-Конга, и ленивца с пальмовой ветки. Стало быть, какие-то важные ведомства были заинтересованы в использовании его личности. Ради его шальных и безответственно-необязательных требований были отпущены средства, и не малые, например, на Шалаш и Аквариум с подземными коммуникациями.
И ведь подобрали, прикупили и всучили ему синхронистку Милу Мезенцеву, раньше Куропёлкин даже не обращал внимания на следы прищепок на её переносице, теперь заметил их.
Значит, слова Селиванова о предстоящем и неизбежном подвиге, новом, были обеспечены золотом необходимости государства и основательных сил.
Радовать это Куропёлкина никак не могло. К исследованиям его личности он относился, конечно, легкомысленно. Как и к разговорам с руководителем диспансеризации Селивановым, то есть думал, что, если и случится ему осуществлять новый подвиг, то это — лет через двадцать, а то и позже, подберут иных умельцев, помоложе, и он, авось, тогда и вовсе не потребуется. Другие найдутся бойцы и другие технологии. Но из-за стараний заинтересованной стороны (Баборыба, Шалаш, Аквариум) выходило, что ни о каких двадцати годах приручения его речь не идёт. Компетентные люди спешили, и надо бежать.
Надо не раздумывать. А надо бежать!
265
Куда бежать и где прятаться?
И от кого прятаться? От Селиванова и его структуры не спрячешься. Пожалуй, какой-то ущерб следовало бы учинить своему организму, чтобы пробиться в инвалиды. Но и калечить себя не было желания.
А от одной особы, понял вдруг Куропёлкин, стыдно было бы сбегать и прятаться. И наверняка вдалеке от неё он мог бы и заскучать. Однако она-то вряд ли бы заскучала вдалеке от него и принялась бы его разыскивать.
Эта особа была иной, нежели он, породы.
266
И снова Куропёлкин отменил экстренную степень готовности к побегу.
И посчитал, чтобы не вызывать (у Селиванова, например) необоснованных подозрений, надо появляться в Шалаше и ворковать с Баборыбой. То есть она вроде бы научилась производить звуковые эффекты, мол, он всё же продолжал быть Пигмалионом и возбудил в ней проявление новых свойств организма.
Посчитать-то посчитал, но снова ощутил, что подсунутая барышня ему противна.
И почему-то с тоской вспомнил о месяцах служения артистом в ночном клубе «Прапорщики в грибных местах».
267
Лося, Мила, Баборыба, к удивлению Куропёлкина, ему обрадовалась и отменила свою резолюцию «Ну уж шиш!» на прозвучавшее три дня назад утверждение Куропёлкина об обязательности продолжения их совместного проживания.
Для Селиванова ли (напоказ), для себя ли она это делала, Куропёлкина не волновало.
Но подаяние Баборыбы (с отказом от обещанного Шиша) он принял с дружелюбием и удалиться из её комнаты для размолвок сразу не пожелал. «А ты милашка, Евгений Макарович!» — услышал он.
И Куропёлкин растаял.
Лося-Мила стала сейчас ему не так уж и противна.
— Но больше не тяни меня в воду, — сказала она. — Пообещай. Нам и здесь было хорошо.
— Обещать не буду, — хозяином проявил себя Куропёлкин. — Но просьбу твою буду держать в голове.
А дальше Лося-Мила попросила Куропёлкина хотя бы на полчаса побыть для неё жилеткой. Полчаса, правда, продолжились и ещё на час.
Куропёлкин предположил, что жилетка понадобилась для тихого плача с рассказом о тяготах жизни и жутких обстоятельствах, вынудивших синхронистку Мезенцеву нырнуть в здешний аквариум.
Куропёлкин ошибся. Плача, в особенности с мокротами, не случилось. Никаких жалоб на стечение обстоятельств, долги, предательства коварных красавцев, трагедий с проигрышами в казино и шантажи в связи с эротическими кассетами не последовало. То есть надводная жизнь Мезенцевой осталась для Куропёлкина тайной. Размахивая ювеналовым мечом, Баборыба принялась обличать недостойных людей, видениями пряников заманивших её в подозрительную игру. Пряники ей так и не выданы, и даже урезан гонорар из-за якобы небрежных исполнений ею принятых обязательств. И началось перечисление в ухо лежавшему рядом Куропёлкину заманных пряников.
Виллы, яхты, автомобили, Лигурийское море, суммы в валютных банках, знакомство с самой Леной Лениной и её извилинами, а уж если Куропёлкин, совместный проживатель, совершит какой-то подвиг, то она получит всякое такое, что барышне и в снах явится не может, и тогда произойдёт её венчание с титаном Куропёлкиным. И где это всё? Пряники подносили к её носу, дали понюхать и тут же их унесли…
— Какое ещё венчание? — отполз от Баборыбы Куропёлкин.
— Это не я придумала! — в испуге воскликнула Баборыба. — Это они — сволочи! На кой хуй мне это венчание! Гуляй себе холостой! Главное, чтобы они выполнили свои обещания. С Лигурийским морем, в частности.
— Расскажи мне, что за обстоятельства, — попросил Куропёлкин, — заставили тебя придуриваться глухонемой и без всякой симпатии к идиоту, как ты верно определила, впускать меня в своё тело?
— Об этом потом, — хмуро сказала Баборыба.
— Или никогда, — выдохнул Куропёлкин.
— Не злись на меня, мой повелитель, — вскрикнула Баборыба. — Я — твоя, все твои желания — исполню. Но не выспрашивай меня о бедах моей жизни.
И полезла ласкаться к Куропёлкину.
Куропёлкин отодвинул её. Сказал:
— Не спеши. Отдохни. Никаких пряников ты от меня не получишь… Их у меня нет.
— Но ведь будут! — сказала Баборыба.
— Не будут, — сказал Куропёлкин. — Надо бы нам с тобой бежать отсюда.
— И что дальше?
— Дальше? Открыть дело. Устроить аттракцион. Вариант водного цирка. Аквариум. Аквариум на рыночных площадях. И денег соберём и на Лигурийское море, и на две яхты…
— Ты, Куропёлкин, сдурел? — спросила Баборыба.
И Куропёлкин понял, что сдурел.
268
Он тут же ушёл к себе в избушку.
И тупо просидел там два дня.
А просидев, вернулся в Шалаш и деликатно постучал в дверь отловленной для него подруги.
— Входи, милёнок, — сказала она. На голове она утверждала установку противоракетной системы бигуди. — И теперь я не открою тебе свои приключения в сыростях московской жизни. Кстати, я иногда заходила в Грибные места прапорщиков.
— Вот тебе раз! — удивился Куропёлкин. — И кто же тебя там волновал? Шерстяные или поручик Звягельский?
— Был там такой блондинчик с белыми бараньими завитушками…
— Серёжка Стружкин, что ли? — ещё больше удивился Куропёлкин. — Он же редкостный дурак!
— А ты, Куропёлкин, кто? — спросила Баборыба.
— Ну да, — скис Куропёлкин. — Я-то кто?
— Я тебя обрадую, — сказала Баборыба. — Фигура у тебя была поосновательнее, чем у этого баранчика Стружкина, но тобой интересовалась богатая купчиха.
— И что? — спросил Куропёлкин.
— И ничего, — сказала Баборыба. — Я просто понимаю, что мы сейчас вдвоём должны искать выход из загнавшей нас в угол ситуации. При этом мне нужны закабалившие меня пряники, а тебе — любовь женщины, для меня заколдованно-непонятной, и свобода от каких-то пробиваний, то есть просто свобода.
«Чёрти чего! — подумал Куропёлкин. — Зачем я спустился в Шалаш? Ради этой пустой болтовни? И уйти сразу неудобно…» Что его пригнало к Баборыбе? Боязнь одиночества? Скорее всего, именно так. Хотя он и понимал, что в женских ласках потребности у него сейчас никакой нет, и без Баборыбы, ожидающей, как и Селиванов, от него подвига (причём, если Селиванова заставляли усердствовать государственные заботы, то для Мезенцевой важнее была бабья тряпичная корысть), так вот без Баборыбы и Селиванова Куропёлкину было бы проще существовать и понимать себя.
Но он и так вроде бы понимал, что живёт в скуке и в бессмыслии.
Однако не бессмысленна ли вся его жизнь?
— Макарыч, — спросила Лося-Мила, — что ты молчишь? Чего ты пригорюнился?
— Я думаю, — сказал Куропёлкин.
— Не об одной ли прекрасной незнакомке? — поинтересовалась Баборыба.
— Какой ещё незнакомке? — рассердился Куропёлкин.
И ведь, действительно, ни о каких прекрасных незнакомках в тот момент он не думал. Но опять ощущал тоску. Из-за кого? Из-за чего? Несомненно, из-за осознания бестолковости и пустоты собственной жизни. Надо же, придумал дело. На манер тех самых вспомянутых совсем недавно гонок по вертикальной стене на рыночных площадях. Конечно, никаких гонок устраивать он не предполагал, а в голову ему приходила мысль о водяном аттракционе — акробат из ночного клуба прапорщиков и синхронистка с серебрянной медалью в Аквариуме. И номер готов был придумать. Но очень скоро сообразил, что такие «площадные» аттракционы были уместны после войны или хотя бы в пятидесятые годы, нынче подобная чушь не смогла бы вписаться в нормы шоу-бизнеса и копейки бы не принесла.
Но если бы и выросло из более остроумной идеи какое-нибудь стоящее дело, что же, это было бы вершинным достижением его, Куропёлкина, жизни?
Горько стало Куропёлкину.
269
— Ты права, — сказал Куропёлкин. — Я впрямь думаю о незнакомке, назовём её так, кто она, мне неведомо, я пришёл к тебе просто поговорить, не более.
— Поговори, — кивнула Баборыба.
— Однако вижу, что у тебя в голове лишь Лигурийское море и яхты, — сказал Куропёлкин, — но говорить о них мне скучно. А потому я займусь самокопанием в своём отсеке. Простите, Людмила Афанасьевна, что из-за моей блажи вы оказались здесь, а вам так и не выдали пряников.
— Опять на «вы»? — спросила Мезенцева. — И к чему ваши слова о прощении?
Нет, убеждал себя Куропёлкин уже в своём отсеке, всё же разумно было попросить прощения за то, что из-за его выдохов, с усердием, мыльных пузырей уродилось существо под названием Баборыба. Ладно бы, просто из мыльных пузырей… А вот женщина с реальной судьбой Людмила Афанасьевна поспешила совместить себя с мыльными пузырями Евгения Макаровича Куропёлкина, то есть будто бы и на самом деле произошла из тех пузырей.
Ну, освободится он через два года, если его, конечно, выпустят из здешних засовов, что дальше-то с ним будет? Ну, окончил он пожарное училище, ну, может служить в ведомстве Шойгу. «День сегодня такой лучезарный (что-то там)… а — каска медная тонет в луче… и стоит мой любимый пожарный, ну, понятно, на каланче, он ударник такой деловой, он готов потушить все пожары, но не может гасить только мой», — слушал когда-то Куропёлкин песенку Эдит Утёсовой, вальсировал под неё, но на каланче пожарные теперь не стоят… По простоте души поступил он в огнебойное училище, а не по ярому желанию. И теперь будто бы и не помнил о нём. Во Владике же он недоучился в университете и дальше полез в артисты заведения Верчунова. Ради чего? Получалось, что ради более выгодного жизнеустройства, ради денег для пропитания родичей и себя, да ещё и с поселением в московских кущах. Сколько таких персонажей, и мужиков, и баб, нагличают и разоблачают себя в передаче «Давай поженимся». И сколько добытчиц и добытчиков шуршат в социальных сетях Интернета мухами-цокотухами, паучками и комариками. А уж если кому из них и удаётся прижаться к Москве надстроенными грудьми и благоприёмно-раскинутыми ногами или когтями вцепиться в неё, то сразу же в этих удачниках возбуждаются мечтания о виллах под Барселоной, недвижимости в старушке Англии с её газонами и об острове в Мальдивском архипелаге.
Именно такого рода пряники и были, наверное, обещаны синхронистке Мезенцевой.
А иначе ради чего ей оставалось существовать Баборыбой?
Тут Куропёлкин удивился себе. С начатого было самокопания он с легкостью соскользнул на соображения о странностях выбора Людмилы Мезенцевой. Да тебе-то что в её выборе? Продолжать с ней совместное проживание ты теперь, похоже, не собираешься. В крайнем случае придётся соблюдать приличия два года. И что правомочно — проводить время в комнатах для размолвок. Кроме всего прочего, он мог бы объявить, что необходимость в общении с Баборыбой исчерпана и допустимо речное существо отпустить в воды Мезени и её притоков.
Но это не завтра. И тем более не сегодня.
А сегодня следовало вынести приговор именно себе, но не с требованием высшей меры или прижизненного исполнения, а хотя бы на несколько лет вперёд, скажем, до сорокалетия.
Подвиг, зачем-то необходимый другим, Куропёлкиным отвергался, он мог лишь помешать выправлению его судьбы и приданию ей смысла.
270
Но в тот день приговор себе Куропёлкиным вынесен не был. И не была принята им же программа исправления собственной судьбы.
По поводу исправлений никаких перспективных мыслей выдавить он из себя не смог. То являлось к нему некое понимание, даже с вариантами, способов изменений и своей натуры, и сути её проявлений, но сейчас же оно затуманивалось, причём не серым, почти прозрачным и влажным тюлем из оврага, а плотным, будто бы из клочьев хлопка, и клочья эти не опадали и не разлетались.
Ну ладно, решил Куропёлкин, что-нибудь рано или поздно придёт в голову…
А вот возвращаться в Шалаш, к Баборыбе, Куропёлкина, естественно, не тянуло.
Он и думать о ней не хотел. Но и отделаться от мыслей о ней не получалось.
Впрочем, если соображения о переменах в судьбе то и дело замутнялись (или искажались) наплывами тумана, то мысли о Мезенцевой-Баборыбе слоились. Или шевелились внутри слоёного пирога. Отчего Баборыба стала ему противна? Не виноват ли в этом был он сам, Евгений Макарович Куропёлкин, и не сам ли он породил её фальшь и стремление к обману? Он… Мошенниками можно было признать Селиванова, менеджера Анатоля, профессора Удочкина и ещё многих лиц, неизвестных Куропёлкину. Но направление-то мошенничества указал им он. Другое дело, что наверняка в поисках Баборыбы ловцы её забрасывали свои сети или удилища с блёснами в гущи жарких и суетящихся женщин, а отозвалась на приманку одна — Людмила Афанасьевна Мезенцева.
А может быть, и не одна. Но в подходящие была определена именно Людмила Афанасьевна, Мила-Лося.
Так стоило ли относиться к ней с брезгливостью? Не следовало бы вылить помои из ушата себе на башку?
Он-то каков молодец и красавец!
Лосю-Милу надо было прежде всего пожалеть.
И всё равно желание спуститься в Шалаш не возникало.
Единственно, что сверчком запечным тренькало в Куропёлкине: а что за прогулку совершала ЕГО Баборыба по некошеной траве в ампирном наряде с господином Трескучим и какие основательные слова Трескучего вызывали её послушные кивки.
Но лень было тащиться в Шалаш и ниже достоинства — выспрашивать о наставлениях здешнего воеводы Трескучего-Морозова и его замыслах (или промыслах).
Четыре дня Куропёлкин (зарядку, правда, делал) валялся на лежанке с книгами в руках и под боком. Кстати, обнаружил среди доставленных ему книг — русско-эскимосский словарь.
271
— Эй, сожитель! — услышал Куропёлкин, задремавший было после двух обеденных стейков и борща.
Поднял голову. Увидел: из спуска в погреб (крышка спуска была откинута) появляется голова с горящими глазами будто бы влюблённой в человечество Баборыбы.
— Кто позволил? — опустил ноги на пол Куропёлкин.
— Не хами! — встала перед ним Баборыба. — Мне позволено контрактом.
— Я не подписывал с вами контрактов! — возмутился Куропёлкин.
— Кому нужны твои подписи и контракты! — рассмеялась Баборыба.
Она схватила Куропёлкина за руку, дёрнула его и потащила за собой.
— Мне без тебя скучно, — по ходу движения объяснила она. — Я приглашаю тебя в воду.
Даже в дни её физиологического процветания Баборыба силу и наглость не проявляла, всячески давала понять, что она тварь второстепенная, готовая подчиняться желаниям повелителя, даже самым удивительным и, возможно, малоприятным для неё, и уж во всяком случае не перечила им, сейчас же сама выглядела явной лидершей, хозяйкой положения (может, и ощущала себя таковой). Куропёлкин воспринял её ведущей в танце, в танго ли, в фокстроте ли, новизна в поведении барышни для совместного проживания вызвала его любопытство. И он, не освобождая своей руки из наручника её крепких пальцев, прошествовал сквозь помещения Шалаша, а потом и подземным ходом — прямо к Аквариуму.
А может, у неё в организме происходит нечто такое, что требует немедленного сеанса под водой, принялся оправдывать себя Куропёлкин, ведь совсем недавно она проклинала воду и обещала более в неё не лезть.
— Подымайся в свой предбанник. Я — в свой, — указала Баборыба. — Там и переоденемся. Встретимся в воде.
Водружение плавок на бедра Куропёлкина заняло секунд семь. А подход Баборыбы к мосткам состоялся через пять минут. «Ну, бабы! — не смог не проскрипеть Куропёлкин. — И ведь спешила, и меня чуть ли не волокла! Небось торчала сейчас перед зеркалом, губы красила и орошала себя духами, и это перед нырянием в воду!»
К мосткам она явилась в известном Куропёлкину по первому знакомству с Баборыбой сиреневом купальнике (потом купальники меняла на более яркие и откровенные) и тёмно-синей резиновой шапочке (и шапочки бывали у неё прежде разных цветов). Знать, в возвращении к благополучно опробованному купальнику имелся для Лоси-Милы важный смысл.
Шапочку на этот раз она слишком низко натянула на лоб. И надела тонированные водозащитные очки. Её дело, решил Куропёлкин.
Однако совершенство линий её тела он не мог сейчас не отметить. Будто бы впервые рассмотрел Баборыбу. Ему даже показалось, что ноги её удлинились. Может, она под влиянием компотов из лапландских орхидей или нектаров бога Одина стала расти? Какая радость для профессора Удочкина иметь возможность и дальше исследовать развитие её организма!
«Какой Удочкин! — оборвал свои соображения Куропёлкин. — Она же не Баборыба, а синхронистка Мезенцева!»
Но вдруг…
Так. И дальше будем считать, что она — Баборыба.
Баборыба со своих мостков указала пальцем вниз. Опять, что ли, онемела? И сбросила с себя купальник. Куропёлкин чуть ли не взвыл от восторга и досады. Как же он за месяц не разглядел со вниманием прелести Баборыбы! Правда, показалось ему, он увидел нечто знакомое и вовсе не присущее Миле-Лоси.
Но соображать было некогда, и под водой случилось нечто волшебное, через две с половиной минуты получившее продолжение в комнатах за предбанниками. Утомившись, Баборыба, снова глухонемая, так и лежала рядом с Куропёлкиным, не сняв шапочку и очки, до того устала, как посчитал Куропёлкин, от напряжений страсти.
272
И вдруг она спросила:
— Ну, так что, брал ли взятки Алексей Александрович Каренин или не брал?
273
— Чего? — чуть ли не вскочил Куропёлкин. И тут же заявил, будто висел на дыбе, а к нему подносили раскалённый кусок железа: — Не брал! Не берёт! И не брать не будет!
— Да успокойся ты, любезный мой Шахерезад, я не из тех, кто умеет пытать, — сказала Лже-Баборыба и сняла шапочку и водозащитные очки.
И замолчала, возможно, вспомнила о Люке.
— Нина Аркадьевна… — прошептал Куропёлкин. — Нинон…
— Никто и никогда не называл меня «Нинон», — произнесла госпожа Звонкова, то ли просто и для себя подтвердила реальность, то ли выразила неодобрение фамильярности подсобного рабочего.
— Извините, Нина Аркадьевна, — сказал Куропёлкин, — но ваше появление здесь и нынешнее купание породили во мне странные чувства…
— Сейчас породили, — спросила Звонкова, — или уже в Аквариуме?
— Неважно, — сказал Куропёлкин. — Вы считаете, что со мной можно позабавиться, как с игрушкой?
— Евгений Макарович, — обиженно произнесла Звонкова, сумев прикрыться при этом какой-то тряпкой, — вы позволяете себе слова бестактные…
— Действо с подменой так называемой Баборыбы, насколько она стала мне понятной, не могло обойтись без удовлетворения какой-либо её выгоды или выдачи ей приличной суммы денег за якобы проделку. Тогда получается, что меня на время ради чьего-то развлечения продали и купили. Это оскорбительно…
Звонкова встала, отбросила камуфляжную было тряпку, нисколько не стесняясь своей наготы, сказала:
— Вы, Евгений Макарович, преувеличиваете свою ценность. Никто вас сегодня не покупал и никто не хотел вас оскорбить. Вы меня не поняли, и от этого мне больно.
— Для того чтобы я вас понял, признайте недействующим мой с вами контракт и отпустите меня с богом, — сказал Куропёлкин.
— Я не буду этого делать, — сказала Звонкова, — ради вашего же благополучия. Или даже ради сохранения вашего бытия на Земле. А поблажки вы получите.
Призыв к бизнес-занятиям прозвучал в сотовом телефоне, естественно находившемся вблизи госпожи Звонковой, пусть и на полу, и заставил даму выслушать чьи-то слова и ответить: «Сейчас выезжаю!»
Куропёлкину же на прощание были обращены слова иные:
— Вы, Евгений Макарович, обижены на меня и составили мнение обо мне, как о коммерческой вампирше, в житейских ситуациях — с расчётами точных наук, способной приобрести всё, что пожелаю. Мне это горько и обидно. Вряд ли вы пожелаете впредь иметь со мной какие-либо общения, но прошу вас без предвзятостей оценить то, что и почему с нами сегодня произошло. Я ведь тоже человек…
274
С Баборыбой-Мезенцевой Куропёлкин разговаривать и выслушивать её объяснения отказывался.
Да и с Селивановым встречаться не желал.
А тот норовил с Куропёлкиным переговорить.
— Не лезьте ко мне в душу! — пресекал его попытки Куропёлкин.
Селиванов, похоже, понял, что Куропёлкина пока не следует теребить. Пусть успокоится и очнётся. Но чувствовалось, что Селиванов не намерен отступать и ему необходимо сообщить Куропёлкину о чём-то существенном.
Куропёлкин же держал в голове слова Звонковой, попросившей его оценить всё, что с ними (и почему) произошло. Возмущение обманом и несомненной продажей свидания с ним долго остывало в Куропёлкине. Потом потихоньку стало остывать и прекратило шипеть. И тогда к нему начали являться мысли как бы побочные, но и требующие более глубинного осмысления случившегося. Действительно ли умотанная деловой суетой дама устроила себе одноразовое развлечение? Или же её подвигло к авантюрному поступку искреннее желание проявить своё отношение к особенному для неё человеку, то есть к нему, Куропёлкину? Вполне возможно, предположил Куропёлкин, в женщине смешались чувство вины и память о случайно полученном ею удовольствии (по поводу удовольствия — мнение Селиванова), а она незаслуженно нарвалась на оскорбление подсобного Шахерезада. Но сейчас же вспомнилось: «Вы, Евгений Макарович, преувеличиваете свою ценность».
Да, преувеличивал. И по дурости иногда позволял расцветать в себе грёзам, несбываемым и пустым, но при том на время — сладостным, хотя и понимал, что сладость эта — из сахарина. И сейчас он допускал возможность того, что между ними — им и простой женщиной Ниной Аркадьевной Звонковой, вовсе не бизнес-бабой, а именно простой женщиной, «я ведь тоже человек», возникли состояния взаимной влюблённости и потребности быть вместе. Теперь, понятно, вместе они не будут. Не смогут. На десять минут, ну, на полчаса — они равные, но на время, отпущенное им Провидением, она — миллиардерша, а он — почти бомж (хотя имел уже московскую прописку, но комнатушку снимал). Такое расположение судеб было им уже уготовано. При этом Нина Аркадьевна, видимо, способна лишь к кратковременным выплескам чувств, а он, Куропёлкин, был награждён (или наказан) привязанностью к необходимой ему женщине на всю жизнь. С женщиной, какая показалась ему вдруг единственной, случились дважды совпадения (хотя об одном из них лучше не вспоминать, но и забыть о нём было нельзя). Однако зти два совпадения были совпадениями их тел, мало же объяснимое совпадение их судеб, натур и их сущностей (кто она и кто он!) было недопустимо.
И, пожалуй, в нём не было нужды. Воробью до орлицы долететь затруднительно. И никто из воробьёв залетать не задумывал. Какая в этом надобность?
Кстати, не заблуждается ли он, Куропёлкин, в оценке тонкостей души Нины Аркадьевны? Зачем приписывать работодательнице чувство вины. Сам продал себя в рабство. Сам не выдержал искушения красотой женского тела. И заткнись. Не обольщайся подарками вывертов жизни. Вытерпи два года. А что касается её чувства вины… К чему бы оно ей? Ну, предположим, испытала удовольствие… Но действие Куропёлкина она могла признать нападением раба, нарушившего порядок служебных отношений. Ему-то показалось, что хозяйке потребовалось немедленное удовлетворение чувственного голода, может, так оно и было, но, утолив голод, она осознала, кого призвала в утолители, и взревела в ужасе: «В Люк его!» Какое уж тут чувство вины! Виноват был, естественно, раб. Теперь же возникла возможность позабавиться, да ещё и с переодеванием и сюжетным розыгрышем. Попробуй, вытерпи ещё два года! Бежать! Нажать на гвоздь Башмака, добраться до Бавыкина с его сапожной мастерской, с его глобусами и чемоданами, пробитыми металлическими штырями, порассуждать за накрытым столом, а потом анфиладами подземных залов и лабораторий утечь из поместья госпожи Звонковой.
Но куда?
Найдём куда…
275
С завтраком прибыла горничная Дуняша.
Два яйца в мешочек, хлеб, поджаренный в тостере, йогурт, стакан зелёного чая. Достаточно.
— Аппетит не вернулся? — поинтересовалась Дуняша.
— Нет, — пробурчал Куропёлкин.
— Зато, говорят, ваша Баборыба теперь обжирается.
— Её дело, — сказал Куропёлкин.
— И что интересно, — добавила Дуняша, — в компании с господином Трескучим…
— Её дело…
— Уж больно вы какой-то удручённый, — покачала головой Дуняша.
— Обещаю к обеду восстановить аппетит, — мрачно сказал Куропёлкин.
— Ладно, — сказала Дуняша. — Вам были обещаны поблажки. Прекращать действие контракта с вами Нина Аркадьевна не намерена. По какой причине, не знаю. Но догадываюсь, — слова Дуняши при этом были подтверждены улыбкой понимания сути. — А поблажки предложены такие. Гуляйте, где хотите и сколько пожелаете, хотите — закажите велосипед, посещайте Водный дом…
— У нас есть Аквариум, — мрачно же произнёс Куропёлкин.
— Ну, это понятно, — кивнула Дуняша, — и тем не менее… И даже… И даже… Если захотите, выйдите за ограду и можете автобусом добраться до Москвы. Там развлекайтесь…
— На воздушные и невидимые деньги? — спросил Куропёлкин.
— Вот вам конверт с зарплатой за первый месяц службы, — сказала Дуняша.
— В песо? — спросил Куропёлкин.
— Отчего же в песо? — удивилась Дуняша. — Холдинг бережёт свою репутацию. На обновки вам хватит. Коли заскучаете, можете посетить своих прапорщиков в Грибных местах.
— А если не вернусь? — спросил Куропёлкин.
— Тебя вернут, — сказала Дуняша.
— Ну да, понимаю, — согласился Куропёлкин.
— А что это ты читаешь? — спросила Дуняша, взяла со стола Куропёлкина книгу со строгой синей обложкой. — Тяжёлая. Так… «Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй», том первый… Это что такое?
— Китайский роман шестнадцатого века.
— Какого?
— Шестнадцатого. У нас в стране жил такой Иван Грозный, если ты о нём слыхала…
— Кино смотрела, кажется… — поскребла в памяти Дуняша. — С чего бы ты вдруг стал читать древних китайцев?..
— Во-первых, они не такие уж и древние. А потом мне, не знаю по какой причине, прислали книги средневековых китайских и японских авторов.
Дуняша принялась листать первый том «Цветов сливы…».
Наткнулась:
— Вот как! Глава семнадцатая: «Прокурор Юй-вэнь обвиняет командующего императорской гвардией Яна. Ли Пин-эгр берёт в мужья Цзян-чжао-шаня». Это детектив, что ли?
— Ага! — сказал Куропёлкин. — Эротический роман и детектив одновременно с прокурорской проверкой.
— Ты меня за дуру держишь? — обиделась Дуняша.
— Ну, хорошо, — сказал Куропёлкин. — Ещё до… Ну, сама понимашь…
— Понимаю, — кивнула Дуняша.
— Ну вот, до того происшествия мне была доставлена книга «Китайская пейзажная живопись» с заданием высказать о ней своё мнение, всё-таки я побывал в соседских портах и кое-что в них узнал. Но высказывать мнение не пришлось. И вот теперь эти китайские романы, впрочем, корейские и японские тоже.
— Бизнес Нины Аркадьевны, — сказала Дуняша.
— Ты полагаешь?
— На днях Нина Аркадьевна улетела на Бруней и в Папуасию. Её интересы сейчас на Востоке и Юге Азии.
— Хорошо, что в Папуасии нет литературы, — сказал Куропёлкин.
— А вдруг есть? — рассмеялась Дуняша.
— Ты, Дуняша, меня пугаешь, — сказал Куропёлкин. — Ты слишком осведомлённая. И видимо, знаешь тайны здешнего двора. Но кто ты здесь, понять я не могу. Даже не знаю, как к тебе обращаться, наверное, всё же на «вы» и по имени-отчеству… Как ты записана в паспорте?
— Евдокия Ивановна Ермолаева, — будто бы растерялась Дуняша.
— Слава Богу, не Авдотья.
— Почему?
— Евдокией была моя тётка. Тётя Дуня, — сказал Куропёлкин.
— И отчего же ты не можешь понять меня? — спросила Дуняша.
— Или я тупой, Евдокия Ивановна, — сказал Куропёлкин, — либо для меня нет необходимости разгадывать твои секреты и выпытывать, с кем ты и кто тебе приятен и кто неприятен…
— А какая бы вышла польза, если бы мои секреты тебе открылись? — спросила Дуняша.
— Похоже, никакая, — вздохнул Куропёлкин.
— А не был бы тупым, — сказала Дуняша, — задумался бы над плохо объяснимыми для тебя поступками Нины Аркадьевны…
— Значит, ты на её стороне или в её команде? — предположил Куропёлкин.
— Всё ты упрощаешь, милостивый государь Евгений Макарович, — теперь уж будто бы не по делу рассмеялась Дуняша.
276
— А книги тебе присылают в надежде на то, что ты можешь оказаться полезен своими советами в бизнес-проектах. Я так полагаю. То есть считай, что ты теперь как бы советник.
— Никто никаким советником меня не назначал, — сказал Куропёлкин, — и я не намерен им быть. Побуду бездельником два года. Язык эскимосский выучу.
— Ну, что же… Над тобой сейчас две силы, — сказала Дуняша, — а потому имеешь возможность для манёвров и даже интриг. С тем я тебя и покидаю. И о Баборыбе своей не забывай, но при этом помни и о другой, возможно первой для кого-то, команде Нины Аркадьевны.
— Это тебя, Дуняша, следует сейчас же, — сказал Куропёлкин, — произвести в советники.
277
Осваивать эскимосский язык Куропёлкин не стал. И не из вредности (а к изучению языка эскимосов, как помните, его призывал Селиванов), а из-за душевной лени. Обращаться с вопросами к Селиванову же, зачем ему, собственно, эскимосы, Куропёлкин не пожелал, чтобы не вляпаться в ещё какую-нибудь жидкую глупость.
Пока его никуда не торопили, и даже и впрямь было ему разрешено (высочайше дозволено) прогуливаться в здешних Аркадиях.
Велосипед заказывать он отказался. Рос при дорогах, на которых можно было гнать (хотя как это — гнать? кнутом, что ли?) двухколёсное устройство лишь за букетами неизвестно для кого. Не гонял, не было нужды. И велосипеда. Владик же оказался городом скорее для горнолыжников (по крутизне — второй Сан-Франциско). Если бы выпал снег в поместье Звонковой, Куропёлкину были бы хороши лыжи, а то и аэросани.
Нет, он решил просто погулять по поместью.
И сразу понял, что ему требуется отыскать Люк.
Зачем?
А чтобы ещё раз услышать (мысленно) крик: «В Люк! И немедленно!».
Неужели превратился в мазохиста? Так, что ли? Или просто желал, чтобы в неизвестном ему тереме (а может, и в известном, том, где размещалась опочивальня Нинон) в окошке будет сдвинута занавеска и на него взглянет дама, совсем недавно нырявшая в сиреневом купальнике в воду Аквариума.
Хотя, если верить Дуняше, та улетела в королевство Бруней и в Папуасию.
Но вдруг вернулась?
И вдруг ему, Куропёлкину, пешему прохожему, повстречалась бы отправившаяся на прогулку всадница с вуалью, не способной скрыть лицо и в особенности глаза женщины, и…
Что — «и»? Неизвестно, что…
Не повстречалась.
И слава Богу!
Может, только что закончила дела в Брунее и перебралась в Папуасию.
В какую ещё такую Папуасию! Чушь какая!
Следовало сейчас же отогнать дурацкие и пожароопасные мысли и продолжить поиски Люка, чтобы напомнить себе о важном для него уроке жизни.
Часа полтора пришлось прошагать Куропёлкину, прежде чем он оказался у знакомых ему построек, — можно посчитать, княжеским домом, усадебной конторой и флигелями для дворовых мужиков и баб, а также сооружением для водных процедур. Возникло искушение заглянуть именно в водяные процедуры и поболтать с массажистками-хохотушками Соней и Верой, но искушение это напугало Куропёлкина. Вдруг ни Веры, ни Сони там более нет, а если и есть, не зафыркают ли они, замужние нынче дамы, или хуже того, — не предъявят ли требований оплатить моральный ущерб за сокрушение в них нравственных ценностей.
Нет, заходить в Дом водных процедур Куропёлкин не отважился.
К тому же он вспомнил о спецбелье господина Трескучего, предназначенном для ночей в опочивальне, и, естественно, о трусах секретного изготовления, неизвестно какой команды, выданных ему в день Люка.
Воспоминания о спецбелье вызвали сейчас у Куропёлкина чуть ли не тошноты. А ведь прежде он относился к нему, как к непременному комбинезону с карманами для инструментов, необходимому истинному подсобному рабочему.
Людей Куропёлкину встречалось мало. Ему и прежде, скажем, в день похода по грибы шампиньоны, асфальтовые тропинки (теперь выложенные плитками) в траве, цветах и кустарниках увиделись пустыми, хотя и цветники, и плодовые растения требовали ухода садовников, но и садовники Куропёлкиным замечены не были. И сейчас поместье казалось безлюдным, даже и охранники будто бы здесь не существовали. Куропёлкин обошёл участок с постройками и увидел Люк.
То есть ненаблюдательный и не испытавший приключений человек мог бы и не заметить отсюда небольшой выступ из земли, покрытый чем-то стеклянным. Ну, колодец или, предположим, хранилище капусты и выращенного где-то рядом картофеля, бурт, что ли… Но для Куропёлкина тут было уже чуть ли не родное место.
Однако подходить к Люку Куропёлкин отчего-то не пожелал. Предчувствие остановило. И вовремя. А он и так был уже слишком близко от Люка и уходить от него (получилось бы — сбежать) вышло бы делом позорным и трусливым. К Люку подъехала мусорная машина. Выскочили уборщики городских отходов, числом — трое, и в одном из них Куропёлкин сразу же опознал выпытывавшего из него секреты на вилле во Флориде то ли хозяина, то ли унтер-исполнителя воли хозяев (неизвестно чего), тогда его имя было — Барри.
Куропёлкин осел в траву.
Однако русская трава не бамбук и утопить в себе Куропёлкина не могла.
Но может, это был и не Барри, а человек, похожий на Барри. Тем более что флоридский собеседник Куропёлкина на явочной вилле, окружённой протоками с голодными аллигаторами и ламантинами, способными по причине доброты душевной зализать до смерти, имел тогда наряд с ковбойскими мотивами, а на этом мусорщике, похожем на Барри, был фиолетовый комбинезон московского коммунального труженика и к комбинезону — служебная же каскетка.
— Эй, гражданин, который в траве, — услышал Куропёлкин, — не сочтёте ли вы возможным подойти ко мне?
— Сочту возможным, — сказал Куропёлкин.
Поднялся и подошёл к команде мусорщиков.
278
— Ну, так что, господин боцман с субмарины «Волокушка», — сказал предполагаемый Барри, — Земля имеет форму чемодана? Или как?
— Иногда — чемодана, — сказал Куропёлкин. — Иногда — мяча для игры в гольф. Иногда — груши. Как ей выгодней и удобней. Или не только ей, а и ещё кому-то.
— Спасибо за разъяснение…
— Не стоит благодарности, — сказал Куропёлкин.
— Вы не забыли, — Барри снял каскетку и провёл ладонью по рыжеватым волосам, — о чём я вас предупреждал?
— Не помню, — соврал Куропёлкин.
— А я предупреждал вас, Евгений Макарович, что в случае нужды мы вас отыщем хоть бы и в самом загадочном месте литосферы.
— А-а-а… — произнёс Куропёлкин, — что-то вспоминаю… Вы тогда ещё обещали достать для своих надобностей профессора Бавыкина. Вы добыли Бавыкина?
— Пока он нам не нужен…
— А не можете ли вы объяснить мне, каким макаром из вашего гостеприимного дома меня занесло сюда?
— Можем, — хмуро сказал Барри. — Но не будем.
— Ну ладно, — сказал Куропёлкин. — Бавыкин, о секретах которого вы пытались у меня вызнать, вам не нужен. А я-то вам зачем?
— Вы — Пробиватель, — сказал Барри.
— Во как! — воскликнул Куропёлкин. — А вы кто? Или кого вы представляете?
— Узнаете позже.
— Узнавать позже мне не интересно, — сказал Куропёлкин. — Попробую догадаться сам. Сопоставлю. Почему вам не нужен человек со странными идеями Бавыкин и надобен Пробиватель. Но засунуть меня сейчас в вашу мусорную машину и не пытайтесь. Тем более что вокруг поместья водятся существа, не менее забавные и опасные, нежели ваши голодные аллигаторы и даже ламантины.
— Вы меня не так поняли… — растерялся Барри.
— Как понял, так понял, — сказал Куропёлкин.
Повернулся и пошагал к усадебным постройкам.
— Эй, боцман с субмарины! — выкрикнули в спину Куропёлкину. — Мы не хотели применять насилие, но придётся!
— Применяйте! — сказал удаляющийся от Люка Куропёлкин.
Он ожидал, что его сейчас охватят сзади какой-нибудь сетью для отлова крупных и шустрых хищников и поволокут к мусорной машине, но тут же именно возле Люка раздались матерные выкрики и в них прозвучали укоры, если быть точным — оскорбления в адрес мусорщика, похожего на Барри. Тот вызвал раздражение водителя машины и одновременно управителя подъёмно-разгрузочного устройства, мол, бездельничал, базарил с прохожим зевакой. И теперь был призван в ответственный автомобиль на новую ходку коммунального совершенства. Водитель прочил нерадивому мусорщику завтрашнее увольнение («небось и документов нет!»). Причём всё это было высказано на языке, доступном к пониманию и безграмотными выходцами из островов Кирибати или республики Мьянма.
Куропёлкин обернулся.
Мусорная машина уехала и Барри увезла.
279
Куропёлкин успокоился. И пообедал.
Но после обеда вдруг занервничал. И ощутил потребность в каких-либо немедленных действиях. Первое соображение удивило самого Куропёлкина. А не пойти ли и не проверить, истинные ли деньги ему вручила Дуняша в конверте или игровые. То бишь фальшивые.
При полуденной прогулке Куропёлкин углядел возле Дома водных процедур магазинчик, возможно, для дворовой челяди. Туда Куропёлкин, отложив чтение китайского романа о Цветах слив, и отправился.
280
Магазинчик работал, деньги из конверта оказались честными, государственными знаками, и Куропёлкин приоделся.
В примерочной удивился. Получалось, что похудел. Но дряблость в мышцах не обнаружилась. Цены в магазинчике на ярлыках предлагались не кусачие, а Куропёлкин был способен на более крутые потраты. Но, подумав, согласился с ценами, тем более что дорогие товары, и костюмы в частности, в магазин не были завезены (может, их сюда и никогда не завозили, зачем они дворовым людям?). Куропёлкин постоял у напольного зеркала, пытаясь убедить себя в том, что он не так уж и плох и противен. «Элегантен! Элегантен!» — оценили его продавщицы (но стали бы они отпускать подковырки?). Тем не менее Куропёлкин засмущался. Элегантным, при его широкой кости (ну хоть рост — пятый), мощным плечам и накачанных ручищах, признать его было трудно, но мало ли какие любительницы могли повстречаться в его жизни? И всё же будто для того, чтобы проверить искренность продавщиц, Куропёлкин пожаловался:
— Лохмы-то какие! Тут уж никакой новый костюм не сделает элегантным.
— Лохмы — это да! — поддержали его продавщицы.
— Надо срочно стричься! — постановил Куропёлкин. — Но где?
— Не здесь, — сказали ему. — Были хороши массажистки и стилистки Вера с Соней, но они сейчас не у дел. Вам надо ехать в Москву. Если, конечно, имеете деньги. Там теперь в салонах такие цены!
— Имею, — сказал Куропёлкин.
— Вот и поезжайте. Прикупите у нас зонтик, обещаны дожди. И поезжайте.
Куропёлкин сразу же понял, что продавщиц заботит не его здоровье и не опасность переохлаждения клиента из-за дождевых капель, а репутация товара. Наверняка изделие было произведено в каких-нибудь внутренних провинциях Поднебесной вчерашними землекопами, да хоть бы и в самом Шанхае, и могло расползтись по швам под струями среднерусского ливня. Ну и ладно, коли деньги есть, ублажу себя и в дорогом московском бутике.
А зонт, ростом в трость, мог пригодиться для степенных прогулок по городу (какому?). Так или иначе, но Куропёлкин зонт прикупил. И позже не пожалел об этом.
281
А его охватила дурость. Кураж купецкий, желание, справиться с которым он не мог: «В Москву! В Москву!» Будто парикмахерских в каких-нибудь соседских поселениях не имелось, будто все они были сожжены французами, не вытерпевшими запахов тройных одеколонов, в памятном Бородинском году.
В конце концов, можно было попросить Дуняшу привести в порядок его лохмы. Обращение к Баборыбе при этом исключалось.
Так нет! В Москву! В Москву!
Подумал о том, что при нём должны быть бумаги, узаконивающие его пребывание в Москве. А то ведь возьмут и вышлют по месту жительства. А что? Вот было бы хорошо, если бы его не возвратили в поместье Звонковой, а сопроводили бы в Волокушку.
Не сопроводят и не отправят. Вернут именно под надзор господина Трескучего. И возникнут основания наградить Куропёлкина решительным денежным штрафом.
Куропёлкин подошёл к книжной полке с намерением вернуть туда на время два тома «Цветов сливы в золотой вазе» и увидел на полке паспорт.
Паспорт удостоверял личность Куропёлкина Евгения Макаровича, военнообязанного и не имеющего жены.
Может, он и прежде лежал здесь, но Куропёлкин его не замечал. Тратил время на общения с Баборыбой. И жил невнимательно.
Последовал поход Куропёлкина к воротам, возле которых, по подсказке Дуняши, имелись автобусные остановки. Ждать пришлось недолго. Куропёлкин уже понял, что автобусы, ближе к воротам, спешат в Талдом, остановка же для путешественников в Москву — через дорогу. Всё удивлялся тому, что привратники не потребовали документы (наверное, и пропуск был надобен), а только взглянули на него и кивнули: «Проходите!» Впрочем, об этом раздумывать не вышло времени, подрулил автобус. Салон его был полупустой, Куропёлкин уселся у правого окна, один — на шесть кожаных и нераскуроченных пока хулиганами сидений. Зонт пристроил между ног. Но километров через пять случилась остановка при рядах дачных новостроек в два или три этажа с дымками топившихся бань. И тут в автобус повалил, с шумом и толкотнёй, народ. Возможно, торговые люди здесь ещё не развернулись, заставляя безлошадных жителей отправляться с сумками, в частности и на колёсиках, за провиантами и напитками. А кого-то и за программами телевидения с надеждой увидеть в грядущие дни Петросяна и корифеев «Комеди клаба», хотя бы рычащего Бульдога или атлета Артура с его тёплым пирожком. По поводу Бедросыча и позолоченного шарманщика беспокоиться не приходилось…
Но эти свободно-беспечные размышления Куропёлкина были сейчас же истоптаны. Все места на трёх рядах вокруг него были заняты теперь нагло-злыми молодыми людьми. Породу таких отродий Куропёлкин знал хорошо. И радоваться было нечему.
При повороте же головы Куропёлкин обнаружил, что слева от него сидит его флоридский знакомец Барри. Теперь уже не в комбинезоне мусорщика, а в джинсовом наряде и в шляпе героя вестернов Джимми Буффало.
282
— Вот что, Куропёлкин, — сказал Барри, — ты поедешь сейчас с нами.
— Не поеду, — сказал Куропёлкин. — Я сегодня наконец-то могу побывать в клубе известного вам Верчунова и посмотреть представление «Прапорщики в грибных местах».
— Ты дураком прикидываешься, Куропёлкин! — в раздражении произнёс Барри. — У тебя три минуты. Или останешься жить. Или уйдёшь на небеса. Тихо. Без музыки. У пацанов — заточки. Ну, и ещё что-то бесшумное. Если ты не согласишься с нами сотрудничать, то отправим на небеса опасного для нас Пробивателя. У тебя минута.
— Уйду на небеса, — твёрдо произнёс Куропёлкин.
— Дело благое, — заявил Барри.
Куропёлкин почувствовал, что отморозок, сидевший за ним, приподнялся, будто принял сигнал от Барри… И тут Куропёлкин вскочил, насколько ему позволяло пространство и соседство Барри, опёрся на зонт, и тот, будто спружинив, выстрелил Куропёлкиным, вынудив его пробить крышу автобуса и отправил его в небеса.
283
Местом приземления Куропёлкина оказалась известная ему скамья из Останкинского парка с выжженным на ней в карибских плаваниях именем «Нинон».
«Я тебя и в небесах достану!» — стоял в ушах выкрик Барри. Может, и достанет. Но вот к употреблению боцманских украшений и завитков фраз Барри был явно не способен, а может, и вовсе не знал их. Но, может, и не знал русского языка. И это Куропёлкина отчасти успокоило. Но теперь уж точно надо было советоваться с Селивановым и требовать от него присмотра за Барри. Досаду Куропёлкина вызывало то, что был сорван его визит в грибные места прапорщиков и беседы с бывшими коллегами. А он-то размечтался!
Сволочь, этот Барри!
Но зонт-то каков! Однако, может, дело было вовсе и не в зонте?..
Значит, так. Барри был нужен не Бавыкин, а именно Пробиватель. Пробиватель мог быть полезен в каких-то неведомых Куропёлкину предприятиях. Но в случаях вредности, своеволия или упрямства должен был быть обезврежен, хотя бы и с применением блатной заточки. И Барри не был отменён, а потому Куропёлкину следовало отказаться от легкомыслия и беспечности.
Но вспоминать о встрече с Барри и его безбашенным отребьем, нанятым или входящим в команду, не хотелось, и Куропёлкин перевёл свои мысли в бытовые ряды. Что сегодня ему не удалось сделать? Не добрался до клуба «Прапорщики в грибных местах». Но об этом он уже успел подосадовать. А ещё что? А-а-а! Вот что! Он так и не смог постричься!
И куда же ему теперь обращаться? Электрическая бритва у него была. Но не снимать же ею все волосы?
И проблема с приведением волос в порядок была возвышена Куропёлкиным чуть ли не в самое существенное дело его жизни.
284
И вышло так, что при встрече. Селивановым Куропёлкин принялся жаловаться на безобразия, отросшие на его голове. Этак обовшивеешь!
— Стригаля пришлём, — пообещал Селиванов. — И что, это все ваши проблемы?
— То есть вы считаете, что неухоженные волосы — это мелочи? — обиделся Куропёлкин.
— Нет, я так не считаю, — попытался успокоить Куропёлкина Селиванов, явно сдерживая недовольство, вызванное ерундовыми проблемами собеседника. — И это все ваши заботы?
— Нет, не все, — сердито выговорил Куропёлкин.
И рассказал о двух встречах с Барри. Не умолчал и о том, как он опёрся на зонт, взлетел и пробил крышу автобуса.
— Ничего себе! — изумился Селиванов.
285
— Барри, или как его называть, — спросил Куропёлкин, — ваш человек?
— Евгений Макарович, — сказал, будто отдышавшись, Селиванов, — я не менее вашего ошарашен.
— Так ваш или не ваш?
— Сейчас не могу ответить… — сказал Селиванов. — Но наш человек не мог иметь задачи уничтожить Пробивателя, единственного пока в мире. Если только не был разыгран проверочный спектакль.
— Что значит единственный в мире Пробиватель и кому и для чего он нужен? — обеспокоился Куропёлкин.
— Сейчас объясню, — сказал Селиванов. — Но через пять минут. Сегодняшний ваш номер с пробиванием крыши автобуса вызывает надежды. Может, и Барри собирался, угрожая вам заточками, перепроверить ваши способности. А вы от них избавиться не сможете.
— Захочу и избавлюсь от них, — пообещал Куропёлкин. — Эти способности мне не нужны. И если они есть, то меня они напрягают и тяготят.
— Но они необходимы для развития человечества! — с пафосом произнёс Селиванов.
— Не смешите меня, — сказал Куропёлкин.
— Одно пробивание вы уже провели, — сказал Селиванов. — Теоретически оно было ожидаемо, научными людьми вычислено, но никто не предполагал, что осуществление его начнётся на нашей земле. Другого пробивателя пока нигде нет. А первое ваше пробивание вышло действием мирового масштаба. Но кем-то оно было признано случайным. Даже самим Бавыкиным. Он не смог поверить в ваше путешествие. И вот сегодняшнее событие, будто бы мелкое, с пробиванием крыши автобуса, не причинившее вам ни царапины, не может не обрадовать нас.
— И что? — спросил Куропёлкин. — Я не спрашиваю — и что дальше? Достаточно — и что? Если у вас есть какие-либо дальние планы, то участвовать в них вы меня не заставите. Я согласился сотрудничать с вами и полагаю, что состояло оно в моём участии в исследованиях, порой болезненных и малоприятных, организма так называемого Пробивателя, поверив тому, что на основе этих исследований было бы облегчено создание полезного технического устройства. Возможно, суперсложного робота. Полагаю, что и Баборыба вошла в ряд ваших испытаний, и деньги на неё вы выкладывали не зря. Более я вам не принадлежу и остаюсь лишь подсобным рабочим госпожи Звонковой.
Селиванов долго молчал.
— Евгений Макарович, — сказал он. — Я принял ваше заявление к сведению. Передам его людям государственным и уверен, что и они отнесутся к нему со вниманием.
— Государственные люди меня не волнуют, — сказал Куропёлкин.
— И вот что, — сказал Селиванов, — вам ни в коем случае не нало укорачивать или приминать вашу шевелюру, напротив, ваша голова должна обрасти плотным волосяным покровом, он поможет уберечь вас от лишних болевых ощущений и ушибов.
— Вам потребовались новые пробивания? — возмутился Куропёлкин. — Вот возьми и пробивай сам. Или головой, или жопой. Я заросшим ходить не собираюсь.
— Вы, Евгений Макарович, — спросил Селиванов, — патриот?
— Не намерен отвечать на такой вопрос, — сказал Куропёлкин. — Я люблю свою страну… Но кричать об этом считаю дурью.
— Так вы патриот? Или националист?
— Я сейчас дал бы вам в рожу, господин Селиванов, — сказал Куропёлкин. — Но воздержусь. Баборыбу, то есть Людмиду Афанасьевну Мезенцеву, можете отменить или использовать по выгодному для вас назначению. И будьте добры, возместите ущерб, вызванный её приспособлением к совместному проживанию, и возьмите затраты на её наряды и пищевые удовольствия. Всё это ваш проект.
— Наш разговор, Евгений Макарович, вы стараетесь превратить в скандал, — сказал Селиванов. — Но скандала не выйдет. И Баборыба останется при вас. А что касается госпожи Звонковой, то думаю, государство сумеет договориться с ней.
— Почему вы не хотите меня отпустить? — нервно спросил Куропёлкин. — Что вы пристали ко мне? Дайте мне просто жить.
— Природа сделала свой выбор, — многозначительно произнёс Селиванов.
— Природа — дура! — воскликнул Куропёлкин.
— О-о-о! Какое неумное и безграмотное мнение! — сказал Селиванов. — Пришла пора устроить вам встречу с маэстро Бавыкиным.
286
— Встреча с Бавыкиным мне не нужна. Как, видимо, и ему со мной. Если бы он нуждался в ней, зазвонил бы Башмак. Но он ни разу даже и не тренькнул. И это для меня важно. Я почувствовал пренебрежительное отношение Бавыкина к моей личности. Или хотя бы отсутствие какой-либо заинтересованности в ней. Понятно, что он не считает меня придуманным вами Пробивателем. И этому я очень рад.
— Вот проект Бавыкина, — сказал Селиванов. И расстегнул молнию кожаной папки, будто бы только что появившейся в его руках.
Из папки была выловлена и разложена перед Куропёлкиным физическая карта Северного полушария планеты. На ней широкой полосой, схожей со стрелой стратегического фронтового удара, было, видимо, обозначено направление проекта Бавыкина. Стрела начиналась где-то в Подмосковье, долетала до Камчатки, там, судя по знаку «виктория», была предусмотрена промежуточная стадия полёта, стрела же на карте продолжала движение до Аляски, оттуда она резко поворачивала на запад, поближе к Ледовитому океану, и добиралась до Северного полюса, где (на карте же) происходила её победная вспышка.
— Меня не интересует проект Бавыкина, — сказал Куропёлкин.
— Эта карта вам ничего не напоминает? — спросил Селиванов.
— Нет.
— Ну да, ваше поколение о прошлом страны ничего не знает, и не хочет знать. Вы наверняка не помните о том, кто такой был Чкалов и какой полёт он совершил над Ледовитым океаном в Америку.
— Кое-что помню, — сказал Куропёлкин. — Фильм видел.
— Первому вашему пробиванию, из Люка и в Карибские моря, сопутствовали обстоятельства, какие помешали громко объявить о нашем достижении, но проект Бавыкина даёт возможность исправить досадную неловкость. А первый Пробиватель может обеспечить себе мировую славу.
— Во-о-о! И прекрасно! — обрадовался Куропёлкин. — Вот и разыскивайте Пробивателя, какого манит мировая слава. Да ещё и подберите человека с благородной фамилией! Меня мировая слава, к счастью, не волнует.
— Фамилию мы и вам можем подобрать подходящую, и никто ни о каком Куропёлкине не вспомнит, — взволновался Селиванов. — Впрочем, извините… Вы всё же сумели ввести меня в раздражение. Я перешёл на крик… Извините. Я не собирался вас обидеть и уж тем более укорять вас вашей фамилией… Забудьте, прошу вас, о нашем разговоре. Не берите его в голову. Единственно, не забывайте о карте с Северным полюсом. Она полезна для вашего понимания форм материи. Хотя если она вылетит из вашей памяти, и это не страшно…
— Андрей, — сказал Куропёлкин, готовый к примирению, — вот вы озабочены подбором Пробивателя, а создатель Проекта Бавыкин именно меня Пробивателем не считает…
Будто бы печалью поделился.
— Тут вопрос спорный, — сказал Селиванов. — Возможны недоразумения. К тому же в слове «Пробиватель» есть упрощение. Это лишь рабочий термин. Возможно, он профессору Бавыкину не любезен и Бавыкин его не употребляет…
— Что это меняет? — спросил Куропёлкин.
— Ничего не меняет, — вздохнул Селиванов. — И предлагаю, Евгений Макарович, ещё раз, о нашем разговоре забыть. Он вышел преждевременным.
287
— О-о-о! Чуть не запамятовал! — воскликнул Селиванов. — Я ведь должен был вручить вам сертификат.
И из упомянутой уже кожаной папки был добыт помещённый в стеклянный покров сертификат. Из него следовало, что гражданин Российской Федерации Куропёлкин является владельцем шестнадцати гектаров поверхности спутника Земли Луны.
288
— Это как понимать? — спросил Куропёлкин.
— А никак не понимайте! — весело сказал Селиванов. — Вам подарен надел на Луне, урочище целое, причём организацией влиятельной, а вот здесь, посмотрите, — печать значимая, даже НАСА не возражает.
— С чего бы вдруг такой подарок мне? — нахмурился Куропёлкин.
— Не знаю, — сказал Селиванов. — Моё дело передать вам высочайшее одарение. На всех небесных телах, которые ещё предстоит освоить, потребуются рудокопы. Не сейчас. Но мало ли что… Утверждают, что во Вселенной вычислена планета, состоящая исключительно из обработанных в Смоленске бриллиантов. А что внутри Луны и подозреваемых в роскошествах планет, никому не ведомо…
— Большое спасибо, — сказал Куропёлкин. — Куплю лопату, отбойный молоток и завтра же посажу на Луне развесистое, как уши бенгальского слона, фруктовое дерево и обвешу его гирляндами из вермишели.
— Вы напрасно иронизируете, — сказал Селиванов. — Напрасно так шутите, Евгений Макарович. Отечественные песенники ешё шестьдесят лет назад пообещали, что и на Марсе будут яблони расти. А наш Вася… Впрочем, я забыл, что должен был совершить на Луне наш Вася. Но для него-то, то есть для его свершений, была отведена видимая сторона Луны. А вам подарен участок на стороне невидимой, на берегу кратера имени футболиста Бубукина. Кстати, по некоторым наблюдениям невидимая сторона Луны вписывается в квадрат. Но я лишь могу представить себе, как прекрасно будет выглядеть ваша фазенда или вилла, хоть бы и из блоков селенита, на берегу кратера Бубукина и в урочище его имени.
— К чему все эти ваши фантазии? — спросил Куропёлкин.
— А ни к чему, — поспешил ответить Селиванов. — Просто приятно иногда помечтать о чудесах в чьей-то чужой жизни.
— Допустим, — сказал Куропёлкин. — И всё?
— Ну, как же всё! Вижу кратер, заполненный водой, мелкие серебристые волны, яхты, пальмы, посаженные вами, мартышки на них, а вблизи — рудники с невиданными на Земле породами.
— Рудники, пробитые моим лбом и носом, — сказал Куропёлкин. — Теперь-то всё?
— Пожалуй, всё, — сказал Селиванов. — Хотя всё ещё слышу всплески солёной воды в бывшем кратере Бубукина.
— Понятно, — сказал Куропёлкин. — Теперь всё?
— Нет, не всё! — сказал Селиванов. — Обязан вам сообщить, что при вашем безразличии сложились особые отношения известной вам Баборыбы и господина Трескучего.
289
— Вас это тревожит? — спросил Куропёлкин.
— Да, тревожит, — сказал Селиванов. — А вас нет?
— Мне-то теперь что?
— Вы человек легкомысленный, — сказал Селиванов. — А часто и просто бестолково-беспечный. Вы не любите Трескучего, побаиваетесь его. Но надеетесь на «авось» и на то, что в случае с Трескучим — пронесёт. Не пронесёт. А господин Трескучий — тщеславный интриган и в соединении с Баборыбой способен учинить неожиданные сюрпризы.
— Баборыба — ваше сотворение, — сказал Куропёлкин.
— По вашему замыслу.
— Замыслу. Помыслу… — проворчал Куропёлкин. — По блажи моей ослиной! Её-то не следовало принимать всерьёз. Неужели вы не понимали, с кем связались? И что никаких планов, тем более планетарного смысла, выстраивать со мной нельзя! А впрочем, что я молочу? Хватит! Для меня более нет ни Баборыбы, ни Трескучего!
— Насчёт Трескучего вы зря бодритесь, — сказал Селиванов. — Он и нас заставил обеспокоиться.
— Вот и беспокойтесь, — сказал Куропёлкин.
290
На самом же деле сообщение Селиванова зацепило Куропёлкина.
Что он хорохорится и храбрится?!
Его Баборыба (Его! Ему принадлежащая! Он — Пигмалион, а она — его Галатея) заводит шуры-муры с местным управителем Трескучим. Это нехорошо, это неправильно. Она должна была рассказать о знакомстве с необязательным для неё мужиком. Не рассказала. Скрыла. А он-то что же, сам видел прогулку Баборыбы с Трескучим-Морозовым по некошеной траве («позарастали стёжки-дорожки, где проходили милого ножки») и не поинтересовался, в чём состоял смысл их свидания и прогулки.
Вот уж не было никакой необходимости ревновать продажную синхронистку Людмилу Афанасьевну Мезенцеву к кому-либо. А теперь, получается, он начал ревновать.
Отелло рассвирепело и задушило Дездемону.
С чего бы вдруг в нём, Куропёлкине, дураке, вспылило чувство возмущения?
Ну ладно, Людмила Афанасьевна — пустышка, но воевода-то здешних владений — ого-го! А что, если у них возник сговор? Она, хоть и пустышка, но в компании с Трескучим, грезящим о власти над толпами, могла содействовать событиям, малоприятным для Куропёлкина.
Коли так, то и придушить пособницу гадостей, производимых Трескучим, не стало бы большим прегрешением.
Впрочем, эти гадости придумывались лишь в мрачных фантазиях его, Куропёлкина, и их, ради достоверности мнения, необходимо было перепроверить тщательнейшим образом. «Презумция невиновности… — вертелось у него в голове. — Соблюдай!» Чьей невиновности, сразу был вынужден размышлять Куропёлкин. Людмилы Афанасьевны? Или Трескучего? Или…
Или женщины по имени Нинон?
Она была сейчас в деловом отсутствии, но присутствовал её служащий — господин Трескучий.
291
Все эти обстоятельства требовали выяснений.
292
А для этого Куропёлкину надо было восстановить отношения с Баборыбой.
Шелестели (при встрече с Лосей) комплиментарными прилагательными, легкими и цветными, как крылья бабочек. Но остались друг другу противны.
И понял Куропёлкин, что ему куда важнее замыслов Трескучего (или ожидания каверз Трескучего) участие интересов Нины Аркадьевны Звонковой в его жизни. Чего она так вместилась в его душу и — хуже того — в его тело? Вернее — в желания его тела.
А вот Баборыба Людмилы Афанасьевна явно старалась, пусть и не ощущала симпатий к Пигмалиону, угодить желаниям тела Куропёлкина, прижималась к нему, поручая губам и тонким пальцам, уловкам синих глаз снова приглашать Куропёкина к совместному проживанию. Но Куропёлкин ухищрениям баборыбских страстей не поддался. Единственно, не позволил себе Лосе-Миле грубить.
Ему хотелось выяснить степень отношений (или сотрудничества) выданной им подруги и господина Трескучего. И выяснить, свои ли корысти осуществляет Трескучий или же он включен в игру Ниной Аркадьевной Звонковой?
293
Долго ждать не пршлось.
Господин Трескучий явился к нему сам.
Явился в избушку, стучать не стал, имел ключи.
— Ну что, Пробиватель жопой кирпичи, — зловеще улыбнулся он, — зазнался? Брезгуешь чудесной женщиной? Пожалеешь об этом и очень скоро. И зря загоняешь в башку неосуществимые мечтания.
— А что вы мне хамите! — спросил Куропёлкин. — По контракту я не ваш подсобный рабочий.
— Мне смешно! — заявил Трескучий. — Мне поручено осуществлять контроль за твоим поведением, то есть над соблюдением твоих соответствий условиям контракта. А ты наглеешь. Кто разрешил тебе выйти за наши заборы, сесть в автобус и иметь секретный разговор с человеком, называющим себя Барри?
— Это допрос? — спросил Куропёлкин.
— Допрос!
— Отвечать не буду.
— Вернётся госпожа Звонкова и будешь вынужден отвечать.
— А какую чудесную женщину вы имеете в виду? — спросил Куропёлкин. — Когда заявляли о моей брезгливости к ней?
— Ну… — замялся Трескучий.
— Не эту ли даму вы всё чаще прогуливаете по здешнему разнотравью? И заметно, что она вам мила, сама к вам благосклонна и с пониманием относится к вашим высказываниям и поучениям.
Похоже, Трескучий растерялся.
Но ненадолго.
А возвратившись в состояние местного воеводы и громовержца, владетельно разорался:
— Ты раб, но по дурости и по природному недоразумению поддался заблуждениям! Да я сейчас же!.. Полномочиями, мне отписанными, сейчас же отправлю тебя в Люк!
Куропёлкин расхохотался.
— Люк мы уже проходили!
— Повторение не всегда бывает удачным, — мрачно выговорил Трескучий.
— Это-то ладно, — сказал Куропёлкин. — Это уже моя судьбина. Но вы уверены в том, что Нину Аркадьевну обрадует ваше сумасбродное решение?
— Ты заблуждаешься по поводу отношения к тебе Нины Аркадьевны, — сказал Трескучий, но уже не местным демиургом, знающим силу и цену своим словам, а как бы даже с сожалением (состраданием?) к Куропёлкину. — Ты заблуждаешься… Ну, ты был ей чем-то интересен… Ну, провела она с тобой недавно забаву, организм-то порой требует, но расчёты в ней куда важнее игр гормонов. И ты для неё именно Пробиватель, способный добыть для её нужд невиданные минералы и драгоценности. Сначала на Земле, потом на Луне, а потом, глядишь, и в иных местностях Вселенной, куда дозволит доставить тебя развитие техники. И она копейки в это развитие вложит.
— Вот как! — только и смог произнести Куропёлкин.
— Именно так! — сказал Трескучий.
— Впрочем, обо всём об этом можно было и догадаться, — вздохнул Куропёлкин.
— Да она ради своей корысти, — с неожиданной горячностью и даже обидой в голосе заговорил Трескучий, — при всей своей учёности, могла принять и теорию давнего приятеля, чокнутого Бавыкина о том, что Земля имеет форму Чемодана…
— Для переноски денег, — добавил Куропёлкин.
Трескучий озадачился.
— Это что — шутка? — спросил он.
— Шутка, — согласился Куропёлкин. — Но мне пока не слишком понятен смысл вашего прихода, — спросил Куропёлкин.
— Пришёл я к тебе, — сказал Трескучий, — чтобы напомнить, что ты — никто, пустышка, не рыпался и не роптал, и главное — не имел иллюзий ни по поводу госпожи Звонковой, ни меня, ни какого-то особого интереса к тебе государственных структур. Ты пустышка и ты сам по себе.
— По поводу себя, — сказал Куропёлкин, — я не держу никаких иллюзий. По поводу других имею право фантазировать. И даже на что-то надеяться.
И тут господин Трескучий, какой в течение нескольких минут и впрямь мог показаться сомневающимся в чём-то (или смущённым чем-то) собеседником и словно бы желавшим получить от Куропёлкина поддержку или даже советы, моментально превратился в свирепого управителя мелких существ, как и в день знакомства (стало быть, подписания контракта) с Куропёлкиным. Крепкий, вёрткий, невысокий, он сумел вернуть себе лицо Значительной Личности, при взгляде на кого следовало трепетать, голову вминать в плечи и ощущать собственное ничтожество.
Голову, впрочем, вминать в плечи Куропёлкин не стал. Но чуть-чуть ссутулился.
— И вот ещё что, Куропёлкин, — грозно произнёс, уже подходя к двери Избушки, Трескучий — Баборыба доставлена тебе полтора месяца назад. А ты её ещё как следует не ублажил. Из неё слёзы текут иногда. Ты меня не зли!
Обернулся и пригрозил Куропёлкину пальцем.
— Понял, — вздохнул Куропёлкин.
294
А впрочем, что он был должен понять?
Единственно, что из последних слов Трескучего подействовало на Куропёлкина, это напоминание о сроке пребывания с ним под одной крышей Людмилы Афанасьевны Мезенцевой.
Полтора месяца.
Надо же!
А ведь и вправду — полтора месяца под одной крышей с Баборыбой. Хоть пиши воспоминания.
Какие такие воспоминания? О чём? Если только о двух купаниях в Аквариуме с пловчихой в сиреневом купальнике. Вернее, с двумя пловчихами, причём большее впечатление на него произвёл случай со второй пловчихой.
Теперь же, после визита Трескучего к Куропёлкину, после его предупреждений, недолгие светлые грёзы превратились в кошмарное восприятие затей некогда Принцессы (нынче, стало быть, — Королевы) Точных наук, и надо было признать, что принимаемые Куропёлкиным (порой!) за будто бы лёгкие, но несомненные элементы игры симпатий слова о взятках Каренина вызывались, на самом деле, вполне реальными экономическими интересами бизнес-высочества. И ясно было, что оставленный при Люке воевода Трескучий был прилеплен к этим интересам (хотя наверняка имел и свои, укутанные туманами от госпожи Звонковой, цели, и подталкивания Куропёлкина к новым общениям с Баборыбой в эти цели вмещались). Не исключено, конечно, что господин Трескучий блефовал, в частности связывал себя с государственными структурами, и как бы давал Куропёлкину понять, что не один Селиванов Пробивателю хозяин, а есть и ещё нечто, неподчиняемое смыслам и логике поступков, даже и лошади, и вуали Нины Аркадьевны, но обладающее самостоятельной силой, возможно, что решающей и неодолимой.
Сила эта (не исключено — из блефов Трескучего) отчасти связывалась им с Людмилой Афанасьевной Мезенцевой.
Возможно, что-то он, Куропёлкин, в Баборыбе важнейшего и тончайшего (по замыслу) и не расчувствовал. Мол, игрушка она и есть игрушка. Тем более с лёгкостью востребованная.
А в ней, возможно, поместили секрет.
295
И Куропёлкин посчитал нужным немедленно спуститься в Шалаш, к Баборыбе.
Спустился и сразу получил бейсбольной битой по лбу. Или полицейским средством усмирения массовых беспорядков. Впрочем, ни биты, ни резиновой дубины в руках Людмилы Афанасьевны не было.
Просто она огрела Куропёлкина словами:
— Это ты, Куропёлкин, у нас Баборыба, а не я. Какой из тебя мужик? Или хотя бы семейный проживатель? Ты холодная и безответственная особа! Я забеременела, а ты моими состояниями не интересуешься!
— Чего? — вскрикнул Куропёлкин.
— Того! — зло сказала Мила-Лося. — Ты прекрасно слышал то, что я тебе открыла, и всё понял.
— А ты не врёшь? — грубо поинтересовался Куропёлкин. — От вас, баб, можно ожидать чего хочешь и чего не хочешь.
— Имею медицинскую справку, — с вызовом и будто бы с высот постамента материнского капитала произнесла Баборыба. — Она сейчас у Селиванова на проверке.
— Но этого не может быть! — сказал Куропёлкин.
— Чего не может быть?
— Беременности твоей.
— Это почему же? — удивилась Мила-Лося.
— Гарантия профессора Удочкина, — сказал Куропёлкин.
— То есть в твоём сознании, или хотя бы в твоём подсознании, я всё ещё осталась мезенской сёмгой, и для тебя важны мнения ихтиолога Удочкина… Что же ты тогда укладывался ко мне в постель?
Тут из правого глаза Баборыбы и потекла медленная струйка жидкости, возможно, солёной, и Куропёлкин устыдился. Женщина же засмущалась, повернулась лицом к окну, и Куропёлкин сообразил, что она встретила его (а скорее всего и ожидала его прихода) не в карнавально-манящем наряде, желающей произвести выгодное впечатление, а в приговорённом к осуждению продвинутыми людьми чуть ли не банном махровом халате (слава Богу — не сиреневом) и явно ношенных шлёпанцах. То есть перед Куропёлкиным стояла тихая, обиженная женщина (из обывательниц, прихлопнутых моралями горлана-главаря: герань на окне, слоники на комоде), приготовившая себя к служению домработницей и материнскому подвигу. Впрочем, при движениях ею Куропёлкину предьявлялись ядрёные колени, способные вызвать волнения и в натурах самых застенчивых мужчин.
Однако женщину в комнате на случай размолвок можно было посчитать облачно-беззащитной, и у Куропёлкина сейчас же возникло желание подойти к ней, обнять её за плечи и языком слизать солёную струйку со щеки.
Но нечто в его натуре не позволило ему сделать это.
— Ну, и что дальше? — спросил он.
— Как что?! — возмутилась Мезенцева. — У нас будет ребёнок! Ты, я вижу, этому не рад. Но я избавляться от ребёнка не намерена. И несмотря ни на какие твои контрудары, дитя я в обиду не дам. И добьюсь, чтобы все мои права и блага были обеспечены.
— И пряники выданы… — сказал Куропёлкин.
— Какие пряники? — заинтересовалась Баборыба.
— Те, о которых ты мне рассказывала… Яхты, виллы, Лигурийские моря…
— Ах, эти-то… — вспомнила Баборыба. — Да, и их добьюсь. Ты ещё не понял, каков мой энергетический заряд!
— Удивительно, что ты не пробилась в Олимпийскую сборную.
— Хами, хами! — рассмеялась Баборыба. — Кстати, зная степень твоей невоспитанности и пожарного прошлого, могу предположить, что ты сейчас спросишь: «А он от кого?» И захочешь провести генетические исследования.
— Нет, не захочу, — сказал Куропёлкин.
— Какое благородство! — воскликнула Мезенцева. — Отчего же?
— Потому, как знаю, от кого дитя.
— Знаешь?
— Знаю, — сказал Куропёлкин. — Не от меня.
— Селиванов так не считает, — сказала Баборыба. — Потом, есть соглашения со мной, Людмилой Афанасьевной Мезенцевой, тебе не объявленные.
— Секретные, стало быть, — сказал Куропёлкин.
— Для тебя, выходит, секретные, — подтвердила Мезенцева. — И я по этим соглашениям за свои терпения, за муки обучения многим премудростям Баборыбы, за артистические упражнения должна получить дорогую оплату. Причём в двух форматах. При подготовке тебя к новому Пробиванию и после рекордного Пробивания. Тогда меня вознаградят на уровне богатств принцессы Монако.
— Никакого рекордного Пробивания не будет!
— Будет! — заявила Баборыба.
296
— Ладно, — сказал Куропёлкин. — Я сейчас подымусь к себе. Переварю новости.
— Не уходи! — воскликнула женщина Мезенцева, подошла к Куропёлкину, обхватила его, при этом полы её халата распахнулись. — Как ты можешь уйти от меня сейчас!
— Извини, мне нужно охладить себя, — подыскивал слова Куропёлкин. — Я боюсь навредить младенцу.
— Ты думаешь о другой женщине. У тебя было достаточно времени, чтобы понять и разгадать меня, но ты всё думаешь о ней. А она ведь отправила тебя в Люк.
— Что поделаешь? — вздохнул Куропёлкин.
В эти мгновения они снова стали доброжелательными совместными проживателями. Или душевными коммунальными соседями.
— Мне всё это горько, — сказала наконец Баборыба. — А за тебя, Куделин, просто обидно. Какой же ты всё же безнадёжный неудачник!
— Это отчего же?
— Она ведь тот самый дорогой для тебя сеанс любви в Аквариуме купила у меня. И даже за купальник, непременно сиреневый, дала денег, как за «Лексус». «Зачем это вам?» — спросила я её. «А чтобы выяснить один экономический вопрос!» Ты же небось и сейчас плаваешь в соплях придуманной любви. Образумься!
— Я пойду, — сказал Куропёлкин.
— Не уходи, молю тебя! — воскликнула Мезенцева, будто бы в отчаянии. — Неужели ты не чувствуешь, какие вызвал во мне страсти? Неужели не понимаешь, какие, не побоюсь сказать — в космических размахах, втроём мы можем сотворить дела!
— С кем это втроём? — спросил Куропёлкин.
— С тобой и с Николаем Дмитриевичем Трескучим.
— Ты это от себя предлагаешь?
— Нет, именно не от себя.
— Я пойду, — сказал Куропёлкин.
— Останься!
— Зря ты употребила имя Трескучего.
— Ты ей нужен не ради любви!
297
Ушёл.
Поднялся из Шалаша в Избушку.
Обещал. Переварю новости.
С какой начать?
С той, какой и новостью быть не могла. Он и прежде, оставив в случившемся лишь щель надежды, почти уверил себя в том, что Нина Аркадьевна, усталой вернувшись из деловых странствий, может всего-то на день, пожелала развлечься, тело порадовать, просто, после напряжений всерьёз, позабавиться или даже покуражиться (отсюда — сиреневый купальник, напоминание о чести Алексея Александровича Каренина, в вопросе о нём — никаких экономических интересов, а так, шутка). А он, Куропёлкин, — под боком, свой, раб. И всё. И более ничего. А потому позже госпожа Звонкова о себе не напоминала. Других хлопот хватало.
Можно было, правда, предположить, что Нина Аркадьевна, на всякий случай, наградила Куропёлкина наживкой в уповании на то, что при совершении её подсобным рабочим Подвига он и ей добудет выгоды.
А не добудет или даже сгинет — его дело. Подыщем других.
Тут и переваривать нечего было. Всё было ясно. Просто следовало держать эпизод в голове. И продолжать жить. Возможно, и сожалея о чём-то важном.
Иные же новости Шалаша вынудили Куропёлкина засомневаться.
Что за чудо такое? Стоит ему дотронуться до кого-то и нате вам — тут же всё беременеют. Ну, не все, а хотя бы Вера с Соней. И он виноват. Виноват ещё и в падении уровня нравственности.
Ну ладно Вера и Соня. С ними — мало ли что? Неизвестно, какие клетки в воздухе поместья порхают, балуются и желают совокуплений. Однако горничная Дуняша чмокала его в щеку и Нина Аркадьевна Звонкова… И в них (и для них) не возникло непредвиденных последствий… Но с Баборыбой-то — что? Учёные люди, профессор Удочкин в частности, уверили его в том, что организм Баборыбы ежеминутно будет находиться под контролем. Ну, насчёт «ежеминутно» наверняка было проявлено пустословие, даже синоптики не каждую минуту учиняют погоде проверки. Но были обещаны Куропёлкину угощения Баборыбы какими-то особенными таблетками, мол, они отменят необходимость прибегать к известным аптекарским средствам. Тем более что те стали неприятно дорогими. Конечно, учёные люди могли халтурить и врать, зная, кто на самом деле Баборыба. Но романтический исследователь живности речных вод профессор Удочкин мог всё же верить в странности природы и надеяться на то, что вот-вот он обнаружит в этих странностях нечто новое и удивительное. Способное потрясти научный мир. Во всяком случае, обязан был прикладывать приборы к брюху Баборыбы. И ощупывать его пальцами. Так представлялось Куропёлкину. И ощупывал, и прикладывал.
Куропёлкин, естественно, мог допустить факт беременности Людмилы Афанасьевны Мезенцевой. Но поверить в то, что он виновник будущих неудобств женщины, не желал. В случаях посещения Шалаша он был аккуратен. К тому же в последний месяц кавалером Баборыбы оказался господин Трескучий.
И надо было срочно вызнать правду. Чтобы в который раз не попасть в дураки.
298
Кое-какую определённость можно было выцарапать из Селиванова. Хотя, если бы тот согласился стать бытовым просветителем, ещё неизвестно, какого рода сведения и зачем он пожелал бы Куропёлкину выдать.
Но явился Селиванов вроде бы доброжелателем.
— Ну что, Евгений Макарович, ваша Баборыба и впрямь залетела. Но разочарую или обрадую вас. Её плод, или зародыш плода, — не от вас.
— А от кого?
— Попробуем выяснить, — сказал Селиванов.
— В моей подсказке вы не нуждаетесь? — спросил Куропёлкин.
— Нет, — сказал Селиванов. — Тем более что подсказка ваша нам известна. Но необходимы точные измерения последствий совершённого акта и намерений произвёдших его.
— То есть смысл действий Трескучего и Баборыбы вами пока не разгадан?
— Не только их.
— А ещё-то кого? — удивился Куропёлкин.
— А ещё, Евгений Макарович, и блистательной госпожи Звонковой.
— А они не с вами?
— К сожалению, от них можно ожидать подвохов. При этом они явно рассчитывают на искусные воздействия на вас.
— Вас это напрягает? — спросил Куропёлкин.
— Напрягает. В особенности в предкушении вашего нового путешествия.
— Какого ещё?
— Вот тебе раз! Вы что, забыли о карте, которую я показывал вам недавно?
— С маршрутом Чкалова, что ли?
— Типа того… Ну и что вы решили?
— Никаких новых путешествий!
— Вы спешите с решением. Кстати, если ваше новое путешествие прошло бы с успехом, вы были бы среди прочего вознаграждены сертификатами на владение земельных (условно говоря — земельных, Селиванов рассмеялся) участков на Венере, на Марсе, на кольцах Сатурна, где пожелаете.
— Нет, — твёрдо сказал Куропёлкин, — отбуду срок каторги здесь и — в Сапожок Рязанской губернии.
— Какой такой Сапожок? — слова из Селиванова выползли с трудом.
— Посёлок какой-то. Проезжал как-то по железной дороге, увидел название станции и решил: вот где надо жить — в Сапожке.
На самом деле Куропёлкин не собирался жить ни в каком Сапожке, и с чего он заявил о нём сейчас, понять не мог. Но почувствовал, что слова его ошарашили Селиванова и тот будто бы свалился в яму для ловли медведя и не сразу смог из неё выбраться.
Вариант Сапожка Рязанской губернии не был, видимо, исследован и обговорен.
И всё же Селиванов выбрался из ямы. Отдышался.
— Мезенцева говорила про какие-то секретные соглашения и обещала объявить Ультиматум, — сказал Куропёлкин.
Селиванов задумался.
— Да, — сказал Селиванов. — Соглашения секретные есть. Но она поспешила вас ими попугать. Ещё не время. Хотя, кто знает… Она женщина глуповатая, но хватка у неё бульдожья, а может и удавья. И возможно, она ощутила опасность своё упустить…
— Вы могли бы её вразумить, — сказал Куропёлкин.
— Оказалось, что вразумлять её — дело нелегкое. Если не безнадёжное.
— Удивительно, — снова пришло в голову Куропёлкину, — как это она не пробилась в Олимпийскую сборную?
— Это вы к чему?
— Это я просто так, — сказал Куропёлкин, — себя пожалел. И попытался предположить, чем был вызван вами выбор именно такой Баборыбы…
— Торопились исполнить ваш каприз.
— А что значат её слова об объявлении Ультиматума? — спросил Куропёлкин.
— Вот вы, Евгений Макарович, — сказал Селиванов, — употребили слово «вразумить». Но получается так, что вразумлять приходится вас.
— Так вот посчитайте, что секретные соглашения были подписаны с гражданкой Мезенцевой в расчёте на то, что, коли возникнет надобность, они и будут использованы для вразумления вас.
— Но я-то не подписывал никаких соглашений! — чуть ли не радостно воскликнул Куропёлкин.
— Экие сложности! — рассмеялся Селиванов. — Один контракт, подписанный госпожой Звонковой и вами, есть, и ничего не стоит внести туда любые новые ваши обязательства, причём и без вашего ведома.
— И без ведома Нины Аркадьевны? — помрачнел Куропёлкин.
— Без ведома госпожи Звонковой здесь ничего произойти не может, — сказал Селиванов.
— То есть она с вами в сговоре?
— Я надеюсь, что она будет заинтересована в общем деле, даже и поступившись собственными амбициями, а они у неё бонапартьи.
— А какие основания для претензий Баборыбы? — спросил Куропёлкин. — Я ей не муж, она меня не кормила на коммунальной кухне и не наживала совместного имущества, наследницей быть не может.
— А вот объявят вас отцом её ребёнка, — радостно, будто бы ощущая заранее светлые картины (или весёлые), сказал Селиванов, — тогда и взвоете!
— Вы шутите? — спросил Куропёлкин. — Или всё же пытаетесь припугнуть меня? Вы же сообщили мне, что предполагаемый ребёнок не от меня. Вы и о генетических исследованиях говорили…
— Какие уж тут шутки, любезный Евгений Макарович! — сказал Селиванов. — Речь идёт о важнейших интересах, о государственных интересах, церемониться здесь нельзя. Мы не можем жить и развиваться, рассчитывая лишь на углеводороды.
— Но выходит, что вы больше печётесь об интересах Баборыбы, раз готовы объявить меня отцом её ребёнка…
— Баборыба — подсобное средство, она-то вообще в итоге окажется при ржавом «Запорожце», но вы из-за своих кочевряжений и отказов от задач страны можете получить лет двадцать строгого режима…
— И госпожа Звонкова, — уже волнуясь, спросил Куропёлкин, — поддерживает ваши авантюрные расклады? И согласна участвовать в вашем шантаже?
— Спросите у неё, — сказал Селиванов.
— Спрошу, — сказал Куропёлкин.
299
Но где он мог спросить о чём-либо Нину Аркадьевну.
«Сапожок, Сапожок. Сапожок!» — опять стало барабанить в голове Куропёлкина.
Какой к чёрту сапожок?
И тут Куропёлкин вспомнил.
У него же в доме есть Башмак!
Надо было нажать пальцем на деревянный гвоздик.
Пришла пора.
Нажал.
Молчание в ответ.
Тишина.
300
Но утром в Избушке зазвенело.
— Евгений Макарович? — спросил Башмак.
— Он самый, — сказал Куропёлкин. — Здравствуйте.
— Есть повод для вашего звонка?
— Есть.
— И какова цель звонка?
— Возникло желание встретиться и поговорить с Сергеем Ильичом Бавыкиным.
— Хорошо. Я доложу ему о вас. Сейчас он занят. Ждите.
Куропёлкин-то предполагал, что родственник его Башмака пребывает (хотя бы плавает в воздухе) поблизости от правого уха пещерного сапожника, и тот сигналу обрадуется, забросит все дела и взволнованно заявит: «А мне так необходим разговор с вами!»
А тут — «Ждите!»
Хотя, конечно, профессор Бавыкин мог сидеть теперь над уточнениями частностей своего нового проекта, к подвигам в котором призывали его, Куропёлкина.
Но по сведениям Селиванова, Бавыкин не жаловал похвалами первое путешествие Куропёлкина и ставил под сомнение его способности Пробивателя.
Однако при первом его нажатии на гвоздь Башмака ему ответили и назвали Евгением Макаровичем. Стало быть, кто-то из команды Бавыкина постоянно имел его в виду.
«Ну что же, — решил Куропёлкин. — Подождём».
Ожидание его было скрашено появлением горничной Дуняши, доставившей постояльцу Избушки завтрак.
— Что-то, Дуняша, нет аппетита, — сказал Куропёлкин.
— Оно и видно, — сказала Дуняша. — Заметно, какой вы исхудавший. Наверняка из-за сердечных переживаний. Или даже страданий. Довела, похоже, вас прекрасная Баборыба. А вы, поговаривают, ещё и детишек ожидаете.
— Каких ещё детишек? — нахмурился Куропёлкин.
— Вам лучше знать каких.
— Дуняша, вам разумнее было бы обратиться по этому вопросу к наиболее осведомлённому в здешнем поместье, а может, и во всём государстве человеку, а именно — к господину Трескучему.
— Если в ваших словах есть правда, — сказала Дуняша, — Нина Аркадьевна может разгневаться.
— Из-за меня? — встревожился Куропёлкин.
— Вы-то, Женечка, её как раз обрадуете. Разгневается она на Трескучего. Она сегодня с ним уже бранилась.
— А она здесь?
— Да. Вернулась вчера.
Сейчас же зазвенел Башмак.
— Добрый день, Евгений Макарович. Это Бавыкин.
— Добрый день, Сергей Ильич.
С Башмаком в руке Куропёлкин подошел к окну и понял: по отношению к Дуняше он поступил невежливо.
— Вы свободны? — спросил Бавыкин. — Рядом с вами сейчас никого нет?
— Свободен, — сказал Куропёлкин. — А рядом со мной сейчас горничная Дуняша, она принесла мне завтрак.
Тут же Куропёлкин почувствовал удары девичьими кулаками по спине, причины их Куропёлкин обдумывать не стал, они были простые.
Куропёлкин обернулся. Дуняша не то чтобы быстро уходила из Избушки, она убегала.
— Горничная убежала, её ждёт хозяйка, — сказал Куропёлкин. — Теперь я один.
Бавыкин замолчал.
— Ну и ладно, — сказал Бавыкин. — Вы можете добраться сейчас до моих апартаментов?
— Через Люк? — спросил Куропёлкин.
— На это уйдёт лишнее время. Проще иной путь. Минуйте ваш Шалаш, откройте за Аквариумом дверь и увидите узкоколейку. Подойдёт вагончик на две особы, садитесь в него, не применяйте никаких усилий и через шесть минут окажетесь у меня.
— Понял, — сказал Куропёлкин. — Взять с собой Башмак?
— Зачем?
— Не знаю, — сказал Куропёлкин. — Просто так пришло в голову. Может, для осмотра и выявления дефектов.
— Не возражаю, — сказал Бавыкин.
301
Дорога в апартаменты Бавыкина на этот раз вышла и впрямь недолгой.
Правда, удивил Куропёлкина вагончик-самокат на узкоколейке за Аквариумом. Что-то он уж слишком смахивал на штрековую вагонетку какой-нибудь сибирской угольной шахты, а судьба заносила Куропёлкина и на золотые рудники в Саянах, и на шахты в Прокопьевске, и личный транспорт профессора Бавыкина вызвал у него сомнения. Конечно, он не ожидал увидеть здесь нечто пригодное для гонок «Формулы-1», но при новых-то проектах, наверное, требовалось и более впечатляющее техническое оснащение.
Впрочем, пролетела вагонетка до дверей Куропёлкина, считай, бесшумно и мгновенно.
А двери перед Куропёлкиным открылись в сапожную мастерскую.
Или, можно сказать, в Музей обувного совершенства.
Но Сергей Ильич, приняв от Куропёлкина Башмак, осмотрев его и даже обнюхав его, высказываться не стал, а провёл Куропёлкина в памятную тому гостиную с накрытым уже столом.
— Сергей Ильич, — сказал Куропёлкин, — не могу не сообщить вам, что я только что отказался от завтрака, доставленного мне Дуняшей, аппетита что-то нет, и было бы как-то нескладно усаживаться за такой обильно-ресторанный стол.
— Я вас понимаю, — сказал Бавыкин, — вы торопитесь перейти к делам.
— Собственно говоря, дел у меня и нет, — сказал Куропёлкин. — А есть вопросы.
— Хорошо, — сказал Бавыкин. — Но даже если у вас челюсти склеены, я всё же позволю себе для обострения логики выпить рюмку коньяка, а закушу гусиным паштетом с долькой лимона. Если хотите проявить вежливость, то присоединяйтесь к моей акции. И тут же перейдём к вашим вопросам.
— Присоединюсь, — вздохнул Куропёлкин.
Бавыкин нынче вовсе не походил ни на сапожника-виртуоза, ни на фантазёра-звездочёта. Уж если он кого-то Куропёлкину и напоминал, то, по крайней мере, — делового начальника конструкторского бюро. Помнится, в прежний раз на нём была какая-то длиннополая, с разлётом крыльев, накидка с серебряной застёжкой-аграфом под кадыком, и от этой накидки возникала некая загадочность Бавыкина, словно бы героя из американских комиксов для подростков, а потом на плечах Сергея Ильича обнаружилась куртка со словами на спине — «Общественная оборона». То есть сейчас Бавыкин никаким чудиком, ни персонажем собственных игр не выглядел. Он был практик, осуществитель важного дела, готовый из конструкторского бюро, где основные расчёты были уже закончены, ушагать немедленно в производственные цеха.
Однако угостив себя коньяком и гусиным паштетом, губы омочив кислотой лимона (Куропёлкин поддержал его), Бавыкин пригласил гостя в просторный зал и предложил:
— Ну, что же, Евгений Макарович, задавайте свои вопросы.
— Их два, — поскромничал Куропёлкин.
— Да хоть десять!
— Одно дело: озорство школьников, либо наглых дураков, либо пустых острословов, другое дело — ваше, бывшего обиженного и злого мальчика, выстраданное как будто бы, убеждение в том, что Земля имеет форму Чемодана. Как к этому отнестись?
— Всё?
— Нет. Это раз, — сказал Куропёлкин.
— Сразу перейдём ко второму вопросу.
— Так… — протянул Куропёлкин. — Недавно меня познакомили с картой Северного Полушария (кстати, именно Полушария!) с выведенным на ней фломастером маршрутом нового проекта, сказано было: «Типа Чкалова», но позже, между прочим, информировали меня о том, что вы довольно дурно высказались о моих способностях Пробивателя.
— А вы что? — быстро спросил Бавыкин. — Желаете работать Пробивателем?
— Ни в коем случае! — воскликнул Куропёлкин. — Я и вообще не понимаю, зачем нужны Пробиватели.
— Тут не один вопрос, — задумался Бавыкин. — Я давно наблюдал за вами и понял, что вы вовсе не такой простак, каким порой прикидываетесь.
Куропёлкин чуть было не вскочил, но Бавыкин осадил его движением руки.
— Не раздражайтесь, — сказал Бавыкин. — Я не собираюсь над вами подтрунивать… Я к тому, что вы служили на флоте и наверняка читали про Колумба. Простите за банальность, но путешествие Колумба собрало Землю в нечто единое, сцепило Старый Свет с Новым. Это было исторической неизбежностью. Но само это путешествие по экономической надобности (добраться «короткой дорогой» до Индии или хотя бы до придуманной Марко Поло страны Сипонго, то бишь Японии, и снабжать Европу пряностями ради услаждений гурманов всяческими имбирями, ванилями, корицей и пр.) не состоялось бы, если бы лучшим картографом века флорентийцем Тосканелли не была совершена чудовищно-волшебная ошибка, естественно, не ученическая, а вызванная представлениями о Земле умами того века. Тосканелли отобрал у Азии десятки тысяч километров и приблизил Европу к Индии. То есть Колумб путешествовал по планете неизвестно какой формы. Пропажа десятков тысяч километров с Тихим океанам и двумя Америками не могла не исказить поверхность небесного тела. До Индии Колумб не добрался, а оказался на островах, вблизи которых вам пришлось барахтаться недавно. И там, прибыв к Жемчужному берегу и ощутив несовпадения итогов своего плавания со сведениями Марко Поло, пусть и фантазёрскими, и картой Тосканелли, он позволил себе предположить, что Земле не обязательно быть образцово-сфероидальной. Она может быть как бы мячом «со вздутием наподобие соска женской груди». Или как бы грушей с некоей вершиной, причём эту Вершину можно было оправдать необходимостью иметь место для рая Эдема. Считаю, что из Люка вы сразу попали к соску планетарной женской любви.
— Ну, спасибо, — сказал Куропёлкин. — Обрадовали и дали надежду.
302
— Я полагаю, Евгений Макарович, — сказал Бавыкин, — вы должны были уловить направление моих мыслей.
— Не совсем, — сказал Куропёлкин. — При всех приспособлениях Колумбом Земли к необходимой для его открытий форме, в том числе и с подаренным мне от ваших щедрот соском женской груди, Земля осталась для него шаром. Ну, с деталями…
— Ладно, — сказал Бавыкин. — Начнем сначала. Возьмём муравьев. В неистоптанных лесах они живут в неразваленных и в неспалённых муравейниках. Стало быть, их миры имеют форму конусов. Или пчёлы. Их мир имеет форму улья, то есть ящика. Уже близко к чемодану. На днях видел, как на крыльях стрекозы ползали мелкие мошки. Какая форма их существования в мироздании? Или блохи в собачьих шкурах? Или корпоративные или домашние рыбки? Их мир имет форму аквариума.
— А тараканы и клопы? — спросил Куропёлкин.
— Мои слова вызывают желание посмеяться над ними? — опечалился Бавыкин.
— Нет, извините, — поспешил Куропёлкин. — Просто, по-моему, происходит подмена понятий. И мне захотелось приземлить разговор. Или наоборот…
— Не вышло, — сказал Бавыкин. — Клопы — кочевники, а кочевникам определяют форму их мира границами их странствий. Тараканы же охотно размещаются в черепных коробках, становятся своими для многих ярких людей…
— Значит, я невнятно выразился, — сказал Куропёлкин, — и я не прикидываюсь простаком, а простаком и являюсь. А потому и не понимаю, зачем надо заниматься дроблением высшего и единого?
— Вот! Вот! — обрадовался Бавыкин. — Хотя это недоумение и не относится к сути разговора — оно полезно, и его нужно оценить. А что такое это вечное и единое? Возможно, единой была идеальной формы Песчинка. Та самая, какая, по представлениям многих, взорвалась и дала ход появлению и развитию галактик. А что нынче увидишь на небе? Условно, произнесём, на небе.
Свет в зале погас, и над Куропёлкиным возникло то самое «условное» Небо («Домашний планетарий», — подумал Куропёлкин). Но он будто бы оказался сейчас на берегу Вычегды в ясную, но безлунную августовскую ночь. И юношеские ощущения вернулись к нему. Должен сообщить, что в них не было чувства радости. В них был страх, он рождался от открывающихся ему глубин космической бездны. Или, мягче сказать, испуг, вызванный этой бездной. И она пыталась втянуть его в себя и растворить его в себе. И вот-вот должна была оторвать его от Земли и унести в неземное бытие. Тогда Куропёлкин закрывал глаза и начинал думать о какой-то дневной чепухе, хотя бы о том, что он напрасно купил на базаре три кулька якобы прожаренных семечек, бабка-торговка расхваливала, а они оказались полупустыми, лучше бы съел лишнюю котлету в обед. Успокаивался. Но желание глядеть в небо открывало глаза, и тут же возвращалось беспокойство, томление незрелой души, смущения из-за собственного ничтожества перед бесконечностью неба.
Нынче небо над Куропёлкиным было дважды условное. К тому же между Куропёлкиным и небом были метры и тонны земной породы, тем не менее беспокойство снова стало грызть Куропёлкина.
— Евгений Макарович, да что с вами? — услышал он голос Бавыкина. — Вы о чём-то спросили меня, а слова мои вам неинтересны.
— Извините, — спохватился Куропёлкин. — Отвлёкся видом…
— Потолка. Понятно, — сказал Бавыкин. — Но вернёмся к нашей идеальных форм песчинке. Посмотрите, что из неё вышло. Какое разнообразие форм тел и пространственных расстояний между ними, путей, связей, а в них невидимые нам сгустки энергий, пространства и времени, образующих неведомые нам формы (пока мы говорим только о формах). И что, вы видите здесь одни лишь шары? Шары у нас только на футбольных полях и на бильярдном сукне. Ну, ещё в мозгу шарики с тараканами. И ещё. Вспомнил. В Адыгее есть любитель домашних планетариев. Сферические своды он мастерит из сковородок. А есть ли в этом нужда? Сколько тысяч лет люди считали Землю плоской и для надёжности устанавливали её на слонов, быков или китов. К чему это я? Пожалуй, без всякой связи… Заговорился… Вы, естественно, не помните, но было такое понятие — социалистический реализм… «Реалистический по форме, социалистический по содержанию»… Так вот…
— Насчёт форм я сообразил, — сказал Куропёлкин. — Но пришёл-то я с другим интересом…
— Вы, Евгений Макарович, — спросил Бавыкин, — бывали в Бухаре?
— Мечтал бы побывать, — сказал Куропёлкин. — Но не бывал.
— К югу от Главного арыка и шутейного памятника Ходже Насреддину — узкие улицы с глинобитными домами, нет, с глинобитными крепостями. В иных улочках можно передвигаться лишь боком. И на них дворы с домами живут сами по себе, там свои миры, свои измерения обычаев и чувств и никаких окон на улицу. Был юбилей Авиценны. ЮНЕСКО на месте рождения Авиценны построило где-то под Самаркандом образцовый кишлак. Хотя бы для туристов. Окна там цивилизованно смотрели на улицы. Но уже через год внешние стены новых домов были замазаны, окна исчезли, и жизнь в тех домах ушла вовнутрь, в свои измерения. И таких измерений и суверенных состояний личностей у нас в мироздании, понятно, видимо-невидимо. А расстояния между их мирами или, как принято говорить теперь, измерениями куда у2же не только бухарских проулков, но и сицилийской вермишели и даже щетинки известных вам корабельных швабр Тихоокеанского флота. А если и есть что-то вечное и единое, существующее в вашем сознании, то это либо сам Творец в многообразии своих проявлений. Либо… уж и не знаю, что предположить… — сказал Бавыкин.
303
— К чему вы всё это говорите? — спросил Куропёлкин.
— А я и сам, пожалуй, запутался, — сказал Бавыкин. — Заехал в резонёрство… Но, выходит, что и ради выяснения чего-то важного для себя… Ладно, вы, Евгений Макарович, возде того самого соска женской груди умудрились лунными лучами поджарить рыбёшки и пучком этих же лучей выжечь на останкинском плавоходе название корабля «Нинон»…
— И что?
— А то, что, стало быть, вы сумели попасть в иное измерение, в шестое, а может быть, в триста двадцатое, потом же вы вернулись к себе, а значит, вам доступны переходы из измерения в измерение.
— Я этого не заметил, — начал оправдываться Куропёлкин.
— И это ценно, — сказал Бавыкин.
И он предложил Куропёлкину помолчать и оказать уважение заскучавшему столу.
Уважение оказывалось недолго, и выражено оно было в повторении разгонной рюмки коньяка и бутербродов с красной рыбой. («Вот бы обрадовалась Нина Аркадьевна», — подумал при этом Куропёлкин и сразу понял, что мысль явилась увядшая и ныне вовсе бессмысленная.) Кстати, рыба, показалось Курапёлкину, была с душком, видимо из норвежских, откормленных катышами с добавками и подкрашенных розовым мальков, не то что наша свежая, мезенская. А уж это нескладное и неподходящее ко времени соображение вынудило Куропёлкина помрачнеть.
А ведь к Куропёлкину стал было возвращаться аппетит.
— Продолжим разговор? — спросил Бавыкин. — Или снизойдём к трапезе с горячими блюдами?
— Сергей Ильич, потерпите ещё, — сказал Куропёлкин. — Я понимаю, что я сам должен до главного докумекать. Но во мне сейчас смысловая каша. Или бурда…
— Видимо, в этом виноват я, — сказал Бавыкин. — Я вас занудил. И себя тоже. Я пытаюсь говорить с упрощениями, но то и дело впадаю в какие-то поучения, от которых толку никакого. А надо было бы опуститься в простоту толкования. Вы теперь потерпите, раз пришли ко мне. Я не без смысла вспоминал о муравьях, пчёлах и всякой мелочи в Мироздании, для кого-то и не лучше упомянутых блох в собачьем меху. Мог бы напомнить и о том, что и растения, и камни — одушевлены и разумны, именно поэтому они и входят в это вечное и единое. Впрочем, всё это опять банальности. А главное же в том, что вы, не знаю почему, одарены способностью перемещаться из измерения в измерение. Причём, как вы сами рассказали, не заметили перемещений, то есть для вас — безболезненно.
— Вы знаете, я как-то не задумывался об этом, — сказал Куропёлкин. — Но, наверное, так оно и было.
— Оттого вас так легко и моментально, точнее использовав вашу способность перемещений внутри Измерений и изъяв из бытового времени, вызволили из заточения и возвратили к месту вашего контрактного пребывания.
— Это что — ваши догадки?
— И догадки, и результат серьёзных исследований, не моих кстати.
— И кто это вызволял меня и доставлял к Москве? — взволновался Куропёлкин.
— Ну, не знаю, — сказал Бавыкин. — Кто-то, возможно, и по лирическим причинам, однако не буду вводить вас в заблуждения, а кто-то, и их должно быть больше, — из-за пригодности вашей натуры к служению обороноспособности державы.
— А обыкновенная женщина, — с осторожностью протянул Куропёлкин, — не могла бы вызволить меня?
Бавыкин с удивлением взглянул на Куропёлкин. Спросил:
— Вблизи вас есть сейчас обыкновенная женщина?
Куропёлкин смутился. Ответ его вышел совсем неловким:
— Есть. Вот, скажем, горничная Дуняша.
— Дуняша, — грустно произнёс Бавыкин. — У Дуняши нет средств для таких действий.
— Ну да, ну да, — закивал Куропёлкин. Ему было стыдно. Надо было немедленно менять направление разговора. Он спросил: — Сергей Ильич, чем было вызвано поощрение, якобы поощрение меня с выдачей мне сертификата на владение лунным урочищем на обратной стороне Луны.
— Большой участок? — спросил Бавыкин.
— Шестнадцать гектаров. Если верить бумагам.
— Ну, не слишком щедрое поощрение, — сказал Бавыкин. — Хотя и не мелкое. Да, не мелкое. Но ничего существенного сообщить вам не могу. Со мной не советовались. Кстати, и где этот наградной участок?
— На Луне.
— Это я понял.
— Возле какого-то кратера имени Бубукина. Сказали, назван в честь футболиста. Почти Бавыкина.
— Так! — вскочил Бавыкин. — Не удивлюсь, если скоро вас примутся угощать участками на Марсе, на Венере, на кольцах Сатурна и ещё чёрти где! Всё это не имеет никакого отношения к моим проектам! А меня даже не поставили в известность! Надо сесть за стол. И накормить себя. И напоить. И попробовать успокоиться.
Бронзовым колокольцем была вызвана обслуга, и к столу подали горячие вторые блюда, явно сотворённые по рецептам немецкой кухни, впрочем, о которой Куропёлкин имел смутное представление (ну, заходили однажды в Бременхафен). Насыщались молча, и выпивали молча, даже и без тостов в два слова, но хотя бы чокались. Никаких инициатив, в переводе на язык футбольных сладкопевцев — креативных действий, Куропёлкин решил не проявлять, никаких недоумений не озвучивать, зачем высказываться? Надо, заговорит. Но один вопрос в Куропёлкине всё же ныл.
Но Бавыкин пожелал откушать и мороженое, будто остался всё тем же обиженным и злым мальчиком, кому вместо хоккейных коньков подарили глобус.
И когда Бавыкин возвратился из деловых (или творческих) досад к терпеливому собеседнику, Куропёлкин спросил его вовсе не о том, о чём намеревался спросить.
— Сергей Ильич, можете посчитать меня дубиной стоеросовой, мне всё же охота узнать. Форма чемодана, узаконенная вами (для себя), — безусловная данность? Или выбранное вами условие для решения технологической задачи?
Бавыкин, видимо, ещё находился внутри своих досад. Наконец он сказал:
— Года три назад один астролог из раскрученных, ссылаясь на некие расчёты с опорой на беспорядки в затмениях и мифологические источники, заявил, что долгое время на месте четвёртой планеты нашей системы ничего не было. Но будто бы проносилось там нечто огромное, даже великанье, с пассажирами. Так вот, один из великанов, неизвестно по какой причине, вышел из Звездолёта, может покурить, чтобы не отравлять воздух в общественном месте, или ещё почему, но по рассеянности забыл то ли чемодан, то ли саквояж, то ли сундук. Так и возникла Земля. В мифах сундук признали ящиком Пандоры.
— Это не ответ, — покачал головой Куропёлкин.
— Это ещё одно напоминание о микро— и макрокосмосе. Как проживают муравьи, мы приблизительно знаем. А какие формы имеют разновидности макрокосмосов, нам неведомо. Если бы я принялся объяснять что-то всерьёз, вы бы меня всё равно не поняли. Значит, и не буду. Но вы-то хотели спросить о чём-то другом…
304
— Вы правы, — сказал Куропёлкин.
— Ну и спрашивайте, — кивнул Бавыкин. — А то ведь разойдёмся вскоре. И возможно, навсегда. Однако этого «навсегда» я не желаю.
— Ответ ваш необходим мне ради установления справедливости вашей оценки моей личности. Почему вы посчитали меня никудышным Пробивателем?
— А вы привыкли к слову Пробиватель?
— Увы, да, — сказал Куропёлкин.
— Мне вас жалко, — сказал Бавыкин.
305
Бавыкин встал.
— Давайте пройдёмся. Зайдём в сапожную.
На подходе к мастерской сапожника обнаружилась ниша с каменной лавкой.
— Присядем, — сказал Бавыкин. — Здесь акустическая яма.
Куропёлкин насторожился. А с чего бы вдруг кому-то, по разумению Бавыкина, необязательно было знать о том, что он, Куропёлкин, не годится стать настоящим Пробивателем? Отчего Бавыкин жалел его? Или отчего он Бавыкину виделся жалким?
— Мне жалко тебя, Женя, позволю себе так тебя называть, — сказал Бавыкин, — потому как ты мне симпатичен. Вдобавок ты Феномен. Может, ты один такой из созданных Творцом на Белом Свете. Будем надеяться, что не один. Хотя иных подобных тебе людей я не встречал и мог представить их лишь в отчаянных фантазиях. С использованием тебя нельзя спешить. А желают поспешить в уповании на «Авось». И этим «Авось» выставят тебя. При этом сами они по сути дела — дилетанты. Ещё во время Икара люди имели кое-какое представдение о воздушных океанах, а о том, что в недрах Земли и уж тем более других небесных тел, у них и понятия серьёзного нет. Впрочем, как и у меня.
— Почему же они, обращаясь ко мне, ссылаются на именно ваши проекты? — спросил Куропёлкин. — И на то, что вы якобы требуете их скорейшего исполнения.
— Преподаватель математики из Калуги полагал, что путешествия в ракетопланах сразу осуществлены быть не могут. И никого не торопил. И я считаю, что спешить вредно. Но есть ловкачи, какие желают отличиться, рискуя чужими судьбами, твоей в частности. Тем более что одно Пробивание вышло удачным. И к тому же без затрат. То есть фартово. А тут и ты, удачник, у них под зонтом, отчего же не воспользоваться тобой, пока ты, предположим, не ослабел здоровьем и не утерял способности. К тому же в тебе еще не угас азарт и не превратилась в золу ложная, но и опасно-красивая надежда.
— А на кой мне дачный участок на берегу кратера Бубукина? — спросил Куропёлкин.
— Сертификат, тебе преподнесённый, — сказал Бавыкин, — более всего возмутил меня! Выходит, они нацелились уже и на лунные недра. Кому-то наобещали, получили поддержку, наверняка запросили денег, предоставив сметы с фантазиями и убедив, что имеется подготовленный и пока боеспособный Пробиватель.
— А те, кому пообещали и кого убедили в полезности затрат, — дураки, что ли? — спросил Куропёлкин.
— Они не дураки, — сказал Бавыкин, — но они государственно нетерпеливы. И для них разумны намерения обьявить тебя Мировым Пробивателем (эпизод с мусором эстетически неприятен, но для подтверждения мощи страны — полезен), теперь же следует предъявить народам рекордные эффекты и дать понять, что любые недра нам доступны. И дело не в одних недрах. Тот, кто умный, тот поймёт…
— Но я не собираюсь участвовать в чужих затеях, — сказал Куропёлкин.
— А слава?
— Какая ещё слава! — возмутился Куропёлкин. — На кой мне она?
— Тебя будут вынуждать!
— Не вынудят!
— Согласен, — сказал Бавыкин. — Ты вольный человек. И рождён вольным человеком. Можешь в случае чего нырнуть в тот же Люк и сейчас же вынырнуть где-нибудь в Намибии и стать там погонщиком зебр.
— Вы иронизируете нало мной, — сказал Куропёлкин.
— Нисколько! — серьёзно сказал Бавыкин. — Просто пытаюсь дать направление твоим мыслям. Можно обойтись без Намибии и зебр.
— Значит, я не вольный человек, — сказал Куропёлкин.
306
— То есть ты полагаешь, что она не имеет (или не ищет) выгод в стараниях людей, жаждущих поспешить и заполучить добычи теперь уже и вблизи кратера Бубукина?
— Как я об этом узнаю?
— Возьми и спроси у неё, — сказал Бавыкин.
— Боюсь, что если даже она объявит мне о своих выгодах или невыгодах, — сказал Куропёлкин, — я не смогу стать вольным человеком.
— Я этого ожидал, — сказал Бавыкин. — Мне твоё состояние понятно. И мне тебя жалко.
307
— Сергей Ильич, — сказал Куропёлкин, — отчего вы опять говорите о жалости ко мне?
— Ну, во-первых, боюсь, что ты согласишься рисковать. Один раз получилось. Но тут явно был фарт, да и Земля жила беспечно, не готовясь к неожиданному воздействию на неё. А теперь у неё есть опыт и нежелание, чтобы ещё щекотали, а потому и не исключено, что какое-либо Измерение встретит тебя недружелюбно и не пропустит сквозь себя, затворит в своей кутузке, а то и утопит в соевом соусе.
— Сергей Ильич, — удивился Куропёлкин, — а вам-то что? Ну, засунут в кутузку пожизненно. Ну, растворят в соусе. Вам-то какая печаль?
— Мне известны твои хождения по морю житейскому. В твоей личности, пусть и долговременно, вызревает нечто важное, но ещё не вызрело, в тебе вызревает и любовь, какая могла бы изменить судьбу и сущность другого человека, но любовь эта пока задавлена страхами и неуверенностью в себе, тебе доверен дар от Творца, и он не должен быть утоплен ни в соевом, ни в гранатовом соусе.
— То есть, как я вас понял, вам будет неприятно, если я пропаду, — сказал Куропёлкин. — И я вроде бы кажусь вам жалким.
— Ты верно понял, — сказал Бавыкин. — Но при этом не обольщайся, есть у меня и свои эгоистические интересы. Потому я и аттестую тебя никудышным пробивателем по случаю. Пусть ищут более способных людей или готовят летунов понадёжнее.
— Давно ничем не обольщаюсь, — сказал Куропёлкин.
— Ну, вот уж нет, — усмехнулся Бавыкин. — Ты — из зачарованных. И то и дело купаешься в сомнениях. Кстати, если ты даже поддашься дурости, ни в коем случае не надевай какие-либо спецкостюмы со скафандрами и прочим. Ты рождён голым, и иные Измерения принимают тебя голым. Понятно, что не обязательно голышом.
— Сергей Ильич, — волнуясь сказал Куропёлкин. — Может, я и впрямь зачарованный или очарованный… Но я ещё и упёртый.
— Это я уже понял, — сказал Бавыкин. — И всё же какие-то рекомендательные слова я обязан был произнести.
— Я заставлю себя спросить её, — пообещал Куропёлкин.
308
— Пожалуй, всё, что я хотел высказать тебе, я высказал, — встал Бавыкин. — И вроде бы мы сыты, и усы, каких у нас нет, — мокрые.
И было понятно Куропёлкину, что надо приличия знать.
— Да, Сергей Ильич, — спохватился Куропёлкин. — Я ведь Башмак приволок. Вы согласились взглянуть на него.
— Да! Да! — подтвердил Бавыкин. — Конечно, надо взглянуть на Башмак. Пошли!
Снова он, длинный, сухонький, но будто бы и проводящий в гимнастических залах часа по два в день, снова стал походить на озабоченного рутиной руководителя конструкторского бюро и решительно повёл Куропёлкина, к удивлению того, через знакомую уже полупещеру со складом глобусов, пробитых металлическими штырями.
— Кстати, — во время прохода сказал Бавыкин. — Не буду говорить о той, кого ты называешь «она». Прошу, внимательнее отнесись к предоставленной тебе Баборыбе. Её заявление о беременности может быть использовано как средство управления тобой. И ещё присмотрись: а не вариация ли она, не воплощение ли сути более важной для тебя женщины.
— Мне такое и в голову не приходило… — Куропёлкин чуть ли не приклеился к полу. Хорошо хоть не осел. — Воплощение…
Озабоченность (либо даже смятение) Куропёлкина Бавыкиным рассеяна или хотя бы оценена не была.
Глобусы, со штырями в них, показалось Куропёлкину, вызвали сейчас будто бы физическое раздражение Бавыкина. Похоже, если бы можно было разместить в полупещере (прежде — якобы кабинете) футбольные ворота, Бавыкин, не раздумывая и без судейского свистка, исполнил бы назначенные им же пенальти. Но складское помещение было куда меньше лужниковской поляны.
— Пузыри, мячи, фрикадельки, пампушки, яйца, снежки зимой — как они надоели! — воскликнул Бавыкин. — Все эти приевшиеся банальные формы — шары, овалы, колёса, они удобны для упрощённого понимания форм и сущностей мироздания.
— Отчего вы так рассердились? — не столько удивился, сколько расстроился Куропёлкин. — И на кого? И чем шары и овалы хуже сундуков, ящиков Пандоры или ваших чемоданов?
Старший матрос Куропёлкин дерзил. Чёрные глаза разгневанного Адмирала Флота выразили отношение к его дерзости.
— В овалах и шарах нет упоров для стартовых усилий моих проектов. Но тебе этого понять не дано. И слава Богу. Творец отпустил нам особенные дары. Тебе — свой, мне — иной. И в чём суть моего дара — открывать я не имею права. И опять, повторюсь, ты этой сути не поймёшь, и не потому, что ты неуч, пусть и с острейшей интуицией. Не поймут и умники академики, и им не суждено. Да и зачем…
Бавыкин, похоже, успокаивался. Или возвращался к своим чемоданам не с небесно-космических высот, а из глубин внутриземельных. Но, может, и из глубин вселенской мудрости.
А Куропёлкин ощутил размеры своей мелкости. И бестолочи своей.
— Так, — вспомнил Бавыкин. — Башмак.
Запахи ваксы ли, гуталина ли, кожи или её заменителей, дратвы, нового сапожного парфюма в студии обувного маэстро оставались и были приятны Куропёлкину, но чувствовалось, что маэстро в последние месяцы был увлечён делами, далёкими от ремонта сапог и кроссовок.
Хотя Бавыкин и приблизил к глазу лупу часовщика, будто был намерен изучать изъяны или вновь приобретённые свойства Башмака, осмотр его вышел секундным.
— Всё нормально, — сказал Бавыкин. — Возьми. Ещё пригодится.
Вместо того чтобы поблагодарить Бавыкина за приём, Куропёлкин пожелал вдруг (вроде бы из добрых чувств) поинтересоваться, не надо ли чего передать горничной Дуняше. Тут же Куропёлкин обозвал себя дураком и рот не открыл.
Уходили к рельсам с поджидавшей гостя вагонеткой.
— Вот что, — сказал Бавыкин, — ты человек более земной, нежели я, к тому же спортсмен, объяви мне, кто такой Бубукин.
— Точно ответить не могу, — сказал Куропёлкин. — Но был когда-то футболист Бубукин.
— Странно, — задумался Бавыкин.
— И что — знать, кто такой Бубукин, — спросил Куропёлкин, — для вас существенно?
— Да нет… Это так… — сказал Бавыкин. — Просто любопытствую, чем так заинтересовал наших деляг именно кратер Бубукина. Ну, да ладно. Спасибо, что посетил отшельника… Всё же надеюсь, что нам ещё удастся свидеться… Но тут многое будет зависеть от тебя…
309
Миновав Шалаш, Куропёлкин отправился в свою Избушку.
Вернул Башмак на подоконник чердака. Инспектировать его не стал. Доверился мнению Бавыкина.
И испугался. Как бы не нажать невзначай на какой-либо не обнаруженный прежде выступ и не вызвать Бавыкина к продолжению разговора, будто было ещё о чём спросить.
А ведь было о чём…
Однако была и опасность после какого-нибудь неловкого нажима попасть и в сеть, необходимости в которой у него сейчас не было никакой.
Вот имел бы он мобильный, позвонил бы одному случайному знакомому, наверняка помнившему о том, кто такой был Бубукин.
Но мобильные узникам не полагались.
Да и что дадут Бавыкину или тем более ему, Куропёлкину, достоверные сведения о Бубукине?
И сейчас же заискрилось соображение: а вот компетентный специалист в области футбольных трусов, причём и сверхсекретных, господин Трескучий, этот, уж точно, должен был бы иметь представление о Бубукине.
Ну и что?
До Куропёлкина дошло наконец, что эти прыгающие и ненамеренные соображения приятны ему, потому как они отвлекали его от раздумий о чём-то важном, на что подталкивали его слова Бавыкина. Может, и о смыслах его пребывания на Земле.
«Фу ты!» — попробовал осадить себя Куропёлкин.
Но осадила его зевота.
Всё же в самообустроенном и добровольном, надо полагать, затворе Бавыкина они с хозяином перегрузили себя мясными блюдами и к напиткам отнеслись уважительно. Куропёлкина повело на лежанку.
Померещилось ему, будто приходила горничная Дуняша и интересовалась, не оголодал ли квартирант, а Куропёлкин силился сказать Дуняше о чём-то важном, но не смог.
О чём позже жалеть не пришлось.
310
О важном Куропёлкин услышал поутру от топ-менеджера научных забот и направлений Селиванова.
И слова произносились важные, и сам он выглядел государственно важным. Куропёлкину пришло в голову, что Селиванов был бы хорош и в вельможном кафтане восемнадцатого века, и даже мог быть произведён в секретари Екатерины Великой.
Но откуда у нас Екатерины Великие? Их нет и не предвидятся.
— По нашим сведениям, — сказал Селиванов, — вы, Евгений Макарович, имели аудиенцию у господина профессора Бавыкина.
— Случилось такое, — сказал Куропёлкин. — И это вас волнует? Или я должен был доложить вам о намерении встретиться с Бавыкиным?
— Нет, — сказал Селиванов, — никаких докладов мы ожидать от вас не вправе.
— Надо понимать, что и без моих докладов о всех моих действиях вам бывает известно.
— Не о всех, — сказал Селиванов.
— Техника, что ли, не срабатывает? — спросил Куропёлкин.
— Именно, — сказал Селиванов.
— И что же из вчерашнего вы не сумели услышать и понять?
— Особый интерес профессора Бавыкина.
— Бубукин, — сказал Куропёлкин.
— Какой такой Бубукин? — удивился Селиванов.
— Тот самый, на берегу чьего кратера вы определили мне поместье в шестнадцать гектаров.
— Как кстати я пришёл! — обрадовался Селиванов. — А пришёл я, чтобы одарить, то есть я уполномочен одарить вас новыми сертификатами на владение участками на Марсе, на Венере, на пятом кольце Сатурна. Вот и бумаги со всеми печатями и подписями. И даже резолюциями ООН и ЮНЕСКО.
Дарственные Бумаги, некоторые из них напоминавшие застеклённые грамоты из Красных уголков и удобные для размещения на кабинетных стенах, были извлечены из Генеральной папки Селиванова и вручены Куропёлкину.
— Распишитесь в получении, — предложил Селиванов.
— Странно, — сказал Куропёлкин. — Именно, по вчерашним предположениям Бавыкина, мне и были намерены выдать подобные сертификаты и лицензии. А по вам выходит, что вы о чём-то не слышали.
— Не слышали! — обиженно заявил Селиванов. — Но могут быть и совпадения. Бавыкин, естественно, в курсе программы Пробивания, он и прогнозировал дальнейшее её развитие. В этом нет ничего странного. Странность в его неожиданном интересе к личности Бубукина. Что-то экстренное, видно, пришло ему в голову. У вас есть по этому поводу какие-нибудь острые мысли?
— Нет, — сказал Куропёлкин.
— Жаль, — опечалился Селиванов. — Жаль. Ну, что же, самим придётся разгадывать загадку.
— Бог в помощь, — проявил вежливость Куропёлкин.
— То есть у вас и желания не возникло, — спросил Селиванов, — выяснить, из-за чего так взволновался Бавыкин?
— Нет, — подтвердил Куропёлкин. — Если бы имел мобильный, выяснил бы, кто такой Бубукин.
— Ну, извините, — сказал Селиванов. — Перейдём к сути. Вы, Евгений Макарович, находитесь, возможно, в меланхолиях, но при этом вы зря стали столь невнимательны к добытой ради вас Баборыбе.
— Я уже попросил вас, — сказал Куропёлкин, — избавить меня от Баборыбы. Она — фантом, и я более в ней не нуждаюсь.
— Для вас она фантом, и её легко развеять. Но она взяла и забеременела. И это осложнило ситуацию.
— Вы сами сообщили мне, что я не имею отношения к этой якобы беременности. У вас имелись и заключения медиков.
— А они их пересмотрели, — сказал Селиванов. — И вы, выходит, отец будущего ребёнка Людмилы Афанасьевны Мезенцевой. И это многое меняет. Теперь ваша Баборыба — вовсе не фантом, а юридическое существо, и ваши отношения с ней обостряют Секретные соглашения с Людмилой… Нет, именно с Баборыбой.
— И что же, к чему могут принудить эти так называемые Секретные соглашения? — спросил Куропёлкин. — И чем вообще было вызвано подписание этих Секретных соглашений?
— Вашей блажью, Евгений Макарович, — сказал Селиванов. — Вашей блажью! Да ещё и с временными нагнетаниями каприза. Легко ли было изловить или создать даже эту самую Баборыбу. А Людмила Афанасьевна сообразила, какой может быть выгода, или призовой фонд за услуги, и потребовала обеспечить ей достойную компенсацию за удаление из ежедневия светских дам, к каким она себя причисляла, и вынудила неумных людей подписать с ней соглашения, тайные от вас. По ним-то теперь в случае рождения ребёнка она имеет права на владение вместе с вами имуществом. А уж если родится ребёнок, во что желаем верить, то все сертификаты и лицензии могут стать фамильным наследством. Людмила Афанасьевна женщина глуповатая, но в случаях защиты своих интересов — жестокая и цепкая. И способная на ядовитые каверзы, тут она и вцепится в буковки тайных соглашений.
— К чему вы всё это говорите? — спросил Куропёлкин. — Может, вы меня пытаетесь испугать?
Селиванов рассмеялся.
— Вот уж не думал вас пугать. Я лишь попросил вас проявлять внимание к Баборыбе. Она ведь женщина.
— У неё есть хахаль, — сказал Куропёлкин. — Она не голодает.
— К хахалю от вашего наследства ничто перейти не сможет, а вот ваши близкие в Волокушке могут оказаться без копейки. Даже и после положенных вам подвигов.
— Мне, что же, завещание писать? — спросил Куропёлкин.
— Зачем? — сказал Селиванов. — Очень скоро должно произойти новое Пробивание, и мы обязаны предупредить вас о нём.
— Без меня, — сказал Куропёлкин.
— Это как пожелаете, — кивнул Селиванов. — Вы — вольный человек. Но Баборыбу вы должны посетить.
311
И Куропёлкин посетил.
Людмила Афанасьевна встретила его приветливо.
— Поздравляю, — сказала она.
— С чем?
— С новыми космическими поместьями.
— Изволите издеваться?
— Вовсе нет, — сказала Баборыба.
— То есть ты, похоже, рада всяким пустым бумажкам? — спросил Куропёлкин.
— Не только я! — рассмеялась Баборыба. — Но и наш долгожданный сынок!
— Вот как? — напрягся Куропёлкин. — Отчего же долгожданный и отчего же сынок?
— Ну, а какой же? — вопрос Куропёлкина вызвал неодобрение Баборыбы.
— И сколько же времени врачи определили началу игр зародыша в вашем чреве? — спросил, подбирая слова, стараясь не выпустить из себя раздражение, Куропёлкин.
— Три недели! — сказала Людмила Афанасьевна Баборыба. — И они же определили, что у нас с тобой будет сынок.
— А в чём его долгожданность? — сердито поинтересовался Куропёлкин. — Она вовсе не долгожданность, а скороспелость. Мы о сынке не договаривались.
— Он — плод любви! — гордо и взволнованно произнесла Баборыба. — А любовь не ждёт договорённости.
— У нас нет с тобой любви, — сказал Куропёлкин. — У нас с тобой — проживание.
— А я-то подумала, что между нами уже любовь, — сказала Баборыба, — и сегодня, хотя бы сегодня, она продолжится. Но если что не так…
И лицо Баборыбы помрачнело, а потом стало и злым.
— Я мать нашего ребёнка. Тебе он неприятен, но избавляться от него ты меня не заставишь. И он станет твоим наследником. Все твои поместья перейдут к нему.
— Не перейдут, — сказал Куропёлкин. — Я напишу завещание. В ближайшие же часы.
— А что мне твои завещания! — скандальной бабой загремела Людмила Афанасьевна. — Есть секретные соглашения, и по ним ты для меня с ребёнком — никто! Ты издевался надо мной, теперь поиздеваюсь я. Ты хоть задумывался над тем, кто ты есть? А я знаю, кто ты есть. Тебя возвели в какие-то Пробиватели, а на самом деле ты просто говно в унитазе, и одним движением значительного человека ты можешь быть отправлен, куда потребуется.
312
Из коридора Шалаша услышались чьи-то шаги.
Да и не шаги это были, а Поступь, к тому же как бы подтверждённая ударами по каменным плитам пола тяжёлой трости.
Но пол в коридоре вовсе не был выложен каменными плитами. И Командоры прогуливаться в Шалаше не были обязаны. Дверь открылась, и в дверном проёме комнаты совместного проживания застыл здешний воевода господин Трескучий-Морозов. Суров был взгляд господина Трескучего. Похоже, тот был готов испепелить неразумного обалдуя Куропёлкина, ко всему прочему — раба.
Не испепелил. Может, посчитал, что срок не наступил. Или вспомнил о чём-то.
— Людмила Афанасьевна, — спросил Трескучий. — У вас затруднения?
— Есть и затруднения, — сказала Баборыба. — Но я, пожалуй, смогу их отменить.
Тут Куропёлкин сообразил, что Трескучий нынче весь чёрный. То есть не весь, конечно. Не негр. Извините — не афроамериканец, способный в случае чего стать шерифом или напарником свирепого копа. На Трескучем была чёрная плащевая накидка (а день стоял жаркий), черные, естественно, сапоги и чёрный берет, неизвестно каких служб или сил, хорошо хоть без мефистофельего пера. «Наверное, и пояс он имеет чёрный…» — заключил Куропёлкин.
— Ладно, — сказал Трескучий. — Но я чую, что вы чем-то обеспокоены или отчего-то раздражены. Не из-за этого ли пустобрёха?
— Ну… — протянула Баборыба, возможно соглашаясь с Трескучим или давая тому понятный им двоим смысловой знак.
— Вот что, Куропёлкин, — сказал Трескучий, — выйдем и поговорим!
— Наручники и кандалы не наденете? — спросил Куропёлкин.
Вышли. Отправились в Гостевую, именно в Гостевую, а не в Гостиную, предназначенную, скажем, и для застолий. Но с кем предполагались застолья-то? С профессором Удочкиным? Или с менеджером Анатолем? В Гостевой же имелись диван, два кресла и деловой столик. Господин Трескучий жестом указал на кресла, в креслах и разместились. Ещё в переходе в Гостевую до Куропёлкина дошло: «А Баборыба-то наша при явлении, будто бы внезапном, Трескучего не ойкнула, не ахнула, но даже и халат запахивать не стала, нежное рыбье-чешуйчистое бельё своё от нивхских кутюрье прикрывать не пожелала».
Свой был в Шалаше господин Трескучий, свой!
— Ну и что? — спросил Куропёлкин. — Благодарю за милостивое разрешение усесться в кресло. Хотя в глазах у вас — и желание вызвать опричников и приказать им выпороть меня.
— Это от тебя никуда не уйдёт! — грозно сказал Трескучий. — Всему своё время.
— Вас чем-нибудь угостить? — спросил Куропёлкин. — Виски, коньяк, текила? Водку не предлагаю. Жарко.
— Ты обнаглел? Ты, что, не помнишь условия контракта? — проскрипел Трескучий.
— Шалаш — моя территория, — сказал Куропёлкин. — И я обязан по требованиям гостеприимства предложить вам хотя бы нечто традиционное. А из сострадания к вашему организму я не могу не призвать выпить холодного пива. У вас пот течёт из-под вашего чёрного чепчика.
313
— Ты наглец, Куропёлкин! — вскричал Трескучий. — И справедливость возведёт тебя на костёр!
— Насчёт костра, это разумно, — сказал Куропёлкин, — если учесть, что я поддерживаю убеждение: «Земля имеет форму Чемодана».
— Всё шуточки! — возмутился Трескучий. — Всё задрюки младопоносные! Какие могут быть убеждения, если ты способен лишь болтаться на шесте в ночных клубах!
«А может, он и прав?» — подумал Куропёлкин.
А Трескучий, будто исключив из внимания Куропёлкина, снял, стянул даже, с головы чёрный берет и был вынужден платком убирать капли со лба.
«Ба! — удивился Куропёлкин. — Да он у нас нынче и брюнет, причём жгучий!»
Со дней знакомства с Трескучим Куропёлкину тот запомнился невзрачно русоволосым. И волос его был короток. Теперь — нате вам! — он брюнет. То ли из цыган, то ли из южных народов, и волосы его выросли. Ему бы ещё усы отпустить и кудри д’Артаньяна! Что же случилось-то с ним?
— Что это ты вылупился на меня своими глазищами? — спросил Трескучий.
— Вы не начали красить волосы гуталином? — спросил Куропёлкин.
— Гуталин не обязателен. — Трескучий явно смутился, но сейчас же вернул себя в самоощущения воеводы. — Есть возможности организма усовершенствовать себя. Но это не ваши собачьи заботы!
— Понял, — сказал Куропёлкин. — На секунду я удивился. Но теперь удивление прошло. Перейдём к делу. Ради чего вы меня призвали к разговору? Исходя из ваших представлений о ценности, или, вернее, — о цене человеков, вы должны сейчас же поставить меня на место зелёных тварей тли и сообщить мне о том, что будет произведено со мной в случаях моих недопониманий или взбрыкиваний. Или хотя бы для начала вежливо образумить меня. В чём ваша нынешняя функция?
— Хорошо, — неожиданно для Куропёлкина спокойно произнёс Трескучий. — Ты, как выразился сам, находишься здесь на своей, якобы автономной, территории. Но твой Шалаш окружён территорией твоего контракта, и, стало быть, между их хозяевами, мягко скажем, могут быть общие договорённости и интересы. Мне бы тебя раздавить и растереть, но это невыгодно и для меня, и для Нины Аркадьевны. А выгодно нам твоё участие в новом Пробивании по маршруту, указанному тебе. Это одно. И другое. Чтоб ты знал. При консультациях сторон я был назначен опекуном беззащитной Людмилы Афанасьевны Мезенцевой, попавшей в унизительное положение Баборыбы. Каждую её слезинку я обязан теперь компенсировать тёплыми дуновениями судьбы.
314
— А она, значит, предпочитает брюнетов, — сказал Куропёлкин.
— Что?!
— Я просто высказываю своё предположение, — сказал Куропёлкин. — Я никого не желаю обидеть. Просто, выходит, что знания о Людмиле Афанасьевне у меня поверхностные и я обязан их углубить.
Обидеть Куропёлкин, возможно, никого не желал, но вызвать раздражение или даже гнев Трескучего было для него теперь милым делом.
— Углуби! Углуби! — рассмеялся вдруг Трескучий. — Рад не будешь от этого углубления!
— Это отчего же? — спросил Куропёлкин.
— А от того! — чуть ли не восторжествовал Трескучий. — А от того! Ты-то полагал, что тебя за твой канализационный подвиг наградили золотой рыбкой. А ты получил старуху с корытом и дырявый невод. Старуха же пожелала заставить тебя добыть ей столбовое дворянство! И это для начала…
— Что-то я вас не понимаю, господин Трескучий, — сказал Куропёлкин. — Вы с симпатией относитесь, или должны бы с симпатией относиться к опекаемой вами страдалице, вот и в брюнеты себя перевели, а говорите о ней, как о стерве.
Ожидаемого крика Трескучего Куропёлкин не услышал. Тот молчал.
— Так это она для тебя стерва! — сказал наконец Трескучий. И опять рассмеялся. — То есть она по сути своей и для всех — стерва. Но это мне в ней и нравится. А я-то для неё — опекун, союзник и просто приятель. Все же люди, каким ты нужен, рассчитывают на её напор, хватку и жадность. Если ты будешь увиливать от нового Пробивания, ты сам от неё сбежишь на берег кратера Бубукина!
315
— Неужели и Нина Аркадьевна поддерживает Баборыбу? — спросил Куропёлкин.
Теперь-то Куропёлкин давал возможность порадоваться господину Трескучему. Да что там порадоваться! Был произведён для Трескучего будто бы залп праздничного салюта и фейерверковые букеты с приятным треском взорвались над его головой. Чесменская победа была одержана Трескучим над шутником, дерзнувшим иронизировать над нежно-внезапными чувствами вчерашнего шатена, а ныне козырного брюнета. Может, в будущем — и туза пик.
— Ну, ты, Куропёлкин, даёшь! — хохотал Трескучий. — Ты кто? И кто Нина Аркадьевна? Даже если тебе поставят монумент у кратера Бубукина, отношение её к тебе не изменится. Кстати, она просила узнать, кто такой Бубукин и чем он хорош.
316
Рассказчик этой истории посчитал нужным вспомнить о Бубукине.
Зачем это надо было делать? И сам не знаю. Впрочем, потребность в этом разрешений у меня не просила, не объясняла — зачем, а подымалась в котле воспоминаий неуправляемой уже опарой в блинные дни масленицы. Двадцатилетним шалопаем (вернее, двадцатитрёхлетним, да и шалопаем ли? имел уже сына, работал в серьёзной, но и озорной газете, кормил семью) я загремел на «скорой помощи» в челюстно-лицевой госпиталь на какой-то улице восточнее Донского монастыря. Увезли же меня с работы, определив температуру в сорок один с половиной градуса, сами и заговорили: «Минуты терять нельзя». Из-за температуры и болей соображения у меня были плавающе-малярийные. В госпитале недомогание моё было признано воспалением надкостницы, и начались ковыряния в моём рту. Что-то в тот день происходило в Москве и с челюстями других людей, в госпиталь мобильные кареты то и дело доставляли мучеников зубной боли к креслам стоматологов. А я, уже забинтованный, успокаивался, но какой-то мужик в палате рядом всю ночь стонал, матерился, ревел свирепым подраненным лесным зверем, ругал правительство, каждого его члена по имени, и в особенности председателя Госплана Байбакова, а то рыдал и умолял спасти его.
Утром выяснилось, что меня не только забинтовали, но и превратили в Шарикова из фильма Бортко. Тут в моих воспоминаниях происходит временной заскок. В пору воспалившейся надкостницы Полиграф Полиграфович ещё не вылупился (не давали) из рукописи Мастера и не отправился бродить по журнальным страницам и уж тем более не мог превратиться в киногероя. Но по моим нынешним понятиям, хотя и преувеличенным, я выглядел тогда так же отвратительно, понятно, что и смешно, как и Шариков, сумевший произнести слово «Абыр». Голова в бинтах, две прорези, одна для глаз, естественно, соседи по палате видели в ней глаза испуганного дебила, вторая прорезь для рта, эта — обидная, две недели мне полагалась Нулевая еда, нечто протёртое и жидкое.
В первый день соседи со мной почти не общались. То ли жалели меня и мою надкостницу. То ли полагали, что никакого толка от разговоров с дебилом ожидать не приходится. Коек в палате стояло шестнадцать, и все они были заняты. Мужики поправляли здесь здоровье жизнерадостные, весёлые и разговорчивые. Молчал лишь один из них, тот самый мужик, что ночью орал, стонал, материл правительство и умолял спасти его. У него выдрали три зуба, два по делу, больных, один здоровый — в придачу к больным, на всякий случай. Врачу, совершавшему обход, он пожаловался. Ничто у него теперь не болело, и это его угнетало. Тоска наехала. И страх. И он не знает, как теперь и зачем жить. «Поменьше ругайте Байбакова» — выписал рецепт здоровой жизни обходящий (обходной?) врач. Кстати, после «выписки» рецепта свирепого ночного мужика в палате стали называть не иначе как Байбаковым. И он, случалось, откликался.
О политике говорили мало, безо всякой охоты, и лищь при чтении газет, до обеда, причём — при обсуждении глупейших заметок. Наиболее важными, со взрывами смеха и выражениями досад, были две темы. Футбол и бабы из соседней женской палаты. Про женскую палату я ничего не знал. А в футбольных разговорах мог бы высказать и суждения. Однако они никого не интересовали.
Между тем уже на второй день после экзекуции я стал ходячим и оказался самым энергичным больным в палате, да, наверное, и на всём третьем этаже госпиталя. Но своей бесполезностью вызывал лишь раздражение лежачих соседей. А в палате, стало мне известно, находились, «отдыхали» и люди, побывавшие в дорожных происшествиях (на автомобилях, мотоциклах, велосипедах), а также в кулачных боях. В челюстной госпиталь они попадали из-за первых впечатлений милиционеров и экипажей «скорых» (выбитые зубы, морды в крови), потом выяснялось, что у них имеются переломы рук и ног и черепные травмы. Для этих ветеранов (кто уже провёл здесь неделю, а кто и поболее суток) я мог бы оказаться идеальным гонцом, но кто бы мне с моими бинтами решился выдать в винных отделах бутылку водки или хотя бы «Три семёрки» и «Агдам»? Да меня бы в мгновение отправили в дурдом или в обезьянник!
В палате, а может, и во всём госпитале, в мужских его скоплениях, медицинские работники исключались, у них были свои привычки и способы их поддержания, существовал неистребимый послеобеденный ритуал омовения организмов. Были тому объяснения и оправдания. Действительно, большинство мужиков, пусть и временно, были обречены здесь на Нулевую еду, из чего создавалась эта безвкусная дрянь, предположения выстраивать не хотелось. Просто требовалось производить профилактическую дезинфекцию кишок и пищеварительного тракта, а потому и отправлялись в ближайшие магазины гонцы.
Однако ритуал удавалось совершать не каждый день. То денег не добирали, то гонцы не находились или были и после обеда заняты на процедурах. То ли ещё что…
Но в пору моей госпитальной жизни соблюдению ритуалов помех не было. И как ни странно, участвовать в одном из них было предложено и мне. Инженер с «Калибра» Анатолий, с соседней койки, поманил меня бутылкой за 2.87 и спросил: «Будешь?» «Не пью!» — в испуге произнёс я и опустил свою и так сомнительную репутацию на дно колодца. «Ну, тогда пошухери у дверей. И чтобы ни одна баба к нам не прорвалась! А то ведь пить на халяву они горазды!»
Приказание было выполнено, и я проболтался в коридоре минут сорок. Тогда и были сделаны первые наблюдения над женской разновидностью челюстно-лицевых.
Во-первых, совсем иные причины вынудили их оказаться в зубном раю.
Собственно, это, во-первых, и было самым существенным в их историях То есть пригнали их сюда не кариесы, не воспаления дёсен, не пародонтозы и уж тем более не цинга, подарок полярных экспедиций, а пригнали кулаки мужей, любовников, постоянных или случайных, а также неоправданные действия неуравновешенных соперниц.
В общем, многие из наших барышень были битые. Ходили они не только с каркасами-решётками во рту для исправления поломанных челюстей, но и с синяками под глазами, со сдвинутыми носами, с лечебными ошейниками под подбородками. Наверное, и на телах наших битых имелись следы мужских самоуправств.
И при этом обитательницы женской палаты (и там стояло шестнадцать коек) были сексуально озабоченны. Хотя, как сказать… В озабоченности есть и некие унылости и чуть ли не безнадёжность. Наши же «крали бытовые», по понятиям медиков, не все, конечно, но многие, находились в состоянии любви.
Мало того что происходили вспышки страстей семейных (добавим сюда и отношения любовников) с взаимопрощениями, с возобновлением юношеских чувств, с клятвами и стояниями на коленях. Так ешё возникали и романтические сюжеты с участием временных пациентов госпиталя. Ничего особенного в этом явлении, как мне стало понятно позже, не было. Никаких сдвигов в небесах, никаких падений метеоритов в озеро Чебаркуль, никаких мистико-эротических знаков и воздействий Камасутры, о которой, впрочем, тогда не имели представления. Травматики, люди практически здоровые, ну, подумаешь, зубки поболели, маялись в бездельи, телевизор в госпитале был один, и в девять его выключали, мобильники ещё не изобрели, кроссворды в моду не вошли, медперсонал был государственно строг. Скука. Отчего же и не завести тут приключения, хотя бы и на несколько дней, но без всяких долговременных обязательств. Стадо быть, больничные романы были схожи с романами курортными.
Однако эти приключения не могли состоять из одной лишь трепотни и лизаний языками, а должны были иметь и завершения со всхлипами и восторгами. Но где получить эти всхлипы и восторги? Если только на камнях больничных лестниц. Семейные же восстановители устоев хотя бы могли использовать скамейки в госпитальном саду. Но ничего приятного в этом не было. То есть было, конечно, и приятное, нам-то к чему только не приходится привыкать, однако и со скамеек в сумерках жаждущих любви гнали соблюдатели благонравия. Естественно, и восторги на ступенях каменных лестниц были прекращены.
А потому иные мои соседи по палате ходили мрачные и отказывались полоскать зубы.
317
И вдруг удивили медиков желанием добиться немедленной выписки недолеченные. Медикам были известны прежние упования тружеников разных важностей — инженеров, конторщиков, водителя троллейбуса, ходуна-точильщика ножей и ножниц, да мало ли кого. У всех до поры до времени есть зубы, так вот все эти люди мечтали недели три поотлёживаться, дурака повалять, отдалиться от своей служебной рутины, от опёки начальства и жён, и вдруг — просьбы о немедленной выписке.
318
Но я-то догадывался, из-за чего стал хлопотать о выписке мой сосед, инженер с «Калибра» Анатолий Коноплёв.
С точки зрения женщин, и госпитальных, и навещающих больных, мужики в последние дни начали внезапно дуреть. Мнение о внезапности показалось мне ошибочным. Просто происходило обострение чувств и интересов… К чему? Вот-вот должна была состояться финальная встреча на Кубок Европы. Нашим предстояло играть с югославами. К футболу тогда относились простодушно, с романтической даже любовью, как к важнейщей составляющей народной жизни, в коей не было места ни корысти, ни делячества, а была возможность для проявлений отечественных молодечеств, бесшабашности и отваги. И представить тогда никто не мог, что со временем футбол забредёт в трясины шоу-бизнеса. В ту пору футбол был — праздник. На стадионы, в места свободных суждений, ходили семьями, и в мыслях не держа, что там могут случиться скандалы или драки. А уж коли оказывались у буфетов, то и там было чем порадовать и себя и детишек.
И вот накануне финала первого пробного чемпионата Европы и начались болельщицкие страсти. Или лихорадки. В госпитале слово «бабы» почти пропало из обихода. Зато охотно и повсеместно судачили о футболе. Хотя, конечно, бабы из соображений и практических действий челюстных кавалеров никуда не испарились, тот же тихий мой сосед, Коноплёв, кому в выписке было отказано, продолжал волочиться за Тонькой, продавщицей зеленного магазина на улице Герцена (палата № 3, трещина скулы).
В субботу приехала жена. Среди прочей информации (о сыне, о моих родителях, о друзьях) прозвучали слова, подтвердившие мнение больничных дам о том, что в преддверии финала мужчины в Москве принялись дуреть. К нашему разговору сразу стали прислушиваться лежавшие и сидевшие в палате джентльмены. Жена произвела на них впечатление. Или хотя бы удивила: надо же — такая красивая особа оказалась женой задрипанного мужичонки, хмыря и недотёпы. К субботе, правда, при перевязке бинтов на мне поубавилось, из Шарикова эпохи слова «абыр» я превратился в человека всего лишь с обиженной обстоятельствами головой. И нос мой открылся публике, и произнесение звуков стало более приятным для слушателей. Жена привезла и купленный ею на неделе спортивный костюм, он меня не то чтобы преобразил, но, во всяком случае, улучшил мою осанку.
— Не знаешь, кто из наших, — спросил я жену, — из редакции, поедет в Париж?
— Что значит — в Париж? — сказала жена. — Многие ездят в Париж. Или бывают там проездом.
— Нет, — опечалился я, будто до неё не дошёл простейший смысл. — Кто нынче поедет на игру с югославами?
— Откуда мне знать ваши дела! — осердилась жена, но на секунды. Жили мы тогда в очередных продолжениях медовых месяцев. — Хотя я слышала от Блатина, что поедет на финал Михалёв.
— Повезло Гришке! — воскликнул я.
И вздохнул.
— Ты что, — удивилась жена, — завидуешь Михалёву? Так это дела не вашего отдела.
— Нет, конечно, — сказал я. — Да и не дорос я до Парижей! Но горести мои иного порядка.
Объяснения мои жена поняла. Горести мои, пафосные, но и с долей самоиронии, были вызваны невозможностью сопережевать вместе с командой и всей страной в реальности игрового времени. Здесь в госпитале мы были обречены на неживую утреннюю информацию об уже случившемся и загнанном в ледяные единицы стастистики. Всё прошло, но без нашего переживания и участия. А это скучно, унизительно и досадно. Радиорепортаж начнётся в одиннадцать. А радиоточки в это время в госпитале будут отключены. И даже если у кого-то заработает мелкий вэфовский приёмник, его тут же обнаружат и попросят выключить. И это в обстановке ужесточения режима в связи с обострением любовных происшествий.
— Телефоны где у вас расположены? — спросила жена.
— На площадках между этажами. Но ночью пользоваться ими нельзя. Обходят дежурные врачи.
— Ладно, — сказала жена. — Что-нибудь придумаем…
319
О том, что она придумала, жена сообщила в тот же вечер.
Предложение её было простое, а потому и трудно выполнимое.
— Так, — сказала жена, — ты опускаешь за три минуты до начала игры две копейки в таксофон, я ставлю наш телефон в обнимку к репродуктору, и ты слушай репортаж все девяносто минут, не трепыхайся в волнениях, ты ещё нужен мне и сыну.
Без пяти одиннадцать я вышел из палаты. Тишь и темень. Передвигался по лестнице по маршу вниз слепым кротом, вцепившись в перила. Переход Суворова через Альпы. Потом стал слышать. Где-то кашляли, где-то, то ли на верхних этажах, то ли этажом ниже нашего, кто-то из мужиков шепотом и без мата пытался передать вибрацию нежных желаний. И глаза мои начинали видеть. Отсветы сумеречных московских огней создавали даже тени. В кабину телефона-автомата я зашёл без ожидаемых напряжений. А вот набирать домашний номер пришлось на ощупь. Номер этот был очень прост, до сих пор помню его — И (Иван) 1-51-50, и жена сразу подняла трубку.
— Ну, как? — спросила жена. — Слышишь?
— Слышу, — прошипел я.
— И прекрасно, — заключила жена. — Наслаждайся. А я пойду к сыну.
И ведь получилось.
Минут десять никакие охранители порядка себя не проявляли. Может, уже спали. Может, не ожидали от болезных людей каких-либо подвохов. Игра началась, и рассказ о ней повёл, теперь уже и не помню кто, скорее всего это был Николай Озеров с его двадцать девятью единицами словарного запаса, уже тогда любимец радиовластей и монополист в спортивной болтовне на все темы. Но хорош ли был для меня Озеров или не хорош, не имело значения.
Так вот десять минут мне никто не мешал, и я потерял бдительность. Сначала по стеклу кабины постучали, а потом и грубо дёрнули дверь. Слава богу, ночным надзирателем оказался зубной техник, а скажем, не медсестра.
— Это как понимать? — грозно спросил следящий за порядком.
— Пока ноль-ноль, — сказал я и протянул ему трубку.
Тот её взял, осмотрел внимательно и приложил к уху. Соображал, что ему подсунули, понял наконец. Спросил:
— Кто вас уполномочил?
— Палата уполномочила, — уверил его я.
— А кто на конце связи? — поинтересовался зуботехник.
Я хотел было доложить надзирателю, что на конце связи комментатор Озеров, но удержался и сказал:
— Жена.
Хозяин порядка хмыкнул, но вышло будто хрюкнул, подмигнул мне и наложил резолюцию:
— Ну, ладно, если палата уполномочила… Только не собирай вокруг себя людей…
Указание бдящего зуботехника выполнить было трудно. Наверняка этот сменный надзиратель проболтался кому-то о трансляционном посту между вторым и третьим этажами, сам он, возможно, футболом не интересовался, а болтанул о своём наблюдении истинному болельщику. И началось. Сейчас же первый посвящённый из врачей тихонько приблизился к телефону-автомату и поинтересовался, не изменился ли счёт. Не изменился, то ли успокоил, то ли расстроил я его. Потом подошёл более бестактный (или более недоверчивый?) любопытствующий и, слов не прознеся, отобрал у меня трубку (может, посчитал, что у него, как у инспектора или цензора, есть на это право), стал, губами будто пожёвывая звуки, слушать Озерова, так и слушал, пока не дёрнулся нервно и не протянул мне (с неодобрением) трубку:
— Вас! Жена…
— Ну как? — спросила жена. — Тебе не мешают?
— Нормально, — бодро прошептал я, но, заметив жадный взгляд на трубку так и не отбывшего от телефона-автомата наглеца, добавил: — Но ты чаще подходи к телефону, проверяй качество связи. Кстати, какие у тебя сейчас проблемы?
Жена поняла, говорить, правда, ничего не стала, но дала мне возможность послушать репортаж без опаски быть отодвинутым от аппарата более азартными людьми. Однако проснулся и захныкал сын, и жена была вынуждена отойти от репродуктора, упомянутый выше наглец учуял это и чуть ли не вырвал у меня трубку. Но не вырвал.
— Ребёнок плачет, — деликатно объяснил я. — Подожду, пока он не успокоится…
— При чём тут какие-то ребёнки! — возмутился наглец. — После одиннадцати о ребёнках вести разговоры — не сметь! А слушать Париж не запрещено. Но — дозволенным ушам.
Словами этими он вызвал во мне режимно-больничный трепет, и руки мои ослабли, трубка тут же оказалась собственностью наглеца. «Да кто он такой! — протестовал я. — Может, такой же проглатыватель нулевой еды, как и я!» И теперь уже, слова не произнеся, я отобрал у наглеца трубку. Счёт так и не был открыт. «Бубукин! Бубукин! Бубукин!» — ударяло мне в перепонку. «В полуфинальном матче в ударе был Валентин Иванов, — радиовещал Озеров (так мне запомнилось), — а теперь ведёт вперед нашу команду Валентин Бубукин!» Ощутимое энергетическое брожение стало происходить в нашем госпитале. Снизу и сверху подбирались гонцы из многих палат, среди них и девушка-мотоциклистка со сдвинутой челюстью, и все они страждали хотя бы на секунду приложить к трубке ухо, пусть и под бинтом, и услышать Париж. И так продолжалось до конца первого тайма. А под конец первого тайма югославы забили нам гол. И могли забить ещё один…
Как давно это было…
320
В перерыве меня лишили права первой ночи, будто аппарат И-1-51-50 стоял не в моём доме на отцовском письменном столе и не моя жена взялась стать транслятором вдохновений Озерова. Я же по требованию масс, пообещавших подежурить при трубке, был отправлен в две палаты на нашем третьем этаже, мужской и женской, с поручением рассказать о событиях первого тайма. В палатах никто не спал.
Доклады мои не вызвали одобрения, особенно в женской палате.
— Играть не умеют дармоеды!
— Родину позорят!
— А кто такой Бубукин? — поинтересовалась юная леди с распоркой на нижней челюсти. — Или Бурбукин.
— Полузащитник, — сказал я. — Крепкий мужик. Моторный.
— Не из «Спартака»?
— Нет, — сказал я. — Из «Локомотива».
— Он лысый! — рассмеялась калека с койки у окна.
— Лысый? — ужаснулась первая вопрошавшая. — Из «Локомотива»!
Открытие до того раздосадовало её, что она повернулась ко мне спиной и натянула на голову одеяло.
— А как там милашка Понедельник? — спросила молодица в ошейнике.
— Какой же Понедельник милашка? — снова рассмеялась больная у окна. — Он же бледная тень нашего несчастного Эдика!
— Понедельника упоминали редко, — на всякий случай сообщил я. — И конечно, жаль, что Эдика на месте Понедельника, то есть на своём месте, сегодня нет.
Я уходил из женской палаты при начавшейся там дискуссии: показательно ли, в назидание другим, или же по делам посажен Эдик, и все ли мужики сволочи…
В нашей палате при моём отчёте и упоминании имени Бубукина сейчас же возникали смешки, это лысый, что ли? Я чуть было не вступил с коллегами в полемику. С точки зрения болельщиков, в ту пору быть лысыми или плешивыми спортсменам как бы не полагалось. А лысый футболист казался будто бы нарушением законов природы. Но с трибун, скажем, «Динамо» определить, лысый ли Бубукин или у него просто редкие волосы, было невозможно. Но привыкли к аттракциону, тем более что Бубукин играл не во всемогущем «Спартаке», а потом и вовсе перешёл в ЦСКА, в конюшню, и при случае принимались освистывать его и кричать: «Лысый»!
Однако в ту ночь (по московскому расписанию) Бубукин ответил злым языкам и свистунам. Уже на первых минутах второго тайма он совершил рывок на двадцать пять метров, нанёс пушечный удар, и набежавший Метревели вмял мяч в ворота. И этот удар Бубукина оказался переломным в игре. Сразу же пошла на ворота югославов атака за атакой…
То есть именно такое вречатление осело в моей памяти. Но может быть, я о чём-то запамятовал, а о чём-то и нафантазировал.
Случалось со мной и такое…
321
Как давно это было…
322
Так вот. Команда наша со счётом 2:1 выигрыла Кубок Европы. Турнир был вскоре признан первым чемпионатом континента, а гол в дополнительное время Кубка забил головой, по мнению палаты битых баб, милашка Понедельник.
Но произошло это не сразу, а во время продолжения радиомоста: челюстно-лицевой госпиталь — Напрудный переулок (там жена следила за репродуктором) — Париж.
Энергетическое брожение во втором тайме и в дополнительное время в госпитале усилилось. Выходило, что весь госпиталь уже не спал. Впрочем, «весь госпиталь» — это, конечно, преувеличение. Но и дежурные люди оживились, перестали вредничать, запретами больных (нынче, надо понимать, футболом) не неволили и разрешили включать карманных форм приёмники. Я же не отходил от уже привычного мне автомата, хотя допускали меня к трубке не часто, и то, когда меня подзывала к телефону жена.
А в момент финального свистка в госпитале случилось празднество. Ещё бы! Чемпионы Европы! Получали, конечно, золото на Олимпийских играх в Мельбурне, но там соревновались «любители». А тут триумф в Париже среди профессионалов. Бесспорное событие! Второе после поездки московского «Динамо» в Великобританию! И оно, естественно, вызвало гордо-радостное состояние натур наших соотечественников. Конечно, степень этой радости не могла сравниться с воодушевлением страны в связи с полётом Гагарина, какому предстояло произойти менее чем через год. Но всё же…
Смешно, но и меня в ту ночь причислили к триумфаторам.
А уж мою жену чуть ли не приравняли к декабристкам.
Почему именно к декабристкам, понять мне в ту ночь было не дано. Потом же возведение её в декабристки я мог оправдать лишь бестолковостью общей радости.
Свет на лестнице и в коридорах был включён. Люди из медперсонала потихоньку и без лишних нравственных предупреждений куда-то удалились. Наверняка в тот час запасы медицинского спирта в нашем лечебном учреждении заметно поубавились. Наиболее смелые барышни, кое-как украсив себя (одна, например, налепила на флюс звёздочку из индийского фильма) и постаравшись соблюсти в нарядах правила приличия, бродили по коридорам в поисках общения и удовольствий. Можно было предположить, что им сейчас не помешали бы и дозы портвейна. Или хотя бы рябины на коньяке. Что уж говорить о мужиках.
У кого-то наверняка имелись тайники (особенно у старожилов или оказавшихся в госпитале не в первый раз) с запасами напитка на чёрный день (а тут случилась белая ночь), но они побоялись предоставить халявщикам свои ценности. Впрочем, два добряка всё же нашлись. И было решено: посылать гонцов!
Ночью! В те годы! В десятках километров от ресторанов в аэропортах!
И ведь предприятие вышло успешным!
Хотя, конечно, я знал, с чужих, правда, слов, как и где можно ночью достать в Москве водку. Или иной напиток крепких воздействий. Знать-то знал, но сам удач не добился бы. Я не из доставал. У меня нет покупательского (в случаях дефицита) обаяния, и я не могу вызвать доверия у подторговывавшего таксиста.
А ушлые люди, повсюду «свои», за сорок минут обеспечили продолжение празднества.
Деньги же для их охотничьего набега были собраны стремительно и с воодушевлением.
Я уже проговорился о том, что и меня в азарте всеобщего волнения произвели вместе с Бубукиным и Понедельником в трумфаторы, а когда узнали, что я знаком с Андреем Петровичем Старостиным, что было, то было, не врал, принялись выпрашивать у меня автографы. «В день великой победы отечественного спорта…» Ну, и так далее.
И я, будто был Бубукин и Понедельник вместе взятые, автографы выписывал, однажды даже в чьём-то паспорте на странице со штампом о семейном положении.
Отделаться от общества словами (вроде бы в испуге: «Я не пью!») я, естественно, не мог, и последним моим автографом перед погружением в сон был: «ваш Бурбукин…» Именно, Бурбукин, и никак иначе…
323
Но вот бинты с меня были сняты, диетическая уже, а не нулевая еда отменена, и я смог с женой отобедать в ресторане «Узбекистан» на Неглинной. Челюсти жевали. Манты, харчо, цыплята табака. Но это так — для ощущений радостей бытия.
Главное же, меня увлекли занятия профессиональные, семейные хлопоты, и только, когда по делам заскочил в нашу библиотеку на седьмом этаже, я вспомнил, что ещё в госпитале пообещал себе полистать все публикации о финале Кубка Европы. Библиотека у нас была хорошая. Годовые подшивки газет пополнялись здесь аккуратно. Полистал, некоторые из них и почитал. И себе удивился. Будто вместо горячих блинов с икрой и топлёным на сковороде маслом мне подали блины из холодильника. Жар госпитальных ночных ощущений улетучился, и осталась лишь без аромата и вкуса информация.
Хотя чему тут было удивляться? Так и должно было быть.
Праздник утихомирился и уплыл в прошлое, в циферки футбольных статистиков.
Но и был ли праздник? Не было ли тогда двух ли трёхчасовое опьянение надеждами? Было, наверное, и оно принесло радость. Но теперь это не имело никакого значения.
Писанины спортивных репортёров разнообразием не отличались. Как, впрочем, и сочностью подробностей и оценок. Да и на аналитические разборы газетам и их авторам времени, по-видимому, не хватило. «На такой-то минуте… на такой-то минуте… блестящий проход по левому краю Славы Метревели…» И прочее. Повторюсь, об уже свершившемся и известном. Более всего строк посвящалось первому нашему забитому голу. Естественно, хвалили Бубукина, имевшего прежде репутацию середняка, не только за прекрасный удар, но и за всю его неожиданно-разумную и старательную игру. Были отсыпаны комплименты и Понедельнику, во время и с толком замкнувшему головой подачу вроде бы Месхи. Причём если удар («кивок») Понедельника был признан «Золотым», то удар Бубукина произвели в «Платиновый».
Золотой Понедельник и Платиновый Бубукин.
Цена и свойства платины тогда были мне неизвестны.
Имел я разговор (на лету, в редакционном коридоре) с Гришей Михалёвым, вернувшимся из Парижа. Почти ничего нового я от него не услышал. Ну да, как будто бы удивил Бубукин. Ну, он-то, Михалёв, давно считал, что Бубукин не только трудяга, но и футболист международного класса. А Понедельник… А что Понедельник? Ну, изящный, ну, по манерам — будто из оперетты, будто Эдвин из «Сильвы». Но везунчик. И висит над ним не то чтобы проклятие, а тень Эдика и народное неодобрение из-за того, что он не Стрельцов, а лишь вынужденная замена всеобщего любимца. Хорошо видит поле, понимает игру, чувствует, где ему быть и где следует подставить мячу голову. Или ногу. А так он — Понедельник…
324
Как давно это было…
325
На следующий год поехал Гагарин. Потом вывезли ракеты с Кубы. А Королёв уже присматривался к Луне. Какие уж тут Бубукины с Понедельниками!
Дальше мои воспоминания пойдут на уровне фантазий, возникших, впрочем, на основе застрявших в памяти реалий тогдашних событий. И конечно, на основе народных преданий о тех же событиях и их персонажах. А известно, что эти предания куда достовернее самых ценных документов.
Так вот, один из наших кораблей, облетавших Луну, сделал первые фотографии тёмной стороны земного спутника. На правах лунопроходцев и открывателей новых территорий принялись давать имена морям и кратерам тёмной стороны. Кратеры, между прочим, были открыты и огромные — в сотни квадратных километров. Среди уполномоченных чиновников, получивших привилегию раздавать имена, нашлись и помнившие о выигрыше Кубка Европы. И одному из кратеров, пусть и крохотному, в 15 га, было даровано имя Бубукина. Тем самым как бы подтверждалось многообразие талантов страны.
Но возникла неловкость. Бубукин, как помните, был признан платиновым, а Понедельник — золотым.
И, естественно, чтобы соблюсти «политик», срочно на карте видимой стороны Луны один из меленьких кратеров был произведён в кратер Понедельника.
У людей свежих возрастов представления о том, кто такие Бубукин с Понедельником, стали смутными, хотя кое-как ещё и теплились. После шагов Армстронга по селенитовой пыли о невидимой стороне Луны начали забывать, на кой хрен она вообще сдалась, и, стало быть, кратера какого-то Бубукина на ней нет. Но фамилия Бубукина прилипла теперь к кратеру Понедельника. Правда, Бубукина и на картах всё чаще называли Бурбукиным, а потом и вовсе преобразовали его в Бурбулиса. Создалось мнение, что Бурбулис — известный литовский баскетболист, и был хорош не только на стадионах, но и в винных отделах магазинов, облегчая общения с продавцами. Для любителей жизнерадостного досуга достаточно было произнести: «Два Куртинайтиса, один Сабонис», сразу же на прилавок выставлялялись две пол-литровые бутылки водки и одна — емкостью и ростом 0,75. «Бурбулисом» же называли четвертинку. Так мне казалось. Но один из моих недавних собеседников стал настаивать на том, что были ещё и «мерзавчики», и к ним приклеилось имя баскетболиста. Я отнёсся к его словам с возмущением.
Но потом стали забывать и литовских баскетболистов, и «мерзавчики», и Бубукина с Понедельником. С каждым новым министром культуры и с каждым новым министром образования культура общества улучшалась и цвела. Народ всё умнеет и всё удачливее решает сканворды. Как-то пришлось вести разговор с девушкой Соней из светской семьи (рвётся в бакалавры в одном из модных, с приглядом на дальние страны, вузов Москвы). Она была красива («прямо — Модель!»), при том скромна (носит очки) и участвовала в ТВ-передачах «Безумно красивые». Там на вопрос «В каких отношениях находились Крупская и В. Ульянов?» она ответила: «Они были любовниками, но она изменила ему, и он её убил». Основателем Москвы, по её мнению, был Иван Грозный. Гольфстрим, не без оснований, она отнесла к экстремальным видам гольфа. Я был подавлен её интеллектом и красотой, но всё же попытался спросить: «Знает ли она что-либо о Бурбулисе?» «А как же! — решительно заявила Соня. — Это который ездит на зубрах и не пьёт по понедельникам».
Мог ли я что-либо оспорить в словах мудрой Сони?
326
Вот такая чушь образовалась (и держалась) в моём сознании. Так бы и относился к ней, как к чуши, если бы не узнал, что подсобному рабочему Куропёлкину выдан сертификат (со всеми печатями) на владение участком с недрами на берегу кратера Бубукина.
327
Куропёлкин посчитал нужным вызвать на разговор Селиванова.
Куропёлкин был строг и серьёзен, да и Селиванов, понял он, не был расположен к легкомыслиям.
— Итак, Андрей Алексеевич, — начал Куропёлкин, — вы в прошлый раз объявили мне, что готовится новое Пробивание и мне в нём уготована важная работа.
— Было такое, — согласился Селиванов. — Но вы, напомню вам, в содействии нам, то есть Отечеству, отказали. Или хотя бы попытались отказать.
— Какие сроки определены новому Пробиванию? — спросил Куропёлкин.
— Вы всё же решили участвовать в Пробивании?! — нескрываемо обрадовался Селиванов.
— Я этого не сказал, — помолчав, произнёс Куропёлкин.
— Тогда к чему этот разговор?
— Мне нужны уточнения, — сказал Куропёлкин.
— Какие?
— Их целый чемодан, — сказал Куропёлкин и сразу сообразил, что был намерен произнести совсем иное слово, но «чемодан» взяло и выпрыгнуло из него безо всякой смысловой нужды. «Проехали», — указал себе Куропёлкин. — Так вот, — продолжил он. — Основательны ли и правомочны ли претензии гражданки Мезенцевой, а мы с ней никак не связаны, не венчаны и не расписаны, основательны ли её претензии на дарованные мне владения в пределах Солнечной системы?
— Основательны, — сказал Селиванов. — И юристы это без труда обоснуют.
— Ну, насчёт юристов, это понятно, — сказал Куропёлкин. — Но ведь она мне никто, так, для совместного проживания…
— Она ждёт от вас ребёнка, — прокурором произнёс Селиванов.
— Ребёнка… От меня… — хмыкнул Куропёлкин.
И замолчал.
«Бог ты мой! — пришло ему в голову. — О чём я думаю? О чём пекусь? О несуществующих запланетных владениях? Ну ладно, забили бы мне мозги какими-нибудь двумя мелкими островами в Ионическом море, я бы задумался на минуту, но сейчас же бы и отверг этот бред. А тут волнуюсь из-за потери кратера на Луне. Будто во мне пробудился жадный волокушкинский жлоб, обеспокоенный опасностью потерять завещанный тёткой сарай в безлюдной деревне километрах в ста двадцати от Волокушки в бездорожной глуши! Стыдно! Дожил!» Да, что значит — пробудился? Видимо, он в нём шевелился всегда и был сутью его натуры! Надо понимать, что внимательные и заинтересованные в нём люди распознали и оценили особенности его сущности, а потому и позволяют себе шантажировать его с помощью пустышек. И главное, он и впрямь не желает терять якобы дарованное ему.
— Хорошо, — сказал Куропёлкин. — Чтобы не оставалось у вас иллюзий, я разорву или сожгу ваши сертификаты. Мне они не нужны.
— От этого ничего не изменится! — рассмеялся Селиванов.
— Если я откажусь от предложенной мне работы, — сказал Куропёлкин, — вы и так отберёте у меня эти ничем не обеспеченные сертификаты.
— Вы ведь можете догадаться, какие каверзы способна придумать и учинить мать вашего ребёнка Людмила Афанасьевна Мезенцева. От них вы взвоете и посчитаете, что вам всё же лучше было бежать от неё по указанному маршруту.
— Кстати, — сказал Куропёлкин, — в том маршруте не упомянут кратер Бубукина.
— Он пока недоступен, — сказал Селиванов.
— А чем он интересен? — спросил Куропёлкин.
— Там много платины, — сказал Селиванов. — Там её за полчаса, условно говоря, можно добыть больше, чем на всех наших месторождениях за год. И ещё много такого, что на Земле и не водится. Но вам об этом знать сейчас не положено.
— Вон оно что! — сказал Куропёлкин.
И тут же волокушкинский жлоб в нём не то чтобы снова зашевелился, а зарычал: «Мой! Мой тёткин сарай! Не отдам!»
— Ах вот оно что! — повторил Куропёлкин.
328
— Значит, вы желаете подготовить меня к кратеру Бубукина? — поинтересовался Куропёлкин.
— Не уполномочен отвечать на ваш интерес, — сказал Селиванов и будто бы опечаленно от того, что не уполномочен. — В дальние расчёты я не допущен. Не тот чин. Но меня обрадовало оживление вашего интереса к проекту профессора Бавыкина.
— Ваше суждение спорное, — сказал Куропёлкин.
— По моему вы, Евгений Макарович, пытаетесь что-то выторговать у Отечества, — сказал Селиванов, — что-то выгодное вам. Этого я от вас не ожидал.
— Не у Отечества, — возразил Куропёлкин. — У людей, с которыми я по дурости подписал контракт и стал у них подсобным рабочим.
— Надо устроить встречу с господином Трескучим?
— Упаси Боже! — воскликнул Куропёлкин.
329
— Значит, с Ниной Аркадьевной, — сообразил Селиванов. — Это труднее. Но постараюсь устроить. И — в ближайшие дни.
— Хорошо, — сказал Куропёлкин.
— Значит, вы не возражаете? — спросил Селиванов.
— Не только не возражаю, — горячо произнёс Куропёлкин, — но и желаю этой встречи!
330
Однако желание Куропёлкина в ближайшие дни исполнено не было.
В волнениях прошли ожидания наиболее важной для него теперь встречи. А была порой видна в оконце чердака Людмила Афанасьевна Мезенцева, естественно, ей были рекомендованы прогулки на свежем воздухе, иногда же рядом с ней возникал господин Трескучий, прежде грубиян и крикун, ныне же он, изящный брюнет, галантным кавалером сопровождал Баборыбу (для Куропёлкина — по-прежнему Баборыбу), на чёрной груди его куртки удивлял размером медальон (?) либо какой-то ведомственный почётный знак на здоровенной, серебряной (или платиновой?) цепи. С Лосей он был нежен, а однажды, на глазах Куропёлкина, приложил ухо к её животу, вслушиваясь в шалости ребёнка, остался доволен и погладил Баборыбу по драгоценному животу (для Куропёлкина — по брюху).
При этом парочка взглянула на оконце избушки Куропёлкина, но Куропёлкин поспешил от оконца отодвинуться.
То есть от оконца отскочил.
«А ведь она желает ко мне подобраться, — подумал Куропёлкин. — Возможно, чего-то испугалась или что-то пытается упредить…»
Ну нет. Обойдётся!
От скуки следовало бы заняться чтением. Но читать не получалось, становилось ещё скучнее. Был возвращён на полку китайский средневековый роман с цветущей веткой на обложке.
Заглядывал Куропёлкин в Большой Энциклопедический словарь. В частности, его интересовали два слова «Бубукин» и «Платина». Сообщать что-либо о Бубукине редакция словаря не посчитала нужным. Как, впрочем, и о Понедельнике с Бурбулисом. Платине повезло больше. В словаре ей уделили целый абзац. Но ничего особенно интересного Куропёлкин о платине не узнал. Ну, химический элемент, ну, минерал, ну, используют там и там, уважают ювелиры. Ну и ещё случаются самородки платины.
Кстати, рядом с этим абзацем разместилась и информация о футболисте. Правда, французском. Платини.
Но это так. Мелочь.
«Надо понимать, — предположил Куропёлкин, — что весь кратер Бубукина сложен из платины и в особенности того, чего на Земле не водится, но что на Земле было бы необходимо и стоит дороже золота, платины и серебра».
Ну вот, пускай садятся на лопаты и на отбойные молотки и летят на Луну те, для кого в кратере Бубукина улеглись клады.
Между прочим, Куропёлкин дважды брал в руки Башмак и будто бы ждал от него подсказок. Но Башмак не шипел, не шуршал и тем более не звенел и не разговаривал.
В Шалаш Куропёлкин не спускался. Брезговал. А может, опасался скандалов с Баборыбой.
Пропитание ему по-прежнему доставляла горничная Дуняша.
Был случай, когда Дуняша увидеда Куропёлкина с Башмаком в руке, он как раз хотел услышать от Башмака слова о кратере Бубукина, если есть такой, и отчего ему, Куропёлкину, задуряют мозги невидимой стороной Луны, будто и туда были намерены теперь же отправлять экспедицию. Но засмущался, понял, что Дуняша взволновалась, вот-вот разревётся. Не разревелась, сдержала себя.
— Ничем не могу тебя порадовать, — сказал Куропёлкин. — Башмак молчит. А и мне необходимо узнать об условиях дальнейшей моей жизни.
Коряво сказал. Мог бы отнестись к Дуняше нежнее. Ну, не нежнее. Нежность его Дуняше не была нужна. Но хотя бы разумнее. Хотя бы с заботой старшего брата.
— Тебя заставят участвовать в новом Пробивании, — сказала Дуняша.
— Ты так решила или я так решил? — спросил Куропёлкин.
— Не я и не ты, — сказала Дуняша.
— Решать-то всё же мне, — сказал Куропёлкин.
— Ты, Евгений Макарович, пребываешь в наивных фантазиях и ждёшь появления госпожи Звонковой неизвестно зачем…
— Мне известно зачем, — сказал Куропёлкин.
— Глупый ты человек, Куропёлкин, — сказала Дуняша. — Мне тебя жалко.
— Ну ладно, — сказал Куропёлкин. — Что тебе из нового Пробивания привезти? Мешок бриллиантов? Может быть, даже обработанных?
— Вряд ли ты вообще кому-нибудь что-либо сможешь привезти, — печально произнесла Дуняша.
— Пусть будет так, — мрачно сказал Куропёлкин. — Хоть тогда обнаружится в моей жизни какой-то смысл.
Замолчали.
— Что ты закажешь на ужин? — спросила Дуняша.
— Нет аппетита, — сказал Куропёлкин. — И не будет.
— Ты желаешь ещё что-то узнать у меня? — сказала Дуняша.
— Ничего не желаю узнавать, — проворчал Куропёлкин. — Подожду.
331
Сам понимал, что ожидания его ни к чему хорошему не приведут.
И всё же на что-то надеялся.
Ну, на капельку чего-то.
Однажды не выдержал скуки или томления ожиданий и связался с Селивановым. Вопросы его Селиванова удивили. Показалось Куропёлкину даже, что его куратор растерялся. Первый вопрос был о флоридском попечителе Куропёлкина Барри, совсем недавно внезапно оказавшемся его соседом в здешнем автобусе. Куропёлкину некогда было обещано объяснить, кто такой Барри и чего от него следует ожидать. Селиванов будто бы стал копаться в бумагах, но, видимо, понял, что Куропёлкин не поверит в его поиски. Сказал, что это не телефонный разговор, а почему Барри оказался в здешнем автобусе и куда ехал, он не имеет права объявлять.
— Ещё что? — спросил Селиванов.
— Прочитано ли письмо из бутылки великоустюгского рома, отловленной мною в Мексиканском заливе?
— Какое письмо? — удивился Селиванов. — Какой бутылки?
— Вы забыли, — сказал Куропёлкин. — А ведь обещали…
— Я ничего не забываю! — рассердился Селиванов.
— Однако вы сейчас сконфужены и раздражены, — сказал Куропёлкин.
— Вы должны думать теперь о другом! — заявил Селиванов. Будто приказал. Будто был Куропёлкину начальник.
— Я и думаю о другом, — сказал Куропёлкин. — А в вас я разочарован.
— Это ваше дело.
На этом разговор был Селивановым прекращён.
332
Лишь через неделю в усадьбе началась заметная и из оконца избушки Куропёлкина суета.
Можно было предположить, да и инстинкты подсказывали, что в усадьбу вернулась или хотя бы ненадолго заехала хозяйка.
Глядеть на холопскую суету (даже при том, что увидеть, как вписывается в неё брюнет Трескучий, было бы забавно) Куропёлкин себе запретил и удалился на первый этаж в горницу с телевизором и книжкой полкой.
«Ба! — заметил Куропёлкин. — Книжных полок-то теперь две! И на новой уже впритирку расставлены книги». Но подойти к полке и рассмотреть книги не пожелал.
Утром Дуняша принесла обидную для Куропёлкина манную кашу (был и стакан какао из подкрашенного порошка).
— Я разжалован? — спросил Куропёлкин.
— Из кого в кого? — поинтересовалась Дуняша.
— Из поедателя овсянки в малолетнего едока из пионерского лагеря, — сказал Куропёлкин. — Трескучий?
— В каком смысле?
— Меню составлял Трескучий?
— Трескучему сейчас не до составлений меню, у него нынче доклады и отчёты Нине Аркадьевне.
— Откуда она прибыла? — спросил Куропёлкин.
— Поинтересуйся у неё сам, — сказала Дуняша. — Похоже, из многих стран.
— Ей не до меня… — вздохнул Куропёлкин.
— Ну, ты, Куропёлкин, даёшь! — грустно произнесла Дуняша. — Мне бы посмеяться над тобой. А не получится.
333
И тут дверь в прихожую избушки была шумно кем-то нетерпеливым открыта, и в комнату Куропёлкина вошла Нина Аркадьевна Звонкова. То ли стремительно. То ли деловито. Горничную она, похоже, не заметила. Куропёлкин растерялся. Не явилась ли она отдать какие-либо невыполнимые распоряжения подсобному рабочему? Или же высказать претензии подсобному бездельнику. Во всяком случае деловой костюм и серьёзное выражение глаз госпожи Звонковой этому предположению Куропёлкина соответствовали.
У Дуняши, скорее всего, возникли иные мысли.
— Нина Аркадьевна, я вам нужна? — спросила Дуняша.
— Нет.
И Дуняша исчезла.
334
А работодательница приблизилась к подсобному рабочему.
И не просто приблизилась, а будто бросилась к приятному ей человеку. Руки положила на его плечи, глаза её стали ласковыми, произнесла в волнении:
— Ну, здраствуй, Евгений Макарович! Я по тебе соскучилась!
Куропёлкин шевельнуться не смог.
Звонкова же притянула Куропёлкина к себе и поцеловала его в губы.
И тут Нина Аркадьевна, похоже, засмущалась. Губы Куропёлкина встретили её губы холодно. То есть никак не ответили её порыву. Просто будто вытерпели прикосновение её губ вынужденно. И руки его провисли, словно в них прекратилось движение жизненных соков, и они не могли быть протянуты к телу женщины.
— Женя, я тебе противна? — спросила Нина Аркадьевна.
— Я растерялся… Я не ожидал… Вы мне вовсе не противны… — пробормотал Куропёлкин.
— Женя, ты предлагаешь на «вы»? — опечалилась, как будто бы, Звонкова.
— Я не предлагаю… Как скажете… То есть как скажешь…
Долго молчали. Куропёлкин и впрямь был растерян. Госпожа Звонкова оставалась для него сейчас госпожой Звонковой, и он никак не мог истребить в себе нынешнее к ней отношение. Хотя во всех его фантазиях последних дней и ночей она была простой девушкой по имени Нинон. Помимо всего прочего Куропёлкин заробел. А ведь чуть ли не требовал у Селиванова свидания с хозяйкой усадьбы. И был смел, был дерзок и ощущал себя управителем ситуации. «А не струсил ли я?» — думал теперь Куропёлкин.
А что Нина Аркадьевна Звонкова? Явно она ждала более горячего и более приятного для неё разрешения своего прихода к Куропёлкину. Её сейчас, похоже, била нервная дрожь.
— Евгений Макарович, — сказала Звонкова, — давай присядем и объяснимся. Согласен?
Присели.
— Отчего такой холод? — спросила Звонкова. — И неприятие меня?
— Мне во всё это не верится… — сумел выговорить Куропёлкин. — Будто я нахожусь внутри нереальности. Или вблизи обречённого сроком и предопределением судьбы Миража.
«Опять надутый пафос!» — отругал себя Куропёлкин.
— Ты мне не веришь… — печально произнесла Звонкова. — Ты не веришь в мою искренность…
— Хотел бы поверить… — тихо сказад Куропёлкин.
— Ты не можешь простить Люк?
— Я не могу забыть и о том, что произошло прежде, чем ты повелела отправить меня в Люк. И это «прежде» было для меня замечательно.
— И я не могу забыть всё, что случилось той ночью… А Люком я наказала не только тебя (и напрасно!). Но и себя. И на всю жизнь! И прошу: прости меня за тогдашнюю истерику. Но ты молчишь…
— Ты не нуждаешься в моём прощении, — сказал Куропёлкин. — Я и сам был нехорош тогда. Я забыл, кто я и кто ты.
— Ты был хорош тогда, — улыбнулась Звонкова. — Это я забыла, что я женщина. А ты мне напомнил о том, что быть женщиной прекрасно! И спасибо тебе за это.
335
Теперь молчали долго.
Куропёлкин ощущал энергию желания женщины, но на поступок был сейчас не способен. «Я трус! — твердил себе Куропёлкин. — Я трус! Но я боюсь обмануться снова».
Словно бы поняв затруднения и робость Куропёлкина, Звонкова встала, отошла от стола, но потом вернулась к Куропёлкину с книгами и альбомом.
— В прошлый раз, — сказала Звонкова, — я сообщила тебе, что нашу с тобой работу о молодых поэтах опубликовали. Вот смотри. Это научное издание, академическое. И вот наше с тобой эссе. «Поэзия молодых нулевого десятилетия». И подписи: Н. Звонкова и Е. Куропёлкин. Сказали: тянет на кандидатскую.
— И что? — сказал Куропёлкин.
— А то, что я создала издательство. Сомневалась, надо ли. Подсчитали: оно будет убыточным. Но молодым надо помогать. А потом придут и коммерческие удачи.
— К чему ты это говоришь? — спросил Куропёлкин.
— Чтоб ты знал, — сказал Звонкова. — Чтоб ты знал, что ты для меня способен стать не только подсобным рабочим.
— И кем же? — спросил Куропёлкин.
— Приятелем! — воскликнула Звонкова. — Помощником в серьёзных делах!..
И сейчас же Звонкова замолчала. Будто испугалась чего-то. Будто не смогла вымолвить слова, какие собралась вымолвить. Либо заробела и постеснялась произнести правду. Либо посчитала, что выговорить её и вовсе не следует.
И всё же решилась.
— Ты мне нужен… Ты мне дорог… — сказала Звонкова. — Мне без тебя бывает плохо… У меня дурной характер и бессмысленные привычки… Но в своих бизнес-поездках я часто скучаю о тебе… И думаю, что на кой мне эти деловые затеи?.. Я женщина…
— Спасибо тебе за эти слова и чувства, — глухо произнёс Куропёлкин. — И я всё время думаю о тебе. Скучаю по тебе. Но хорошо было бы ощущать с тобой на равных. А потому прошу тебя: освободи меня от оков контракта. Без любых моих условий… И тогда я буду тебе истинно друг и помощник.
336
Нина Аркадьевна замерла в изумлении.
— Всему свое время, милый мой Женечка, — поразмыслив, сказала Звонкова.
— Я, конечно, нагл сейчас, — сказал Куропёлкин, — а в прошлом поступил безрассудно, авантюрно по сути, создав для себя фальшивую ситуацию, но теперь ты можешь назвать мне точно, когда же наступит это «Своё Время»?
— А когда ты совершишь деяние, необходимое многим.
— То есть соглашусь на так называемое новое Пробивание.
— Можно сказать и так…
— Стало быть, у вас в голове прежде всего «возможная выгода» — при использовании дурака.
337
— Женечка! Ты упрощаешь! — слёзы появились под глазами Нины Аркадьевны.
— Замечательным получилось объяснение у нас с вами, Нина Аркадьевна, — сказал Куропёлкин.
— Ты упрощаешь, Женечка!
— Ничего себе упрощаю! — воскликнул Куропёлкин. — Исполню ли я требования нового проекта Бавыкина или расплавлюсь в магмах, для вас всё равно случится выгода. Может, вы ещё ожидаете, что я для вас добуду вёдра с алмазами и изумрудами из кратера Бубукина? Так ожидайте!
— Какого ещё кратера Бубукина? — удивилась Звонкова.
— Вам объяснят, — сказал Куропёлкин. — Или уже объяснили. И не надо вранья…
— Женечка, какого вранья?..
— Всё, — решительно заявил Куропёлкин. — Ни о какой любви говорить не будем. Всякие общения с вами, Нина Аркадьевна, я прекращаю. Вас для меня нет. Готов к казематам, каторжным работам и любым репрессиям.
— Вас ждёт Баборыба, не лицемерьте, и государственный Шалаш.
— Баборыба для меня — резиновая кукла, и у неё есть друг, господин Трескучий! — Куропёлкин уже кричал. И был как баба базарная.
338
Утром Куропёлкин связался с Селивановым и сообщил ему, что согласен участвовать в проекте.
— Я и не сомневался, что так оно и будет.
— Когда приступать? — спросил Куропёлкин.
— Вас пригласят на необходимую подготовку в приближённых к предполётным условиям занятиях и обследованиях, по всей вероятности через месяц.
— А как же?..
— Никаких посягательств на уровень вашего проживания, даже и при соблюдениях контрактов, не произойдёт, — сказал Селиванов. — Могут, конечно, возникнуть сложности с Шалашом, однако вряд ли они вас расстроят. А вот Избушка, надеюсь, сломана не будет.
— Вы надеетесь… — вздохнул Куропёлкин.
— Во всяком случае, вас не тронут, — пообещал Селиванов. — Так что, живите, отдыхайте, набирайтесь сил. И если хотите, пейте пиво. Но можете перейти и на наши тюбики.
339
— Ну, спасибо, — сказал Куропёлкин.
Проблема питания (а возможно, и Избушки) прояснилась через полчаса. Оскорбителя хозяйки усадьбы Куропёлкина посетила горничная Дуняша. И не с пустыми руками.
— Стало быть, меня не сняли с довольствия… — произнёс в воздух Куропёлкин. — Боюсь только огорчить вашу хозяйку и господина Трескучего. Очень скоро расплачиваться за бытовые услуги я не буду способен.
— Как понимать твои слова? — спросила Дуняша.
— Меня просто не будет, — сказал Куропёлкин.
— Передать это Нине Аркадьевне?
— Она и так должна была всё понять, — сказал Куропёлкин.
— Ты её обидел. Она плачет.
— Ничего, — сказал Куропёлкин. — Слёзы высохнут. У меня глаза сухие. А она получит свои выгоды.
340
Куропёлкин сел к столу, пододвинул к себе тарелку с овсяной кашей, но есть не смог, затошнило.
— Всё, Дуняша, — сказал Куропёлкин. — Большое спасибо за доброе ко мне отношение. Более утруждать своими заказами и капризами кухню Нины Аркадьевны не стану. И лишние затраты на меня испарятся.
341
После недоумений горничной и её ухода Куропёлкин связался с Селивановым и сообщил ему, что готов перейти на тюбики.
342
— Прекрасно! — обрадовался Селиванов.
— При этом я не забыл о вашем пожелании пить пиво и хотел бы иметь добавку к вашим тюбикам.
Селиванов, похоже, задумался.
— Можем предоставить вам и концентрат, жидкий, взамен баночного и бутылочного.
— Не пойдёт…
— Почему?
— В потреблении пива важен процесс с размышлениями, а не глоток капли.
— Понял, — сказал Селиванов. — Не волнуйтесь, отдыхайте, ждите.
— И ещё один вопрос. Для вас не новый. Извините за назойливость, — сказал Куропёлкин. — Кто же всё-таки наш с вами знакомый Барри и чего от него можно ожидать?
— Не могу вас просветить, — недовольно произнёс Селиванов. — Но если он окажется рядом с вами, следует быть внимательным и осторожным.
— Угу… — пробормотал Куропёлкин.
О письме из бутылки и спрашивать было без толку.
«Подурачился! — подумал Куропёлкин. — Вроде бы права у Селиванова кое-какие отбил. Вроде бы пиво себе оговорил. А на кой мне теперь это пиво! Как жила во мне тоска, так она во мне и осталась…» И не то чтобы осталась, а и загустела, и выбраться из неё не было возможности. И вроде бы принял решение. И оно было признано им самим единственно верным. Хотя понимал, что было в нём нечто от детской конфетной сладости. «Вот он погиб. И нам всем жалко его, и стыдно…»
Нет, уверил себя Куропёлкин, принимал решение не разочарованно-обиженный мальчик — мечтатель, а взрослый мужик, и никакие чужие сожаления ему не были нужны.
И всё же… И всё же…
343
И всё же он думал о Нине Аркадьевне Звонковой…
То есть скорее думал не отдельно о Нине Аркадьевне Звонковой (иногда звучало в нём — Нинон!), он думал и о себе и о своих отношениях с госпожой Звонковой. Понятие «он был титулярный советник, она генеральская дочь» Куропёлкин отринул. Она была — женщина, он был — мужик. Он был ей не безразличен, она его хотела, может быть, даже со дней «Прапорщиков в грибных местах». Куропёлкин не мог этого не ощущать. И что же делать теперь? В месяцы жизни, какие он себе отпустил, он всё равно был приговорён тосковать по женщине, погибель его для которой оказалась бы скорее всего недолгой печалью. А потом эту печаль истребили бы в её сознании платиновые рудники в кратере Бубукина. Или хотя бы — для начала — сумки с изумрудами из вулкана Шивелуч (об изумрудах из Шивелуча Куропёлкин читал в какой-то книге.)
Но что-то останавливало (или сопротивлялось) в рассуждениях и оценках Куропёлкина. «Неужели я и впрямь в неё влюбился? — думал Куропёлкин. — А потому и ищу ей оправдания? У неё свои правила существования, а я намерен заменить их своими смыслами. Но наши смыслы и правила расходятся. Я, выходит, её люблю и готов её принять со всеми её особенностями. А она всё равно будет соответствовать своим правилам и искать даже в любви выгоды. Но коли так, я, стало быть, сомневаюсь, однако при сомнениях нет любви. Значит, и я её не люблю». Потому как в любви есть только совпадение натур и тел и — никаких сомнений.
А она лицемерна и лжива.
Но, похоже, и с лицемерной и лживой женщиной Куропёлкин согласился бы существовать.
Если бы…
Если бы познал в своей безалаберной жизни, что такое любовь.
344
А теперь хотел познать…
«Сколько пустых слов в пустых мыслях!» — отругал себя Куропёлкин.
Но мысли о женщине от Куропёлкина не удалялись, а иногда и вынуждали его подходить к окнам, и на первом этаже, и на чердаке, и поглядывать на всё ещё зелёные просторы усадьбы. А вдруг…
А вдруг на тропках среди ухоженного (через сто пятьдесят лет будет как в Англии) газона задумает прогуляться хозяйка здешних мест или даже она явится сюда, хотя бы и на две минуты, всадницей будто бы случайно бросит взгляд на окна Избушки.
Не явилась. Не взглянула.
Стало быть, он, Куропёлкин, этого заслуживал.
Зато угощали Куропёлкина своими неспешными гуляниями Баборыба, Людмила Афанасьевна Мезенцева, и жгучий брюнет Трескучий.
У кавалера-брюнета вроде бы начали отрастать усы.
И возможно, ему приходилось их красить.
345
Нельзя сказать, что их хождения вблизи Избушки были приятны Куропёлкину.
Во-первых, понимал Куропёлкин, куратор Селиванов не исполнил его просьбу, а фактически требование, удалить из Шалаша и с глаз Куропёлкина подальше (блажь испарилась!) Баборыбу. Или не захотел, или не смог осилить Трескучего и, может быть, и госпожу Звонкову.
Неужели Трескучий был более влиятелен, чем Селиванов и его службы?
Сейчас же в сознание Куропёлкина ворвалось будто бы неожиданное для него соображение.
«Блажь испарилась…»
Чья блажь? Именно его Куропёлкина. Блажь. Каприз его куражного состояния! Вместе с этим осуществлённым капризом испарился интерес его к Баборыбе. Ату её! Не жестоко ли? Людмила Афанасьевна Мезенцева прекрасно знала, на что шла, а теперь и вовсе готова была стать столбовой дворянкой. Конечно, в своей дури и дерзости Куропёлкин мог на мгновения вообразить, что стараниями команды профессора Удочкина будет выловлена именно Баборыба (являлись же ему баборыбы в карибских водах, где он капитанствовал на плавучей скамье «Нинон»). Лопух он и есть лопух!
Ну ладно, Баборыба, эта дама, если и сама в чём-то доставила неприятности себе, а из-за блажи Куропёлкина и своему телу, то всё равно пряники, намеченные ею, выбьет, среди прочего, может, яхту и даже один из Ионических островов. Что её жалеть? Надо было жалеть себя, Куропёлкина. Сам нарвался.
Но вот Нина Аркадьевна Звонкова. В честь которой пучком лунных лучей было названо плавательное средство «Нинон».
О ней-то в пору требований своего куража и взрыва блажи («Подавайте мне Баборыбу для совместного проживания!») он не думал. Не задумывался, приятно ли это ей будет или неприятно. А ему давали понять, что, да, будет неприятно. Однако тогда ему было наплевать на чувства Нины Аркадьевны. Ей-то что? Ей-то какой интерес к затеям изверга и насильника? Что ей-то досадовать?
Теперь Куропёлкин задумался.
По всей вероятности, были и интерес, и досады. Не исключено, что была и боль…
И что?
А ничего.
Возможно, он в чём-то и виноват. Но вставать теперь перед Ниной Аркадьевной на колени и рвать при этом рубаху на груди вышло бы полным обалдуйством.
Нина Аркадьевна рассмеялась бы.
Хуже того, он поставил бы её в глупейшее положение. Ей стыдно стало бы из-за необходимости общения с подсобным рабочим.
Следовало заканчивать копаться в степенях своей вины и своих чувств. И не только в случае с госпожой Звонковой.
А то и впрямь: моряк с печки бряк.
Принял решение, и не копошись!
346
И Куропёлкин перестал копошиться.
Однако прожил пять недель кое-как. В одиночестве и в скуке тоскливого ожидания. Вытерпел. И никакие иные выходы из созданной им же самим жизненной ситуации в себя не допускал. Мысли о них отгонял от себя.
И всё же нашёл занятия, способные дать ему если не развлечения, то хотя бы отвлечения от сумрачных мыслей и поганых видений.
То есть что значит нашёл? Просто тело его вспомнило о том, что Е.М. Куропёлкин — кандидат в мастера спорта по акробатике, и хватит Евгению Макаровичу бездельничать, посиживая на стульях и останкинской скамье, и валяться в пустых раздумьях на лежанке.
Ну, и пошло…
И через месяц Куропёлкин был тем самым Куропёлкиным, какой некогда во Владике на флотских соревнованиях стоял Нижним в рекордной пирамиде. Занятиям его с охотой посодействовал Селиванов. Именно его усердиями были добыты для Куропёлкина гимнастические снаряды, и серьёзные, и мелкие вроде гантелей и гирь. Поначалу Селиванов был доволен. Потом стал нервничать. Советовал не перестараться и не доводить дело до травм. Куропёлкин его не слушал.
— Евгений Макарович! — возмущался Селиванов. — Вы словно стараетесь навредить себе! Вы злитесь! Злость не нужна сейчас ни вам, ни делу!
А Куропёлкин и впрямь упражнялся теперь со злостью. Или даже со злобой. На самого себя. Но соображал, что калечить себя ему невыгодно. И постарался сдерживать свои оздобления.
— Успокойтесь, — сказал он Селиванову, — попадать в ваши госпитали и санатории я не собираюсь.
И более Селиванова не раздражал.
347
Обещанные тюбики для поддержания сил Куропёлкина приносил порученец Анатоль или, по собственной же аттестации, креативный топ-менеджер. Склонный к болтовне, теперь он больше помалкивад, а на Куропёлкина взглядывал настороженно или даже испуганно, будто имел дело (был вынужден) с приговорённым к пожизненному заключению. Лишь однажды Анатоль пробормотал (к чему бы вдруг?): «Да, какие метаморфозы происходят с нашей милой Баборыбой…», но, не дождавшись ответных слов (или вопросов) Куропёлкина, притих. Изменений форм и линий Баборыбы из своих окошек Куропёлкин пока не наблюдал, а о прочих её метаморфозах знать не желал.
Убираться в Избушке по-прежнему приходила горничная Дуняша.
Общение их выходило неловким. Куропёлкин опасался каких-либо вопросов Дуняши. Или даже её ехидств. А Дуняша, скоро понял Куропёлкин, старалась не раздражать его (и тем самым привлекать его внимание) громкими или, скажем, скрипуче-скребущими звуками. И оба они молчали. Но ради чего-то Дуняша сюда приходила. Не ради лишь протирки мокрой тряпкой полов или удаления пыли, какой в Избушке в принципе не было?
Это уж точно.
Проще всего, если бы Дуняша спросила, звонил ли Башмак и нет ли новостей от Бавыкина.
Не звонил, новостей нет.
И всё же Дуняша не выдержала и произнесла:
— Вот ты, Куропёлкин, на турнике кувыркаешься, может, дурью маешься, а Нина Аркадьевна страдает…
— Не печалься о хозяйке! — сухо сказал Кропёлкин. — Мы с ней находимся в разных мирах.
Позже подумал: «Или в разных формах нашего мира. Она — в его солнечно-блистающем шаре. А я — уткнувшись рожей в угол фибрового чемодана».
348
Наконец Куропёлкин услышал от Селиванова:
— Евгений Макарович, вы готовы к действию?
— Готов, — буркнул Куропёлкин.
— Ну и замечательно, — сказал Селиванов. — Завтра мы вас заберём.
Не сразу, но всё же Куропёлкин нажал на деревянный гвоздь Башмака.
— Сергей Ильич, — сказал Куропёлкин, — завтра меня забирают.
— Вы всё же согласились… — задумался Бавыкин.
— Так вышло, — вздохнул Куропёлкин. — Житейские обстоятельства.
— Жалко, — сказал Бавыкин. — Но что поделаешь… Ваш выбор…
— Да, мой! — твёрдо и будто с вызовом выпалил Куропёлкин.
— У вас, Евгения Макарович, нужда в каких-либо советах? Или рекомендациях?
— Да, — сказал Куропёлкин.
— Повторюсь. Никаких скафандров и новейших изобретений. Из металлов — лишь мелочи.
— Рабочие комбинезоны возможны?
— Возможны. Бельё простое. Возможна тельняшка. Возможен танковый шлем. Но лучше — меховая ушанка, пушистая, с опущенными ушами. Очки… В крайнем случае — очки байкера. Хотя важно было бы обойтись без стекол. Есть возможность снабдить вас накладными и раздвижными ресницами. А всё остальное сами определяйте. Вы человек разумный.
Продолжать разговор Бавыкин не пожелал.
349
На другой день Куропёлкина, действительно, забрали.
Что значит — забрали? Ну, не под белы же руки подхватили и поволокли. Естественно, его транспортировали с уважением и комфортом. Транспортировали Куропёлкина в места ему уже известные. Некогда открывшиеся ему якобы кабинетом стоматолога. То есть он был доставлен в исследовательско-подготовительный Центр Геонавтов, так ему теперь объявили. «Пробивателей, что ли?» — спросил Куропёлкин. «Ну, в обиходе, — деликатно объяснили ему, — употребимо и „Пробиватели“, но по-научному приличнее всё же — Геонавты».
На вопрос Куропёлкина, отчего вдруг выделена какая-то новая профессия, Куропёлкину терпеливо прочитали лекцию. Космонавты и астронавты — это понятно. Акванавты — после Кусто, аргонавты — тоже. «И алконавты…» — вспомнилось Куропёлкину. А геонавтов вовсе нет. Пока. Вовнутрь Земли пробивались лишь буровые установки. И всего-то на несколько километров. Вы совершили первый шаг. Сейчас вы человек для общества как бы секретный («Железная Маска!» — подбодрил себя Куропёлкин) из-за известных обстоятельств и неприятных запахов, но рано или поздно ваше имя откроют и обнародуют, как первого Пробивателя, то есть именно Геонавта.
— Спасибо за предвидение, — сказал Куропёлкин. — Но оно меня не слишком обрадовало.
— Однако вы согласились подтвердить свой… своё достижение…
— Согласился, — сказал Куропёлкин. — Но без особой радости. Геонавт ли я, Пробиватель ли, подсобный ли рабочий госпожи Звонковой — всё едино…
— Ваше безразличие нас настораживает…
— Моё безразличие или моё спокойствие исключает пафос. Полёты мыльных пузырей и клубничные кисели — в душе, — сказал Куропёлкин. — В них у меня нет нужды. Я принял решение, и ничто не сдвинет меня к его отмене.
— Примем к сведению, — сказали Куропёлкину.
— Ну, и всё, — сказал Куропёлкин. — Время не тратьте, берите меня в оборот.
350
Послушались Куропёлкина. Взяли его в Оборот.
Куропёлкин терпел (многие испытания в камерах, названия которых он знать не хотел, и навязанные перегрузки были ему неприятны, а то и противны, но он терпел).
Никогда не доставляли ему удовольствия общения с врачами, а тут он проявлял себя послушным и даже якобы напуганным возможными недугами пациентом.
А вот к тюбикам Куропёлкин, похоже, привык. Сам себе удивлялся.
Хотя чему удивляться-то? Он постановил жить аскетом, уберечь себя от соблазнов, какие могли бы извратить его решение.
351
Проводили с Куропёлкиным разговоры психологи, или хуже того — психоаналитики, некоторые из них — занудливые дамы в белых халатах, пахнущие больничными коридорами, почему-то чаще блондинки с тяжёлыми бедрами. Интересовались — и не раз! — степенью его сексуальной озабоченности. Одной из них Куропёлкин надерзил, заявив, что её парфюмом из ихтиоловых мазей всякие озабоченности в нём задохлись (а ведь бабёнка была неплоха, и главное — она была намерена провести вместе с ним некий физиологический опыт, необходимый для установления его сегодняшних возможностей). Присаживали его к блестящим аппаратам и просили отвечать «да» или «нет», надо понимать, это были подобия детекторов лжи. В Куропёлкине сейчас же возникало желание подурачиться и выкинуть нечто оскорбительное хотя бы по отношению к этим аппаратам. Но он сдерживал себя, стараясь не навредить своему решению.
Находились доброжелательные просветители, подозревавшие в Самородке скудость школьных знаний. Эти подсовывали ему книги, в килограммы весом, в частности, о строении Земли.
Куропёлкин полистал одну из них и понял, что если он осилит все теоретические предположения о том, из чего состоит Земля, ни в какие Пробивания он не отправится.
— Если авторам этой книги так понятно, что из себя представляет Земля, — заявил Куропёлкин, — то почему же никто внутри неё не побывал? В космос летают, а в недра Земли — ни ногой! Стало быть, и не нужны никакие пробиватели. Ко всему прочему Земля имеет форму чемодана.
Странно, что после этих слов к Куропёлкину не подогнали самых догадливых и чутких психотерапевтов. Видимо, кому надо с ним было уже всё ясно…
352
Вскоре в квартире с удобствами, так именовалось в Центре Геонавтов жилище Куропёлкина, фактически — спальне, кстати, ни с какими другими геонавтами Куропёлкин в Центре не сталкивался, состоялся его разговор с куратором Селивановым.
— Вами довольны, — объявил Селиванов. — Ожидайте. Вот-вот…
— Надо же! — будто бы удивился Куропёлкин.
— Все ваши предложения по поводу экипировки согласованы и учтены.
Куропёлкин хотел поинтересоваться, с кем согласованы, но спросил:
— И когда же это «Вот-вот»?
— У вас ещё есть время отдохнуть и развлечься после занятий в Центре. Развлекайтесь!
— И каким же способом развлекаться?
— Книги хотя бы почитайте…
— Чтением книг уже занимался, — рассмеялся Куропёлкин, — причём в рабочее время. И какие же книги вы посоветуете мне нынче почитать? Иронические детективы, что ли?
— Это как вы пожелаете, — сказал Селиванов. — Но я бы порекомендовал вам «Пиквикский клуб» Диккенса.
Не сидел бы уже Куропёлкин на стуле, присел бы. Даже и на пол. Ничего себе! Не ожидал этакого от Селиванова. Диккенс! Пиквик! Не спросит ли сейчас Селиванов, не брал Пиквик взятки, не морочил ли людей рыбкой колюшкой?
Чтобы отогнать от себя тень либо марево Пиквика (а ведь начинал когда-то читать именно «Пиквика», единственное попавшее ему в руки сочинение Диккенса, но что-то помешало чтению), Куропёлкин обратился к Селиванову:
— Господин Селиванов, всё же у меня остались недоумения.
— Слушаю вас…
— Аляска… Зачем она в маршруте Бавыкина? Чужая территория… Не пойдут ли протесты и судебные тяжбы?
— Если пойдут, сумеем отбиться. Но вряд ли пойдут… И к чему бы ваша щепетильность? Вы уже нарушали подземное пространство иноземных территорий. И конечно, не замечены не были. Но якобы пострадавшие посчитали, что скандалить им невыгодно. А в пробивании Аляски должна быть и своя выгода… Кого-то полезно и попугать. Или во всяком случае озадачить. Или озаботить. При этом выяснить и кое-какие чужие секреты… Впрочем, это уже не ваши заботы… Ваше дело пробивать…
— И ещё, — сказал Куропёлкин. — Сертификаты на владение… Ну ладно, Марс, Юпитер, Сатурн, планета какая-то вся из бриллиантов. Это всё туфта. А вот кратер Бубукина, пожалуй, в реальном будущем может оказаться доступным. Вы хотите отправить меня и на пробивание Луны, что ли?
Селиванов растерялся.
— Ну, об этом мы ещё не думаем, — сказал он.
— Думаете, — уверенно сказал Куропёлкин. — Но на меня вы не рассчитывайте.
— Будет ещё время, — сказал Селиванов, — переубедить вас. А для вас, Евгений Макарович, — привыкнуть к новой задаче и изменить свое решение.
— Такого времени не будет, — заявил Куропёлкин.
— То есть?.. — насторожился Селиванов.
Куропёлкин сообразил, что выговорил лишнее, и закашлялся. Будто бы…
— Создан серьёзный Центр подготовки Геонавтов, — сказал наконец он, — я понимаю, для чего он нужен. Слово «геонавт», конечно, условное. И Землю-то мы толком не знаем. А человека тянут другие планеты и освоение их недр. Вернее, их богатств. А потому Центру разумнее отыскивать и воспитывать людей, способных погуливать в разных пластах Земли, а затем и Луны, чем рассчитывать на такую уже отработанную судьбой личность, как я.
— Слова для газеты и для докладной начальству, — сказал Селиванов. — Запомню.
— Вот и запомните, — сказал Куропёлкин.
353
И наступило «Вот-вот».
Короче говоря, День Старта.
Ожидаемая Куропёлкиным предстартовая встреча с Бавыкиным не произошла. А Куропёлкин рассчитывал на наставления и подсказки сапожных дел мастера. Можно было, конечно, предположить, что преждевременное осуществление проекта вызвало несогласие и раздражение Бавыкина и он Старт игнорировал. Или же для кого-то присутствие Бавыкина, то есть чудика, могло привести к лишним осложнениям, и его просто-напросто о Старте не оповестили. А дата Старта наверняка была к чему-то государственно приурочена и откладывать её было нельзя.
Однако Куропёлкину было всё это теперь безразлично.
Пошло бы всё оно… сами проходили в детском саду, куда… Впрочем, в Волокушке детского сада не было.
Особых разговоров члены стартовой комиссии с Куропёлкиным не вели. Толокся среди них и Селиванов, в какой-то странной форме, что-то в ней было от подводника, что-то от горного инженера. Но он ходил здесь явно не главным. Возможно, отсутствие Бавыкина всё же вызвало у ответственных людей разногласия, и Куропёлкин был призван ими к Совету.
Совет вышел недолгим.
У Куропёлкина поинтересовались, какая стартовая площадка кажется ему наиболее приемлемой для нынешнего путешествия.
— И фартовой, — добавил один из членов комиссии.
— Люк! — заявил Куропёлкин.
354
Заявил, не раздумывая.
Потом стал оценивать своё заявление. Но не сразу. К тому времени члены стартовой комиссии, посовещавшись, с пожеланием Куропёлкина согласились. Люк, Старт через двадцать часов, не позже. Куропёлкина доставили в Избушку, и ему было велено отсыпаться. Тогда он и принялся оценивать свой выбор, вспомнил, что «Люк» выкрикнул чуть ли не с энтузиазмом, совершенно сейчас лишним. И не стал возмущаться (даже про себя) словом «фартовый». А каком фарте могла теперь идти речь!
Единственно разумным объяснением (но в нём Куропёлкину было малоприятно и стыдно признаваться) его поспешного выкрика была его подпольно-подземная потребность ещё раз увидеть Нину Аркадьевну Звонкову. Тем более что этот раз должен был быть последним.
Горько стало Куропёлкину и противно. Он-то был намерен отправиться в путешествие в согласии с самим собой и мирозданием.
Не выходило.
Но изменить что-либо было нельзя.
355
В назначенное время (вышло — вечером) Куропёлкин был доставлен к месту Старта.
Отправление Куропёлкина в Люк, естественно, вышло иным, нежели в день, будем называть, его Шалости или Проказы. Тогда его волокли к месту казни, по всем понятиям — заслуженной. Сегодняшнее провожание Куропёлкина в дорогу дальнюю походило на мероприятие планетарной важности. Слепили глаза прожекторы, по яркости достойные быть установленными в Лужниках. К ним то и дело добавлялись вспышки фоторепортёров и видеооператоров. Шумела публика, допущенная в ВИП-загон, метрах в пятистах от Люка.
От всей этой суеты Куропёлкин очумел.
И всё-таки кое-какие моменты предстартовой суеты запечатлелись в сознании Куропёлкина то кадрами видеокартинок, то чьими-то словами, обращёнными, в частности, и к нему.
Некий крупный господин державного телонаполнения жал ему руку, а потом и указывал дорогу к Люку.
Увы, Нину Аркадьевну Звонкову увидеть Куропёлкину не удалось. Старт не вызвал её любопытства. А вот господин Трескучий, по-прежнему — брюнет, но отчего-то в наряде декоративного казака, возникал там и тут, смотрел на Куропёлкина с удовольствием и чуть ли не с гордостью, будто Куропёлкин был ему как сын, возле Люка им же был воспитан и теперь отправлялся выполнять его, Трескучего, поручение.
Воздвигся хрустальный шатёр Люка, по приставленному к колодцу трапу Куропёлкин поднялся (пять ступенек) и по просьбе Селиванова (и этот рядом объявился) помахал народам рукой.
356
Внутри Люка ему был предоставлен некий, надо полагать, корабль, то ли открытый сундук, то ли глубокое корыто. На полу (или на днище) корабля был положен гимнастический мат, ничем не прикрытый. В углу его уложили тюфяк-подголовок. На мате валялась меховая ушанка (пушистая, по рекомендации Бавыкина), перед подъёмом по трапу в Люк её попросили на голову не натягивать. Куропёлкину стало скучно. В прошлый раз он попал в Люк по необходимости (чужой) в мусорном контейнере, набитом всякой дрянью. Тогда он ни о мусоре, ни о дряни не думал, пожалуй, эти гадости даже и с их вонью и с плотностью забитости ими контейнера соответствовали состоянию и настроению Куропёлкина. А теперь…
— Евгений Макарович, — над посудиной Куропёлкина образовалась голова Селиванова. — Вам комфортно?
— Нет, — сказал Куропёлкин.
— Отчего так? — удивился Селиванов.
— Здесь пусто…
— И что?
— Для разгона эта посудина должна быть тяжёлой, — придумал Куропёлкин. — Только обойдитесь без воней и жидкостей из канализации, тухлых яиц и гнилых апельсинов.
— Утяжеление корабля необходимо? — взволновался Селиванов.
— Обязательно! Сами подумайте, — сказал Куропёлкин. — Вспомните, зачем заведено грузило.
При этом чуть ли не рассмеялся. Селиванов же, видимо, «сам подумал» и понёсся к членам стартовой комиссии. И минут через пять Куропёлкина стали засыпать.
— Приходится спешить, — сообщил возвратившийся Селиванов. — Затягивать с Запуском нельзя. Не разрешили. Потому, извините, для отбора тяжестей не имеем возможностей. Так что берём всё, что под рукой и рядом.
Корабль (или ковчег) Геонавта, принимая тяжести, явно видоизменялся. Днище его опускалось, верхние же углы становились более резкими и уже не напоминали о корыте, а походили линиями боков (бортов) на известный Куропёлкину дворовой мусорный ящик.
А к Куропёлкину возвращалось спокойствие.
Новая привычка, что ли, возникала и закреплялась в нём?
Но к чему ему новые привычки (причём будто бы схожие с профессиональными суевериями) именно теперь? Ни к чему!
Однако тяжести всё прибывали и прибывали, иные в мешках (возможно, кирпичи или основательные книги), иные в чёрных пластиковых пакетах, иные, признаем, в голом виде, скажем, куски досок с оставленными в них из-за спешки гвоздями. Иные подарки доставляли Куропёлкину не только неудобства, но и болевые удары, и Куропёлкин, браня себя за высказанную Селиванову просьбу об утяжелении корабля, вынужден был подтянуться к тюфяку-подголовнику и поджать на мате ноги. Скучно и комфортно ему уже не было. А тяжести всё наваливали. «Хватит, мне не в стратосферу лететь, балласта хватит!» — хотел было заявить Куропёлкин, но чихнул.
— Есть проблемы? — спросил Селиванов.
И тогда Куропёлкин вспомнил.
— Спросите у господина Трескучего.
357
И был призван к Люку господин Трескучий.
Голова его наклонилась к придавленному к чемоданному теперь боку корабля Куропёлкину. В глазах Трескучего не было ни ехидства, ни злости.
— Сколько? — спросил он Куропёлкина. — Как в прошлый раз? Или?
— Как в прошлый раз, — сказал Куропёлкин. — Не меньше.
— Бутылку водки «Парламент», пивную кружку, пустую, малосольные огурцы, — сказал Трескучий Селиванову. — На всякий случай и ещё и четвертинку.
— Да вы что! — возмутился Селиванов.
— Не перечьте! — сказал Трескучий. — Проверено.
— Ради чего? — не мог успокоиться Селиванов.
— Ради разгона и ускорения.
358
Жидкость для разгона и ускорения Куропёлкин пил кружками, сидя на гимнастическом мате. Малосольные огурцы были хороши и протестовали против решения Куропёлкина. Брызнули ему в кружку (в третий раз) ещё и жидкость из четвертинки, не всю, и Куропёлкин понял, что хватит. Сила разгона и ускорения заставила его улечься на мат. Неугомонные исполнители продолжали заполнять его корабль и вминать в его трюмы (может, и ногами) найденную рядом дрянь. Бормотание происходило теперь из выдыхаемого им воздуха, и всё же Куропёлкин соображал, что его слова могут теперь записывать и не надо нести всякую ерунду. Он удержал в себе имя Нинон, прижал язык к нёбу, сжал губы при пытавшемся вырваться из него слове «Спускаемся!» и лишь вышептал: «А флот не опозорим!».
Впрочем, он и ещё что-то бормотал…
359
А Куропёлкина всё ещё продолжали посыпать белёсой дрянью, возможно, и очистками из кухни дворовых Нины Аркадьевны, они вызывали новые чихания Куропёлкина, и, чтобы уберечь человечество от неприятных звуков, Куропёлкин зажал пальцами ноздри и дышал ртом. Тут он ощутил слева от себя копошение и увидел, как из мусора высунулась голова его флоридского знакомца Барри в ковбойской шляпе. Сейчас же Куропёлкин услышал комаду «Пуск!» и предпринимать какое-либо действие не смог. Ему показалось, что запахло воблой, а потом и цветами ландышами. И ему стало хорошо.
360
Целую неделю трубили по СМИ (тут пошли слова и соображения рассказчика истории Куропёлкина) маршевые сообщения об очередных победах отечественной науки и техники. Гимн то и дело звучал, слава Богу без текста, я его всё равно не мог запомнить по какой-то мистической причине. Ну ладно, какие-то тексты и их авторы. В нынешнем же случае прославлялся подвиг Евгения Макаровича Куропёлкина, Геонавта. Он осуществил усилия многих конструкторов и институтов, оснащённых новейшим оборудованием, и совершил подземные путешествия с показательными выходами (трижды!) из недр Земли в стратосферу.
Я не сразу понял, кто такие геонавты и что за подвиг совершил некий Куропёлкин. Видел кадры, на которых нечто похожее на человека вылетало из будто бы земной поверхности, замирало на мгновения (нет, на минуты!) в воздухе (приходили на ум персонажи кинофильма «Цирк»), а затем опадало, втягивалось в Землю и пропадало. И эти кадры с пафосными текстами (а в случае со спортивным репортёром Уездиковым — и с радостной истерикой) повторяли по крайней мере по четырём программам через каждые полчаса. Поначалу показалось, что меня, до тошноты перекормленного блокбастерами, киношные деляги желают угостить ещё одной похлёбкой из щупалец кальмаров или аватаров. И наверняка именно ради подвоха они присобачили герою дурацкую фамилию Куропёлкин. Какие подвиги можно совершить с такой фамилией?!
Но потом мне стали являться сомнения.
А вдруг и не шутят? А вдруг у них и нет никакой похлебки? К чему на самом деле государственное враньё-то?
Сейчас же мне захотелось пересмотреть отношение к фамилии Куропёлкин. Ну, а если у названного Геонавтом эта фамилия — природная? Ну, смешная. Ну, не героическая. И что? Он же не должен был иметь отношение к шоу-бизнесу, где чем кличка (творческий псевдоним) претенциознее и глупее, тем дороже товар, не стоящий и копейки. Ладно, Куропёлкин и Куропёлкин.
Привыкнут. К чему только и к кому только не привыкали. Ко всему прочему известно, какими чудесными фамилиями наделяли своих соплеменников восточные славяне! И русские, и малороссы, и белорусы, и сербы, и чехи. И не только славяне. Фамилия знакомого мне Сергея Пускепалиса на литовском значит — Полбуханки. Объявись герой с фамилией Яичница, и к Яичнице бы привыкли. Да уж что говорить о таких фамилиях, как Кафельников или Калашников!
А уж иностранцам-то было бы всё равно, кто у нас Геонавт — Куропёлкин иди Достоевский. Так в конце концов и вышло.
Наши же дикторы и телеведущие с осторожностью (а кто и с наглостью) осваивали фамилию Геонавта. Кто-то произносил Куропёлкин, кто-то именно Куропёлкин. А одна из «Девчат», развязная барышня средних дамских лет, плохо причёсанная, в очочках, назвала Геонавта Куропаткиным и поинтересовалась у подруг, не потомок ли он генерала японской войны Куропаткина и не лишился ли он мужской силы, а потому и полез под землю?
У меня же отношение к запуску Геонавта стало более серьёзным. Я уже внимательнее вглядывался в кадры, предлагаемые мне с экрана. Кстати, к уже первоначально показанным сюжетам добавлялись новые. По всему выходило, что путешествие Куропёлкина продолжается. Но информация ТВ-показов отражала лишь запуск Геонавта и выходы (вылеты) его из недр Земли и возвращения в Землю же. Кстати, получалось, что выходов-вылетов было не три, а четыре. Фигуру Геонавта увеличивали, и тогда можно было разглядеть его лицо. Правда, в двух случаях Геонавт выныривал из Земли в очках, довольно странных, из стекол и матерчатых боковин, такие после войны можно было купить в аптеках мотоциклистам, но он, поверим, Куропёлкин, в полётах снимал их и в моменты будто бы задержек по-чемпионски, после тура велогонки, вскидывал руки. Видеотехника «задерживала» его парящим в небе, давая возможность оценить формы его тела. Именно формы, а не подробности его тела, потому как на Геонавте был комбинезон со множеством карманов от одесского целомудренного мужчины Вассермана. Удивительно, что не скафандр. Но не исключено, что одеяние Вассермана и было новейшим достижением космической промышленности, о чём мы, гуманитарные олухи, и не могли иметь представления. Лицо же Куропёлкина было простое, но не простоватое, однако в моменты его вылетов явно перегрузками искажённое. Лучше всего можно было рассмотреть Куропёлкина в эпизодах запуска корабля с Геонавтом номер один. Самого корабля не предъявили, наверняка из соображений секретности, мы лишь увидели путешественника, поднимающегося по трапу и с вершины трапа приветствующего толпы провожающих его. Не скажу, что лицо Куропёлкина в тот момент было торжествующе-вдохновенным, я углядел в нём печаль и одиночество. Страха в нём вроде бы не было. И он явно кого-то искал в толпе. При просмотре (и не единожды) этого эпизода я вдруг почувствовал симпатию к Куропёлкину, мне даже почудилось, что путешествие его жертвенное, возможно бессмысленное, и чем закончится оно — неведомо…
361
После этого я стал внимательнее вслушиваться в комментарии специалистов. В их слова и их интонации.
И должен заметить, что интонации эти с ходом дней становились всё более драматичными. Или беспокойными. Но об этом наблюдении позже.
Поначалу же (особенно в первые после запуска два дня) звучали (и в словах — тоже) марши и оптимистические песни пятидесятилетней давности, даже такие космически-задорные, как «Мой Вася! Мой Вася! Он будет первым на Луне!» (примерно). Не готовили ли народ к новому рекорду — выходу Куропёлкина из недр Луны?
Было сообщено, что за запуском Геонавта и за его выходами из недр планеты наблюдало множество экспертов из развитых стран. Им были предоставлены доказательства подлинности путешествия Евгения Макаровича Куропёлкина. В Центр исследования путешествий Геонавтов были приглашены спортивные комиссары, экологи, цирковые режиссёры, чиновники службы Рекордов Гиннесса, резиденты ЮНЕСКО, всех не перечислишь! Так вот, большинство наблюдателей и научных светил признали документы Центра исследований убедительными, и только немногие ехиды и циники-недоброжелатели, явно прикупленные, выразили сомнения по поводу видеосвидетельств старта и вылетов геонавта, мол, склейки, монтажи, зрительные фокусы. Но этих продажных ехид осадили.
Впрочём, так было в первые дни путешествий Куропёлкина.
Что же касается видеосюжетов с выходами Геонавта из глубин Земли, то вот почему я посчитал, что их было не три, а четыре. Объявляли, правда (и на экранах это было отражено), что наш Геонавт выбирался из плена Земли (или из оков гравитации) лишь дважды. На Камчатке, в районе вулкана Шивелуч, но не вблизи его кратера, вне его возбуждённо-распалённого состояния, поодаль от него, в ещё не обожжённых и не обсыпанных пеплом сопках. Второй, уже впечатляющий, выход Геонавта произошёл через два часа в районе Северного полюса. Отбыв в воздухе пять минут, он вернулся в недра Земли, оставив во льдах на треногом штативе флаг России, и, как выяснилось позже, несокрушимым металлическим штырём трехцветный флаг был как бы вбит в дно Ледовитого океана. Сразу было сказано, что подтверждены претензии России на преимущественные права в использовании недр Океана и его береговых шельфов.
Но Шивелуч и Северный полюс — ладно. Это — наше, это — мы знаем.
А произошло, по моим наблюдениям, и ещё два выхода Геонавта из Земли.
Состоялся выход Куропёлкина в месте, совершенно не похожем ни на Камчатку, ни на Северный полюс. Место это было расположено, вполне возможно, на равнинном берегу всё того же Океана, и явление там Геонавта случилось через час сорок пять минут после посещения им вулкана Шивелуч. Показалось мне, что кто-то шепотом выговорил — «Колгуев»… А при ещё одном вариантном показе сюжета мне пришло в голову (померещилось), что это и не Камчатка, а виды, знакомые мне по документальным фильмам, Аляски, виды, испорченные, правда, натыканными в тайге какими-то металлическими башнями неизвестных мне форм. Аляска меня всегда интересовала, как и вся Русская Америка. Значит, сначала была Аляска, потом Шивелуч, потом остров Колгуев, потом Северный полюс. Именно там вылетал пузырём из Земли в небеса Геонавт. И на всё путешествие Геонавта, если он, конечно, путешествовал один, без братьев Черепах, ушло менее четырёх часов.
Для меня, человека, много к чему привыкшего, не трудно было быстро выстроить предположения, что выход Геонавта у острова Колгуева оказался неожиданным для создателей нынешнего проекта и устроителей путешествия Куропёлкина. Лишь на третий день начались косвенные и осторожные подтверждения случая у острова Колгуева. Мол, что было, то было. Мол, нашему Геонавту было разрешено импровизировать, и при оценке им самим своего самочувствия производить самостоятельные эксперименты. Кстати, выход был им успешно выполнен и обогатил опыты космической медицины. Но позже об этом случае вспоминали редко.
Что же касается Аляски, то о ней никаких упоминаний ни по ТВ, ни в эфирах радиостанций ФМ не последовало.
До поры до времени.
362
Но на третий день, и в особенности — на четвёртый, в народе начались сомнения.
И даже ворчания.
Пора было бы уже и праздновать. Ожиданию каждого торжества положен свой срок, после которого в чувства ожидающих врываются нетерпение и досада. А тут продолжалась болтовня с повторами одних и тех же сюжетов. Ну, добавилась новая скудная информация о геонавте Куропёлкине. А может, её тоже повторили. Тридцать четыре года, родился в Архангельской области, в посёлке Волокушка, окончил Пожарную академию, срочную службу проходил на Тихоокеанском флоте, там же заочно получал образование в Дальневосточном университете. В Москве увлёкся изучением теории грибных мест, был советником по культуре в Просветительском Фонде, кандидат в мастера спорта по акробатике международного класса, рост 183 см, вес 76 кг.
Биография без подробностей, справка, но в ней всё было понятно. Кое-что, конечно, и озадачивало. Что за Просветительский Фонд, в каком Куропёлкин трудился (и с чего бы вдруг?) советником по культуре? Или вот ещё что. Что это за «Теория грибных мест»? Ну, если только увлечение ею Куропёлкиным было связано с его подземными тренировками. Тогда хоть какая-то логика в любви к грибным местам возникала.
А на пятый день публика и вовсе загрустила. Куда подевался этот обещанный человечеству Куропёлкин?
Все ответственные наблюдатели, как приглашённые, так и добровольно явившиеся из просвещённых стран, подписывать благожелательные документы временно отказались. Но не уезжали. Гостеприимство аборигенов удерживало их. А в их просвещённых странах всё ещё готовили триумфальные встречи Геонавта Куропёлкина.
Пошли слухи, будто бы к определению судьбы Куропёлкина были привлечены ясновидящие, маги разной окраски, экстрасенсы, колдуны и мельники, особые люди, которых увозили и привозили обратно инопланетяне, ведьмы, имевшие сольные роли на канале, популярном из-за присутствия в нём знатока языческой Руси М. Задорнова, и даже, что особенно важно, дама с этого же канала, рекомендованная как одна из самых сексуальных женщин планеты, знающая все тайны. Я по причине московско-провинциального воспитания оценить степень красоты и сексуальности рекомендованной дамы не смог (увиделась — обыденно-кокетливой, и всё), а главное, что усердия и её, и прочих Звёзд канала в поисках Куропёлкина оказались бесполезными.
Лишь один из увезённых инопланетянами и возвращённых ими надменно-решительно заявил:
— Он на Сириусе. В палладиевой бочке.
Но это всё — по слухам…
По радио же и по ТВ уже не звучали марши и «Мой Вася», а слышались звуки Бетховена и меланхолических сочинений Сибелиуса. Хорошо хоть не дошло до Шопена.
Но многие понимали. Готовят и к Шопену.
Однако тогда и произошло событие куда более горестное и значительное, нежели пропажа какого-то Куропёлкина.
С треском вылетел из Европейской лиги чемпионов «Спартак».
Не смогли ухватить удачу (за бороду? или ещё за что?) и другие отечественные футбольные клубы.
Но «Спартак»…
363
Всероссийский ужас, пожар и обнищание духа.
Литры поминальной жидкости в спортивных барах и трактирах, на скамейках парков и у детских песочниц, в квартирных крепостях на просторах свободномыслящих кухонь. Ожидаемые нарушения смешных (но кормящих кого-то) запретов-декретов от бдящих, хотя наверняка втихомолку пьющих и курящих избранников воли народа. Однако без всяких политических выходок. Лишь с утверждениями, что нас в очередной раз засудили (вечный мировой заговор против «Спартака»), а потому нужны хотя бы честные и немедленные перевыборы руководства УЕФА и ФИФА. И с сожалениями о том, что наш министр физкультуры так и не научился выговаривать английские слова (и не сдаст ЕГЭ), чему, конечно, помешала отмена зимнего времени.
Потом страдальцы устали и горевали уже тихо. А в их сознаниях зашевелились мысли о чём-то недавно пережитом. Или не пережитом.
И подумали о первом Геонавте. Он ведь так и не объявился. То ли сгинул, то ли ещё что… Но как-то вяло подумали. Будто судьба его и его путешествия уже никого особенно не волновали…
364
А мне же Куропёлкин был интересен.
У моего приятеля, художника Шаронова, сын стал журналистом и кое о чём, меня волнующем, видимо, знал, писал о науке.
Я напросился на встречу с Шароновым, тот как раз на три дня приехал из Тарусы. Нашёл я и повод.
— Васильич Перемазанный, — сказал я, — у меня вышла новая книга, тебе-то мои словесные ряды не слишком интересны, а вот Косте, я знаю, они не безразличны. Ему я хочу презентовать книгу. Он, кстати, в Москве?
— В Москве, — сказал Шаронов. — Прибежит.
Посидели в мастерской Шаронова, обменялись сведениями о тарусских знакомых, выпили, посмотрели новые работы Шаронова, попели, вспомнили даже «Бродяга Байкал переехал…». «Надо же, — подумал я, — как это бродяга Байкал переехал?» И я сразу возвратился к Куропёлкину.
— Костик, если бродяга Байкал переехал, не знаю на чём, и не заблудился, то Куропёлкин заблудился, что ли?
Вопрос был полупьяный, но он не только смутил весельчака Константина, тот даже испугался.
— Костик, — сказал я, — чем я тебя так смутил?
— Ну, понимаете, дядя Володя, — Константин чуть ли не оглядывался по сторонам, но, понятно, кроме меня, отца и его новых работ ничего иного увидеть не мог. — Вы, дядя Володя, человек бывалый… Вам известно о степенях секретности, обязательствах неразглашения, и так далее…
— Понимаю, — кивнул я.
— Ну, вот.
— Ты, Костик, успокойся, — сказал я. — Секреты секретами, я отношусь к ним с уважением. Но есть вещи, в секреты не входящие. Есть же у тебя соображения, о каких с тебя не брали подписку «не разглашать», а натура твоя требует ими поделиться. Есть же?
— Ну… ладно… — вздохнул Костик. — Прежде всего, могу сказать, что Куропёлкин — не искусственное существо, не создание робототехники, а — человек. Но природный Феномен.
— Что значит — природный Феномен? — спросил я. — Чей Феномен? То есть с чего бы вдруг Феномен?
— А я знаю? — сердито сказал Константин. — Можно предположить, что Феномен Творца. Потому как и природу, то есть и мироздание, я признаю феноменом Творца. Для чего-то такой, как Куропёлкин, был сотворён. Но применение его до поры до времени не требовалось. А теперь потребовалось.
— Не наивное ли это толкование? — выразил я сомнение.
— А у вас есть более мудрое толкование? — обиделся Костик. — Выскажите, пожалуйста, его.
— Нет, Костик, — вздохнул я. — Моё толкование ещё более наивное, чем твоё. Скорее всего ты ближе к пониманию сути… Но его ищут?
— Дядя Володя, тут уж я допущен лишь к крохам знания. Держу в голове только догадки.
— И по твоим догадкам его не могут не искать, — сказал я. — Решили удивить мир, подготовились, и вот — на тебе! Конфуз! Пока конфуз. И надо предъявлять разумные объяснения.
— Вы как-то холодно об этом рассуждаете, — сказал Константин.
— Нет, Костик, нет! — с горячностью заговорил я. — Я с симпатией и состраданием отношусь к неведомому мне Куропёлкину и желаю, чтоб дурного с ним не случилось.
— Ищут, конечно, — будто бы согласился продолжить обмен мнениями Константин. — Почему-то сразу бросились в какой-то Сапожок Рязанской губернии, будто бы Куропёлкин объявлял, что намерен жить в этом Сапожке. Отправляли экспедицию на его родину в Волокушку, только опечалили родителей. Нигде его нет. Волонтёры прапорщики, я просился в компанию к ним, не взяли, прочёсывали мещёрские леса и болота, не обнаружили. Были обследованы места выходов Куропёлкина. И лишь на встрече Баренцева и Карского морей, там осваивают Штокмановское месторождение, на берегу была найдена ковбойская шляпа с именем Барри на подкладке. Звукомастера изучили все предпусковые высказывания Куропёлкина, даже лепетания его, и, кроме отчётливых слов «Флот не опозорим», вытащили из шумов длительную тираду боцманского тематического направления, а также ласково-повторяющееся название плавсредства («Нинон! Нинон!») и вдруг — внятно произнесённое: «Кратер Бубукина».
— Кратер Бубукина? — переспросил я.
— Ну да, — сказал Константин, — кратер Бубукина. И что это за кратер такой? Вы, что, знаете о нём?
— Знаю, — сказал я. — Был такой футболист Бубукин.
— И где же этот кратер? — вскочил в волнении Константин.
— На тёмной стороне Луны, — сказал я.
— Ничего себе. — Константин опустился на стул.
— Именно там, — сказал я. — Но, впрочем, я не астроном.
— Но там искать его никакая наша экспедиция пока не способна.
— А ты, Костик, посоветуй людям науки и космических профессий попросить полицию объявить розыск блудного сына Куропёлкина, авось и разыщут.
— Дядя Володя, вы шутить себе позволяете, — расстроенно сказал Костик, — а ведь одна дама написала заявление в полицию с просьбой разыскать именно Куропёлкина Евгения Макаровича, якобы имеет на это право.
— Кто такая? — теперь взволновался я.
— Вы меня не спрашивайте, я вам не отвечу, — сказал Костик. — У неё странное наименование — Баборыба. Но на меня, прошу, не ссылаться. Это одно… Вернёмся к предположениям. Так вот, по моим догадкам, Куропёлкин — натура самодержавная и упрямая, порой и с дурью, и может поступать, как пожелает. Где он теперь, знает лишь он. Управлять им невозможно, он способен к противлению. Ко всему прочему, он не раз высказывал странное утверждение: «Земля имеет форму Чемодана». Не заперся ли он сейчас от земных бестолковщин и скорбей в своём чемодане?
365
При этих словах Константина восстановился в собственной мастерской живописец мирового класса и мировых цен Антон Васильевич Шаронов:
— К барьеру! К столу! Тебя, Володимир, причисляют к некиим магическим или даже мистическим реалистам, ты якобы с этим не согласен. А о чём вы трепетесь?! Вот взгляните!
И нам под нос (каждому) были подброшены ехидные карандашные наброски наших рож, а также, надо понимать, мифических для Шаронова геонавта Куропёлкина и дамы Баборыбы.
Возвратились за стол и допели «Бродяга Байкал переехал…».
— Дядя Володя, — напомнил мне уже в дверях Константин, — обещайте про Баборыбу никому ни-ни…
— Обещаю, Костик, — пробормотал я. — Но должен тебя огорчить, я ещё вчера про Баборыбу что-то слышал. Или даже читал…
366
А уже на следующий день на глаза мне попалась большая статья о Баборыбе.
Опубликована она была в серьёзной газете, но меленько сообщалось, что это перепечатка (с сокращениями скучных мест) из «Вестника» Академии Ихтиологических Наук. У нас творчески возбудилось и воспылало множество Академий, отчего же не воздвигнуть ради блага Отечества ещё и Рыбью и Крабью Академии? Речные жители и морепродукты это заслужили. Было известно, что к созданию этих академий не имел отношения соляных строгановских земель молодец Краболовлев, ему хватило средств лишь на футбольное завоевание княжества Мунде-Карпо и на подарок подруге острова Корфу, рядом с которым, кстати сказать, в иные дующие потоки времени приобретал острова Онасис для Кеннеди Жаклин. Наш же деловой удалец к научным исследованиям интереса, видимо, не имел.
Упомянутая мною статья была написана профессором, членом-корреспондентом (действительным) Академии Ихтиологических Наук Г.Д. Удочкиным и имела название «Баборыба и её особенности».
Первые же строки статьи профессора были такие: «Известно, что Новгород Великий, а вышло, что и Северную Европу, спасли крокодилы, в древних документах и на обрывках берёсты названные, впрочем, коркодилами». Далее сообщение профессора подтверждалось фактами. Как только Батыевы воины перед окончательным набегом на Новгород решили напоить и искупать своих лошадей и явились к реке, так сразу же из Волхова вышли крокодилы и пожрали не только лошадей, но и нескольких завоевателей, вызвав у них панические настроения. Узнав о неведомых чудовищах (то есть о крокодилах), Батый струхнул и удрал, увёл своё воинство из-под Новгорода, оставив в покое и Новгород Великий, и Европу. Откуда могли появиться в Волхове, а также и в реке Великой, и даже в водах под Арзамасом крокодилы? Но они и сейчас там есть. Однако человека побаиваются, уж больно он нынче лют. Или стесняются. И всё же порой происходят явления на глаза зевак их жестких, чуть ли не бронированных спин, об этом свидетельствуют кадры сериала «Таинственный мир России». Причины столь длительного, и посчитаем — сытно-комфортного, проживания крокодилов в северо-западном углу России просты. Слова о них можно найти в трудах геологов. Нервные сдвиги ледников в верхних слоях Земли накорёжили здесь чёрти что. Возникли чуть ли не многослойные пироги. Ну, не пироги, конечно. А ярусы огромных карстовых пещер с подземными водоёмами, иными — не меньше, нежели озеро Ильмень.
И вот в этих карстовых ёмкостях сохранялись температуры и возможности для поддержания жизни многих существ. Увы, в их число не попали несчастные надземные животные — ящеры, мамонты, саблезубые тигры, к чьим нежным организмам ледники отнеслись с холодным жестокосердием. А под землёй, как бы в подземных ковчегах Ноя (но не Ноя), продолжали резвиться и размножаться исторические счастливцы, и крупных форм, и всякие мелкие твари, и особи, совершенно неизвестные дотоле человеку, но предсказанные гением провидцев. И вот в результате одной счастливой, но секретной экспедиции в карстовом водоёме второго яруса была отловлена (нет, это грубо, поймана, тоже грубо, приглашена к общению, вот!) одна из Баборыб, предсказанная Нострадамусом в его тысяче двадцать третьем катрене. При упоминании Нострадамуса меня чуть не вскипятило. Нострадамус-то, Бог с ним, он, может быть, что-то и предсказывал, но это было давно, а сейчас-то за него предсказывали его полуграмотные двадцатилетние толкователи!..
Наша Баборыба, продолжал профессор Удочкин, милостиво согласилась сотрудничать с членами Ихтиологической Академии, и с её помощью были сделаны знаменательные выводы, подтвердившие теорию о том, что Женщины произошли от Баборыбы. Свидетельства о Баборыбах рассеяны в трудах Геродота, Плиния, Светония, в легендах об азовских амазонках (Ростовская область) и в сказаниях поморов, ходивших осваивать Грумант. В тысячелетия их спасения от ледников в их натурах и обликах, естественно, происходили видоизменения. Плавники, и что особенно важно — плавник концевой, плавник-хвост, превратились в лапы, по-человечьи — в руки и ноги. И, как выясняется, наша Баборыба способна к деторождению. Присутствие воздуха в карстовых пещерах приучило её к необходимости вбирать в себя кислород, а неизвестная пока причина одарила её пониманием языков разных народов. Исследования продолжаются, и если до сих пор остаётся спорным от амёб или от каких-либо особенно ленивых макак произошли мужчины, то женщины без всякого сомнения — видоизменения баборыб.
На этом статья профессора Удочкина заканчивалась. Кстати, статья шла «слепым» блоком, то есть без каких-либо фотографий и тем более без развлекательных рисунков, научное мнение, и всё. Под ней следовала редакционная приписка. Мол, о продолжении исследований будем сообщать, но не спеша, не сразу, а по ходу ответственных подтверждений изучаемых явлений. Дело новое, неожиданное. Возможны дискуссии, следите за публикациями.
367
Людям, имеющим представление о способах доставки широкой публике полезной обществу информации, не было нужды гадать, с чего бы вдруг именно сейчас произошла публикация статьи профессора Удочкина.
Но…
А премудрые караси-то? А вороны с кусками сыра во рту? Сыр-то этот в дырах, а в дырах — сплетни о суетливых персонажах шоу-бизнеса, о каких надо всё время что-то нарочно придумывать, иначе как им жить и зарабатывать на корку хлеба. Но эти нарочно придуманные всем обрыдли.
Теперь же для карасей и ворон возникли новые персонажи и поводы для множества мнений и догадок.
Конечно, эту Баборыбу подбросили ради отвлечений от странностей с геонавтом Куропёлкиным.
Но это на виду. А интересны были будто бы несущественные мелочи с бантиками и подвязками на них. Так. Сказано, Баборыбу секретно изловили в карстовой подземной впадине. Куропёлкин, объявлено, умеет шляться под землёй. Стало быть, он мог быть знаком с ней, и в статье Удочкина наверняка есть намёки на Куропёлкина. Увиделись и подсказки. В частности, и на то, где он может нынче быть.
Сейчас же благоразумный и чующий правду блогер Таня Б. сообразил, что фраза профессора Удочкина «Баборыба способна к деторождению» выведена не зря, и наверняка Баборыба забеременела от Куропёлкина, а тот сбежал от алиментов.
И начался бенефис, с фейерверками, Баборыбы профессора Удочкина. И не блогер Таня Б. стал инициатором этого бенефиса. Общее настроение масс. Состоялись шествия с транспарантами: «Не мучьте в медицинских казематах экологически чистую Баборыбу! Позор алиментщику!». В пунктах питания шествующих выступал один из увозимых инопланетянами, но возвращённых ими же, утолял жажду энергетическим напитком «Рэд Беляковс» и требовал: «Место Баборыбе — на Сириусе, в палладиевой бочке! И в водах бассейна в кратере Бубукина! Под пальмами!»
Много обнаружилось людей, склонных участвовать в брожениях умов. Но немало проявило себя и умельцев, кому суета с Баборыбой была в радость. В жёлтых изданиях первые полосы отдали личности Баборыбы и описаниям её амурных приключений, приведших, в частности, и к беременности.
В совестливо-циничных листках каждый день, и на разных страницах, предъявлялись читателям, при подпрыгивающей договорной цене, предполагаемые физиономии Баборыбы. Первые из них были несомненными фотороботами, созданными с помощью технических средств полицейских участков. Состоялось знакомство с Баборыбой двадцати примерно разнообразий. И уж точно, нельзя было определить, блондинка она или брюнетка и расходились ли от неё эротические токи. Потом фотороботы стали заменяться будто бы некоей реальностью, пошли в ход туманно-дымчатые изображения интересующей многих дамы, возможно, сделанные видеокамерами служебного наблюдения. А вскоре стали публиковаться объёмно-чёткие лики (и не только лики, но и некоторые подробности тела Баборыбы, чаще всего обнажённого). Тогда блогер Таня Б. с присущими ему бесцеремонностью и знанием правды постановил: «Да, это Баборыба. И она, сами видите, беременна. А Куропёлкин сбегает от уплаты алиментов. Вон, вон он справа в глубине кадра!»
На другой день несколько откровенно-честных газет вышло с аншлагами: «Куропёлкин сбежал от оплаты алиментов. Судебные приставы, дело за вами! Подробности в следующих номерах!».
Эта акция, как и ярость беспристрастного блогера Тани Б., вызвали у меня сомнения. К чему бы Куропёлкину сбегать куда-то из-за алиментов? Ни о каких детях его вообще не сообщалось. На снимках же Баборыба никак не походила на оплодотворённую самку. Кстати, один из снимков был сейчас же продублирован живописной работой модного Рублёвского художника Фикуса, сообщалось, что она моментально была куплена сосисочным миллионером и свинопасом и украсила стену на вилле его свежей прелестницы. А ещё одна фотосессия якобы Баборыбы меня удивила. В даме на лошади я разглядел знакомые черты лица. Кто это, вспомнил я не сразу, но вспомнил. Мы сталкивались с этой женщиной на каких-то приёмах, а иногда в консерватории и на театральных премьерах. При знакомстве со мной её назвали Ниной Аркадьевной Звонковой. Неужели и Нина Аркадьевна из Баборыб?
Вряд ли…
368
Но в самом появлении фотографии госпожи Звонковой (а я знал, что с её именем связаны какие-то благотворительные Фонды) мне почудилось странное совмещение её (фотографии) с путешествием Куропёлкина.
Впрочем, соображение это быстро улетучилось.
Более изображения Звонковой на экранах ТВ не появлялись.
Серьёзная газета, затеявшая (не исключено, что по чьей-то вразумительной подсказке) перепечатку статьи профессора Удочкина, теперь скорее всего получила ещё более вразумительный укол указкой. В редакционном комментарии нынче читателю рекомендовали иметь голову, хотя бы и на плечах. Публикация статьи профессора Удочкина вышла преждевременной, хотя речь в ней шла о явлении реальном, но пока недостаточно изученном. И уж только пустые люди, чьи интересы не возвышаются выше шоколадно-ванных избавлений Данаи Маисовой от упадка её интеллекта, могут связать исследования Ихтиологических наук с действиями геонавта Куропёлкина. При этом в статье Удочкина ни слова не имелось о случае беременности изучаемой им и коллективом специалистов особи. А потому заявление блогера Тани Б., известного алиментщика (11 детей, в том числе и в дальних аулах), можно признать провокационным, создающим смуту в культурном обществе и отвлекающим от его собственных проблем.
Примелькавшийся уже домохозяйкам, один из отловленных инопланетянами, но возвращённых ими (я наконец на одном из ток-шоу услышал его имя — Фёдор Курчавый-Шляпин), заявил:
— Мне было видение. Баборыба родит. И не одного!
Как вы могли бы предположить, редакционные комментарии с советом иметь голову на плечах любопытствующих только рассмешили и раззадорили. Эко нас за дураков держат! Но мы-то всё знаем, а если и не знаем, то докопаемся. Тогда, неизвестно из каких слоёв секретности или из карстовых впадин с крокодилами, выползло: «Кратер Бубукина». Месторасположение кратера Бубукина вполне вписывалось в доктрину блогера Тани Б., именно там, по его мнению, и удобнее всего было скрываться Куропёлкину от алиментов. И Таня Б. немедленно объявил сбор средств на розыскную экспедицию к кратеру Бубукина. Возвращённый инопланетянами Фёдор Курчавый-Шляпин сейчас же внёс на счёт Тани Б. рубль и пятьдесят семь копеек и пообещал, коли возникнет нужда, добавить ещё два рубля. Пообещал он и связаться с инопланетянами (а они — парни, а может и девки, — душевные) и попросить их доставить его к кратеру Бубукина с целью проверки морального облика геонавта Куропёлкина.
Разумные же люди тихо полагали, что Куропёлкина забрала Земля, раздраженная ковырянием в её теле.
Но это разумные люди, и полагали именно тихо.
А вокруг шумели и скандалили.
Образовалась некая группа любителей спорта, возмущённая тем, что в своё время назвали кратер именем какого-то Бубукина, когда в нашем спорте были такие игроки и философы, как Бубнов, Ловчев и Черенков. И начались митинги у ворот стадионов. «Переименовать! Восстановить справедливость!» Феминистки разных муси-пуси, и в особенности недополучившие от шоколадных Джо, порой сбросив с себя и верхнее, и нижнее, требовали избрать Баборыбу в Думу и отвлекали трезвых водителей от соблюдения правил езды.
То есть создавались всё новые пробки и очаги социальных нагноений. Это не могло не раздражать верховные силы, и однажды прозвучало краткое правительственное заявление, адресованное, впрочем, и ко всему цивилизованному сообществу: «Связь с Геонавтом Куропёлкиным восстановлена. После научных консультаций Евгению Макаровичу Куропёлкину разрешено продолжить геоисследования. Куропёлкин просил поблагодарить всех людей, кого интересует его судьба, и передать им нижайший привет».
369
Пронеслось, прошелестело: «Куропёлкин-то продолжает исследования! Неизвестно зачем и где, но не в этом суть».
И уменьшилось количество пробок. А что может быть важнее этого? Ничего.
К тому же «Спартак» выиграл товарищеский матч у чемпиона Океании, команды Таити со счетом 9:0! А среди папуасов (почему-то наши знатоки отнесли полинезийцев к папуасам) бегали четыре потомка Гогена, что само по себе было страшно.
«Переименовать кратер Бубукина в кратер Черенкова!» — было общее мнение.
Начиналась полоса удач…
Единственно, огорчал Большой театр. Никак не мог поправить угасшую репутацию. Но мало кого волновали в стране оперы и балеты…
Если только Следственный комитет…
370
Мне приснилось: плакала женщина. Черты лица её были мне знакомы. Но я не понял, чем были вызваны её слёзы — радостью или печалью.
371
Куропёлкин сидел на пне. Рядом приятно звучал ручей. В чём же его приятность, подумал Куропёлкин. Приятностей для себя Куропёлкин не ждал. Он должен был привыкнуть к тому, что Земля его не приняла. Впустила его в себя, а потом выплюнула.
И что ему теперь делать?
Решение его было признано неверным. И хуже того — нравственно неприемлемым.
Выплюнула и пальцем погрозила. Не шали.
Никакой связи с Центром Исследований у Куропёлкина не было, он постарался, чтобы её не было, но теперь он не знал, где его пень находится. Вроде бы в тайге. И вроде бы в тайге у южного её окаёма. Берёз тут стояло поболее хвойных деревьев, и ростом они были повыше сосен, елей и возможных кедров. И присутствия армад комарья не ощущалось.
Где же он приземлился? Фу ты! Где же он выземлился?
По двум странствиям с партиями геологов ему были известны Южные Саяны и леса вблизи Тобольска.
Слава Богу, подумал Куропёлкин, это не окрестности Волокушки.
Куропёлкина смущал пень. Он был явно следствием работы электрической пилы. То есть где-то рядом могли проживать или суетиться люди. А общаться с кем-либо Курпёлкин не желал. И не только общаться, но и замеченным быть не желал. А уже мелькнул на ветках берёзы первый бурундук. Зверёк, приятный Куропёлкину, но сейчас совершенно не надобный.
Куропёлкин вспомнил свои мысли: «приземлился-выземлился» и понял неожиданно для себя, что он всё же здесь приземлился. Вспомнил и то, что в момент приземления над ним возник парашют. Но особый парашют без шелкового (или парусинового) купола и без строп, а как бы воздушный парашют с мерцающими огоньками невидимого и нереального свода, и будто бы кто-то принял его на доброжелательные, но крепкие руки и с осторожностью усадил на пень. Или на трон.
Земля его выплюнула, причём с досадой и в поднебесья, но потом, не исключено, пожалела, поберегла, одарила парашютом и обеспечила мягкую посадку.
Какая добродетель!
От оставленного людьми пня следовать уходить.
Не только уходить, но, пожалуй, и удирать.
Но прежде необходимо было осмотреть всё, что на нём (и при нём) осталось после приземления, и попытаться обнаружить возможные технологические устройства надзора над ним. Хотя бы и из Центра управления. Или из спутниковых глаз и щупалец. Или вообще неизвестно из каких интересов и опасений. Но для этого потребовалось бы не спеша и со вниманием исследовать, прощупать, а то и на зуб попробовать все предметы и детали одежды, каким было доверено сопровождать его в путешествии. Произошло немало открытий, удививших Куропёлкина. Комбинезон Вассермана имел карманы не только на своей выставочной стороне, но более всего — на стороне подкладочной. Карманами (условно говоря) были оснащены тельняшка, трусы и даже носки Куропёлкина. Изучение меховой ушанки и аптечно-мотоциклетных очков Куропёлкин пока отложил.
По первым впечатлениям от находок Куропёлкин сообразил, что люди, отправлявшие его по маршруту Бавыкина, всерьёз отнеслись (что надо было ещё перепроверить) к возможности внештатного поворота эксперимента и даже к трагедийно-аварийному происшествию по ходу его.
Пожалуй, они были милостивее Океана, тот, испытывая Робинзона и возбудив в нём силы к созиданию, засовестился и решил поощрить Робинзона полезными вещами. Сказано выше, рядом приятно звучал ручей. Но Куропёлкин, посчитавший, что сразу же надо отпить родниковой воды, почувствовал, что пить его не тянет. И что он сыт. Тюбики. Вот что. Возможно, его так зарядили тюбиками, что он ещё долго будет существовать без жажды и аппетита. Мысль об этом не скажу чтобы обрадовала Куропёлкина, но и не расстроила. В верхних подкладочных карманах Вассермана он обнаружил в пакетах большой запас тюбиков, этак на год хватит.
Оказалось, кстати, что ёмкости, названные Куропёлкиным портновскими карманами и имеющие сходство именно с карманами, на самом деле обладали способностью быть безмерными и вмещать в себя объёмы удивительных габаритов и форм, не разрушая при этом их сущностей и деловых предназначений. В конце изучения грузовых отсеков комбинезона Вассермана Куропёлкин убедился в том, что, если бы в одном из них обнаружился жираф, то и присутствию жирафа не стоило бы поражаться. Но жирафа в странствиях Куропёлкина не посчитали необходимостью. Как, предположим, и одарение его автомобилем-амфибией или сухопутным лендровером. Но много чего толкового, полезного для проживания после, скажем, катастрофы обнаружил Куропёлкин. Заботливые люди отправляли его в поход! Заботливые, но может, заботившиеся не о каком-то странном Куропёлкине, а о собственных шажках в карьере. Что Селиванову, без участия в его проекте, он, Куропёлкин?
Но имело ли теперь это какое-либо значение?
Новые неожиданности ожидали Куропёлкина при обследовании нижней части комбинезона Вассермана.
372
Понятно, что ради изучения походного снаряжения Куропёлкин стянул с себя комбинезон. И теперь запустил руку в карман, примыкавший к его левой ягодице. Нечто в нём и при сидении на пне вызывало его неудовольствие. Из кармана Куропёлкин выудил прозрачный пакет, в котором ясно и радостно краснела авоська, добыл из пакета авоську (её он, вполне возможно, сам мог засунуть в карман, так в Москве с ним нередко случалось). Авоська сейчас же раздулась, и в ней стали видны какие-то неопрятного вида камни. Камни были немалых размеров, из дырок авоськи вывалиться они не могли. Куропёлкин приподнял сумку и определил: груза в ней примерно пуд. Сейчас же решил отделаться от камней, на кой хрен таскаться с ними? Но тут же углядел в авоське бумажку со словами. Слова были написаны его рукой: «Шивелуч… Изумруды… Нинон…». Когда и как он вывел их грифельным карандашом, Куропёлкин вспомнить не смог. Чтобы отогнать мысли об этом, предпринял опыт. Опустил авоську с камнями обратно в пакет, а пакет попытался вместить в предназначенный для него карман. И вместил. И карман моментально сделался плоским, а Куропёлкин ощутил, что никакого пудового груза в кармане нет. Стало быть, осуществляли подготовку к маршруту Бавыкина люди не только заботливые, но и хитроумные.
И зря он, Куропёлкин, минутами раньше ворчал на них.
Смутно услышанный хруст хвороста где-то за ручьём напряг его, а потом Куропёлкину показалось, что невдалеке кто-то тяжело шагает опять же за ручьём, причём шаги эти, по всей вероятности, были куда шире людских. Возможно, какой-то большой зверь. Хорошо бы зверь, а не охотник и не снежный человек. Однако, если есть Баборыба, почему бы не быть и снежному человеку? Какая Баборыба, выругал себя Куропёлкин, вспомни, кто она — синхронистка второго состава Людмила Мезенцева!
Но вот хрусты прекратились и звуки широких шагов замерли. Теперь только тихо и будто ласково осуществлял свою жизнь ручей. Но Куропёлкин успокаиваться себе не позволил. Лишь постановил ускорить свои исследования, при этом он посчитал, что набор приданного ему имущества, судя по опыту с авоськой и камнями, соответстствует целям его путешествия, а всяческие подробности штанов Вассермана откроются ему позже. Не отказался, правда, осмотреть меховую ушанку и тряпочные очки. И не без пользы. Возможно, для пользы будущей. Прощупал, не снимая с себя, тельняшку и трусы. Тельняшку Куропёлкин согласился надеть свежую, но в привычном месте одного из своих тайников нащупал нечто, похожее на пачку. «Неужто опять песо?» — чуть не испугался Куропёлкин. А было ли чего пугаться? Ну, песо и песо. Проходили, проплывали. К тому же традиционно-секретным местом безопасного провоза денег российским путешественником (мужского пола) всегда были трусы. У дам имелись для тайников свои углубления. И в трусах Куропёлкин ощутил сейчас присутствие трёх будто бы карточных колод. Понадеялся на то, что его не посчитали карточным игроком и тем более кидалой, а снабдили для каких-то нужд деньгами, и не только песо, но и бумажками иных валютных достоинств. Вдруг даже и рублями. «Эй ты, Баборыба! Накось выкуси!» — готов был выкрикнуть Куропёлкин в сторону Москвы, хотя ещё и не определил, где она, эта сторона Москвы.
Какая мелкость и мелочность! Какая глупость! Какая гнусность! — тотчас осознал Куропёлкин.
О чём он думает?
Всё же он, но теперь уже без радости и вяло, добыл из-под мехов ушанки два паспорта. Один — заграничный, на имя Куропёлкина Евгения Макаровича, другой для свободной жизни в свободной стране Российская Федерация. Этот — выданный милицией города Лысьва Пермского края на имя уроженца Таганрога Бондаренко Михаила Тарасовича. Куропёлкин полистал документы, получил подтверждение, что у него, как и у гражданина Бондаренко, нет ни жены, ни детей.
Тоскливо ему стало.
И двигаться куда-либо ему расхотелось.
Потихоньку до него, сидящего на пне, доходило, что он и впрямь возвращён (выплюнут!) в надземную реальность, а она и с жёсткими чемоданными углами, и с покатыми боками, и что делать в ней, он не знает.
373
И снова его напрягли звуки шагов большого зверя или снежного человека.
Миновав сосну с берёзой и протиснувшись сквозь кусты подлеска, вышел Башмак и направился к пню Куропёлкина. У ног Куропёлкина, одетых, кстати, в некое подобие коротких бурок, он остановился и замер. «Сейчас!» — сообразил Куропёлкин, натянул на себя комбинезон Вассермана, украсил лицо очками из стёкол и тряпок, нахлобучил на башку меховую ушанку и понял, что все эти действия и следовало произвести.
Выждав сборы Куропёлкина, Башмак развернулся и будто бы знаком каким-то пригласил (приказал) Куропёлкина направиться за ним, и Куропёлкин без раздумий направился. На расположенном к Куропёлкину боку Башмака высветилась и пришла в движение бегущая строка. «Если желаешь быть укрытым от чужого надзора и от общения с людьми, не вздумай нажимать на что-нибудь во мне. Все надзирающие средства глаз, ушей, щупалец мной отключены. Поразмысли над тем, кто ты и зачем ты. Не торопись…» И бегущая строка задёргалась и исчезла.
Сам же Башмак не исчез, а вёл Куропёлкина за собой. «Чудил бы я сейчас с прапорщиками в грибных местах. А тут чёрти что!» — подосадовал Куропёлкин. И незамедлительно перекрестился. Ни с какими чертями он никогда бы связываться не стал! Ни на какие уловки и коврижки их не поддался бы!.. Даже если бы у Нинон имелся куцый хвост, то и тогда бы он… Фу ты!.. И тут сами мысли обо всём этом были Куропёлкиным признаны очередной глупостью.
Очумел я в этих пробиваниях, посчитал Куропёлкин, голову, видно, отшиб, хоть и был в ушанке.
Однако голова у него не болела.
Теперь дошло до него, отчего услышанные за ручьём шаги Башмака показались ему широкими и тяжёлыми. Башмак как бы и не шагал, а переносил себя каждый раз метра на три на четыре и при этом был будто бы до того весомым, что под ним хрустели валежник и нижние ветки кустов (среди них и дикой смородины, чаще — белой).
Куропёлкин не удивился тому, что Башмак попрежнему просил Каши, будто бы и не попадал в руки маэстро сапожных искусств в пещере при Люке и не был приведён в товарное состояние в каких-либо переулочных «Ремонтах обуви», и передвигался теперь, ощерив свою акулью пасть. И подмётка, вспомнил Куропёлкин, была у него ущербно-стёртая. Значит, такая ему была определена судьба. И значит, и ему, Куропёлкину, определили в поводыри на Земле (или ещё где) именно рваный Башмак.
А Башмак перевёл Куропёлкина через ручей, не такой уж спокойный и ласковый, а переправлявший воду с холодных гор к какой-то неведомой Куропёлкину реке. Не исключено, что к Енисею или к Оби. Аляска была исключена из соображений Куропёлкина. И сам Башмак воды не наглотался. И Куропёлкин ног не промочил, и по скользким камням прошёл будто в войлочных тапках по паркету Эрмитажа.
Далее он следовал за Башмаком часа четыре, они спускались в распадки, поднимались на сопки. Наконец на склоне одной из сопок, на средней её террасе, Башмак остановился, и до Куропёлкина донеслось: «Здесь…». И тут Башмак подпрыгнул и ущербным носком своим ткнул Куропёлкина в правую ягодицу. На боку уже стоявшего на земле Башмака снова высветилась бегущая строка: «Не торопись. Поразмысли, но избегай мелочей и самокопаний. Не ты во всём причина…».
374
Куропёлкин стал ощупывать отсек штанов Вассермана (а как же ещё можно было назвать нижнюю часть комбинезона?), когда же взглянул под ноги, Башмака не увидел. Скорее всего, Башмак выполнил свою функцию и удалился восвояси. Может быть, даже и в «Ремонт обуви» в Газетном переулке. Хотя вряд ли…
В кармане-отсеке же, указанном тычком подмётки Башмака, была размещена палатка и тепловое устройство при ней, действующее, видимо, от батареек. Пользоваться подогревом не было смысла, стояла теплынь. Притом — безветренная. Стоило опасаться энцефалитных клещей. Но Куропёлкин тревожиться не стал, в легкомыслии посчитал, что наверняка его снабдили каким-нибудь спасительным средством или хотя бы сделали прививку от укусов клещей.
А вот с палаткой он разобрался умеючи. В первый раз, что ли?
Собрал, надул (подкачал), что полагается, поставил временное (временное ли?) жилище в умятом ветрами и водой углу сопки.
Пожелание поразмыслить, не торопясь, вполне устраивало Куропёлкина. Главным для него было сейчас желание выспаться, что, улёгшись на спальном мешке, Куропёлкин и разрешил себе исполнить. Выяснилось, а позже и подтвердилось, что палатка обладала свойством быть невидимой, неощутимой (или невещественной) и не должна была позволять чему-либо или кому-либо мешать Куропёлкину отдыхать в спокойствии, обижать его или вредить его благополучию и здоровью, ни странникам лесным, ни внезапной грозе, а грозы в тайге особенно неприятны, ни огню, ни насекомым, ни гадам ползучим, ни птицам, ни зверям, большим и малым.
Последним большим зверем, подумал Куропёлкин, был здесь Башмак.
Палатка его (цвета хаки) будто бы не имелась в реальности, но она была именно реальной и земной.
Днями позже ураганный ветер циклона с юго-запада (Куропёлкин уже разобрался с расположением в небе светил) повалил несколько сосен (березы не падали, корневая система у них глубже и ветвистее), одна из сосен рухнула точно на палатку, но ни одной из своих колючих лап её не тронула, напротив, стала как бы крышей-навесом над палаткой. Можно было предположить, что вокруг палатки сразу же была создана энергетически-охранная зона.
Или её создавало само присутствие якобы энергоёмкого Куропёлкина?
Эти мысли следовало объявить досужими и не имеющими ни разъяснений, ни ответов.
А в день, когда Куропёлкина тайгой привёл сюда Башмак и определил ему место постоя, Куропёлкин рухнул в сон и долго не мог из него выбарахтаться.
375
А когда выбарахтался, ощутил, что нуждается в подкормке и поправке, до того ослаб его организм.
И понял, что состояние последних часов или суток назвать «спал как убитый» никак нельзя.
То, что не убитый, это ладно. Сейчас, в отличие от своего первого путешествия, Куропёлкин не маялся над мыслями, на Этом он Свете или на Том.
На Этом! На Этом!
Но от первого его путешествия не осталось в его натуре никаких подробностей. Ничего не осталось. Был сброшен в Люк и очнулся на горячем песочке Карибских берегов. При этом плавания его, хождения по морям и океанам, нельзя сказать чтобы отличались обострённостью ясных мировосприятий, случались в них эпизоды смутные, а то и удивившие его несоответствием с привычными проявлениями жизни и природы. Но тогда он был контуженый, ошарашенный произошедшим пробиванием Земли в компании с мусором и вонючей дрянью.
Теперь же Куропёлкин не ощущал себя околоченным из-за угла пыльным мешком. Новизна прежних впечатлений не повторилась. Голова, правда, была не свежая, но при осмотре головы, плечей, локтей и всего тела Куропёлкин особых ущербов не обнаружил. Нашлись кое-где синяки, но для Куропёлкина — пустяковые… А Куропёлкин думал про нынешний сон и осознал, что в него (сон), какому было положено соответствовать сну убитого, вклинивались какие-то необъяснимые Куропёлкину видения и разговоры со странными существами, неведомыми ему, уродцами даже, причём велись эти разговоры на языках, также Коропёлкину неизвестных. Во сне (во сне ли?) он удачно болтал с камнями, водорослями и огненно-раскалёнными, будто железо в кузнице, но живыми ящерками. Все эти видения теперь его тяготили, он желал от них избавиться. Уговорил себя посчитать, что всё это — отзвуки и отблески прочитанного им или виденного на экранах, в крайнем случае, полузабытых событий его собственной жизни. Ничего вещего отыскивать в них он не стал. Их следовало утопить в глубинах снов, в подвалах натуры и забыть.
Но сразу сделать этого не смог. Пока не подействовали предусмотренные, видимо, на этот случай тюбики. И всё-таки порой видения из возвращенческого сна в мозгу Куропёлкина искрили. Однако наконец они утихли и исчезли. Странно, в них ни разу не возникали и не действовали женщины, если только они не были водорослями женского пола.
Что же касается мыслей Куропёлкина после обследования им возвращённого на поверхность Земли его тела, то тут мысли его двоились. Естественно, ничего плохого не было в том, что кости и внутренности его не получили повреждений, живуч негодяй. Но если он попадёт в руки энтузиастов нового направления научной мысли — Геонавтики и практиков их теорий, ему несдобровать. Хорош, решат они, и от нас ему не сбежать. Но для этого его надо отыскать! Вот пусть и ищут!
А он, Куропёлкин, что-нибудь да и придумает…
376
Однако пока Куропёлкин ничего не придумывал. И не ощущал в этом нужды. И ничего не желал предпринимать. А желал пожить себе в удовольствие. В тишине и уединении. Без всяких на то оснований он посчитал себя неуязвимым и недоступным для ретиво-государственных искателей пропавшей экспедиции. Беспечными стрекозами отлетели от него тревоги и ожидания неприятностей и бессмысленных для него теперь дел. Ни единого человека вблизи себя видеть он не хотел. Зато какая радость было общение — и с каждой мелочью таёжной, и с великанами здешними, и с солнечными лучами, путешествующими сквозь лапищи еловые и вздрагивающие листья берёз и осин, безгласно вступать в разговоры со зверьем, проживающим где-то рядом, с птицами небесными, с уже знакомыми ему юркими и простодушными бурундуками, с кустами кисловатой белой смородины…
Но возникало одно недоумение…
Ещё совсем недавно Куропёлкин постановил, что он станет не только отшельником, но и аскетом. А иначе зачем бежать от людей?
И уверил себя в том, что проберётся в истинно дремучую чащобу мрачно-ледяной тайги на границе с тундрой и там, вблизи непременного ручья, устроит скит. Сначала, может быть, даже выроет землянку, накроет её еловыми ветвями и протянет в ней зиму. А потом, разведав, что люди сюда не заходят, поставит способный не радражать чей-либо взгляд сруб. И будет скит. Найдётся и чем поддерживать организм. Были бы там акриды, оказались бы деликатесами и акриды. Но откуда там акриды? Однако и на наших Северах Куропёлкин рассчитывал отыскать свои акриды.
Но вот незадача. Куропёлкина вынесло на поверхность и опустило парашютом в Южной Сибири, да ещё в комбинезоне Вассермана, выбрасывать который было бы неразумно. Просто смешно было бы! И место поселения было решительно указано ему загадочным, но много о чём ведающим Башмаком.
Так зачем ему сруб? И зачем ему скит? Палатка и будет ему и срубом, и скитом. Сейчас же Куропёлкин засомневался. Что ему зашел в голову скит? Да, он собирался удалиться от людей, стать отшельником и аскетом. Это в случае, если Земля не примет его, не оставит в своих измерениях, не приютит в углу одного из своих чемоданов. Хоть бы и в компании с застрявшими в памяти уродцами. Но случай, неожидаемый Куропёлкиным и неприятный ему, произошёл. И теперь выяснилось, что Куропёлкин к варианту с отшельничеством и аскетизмом подготовился плохо. Представления об отшельниках и скитах были у него, оказалось, смутные, вычитанные некогда в книгах, ныне полузабытых. И выходило, что планы его запасного варианта были вытканы фантазиями, сходными с романтическими фантазиями опечаленного мальчика — вы, злые люди, меня обидели, я ухожу от вас, и вы меня не найдёте… То есть решение, для Куропёлкина — драматическое (а может, и трагедийное), приобретало для него же смеховую окраску. Но какие такие злые люди обидели Куропёлкина (или вынудили к чему-то, угнетающему его)? Да и обидели ли? И не имелось ли здесь в виду не какое-то множество людей (тем более — всё человечество), а имелось в виду одно, совершенно определённое лицо…
377
Так вот, отшельники и аскеты. Кто они?
Прежде всего, считал Куропёлкин, — подвижники, способные совершить труднейшие, порой мучительные деяния ради служения высокому целесообразию. При непременном отказе от житейских благ и привычек. Оценивая себя, свои физические свойства, умение терпеть в частности, Куропёлкин был убеждён, что, коли бы возникла необходимость, он смог бы выдержать тяготы жизни аскета с голодом, морозами, веригами и прочим. Да и руки его, и смекалка его были бы при этом уместны.
Но…
На память ему пришли почти забытые сведения. В скиту (а фактически — в избе, или вроде как на хуторе) обитали по несколько насельников, а с ходом времени скиты, особенно северные, превращались в монастыри, без общего хозяйства выжить в них было нельзя. Одинокие отшельники случались (выдерживали) здесь редко.
Ко всему прочему нынче грохотал, выжигал поля с пшеницей, гнал воду из ледников, стрелял, взрывался, калечил природу и людей техническими усовершенствованиями быта и кормовыми чудесами двадцать первый век, а не какой-то там четырнадцатый, и в его дни производить себя в отшельники вышло бы, мягко сказать, делом несерьёзным — чудачеством или лицемерно-дешёвой игрой. Тем не менее Куропёлкин обязал себя сбежать от людей, от навязываемого ему Пробивания ради чужой корысти, от… ну, это — особое, это не будем держать в голове…
Какая уж тут землянка, покрытая еловыми лапами, какой уж тут скит, если его опустило в тайгу в комбинезоне Вассермана! То есть ощутить себя аскетом и продолжать пребывать в состоянии аскета Куропёлкин мог только принудительно-искусственным способом. Ну и какой из этого толк? Кого это взолновало бы? Или хотя бы задело? Никого. И сам он ничего бы не добился, ничего ни в себе, ни в мире не изменил бы. С таким же успехом мог бы залезть на телеграфный столб, сидеть на нём сорок лет, питаться воздухом, мошками и комарами, болтать ногами и квакать. Может, несколько пешеходов и задрали бы головы, повертели бы пальцами у висков и поспешили бы дальше…
Итак, по поводу аскезы в Куропёлкине установилась ясность.
Как, впрочем, и по поводу отшельничества.
Желание удалиться от людей в нём обострилось, и отменять его Куропёлкин не собирался. Ну, не аскет, ну, нет нужды изнурять организм вонючими веригами с гвоздями-телодралами, ну, придётся жить в обнимку с тюбиками и в комфорте изобилия карманных отсеков комбинезона и штанов Вассермана, но он останется один! Один! А когда иссякнут подачки устроителей экспедиции, он найдёт способы существования и в самых погибельных условиях таёжных дебрей.
Тогда и возникло у Куропёлкина жёсткое и неотменяемое намерение освободиться от опеки Башмака (или того, кто Башмаком управляет). Никакая опёка, пусть даже лиц, доброжелательных к нему и его судьбе, была сейчас для Куропёлкина и его свобод неприемлема.
Надо было исследовать здешние места и найти укрытия, в какие приход Башмака был бы невозможен.
Но это не сейчас, не сразу, а после того, как он, Куропёлкин, привыкнет к жизни в палатке.
378
Антон Васильевич Шаронов вернулся из Тарусы ради занятий с набранными им в июле студентами.
Бранился, басил свирепо, переходил на слова, свойственные скорее и не живописцам, а малярам и штукатурам:
— Никакой культуры! Ни о чём не знают! До чего мы докатились! Что им Джотто, что им Караваджо! Оказывается, что Джотто и Караваджо — одной школы и одного поколения! Малевич, по их понятиям, племянник Шагала. Петров-Водкин — тоже племянник, потому, как и Шагал, обожал селёдку. «Чёрный квадрат» Малевича — прежде всего манифест, объявивший о конце искусств. Ну, это они наслышались утверждений кинодеятеля, чья жена объясняет народу, как надо готовить итальянскую лапшу. Будто «Чёрный квадрат» не был всего лишь элементом декораций к дачной опере Матюшина на слова Кручёных «Победа над солнцем», и вместе с ним стояли на сцене другие квадраты. Но тут же вскричали толкователи о якобы манифесте! И при этом всё прекрасно знают, от кого понесла какая-то Жудковская и когда она родит! И ведь есть среди новеньких ребята талантливые. Но, похоже, очень скоро они смогут потверждать в документах свои личности лишь крестиками!
— Не горячись, Антон! — пытался я успокоить Шаронова. — Неужели до тебя не дошло, в каком государстве мы живём?
— Ну, и в каком?
— В неведомом государстве, в тридесятом царстве Бабы ЕГЭ…
— А-а-а! — махнул рукой Шаронов. — Брось эти шуточки!
— Я тоже пришёл в ужас от безграмотности своих абитуриентов, — сказал я, — и всё же я знаю, что из нескольких ребят выйдет толк.
Сидели мы в мастерской Шаронова на Верхней Масловке. Употребляли, закусывали, поджидали обещавшего подойти Константина.
Сразу с интересующими меня вопросами к Константину я приставать не стал. Принялись говорить о культурных ценностях. Впрочем, они не слишком занимали технаря Константина.
Тогда я и позволил себе спросить его:
— Ну, и где же наш геонавт Куропёлкин? Три месяца прошло со Старта его путешествия.
Константил развёл руками. Потом сказал:
— Существует официальное заявление. Куропёлкин продолжает исследовательские работы.
— И всё?
— И всё, — кивнул Шаронов-младший. — Ну, и ещё, об этом и вы могли прочитать, снаряжение и питательные запасы, отпущенные геонавту, позволяют ему продолжать исследования в течение длительного срока. Более ни к каким откровениям я не допущен.
— Угу, — пробормотал я. — А сам-то что думаешь?
— То же, дядя Володя, что и вы.
— А что я думаю? — поинтересовался я.
— А где же наш удалой Пробиватель? — разъяснил Константин. — Думаете, не случилось ли чего с ним? Не начать ли ставить ему памятники? Полагаю, что до памятников дело ещё не дошло. Пока он есть и живой. Но только застрял в каких-нибудь ловушках и не может из них выбраться. А пособить ему средств нет. Либо ему так обрыдли навязываемые ему Пробивания, что он посчитал от них устраниться и проживает сейчас в приятном ему затворе. Однако наиболее устойчивое и охватившее публику мнение такое. Мол, на самом же деле найден способ доставки Куропёлкина прямо к кратеру Бубукина, вот теперь его туда и доставляют, а некая благородных устремлений дама вызвалась обеспечивать сюрпризный проект фамильными средствами, и их вроде бы хватает…
— Баборыба, что ли? — взволновался я.
— Какая ещё Баборыба? — удивился Костик.
— Ну, та, которую отловил в подземном реликтовом водоёме профессор Удочкин.
— Эй вы, бездуховные бездельники! — загромыхал Шаронов-старший. — А ну, назад к самобранке! Разливаю! Хочу Баборыбу по-монастырски! Из «Астории» на Тверской! Каких она пород, из лососёвых или из осетровых? Если из осетровых, то лучше приготовьте севрюгу!
— Ты, дед, охальник и крикун, — заявил Константин. — Наша Баборыба — не сёмга и не севрюга. Она женщина.
— Так бы сразу и сказали, — утихнул Шаронов. — Женщину я жрать не буду. Ещё вырвет. Моё дело воспевать красоту женщины. Небось и ваша Баборыба хороша, как Венера Веронезе. Ты, шалопай, видел её?
— Нет, — сказал Костик. — Её никто не видел. Правда, есть папарацци, утверждающие, что и видели, и сняли её, и что живот у неё за три месяца прилично округлился! Вот, смотрите, — и он достал из внутреннего кармана фотографию.
— Смазливая девица, — заключил Шаронов-старший. — И тело у неё, вижу, отменное. Завтра же начну мазать «Баборыба в кратере Бубукина». Холст на большой подрамник у меня уже натянут.
Шаронов обычно или «мазал» или «красил». Но не мазал и не красил. Полотна его висели и в Третьяковке, и в Русском музее, в коллекциях именитых собраний, и уважительно стоили на аукционах «Сотби». Меня он тут же пожелал пригласить в консультанты.
— Расскажи мне о подробностях кратера Бубукина. Сможешь?
— Конечно, смогу! — нагло заявил я. — Но не сейчас, а завтра.
— Это разумно, — согласился Шаронов.
Константину наш обмен репликами с его знаменитым отцом не понравился. Мы болтали о чепухе, а его волновали проблемы космологические. Шаронов-старший сейчас же принялся на трапезных салфетках, белых, с тиснением, создавать наброски будущего полотна и рисовал теперь кратер Бубукина, о котором понятия не имел. Как и я. Константин же явно хотел, чтобы я высказал ещё одни, новые, соображения или сомнения, какие бесспорно томили и его.
И я не удержался:
— Если, предположим, Куропёлкин находится в своём затворе, как ты сказал, но есть — ГЛОНАСС, есть какие-то чуткие следители, им-то из космоса доступно разглядеть и рост василька в ржаном поле, и почёсывание уставшего к вечеру рыжего муравья. И даже его, муравья, занятия любовью с тлёй на смородиновом листе в саду флейтиста Садовникова. Отчего же им не знать, где нынче и чем занимается геонавт Куропёлкин?
— Не знают. Не видят.
— А если он задержался под землёй… Но ведь должны были быть установлены датчики, не знаю, на теле ли Куропёлкина или тем более в комбинезоне Вассермана. Их сигналы могли бы вызнать и в закрытом помещении место пребывания Куропёлкина и интенсивность его жизненных токов.
— Были или не были такие датчики, не знаю, — сказал Константин. — Но сигналы от них не поступают.
— Значит, его нет, — задумался я.
— Он есть! — чуть ли не вскричал Константин. — Есть! И он живой!
379
— А у меня такое ощущение, — сказал я, — что публика у нас уже ничего хорошего не ожидает, раньше мы жили упованиями, что всё лучшее впереди. А теперь, если путешествие Куропёлкина закончится трагедией, никто слезу не прольёт. Закономерность. Бедолага, конечно (или авантюрист), но подобное в наше время и должно было произойти. «Протоны», батоны, в день покупки становящиеся белой крошкой. Коммерция. Минус понятия о совести и чести. И эта баба благородных устремлений наверняка наворовала. Даже такое святое дело, как реконструкция Большого театра, если верить молве, не состоялось бы без растрат и откатов.
— Вы разгорячились, дядя Володя, — спокойно сказал Костик. — И находитесь в раздражении. А мы о многом не знаем. Тем более что ситуацию с геонавтами стали усиленно секретить.
— Что значит секретить?
— А то и значит, что секретить. Дело новое, юридически не оформленное. А наши было раскудахтались. Теперь выдвинули на передовую дипломатов. Особенно после ворчания американцев.
— Какого ещё ворчания?
— Ну, ворчание пока неофициальное и, посчитаем, деликатное, — сказал Константин. — Или даже осторожное. Выраженное намёками. Причём никакой Куропёлкин и геонавты в нём не присутствовали. А так… Мол, какой-то странный случай произошёл на Аляске, в запретной для жителей зоне. Будто кто-то взлетел там или пролетел, взбудоражив приборы космической защиты и заставив обнаружить места их установки. Не исключено, что это были инопланетяне. Но не исключено также, что действие затеяли и учинили коварные и агрессивные северные соседи, гренландцы, то есть по сути — эскимосы, желающие стать властителями арктической части континента. Но наши сведущие-то люди всё просекли. И то, кого считают северными соседями силовые службы Большой атлантической страны. Но доказательств у них никаких нет. Хорошо хоть Куропёлкин не оставил там следов. В так называемой запретной зоне был найден лишь ремень из кожи бизона с вырезанными на нём ножом латинскими буквами БАРРИ.
— Погоди, — вспомнил я. — У Колгуева-то на берегу валялась ковбойскоя шляпа с именем Барри на подкладке…
— Ну да, — кивнул Константин. — А на льдине у Северного полюса обнаружили разодранные белым медведем джинсы и вполне отечественную заточку…
— И кто же этот Барри?
— А я знаю? — сказал Константин. — Другое дело, что штатники отнеслись к явлению Пробивателя вместе с московским мусором и продуктами канализации в карибских водах легкомысленно, чуть ли не с шутками, не связали его явление даже с гибелью китов, списали происшествие на японцев с их фукусимским землетрясением. Но теперь они озаботились всерьёз. Наиболее оголтелые их специалисты утверждают, что некоторая страна, возможно Иран, а возможно Северная Корея, испытывает стратегическое оружие, о свойствах которого американские учёные и понятия не имели. Теперь же они намерены предпринять экстренные меры. Теперь-то до них дошло, что первое Пробивание было для них по сути оскорбительным. А каково им жить ожиданием того, что вдруг где-нибудь под Хьюстоном или Атлантой земля развезнется и под солнышко вылезет корейский танк или персидская чалма. Так что они нынче стали очень внимательны к геонавтике.
— Батюшки-светы! — ужаснулся я. — Этак всю планету перекопают снизу доверху, наискось и поперёк!
— Сомневаюсь, — сказал Константин. И проявил себя патриотом: — Откуда возьмутся у них Пробиватели?
— Ну, отыщется у них, — предположил я, — какой-нибудь лобастый негр, извините, афроамериканец…
— Ага! — рассмеялся Константин. — Может, ещё и Киев отправит под землю братьев Клячко пробивать её кулаками?
— Киеву-то зачем? И чем уж так хорош Куропёлкин? — спросил я.
— Создание Творца! — пафосно произнёс Константин. — Именно для Пробивания. Пришла пора изучить, что такое планета Земля!
— То есть чуть ли не мессианская задача поручена исключительно России. С чего бы вдруг? За наши страдания, что ли?
Костик укоризненно покачал головой:
— Если бы я вас не знал, дядя Володя, я посчитал бы вашу иронию кощунственной.
— Эй, болтуны, идите-ка сюда! — призвал нас Шаронов-старший.
Своим поставленным рисунком Антон славился, будто бы получил выучку у самого Чистякова. И вот на бумажной салфетке мы увидели возлежавшую в кратере Бубукина Баборыбу, обнажённую, естественно, прекрасную телом, с обильными бёдрами и ногами, однако из-под ягодиц шароновского создания в сокровенном месте с самой нежной кожей высовывался пушистый хвост-плавник.
— А? Каково? — восхитился своим наброском Шаронов.
— Дед, ты чего! — возмутился Костик. — Это же у тебя русалка!
— А кто же она есть? — обрадовался Шаронов-старший. — Она, по-вашему, женщина, но она и рыба, стало быть, она русалка.
380
Видимо, находясь в раздражении, я на самом деле был несправедлив.
Это одно.
Но, похоже, Константин знал куда больше о судьбе Куропёлкина и делах геонавтов, передо мной же будто бы прикидывался несведующим, из меня же, возможно, пытался вытянуть, скажем, ходячие мнения обывателей. Или подтвердить своё знание об этих ходячих мнениях. Зачем это ему было нужно, не знаю. Может, для работы над какой-нибудь статьёй. Ну и ладно. Я на него не сердился. Сам когда-то служил журналистом.
Несправедливым же вышло моё суждение об отношении общества к ситуации с пропавшим геонавтом. Интерес к Куропёлкину не исчез. И связан он был не с ехидствами, мол, чего от наших учёных ждать, и снаряжение экспедиции наверняка разворовано, а уж штаны Вассермана — поддельно-китайские, но для большинства людей интерес связан был — с надеждами. О Куропёлкине то и дело умные и знаменитые говоруны рассуждали на шоу-толковищах. Правда, реже, чем о наезде одесского певца на велосипед вздорной девицы. Или об убиениях там и тут матерей, отцов и любовниц пакостными родственниками. Или о страданиях перекормивших себя толстяков и толстух. Или о рисках и подвигах светских красавиц на койках пластической хирургии. Или о неравных браках лилипутов. Да мало ли о чём! Скажем, занимательной вышла дискуссия о том, каким здоровеньким будет в парилке для слепой кишки — липовый или еловый веник. В концентрациях этих испытаний человеческих свойств и интеллектов всё же находилось время для толковищ и о Куропёлкине и об использовании наших с вами (налогоплательщиков) денег на бредовые идеи. Для повышения рейтингов, о которых ничего никому не известно, приглашались любимцы народа. В частности, горлопан планетарного масштаба Держивёдра, объятый нестерпимой эротической страстью, готовый в случае чего тут же набить морду любому оппоненту, но при этом призывающий настоящих мужиков испытать оргазм в чёрных дырах Вселенной, иначе — зачем эти дыры. Или ставший популярным в последний год Фёдор Курчавов-Шляпин, хронически уносимый инопланетянами ради улучшения их породы, но тут же возвращаемый ими по месту жительства. Этот Курчавов-Шляпин почти всегда молчал, и никто не знал, чем он занимается. Но было известно (в телепрограммах прошло), что одна из поклонниц этого юноши, бабушка-старушка, наследница престола, пообещала построить ему в подарок Хоромы, на манер деревянного дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Стало быть, замечательный человек был Фёдор Курчавов-Шляпин! Удивило тогда лишь то, что рядом с ним и Держивёдрой (дром) ведущий усадил смуглого человека в набедренной повязке и с кольцом в ноздрях, назвав его премьер-министром республики Таити. («Папуас…» — прошелестело). Ну, Таити и Таити. В толковище к Куропёлкину отнеслись доброжелательно, полагая, что ни в каких откатах выгоды у него не было и надо с терпением дождаться его появления с лопатой и отбойным молотком в кратере Бубукина. Держивёдра раза два вскакивал и орал, требуя к ответу Вассермана, чьи штаны девственника могли ослабить организм геонавта, но никого не взбудоражил. Таитянина при этом он не решился дёргать за кольцо. Курчавов-Шляпин молчал, лишь однажды с важностью заявил, что его друзья инопланетяне пообещали к среде вызнать точное местоположение Куропёлкина. Если, конечно, не наступит Конец Света. Не удивил и таитянин. На русском языке, правда, очень корявом, будто служил у нас футбольным комментатором, он объявил, что если господин Куропёлкин докопается до острова Таити, он тут же получит таитянское гражданство.
381
Если бы Куропёлкин узнал об этом обещании…
382
— А там голые гогеновские бабы! — в восторге вскричал Держивёдра. — Конечно, докопается! И я докопаюсь!
В общем, умнейшие и словоохотливые люди отнеслись к Куропёлкину уважительно. И с надеждами налогоплательщиков и накопительных пенсионеров.
383
Это было отрадно.
Правда, через несколько дней публику расстроила пропажа красавчика Фёдора Курчавова-Шляпина. Соседи видели, как его в сумерки выволокли на балкон какие-то грубые существа и под белые руки утащили под облака. Конечно, это были инопланетяне. Обычно они быстро возвращали Фёдора. А тут квартира Шляпина тосковала без хозяина уже неделю. Сострадательные люди, а у нас их, к счастью, много, стали жалеть и Шляпина, и в особенности бабушку-старушку, наследницу престола с её несостоявшимся подарком.
Впрочем, она, посчитали, найдёт себе другого красавчика, всё равно на постройку Хоромов нужно время, а там, глядишь, инопланетяне Фёдора и вернут. «Не вернут, — рассудили разумные люди. — Слишком много он об инопланетянах уже натрепал». Выяснилось, что прежде Курчавов-Шляпин мелькал на корпоративных попойках с балалайкой в руках и в косоворотке, исполнял «Ехал на ярмарку ухарь купец», расписывался в ведомости и исчезал. Забрали ли его с балалайкой, ясности не было…
Интересно, что уравнивать пропажу Курчавова-Шляпина с пропажей Куропёлкина или как-либо связывать их мало кто стал. Хотя поводы будто бы имелись. Но Курчавов-Шляпин был обыкновенный трепач, а Куропёлкин всё же считался пропавшей экспедицией, причём временно пропавшей. И если от Шляпина не было никакого толка, то от Куропёлкина всё ещё ожидался толк. Недаром же в публику просачивались слухи о том, что кратер Бубукина весь состоит из платины, дорогущих редкоземельных металлов и каких-то неведомых на Земле и ещё более дорогущих минералов. То есть в случае удачи Куропёлкин каждого из граждан России если не озолотит, то уж точно оплатинит. Ожидание это отражалось в шумах на биржах, приводило там к истерикам и долговременным прогнозам. Снова объявились хитроумные дельцы, занявшиеся продажей лунных участков, чем ближе к кратеру Бубукина, тем дороже. Никогда не иссякала порода продавцов воздуха, и всегда на каждого из них находилось по тысяче дураков, готовых предлагаемые им воздухи купить. Естественно, с ходом времени этих дураков меньше не стало. Напротив… Теперь же торговали и не воздухом, а просторами безвоздушными, что, несомненно, объясняло их волшебно-недоступные цены. И ведь покупали. Находили деньги и покупали. Прошла молва, будто бы особенно обогатился на лунных сделках некий таинственный господин Трескучий. Ещё одно сведение капельками просочилось в публику. Что-что, но у нас, известно, секреты имеют способности просачиваться сквозь государственные интересы. И прошёл слух, что некая особа, называемая Куропёлкиным (возможно, ласково) Баборыбой, а на самом деле гражданка Людмила Афанасьевна М. (фамилия была запечатана тайной, и из оков тайны на свет не выбралась) получила сертификаты на право владения земельными (условно) угодьями на пыльных дорогах далёких планет. Сразу же образовались фирмы, иные из них и однодневные, посчитавшие необходимым порадовать участками на всех планетах Солнечной системы. И были выложены деньги. На каких только деревьях они выросли?
Этот слух вызвал пронзительное обострение интереса к личности Баборыбы, или Людмилы Афанасьевны М. Кто она такая, откуда взялась, кем приходится геонавту Куропёлкину? Проще всего было поверить профессору Ихтиологической академии Удочкину. Мол, отловлена в подземном реликтовом водоёме. Переспросить Удочкина не удалось, он якобы отправился в плавание с японскими китобоями. Но каким образом Баборыба оказалась в кругу общения Пробивателя Куропёлкина? И отчего бы ей выдали (или хотя бы пообещали) права на владение участками в Солнечной губернии? Снова начали погоню за добычами журналисты из пронырливых, но ничего путного, кроме того, что Людмила Афанасьевна попадала в лечебницу ради сохранения дитёныша (или даже двух ребятишек) и что её опекает (или надзирает за ней) суровый, но внимательный чиновник Трескучий-Морозов.
Я звонил Костику Шаронову, телефон не отвечал. Подъехал к Шаронову-старшему. Тот накануне выставил в Манеже полотно (два метра на полтора) «Баборыба в кратере Бубукина». Удивил хвостом-плавником, кое-кого и обидел. Публика оспаривала присутствие на прекрасном женском теле русалочьего хвоста. Антон был хмур: «Не вздумай сейчас обсуждать со мной Баборыбу!» «Я и не собираюсь обсуждать, — уверил Антона я. — Я ищу Константина. Где он?» «А я откуда знаю? Отправился в поисковую экспедицию вот с этими волонтёрами. Взгляни». Шаронов показал фотографию. Среди парней в светлых куртках с надписями под плечами «Волонтёры. Прапорщики» (а под словами — ещё и изображения двух грибов — боровика и подосиновика) стоял Костик Шаронов.
— Понятно, — сказал я. — Дело серьёзное…
384
Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела (хотя стрекозы петь и не способны), но пусть будет — пропела.
То есть со дней ток-шоу с участием Держивёдры и таитянского премьера прошло ещё три месяца. А никто так и не вылез с лопатой из кратера Бубукина. Кстати, не были возвращены в Москву ни Фёдор Курчавов-Шляпин, ни его балалайка…
385
И снова мне приснилась женщина со знакомым лицом, но, как и в первый раз, мною не познанная и непонятая, неслась куда-то на лошади, глаза её были печальны, мне показалось, что в гонке своей она пожелала спросить меня о чём-то, но не спросила, безлюдной степью унеслась вдаль.
386
Куропёлкин, решив избавиться от любой опеки над ним, хотя бы даже и от опеки Башмака, произвёл несколько разведывательных действий и километрах в двадцати восточнее сопки, указанной ему тычком Башмака в ягодицу, посчитал, что чутьё подсказывает ему расположиться здесь и тоже на боку сопки. Он, естественно, не был уверен в том, что вокруг его нового становища сама собой и сейчас же создастся энергетически-охранная зона. При этом подумал, что управитель Башмака, хотя бы из-за досады на самоуправство, отключит противодействия средствам надзора над пропавшим Пробивателем, но не сразу. А может, и вообще не отключит. А потому не спеша осмотрел карман с, как он понял, вспомогательными средствами путешествия. Там были и тюбики, и пакетики с чем-то сыпучим, и мелкие флаконы с жидкостями. На одном из пакетиков было напечатано «Пентакруг». Под этим словом имелся разъяснительный рисунок. Внизу была изображена половина круга, вверху над этой половиной — два выдвинутых угла. Никакой пенты. Но слово несомненно было связано с пентаграммой. А так — будто бы соединение (или совокупление) чемодана с шаром. Куропёлкин для чего-то обнюхал буроватый порошок, а потом при подсказке рисунка рассыпал его вокруг уже поставленной им палатки.
И угадал. Позже к нему никто и ничто не совалось.
387
Лес возле его палатки был поплотнее, нежели у покинутого им пня, и никаких следов людской деятельности Куропёлкиным обнаружено не были.
И началась жизнь Куропёлкина, сотворённая (взлелеянная) его грёзами, свободная, ни от кого не зависимая. Никто не мог показать на него пальцем: вот, мол, какие у нас бездельники, пренебрегающие служением народному благу. Или даже обозвать его тунеядцем.
Ну, бездельник, ну, тунеядец, а вам-то что? Вы-то кто такие?
Обследовав грузовые отсеки комбинезона Вассермана, не все, правда, Куропёлкин не обнаружил ни радио-, ни телепринимаюших средств, чему обрадовался по-ребячьи, на кой ему было знать, что происходит в мире. Без него обойдутся!
Погода стояла, по понятиям Куропёлкина, жаркая, за тридцать, валяться в палатке было малоприятно. Но Куропёлкин рассыпал буроватый порошок не под ногами палатки, а с захватом земли метрах в тридцати вокруг неё. То есть образовалось (должно было образоваться) никому не доступное пространство для его хождений и отдыхов под елями. И действительно, ни птички, ни бабочки в его суверенное пространство не залетали, и бурундуки сюда не запрыгивали. Будто бы уставшим от жизни стариком Куропёлкин грелся у бока палатки на смастерённой им лавочке. Солнце било ему в глаза, и, закрыв их, приятно было сидеть в полудрёме. «Была бы здесь ещё и останкинская скамья „Нинон“…» — заставила его чуть ли не свалиться с лавочки внезапная и вздорная мысль.
Слово «Нинон» впервые снова возникло в его соображениях, обожгло его, но было погашено пожарным Куропёлкиным.
А дней через десять его, скажем, тряханула ни с того ни с сего прозвучавшая в нём мысль: «А не завести ли мне козу?»
Какую ещё козу?
388
«Какую ещё козу?» — переспросил себя Куропёлкин.
И догадался.
Козу он пожелал завести из родственниц козы Робинзона Крузо. Коза здесь (при тюбиках-то!) ему совершенно была не нужна, да и откуда тут взяться козам, каких можно было бы приучить к домашнему быту, косули, наверное, вблизи водились, но зачем ему и одомашненная косуля? И тогда он понял, что завидует Робинзону, тот не скучал, времени не было ни скучать, ни заниматься пустыми рефлексиями. И от трудов своих Робинзон получал удовольствие, в нём, Робинзоне, возникал чуть ли не спортивный азарт исполнять мелкие, но обязательно-ежедневные труды. И радовался плодам этих трудов.
Что же он-то, Куропёлкин, здоровенный мужик, мастеровой, освоивший немало ремёсел, посиживает на солнышке или валяется в палатке на спальном мешке? «Ну, и поваляюсь!» — будто с угрозой заявил кому-то Куропёлкин.
И с явным вызовом добыл из Вассермановых щедрот гамак, приобретение Колумбовых матросов первого путешествия в ложную Индию (о чём напомнил ему фантазёр Бавыкин), удачно расположил его между двумя молодыми, но крепкими ёлками и начал раскачиваться в нём словно на показ, хотя видеть его никто не мог…
389
Но уже через месяц Куропёлкин почувствовал, что ему стыдно.
Однако из-за чего ему, собственно говоря, следовало стыдиться? Разве не положен был ему отдых?
«От чего отдых?» — сейчас же рассердился Куропёлкин. Где же он так перетрудился? Может, уже и здоровье подорвал? И чего он такого замечательного наработал?
А ничего. Не считать же трудовым времяпровождение в усадьбе госпожи Звонковой. Лес под охраной здесь он не валил. А его поили, кормили и даже обещали какой-то неощутимый или неосязаемый гонорар, он же в ночные часы набалтывал всякую чушь, причём предложенных ему книг почти не читал, а позже, уже в Шалаше, жил барином и позволил себе завести надувную, водяную куклу и развлекался с ней. Ну да, были ещё малоприятные и болевые обследования и исследования, верчения и полёты в спецкамерах с перегрузками и так и не прочувствованные его организмом и разумом сеансы (так он теперь называл их) Пробивания. Ну, и не было свободы. Но никакие ущербы с ним не случились. Вот только возникали в нём теперь не присущие ему прежде часы лени и апатии. Конечно, можно было посчитать, что они были вызваны энергетическими затратами, происшедшими именно во время сеансов Пробивания. Однако веса, по всем ощущениям, он не потерял, и мышечная система его не одрябла и не ослабла.
Стало быть, в ином следовало искать причины лени и апатии.
И Куропёлкин принялся причины искать.
Вспомнил бегущую строку на боку Башмака. И снова высветились перед ним слова: «Поразмысли над тем, кто ты и зачем ты. Но не торопись…»
А он и не торопился.
Теперь же вспомнились не только бегущая строка, но и собственные соображения. Земля не приняла его, взяла и выплюнула его в прежнюю жизнь. Не приняла грешного человека Куропёлкина. И выплюнула в прежнюю жизнь на грешной Земле. О грешной Земле не его были слова. А под поверхностью она не грешная, что ли? И что дальше? Осуществлённые мечтания уединиться от людей, от их забот и дорог, похоже, стали тяготить Куропёлкина.
Но менять что-либо в своей таёжной жизни Куропёлкин не пожелал.
390
Тем более что запасы и подарки комбинезона Вассермана не иссякли.
Однако получалось, что он живёт иждивенцем. И неизвестно, за чей счёт. Вполне возможно, что он процветает в палатке за счёт личностей неприятных и ему противных или даже за счёт… об этом варианте, останавливал себя Куропёлкин, не надо думать. Но как же не думать, требования организма заставляли думать. И если получалось всё же не думать, то на ум Куропёлкину приходили кемеровские шахтёры с «Распадской», где он не выдержал и трёх месяцев, и он вынужден был признавать себя человеком бессовестным. В гамаке раскачивается! Под землёй в каких-то полётах кувыркался! Скучно становилось Куропёлкину. Уединение от людей замечательно. Свобода от чужой воли прекрасна. Но одиночество невыносимо.
391
И ещё — отсутствие в его жизни женщины.
И не просто женщины. А любимой им женщины. И любящей его.
392
Жара тем временем ушла из Саян. Или из окрестностей Тобольска.
По расчётам Куропёлкина, въехал уже в Россию в золоте и пурпуре сентябрь.
В прежние годы здесь и вовсе мог уже улечься снег, но нынче снег где-то задержался, стужа не пришла, а натянуло дожди. Тихие, осенние. Некогда, в Волокушке, Куропёлкин любил сидеть у окна и смотреть, как, не нарушая тепла и сухости их жилища, резвятся силы внешние, пуская по стёклам дождевые струи.
Теперь в палатке было и тепло и сухо, но поглядывания Куропёлкина из оконцев на мокрый белый свет его не радовали. Ему было скучно. А если признать его состояние честно, ему было тоскливо.
Опять на ум ему пришла коза Робинзона. Месяца четыре назад он, Куропёлкин, мог завести на своём участке какое-никакое хозяйство. Но зачем? Робинзон был озабочен не только необходимостью выжить и прокормиться, но и найти способы вернуться к обитаемым землям. А его, Куропёлкина, выходит, купили, превратили в нахлебника, в птичку прикормленную, в шавку, довольную своей конурой и мозговыми косточками. Пусть порадуется своим свободам, а потом мы его, сытого и успокоенного, отправим ещё с каким-либо суперсмыслом, хотя бы и к кратеру Бубукина.
«Поразмысли… Но не торопись…»
А Куропёлкина уже торопило безграничье и безнадёжность одиночества. Искал отвлекающие занятия. В частности, достал из кармана комбинезона отправленные с ним книги. Выложил на столик. Диккенс, в зелёной шкуре ледерина, десять томов, не весь, и почему-то без Пиквика, пять коричневых томов Бальзака, «С Земли на Луну» Жюль Верна, бумажные женские истории для больничных палат и массивная монография с чертежами «Мантия, магма и садовый дёрн». Читать их желания не возникло. А вот «Анне Карениной» Куропёлкин сейчас бы обрадовался. Но Она уже не задаст вопрос о Каренине… Имя её не было употреблено Куропёлкиным даже в мыслях. Произнесённое имя, предупреждали мудрейшие, начинает управлять тобой.
И тогда, впервые за несколько месяцев, Куропёлкин почувствовал себя виноватым. Перед кем? Он не знал. Перед людьми? Перед самим собой? Перед Творцом, о каком опять же напомнил ему Бавыкин. Неизвестно. (Но не себя ли при этом Бавыкин возводил в Творцы? Вряд ли…) Никогда не забывал Куропёлкин выражение: «Зарыл свой дар (талант) в землю». В случае с ним происходила игра слов. Но ведь и вправду он пытался устраняться от использования своего дара (если такой был), то есть устраниться от своего предназначения. Правда, тут же он оправдывал свой выбор тем, что его используют вслепую, это ему неприятно, и он не знает, как его используют, истинно ради чего и ради кого. Да, это ему неприятно. А то, что он фактически служит снарядом или землеройным устройством, это для него просто неприемлемо.
Однако, размышлял Куропёлкин, его могут посчитать трусом или избалованным капризой в мире, где ради блага других люди всё же совершают подвиги и гибнут даже и юнцами. Перед этими-то людьми Куропёлкин и признавал себя виноватым. Но не пропадало ощущение, что его намеренно держат в одиночестве, чтобы он истомился душой и телом и согласился на ещё какой-то, возможно, и авантюрный проект. К тому же, не исключено, что на него начинали действовать тюбики, обострявшие тоску одиночества до обрыва в крутизну ущелья, до необходимости немедленного общения хоть с кем-то из людей. Хоть даже и с господином Трескучим.
393
Утром Куропёлкин взглянул в оконце палатки и увидел Башмак.
Три дня назад выпал снег, молодые сосенки в безветрии стояли в белых пушистых шубах, не сбрасывая ни снежинки, но снова наполз тёплый антициклон (из Монголии, что ли?), и сосенки опять стали зелёными. В снегопад палатку могло завалить с крышей, но и природные явления были, видимо, не способны заметить присутствие Куропёлкина и его палатки. А в снегопад Куропёлкина до того изгрызла, извела тоска, что он собрался отправиться в прогулку до какого-нибудь человечьего жилья, хорошо бы с сибирской чайной, где и не чай главный напиток, и посудачить там с каким-нибудь бывалым мужиком. Да с любым посетителем и едоком. Морда его густо обросла жёстким волосом, ушанка была в масть, надел бы тулуп и подшитые валенки (и такие нашлись в комбинезоне) и пошёл бы, каким-то Куропёлкиным его вряд ли бы признали. Но что-то остановило его и заставило повременить. К тому же паспорт на имя уроженца Таганрога Бондаренко мог бы и навредить. Бондаренко был безбородый.
Средства надзора наверняка его бы уловили. И он был бы тут же задержан. Такое возвращение Куропёлкина из-под Земли вышло бы для него унизительным. У кого-то вызвало бы подозрения. А главное для Куропёлкина — получилось, будто бы он капитулировал и сдался.
А он не намеревался пока ни капитулировать, ни сдаваться.
394
Вот-вот должен был появиться у дверного полога палатки Башмак. А он всё не появлялся, не шуршал пологом жилища Куропёлкина, не объвлял о себе никакими звуками.
Это Куропёлкина удивило.
Он снова взглянул в оконце, слава Богу, не слюдяное. Башмак всё ещё топтался, и можно было понять — в растерянности, у нижней границы выведенного Куропёлкиным с помощью буроватого порошка «Пентакруг» участка. Сейчас он находился как раз между двумя прямоугольными выступами «Пенты». Эти выступы, однажды отчего-то названные Куропёлкиным короткими боками чемоданов, теперь же вызвали у него мысли о воротных башнях средневековых крепостей. И Башмак не мог проникнуть нынче в крепость или замок Куропёлкина.
Куропёлкин даже пожалел Башмака.
Но впустить его в своё суверенное пространство, подумав, не захотел.
Общение с людьми — это одно. А Башмак наверняка был послан к нему с советами, указаниями, а то и с увещеваниями. Выслушивать их, а тем более следовать им у Куроплкина не было настроения. Разобраться во всём и принять решение должен был он сам. И никто другой.
395
Новые действия Башмака ещё более удивили Куропёлкина. Будто услышав что-то (что — до Куропёлкина не донеслось), Башмак стал решительно, кувырками, скатываться по покатости сопки к распадку и быстро исчез вовсе. А на место, где он только что топтался, ровненько и тихо, будто диверсантка, судя по костюму и выучке, из приключенческих военных фильмов, спустилась парашютистка. Освободила себя от парашюта, укладывать его не стала, а быстро направилась к воротам крепости Куропёлкина, к замковым его башням.
Теперь растерялся Куропёлкин. «Впускать или не впускать?» — нервно думал он. Сомнения отменила сама парашютистка. Меньше минуты постояла она у замковых ворот, явно снабжённых рвом и стальной решёткой, и без усердий прошла сквозь затвор. А Куропёлкин был готов бежать. Но куда?
396
Он-то знал, что это Она. Но не знал, кем она явилась сюда — парламентёром-переговорщицей, лицемерной стервой. Или всё же просто женщиной.
397
Он чувствовал, что Она стоит перед входным пологом. Безупречно-охранительные свойства буроватого порошка «Пентакруг» не допустили к Куропёлкину не знающего преград Башмака, но Она будто и не заметила никаких границ и линий Маннергейма. Куропёлкин приподнял дверной полог:
— Входите, Нина Аркадьевна.
Имя было произнесено.
— Спасибо, Евгений Макарович.
Куропёлкин был хозяин здешних мест, а Нина Аркадьевна явилась сюда, пусть и без приглашений, гостьей, и по этикету он был обязан вести с ней беседу, хотя бы и вынужденную. А слов не находил. Наконец возникло в нём нечто вымученное:
— Нина Аркадьевна, может это и глупо, но что помогло вам одолеть все препоны, по моим понятиям, непреодолимые и подняться к этой палатке?
Вопрос был наивный и бессмысленный.
— Если позже у вас, Евгений Макарович, не пропадёт потребность задать этот вопрос снова, я вам отвечу на него. Но может быть, я что-нибудь и совру. А пока вот что.
Она расстегнула верхнюю молнию лётного костюма (схожим с этим костюмом обтягивали и Куропёлкина, но поняли, что он полезен для улучшения аэродинамических свойств летуна, а для Куропёлкина не надобен), и вот теперь госпожа Звонкова достала из кармана куртки несколько листов гербовой, будем считать, бумаги и протянула их Куропёлкину.
— Вот, Евгений Макарович, изучите их внимательно. Здесь, по-моему, достаточно светло.
Куропёлкин изучил. Вроде бы он всё понял с первого раза. Но ради солидности принялся перечитывать документы. Были бы очки, водрузил бы — опять же для солидности — их на нос.
Документы были для него серьёзные. В первом из них Нина Аркадьевна Звонкова заявляла, что все работы, оговоренные в первичном контракте с Куропёлкиным, исполнены им досрочно, а по качеству — артистично и в высшей степени квалифицированно, никаких претензий к нему нет, и, проведя переговоры, работодательница Звонкова решила расторгнуть контракт с гр. Куропёлкиным и согласилась уважить его просьбу об увольнении по собственному желанию.
Второй лист был приложением к первому. В нём Нина Аркадьевна объявляла обществу об отказе от любых возможных выгод, какие могли принести ей труды Куропёлкина во время действия их контракта. И обещала, что если случится впредь её участие в занятиях Куропёлкина, то оно будет исключительно благотворительным. Что же касается оценки трудов Куропёлкина, то при расчёте он будет вознаграждён осязаемым бонусом.
— Документы подписаны нотариусом и укреплены печатями. Вы их рассмотрели?
Куропёлкин кивнул. Слова его прилипли к нёбу.
— А теперь разглядите третий лист. И верните мне его.
Третий лист был тем самым контрактом, какой и заставил его, по дурости, отправиться из ночного клуба «Прапорщики в грибных местах» в усадьбу госпожи Звонковой.
Нина Аркадьевна взяла третий лист и разорвала его.
— Я насорила, — смутилась она.
— Я уберу, — пробормотал Куропёлкин.
Он наклонился и стал собирать клочки документа и столкнулся лбом со шлемом парашютистки.
Звонкова рассмеялась, но чувствовалось, что она нервничает.
— Ты… Вы, Евгений Макарович, довольны?
— Доволен… — глухо выговорил Куропёлкин. — Только мне не надо никаких бонусов.
— Это отчего же?
— Не ради бонусов я проводил время рядом с вами…
— А теперь, Евгений Макарович, я попрошу повторить ваш вопрос, каким вы огорошили меня при вступлении в вашу палатку. Сейчас я ощущаю надобность ответить на него.
— Это какой же? — озадачился Куропёлкин. — А-а… Ах, ну да!.. Мне и теперь любопытно узнать… Так что помогло вам, Нина Аркадьевна, одолеть чуть ли не волшебные препятствия по дороге к моей берлоге?
— Любовь, — сказала Звонкова, — и всё. Если, конечно, вам не противно моё признание.
— Хотелось бы думать, что и мои чувства к тебе хоть чуть-чуть, но притянули тебя сюда.
398
Никаких слов далее не последовало.
Слова, причём смысловые слова, а не всяческие звуки и обозначения степени ласки, зазвучали в палатке через сутки и были вызваны озабоченностью Куропёлкина.
— И чем же я тебя кормить буду? — воскликнул Куропёлкин. — Меня приучили к тюбикам, но для тебя-то они могут быть вредны. А то и окажутся ядом. Комбинезон Вассермана и особенно его нижняя часть, то есть штаны, вовсе не рассчитаны на женщин. У нас возникнут затруднения.
Куропёлкин тут же испугался. Звонкова (провинциальное имя «Нинон» уговорила Куропёлкина не применять) могла незамедлительно сказать, а чего тут горевать, завтра же мы вернёмся в московский цивилизованный быт или хотя бы в известную тебе опочивальню.
Но она сказала:
— Ничего, как-нибудь выживём и здесь. Как же хорошо с тобой вдвоём.
И тут же спохватилась:
— Балда! За мной же должны были скинуть два тюка.
— Сейчас оденусь и сбегаю за ними! — пообещал Куропёлкин.
За ним из спального мешка выбралась Звонкова.
— Схожу я, — сказала она.
— Ты женщина, сиди в пещере и жди.
— А тебя обнаружат, и никакого медового месяца у нас не получится.
И в тулупе Куропёлкина отправилась к замковым воротам.
Приволокла тюки, парашют, отдышалась, заявила:
— Я баба, но не слабее тебя. Цени это! И вообще ты бы мог опуститься сейчас на колено и сделать мне предложение. Стоп. Не теперь. Это шутка.
Шутка не шутка, но на медовый месяц Нина Аркадьевна рассчитывала.
399
Дней десять смысловые слова опять не произносились. Потом наступило беззвучие.
И ведь ни Звонкова, ни Куропёлкин не спали.
Утомились? Насытились? Исчерпали потребности своих тел? У Нины Аркадьевны гормоны успокоились, как некогда в случае с Бавыкиным? А у Куропёлкина, не утратившего жажду к телу любимой женщины, возможно, под воздействием спецтюбиков, навязанных ему и управляющих его энергетикой, ощущалось ослабление мужской силы, что ли? Это было мерзко…
— Давай, Куропёлкин, усядемся за стол, — предложила подруга Нина. — И кое-что обсудим.
Сели. Столик был украшен деликатесами из тюков парашютистки и двумя бутылками — французским шампанским и французским же коньяком «Наполеон».
От шампанского Куропёлкин отказался, а бокал коньяка с опаской проглотил, остался жив. «Наполеон» оказался совместимым с тюбиками.
— Милый мой Куропёлкин, — сказала подруга и ровесница Нина, — тебя что-то тяготит, похоже, всерьёз. Что — ты не ответишь. И я фантазирую. В тебе зашевелились сомнения. Откуда, мол, такая удача с прилётом меня? Так ведь? И к тебе приходят мысли: а не послана ли я сюда, чтобы выманить тебя из затвора. Нет, не послана. Я не вру. Здесь я из-за любви к тебе…
— Я верю тебе, — тихо сказал Куропёлкин.
— Наверное, так оно и есть, но в копошениях твоих сомнений никак не успокоится одно. Как мне жить с женщиной, загубившей столько душ, отправив их ради своей прихоти в Люк.
— Я люблю тебя такой, какая ты есть, и все твои грехи я принимаю на себя, — чуть ли не торжественно произнёс Куропёлкин.
— Так вот успокойся, — сказала Звонкова, — никаких пострадавших или покалеченных из-за моих прихотей нет. Может, кого-то и опускали в Люк, но их отлавливали батутные устройства Бавыкина, а потом его анфиладами возвращали в подмосковный быт.
— И что же помешало отловить меня? — спросил Куропёлкин.
— Спроси у Бавыкина, — сказала Звонкова.
— Догадываюсь, что он ответит, — сказал Куропёлкин. — Но и ты, вижу, загрустила… И что причиной? Твои брошенные на время дела? Или я?
— О моих делах здесь говорить не будем, — нахмурилась Звонкова. — Их нет, они далеко. А что касается тебя… Если ты думаешь, что я розыскала тебя для временных удовольствий, ты ошибаешься. Отношение у меня к тебе долговременное. Возникло оно ещё в дни моих визитов в ваш клуб грибных прапорщиков. Я не знала, что ты за апельсин, но не переставала думать о тебе. С тех пор поняла твое сердцевинное и приняла тебя, как и ты меня, таким, как ты есть… Одно привело меня в раздражение…
— Что именно? — спросил Куропёлкин.
— Баборыба! — резко сказала Звонкова.
Куропёлкин чуть было не рассмеялся, но тут же сообразил, что в истории с Баборыбой никаких причин для смеха не было теперь ни у него, ни тем более у Нины Аркадьевны Звонковой.
— Это вышло проявлением моего легкомыслия! — воскликнул Куропёлкин. — И я не предполагал, что моя дурость каким-то боком заденет тебя. Авантюрная шутка моя была направлена исключительно против людей, посчитавших держать меня землеройным снарядом.
— Однако ты жил с этой Баборыбой, ласково — Лосей. Шалаш любви для вас возвели! — не могла успокоиться Звонкова.
— Меня уверили — на твоей земле и с твоего согласия, — сказал Куропёлкин. — И что значит — жил? Нынче и в малых городах есть секс-шопы с продажей устройств, облегчающих одиночество и мужчин, и женщин. Или тебе это неизвестно?
— Устройство не устройство, — сказала Звонкова, и глаза её при этом были чуть ли не злыми, — но она от тебя забеременела, и публика считает, что ты сбежал от уплаты алиментов.
— Не в кратер ли Бубукина на Луне? — спросил Куропёлкин.
— Примерно так…
— Я рад, Нина Аркадьевна, что присутствие в моей жизни Баборыбы, или, как ты, наверное, знаешь, подсунутой мне Мезенцевой Людмилы Афанасьевны, синхронистки второй сборной, кстати, я её не осуждаю, все мы такие, меня продали тебе, она продалась какой-то службе, так вот я рад, что её присутствие вблизи меня вызвало у тебя чувство ревности или хотя бы брезгливости. Но эта Баборыба и якобы её беременность должны были послужить средством нажима на меня и принуждения к так называемым подвигам. А по-моему знанию забеременеть от меня она и теоретически не могла. Пусть твои службы мои слова перепроверят. Более я на эту тему говорить не хочу.
— Хорошо, милый мой Куропёлкин, — сказала Звонкова, глаза и слова её снова были ласковыми. — Закончим на этом допросы. Вернёмся к таёжному застолью. Я вижу, ты потихоньку сможешь обойтись без тюбиков.
— Не уверен, — сказал Куропёлкин. — Но попробую.
— Знаешь, чего я хочу? — сказала подруга Звонкова. — Чтобы повторилась та ночь.
— И меня бы отправили в Люк! — обрадовался Куропёлкин.
— Балбес! Никаких Люков здесь нет!
— Не успели выкопать? Значит, к утру выкопают. А я ради повторения той ночи с тобой согласился бы и на Трескучего и на Люк.
— Это ты сейчас так говоришь…
— Но у тебя здесь нет тесных миланских туфель, вызывавших тогда твои боли и стоны, — уже с нежностью произнёс Куропёлкин.
— Найдутся! — воскликнула подруга Звонкова. — Найдутся! Я женщина хозяйственная и запасливая.
И ведь нашлись…
400
И ещё две недели вышли продолжением медовых состояний Куропёлкина и Звонковой.
Потом началось.
Не сразу, но началось.
Нина Аркадьевна заскучала. Однообразие жизни, безделье для такой деятельной женщины, как она, изоляция от непременного общения с десятками партнёров, полное незнание того, что происходит в мире и в моде, в частности отсутствие даже такого примитивного устройства, как телевизор, не могло не тяготить её. Да и мысли о её деловых предприятиях обострились из-за незнания их подробностей.
А тут ещё в Южную Сибирь сквозь циклоны, нависшие над ней, и бесснежные в умиротворениях антициклоны продиралась запоздавшая зима, и небо над убежищем Куропёлкина и его подруги помрачнело, а воздух за бортами палатки, ощущалось, стал студёным, и пришлось включать устройство для подогрева.
— Слушай, Куропёлкин, — сказала однажды поутру Звонкова, в палатке было тепло, но она ёжилась. — А вдруг сила комбинезона иссякнет, и что нам с тобой делать? Зимовать полярниками? Или застыть мамонтами для музея в Салехарде?
— Что ты предлагаешь делать? — спросил Куропёлкин.
— Выбираться к людям, — твёрдо сказала Звонкова. — Конечно, я согласна остаться полярницей, но какой в этом смысл? А тебе размышлять отшельником о своей сути уже неприлично и смешно.
— Вот, значит, как… — обиделся Куропёлкин. — И в каком же качестве я появлюсь в Москве вместе с тобой? Носильщиком чемоданов? Или ещё кем?
— Прежде всего, ты должен вернуться в Москву сам по себе, как человек, одолевший немыслимо-странный маршрут, и разъяснить ситуацию, сомнительную сейчас для нашей страны.
— Ах вот как ты теперь заговорила! — возмутился Куропёлкин. — Но меня не волнует вся эта дребедень! Меня волнует, кто мы сейчас с тобой!
— Не надо призывать к нашим отношениям ничего не значащие оценочные слова. Они только испортят их своей определённостью. Сейчас в моих ощущениях ты для меня муж. Кто я для тебя, я не знаю.
— Теперь и я не знаю, кто ты для меня, — сказал Куропёлкин. — А днём назад знал.
— Вот и прекрасно, — сказала Звонкова. — Время всё установит. А теперь давай соберёмся и покончим с твоим нелепым уже отшельничеством.
Куропёлкин всегда считал себя прямолинейным неловким человеком, мужланом, не умеющим объясняться с существами более тонкой и нежной породы, с женщинами, а тут он ощутил себя ещё и навьюченным ослом.
— А катись-ка ты отсюда, милая моя Нина Аркадьевна, — сказал он. — И чем быстрее, тем лучше. А я останусь здесь полярником и мамонтом для музеев в Салехарде и Якутске.
401
И укатилась милая Нина Аркадьевна.
При этом прихватила тулуп Куропёлкина из собрания штанов Вассермана (с его согласия), ветер был вредный, натянула шлем парашютистки, попросила Куропёлкина прочитать её записку, если что-то сразу не вернёт её сюда. Ничто не вернуло, и Нина Аркадьевна исчезла из отшельничества полярника и будущего замороженного мамонта музейной, скажем, ценности.
Куропёлкин увидел на столике оставленные Нинон французские коньяки. И надрался.
«Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах!» — повторял он поутру. Разгадать, что он имел в виду, так и не смог.
Вспомнил только, что у Звонковой имелась где-то, но не рядом, может, и в километрах тридцати отсюда, чтобы не было обнаружено становище Куропёлкина, точка для связи, там-то она, видимо, и вызвала транспортное средство и убыла подальше от «моего милого Куропёлкина».
Записку Звонковой читать он не стал, но и не порвал. А стал рассматривать кипу газет, прибывших с тюками Нины Аркадьевны. Какую только чушь в них о нём не писали! Какими только любовными приключениями и под землёй, и в бурных водах океанов его не одаривали! И Баборыба рядом с ним процветала. Публиковались смонтированные снимки его с ней с восторженными комментариями эротического горлопана Держивёдры. «Нет, лучше я замёрзну здесь, — пообещал себе Куропёлкин, — но не вернусь в этот поганый мир!» Лишь однажды прилетела к Куропёлкину здравая мысль. А не набить ли этому Держивёдре морду? И прикинув свои возможности, Куропёлкин решил, что это ему вполне по силам. Но для этого надо было прибыть в Москву.
Шиш!
Напрасно его дразнили!
В Москву? Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах!
Перекладывая бумажные листы, Куропёлкин на оказавшейся вверху кипы газете увидел на всю первую страницу фотографию «Волонтёры».
Так и застыл.
Ну, молодец милая подруга Нина Аркадьевна. Ну, стерва. Ну, выдумщица. Ну, ведьма. Знала, что подсовывать… Но ради чего?
Все его коллеги по ночному клубу «Прапорщики в грибных местах» стояли на фотографии перед ним, и ловкий поручик Звягельский, и болтун Стружкин в белых бараньих колечках, и обросшие шерстью атлеты, и японец, все, кто-то весёлый, кто-то опечаленный, но все. И объявлялось, что образована бригада волонтёров прапорщиков для участия в поисках дорогого им человека геонавта Куропёлкина.
Куропёлкин чуть ли не слезу пустил. Скупую, тихоокеанскую.
Ему стало стыдно.
Всё, решил он, что будет, то будет. Но надо добираться до Москвы.
А уж там вести себя по собственным установлениям правил чести.
402
И добрался.
С помощью и по подсказкам Башмака.
Башмак появился не сразу после убытия госпожи Звонковой, а дней через пять.
Он опять топтался возле Замковых ворот, и Куропёлкину показалось, что Башмак мёрзнет. Ничего странного в этом не было, наверняка изношенность и рваные раны Башмака затрудняли его пребывания в Сибири. Куропёлкин спустился к Замковым воротам, видеть которые никто не мог, и предложил Башмаку последовать с ним в палатку. В палатке Башмак нервно вышагивал, иногда подпрыгивая, никак не мог отогреться. Куропёлкин наполнил бокал коньяком и предложил Башмаку вкусить напиток в целях профилактики. Пасть Башмака тут же расширилась, и видно, что с охотой, была подставлена под струю солнечной жидкости.
Башмак тут же задремал и часа два дрых возле столика на полу с подогревом.
Придя в себя, Башмак принялся действовать решительно и даже не по чину властно. Указания его передавались Куропёлкину текстами бегущей строки на боку Башмака. «Надо добраться до станции Ужур…», «Не забудь ушанку, держи под рукой документы и рубли… выходи из палатки… всё содержимое комбинезона верни в подходящие для того карманы-отсеки… вот-вот… отыщи оранжевую кнопку… нажми на неё…». Куропёлкин отыскал кнопку, нажал, и за две минуты все карманы-отсеки заполнились изъятыми из них на время вещами и сейчас же стали плоскими. Как не было сотни лет здесь никакой палатки, так и теперь её не было. «Пошли!» — приказала бегущая строка. И пошли.
До Ужура шли часов восемь. Сопки, распадки. Сопки, распадки, ручьи. Безлюдье и беззверье. И наконец — хакасская степь. Ужур. Городок, рассказчику истории Куропёлкина хорошо знакомый, был тут в экспедиции. Какие чудесные под Ужуром озёра с солёной, почти морской водой и тёплыми, ласковыми волнами! Курорты бы злесь завести.
Но Куропёлкину было теперь не до курортов.
Расположился Ужур на железной дороге, севернее, у Ачинска, она поворачивала на восток — к Красноярску, и на запад — к Москве.
Куропёлкин купил билет до Москвы на проходящий поезд Абакан — Москва в плацкартный вагон, иных мест не было, и почти три дня катил в город с то ли со Ржевскими, то ли с Рижскими банями, в каких якобы произошёл с ним Счастливый случай.
Ещё в Ужуре он предложил совершить с ним путешествие Башмаку, но тот будто бы возмущённо подпрыгнул, фыркнул и сейчас же пропал.
403
Единственной приятностью в поездке Куропёлкина были хождения в вагон-ресторан. Уже в ожидании поезда в Ужуре он понял, что проголодался, и купил в придорожном киоске кусок жареной курицы. Сколько дней пролежал кусок в киоске и на каком масле его готовили, Куропёлкин определять не стал, а заглотал его, да что заглотал — сожрал в три секунды и почувствовал себя готовым к новым противостояниям с тюбиковой кухней. Естественно, в поезде, а ехал он в нём гражданином Бондаренко, уроженцем города Таганрога, никто не соотносил его заросшую рожу с плакатным образом геонавта Куропёлкина. Аттестовал он себя золотоискателем, парнем из тайги, и получил много предложений сыграть в карты, но отбрехался, мол, не умеет, в руки не брал, мама с папой не велели, а играет он лишь в китайскую забаву «го». От него отстали. Да и вид у детины-золотоискателя был трезво-зловещий. В вагоне-ресторане кормили неплохо, но скудно, и Куропёлкин, губы облизывая, стал вспоминать, каких цыплят табака и какие стейки подавала ему горничная Дуняша. И сейчас же сообразил, что если госпожа Звонкова его не обманула и разорвала подлинную бумагу с контрактом, его уже не будет обслуживать Дуняша.
«Ну и прекрасно!» — возликовал Куропёлкин и заказал сто пятьдесят граммов водки.
404
На Ярославском вокзале его встречали два молодых человека. Они предъявили документы, но в этом не было нужды. Люди были светлые взглядом, и их изящные сезонные пальто, серые в крапинку, были пошиты в одном ателье.
— Поздравляем вас, Евгений Макарович, с возвращением, — услышал Куропёлкин. — Мы сразу обязаны доставить вас в Центр исследований Геонавтики. Если вы, конечно, не возражаете.
— Не возражаю, — с важностью произнёс Куропёлкин.
Он и сам понимал, что хотя бы медики должны его обследовать, мало ли что, мало ли какие неведомые микробы прилипли к нему в его путешествии, не повредилось ли чего внутри него и не привели ли к каким-либо проблемам пожираемые им тюбики.
В Центре исследований Куропёлкина приветствовали и поздравляли важные люди, иные из них, видимо сановные и неприкосновенные, сами прикасались к Куропёлкину, удивительно, что и с заискиваниями. Куратор Селиванов скучал при этом в отдалении.
Сошлись на том, что Куропёлкину надо сейчас же отдохнуть, и отвели его в палату, более похожую на гостиничный номер в президентском отеле, но с кнопками для вызова медсестёр.
405
Сказались дорога и часовые пояса, за которыми должен был следить сапожник Бавыкин, и Куропёлкин мгновенно уснул.
Но потом был разбужен.
По номеру его при свете слабого ночника разгуливала женщина в белом халате. Ни медсестёр, ни врачей Куропёлкин не приглашал. Однако кто она, гадать не было нужды.
— Откуда вы здесь, Нина Аркадьевна? — Куропёлкин опустил ноги на пол. — Мне объявили, что здесь место государственно-потаённое.
— Куропёлкин, — сказала Звонкова, — если у женщины возникла необходимость проникнуть куда-либо, она пройдёт сквозь стены. Ты прочитал мою записку?
— Нет, — сказал Куропёлкин.
— И что ты с ней сделал?
— Превратил её в клочки, — соврал Куропёлкин.
— И молодец!
— Узнать про записку — и есть ваша необходимость?
— Дуралей! — вскрикнула Звонкова. — Ты всё же однажды посчитал меня своей женой. И проникла я сюда, чтобы сделать тебе предложение, и коли ты согласен, завтра же и расписаться.
— Мне же кольца надо покупать… — будто бы озаботился Куропёлкин.
— Я их уже приобрела… На всякий случай…
— Но я колец терпеть не могу…
— Ну да, для тебя Земля имеет форму Чемодана…
— Не для меня, а для вашего бывшего мужа Бавыкина, — сказал Куропёлкин. — А я сомневаюсь… Кстати, а вы не в союзе ли по-прежнему с Бавыкиным, не общие ли у вас интересы?
— Я, конечно, понимаю всю сложность своего дурацкого положения. Завтра тебя возведут в национальные герои, и, выходит, что я хочу ухватить свою выгоду. Разорвала один контракт и намерена уговорить тебя экстренно подписать новый контракт, для меня более выгодный. Поверь мне, это не так. Если бы мы поженились после твоих предполагаемых триумфов, тогда я оказалась бы именно добытчицей выгод. Я люблю тебя и уже знаю тебя, и боюсь, как бы ты завтра же не выкинул такое коленце, что тебя придётся вызволять из беды или просто спасать. Но по закону кто я тебе? А с Бавыкиным у меня было лишь одно совпадение, я поверила на время в его фантазии и помогла построить на моей земле Люк. Мне наплевать, беременна ли от тебя Баборыба или нет. Я не могу без тебя…
— Я исполню завтра протокольные дела, — сказал Куропёлкин, — и тут же уйду в пастухи. Или учеником в кузницу. Кто мы будем вместе с вами тогда?
— Тебя не отпустят в пастухи.
— А я ни у кого не спрошу. Я вольный человек.
— То есть ты отказываешься от моего предложения?
— Я не хочу испоганить вашу жизнь, — сказал Куропёлкин. — Или доставить вам хоть мельчайший вред.
— Значит, ты не любишь меня, — печально сказала Звонкова. — Ты просто капризный самец. С комплексами неполноценности. Прощай. И сходи к парикмахерам. Жуть на кого похож.
406
Потом пошли дни обещанных Ниной Аркадьевной триумфов. Серьёзных исследований Центр провести не успел, но и ждать окончания их было нельзя. Публика дождалась триумфов. Или хотя бы вразумительных свидетельств состояния здоровья покорителя рекордного маршрута. А покоритель в предварительном вердикте светилами медицины был признан практически здоровым и не опасным для человечества, никаких неведомых болячек не прихватил и не занёс.
В общем, всё происходило, как и должно было происходить. Проход по брусчатке главной площади, правда, не в какой-то особой форме геонавтов (Подмышкин дело прошляпил, или же Куропёлкин возроптал против портняжьего приподношения, но всё же костюм на нём, побритом и ухоженном, был хорош и не китайского пошива). Речи на дощатых помостах. Марши с фигурным движением духовых оркестров. Парады пожарных машин новейших систем. Шуршание на площади клёшей нахимовцев из Владивостока. Проезд Геонавта в открытом кабриолете по избавленным на час от пробок знатным магистралям. А вечером — салют с фейерверком и парковыми безалкогольными гуляниями, балет Григоровича с трагедией белой лебеди в Полу-Большом и приём в императорских залах на Боровицком холме, теперь уже с шипением напитка из Абрау-Дюрсо. Множество светских львов, светских сусликов, светских камышовых котов, а в особенности светских дам, в чуть ли не подвенечных платьях, звякали хрусталём о бокал Куропёлкина. Одна из самых значительных женщин отечества Нина Аркадьевна Звонкова на приёме замечена не была.
«Ну, ладно, — решил Куропёлкин. — Главное, выдержал всю эту дребедень…»
А ему днём ещё и какой-то знак после прохода по красной ковровой дорожке прикрепили к костюму. Но изучать его и вечером Куропёлкин не стал, хватило впечатлений.
«Ну, а дальше-то что?» — думал Куропёлкин.
Похоже, устроители триумфов и сами не знали, что с ним делать.
407
Ешё один день ушёл на продолжение суеты. Но суета угасала. Было для публики немало других увлекательных развлечений. Скажем, в программе Булахова исследовалась судьба выброшенной в американские каменные джунгли певцом-шансонетом Пипеткиным (иначе — Кларком Онежским) некогда любимой жены. На другой же программе выясняли, почему спился в деревне Фролово дояр с самым мощным здесь (в сантиметрах) мужским достоинством. Куропёлкина отпраздновали, и ладно. Он-то вернулся и уже не интересен. А вот бедняга Федор Курчавов-Шляпин так и не был возвращён инопланетянами. О нём и судачили. Куропёлкин же общался с родителями, выписанными из Волокушки, снабдил их деньгами, полученными после расторжения контракта, обещал им, что скоро приедет к ним и обо всём расскажет. Набалтывал что-то толпе интервьюеров и не переставая думал о Нине Аркадьевне Звонковой и о том, какая он скотина.
408
Посетил наконец его куратор Селиванов. И обрадовал Куропёлкина. Объявил, что он, Куропёлкин, стал невыездным и триумфаторские поездки по странам, пожелавшим принять его с почестями, отменяются. Дипломатам этих стран объяснено, что наш Геонавт, как и добытые им образцы разных пород, нуждаются в длительном изучении и пока поездки его за пределы Центра Исследований нецелесообразны. Такая же информация ушла и на центральные каналы телевидения.
— Что? — взволновался Куропёлкин. — Со мной всё так плохо?
— Да нет, — улыбнулся Селиванов. — С вашим организмом всё в порядке. Но вы теперь как бы наше секретное оружие. И вас надо оберегать.
— Что же вы не оберегали меня от известного вам Барри?
— Оберегали, — сказал Селиванов. — Но и ловили на живца. А теперь его прах развеян над северными просторами.
— Спасибо за живца! И какой же прах, если остались шляпа и джинсы.
— Они оказались хорошей выделки. Вас же, Евгений Макарович, ожидает ещё одно существенное испытание резонансного масштаба.
— Это какое же? — удивился Куропёлкин.
— Роды памятной вам Людмилы Афанасьевны Мезенцевой.
— Я такой не знаю! — заявил Куропёлкин. — Я имел дело с Баборыбой, отловленной под вашим надзором профессором Удочкиным, а роды какой-то Мезенцевой меня не волнуют. У меня есть жена.
— Какая жена? — растерялся Селиванов.
— Какая-никакая. Но есть. Любимая жена.
— Но наши кадровики…
— Убоги ваши кадровики!
— Успокойтесь, Евгений Макарович, — взволновался Селиванов. — Завтра у вас будет трудный день. Состоится заседание комиссии Центра исследований с определением вашего статуса, и вы на него приглашены.
409
Видимо, немало денег было затрачено на создание Центра Исследований Геонавтики, думал Куропёлкин, направляясь, в сопровождении, на заседание комиссии по определению ему статуса.
Куропёлкина сопроводили в конференц-зал, но может и не в конференц-зал, а в специальное помещение именно для заседаний решающих людей. Белёные потолки здесь были высокие, без лепнины и с острыми углами, они сразу же заставили Куропёлкина подумать: «Ба! Да это же чемодан!» И стол, довольно протяжённый, за который можно было бы усадить человек сорок, был не круглый, а тоже с острыми углами. Не иначе как теоретика и практика Бавыкина приглашали устроители Центра Исследований Геонавтики консультантом. А может, он и был здесь важнее всех… Куропёлкина члены комиссии встретили дружелюбно, встали, похлопали деликатно, одарили комплиментами, предложили сесть. Всего за столом, обитым, естественно, зелёным сукном, восседало семеро, из них — четверо крепких мужиков, под шестьдесят, державно одетых, лобастых, не лысых, но украшенных возрастным пушком, трое же комиссионеров сидели тощие, отчасти субтильные, и среди них — знаменитый теперь профессор Удочкин, совершивший недавно путешествие с японскими китобоями.
— Ещё раз, Евгений Макарович, должен поблагодарить вас, — сказал один из лобастых, — за вклад в развитие науки, в частности, нашей геофизики.
При этом другой лобастый (пушок рыжий) хмыкнул. Позже выяснилось, что это Политолог, прежде вбивавший в головы студентов основы марксизма-ленинизма. Он явно глядел на Куропёлкина, как на проходимца. Это Куропёлкина задело.
— Да какие уж такие вклады? — сказал Куропёлкин. — Я из северных земель. Уроженцы наших мест, к кому имею наглость причислять себя, отличались тягой к путешествиям. Они присоединили к России Сибирь, вышли к Берингову, нынче, проливу, открыли и осваивали Аляску и Калифорнию. Они были землепроходцами. А кто я, их мелкое отродье? Выходит, землепроходимец. Или точнее, сквозьземлюпроходимец.
Члены комиссии рассмеялись, даже ехида Политолог вынужден был улыбнуться.
— Очень остроумное, хотя и отчасти легкомысленное суждение, — сказал Геофизик.
— Мы принимаем это суждение к сведению, — встал серьёзный лобастый, и Куропёлкин учуял в нём армейскую выправку. — А теперь перейдём к вашему трудоустройству. Вам должны были сообщить, что вы теперь человек засекреченный. Понятно, что не секретный узник. Мы почти все здесь засекреченные. Но ничего, не скучаем. Так какие у вас будут пожелания или требования? На какую должность или на какое звание вы рассчитываете?
— Ни на какие, — решительно сказал Куропёлкин. — Могу согласиться лишь на состояние волонтёра, готового при необходимости содействовать трудам Центра Исследований Геонавтики. И всё.
— Но как же так? Вы теперь — человек государственный и должны быть где-то в штате…
— Прежде всего, я человек — вольный, — сказал Куропёлкин. — И если на меня напялить какой-нибудь мундир, на ожидаемые вами путешествия я уже не буду способен.
— А звание? Вам ведь на что-то надо будет жить…
— Может, вы хотите определить меня в юнги? — сказал Куропёлкин. — Поздно. Свой срок на флоте я отслужил старшим матросом и флот не опозорил.
— Видимо, вас сразу необходимо произвести в Контр— или даже в Вице-адмиралы, — съехидничал Политолог.
— Чего? — спросил Куропёлкин. — Подземного моря, что ли?
Члены комиссии замолкли. Потом стали перешёптываться, и долго перешёптывались.
И тут всех удивил профессор Удочкин. Как написано в одной из самых разумных сказок: «Во всё время разговора он стоял позадь забора», а тут заговорил:
— Милейшие господа! Евгений Макарович, возможно, не ощущает пользы от ваших планов. По сути дела он ведь и не вознаграждён. А вы рассчитываете на его подвиги. И что, если ему, как бывшему флотскому, подарить виллу на берегу океана. Пусть он в ней у камина обдумает ваши предложения.
Люди за столом качнулись и взглянули на Удочкина с опаской. Впрочем — ихтиолог, пусть и академик, чего с него взять? И рыбы-то хорошей в наших магазинах нет!
Даже Куропёлкин застыл за столом с открытым ртом.
410
— У нас нет океанов! — захохотал Политолог.
— То есть как это у нас нет океанов? — возмутился Куропёлкин. — А Ледовитый? А Тихий, он же Великий?
— Ледовитый он и есть Ледовитый, — не унимался Политолог. — От Тихого нам достались студёные берега. Согласился бы кто-нибудь из вас (обращение к членам комиссии) иметь виллу на этих берегах?
Молчание.
— То-то и оно! — обрадовался Политолог.
А Куропёлкин сидел и удивлялся. Абсурдно-смешная идея профессора Удочкина была принята к обсуждению.
— Я бы согласился! — заявил Куропёлкин. — Пусть это будет всего лишь хижина.
— И где же вы хотели бы иметь эту хижину?
— В Охотске! — без колебаний произнёс Куропёлкин.
— Отчего же в Охотске?
— До реки Охота казаки дошли в середине семнадцатого века, при Алексее Михайловиче, и основали там город Охотск. Он стал первым морским портом на Востоке России. Там и родился Тихоокеанский флот. Из Охотска, с его верфей, уходили корабли на Камчатку, Чукотку, а потом — на Аляску и в Калифорнию. Владивостока тогда не было. И в фантазиях он не возникал. В Охотске и должен быть музей восточных географических открытий России.
— Должен напомнить, что Евгений Макарович занимался заочником на истфаке университета во Владивостоке, закончил три курса, — сказал второй после Удочкина тощий.
— Третий курс не закончил, — сказал Куропёлкин. — Решил побродить по Руси. Потянуло. Если Дежнёв или Хабаров двигались навстречь солнцу, то я подставил солнцу спину.
— И побродили? — спросил второй после Удочкина тощий, оказавшийся Географом.
— Побродил. С остановками. Понаблюдал нравы и характеры людей, осваивал разные ремёсла. Было интересно.
— До кратера Бубукина вы не добрели? — поинтересовался Политолог.
— Не добрёл, — сказал Куропёлкин. — Добрёл до Великих Лук. Прокатился на воздушном шаре помощником пилота, то есть фактически балластом. Не моё.
— Должен добавить, — сказал Географ, — что на истфаке Куропёлкин изучал историю Тихоокеанского флота. Думаю, было бы важно, чтобы наш путешественник закончил университет, хотя бы дистанционным способом, и дипломную работу посвятил Тихоокеанскому флоту.
— Нас Евгений Макарович интересует прежде всего как геонавт. При чем тут океанские волны и Охотск? — сказал Геофизик.
— А рядом с Охотском хребет Джугджур! — воскликнул Куропёлкин.
— И что?
— А то, что Джугджур плохо изучен, то есть никак не изучен, а в нём богатств не меньше, чем на Урале. Или в Урале.
— Откуда вы знаете?
— Это вы меня спрашиваете? — обнаглел Куропёлкин.
— Ах да… Ах да… — поник спросивший.
— То есть вы бы не отказались от проживания в Охотске, конечно, в благополучные дни? — спросил лобастый с армейской выправкой.
— А почему бы и нет? — заявил Куропёлкин. — Естественно, надо посоветоваться с женой. А так, почему бы и нет?
— У вас есть жена? — удивился человек с военной выправкой, возможно, и Кадровик.
— Жена есть, — подтвердил Куропёлкин.
Предполагаемый Кадровик сейчас же приостановил заседание, возможно, и не на час, и не на день, для внимательного изучения настроений Геонавта.
411
У выхода из конференц-зала Куропёлкина остановили Геофизик и Геолог, этот с картонной коробкой в руках.
— Евгений Макарович, в авоське из штанов Вассермана лежали собранные вами возле вулкана Шивелуч невзрачные камни. Их обработали, и они оказались изумрудами. Лет тридцать назад в лаве Шивелуч были обнаружены изумруды, но те были чёрные. Эти же изумруды истинно изумрудные. Конечно, они ещё должны попасть в руки ювелиров. Полагаем, что вы собрали их для личной коллекции. Мы взяли образцы для изучения, а коробку с вашим собранием передаём вам. Надеемся, что глаза у вашей супруги зелёные.
— Вроде бы зелёные, — растерялся Куропёлкин.
— Передайте ей благоговейные пожелания…
412
Через несколько дней Селиванов отыскал (с трудом) Нину Аркадьевну Звонкову и с дрожью в голосе сказал ей, что Куропёлкин пропал.
— Мне-то что? — спросила Звонкова.
— Будто под землю провалился.
— Типун вам на язык! — воскликнула Звонкова.
Тогда Селиванов понял, что Звонкова обеспокоилась. И даже взволновалась.
— Простите, — сказал Селиванов. — Ляпнул, не подумав…
Сейчас же средства быстрого реагирования холдинга Нины Аркадьевны Звонковой, силовые, охранные, поисковые, компьютерные со спутниковыми связями, сыскные пешеходы из внешних наблюдателей, были отправлены по следам, пока не обнаруженным, засекреченного Геонавта, носителя государственных тайн. Но Селиванов-то понимал, что госпоже Звонковой надо было сейчас изловить небезразличного ей мужика, ухватить загулявшего за шиворот и приволочь его в надлежащее ему место. И если в случае с флоридским заточением Куропёлкина на вилле, окружённой аллигаторами и ламантинами, это получилось, то сегодня был провал.
— Так, — грозно сказала Звонкова. А сама дрожала. — Есть одно место. И если мы там Куропёлкина не отыщем, то, стало быть, он и вправду позволил себе провалиться под землю.
— Постарайтесь найти его, Нина Аркадьевна, а то ведь припишут нам измену Родине и подведут под пожизненное.
413
Одним местом и единственным, по разумению Нины Аркадьевны, был ночной клуб «Прапорщики в грибных местах».
И она не ошиблась.
Кажется, негоже было бы герою Геонавту шляться по ночным клубам и глазеть на голых мужиков, но для Звонковой поход сюда Куропёлкина был вполне объяснимым. Она уселась на пригретое ею некогда место у стены, но уже не купчихой Кустодиева, а коротко стриженной, а потому смешно-ушастой (уже и не Катрин Денёв, а Одри Хёпберн) парижанкой или миланкой, юной и худенькой, в красной каскетке, надвинутой на лоб. Куропёлкин сидел у другой стены и будто бы не замечал Звонкову. На самом же деле он сразу же заметил её появление. И теперь то и дело скашивал глаза в её сторону. Звонкова решила не давать ему каких-либо знаков, пускай развлекается. Жив, не провалился под землю, и хорошо. Но когда к Куропёлкину подсела блондинка известных свойств и они с Куропёлкиным начали мило болтать, Нина Аркаьевна не выдержала и подошла к столику Куропёлкина.
— Евгений Макарович, нам с вами надо немедленно переговорить. Извините, барышня. Это на три минуты.
Куропёлкин поднялся и с явной будто бы неохотой поплёлся за Звонковой.
И тут на сцену клуба высыпали, выбежали все местные прапорщики, весь актёрский состав представления, и со сцены же прозвучали аплодисменты и возгласы: «Браво, Куропёлкин! Ай, молодца!»
Люди в зале оживились, раздались крики: «Браво, Куропёлкин!», но самого Куропёлкина отыскать не смогли, он сидел за столиком Звонковой спиной к залу.
— Милый друг Куропёлкин, через полчаса здесь появятся твои серьёзные коллеги в связи с нарушением тобой секретного режима. И ужесточат твой вольный стиль жизни. Я же могу сейчас же предоставить тебе безопасное жильё, против которого Центр исследований возражать не будет…
— Это какое же?
— В моей усадьбе. Или в твоей избушке. А если пожелаешь, то я могу уступить тебе свою опочивально.
— Зачем уступать-то?
— Встаём и поехали.
— Погоди… Я обещал ребятам… И мы договорились…
— Отметить твоё появление… Я догадываюсь о том, что ты обещал и о чём вы договорились…
— Ты мне кто — жена, тёща? И не ты ли сама подсунула мне в Саянах фотографию с волонтёрами-прапорщиками? А я соскучился по ним…
— Ну ладно, — сказала Звонкова. — Но только один номер.
И на сцене появился артист ночного клуба, атлет Эжен Куропёлкин, в борцовке Ивана Поддубного, совершил изумительное акробатическое действие (турник выволокли на сцену) с соответствием жанровым особенностям клуба, после чего борцовка Поддубного сама собой разошлась по швам, предоставив взглядам публики тело, достойное внимания греческих ваятелей. Если бы те, конечно, дожили до представлений «Прапорщиков в грибных местах».
414
Утром, после ночи в опочивальне, Нина Аркадьевна спросила:
— Куропёлкин, ты всё ещё считаешь себя порядочным человеком?
— Где и когда? — спросил Куропёлкин. — Я готов хоть сейчас!
415
Сейчас не сейчас, а через четыре часа они всё же расписались.
Рядом (относительно) стояли города — Сергиев Посад, Дмитров, Яхрома, Талдом, Солнечногорск, Клин. Все они были с просвещённым населением, а в Яхроме ещё и создавали горнолыжный курорт, там не только Куропёлкина могли бы опознать, но и скромно-незаметную в фейерверках бурной светской жизни Звонкову, и треску, и свисту вышло бы много, причём и самого что ни на есть поганого. Дуняша посоветовала молодым съездить в Рогачёво, бывшую районную столицу, ныне большое село, славное своей капустой и картошкой. Там наверняка ЗАГС имелся. Кстати, рядом в неблагополучии находился знаменитый Николо-Песношский монастырь с его собором шестнадцатого века, на него стоило взглянуть. Нина Аркадьевна наморщила лоб. Вспомнила наконец. В одном из её гостевых домов висела картина Натальи Нестеровой, ею самолично приобретённая. С видом именно Николо-Песношского монастыря.
В Рогачёве, действительно, сумели быстро и без осложнений расписаться. В автомобиле, будучи ещё неуверенной в удачном для неё завершении затеи (мало ли что выкинет Куропёлкин), Звонкова, в присутствии водителя и Дуняши, согласившихся стать свидетелями, принялась принуждать Куропёлкина дать ей Честное слово. Честное слово должно было подкрепить обещание (чуть ли не клятву) никогда, ни при каких конфликтах с ней не проваливаться под землю.
— Даю тебе Честное слово! — торжественно заявил Куропёлкин.
— Запомни! — сказала в волнении Звонкова. — Ты это произнёс при свидетелях.
— Дорогая моя невеста, — сказал Куропёлкин, — тебя величают Королёвой Точных наук. А я — из Неточных. А потому жизнь нам предстоит трудная, но я готов её выдержать и радоваться её взбрыкам.
— С твоим появлением в моей жизни, — сказала Звонкова, — я давно уже перестала быть Королевой Точных наук, чему чрезвычайно рада. А скоро наверняка стану такой же неточной и шальной, как ты!
— Это тебе надо? — спросил Куропёлкин.
— Надо, — с воодушевлением произнесла Звонкова. — Надо, Куропёлкин, надо! И спасибо за то, что ты стал для меня Пигмалионом.
— Никаких Пигмалионов! — воспротивился Куропёлкин.
— Ты будто испугался чего-то, — удивилась Звонкова.
— Я уже побывал и Шахерезадом, и Ларошфуко! — смутился Куропёлкин. — Ещё и Пигмалионом быть не намерен.
— Нет, тут что-то другое. — Звонкова покачала головой. — Рассказывай.
— А и нечего рассказывать. Когда-нибудь развеселю тебя одной историей. Но не сегодня.
416
Регистраторша отнеслась к молодой паре спокойно, не вскрикнула, не упала в обморок. Хотя, несомненно, удивилась чуть ли не домашним одеждам брачующихся. Кто такая Нина Аркадьевна Звонкова, она и представления не имела. А на Куропёлкина поглядывала всё же с пытливостью, старалась что-то вспомнить.
— А ты не Геонавт? — спросила вдруг она.
Звонкова собралась что-то натараторить, но регистраторша сказала:
— Я не видела церемонии, в огороде занималась делами, осень всё же. Но по радио его называли вроде бы Куропёлкиным.
— Мы однофамильцы, — сказал Куропёлкин. — Фамилия вроде редкая, но всякое бывает…
— Бывает, — согласилась регистраторша. И задумалась. Потом рука её поползла к телефонной трубке. Но не доползла. Расхотела.
Походили по монастырю. Молчали. Будто энергия радости в них иссякла. К тому же вид душевнобольных, для которых обещанный приютный дом так и не отыскали, вызвал мысли невесёлые. У сурово-строгого собора времён Ивана Грозного постояли (молча же) полчаса. Перекрестились.
И тут Звонкова вспомнила, сказала:
— Муженёк, повтори, что ты пообещал мне.
— Не проваливаться от тебя под землю.
— И ещё.
— Честное слово! — искренне сказал Куропёлкин.
— Ну вот и ладно, — сказала Звонкова. — А со здешним неблагополучием следует разобраться.
417
Событие отмечали втроём. Звонкова, Куропёлкин и Дуняша. Скромно отмечали. Куропёлкину пришлось, вопреки убеждениям его желудка, хлебнуть шампанского. И так как компания состояла из троих, естественно, ею была употреблена бутылка крепкого напитка (коньяка). На троих.
И с середины следующего дня для Нины Аркадьевны продолжились трудовые будни, для Куропёлкина же — дни домашнего ареста, только что без браслетов на ногах, типа того, что сделал великомученицей сытную блондинку из остоженского переулка, поэтессу и вообще нежное существо.
Вечером принеслась (на автомобиле, но пусть и на метле) из города молодая жена и стала (не сразу, понятно) делиться свежей информацией:
— То, что продлили твоё пребывание рядом со мной (я за тебя поручилась), — замечательно. Но есть одна неприятность, и виновата в ней я. Прерванное заседание комиссии может продлиться и ещё несколько месяцев. Причина — в твоей выходке в клубе ночных прапорщиков. Мол, разве можно иметь дело с таким бесстыжим человеком. Это — во-первых…
— Эко ты меня огорчила! — рассмеялся Куропёлкин. — А во-вторых?
— А вот во-вторых — дело тёмное. И связано оно с твоей Баборыбой. И тут ставится под сомнение не только твоя репутация, но и моя. В частности, чем вызвана наша внезапная свадьба-женитьба. Но вроде бы и не она — главное…
— А что?
— Не знаю, — грустно сказала Звонкова.
— Надо завтра же призвать Селиванова, — нахмурился Куропёлкин.
— Призвать — не проблема, — сказала Звонкова. — Но захочет ли он что-либо важное открыть нам?
418
Завтра же Селиванов был доставлен в усадьбу Звонковой. Он выразил неодобрение увоза его со службы и дал понять, что откровенничать не намерен. Но после того, как Звонкова отвела его в сторонку и что-то нашептала ему на ушко, настроение его изменилось. Выяснилось, кстати, что Селиванов расположил себя в оппозиции к интриганам и пустышкам из комиссии, оттиснувшим его, практика, от важных дел. Для них и триумф Куропёлкина оказался обидным и незаслуженным. Они-то, не все, конечно, но самые ловкие из них и были, оказывается, создателями новейшей области человеческой деятельности — Геонавтики и Центра Фундаментальных Исследований Геонавтики (ЦФИГ) у них — книги с теориями Геонавтики, а у Политолога, титана общественной мысли, — их пять, одна другой толще, с привлечением подробностей из жизни каракатиц, кротов, чупарахч и цитатами из любимых некогда авторов Политолога, но приспособленных к нынешним ветрам и дождям. А тут объявился какой-то пожарный и флотский проходимец, и его надо поощрять. Выход на сцену Куропёлкина в ночном клубе с раздеванием в финале номера их, конечно, обрадовал, но это были лишь десять копеек в щель фаянсовой копилки. А так они ждали родов Баборыбы. То есть, извините, Людмилы Афанасьевны Мезенцевой.
— Ага, всё-таки Баборыба! — воскликнула Звонкова и грозно взглянула на Куропёлкина. Потом обратилась к Селиванову: — И чего же они ждут от родов этой дамы?
— Полагаю, что даму эту имеют в виду как средство управления Евгением Макаровичем. Ребёнок будет объявлен наследником Геонавта, и ему могут быть переданы какие-то особенные права. Тем более что если всплывут документы, подписанные вами двоими в Рогачёве, Евгения Макаровича назовут многожёнцем и его заслуги будут умалены.
— Ни с Баборыбой, ни тем более с Мезенцевой я не вступал ни в какие браки и не жду от них никаких детей! — зарычал Куропёлкин. — У меня одна любимая жена, вот она!
— Евгений Макарович, — ласково сказал Селиванов, будто свой, будто с желанием успокоить Куропёлкина, — вы же знаете, что у нас ничего не стоит испечь любой документ. И будто бы есть с гражданкой Мезенцевой секретные соглашения, выгодные влиятельным и корыстным людям. Поэтому советую: отнеситесь к ситуации без легкомыслия и беспечности. И уж вы совершенно зря плясали и кувыркались в ночном клубе. И дали повод отодвинуть вердикт комиссии до родов Баборыбы, для вас Баборыбы.
«Будто бы есть секретные соглашения! — возмутился Куропёлкин. — Сам небось и состряпал эти секретные документы, а теперь его от добыч отодвинули, и он в оппозиции!»
— Я до этих влиятельных и корыстных людей доберусь! — пообещала Нина Аркадьевна Звонкова.
419
А в обществе, оказывается, снова вспыхнул интерес к беременности Баборыбы, определённо кем-то подогретый или даже организованный. Слёзно жалели беззащитную нимфу и порочили имя Куропёлкина. Фотографии с его безобразиями в ночном клубе обошли все газеты, погуляли в Интернете, обсуждались в шоу-толковищах типа «Посмотрим и поговорим», где его с помощью свидетельства отчего-то автомобилиста-грузина, знакомого телеведущему, обвинили в уголовном нарушении правил дорожного движения. Правда, в одной из газет художественный руководитель клуба «Прапорщики в грибных местах», пожелавший остаться неизвестным (и лицо его прикрыли маской носорога), убедительно разъяснил, что никакого Куропёлкина в клубе не было, а выскочил на сцену совершенно случайный здесь человек, из «купчишек», и подёргался, а потом разбил лбом зеркало в коридоре, и он, худрук, подаёт в суд на клеветников из жёлтый прессы. («Ба! Да это же Трескучий! — сообразила Звонкова, рассматривавшая вместе с мужем фотографии. — С чего бы это он худрук в клубе?») С Куропёлкиным всё было ясно. Что же касается Баборыбы, то к её родам готовились, как к родам очередного британского наследника. Такого ожидания торжеств, благополучий и карнавалов в нашей провинциальной, отставшей от европейских церемониальных красот стране не было никогда. Приглашаемые на ТВ акушеры, цыганки, нумерологини пророчили появление не менее двух ребёнков. Было скучно без комменариев и небесноравных стихов горлопана-громобоя Держивёдры. Но тот не ко времени отбыл в Антарктиду, чтобы изучать и воспевать сексуальную жизнь пингвинов. Уместен был бы сейчас красавчик Фёдор Курчавов-Шляпин в косоворотке, но его так и не вернули инопланетяне, прежде казавшиеся добрыми. Теперь же высказывались печальные предположения, будто бы инопланетяне настолько хорошо узнали свойства Шляпина, что посчитали: привозить его на временные прогулки уже нет нужды, а съели его целиком для улучшения их породы. Прожевали ли они при этом его балалайку? Тут мнения расходились. Неутомимо-непоседливый блогер Таня Б. водил шествия по Москве с транспарантами: «Честь и процветание детям Баборыбы! Нагайкой по голым задам алиментщиков!». Будто сам существовал без голого зада.
Словом, в публике возникло всеобщее воодушевление. Будто бы не Баборыба (приравненная, кстати, народом к Жар-Птице) обязана была родить, а вся страна вот-вот должна была разрешиться чем-то обнадёжевающе-солнечным и в других государствах невиданным.
420
А Звонкова и Куропёлкин нервничали.
— Когда она должна родить, как ты предполагаешь? — спросила однажды Звонкова.
— Она не должна вообще родить, — сказал Куропёлкин. — Но если это вдруг случится, то в марте.
— Ага! Тебе известны сроки! Значит, это ты!
— Не я, — спокойно сказал Куропёлкин. — Меня тяготит другое.
— И что же тебя тяготит, дорогой мой Евгений Макарович? — с вызовом спросила Звонкова, явно приближаясь к скандалу.
— Когда будешь спокойной, выскажусь.
Но спокойной она так и не смогла стать. Надеялась, что это случится в её деловых хлопотах, не получилось. Отменила несколько дальних поездок. Не могла отделиться от Куропёлкина. По возвращениях в усадьбу прижималась к Куропёлкину, они молча сидели в гостиной, смотрели на пляски языков пламени в камине, иногда включали телевизор, каждое движение Куропёлкина пугало её, она прижималась к нему крепче и в страхе, будто бы он желал освободиться от крепости её рук и сбежать куда-то.
— Так что, милый Куропёлкин, тяготит тебя?
— Картина Пукирева «Неравный брак».
— Доводы?
— И так всё ясно.
— То есть плешивый старик сановник — это я, — сказала Звонкова, — а ты, стало быть, бедная несчастная невеста. Так, что ли?
— Я так грубо не говорил, — пробормотал Куропёлкин.
— Но так вышло… — сказала Звонкова. — Слушай, Куропёлкин, давай выскажемся сейчас и более не будем возвращаться к этой теме. Мы любим друг друга. Или ты сомневаешься в необходимости быть нам единым существом?
— Нет, не сомневаюсь, — сказал Куропёлкин.
— Ну, если так, значит, всё моё, тело, душа, суть — твоё. И всё твое — моё. Мы с тобой — одно. И что же может тебя тяготить? Или всё же было что-то серьёзное у тебя с этой пловчихой в сиреневом купальнике?
— Серьёзное было у меня с другой купальщицей в сиреневом.
— Дуралей! — воскликнула Звонкова. И добавила несколько несвойственных её светскости выражений. — Дуралей! Я могу свои капиталы, чтобы быть только с тобой рядом, пустить по ветру, накормить детей Африки или выкинуть какую-нибудь нелепость! Я бы отхлестала тебя по мордасам, если бы не нынешняя ситуация. Я согласна быть твоей содержанкой, и, возможно, ещё и буду ею. Ты любишь меня?
— Люблю! — сказал Куропёлкин.
— Погляди мне в глаза.
Через пять минут Куропёлкин прошептал:
— Какие у тебя ласковые и страстные губы. И какие прекрасные зелёные глаза.
И вспомнил.
— Дуралей! Истинно дуралей! — вскричал Куропёлкин. — Я сейчас.
В соседней комнате он изъял из своего чемодана картонную коробку и будто торт на подносе приподнёс её Звонковой.
— Совсем забыл! Они из вулкана Шивелуч. Геофизик и Геолог изучили их. И передали мне для подарка супруге с зелёными глазами. Учти — с благоговейными пожеланиями. Они ещё не обработаны ювелирами. Но может быть, и такими будут тебе приятны.
Звонкова открыла коробку и ахнула (не покоробила натуру Куропёлкина банальщиной «вау»), игра языков каминного огня вызвала и игру отбликов на зелёных камнях.
— Это мне? — спросила Звонкова.
— Тебе, тебе! Они понравились тебе? Это, пожалуй, моё единственное приданое!
— Подлец! Негодяй! — закричала Звонкова. — Наказать негодяя! Немедленно ведите его в опочивальню!
Но вести его в опочивальню было некому. Да и зачем идти туда, когда и здесь им было хорошо…
421
Была уже середина марта, а Баборыба так и не родила.
Степень народного возбуждения ослабла. Считалось, что ненадолго. В усадьбе Звонковой напряжение спало, и будто бы налаживалась семейная жизнь. «Жена», «супруга» секретный арестант Куропёлкин произносил с осторожностью, а отчасти и с удивлением, никак не мог привыкнуть к этим словам. Да и обращения «Нина Аркадьевна» и «Звонкова» были в разговорах скучны и неласковы, и Куропёлкин попытался вызнать, как именовали его подругу в детстве.
— Поняла, — сказала Звонкова. — Мать хотела назвать меня Алёной, но отец запретил сделать это. Он сказал, что все Алёнушки слезливы, а с ними таскаются глупые спившиеся братцы Иванушки. Но в его отсутствие мама называла меня именно Алёной, Алёнушкой.
Однажды Нина-Алёна была в Москве по делам, и Куропёлкин отважился позвонить во Владивосток, в приёмную комиссию университета, и поинтересовался, не может ли он восстановиться хотя бы на втором курсе истфака и дистанционно продолжить образование.
— Это сложно… — ответили ему. — Я плохо расслышал вашу фамилию. Повторите.
— Куропёлкин.
— Тот самый?
— Тот самый…
— Ну, с вами-то всё может решиться и в несколько дней!
И решилось. И восстановили Куропёлкина на третьем курсе.
422
И тут пронеслось: Баборыба вот-вот родит. Якобы и воды начали отходить. К несчастью, папарацци и телевизионные службы так и не раздобыли сведения о том, в какой клинике должна осчастливить планету роженица. А ведь уже было объявлено (и два месяца просветлённо-взволнованно звучали в эфире обещания телеглашатаев уровня самих Куценко или Нагиева), что всё будет чики-брики, камеры установят в палате роженицы (с её согласия), и сколько понадобится времени, столько и будет отпущено показу акта родов. Заказавший в Канберре самолёт, Держивёдра вернулся в Москву, но решением Центра Исследований Геонавтики появляться на родах ему было запрещенно. Держивёдра обиделся и пообещал уйти в женский монастырь. На одной из злободневных передач «Посмотрим и поговорим» из-под потолка свалились вдруг косоворотка и балалайка, вызвав голодные обмороки поклонниц Фёдора Курчавова-Шляпина. На скользких плитках мостовых в перестроениях репетировали духовые оркестры, в том числе и приглашённые британские, с волынками наперевес, мы по Пикадилли не ходили… Рядом на знаменитом катке готовили ледовую феерию «Рождение Афродиты», но творцам разумно попенали на бестактность, и ожидаемый балет сразу же стал «Рождением Афродиты и Зевса». Известно было, что над Москвой произойдут фигурные пролёты «Стрижей» с бомбометанием сливочных конфет «Помадка» и плюшевых кроликов. То есть всё шло замечательно, но Баборыба в тот день не родила. И какой-то дурак объявил по ТВ — «по техническим причинам».
Кого-то пригрели взбучкой, а для успокоения населения на экраны вывели учёных из Центра Исследованийй Геонавтики, и они заверили людей в том, что организм Людмилы Афанасьевны Мезенцевой, кого часто и не по делу называют Баборыбой, крепкий и она благополучно родит. Бывают задержки, и в них ничего страшного нет. К ним в компанию допустили нумерологшу из Талды-Кургана, она стала шуршать блокнотами, выводила цифры и объявила с торжеством:
— Ну вот, у Мезенцевой четыре единицы, а у Куропёлкина — три, всё это прекрасно, и нечего беспокоиться.
— С кем я связала свою жизнь! — воскликнула Звонкова.
— Знаешь что, Нина-Алёна, я дал слово не проваливаться под землю от склок с тобой. Но есть и другие способы снимать напряжения. В пьесе «Лес» к актёру Счастливцеву, сытно и уютно проживающему у родственников, приходит мысль: «А не повеситься ли?». Ты наверняка смотрела «Лес»?
— Из всех лесных действий я знаю лишь представление «Прапорщики в грибных местах».
Шутила. Горько шутила.
— Ладно, Куропёлкин, извини, — сказала она. — Я сейчас успокоюсь. Ты же не бросишь меня?
— Помолчи, — сказал Куропёлкин. — Я человек, верный привычке. И однолюб. Ты лучше погляди на этого вертуна среди членов комиссии. Пока ты бушевала, его объявили крупным теоретиком, научным руководителем Мезенцевой и её творческим опекуном.
— Это же Трескучий! — чуть было не выругалась Звонкова.
— Трескучий-Морозов, — подтвердил Куропёлкин. — Но он теперь брюнет и ходит во всём чёрном.
— Чёрти что! — сказала Звонкова. — Я в увлечении тобой стала невнимательной. Только ощущала, что он чрезвычайно важничает и от него пахнет гуталином.
— Боюсь, что ты была невнимательна к нему и раньше. У него бонапартьи комплексы, и сейчас для начала он желает удовлетворить простейший из них. Комплексы его очень опасны для множества людей. А уж в реакции с удачей опекаемой им дамы можно будет ожидать и губительного пожара.
— Теперь успокойся ты, мой пожарный, — положила Звонкова ласковую руку на голову Куропёлкина.
423
Ещё один день прошёл спокойно. Хотя кое-что и происходило. Ни с того ни с сего в Москву нагрянула толпа бушменов. Они выкрикивали: «Баборыба!», других слов не знали, ходили по снегу босые, но с копьями, и их пришлось снабдить шубами. После чего они пропали. Московские казаки, при орденах, стояли на заставах в старании обуздать и не допустить феминистские движения. Соколы-сапсаны разгоняли ворон, способных гнусными звуками нарушить нервную систему ожидаемого дитяти. Из-под Киржача с полигона приволокли в московское небо опытный образец дирижабля. На одном из боков его был размещён портрет Баборыбы, а на другом — огромные фотографии двух русых близнецов, вылитых наследников Геонавта Куропёлкина. Вечером прожекторы и лазеры вцепились лучами в бока дирижабля, и блогер Таня Б. сейчас же откликнулся одобрением: «Блудный отец возвращается в семью».
424
А на следующий день гражданка Мезенцева родила.
Финансовые дела ТВ с Центром Исследований были, видимо, улажены, и с утра камеры первых каналов познакомили зрителей с благополучием палаты дорогой им теперь Баборыбы. Дорогой или даже любимой, потому как у нас чрезвыйно любили создавать новые виды растений, новые породы животных и особенно породу нового человека, на это ушло чуть ли не столетие. Больницу Мезенцевой не назвали, сообщили только «где-то в Москве», и сейчас же в компаниях зевак и ротозеев нашлись доброхоты, пожелавшие на своих иномарках стать скороходами и сновать от одного родильного дома к другому, в надежде вычислить, куда положена Баборыба.
А вот Звонкова и Куропёлкин затаились в известной нам усальбе. Телевизор включать себе запретили, попросили Дуняшу, отправленную в соседнюю комнату глядеть и, в случае чего, сообщать о событиях. Куропёлкин хорохорился, а Звонкова прижималась к нему в страхе, что Куропёлкина удивляло, но спрашивать, в чём её страхи, он не считал нужным. Лишь выстраивал предположения.
Первое сообщение наблюдательницы Дуняши было такое:
— Началось!
И ещё четыре часа нервных ожиданий. Не в дурдом ли им поехать сдаваться? Неужели роды бывшей синхронистки должны были в их жизни что-то изменить?
И не ели, и даже не пили. Лишь иногда Куропёлкин приголубливал рюмку с малой дозой коньяка. Выходило, без всякого удовольствия. И боялся нового поворота событий. Чувствовал себя виноватым перед любимой им женщиной.
Дверь в гостиную приоткрылась, и Дуняша вскрикнула:
— Кесарево сечение!
Свет в гостиной не включили. Камин не зажигали. Сидели. Будто ждали бомбёжки. Долго сидели.
А теперь Дуняша уже не закричала, а завопила:
— Ой! Ой! Ой!
Куропёлкин бросился к Дуняше, не случилось ли что с ней.
— Четыре с половиной килограмма! — пыталась отдышаться Дуняша.
— Мальчик или девочка? — спросил Куропёлкин.
— Четыре с половиной килограмма чёрной икры!
Куропёлкин постоял у телевизора, ему стало нехорошо, он вернулся к жене, доложил ей о произошедшем, хотел было сострить: «Не пахнет ли эта икра гуталином?», но сразу же понял, что делать этого нельзя.
— А мне её жалко, — сказала Звонкова.
— И мне, — вздохнул Куропёлкин.
425
Понятно, что в публике настроение было невесёлое. Дирижабль, уже с пустыми боками, отволокли обратно в Киржач. Конфеты «Помадка» и плюшевые кролики смёрзлись. Премьеру балета, как и хождение духовых оркестров, в частности и с волынками, отменили. Вода «Боржоми» снова была признана отвратительной (по её делам). Общественные туалеты, срочно поставленные для ротозеев у родильных домов, отправили подарками в города «Золотого кольца». Рассерженный Держивёдра ездил по стране, подыскивая для себя женский монастырь. Ну, и так далее. А о конфузе всеобщей будто бы героини скоро забыли.
И были, конечно, поводы не только для печалей. Но и для удивлений. Прежде всего удивились букмекеры. Ставки, связанные с родами Баборыбы, были самые разнообразные, начиная с простейших — пол ребёнка, имя, всего 67 пунктов. И никто из игравших не сорвал и рубля. Кроме одного провидца. Всюду он поставил на чёрную икру. Пол ребёнка — чёрная икра, имя — чёрная икра. И так — по всем пунктам. Но ныне провидца искали, чтобы вручить ему победный куш. А он будто сквозь землю провалился. И это был не Куропёлкин. Удивились и владельцы спортивных баров. Их клиенты долго сидели тихо и заказывали без азарта, вызывая у хозяев мысли о прогаре заведения, но после показа на экране рождения чёрной икры началось чуть ли не закусочно-пивное сумасшествие, какое не могло бы возникнуть даже и при трансляции матча «Барселона» — «Бавария». Тонко философствующие люди были огорчены. Не высказывая заранее и публично мнений, они всё же надеялись на какое-то чуть ли не историческое чудо, фактом своим должное указать Путь Людям. Их оппоненты и теперь не унывали: а чёрная икра — не символ ли отечества, рассуждали они, и нет ли в нынешнем якобы конфузе именно предвестия процветания и благополучия великой страны?
426
Но всё это были мелочи, и они не волновали Куропёлкина. И не волновали его оркестры с волынками. А волновала иная волынка. Перерыв в заседании комиссии Центра исследований. Надоела ему неопределённость его положения. А тут определённость и случилась.
427
Кто-то важный наверху цыкнул, а может, и ударил ботинком по столу. Что у нас за ЦФИГ такой? ЦФИГ с маслом, что ли? Он и икрой торгует? Сколько там геонавтов? Не отвечайте, сам знаю. Один. А сколько там профессоров, докторов наук и теоретиков? И вот так мы печёмся об обороноспособности державы? Сейчас же начнётся преобразование Центра. На что там только деньги тратят!
Преобразование началось с серьёзных выволочек руководителям Центра. Политолог был переброшен к генетикам, с указанием украшать стилистическими оборотами и цитатами труды укротителей дрозофил.
С Куропёлкиным дело решилось быстро. Его даже хотели произвести в главнокомадующие. То есть в начальники Центра в генеральском звании, что Куропёлкина, естественно, напугало. Но трезвые умы сейчас же напомнили о том, что Куропёлкин не состоит ни в одной из заседающих в Охотном ряду партий и не желает в них вступать, да его, памятуя о его подвигах в ночных клубах, и не примут ни в какую партию. А потому следует удовлетворить просьбу Куропёлкина и ввести его в штат вольнослужащим без каких-либо надбавок к окладу. Удивил Куропёлкина Консультант (Консультант ли на самом деле?) Бавыкин. Он принялся защищать и хвалить Политолога, а его, Куропёлкина, отругал. Сказал, что он, Куропёлкин, никакой не геонавт, а всего лишь пешеход-любитель, возможно, профессионал в пожарном и морском делах, в нашем же деле его вознёс помойный случай, а так его надо держать подальше от исследований Центра (при этом он обернулся к Кадровику).
— Тем не менее Евгений Макарович утверждён отвечающим за подземные богатства Джугджура. И менять что-либо мы не будем.
Бавыкин пожал плечами и более ни слова не произнёс.
428
Вечером Куропёлкин сказал жене:
— Ну, твой Бавыкин хорош!
— Он так и сказал «помойный случай»? — удивилась Звонкова.
— Так и сказал.
— Значит, помойный случай — это я! — рассмеялась Звонкова. — Ну, мужики… Я-то думала, что у него всё в прошлом… Что у него интерес к Дуняше… А он…
— Ну и что тут смешного?
— Это нервный смех! Теперь я понимаю, почему при твоём падении в Люке Бавыкин не включил свои батутные устройства улова. Две мотивации. Два искушения. Две пробы. Может, повезёт с осуществлением проекта. А если не повезёт, предполагаемый соперник не будет бередить душу. Вот и произошёл, из-за моей блажи, помоечный случай. Остерегайся общих дел с Бавыкиным, прошу тебя!
— По-моему, ты всё упрощаешь! В такого Бывыкина я не верю. Гений и злодейство, что ли? Конечно, себялюбец, но примитивный, осатаневший от приступов любви, способен на самые бредовые поступки. А Бавыкин-то человек масштабный, исполин, по его разумению, инспектор часовых поясов, а вдруг и держатель сил всей планеты, разве может он даже и в страсти своей быть таким мелким?
— Смотря кто обьект его страсти, — сказала Звонкова.
— Ох! Ох! Ох! — произнёс Куропёлкин. — Заслуги-то какие! Красота-то какая! А не с ним ли ты и сейчас? А? Может, и у тебя было две или три мотивации?.. И несмотря ни на что, он мне интересен. Я даже хотел объясниться с ним. Но, пожалуй, не буду.
А Звонкова расплакалась.
Куропёлкин растерялся, присел перед Звонковой на четвереньки, обнял её колени, стал целовать их, но успокоить подругу не мог.
— Ты меня обидел… — прошептала Звонкова.
И снова Куропёлкин ощутил, какой он неловкий и прямолинейный человек.
Но тут по полу гостиной мимо Звонковой и Куропёлкина прошагал Башмак. На его боку зажглась бегущая строка: «Я не к вам. Я к горничной» — и скрылся в соседней комнате.
Глаза Звонковой были сухими. Она в недоумении смотрела то на Куропёлкина, то на закрывшуюся за Башмаком дверь.
— Дуняша! — выкрикнула наконец она. — Дуняша!
Потом с осторожностью и призывая Куропёлкина в телохранители, она направилась в комнату горничной. Ни Башмака, ни Дуняши в ней не было.
429
— Она давно этого хотела, она сама этого хотела, — повторяла Звонкова. — А с твоей бестактностью, Куропёлкин, мы ещё разберёмся. Скажи спасибо, что у меня сейчас важные хлопоты.
Важные хлопоты, как выяснилось позже, были связаны с жизнеустройством Баборыбы. Сейчас здоровьем Мезенцевой занимались психотерапевты. Естественно, исходом родов Мезенцева была потрясена. Вспоминали, как она рыдала и умоляла оставить ей хоть одну, хоть две икринки, она их воспитает, они её наследники, им были дадены государственные сертификаты. А приплод в те минуты увозили в какой-то в особенный рыбопитомник. Рассказывая об этом, Звонкова подносила платок к глазам. Звонкова утешала страдалицу не только словами, она учредила для неё приличную ежемесячную стипендию до дня совершеннолетия мальков. Брюнет и творческий опекун Мезенцевой пытался отделиться от неё, но никак не мог вернуть натуральный цвет волос, а только чернел и чернел. («Ты не уволила его?» — спросил Куропёлкин. «Пока нет, он всё же толковый исполнитель…») А вокруг Мезенцевой уже крутился шустрый молодой человек Анатоль, он был уверен в том, что как только Мезенцева очухается, с её историей и её прекрасным телом да ещё и с разъездным мегааквариумом, можно будет бомбить корпоративные попойки. Купания же Баборыбы Анатоль собирался предварять, при трезвой ещё аудитории, байками и нелепостями профессора Удочкина («Не одними же кильками кормиться профессору»). Эта идея Звонковой (насколько она поняла Мезенцеву) показалась осуществимой.
— И знаешь ещё что, мой любезный Куропёлкин, я пыталась выяснить, могла бы родить от тебя эта Мезенцева. И поняла, что не могла. Произнесу банальность. Нормальные дети появляются на свет после ласк двух любящих друг друга людей. А ты Баборыбу не любил. Я успокоилась. И могу сказать тебе по секрету. Придвинь своё ухо ко мне.
— Ну, ты, Звонкова, даёшь! Это правда? — воскликнул Куропёлкин.
— Правда. Ты доволен?
— Ещё бы! Я… — не мог найти слов Куропёлкин.
— И всё, — сказала Звонкова, — и больше никаких слов. Я суеверная.
430
Другим, ещё более важным делом для Нины Аркадьевны Звонковой стало увлечение устройством виллы (пусть и на месяц проживания) на мёрзлом берегу Тихого океана. Экзотика! У кого ещё из «форбсов» есть виллы в ледяных местах? Она с лупой обследовала на картах подробности западных прибрежий Охотского моря и поняла, что дорогу к Охотску придётся тянуть через горные хребты от Якутска, и в ней взорвался азарт. Нашему автобану и немцы позавидуют! Транспортными средствами Звонковой были посланы в Охотск топографы, экономисты, проектировщики сибирского профиля и, конечно, архитекторы, молодые и авантюрные. В дни их отъезда состоялась размолвка Звонковой и Куропёлкина, чуть ли не приведшая к раздору. Звонкова пожелала ввести Куропёлкина в свет. Без ведома Куропёлкина был закуплен костюм (прикид) для фейсконтроля.
— Примерь костюм, — попросила Звонкова. — Фигура у тебя стандартная, пятый рост, в плечах, то есть в кости, ты не так широк, как кажешься…
Чтобы не вызвать из-за мелочи раздражение жены, Куропёлкин костюм примерил.
— Прекрасно! — обрадовалась Звонкова. — Ты просто элегантен. Завтра же выйдем на приём в дом к банкиру Сутягину.
— Не пойду, — мрачно заявил Куропёлкин.
— Это почему же? — удивилась Звонкова. — Или стыдишься появиться со мной в обществе?
— Вовсе не потому, — вздохнул Куропёлкин. — Пойми меня… Ты живёшь внутри блистающего шара, я — в сыром углу чемодана из дерматина. И мне надо привыкнуть к твоему окружению…
— Ну и привыкай! — сердито сказала Звонкова.
431
Через несколько месяцев вернулись посланные в Охотск. К тому времени Куропёлкин всё же заставил себя отправиться с женой в Большой зал Консерватории на бенефисный вечер оркестра Плетнёва, даже бабочку под кадыком выдержал и был представлен многим светским людям.
Сегодня же он был приглашён в офис Звонковой. Два парня, недавно защитившиеся в институте на Рождественке, докладывали госпоже Звонковой о своих замыслах. Рисунки и чертежи прилагались. Парни желали оживить деревянный острог Охотска, стены с башнями, церковь и воеводский дом. Куропёлкин одобрительно кивнул. Но спросил: «А это что за рисунок?» «Это объект — вне Охотска. Но рядом. Колодец для работ академика Бавыкина». «Что?! — возмутился Куропёлкин и грозно взглянул на Звонкову. — Никаких колодцев Бавыкина!» «Нас не спросят, — вздохнула Звонкова. — И дело тут не в Бавыкине. А потому давай лучше посмотрим на более важные для нас с тобой хоромы… Вот… И знаете, ребята, тут не стоит спешить. Евгений Макарович высказал пожелание, чтобы эти хоромы состояли из двух строений — блистающего шара (солнце всё же появляется над страной здесь) и дорожного чемодана (сколько начиналось отсюда путешествий по Тихому океану!)».
— Чемодана с ручкой?
— С ручкой! С ручкой! — заверила Звонкова.
— Блестяще! — обрадовались архитекторы. — Мы пойдём.
— Погодите! Ещё одно пожелание Евгения Макаровича. Он теперь воевода в Джугджуре, и для него важно испытывать в острожном воеводском доме ощущения первопроходцев — холод, отсутствие всяческих удобств и прочие некомфорты.
— Поняли! Поняли! — воскликнули архитекторы. — Завтра принесём наброски.
— Почему завтра? Не спешите. Давайте через неделю.
— Ну, вы, Нина Аркадьевна, и…
— Стерва?
— Нет, шельма! И Бавыкин со своими Люками тут как тут!
— Ты на меня дуешься, а я на тебя сержусь, — сказала Звонкова. — И в этом ничего хорошего нет. А Бавыкин тут вовсе ни при чём…
432
Зазвонил телефон.
— Господин Селиванов? Да, Куропёлкин здесь. Вам что-то надо передать ему? Приезжайте в мой офис.
Селиванов приехал.
— Нам Евгением Макаровичем однажды была задана загадка. В Карибских морях он выловил бутылку «Великоустюгского рома». Из бутылки пили. Пробка её для крепости соединения была обмотана плотной бумагой. Евгений Макарович посчитал, что в обмотке — какая-то отчаянная записка, может, с мольбой о спасении, как в «Детях капитана Гранта». Её исследовали во многих лабораториях, и ничего не поняли. Прошу, Евгений Макарович, принять от нас бутылку и так и не разгаданную записку как свидетельство бестолковщины наших аналитиков.
Куропёлкин взял обмотку пробки, развернулась она сама, и возник совершенно гладкий лист с какими-то странными знаками, острыми, вертикальными, с короткими колючими отростками, будто из готики, и вдруг среди них стали проступать буквы кириллицы, сменившиеся машинописным текстом. Вот что прочитал Куропёлкин: «Уважаемый Евгений Макарович! К вам обращаются представители московской диаспоры Троллей уральского и кавказского происхождения. В Москве мы трудимся со времён Великого князя Ивана Третьего. Но нынче с документами происходит всякая билиберда и только некоторые из нас имеют возможность работать водителями троллейбусов. Но всё это наши проблемы и не ради жалоб мы к вам обратились. Мы восхищены вашими походами и выражаем желание, как и в прежних случаях, сопровождать вас в путешествиях и в Андах, и в Кордильерах, и с особой охотой в районе кратера Бубукина. Ещё раз с почтением. Гильдия московских Троллей».
— Ты чего разулыбался? — сказала Звонкова. — Ты чего там шептал «кратер Бубукина»? Дай-ка эту бумагу!
— Мне надо по делам, — заспешил встревоженный Селиванов.
— Спасибо. Мы вас не держим.
— Читай, читай бумагу! — смеялся Куропёлкин.
— Тут какие-то рунические знаки, — сказала Звонкова.
— Вглядывайся в них, и может, тебе что-то и откроется.
— Ты издеваешься надо мной, — расстроилась Звонкова, губы её задрожали. — Прошу тебя, повтори, что тебе открылось.
И Куропёлкин повторил. Слово в слово.
— Так! — возмутилась Звонкова. — Ещё и Анды, и Кордильеры! Вы так и Землю расколете!
433
Они вышли из офиса и направились к машине Звонковой. Сейчас же по плиткам тротуара мимо них проследовал Башмак. Повернулся боком и дал рассмотреть вспыхнувшую на нём бегущую строку: «Земля имеет форму Чемодана». И незамедлительно, не создавая на мостовых пробок, поспешил через проспект Вернадского и вскоре растворился в огнях сумерек…
434
Куропёлкин выгребся из-под земли. Или из-под камней. Встал. Под ним были Анды. А может — и Кордильеры. Красота! И кондор пролетел… И тут планета стала резко уходить из-под его ног. Улетала от него, уменьшалась… И вдруг стала разламываться. На три куска арбуза, потом раскрошился четвёртый… А Куропёлкин остался висеть в черноте, с кожаным «кейсом» в руке. Замок делового чемодана расщёлкнулся, из чемодана вывалились отбойный молоток Стаханова, лопата, лоток золотоискателя, бутылка великоустюгского рома… «Куропёлкин, чего ты стонешь?» — услышал он. И тёплая рука жены легла на его плечо. На табурете их опочивальни ровно светил ночник.
435
На этом наша правдивая история заканчивается. Но в реалиях жизни не кончается.
21 апреля 2011 — 21 августа 2013

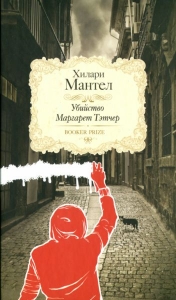









Комментарии к книге «Земля имеет форму чемодана», Владимир Орлов
Всего 0 комментариев