ПРОЛОГ
Артур Крамер лежал в темноте, невыспавшийся. Семь или восемь минут оставалось до звонка будильника, до шести утра, когда он должен был поднять себя и последний раз снова отправиться в эту поездку, во время которой он мог убить человека или погибнуть сам.
Смутное воспоминание о каких‑то отрывистых, мучительных сновидениях мелькало в голове.
Будильник потикивал рядом с ухом на крышке громоздкого, ещё трофейного «телефункена», служившего одновременно и тумбочкой у низкой тахты. И все не звонил.
В закрытых глазах, как всегда внезапно, возникла ослепительная фосфоресцирующая вспышка. Медленно истаяла, угасла.
Артур рывком встал. Он успел одеться, подойти к окну, раздёрнуть занавеси, и только теперь за спиной деликатно зачирикал будильник. Майский рассвет был пасмурен. Тёмный асфальт улицы лоснился от тихого дождика. «Может, пока буду пить чай, он пройдёт, — подумал Артур. — Поеду не торопясь, ещё больше увеличу дистанцию.»
Вернулся к будильнику. Заглушил. Ставя часы обратно на радио, вспомнил он новость вчерашнего вечера: в итоговой сводке последних известий, где‑то в её конце, дикторша безучастно сообщила о том, что на Брянском металлургическом заводе отчаявшийся от невыплаты зарплаты рабочий, отец двоих детей, бросился в ковш расплавленного металла. В секунду сгорел, растворился…
Артур взглянул на стену, где висела икона Спасителя мира. И уже не до чая было Артуру Крамеру. Он заставил себя почистить зубы, умыться. Потом взял с заваленного черновиками письменного стола приготовленные с вечера три стодолларовые купюры, подумал о том, что для приличия нужно бы положить их в конверт.
Чистого конверта не оказалось. Тогда он достал из секретера толстую пачку писем, вытащил длинный иностранный конверт, взял с письменного стола лупу, вгляделся. Письмо было из Англии, из Оксфорда. Артур вынул письмо, крестообразно зачеркнул авторучкой на конверте свой московский адрес, всунул внутрь доллары.
Спрятав конверт в боковой карман синей выгоревшей курточки, и привычно нащупав наличие в нём водительского удостоверения и техпаспорта, он прихватил стоящий у входной двери пакет с мусором и вышел. Седая крыса с длинным чешуйчатым хвостом метнулась с площадки перед лифтом вверх по устланным мусором ступеням лестницы.
Придерживаясь рукой за перила, Артур медленно спустился в полумрак подъезда к почтовым ящикам. Все их дырочки светились иллюминаторами от одних и тех же непрошенных изданий. Артур отпер свой ящик, вытащил рекламную газету «Экстра–М» и, выйдя во двор вышвырнул её вместе с пакетом мусора в высокий переполненный бак, почему- то стоящий сегодня на проезжей части у выезда на улицу.
До своего «запорожца», зажатого в длинном ряду спящих вдоль мокрого палисадника машин, он дошёл, уже чувствуя разгорающуюся боль в левой ноге. Потыкал ключом в замочек автомобильной дверцы. Наконец попал, отпер. Достал с заднего сиденья «дворники» и, так же наощупь, закрепил их снаружи у лобового стекла.
Рухнув на сиденье, он захлопнул за собой дверцу, опустил боковое стекло и стал вставлять ключ в замок зажигания. Замочная скважина не нащупывалась. А когда, наконец, нашлась, ключ в неё не вставлялся, не лез. Артур поднёс его к самым глазам и только теперь понял, что держит его неправильно — бородкой вверх.
Наконец мотор зарокотал, заработали «дворники», сметая со стекла слезы дождя.
Артур ждал пока прогреется двигатель. В его сознании вырисовывался весь путь… Он проделывал его каждый день, кроме суббот и воскресений, и надо же было так случиться, что месяц было сухо, а сегодня ночью прошёл дождь.
«С Богом!» шепнул он себе и осторожно, сантиметр за сантиметром начал выруливать из плотного ряда автомашин. Чудом не задел ни стоящего впереди «жигулёнка», ни притаившегося сзади чёрного «форда».
Ворона косо спланировала на возвышающийся посреди дворового проезда мусорный бак. Его можно было объехать, притираясь вплотную к тротуару, но Артур вышел из машины.
Ворона со зловещим карканьем снялась с края бака и опустилась неподалёку в мокрую траву палисадника. Сдвигая в сторону тяжёлый бак, Артур чувствовал, как она следит, нетерпеливо ждёт, чтобы он поскорей убрался.
Было без двадцати семь, когда «запорожец» выполз со двора и повернул направо по улице. Лёгкая морось обнаруживала себя редкими водяными оспинами на лобовом стекле.
Ни встречных, ни, сколько он мог различить в зеркальце, нагоняющих машин не было видно. Артур увеличивал скорость — перешёл со второй передачи на третью, с третьей на четвёртую — и его охватило уже забывающееся ощущение прежних возможностей, теперь казавшихся счастьем.
Ему даже захотелось включить приёмничек, закреплённый под приборной доской. Нет, теперь он не мог себе этого позволить. Музыка отвлекает.
«Отмучаюсь в последний раз, — подумал он. — Вернусь, и этого уже не будет — с вечера готовить себя к самому худшему, заводить будильник… На обратном пути на все оставшиеся деньги накуплю ветчины, сыра, фруктов, зелени, разорюсь на бутылку «Столичной». Может быть, Павел заедет».
В этот момент близко, катастрофически близко Артур заметил надвигающийся зад стоящего у тротуара синего «камаза». Рванул руль влево, сбросил газ. И, не успев возблагодарить Бога за то, что рядом не оказалось другой машины, увидел старуху.
Старуха выдвигалась из‑за «камаза», намереваясь пересечь улицу. Длинная, худая, прикрывшая голову от слабеющего дождя прозрачным пластиковым пакетом.
Затормозил. Успел нажать на гудок. Не слышит. Не видит.
Величественно, как в дурном сне движется поперёк улицы. А машину по мокрому асфальту несёт прямо на нее… И уже ничего нельзя сделать.
«Запорожец» замер, почти ткнувшись ей в бедро. Старуха, все так же придерживая на голове пакет, заслоняющий ей обзор, с маразматической важностью продолжала пересекать улицу. Артур медленно покатил дальше. Впереди виднелся перекрёсток с двумя светофорами по углам. Только теперь затряслись, заходили ходуном руки. Проехав мимо поставленных на мигалку светофоров, он подчалил к скверу, вышел из машины. Оказывается, над клёнами и осинами, над влажными кустами вставало солнце. Бабочка–капустница совершала облёт цветков, торчащих среди травы.
Артур пригнулся. Это были скромные цветки клевера. Он глубоко вдохнул воздух мирка цветов и бабочек. Мимо прогрохотал грузовик, одна за другой просвистели две иномарки.
Нужно было поторапливаться. И «запорожец» снова двинулся в путь.
По скоплению машин у поворота на Ленинградский проспект Артур понял — красный свет. Сомнительное свойство ориентироваться не на светофор, а на поведение других водителей выработалось у него именно за последний месяц.
Свернув вместе со всеми налево по Ленинградскому проспекту, он отметил, что несмотря на ранний час, машин много, больше, чем в прежние дни в это время. Ему предстояло ехать в самый центр столицы — до Триумфальной площади, которая была и осталась для него площадью Маяковского, сворачивать влево и пилить по Садовому кольцу с опасным множеством светофоров почти до самого Курского вокзала.
Казалось невероятным, что всего лишь несколько лет назад такого рода поездки совершались им как бы автоматически.
Асфальт просох. Руки успокоились, перестали дрожать.
Поднимающееся солнце било в глаза своими отражениями отлакированных поверхностей движущихся автомобилей, от зеркальных витрин новых магазинов. Игра света мешала не только вглядываться в грязные зрачки светофоров, но и различать стоп–сигналы обгоняющего транспорта. Внимание Артура было занято и тем, чтоб постоянно держать дистанцию, не вмазать в зад внезапно притормозившей впереди автомашины.
И в то же время непрерывный поток образов, мыслей проходил через его сознание.
…Снова представилась Артуру одинокая старуха, придерживающая на голове дурацкий пакет. Что подняло её в такую рань, куда она направлялась? У этой старухи была своя долгая жизнь, чуть не прервавшаяся из‑за того, что он позволил себе преступно раскатывать по городу.
Лишь сантиметр или даже доля его отделяли Артура от самого себя одиноко глядящего на мир через решётку тюремной камеры.
Пересекая площадь Белорусского вокзала, он проехал в опасной близости от вышагнувшего на полосу движения рассерженного гаишника с жезлом, подумал — «ГАИ сошло бы с ума, если б узнало… А что делать? На метро и троллейбусе добираться уже не могу. Из‑за ноги. Такси — не по карману. Да и страшно отказаться от вождения, признать себя полным инвалидом. Регулировщик вылавливал из череды машин кого‑то другого, не его.
Артур въехал на Тверскую с обострившимся чувством одиночества, отверженности.
«Иисусе Христе, — прошептали его губы, — дай мне, никого не убив, вернуться целым и невредимым.»
«Запорожец» продвигался с потоком машин к повороту На Садовое кольцо. Транспорта становилось всё больше, хотя время мчащихся на работу чиновников и бизнесменов ещё не наступило. Час автофургонов, потрёпанных «жигулей» и «москвичей» ещё не сменился наглой толкотнёй «мерседесов», «вольво» и прочих иномарок. Их хозяева ещё досыпали, брились, завтракали, связывались по радиотелефону со своими телохранителями или секретаршами. Теперь это была их Москва, а не та, которую он знал и любил.
Ожидая в левом ряду за обшарпанной чёрной «волгой», когда зажжётся зелёная стрелка, и передние машины начнут сворачивать налево, вспомнил он…
…Взрыв.
Дней десять назад проснулся ночью от потрясшего квартал взрыва. Это потом выяснилось — взорвали неприметный офис в первом этаже соседнего корпуса. А тогда — темнота, неизвестность, ощущение беззащитности, как было в детстве во время бомбёжки фашистами Москвы. Тогда сирены тревоги, теперь вся округа орёт включившимися от ударной волны сигнальными системами сотен пробудившихся автомашин. Какофонией воющих, квакающих звуков пронзительно орала собственность нуворишей.
«Волга» двинулась, сворачивая налево, и Артур осторожно двинулся вслед за ней.
Теперь можно было ехать прямо, никуда не сворачивая.
Слева нежились под солнцем похорошевшие, отремонтированные здания Садового кольца, справа всё оставалось в утренней тени. Вон там, в тени таился и старый многоэтажный дом — сборище коммуналок, общих кухонь со множеством крытых клеёнками столиков, с обитыми драным дерматином входными дверями, обрамлёнными почтовыми ящиками и кнопками звонков. Теперь почти наверняка все жильцы расселены по отдельным квартиркам куда‑нибудь на окраины, дом изнутри перепланирован на апартаменты для тех же богатеев… Когда‑то полтора года подряд приходил он сюда каждую пятницу к семи часам вечера. Поднимался на шестой этаж ободранным лифтом, нажимал кнопку звонка. Иногда одновременно с ним приходили две Тани — Таня большая и Таня маленькая, Лидочка, Клара Ивановна, Феликс.
Бесшумно отворяла дверь Наталья Давыдовна, всегда прикладывала палец к губам. Нужно было быстро, не разговаривая, прошмыгнуть длинным коридором мимо сундуков и висящих на стене велосипедов в предпоследнюю комнату направо, где посреди накрытого скатертью стола горели в шандале три свечи, лежала Библия и большой медный крест. Всегда за столом уже сидела с раскрытым молитвенником старенькая Ольга Васильевна. Дверь запиралась на крючок. Наталья Давыдовна отключала телефон. Все рассаживались. И начиналось «молитвенное общение».
Даже сейчас, через столько лет, вспомнился Артуру запах горящих свечей, вкус жидкого чая, пряников — бедной трапезы, «агапы» — после молитвы. Вспомнился невысказываемый и оттого внятный страх каждого, боязнь, что однажды в дверь постучат домоуправ с милиционером. Что нагрянет КГБ.
Наталья Давыдовна давно живёт где‑то в США. Ольга Васильевна умерла от рака. Остальные потерялись из виду. Лишь вечно маленькая Танечка звонила иногда, поздравляла то с Рождеством Христовым, то с Пасхой.
Ничего не получилось из этих «малых общин», которые по образцу общин первохристианских пытался создать отец Александр.
Артур въехал на эстакаду над Самотекой. Фосфоресцирующая вспышка вновь ослепила его. Он притормозил. Отнял левую руку от руля, на миг прикрыл глаза ладонью. Она была мокрая от пота.
Водитель с подбритыми азербайджанскими усиками проехал мимо на «тойоте», злобно погрозил кулаком.
…Артур покатил дальше, постепенно перестраиваясь от осевой ближе к правой стороне Садового кольца. Там уже смутно виднелось красное здание станции метро «Лермонтовская».
Ехать здесь, вдоль тротуаров, было ещё опасней, чем в скоростных рядах, где он явно мешал всем. Неуклюжие троллейбусы и автобусы, грузовики с прицепами, выскакивающие на проезжую часть ловцы таксомоторов — он вынужден был проявлять цирковую ловкость, чтоб никого не убить, ни во что не врезаться. А ведь ещё предстоял неминуемый путь назад, когда транспорта будет неизмеримо больше.
«Ничего! Осталось проехать только два или три светофора, — подбодрил он себя. — Если б не отдавать эти триста долларов, мог бы вообще не ехать. Всё равно никакого толка. Безнадёга.»
Приглядываясь до рези в глазах к эволюциям движущегося впереди трейлера, гружённого обвитыми цепью брёвнами, Артур проехал один светофор и, подъезжая ко второму, вдруг обратил внимание на то, что машин вокруг него нет, а трейлер, прибавив скорость, ушёл далеко вперёд.
Артур понял, что не успел, проехал на красный свет, и затормозил. Уже на переходе.
Людей, ринувшихся пересекать Садовое кольцо, было немного, четыре или пять человек. Каждый из них с неприязнью огибал замерший «запорожец». А толстая тётка в белом картузе, тащившая детскую коляску, доверху загруженную упаковками стирального порошка, не преминула грохнуть свободной рукой по капоту, прокричать — «Сволочь, куда выпер?!»
Артур дождался пока слева и справа помчатся машины, двинулся тоже. Через минуту свернул к самому тротуару и наконец остановился близ полураскрытых чугунных ворот в том месте, где останавливался весь этот месяц каждое утро.
Он сидел, уронив голову в скрещённые на руле руки. Слышал — шумит, рокочет слева Садовое кольцо. Словно механическое море с приливами и отливами. Суета цветовых бликов в глазах унималась.
Было всего без пяти семь.
Лишь тридцать минут заняла эта поездка, и теперь целых два часа до девяти — предстояло, как и в прошлые дни, ждать. Сужающиеся возможности жизни подвели его к единственно верной тактике: выезжать рано. Путь хотя бы в одну сторону становился менее рискованным. А то, что обратно, в самые часы пик, ему до сих пор удавалось живым и невредимым возвращаться — казалось мистикой, чудом Божьим. Каждый раз, вернувшись домой, он валился на тахту, лежал плашмя, не в силах ни скинуть обувь, ни подойти к зеркалу, чтоб разглядеть очередные синяки от уколов под нижними веками.
«Господи, пожалей меня, грешного, сохрани и помилуй!» воззвал в своём сердце Артур.
…У машины невесту откуда возникли белобородый старик в синем халате и тюбетейке и босоногий мальчик, лет семи. На шее у мальчика висела картонка, где крупными буквами было написано:
«МЫ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА. ИЗВИНИТЕ,
НАМ НЕЧЕГО КУШАТЬ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА»
Артур залез в карман, вынул имеющиеся у него деньги, протянул старику.
Тот взял, поклонился с достоинством.
— Где жили в Таджикистане? — спросил Артур.
— Шаартуэ.
Они уходили. Он смотрел, пока видел, как старик и мальчик обречённо бредут по мостовой вдоль края тротуара…
Много раз бывал Артур в этом самом Шаартузе. Направляясь вместе со Стахом в заповедник «Тигровая балка», по пути всегда останавливались выпить зелёного чая под сенью тенистого навеса чайханы у арыка. Кажется, видел там именно этого старика.
Стах давно не отзывался ни на телефонные звонки, ни на письма. Что сталось с ним, с его женой Альбиной, с сыном Игорем?
Что сталось с рыжим гидробиологом Хамидом, исследователем Нурекского водохранилища, красивого, как залив Японского моря? Вот уже столько лет не даёт о себе знать весёлый добряк Хасан — водитель «газика» из Владикавказа. Давным–давно нет вестей от Зурико из Тбилиси. От Вано из абхазской деревни Бабушера. От Паруйра из Степанакерта. От Аи и её матери из Ашхабада.
Он подозревал, что они погибли. Если бы эти люди были живы, они бы сами рано или поздно непременно объявились. Не было бы этой зловещей немоты пространства… Он чувствовал перед всеми ними такую же вину, как перед безвестным, бросившимся в расплавленный металл сталеваром.
…Уже пять лет не было в живых отца Александра. Именно после известия о его убийстве Артур пережил сильнейший сосудистый стресс, приведший к тому, что сетчатка глаз стала плохо снабжаться кровью и что‑то случилось с ногой.
До девяти оставалось чуть больше часа.
Артур протянул руку под приборную доску, включил приёмничек. По всем станциям с утра пораньше орали рок и поп группы.
Это был рёв из тьмы кромешной. Прижизненного ада людей.
Вращая ручку настройки, Артур вспомнил: однажды один человек сказал ему, что он просто отстаёт от века со своими устарелыми взглядами.
«А что если он прав? — подумал Артур. — И все мои беды сделали меня брюзгой. Замечающим только плохое… Вон девчонка прогуливает спаниеля. В Москве лето…»
Если б не проблемы с глазами и с ногой, он чувствовал бы себя молодым, полным сил. Тем более обидной была эта беспомощность, это одиночество. Особенно сейчас, здесь, в центре многомиллионного города.
Врачи ещё в позапрошлом году твердили — для ноги, для всего организма полезно было бы плаванье в морской солёной воде. Но после развала СССР море стало практически недостижимо.
…Артур вспомнил, как именно в позапрошлом году приятель с женой почти насильно увезли его в Крым, в Судак. После первого же купанья Артур вышел на берег без крестика, подаренного при крещении отцом Александром. На шее осталась только цепочка. Крестик был кипарисовый с серебряной фигуркой распятого Христа. Настроение и так было испорчено, а тут ещё суеверный ужас приятеля… Правда к вечеру его жена выискала у себя другой, точно такой же крестик, своими руками повесила на цепочку, сказала, что этот крестик ей подарила одна молодая женщина, якшающаяся с католиками. «Спасибо вам. Спасибо ей, — сказал он тогда. — Буду за вас молиться. А её как зовут, вашу подругу?» И был потрясён, узнав, что неведомая женщина, Маша, носит ту же фамилию, что и убитый отец Александр, хотя не является родственницей, никогда его не знала. Как ни относись к мистике, но в этом совпадении что‑то таилось…
Артур распахнул курточку, дотронулся до места на груди, где под рубахой висел тот самый крестик.
С тех пор приятель развёлся со своей женой и, как это часто бывает, ещё одним домом, куда можно было прийти, для Артура стало меньше.
Он снова включил приёмник. То преувеличенно бодрыми, то вкрадчивыми голосами дикторов туристические агентства, словно подслушав его мысли, зазывали в Анталию, в Ниццу, на Адриатическое побережье Италии, в круизы по южным морям… Только отдай, только принеси доллары. «Спешите! Собралась отличная компания, не хватает только вас!»
Артур хотел было выключить радио, но началась программа новостей. Сообщили, что ночь в Грозном прошла относительно спокойно, убито только два солдата внутренних войск и семеро ранено. Что Ельцин осуществил перестановки в правительстве. Что в Сибири произошёл очередной разрыв нефтепровода. Что патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен в Успенском соборе Кремля. Что в московский приёмник–распределитель доставлен из притона гомосексуалистов трёхлетний мальчик, оставшийся без ступни…
Артур выключил радио. Вышел из машины. Его шибануло ветром от промчавшегося мимо грузовика с контейнерами.
Утро становилось жарким. Он обошёл вокруг «запорожца» и, оказавшись на тротуаре, прислонился спиной к обклеенному узкими листочками объявлений стволу чахлой липы, растущей, словно каторжник, из отверстия в чугунной решётке.
До девяти оставалось целых двадцать четыре минуты. Он почувствовал, что его смаривает.
«Зачем заводить будильник на шесть, если я всегда просыпаюсь раньше, — подумал Артур. — Бессмыслица, что каждое утро стою здесь, как пригвождённый. На виду всей Москвы. А может, не сейчас, так позже будет хоть какой‑то прок? Вряд ли… Господи, зачем эта мука? Зачем Ты лишаешь меня счастья видеть, свободно перемещаться? Что ты хочешь мне этим сказать? Неужели мало того, что я одинок, потерял отца Александра, всех, кого любил? Зачем? Вразуми, Господи, я несчастен, Ты видишь это…»
В этот момент вспомнилось: ночью снились мама и отец. Артур Крамер впервые порадовался тому, что они давно умерли и, наверное, не знают о том, что происходит с их сыном. Кроме родителей снились ещё какие‑то два–три человека. Он не мог вспомнить кто именно, но отчётливо чувствовал: они тоже мертвы, ушли на тот свет.
Не раз читал Артур Крамер в писаниях святых отцов, что если снятся покойники, значит им плохо, значит они нуждаются в помощи живых, тех, кто их помнит, в их молитве. И он решил непременно постараться вспомнить не сегодня, так завтра всех, кто снился. И помолиться о них. Если, конечно, живым доедет обратно домой.
Без пяти девять Артур Крамер снял «дворники» с лобового стекла, бросил их на заднее сиденье машины, достал из «бардачка» запечатанный в плотную обёртку одноразовый шприц, запер «запорожец», прошёл в полуоткрытые ворота и очутился во дворе глазной клиники имени Гельм- гольца.
Миновав один корпус, он, тяжело прихрамывая, вошёл во второй, поднялся из вестибюля по стёртым мраморным ступеням в сумрачный коридор на первом этаже, остановился рядом с грязной скамейкой у двери кабинета N3, нажал на старинную, заляпанную масляной краской ручку. Дверь оказалась заперта.
Навстречу из глубины коридора уже спешила, дробно стуча каблучками, высокая женщина в распахнутом белом халате.
— Здравствуйте! Нет ключа. Ключ вчера вечером по забывчивости унесла коллега. Но ничего, сделаю здесь. Шприц принесли? Садитесь.
Она взяла шприц, снова исчезла в глубине коридора. Артур сидел, откинувшись спиной к стене, стена была холодная, каменная. В глазах снова прошла вспышка.
— Ну вот, набрала жидкий трентал, последний. Кстати, вы не забыли?
— Нет.
— Закройте глаза. Оттяните кожу под левым глазом. Теперь под правым… Все!
Артур поднялся, достал из кармана конверт.
Докторша открыла его, быстро пересчитала доллары, сунула в карман халата.
— Помните, нельзя поднимать тяжести больше трёх килограмм, нужно постоянно следить за давлением, — она была явно довольна и хотела снабдить его максимумом наставлений. — Вам ни в коем случае нельзя волноваться.
Превозмогая жгучую боль под глазами, Артур Крамер вышел из корпуса и направился к машине.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Он стоял в очереди с перекинутой через плечо на широком ремне продолговатой дорожной сумкой. Она была легка. Во всяком случае, её содержимое — несколько блокнотов и авторучек, бритвенные принадлежности — весило уж никак не более трёх килограммов.
Впереди, совсем близко, маячила спина женщины. Которую звали Маша.
По мере того, как очередь продвигалась к таможенному и паспортному контролю, Маша подталкивала ногой стоящую на полу тяжёлую сумку, набитую, в основном, его, Артура, аккуратно уложенной одеждой. Другую сумку со своими вещами она держала в руке.
Из‑за подшитых изнутри длинного коричневого пиджака «плечиков» голова Маши с шапкой чёрных коротко стриженных волос казалась утопленной в туловище. Небрежно подвёрнутые рукава пиджака, длинная серая юбка, кроссовки — все это создавало впечатление мужиковатости.
И хотя Маша ни разу не обернулась, Артур знал — загадочное существо каждый миг ощущает его присутствие, не даст потеряться.
«Шар, приставленный к квадрату, покоящемуся на двух ногах» — так с некоторым цинизмом подытожил свои наблюдения Артур, за последние полтора месяца вынужденно попавший в зависимость от этого, в сущности совсем чужого ему человека.
— Здесь не курят! Прекратите, — послышался раздражённый мужской голос.
Артур оглянулся. Мимо очереди прошли офицер–пограничник и тоненькая блондинка стюардесса.
Стоявший сзади исключительно красивый старик с медальным кавказским лицом, одетый в распахнутый сверхмодный пиджак из чёрного кашемира, продолжал невозмутимо дымить сигарой. Его окружали трое рослых молодцов в кожаных куртках. Один из них, нездорово толстый, предложил:
— Джабраилыч, кончай. Выкину в урну.
Старик только улыбнулся, обнажив сплошной ряд золотых зубов.
— Если шестёрка решает за хозяина, она равна нулю, — сказал он назидательно и подмигнул Артуру.
Маша уже приближалась к узкому проходу с транспортёром и экраном для досмотра ручной клади.
— Курите? Сдаётся, вы такой же хулиган, как я.
Артур почувствовал — спины его коснулся палец старика. От этого прикосновения почему‑то стало жарко. Он снова обернулся.
— Угощаю, — старик протягивал изящную коробочку с дорогими голландскими сигарками «Кафе креме».
В этот момент рука Маши оттолкнула руку старика, сдёрнула с плеча Артура сумку, поставила её рядом со своей на ленту транспортёра.
— Вынимайте паспорта с билетами, — сказала она, пропуская его вперёд себя к стойке таможенника.
— Спасибо за вмешательство, но пока что в силах сам за себя постоять, — пробурчал Артур, когда они вместе с другими пассажирами сидели в чёрных креслах возле «фри–шопа», ожидая посадки в самолёт.
— Не сомневаюсь, — ответила Маша. — Только этот маразматик успел прожечь вашу куртку. Придётся купить новую. Артур вскочил с места, снял куртку и разглядел сзади прожжённую сигарой дырку. Размером с пулевое отверстие. Он любил эту теперь уже старую вещь, купленную тринадцать лет назад в Барселоне.
— А что, если заштопать? Голубыми нитками.
— Я лично штопать не собираюсь. Садитесь. У вас устанет нога. Вы, извините, жмот. Вам не было стыдно перед доном Донато за прорванную клеёнку на кухонном столе? У вас ведь теперь есть деньги. В Европе старые вещи не чинят, а выбрасывают'.
«Впервые летит заграницу, в ту же Европу, а уже командует», — подумал Артур, надевая куртку и увидел, как из затопленного ярким искусственным светом разноцветного «фри–шопа» вышел старик со своими дюжими спутниками.
Старик отвинтил пробку с плоской бутылки, приложился к горлышку, затем пустил её по кругу.
— Хочу сбегать купить мороженного, — вдруг сказала Маша. — Пожалуйста, дайте мне денег.
Деньги, оба паспорта и билеты хранились у Артура в бумажнике. Практика показала, что это существо вечно что‑нибудь теряет и, кроме того, безусловно принадлежит к категории граждан, привлекающих первоочередное внимание воров и мошенников.
Он запустил руку в боковой карман, похолодел. Бумажника не было.
— Да вот же он! — Маша нагнулась со своего кресла и подняла его с ворсистого покрытия пола. — Выпал, пока вы снимали куртку.
Вынимая деньги, Артур отметил про себя, что не увидел такой крупной вещи, как выпавший бумажник.
В этот момент по радио объявили просадку на чартерный рейс «Москва–Римини».
— Бог не хочет, чтоб я поела мороженного, — Маша поднялась, вручила Артуру его сумку, подхватила свои.
«Правильно делает Бог, — думал Артур, шагая за Машей среди других пассажиров по тёмной кишке–коридору ко входу в «боинг». — Целых тридцать пять дней жить в другой стране…»
Поневоле вовлечённый в ритм всеобщей ненужной спешки, он почувствовал боль в левой ноге и потому, забросив сумку в верхний багажный отсек и пропустив Машу к сиденью у иллюминатора, рад был опуститься рядом на означенное в билете кресло. Светлый салон «боинга» оказался заполнен меньше, чем наполовину.
Златозубый старик с компанией свободно расположились чуть впереди в среднем ряду. Артуру видно было, как фляжка продолжала переходить из рук в руки, как старик снова закурил.
Стал слышен свист запускаемых турбин.
— Хотите снять куртку? — спросила Маша. — Помочь вам?
— Спасибо. Пока не жарко.
Хотя за иллюминатором сияло солнечное аэродромное утро, откуда- то из‑под верхних панелей лился ток холодного воздуха.
Пробегающая по проходу стюардесса подсчитывала оставшиеся пустыми места. Артуру показалось, что это та самая блондинка, которую он видел в аэровокзале. «Впрочем, все они в своей синей форме похожи друг на друга, как куклы Барби.» — подумал он и взглянул на Машу. Вот уж кто никак не походил на этот стандарт женственности.
— Будьте добры, пожалуйста, не курите, — раздался голос стюардессы. — Видите, табло уже зажглось.
Старик продолжал невозмутимо курить. Белый волокнистый дым поднимался к потолку салона.
— Я что вам сказала? Вроде, пожилой человек, разве вы не знаете, курить нельзя. Особенно при взлёте.
— Уберите от меня эту проститутку! — воззвал старик.
Один из парней, тот самый, жирный, поднялся во весь рост, пригнулся к стюардессе.
— По–хорошему просят, отойди.
— Да как вы смеете обзывать, — голос её на миг прервался. — Самолёт не взлетит, пока не прекратите курение!
— Кто‑нибудь уберёт от меня эту проститутку?! Граждане, за что я плачу ему три тысячи баксов? Если через секунду он её не уберёт, уволю бездельника! — старик снова выпустил клуб дыма.
— Вы — хам, — стюардесса заплакала. — Прекратите курить!
Артур видел в жизни всякое, казалось бы, ко всему привык. И все‑таки странно стало ему, что до сих пор никто не вмешался.
— Сейчас же сядьте обратно, — сказала Маша. — Без вас разберутся.
И действительно, зарёванная стюардесса уже вела за собой командира воздушного корабля — настоящего богатыря в отглаженной белой рубашке, чёрном галстуке.
— Что тут происходит? сейчас вызову милицию, и вас выкинут с борта!
— Не шуми, начальник, — старик поднялся, достал из кармана зеленоватую купюру, ленивым жестом всунул её в нагрудный карман рубашки пилота.
Тот оторопело вынул её, разглядел и, схватив за рукав кителя стюардессу, направился с ней к пилотской кабине.
Через полтора часа полёта та же стюардесса со своей напарницей, как ни в чём не бывало, подкатили тележку с обедами и к тому ряду, где сидел старик. Он спал. Его компания азартно разобрала подносы с едой.
…Самолёт летел, как сообщили по радио, маршрутом Москва — Киев — Бухарест — Гарц — Римини.
Маша, пообедав, уснула. Артуру удивительно было, что она нисколько не взволнована тем, что впервые летит заграницу, совсем скоро окажется в Италии. Для него же этот полет казался сейчас злой гримасой судьбы. Оказаться на итальянской земле совсем беспомощным, да ещё с этим неуклюжим существом в качестве поводыря… Он уже бывал в Испании, Франции, во многих странах. Мог видеть, всюду ходить, ни от кого не зависеть. И вот теперь он летел в Италию.
Все хорошее случается слишком поздно. Он был уже не тот. Женщина не та. Только Италия оставалась, наверное, вечно той же прекрасной страной, о которой писали авторы школьных учебников, классики литературы, снимал фильмы Федерико Феллини.
Коль самолёт должен был прилететь в Римини, где похоронен этот человек, которого Артур считал одним из своих учителей, он решил перед тем, как пересесть с Машей на поезд и отправиться на юг итальянского сапога в неведомый городок Барлетгу, купить цветы, хоть одну розу, отыскать кладбище и положить её на могилу недавно умершего гения.
«Кажется, Феллини был последним живым человеком в духовно умирающей Европе, — думал Артур. — Хотя в последних фильмах уже ничего не искал, не пытался прорваться к Богу. Просто констатировал трагизм жизни по принципу — «улыбайся и слезы утирай».
Лишь сейчас, сидя в кресле самолёта, Артур осознал, до чего права откинувшаяся затылком на подголовник спящая рядом Маша, когда на третий или четвёртый раз после своего появления жёстко упрекнула его, сказала, что он опустился. Что ни болезнь ноги, ни беда с глазами ничего не извиняют. Ни того, что в кухне грязно, ни того, что углы окон поросли паутиной….Что с того, что книги его теперь выходили в свет одна за другой. Что со всех краёв получал он пачками восторженные письма. Изредка Артур принимал у себя тех, кто специально добирался до Москвы для того, чтоб только встретиться с ним, задать свои вопросы.
Он старался держаться мужественно. Не все, кто замечал на письменном столе Артура пятикратную лупу, догадывались, что без неё он уже неспособен прочесть ни строчки.
Два месяца назад, как раз после поездок в клинику, к нему позвонила Маша. Он, конечно же, сразу вспомнил двухлетней давности историю с волшебным возвращением крестика, пригласил её в гости.
Маша сразу обратила внимание и на лупу, и на протёкший потолок в кухне, и на рукав рубахи, на котором была оторвана пуговица.
Для начала она потребовала иголку и нитки, затем — веник.
Она стала навещать Артура сперва раз в неделю, потом два. Всегда приволакивала пакет с купленной по дороге провизией.
«Вы в отчаянии, потому что потеряли доверие к Богу.» — заявила она однажды, выкладывая на стол хлеб, помидоры и сыр.
Артур скрупулёзно возвращал ей затраченные деньги. Она брала их, не разыгрывала из себя благодетельницу.
Довольно быстро он понял — Маша нуждается. Работает секретаршей в какой‑то фирме, получает двести долларов и половину зарплаты вынуждена отдавать за жилье. Снимает комнату у старушки–алкоголички.
Она сама была крайне неблагополучна, неустроенна, эта тридцатитрехлетняя одинокая женщина. Никого у неё не было, кроме мамы в Киеве, которую Маша с размеренностью маятника посещала раз в два месяца на субботу и воскресенье.
Маша была хорошим человеком, но тем более раздражала Артура её яростная борьба с паутиной и пылью, что он их, вообще‑то говоря, просто не замечал, не видел. Она ни на что не спрашивала позволения. Явившись во второй или третий раз, сама отыскала в кладовке пылесос. С тех пор его грозный рокот стал знаком её присутствия в доме.
Уши прожужжала о том, что буфет в кухне облезлый, дряхлый, что необходимо купить стиральную машину, что нет смысла чинить рваные рубашки и свитера — придётся их выбросить. И выбросила. Она не слышала никаких возражений. Будучи ему никем, командовала, толкала на вовсе не необходимые, как ему казалось, траты.
Вот уже год он работал над новой книгой. Как и все предыдущие, Артур должен был «кормить» её. То есть приучился поддерживать себя на том материальном минимуме, только чтоб изо дня в день быть в рабочем состоянии.
Он чувствовал: то, что он знает — знают многие. Но никто не может выразить. Порой Артур ощущал себя авторучкой в незримой руке миллионов одиноких, разобщённых людей…
Поэтому так раздражали продиктованные самыми лучшими намерениями попытки Маши вовлечь его в то, что Артур про себя называл «пошлостью жизни», суетой.
Он должен был спешить. Пока жив, пока глаза ещё видят появляющиеся из‑под кончика авторучки собственные каракули, которые все труднее править, разглядывая в лупу.
…Он глянул на все ещё спящую Машу. Отогнал вьющуюся над её коротко остриженными волосами безбилетную, безвизовую муху, перелетающую из России в Италию.
Последнее время Маша подключилась и к самому главному: прочитывала вслух свеженаписанные страницы, правила их под его диктовку.
Работа над книгой подходила к концу. Рукопись нужно было приводить в порядок, перепечатать.
Так в очень короткое время Маша стала исполнять обязанности экономки и секретарши. Платить Артуру было нечем.
С тех пор как он отдал за бесполезное месячное мучительство на- копленные триста долларов, его запасы иссякли. Денег с трудом хватало только на еду и квартплату. Приходилось смириться с тем, что Машины посещения прекратятся. Его опыт подсказывал — за благотворительность рано или поздно нужно платить.
Артуру пришла мысль предложить этому самоотверженному существу переселиться к нему, бесплатно жить во второй комнате, экономя таким образом сто долларов в месяц.
Маша спокойно выслушала это предложение, спросила — «Чего ж вы раньше молчали? Скоро из Италии приезжает один пожилой священник. Звонил моим друзьям–итальянцам, просил снять ему комнату с тем, чтобы рядом жил человек, с которым он мог бы говорить по–русски, практиковаться. Влюблён в Россию, изучает русский язык.»
Так, совершенно неожиданно, в квартире возник дон Донато.
И вот теперь, по его приглашению, Артур Крамер вместе с Машей летел в Италию.
Выходя из «боинга» на трап в ослепительный жар итальянского полдня, он, уже в который раз, с растерянностью подумал о странном стечении обстоятельств: внезапное вторжение в его жизнь Маши, затем дона Донато, и совсем уж неожиданный аванс от издателя за новую книгу.
— Сейчас же выкинем вашу куртку, — сказала шествующая сзади Маша. — Идёте, как мишень из России.
«Джабраилыча» Артур увидел когда стоял в длинной очереди к стойке контроля. Снова дымя сигарой, старик прошёл вперёд всех, хвастливо тыкал протестующим русским паспорт гражданина Италии. Заодно провёл и своих ухмыляющихся бандитов.
Эти улыбочки, эти стриженные затылки были последним напоминанием о России.
У выхода из аэропорта Маша все‑таки заставила Артура содрать куртку. Запихнула её в урну.
Теперь он стоял рядом с сумками в белой рубашке с короткими рукавами, синих джинсах, ожидая среди снующей толпы пока она поменяет часть долларов на лиры. Потеряв из поля зрения Машу, он почувствовал себя маленьким мальчиком.
«Рисковый пацан, — думал он о себе. — Кончилось твоё время приключений и путешествий. Зачем это Господу нужно было вытащить тебя в таком виде?»
— Все в порядке, — сказала Маша, подхватывая сумки. — Берём такси, переезжаем на железнодорожный вокзал.
— Минуточку! Я хотел бы купить цветы, найти могилу Феллини.
— Пожалуйста. Но сначала нужно узнать расписание поездов, приобрести билеты, заранее позвонить Донато, чтобы встретил.
Когда ехали в такси окраинными улицами Римини, Маша узнала у водителя, что кладбище находится совсем в другой части города, не по пути.
Не по пути оказалось и Адриатическое море. Малолюдные улицы с выжженными солнцем пальмами мелькали за окном такси, маленький сквер с уродливым фонтаном посередине, из которого не била вода; бетонные заборы с налепленными аляповатыми афишами… Вспомнился фильм «Вителлони», снятый Феллини лет тридцать назад, кадр: трое парней, одурелых от тупости провинциальной жизни, безнадёжно стоят на конце пустынного причала, глядя на пустынное море… именно здесь, в Римини, прошла молодость Феллини. Отсюда вырвался он в столицу в Рим. Всю жизнь снимал пронзительные фильмы о грешном человечестве.
Когда‑то юношей и ему, Артуру, довелось жить в подобном приморском городе — провинциальнейшем Сухуми. Вот так же стоять зимними вечерами на пирсе, следить за далёкими огнями теплохода… Молодость особенно остро чувствует своё одиночество в мире.
— Маша, вы осознаете, что мы с вами в Италии?
— Ещё не знаю. Все‑таки хочу мороженное.
Это решительное существо было ещё ребёнком, девочкой.
После того, как на маленьком железнодорожном вокзале выяснилось, что ближайший поезд на юг прибудет в Римини через тридцать пять минут и были куплены билеты, а заодно и карта Италии, и Маша позвонила дону Донато, они пересекли шумную привокзальную площадь, сели под пёстрым тентом за один из столиков маленького кафе. Заказали Маше вазочку мороженного, Артуру кофе «капуччино».
Вот теперь мы, кажется, в Италии. — неуверенно сказал Артур, хотя все вокруг продолжало напоминать доперестроечный Сухуми в разгар курортного сезона: изнывающие от зноя бесчисленные группы туристов в шортах и майках с рюкзачками на спинах, гудки автобусов.
Маша сидела спиной к площади и целиком была поглощена поеданием мороженного, в которое был воткнут крошечный разноцветный зонтик.
Казалось, всё устроилось, все хорошо. И «капуччино» был вкусен. Но Артур глядя на Машу, на толпы слоняющихся по площади людей чувствовал, как в нём нарастает раздражение от всей этой атмосферы праздности. С отчаянием подумал он, что новая книга кончена, и ещё неизвестно, будет ли у него впредь возможность работать, писать изо дня в день. И эта поездка — быть может, последняя милость судьбы. А впереди — смерть…
…К тротуару подъехал потрёпанный «джип». Оттуда вылезла старуха вся в чёрном, принаряженный мальчик лет четырёх с черным галстуком- бабочкой у горла и печальный жилистый старик. Они уселись за соседний столик, стали шумно обсуждать принесённое официантом меню.
— Требует у бабушки и дедушки кока–колу, лимонад, пиццу, мороженное с ананасом и шоколадное яйцо, — перевела Маша.
Все это было тотчас принесено на подносе официантом.
Малыш первым делом накинулся на пиццу, запивая её кока–колой.
— Буоно! — вопил он, поглядывая то на мороженное, то на пузырящийся в бокале лимонад.
Бабушка и дедушка не взяли себе ничего и с немым восхищением наблюдали за тем, как он угощается.
— Нам пора, — сказала Маша. — Будет неприлично, если я возьму этот зонтик на память? Смотрите, какой крохотный.
Но Артур смотрел на бабушку. Она плакала, стараясь скрыть слезы.
«Почему подробности чужой жизни, чужого горя так цепляют меня, навсегда остаются в памяти?» — думал Артур, когда вместе с Машей шагал через сутолоку площади обратно к вокзалу.
И потом в полупустом вагоне второго класса Артура продолжала преследовать мысль о самодостаточности жизни, таинственной значительности её казалось бы самых заурядных подробностей.
…Пожилой кондуктор в темно–синей форме, вошедший в купе пробить компостером билеты; щеголеватый парень, кативший по коридору тележку с напитками и сэндвичами, вопросительно остановившийся на миг у раскрытой двери; севшая в Пезаро длинноволосая девица с чемоданом, почему‑то устроившаяся на откидном сиденье в коридоре. Она была одета в спадающие джинсы и короткую маечку, отчего живот оставался обнажённым.
Всё, что происходило вблизи, Артур все‑таки видел. Его не покидало ощущение драгоценности этих жизней, имеющих право быть такими, как они есть. Без похвалы с его стороны или осуждения.
Он подумал, что его настрой вызван элементарной причиной: свежестью и яркостью впечатлений заграничной жизни. Но тут же вспомнил — о том же самом сразу подумал, когда чуть не задавил несчастную старуху…
«Смотрю на все, будто ухожу из жизни, — подумал Артур. — Будто меня здесь уже нет.»
Он покосился налево. Маша спокойно сидела рядом у окна, читала лежащий на коленях толстый томик в кожаном чехле с застёжкой-»молни- ей». Эту Библию на итальянском языке в первый же день приезда подарил ей дон Донато.
Месяц прожил он у Артура. Маша появлялась по субботам и воскресеньям, устраивала стирку, уборку, готовила еду. Удивительно было слышать Артуру в своей квартире их итальянскую речь.
Но и без Маши они справлялись с хозяйством. Этот священник из южного итальянского городка Барлетгы оказался потомком скандинавских крестоносцев, устремившихся в давние времена по итальянскому сапогу, как по мосту через средиземное море в Палестину на завоевание гроба Господня. В свои шестьдесят два года он был строен, высок, и лишь короткие седые волосы цвета нержавеющей стали выдавали его возраст.
Он вставал рано. Обязательно делал зарядку, брился, после чего каждый раз тщательно отмывал губкой раковину. И затворялся в своей комнате. Там час или два молился, сидя на стуле у раскрытой балконной двери.
Артур вставал ещё раньше. Правил и вычитывал с помощью лупы рукопись новой книги.
Часам к девяти из кухни начинало доноситься деликатное позвякивание, оттуда тянуло дразнящим запахом кофе «эспрессо». Донато варил его в особой никелированной машинке, которую он привёз с собой, наряду с пластиковой канистрой оливкового масла и килограммовым куском твёрдого сыра «пармеджано». После пастушеского, в сущности, завтрака Артур возвращался к письменному столу, а дон Донато раскрывал учебник и приступал к очередному штурму русского языка.
«О, мамма миа, диаболо придумал эти падежи! — раздавался порой истошный вопль из соседней комнаты. — Вдова, вдове, вдовою… Мамма миа!»
Донато с юности любил Россию, испытывал жгучий интерес к огромной северной стране, победившей Гитлера, давшей христианскому миру таких людей, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, такого писателя, как Солженицын.
Сейчас, в поезде, хорошо было думать об этом сероглазом, всегда бодром человеке.
Но был случай, когда он проявился иначе.
— Что ты всё время пишешь? Хочу попробовать читать твои книги.» — попросил он однажды.
Артур снял с полки самую тоненькую — воспоминания о своём убитом духовном отце.
Донато одолевал её неделю. Когда кончил — заплакал.
Часам к двенадцати он уходил. Порой до позднего вечера. Служил в костёле литургию, исповедовал, причащал; ездил по больницам, по квартирам.
Приглашение Донато, его искреннее желание увидеть у себя Артура и Машу, хлопоты с визой, билетами — все это возникло неожиданно, казалось невозможным, немыслимым. И вот сейчас поезд мчался вдоль берега Адриатического моря.
Да, в окне давно уже было видно море. Совсем близкое. Не синее, не голубое. Золотисто–зелёное, оно лежало тихо, как безоглядное озеро. Закатное солнце освещало бетонные волноломы, пустынные пляжи, белые кубы отелей и пансионатов, возвышавшихся над веерами пальм.
Чтоб лучше видеть и хоть немного размяться, Артур вышел в коридор к окну.
Девица, сидевшая на откидном стуле, расчёсывала, низко нагнув голову, длинные мелко–завитые волосы. Она вопросительно глянула сквозь их свисающий водопад и снова занялась своим делом.
Артура поразило безлюдье побережья. Не было видно, ни людей, ни проезжающих автомашин.
Поезд подходил к маленькой станции. Хотя название было написано крупными буквами. Артур не смог его различить.
— Это Марина ди Чиенти, — раздался из купе голос Маши, которая, оказывается, ни на миг не теряла его из поля зрения.
Пятеро парней, один из них был бритый наголо, поднялись с перрона в вагон. И поезд пошёл дальше.
Они курили в тамбуре, что‑то обсуждали, кажется, ссорились.
Артур вернулся на своё место.
— Хотите посмотреть где мы находимся? — Маша достала из своей сумки сложенную вчетверо карту и развернула её. — Вот Римини. А вот железная дорога. Вам видно? Дать лупу?
— Видно.
Он действительно видел коричневую линию железной дороги, идущей вдоль длинного сапога Италии, смутно различал чёрные буковки, составляющие названия городов, видел далеко вдающийся в море большой полуостров, мимо которого они сейчас проезжали.
— Где Барлетта?
_ Вот, — Машин палец ткнул в ту точку, где железная дорога снова выходила к морю. — Весь месяц, тридцать пять дней будете плавать, поправится ваша нога. Смотрите, они к ней пристают.
Он мельком глянул в сторону коридора. Парни уже стояли вокруг девицы, бритоголовый вроде бы миролюбиво гладил её по плечу.
Артур снова уткнулся в карту. Он обратил внимание на то, что с левой стороны «сапога», почти напротив, находится какой‑то большой город, по крайней мере, название его было напечатано такими крупными буквами, что он смог разобрать — NAPOLI.
А севернее был Рим, была Венеция, Пиза Ассизи, была Флоренция… Ещё в Москве подумывал он об этих, конечно же, недоступных соблазнах. Никаких бы денег не хватило на переезды, отели, еду. Да ещё на двоих с Машей.
…В коридоре что‑то произошло. Парни с гоготом устремились к тамбуру. А девица с пафосом потрясая руками, что‑то завопила.
Маша перевела:
— Да кто они такие, чтоб делать мне гнусные предложения??! Как их зовут? Кто их здесь знает?
За окнами неожиданно быстро смерклось. В вагоне зажглось электричество. Поезд подходил к Барлетге.
…По перрону под огнями фонарей навстречу вышедшим из вагона Артуру и Маше стремительно шагал дон Донато.
— Прибыли! Слава Христу! — он обнял их, отнял сумки и повёл через здание вокзала к пустой сонной площади, усадил в старенький «фиат».
— Сейчас сначала поедем не ко мне, всего несколько километров, близко, — сказал он, включая двигатель. — Ва бене?
— Ва бене, — с готовностью откликнулась сидящая рядом Маша.
Они заговорили по–итальянски.
Глядя на мелькающие в свете фар стволы деревьев, Артур подумал о том, что здесь, в Италии, он всецело попадает в зависимость от Маши и Донато, который мог бы догадаться, что они несколько устали от долгой дороги, голодны.
В глазах Артура ослепительно вспыхнул фосфоресцирующий круг. И медленно исчез.
Хотя итальянская речь была непонятна, в разговоре мелькали имена Машиных друзей Алессандро и Марии–Стеллы, которые со своими детьми зимой жили в Москве, а сейчас вернулись на летние каникулы домой под Флоренцию. Упоминалось знакомое слово «комунита». Артур уже знал, это означает «община», знал, что Маша в Москве регулярно посещает подобную «комунита» при костёле. Не раз она с присущей ей настырностью пыталась увлечь туда и его, пока Донато не пресёк эти попытки, напомнив ей, что нет ничего отвратительней, чем лишать человека духовной свободы.
«А вдруг они все‑таки сговорились? — подумал Артур. — И во спасение моей грешной души будут таскать меня по своим общинам…»
…Впереди за тёмными силуэтами деревьев замелькали огни. Машина проехала мимо проволочной изгороди, нырнула в раскрытые ворота, около которых стоял человек, и покатила в тоннеле из сплетённых виноградных лоз к освещённому пространству перед сельским домом.
Здесь у накрытого длинного стола ждали люди. Услышав призывные гудки Донато, они вскочили со своих мест, ринулись навстречу машине.
Артур вышел вслед за своими спутниками и ощутил, что наконец оказался в Италии. Из темноты слышался стрёкот цикад. Справа и слева из- под густого покрова листвы свисали тяжёлые виноградные грозди.
Потом он сидел за столом между Донато и Машей, перед ним мелькали загорелые руки женщин, приносящих из кухни то скворчащие сковороды с сосисочками из конины, то противни с пиццей, то бутыли молодого вина, то корзины с фруктами, то тарелки с нарезанными ломтями арбуза.
А напротив, по другую сторону стола, сидели и лакомились дети тех, кто все это приготовил. Одна крохотная девочка робко пододвинула к Артуру плоское блюдо с горкой неизвестных ему плодов.
— Грацие, — сказал Артур. — Спасибо.
Плоды были желтоватые, овальные, как гусиные яйца. Вкусные, дивно ароматные.
— Это фрукт кактуса опунции, очищенный от колючек, — объяснил Донато. — У нас называют «фики д'индиа».
«Где я все это уже видел? — подумал Артур, глядя на резную виноградную листву, на сверкающие глаза детей, на бутыли, на все это изобилие. Вспомнились московские антикварные магазины давней, послевоенной поры. Тогда там можно было видеть, а богатому человеку и купить, старинные картины итальянских мастеров, изображавших подобные пиры простых людей.
В конце трапезы женщины вынесли из дома гитару, тоже подсели к столу. Вместе с мужьями, детьми, Донато, Машей все запели. Это был гимн Тому, Кто действительно был к ним щедр и милостив.
И к Артуру тоже.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Колокола били близко, совсем рядом. Казалось, над самым ухом. Они определённо вызванивали какую‑то музыкальную фразу. Повторяли и повторяли её.
Наконец, смолкли. И Артуру удалось снова заснуть.
Вчера, когда дон Донато ввёл его в эту комнату, шёл уже первый час ночи.
…Вырванная фарами из темноты ослепительно белая стена, открывшийся за ней уставленный спящими машинами проулок, обширный двор, подъезд белого с синим дома, лестница на второй этаж, какая‑то женщина уводит Машу направо по длинному коридору — все это происходило как во сне.
Оставшись один в комнате, Артур хотел было сразу повалиться в кровать, благо она была заботливо застелена, угол одеяла гостеприимно откинут.
Он погасил свет. Но прежде чем раздеться, подошёл к окну, потянул за шнур. Металлические жалюзи с треском поднялись.
В первую секунду ему показалось, что произошло чудо: зрение полностью восстановилось.
В черноте неба открылся парад звёзд. Артур видел созвездие Большой Медведицы, видел крест Ориона, Кассиопею… А в центре небосвода висела неизвестная желтоватая планета.
Из раскрытого окна тянуло ночной свежестью.
Торцом к окну стоял письменный стол. Вдоль противоположной от кровати стены тускло поблёскивали застеклённые двери книжного шкафа. Артур наугад вытащил одну из книг, подсел к письменному столу, включил настольную лампу.
Буковки в тексте едва различались. Может быть оттого, что книга была на итальянском языке. Он выхватил из своей сумки лупу, записную книжку с авторучкой. Вывел на первой страничке — «Италия».
Смутно, как сквозь пелену тумана, виднелось это слово… Чуда не произошло.
Артур снова подошёл к окну. Звезды все так же сияли в ночи. И он понял, в чём дело: здесь, в маленьком южном городе небо не засвечено миллионами фонарей, как в Москве, и только поэтому он снова увидел звезды, правда, лишь самые крупные.
…Он сидел у окна, машинально перелистывал книгу. В ней оказалось много цветных иллюстраций. Сквозь лупу Артур увидел среди других картинок фрагмент микельанджеловой росписи Сикстинской капеллы — Бог протягивает руку человеку.
Из окна дуло. Он сидел, утопив лицо в ладонях.
Потом пододвинул к себе записную книжку, и после той страницы, где было выведено «Италия», стал писать:
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«13 авг. Не знаю, каков замысел Бога. Но в том, что Он счёл нужным так ограничить мою самостоятельность, прислать ко мне Машу, а затем и дона Донато, в том, что сейчас я после московского ада вдруг оказался в Италии, в Барлетте, в этой комнате — скрыт смысл. Которого я не понимаю.
Другие могут свободно передвигаться, все видеть. За что мне нанесён двойной удар? Неужели я хуже многих ?
Так или иначе, зачем‑то Он привёл меня сюда. Не остаётся ничего, кроме как внимать тому, что происходит. Буду стараться в конце каждого дня по горячим следам записывать, пытаться понять. Из‑за своих бед я давно потерял бдительность души. Кажущийся хаос звёздного неба — несомненно изнанка какого‑то узора. Так же и с человеческой жизнью.
Но сейчас не об Италии. Из головы не идёт мой отец, папа, снившийся мне в ту ночь накануне последней поездки в клинику Гельмгольца.
Конечно я не вспомнил как и в каких обстоятельствах он снился. Да и не в этом дело. Сегодня я здесь, в Барлетте, можно сказать, наслаждаюсь жизнью. Ах, как грызёт чувство вины перед бедным моим отцом, папой. Особенно за тот декабрьский вечер 82 или 83 года, когда я поддался на уговоры, отпустил его с приехавшей за ним активисткой из Текстильного института, где он состоял на партийном учёте, на отчётно–выборное собрание.
Мой старик, больной, беспомощный, с катарактой на глазах, нужен был им «для кворума». Квакающее слово.
Она обещала доставить его обратно. Но бросила после собрания. И отец потерялся, сначала в коридорах и на этажах института, потом в метро. Заплаканный, как ребёнок, возник у подъезда, где я его ждал, лишь в первом часу ночи. Господи, сохрани и помилуй отца моего, не успевшего при жизни встретиться с Богом…
Итак, сегодня утром я был ещё в Москве…»
Он конспективно записал события прошедшего дня. Помолился. Лёг.
…Смутное воспоминание о рассветном перезвоне колоколов, обнаруженная у письменного стола сумка с его вещами, очевидно принесённая Машей, то, что на часах было уже половина десятого — все это вызвало у Артура чувство виноватости.
Из коридора не доносилось ни звука.
Он принял душ, переоделся во все чистое. И отправился на разведку.
По тёмному, без окон, коридору шёл мимо закрытых дверей, мимо столика с телефонным аппаратом. В самом конце дверь была открыта настежь, и Артур оказался в столовой.
На краю большого, застланного скатертью стола, стоял чайный прибор, картонная коробка с пакетиками чая «пиквик». Рядом лежала Машина записка. «Мы с Донато внизу на службе. Холодильник полон продуктов. Донато велел брать. За вами после десяти приедет РАФАЭЛЬ. Отвезёт на море.»
Экзотическое имя породил в воображении Артура образ некоего итальянского ангела.
И одновременно он понял, отчего возникло чувство виноватости: рассветные колокола безусловно призывали в храм на католическую мессу, куда он при всей симпатии к дону Донато, ходить не собирался, о чём ещё в Москве заявил Маше.
Артур вскипятил на газовой плите воду в кастрюльке с длинной ручкой, заварил в чашке пакетик чая. Соваться в холодильник было неловко.
Наскоро выпив чай, он вернулся в комнату, отыскал среди своих вещей плавки.
В дверь постучали. На пороге возник плотный, сильно лысоватый человек в очках. Отнюдь не похожий на ангела. Он широко улыбался.
— Рафаэль? — спросил Артур.
— Си, — ответил тот. — Рафаэле.
Когда внизу, во дворе, садились в белый «фиат», выяснилось, что Рафаэль не знает английского. Контакт с ним без Маши был невозможен.
Под небом, затянутым сплошным покровом облачности, начинался тихий, несуетный день. Узкие улицы Барлетгы, её небольшие, обсаженные могучими платанами и акациями площади, здания со сплошь облупившейся штукатуркой и лохмотьями старых афиш, огромный пустырь, посреди которого почему‑то стояла мраморная вилла с двумя пальмами у входа — все это мелькало и мелькало за окнами автомашины. Артур помрачнел. Оттого места, где он поселился, до моря оказывалось далековато, по крайней мере, пешком добираться будет трудно, невозможно.
Машина пересекла рельсы заброшенной узкоколейки, свернула направо, на неожиданно широкую щеголеватую набережную. Слева за линией пальм и олеандров замелькало пространство моря. Сегодня оно казалось не зеленоватым, а серо–графитным. Бесконечные песчаные пляжи за низким бетонным парапетом были пусты.
Рафаэль ехал все дальше, пока не свернул к далеко уходящему в море пирсу.
Пирс был пуст. По его сторонам не стояло ни одного судна, на нём не было ни одного рыболова.
Они вышли из машины. Рафаэль указал направо, туда, где за пирсом желтела широкая полоса неогражденного «дикого» пляжа.
Артур кивнул. Он подумал о том, что не запомнил дороги назад, собственно говоря, не знает, где живёт.
Рафаэль придержал его за плечо, ткнул пальцем в свои наручные часы, потом поднял две пальца, явно демонстрируя тем самым, что вернётся через два часа.
…Ноги увязали в песке. Чем ближе подходил Артур к лениво колышущейся воде, тем быстрее хотелось бежать, лететь навстречу морю.
Так получилось, что он с детства был словно обвенчан с солёной стихией. Купанье, морская рыбалка, путешествия на гребной шлюпке — это всегда был праздник, высшее наслаждение, сравнимое разве что с разделённой любовью.
Несколько лет он не виделся с морем. И вот теперь оно лежало перед ним. Новое. Адриатическое.
Артур сбросил одежду, вошёл в воду. Она была тёплая.
Пришлось пройти шагов двадцать по бархатному песчанистому дну, прежде чем оно начало уходить из‑под ног, и он поплыл.
Он плыл и плакал. Казалось, далеко в Москве, на Садовом кольце, у глазной клиники имени Гельмгольца под чахлой липой все ещё безнадёжно стоит человек, от которого нужно уйти, оторваться насовсем, навсегда…
Артур старался плыть все быстрее, но растренированное тело, сбившееся дыхание сразу дали о себе знать. Тогда он перевернулся на спину. Мигал глазами. То ли соль оставалась в них, то ли слезы.
Ощущение невесомости было таким, словно кто‑то взял его в нежные, любящие ладони и стал баюкать.
Лёгкая, поднывающая боль в левой ноге заставила вспомнить наставления ортопеда. Артур начал яростно, вздымая фонтаны брызг, бить ногами по воде. Слегка подгребал руками, и бил, и считал, решив сделать не меньше четырёхсот ударов. Этот счёт мешал думать о том, кто стоял на Садовом у «запорожца».
Он не досчитал и до трёхсот, как почувствовал режущий удар в шею и под лопатку. Перевернулся. Никого вокруг себя не увидел. И тотчас получил третий удар — по щиколотке. Он поплыл к берегу. Шея, спина и щиколотка начали гореть, как от ожога. Он сообразил, что попал в скопление медуз.
Как ни пытался Артур вглядеться в прозрачную воду, их не было видно. Зато, приближаясь к берегу, он стал различать стремительные стайки мальков, поросшие зеленоватыми водорослями раковины моллюсков. Выпуклая толща воды действовала как линза.
Песок на пляже оказался горяч, несмотря на то, что небо было по- прежнему затянуто облаками.
Щиколотка покраснела. Остальных зудящих следов прикосновения ядовитых щупалец Артур видеть не мог.
«Ещё не хватает обгореть,» — подумал он и, накинув на мокрые плечи тенниску, стал расхаживать взад–вперёд вдоль уреза воды. Порой нагибался, разглядывал выброшенные морем ракушки, высохшие панцири крабов.
…Вновь воскресало в нём чувство вины перед Машей и доном Донато, сожаление о том, что утром, когда били колокола, заставил себя заснуть, не пошёл с ними в церковь.
Несколько раз в Москве он под напором Маши приходил с ней в её общину при костёле, слушал проповедь молодого польского ксёндза, который мало того, что по–русски лыка не вязал, но и сказать чего‑то сильного, проникающего в сердце не мог. А расхожие цитаты из Евангелия Артур и без него знал хорошо, чуть не наизусть. Видимо, быть священником — это тоже призвание. Артуру было с кем сравнивать… Казались рабскими бледные лица некрасивых, явно несчастных женщин, которые поочерёдно, приподняв обе ладошки чужими заученными словами возносили свои просьбы к Богу.
Что здесь, среди этого убожества, делала Маша, что увело её от православия? При этом Артур чувствовал — она глядит на происходящее его глазами, и его неприятие того, чем она жила уже не первый год, ранит её смертельно. Тем более, что она желала ему добра, хотела, чтоб он полюбил эту общину, примкнул к ней.
При всём уважении к Маше Артур не мог кривить душой. Чем яростней агитировала Маша, тем сильнее возникало чувство протеста.
Когда она поселила у него дона Донато, тот, как понял Артур, сумел осадить Машу с её религиозным рвением.
Артур все расхаживал вдоль воды, а когда уставал, опускался на песок, разглядывал остро пахнущие солью морские диковины.
«В ходе эволюции эти моллюски и крабы ухитрились выставить скелеты наружу — маленькие крепости раковин, броню панцирей. В своих доспехах они, как рыцари моря, — думал Артур. — А я уязвим. Всю жизнь дёргают, пытаются куда‑нибудь затащить, слопать… То в комсомол, то распевать псалмы с теми несчастными, будто без этого Бог не проживёт. Психотерапия для нищих!»
Он пригнулся, нашарил среди усыхающих водорослей небольшую, причудливо изогнутую синевато–серую раковину с острыми шипами.
Становилось все жарче. Облака рассеялись.
Артур вернулся к горке своей одежды, сбросил с плеч тенниску, положил на неё раковину и вновь направился к воде.
На этот раз он плавал, держась ближе к берегу. Здесь медуз не было. Сделал вместо положенных четырёхсот ударов целых полтысячи.
Потом отдыхал на спине, словно парил в невесомости.
И постепенно всё, что было теперь Артуром Крамером: его боязнь инвалидства и смерти, его постоянная скорбь об убитом духовном отце, о друзьях, потерянных в результате развала Союза и гражданских войн и даже мысли, связанные с недавно законченной книгой — все это преходило в нём, вместе с XX веком, в котором он пребывал, со всем хламом, называемым образованием, жизненным опытом, биографией.
Не оставалось ничего, кроме вечного моря и вечного солнца. Да крепнущего ощущения, что некто испытующе наблюдает за ним. Чего‑то ждёт.
Артур знал, кто этот Некто. И всем сердцем, всем существом жаждал прямого указания, хоть бы намёка — как теперь, после окончания книги, жить. Ибо жизнь потеряла вектор и становилась бессмысленной, как компас без стрелки.
Выйдя из моря, он улёгся на раскалённом песке рядом со своей одеждой и все вертел в руках, разглядывал раковину — навсегда опустевший домик с колючими шипами.
Через некоторое время он взглянул на часы, быстро оделся и пошёл с пляжа на набережную.
Чувствовал давно забытую лёгкость во всём теле, какая бывает только после морского купанья. Даже саднящая боль от прикосновения медуз казалась почётным трофеем. Таким же, как раковина.
Рафаэля с его машиной не было. Не было видно никаких машин, никаких туристов, даже прохожих.
Артур подошёл к расположенному у начала пирса павильончику под тентом, где, оказывается, можно было купить горячий кофе, мороженное, сэндвичи, напитки. Продавец, читавший газету, с таким удивлением воззрился на Артура, словно появление покупателя было действительно редчайшим событием в этом месте.
— Но, но, — Артур поспешно отошёл прочь, ибо бумажник с деньгами остался в ящике письменного стола.
«А если Рафаэль хотел сказать, что приедет не через два часа, а в два? — подумал Артур. — Сейчас лишь начало первого… Вообще заставлять людей возить меня сюда и забирать обратно — не дело. Да и за тридцать пять дней я с ума сойду на этом пляже, превращусь в головешку».
Он был голоден. Перспектива ждать ещё два часа на раскалённой набережной раздражала.
«До чего же все относительно, —думал Артур, направляясь под решётчатую тень пальмы, толстой и чешуйчатой, как ананас. — Только что так радовался морю… В результате обречён и тут, в Барлетте, одиноко торчать под деревом.»
Из‑под одной из нижних чешуй пальмы выюркнула ящерица и замерла на асфальте у ног.
Красная легковая автомашина подъехала к тротуару, откуда выскочил какой‑то бородач. Как показалось Артуру, поманил к себе.
— Хорошо? Море хорошо? — жизнерадостно кричал он на ломанном английском, пока Артур подходил ближе. — Италия хорошо? Донато хорошо?
Услышав знакомое имя, Артур осмелел и, оказавшись в прохладном салоне машины, спросил по–английски:
— А где Рафаэль?
— Рафаэле — госпиталь.
— Он заболел? Что‑то случилось?
— О'кей! Тутги о'кей!
Насвистывая какую‑то мелодию, бородач в мгновение ока доставил Артура в проулок возле комплекса белых с синими обводами окон зданий. И тотчас укатил.
Не успел Артур подойти к двери, как она отворилась. Навстречу вышли дон Донато и Маша, переодевшаяся в просторный сарафан, сандалии.
— Наконец‑то! — сказала она. — Мы увидели вас из окна. Не обгорели? У вас пунцовая шея.
В эту минуту откуда‑то сверху послышался зов:
—Дон Донато! Маша! Чао, Артуро! — на балконе пятого или четвёртого этажа одного из тылом выходящих во двор домов, Артур разглядел призывно машущую женщину.
— Аванти! Вперёд! — Донато ухватил Машу с Артуром под руки и стремительно повёл их двором мимо кустов роз, мимо стены, покрытой каскадами красных цветков бугенвилеи. — Идём манжаре — обедать к Лючии!
Через калитку в металлической ограде они вышли на улицу, прошли у ступеней, ведущих к порталу новенького, с иголочки, громадного костёла.
— Это и есть наше жилище, — объяснила Маша. — Только вход с другой стороны двора. Поняли? Костёл Святого Семейства — Сакра Фамилия!
Артур задрал голову, увидел возносящуюся ввысь четырёхугольную колокольню.
Пройдя мимо углового цветочного магазина, выставившего свои ведра и вазы с георгинами и гладиолусами на тротуар, они свернули налево и оказались у двери с кнопками переговорных устройств. Донато нажал на одну из них.
Лифта не было. Артур не без труда поднялся со всеми на четвёртый этаж, где в проёме раскрытой двери, как картина в раме, уже ждала немолодая сияющая улыбкой женщина в белом фартуке.
Артур решил было представиться. Но Лючия попросту расцеловала его в обе щеки.
Простотой и сердечностью обдавала сама атмосфера залитой солнечным светом квартиры, где в гостиной за накрытым столом уже ждали доброжелательно улыбающиеся люди.
Артур жестом показал, что ему нужно умыться. Лючия ввела его в ванную, подала чистое полотенце.
Здесь всё блистало чистотой. Гранёное по краям зеркало над раковиной умывальника весело отражало пробивающиеся сквозь жалюзи солнечные лучи.
Артур смывал с лица и рук морскую соль, чувствовал, как что‑то давно забытое, чуть ли не со времён детства, возрождается в нём, и этому чувству не было иного названия, кроме как — счастье.
«А говорят — невозможно дважды войти в одну и ту же реку,» — подумал он и, пустив холодную воду, прильнул пересохшими от жажды губами к никелированному крану.
Вода оказалась необыкновенно вкусная, сладкая. Похожа на воду из горной реки Техури в Абхазии возле раскопок античного города Архео- полиса, где когда‑то Артур жил у крестьянина Аполлона Гвасалия и его жены Тамрико. Было у них четверо ребят. Старшего мальчика, который, если не трудился с матерью в саду, всё время рисовал, звали Давид. Имена остальных Артур сейчас, к досаде своей, почему‑то вспомнить не смог.
Он вошёл в гостиную, занял оставленное ему место между Машей и каким‑то рослым парнем. Дон Донато, сидевший в торце стола, произнёс краткую молитву. И Артур тоже про себя поблагодарил Бога за всё, чем одарил Он его за сегодняшний день.
Лючия вносила из кухни блюдо за блюдом. Артур с необыкновенной ясностью видел, как Господь действует через людей. Через Донато, наливающего ему из литровой бутыли в стакан белое вино, через Лючию, раскладывающую всем сваренных в том же вине мидий, приоткрывших створки своих синеватых раковин, через помогающую хозяйке пышноволосую с точёной фигуркой девушку, постоянно придвигающую ближе к гостям из России вазочки с оливками, помидорным салатом, артишоками.
Смешливый мальчик лет трёх по имени Джузеппе сидел между матерью Грацией — крупной молодой женщиной — и отцом Рино, украсившим себя на шее и запястьях поросших чёрными волосами ручищ золотыми цепочками. Это были самые обыкновенные, земные люди.
Коротко стриженный молчаливый гигант справа от Артура оказался сыном Лючии. Все ласково называли его Берто. Как выяснилось, полное имя его было Бартоломео.
Ничего особенного не было и в пышноволосой девушке. Маша объяснила Артуру, что её зовут Мимоза, что она — беженка из Албании, живёт здесь пока нелегально. В ближайшее время собирается выйти замуж за Бартоломео.
После мидий была подана паста — макароны под вкуснейшим соусом из помидоров и базилика. Потом Лючия с Мимозой стали обносить всех тарелками с жареным мясом и запечённой в духовке картошкой. Это было уж слишком. Артур категорически отказался от соблазна. Он попивал ароматное вино, наслаждался звуками быстрой итальянской речи и все пытался понять, чем же таким особенным поразил его этот дом.
Лючия внесла поднос с ломтями красного, сверкающего сахаристой изморозью арбуза. Потом был подан кофе, и к нему несколько сортов нежнейшего сыра.
«Не зная о нас ничего, принимают, как царей» — думал Артур.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прошло семь дней.
Солнце ещё только взошло над Грецией, Югославией, над Адриатическим морем. Раннее утро только входило в комнату, наполняя её белым, призрачным светом. Артур Крамер сидел за письменным столом, быстро покрывал строчками страницы записной книжки. У ног стояла наготове дорожная сумка.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«22 августа. Позавчера поссорился с Машей. Каждый раз заставляет таскаться то на мессу, то на собрание местной общины. Чтоб я распевал с ними псалмы на непонятном мне языке, слушал проповеди и так далее.
Умный, проницательный Донато ни к чему подобному меня не призывал, никогда не оказывает никакого давления. Между тем, позавчера Маша совсем отравила мне жизнь, сказав, что я пользуюсь его добротой, добротой Лючии, окружающих… Да ещё сказала это при Рафаэле, когда мы были у него в гостях. Правда, он ничего не понял, надеюсь. А вчера вечером в специальном зале при церкви (очень красивом, с баптистерием в полу), на собрании всех восьми общин, во время Евхаристии я по просьбе Донато рассказал всем о моём убитом духовном отце Александре. Маша переводила. Несколько сот человек слушали, затаив дыхание. Потом многие подходили ко мне. Плакали. Целовали. Называли «фрателло» — брат.
Было по–настоящему трогательно. Но при этом я не смог не думать о словах Маши.
В самом деле, ежедневно пирую у Лючии, каждый день самые разные люди возят на пляж и обратно, иногда по два раза. Денег никто ни за что не берет. Пытался через ту же Машу передать деньги за обеды, но вмешался Донато, сказал, что нет никаких проблем. Несколько дней назад, когда я увязался вместе с Лючией и Машей утром на рынок, Лючия не позволила мне заплатить ни за барабулек, ни за креветок, лангустов.
Мало того, когда на обратном пути Маша завела меня в магазин обуви, чтоб я смог купить себе лёгкие летние туфли, Лючия уплатила за них, сказала — так велел Донато, специально дал деньги.
Действительно, получается так, что меня носят на руках, а я не при — соединяюсь к их церковной жизни, а если порой присоединяюсь, то только из уважения к Донато и чтоб ещё больше не злить Машу. И вовсе не потому, что я такой уж православный христианин, что настроен против католиков. Не понимает Маша, что мои личные взаимоотношения с Богом совсем иные.
Кому‑то это может показаться смешным, мне не до смеха. Опять я оказался в положении отщепенца, одинокого человека, противопоставляющего себя всем.
Как это бывает с фанатиками, Маша жаждет спасти мою душу, вместо того, чтоб заниматься спасением собственной. Впрочем, во всём остальном она ведёт себя в высшей степени по–товарищески. Если б не фанатизм, не было бы лучшего спутника. Особенно для меня в моём нынешнем положении.
Ухитрилась обгореть в воскресенье, в первый свой день пребывания на пляже. Боится медуз, а также проблематичного появления акул. Углядела какого‑то мошенника с длиннейшей жердью на плече, с крючков которой свисало множество барахла. Купила себе дешёвую чёрную маечку и была счастлива.
«Культурный» пляж, где мы тогда купались воскресным утром оказался полон народа. Мамаши и бабушки, закармливающие детей пиццей, чипсами, виноградом и персиками. Многие, такие как полицейский Нардо, с которым нас познакомил Донато, имеют здесь кабинки, где можно переодеться, хранить ласты, раскладные столики и стулья. У этого Нардо — жена, двое милых детишек. Стройный человек, лет сорока. Прекрасно плавает. Сходу обогнал меня в море, и тут же развернулся обратно, чтоб я не закомплексовал.
Итак, Маша обгорела. И все остальные дни я опять проводил на пляже один. В будни на море никого. Несмотря на ласковое солнце, очень тёплую воду.
Нога словно очнулась. Может быть, сказывается и эффект новых лёгких туфель.
Вчера дон Донато возил на своей машине по скоростной автомагистрали на юг — в Бари, где нужно было зарегистрировать наше пребывание на итальянской земле.
Слева вдоль побережья тянулись с разрывами пять — шесть небольших городков, справа то оливковые рощи, то виноградники, за которыми вдалеке виднелись заводские трубы — промышленная зона.
Всю дорогу Донато рассказывал интереснейшие вещи об истории Италии с точки зрения христианства. Жалею, что не взял с собой записную книжку.
Бари — это южное солнце, пальмы на площади Гарибальди, широкие проспекты со сверкающими витринами магазинов. Увидел в одной из них замечательную синюю куртку. Купил взамен выброшенной Машей, ухитрился уплатить сам, поскольку Маша в этот момент выбирала на уличном лотке серебряные серёжки, советуясь с Донато.
Есть в Бари что‑то французистое, непохожее ни на Римини, ни на несколько сонную Барлетту.
Посетили мощное, как средневековая крепость, здание квестуры — полицейского управления. Долго валандались там среди деловитых полицейских и чернокожих людей из близкой отсюда Африки, стремящихся получить вид на жительство.
Отделавшись от формальностей, выпили в ближайшем баре по чашечке «капуччино». Подъехали к главному местному собору, построенному, сколько я понял, крестоносцами. Огромный. Внутри поразили две вещи. На вершине купола вместо изображения сидящего на облаках Бога, просто круглое отверстие, откуда видна синь небесной бездны, и вделанный в мрамор пола золотой герб — лев и лучистая звезда.
Прошлись по средневековой части города. Царство камня и тишины. Множество грозных соборов, пустых и мёртвых. Их наверняка больше, нем верующих людей. Резкие перепады глубокой тени и солнечного света. Почему‑то на уровне лопаток было ощущение опасности.
Вышли к базилике, где внизу, в подземелье за решёткой, в окружении лампад, покоится святитель Николай Мирликийский. Мощи его в своё время были выкрадены у греков, и теперь он лежит здесь, в городе, в котором никогда не был.
Надпись «Томба дель санто» — могила святого. А вокруг русская и украинская речь. Фотовспышки. Это фотографируются на фоне надписи совершающие круиз туристы из Одессы. Нувориши с жёнами и откормленными отпрысками. Бедный святитель Николай!
Втайне я думал помолиться ему, попросить, чтоб заступился за меня перед Богом. Куда там! Жужжали кинокамеры, дети чавкали жвачкой.
Когда мы ехали обратно в Барлетту, я заявил — просто вырвалось — что устал от пляжа, хотел бы увидеть Неаполь. Денег должно хватить.
В наших планах ничего такого не было. Маша свела дружбу с Лючией, включилась в жизнь местной общины. Я ждал, что она взорвётся. В крайнем случае, решил пуститься в дорогу сам, хотя почти не различаю расписаний нй вокзальных табло, номера платформ, не знаю языка.
Донато опередил её, сказал — «Увидите всю Италию. Если Бог захочет.» И улыбнулся так весело и хорошо, что у меня отлегло от сердца.
В результате прямо сейчас, утром мы с Машей»…
Артур не успел дописать, поставить точку, как в коридоре послышался весёлый голос дона Донато:
— Артуро, андиамо — идём!
Внизу, в нежащемся под утренним солнцем дворе, уже ждала Маша. Бойко разговаривала с немолодым, грузным мужчиной и очень толстой женщиной. Они стояли у сверкающей серебристым лаком роскошной автомашины.
— Дон Донато! — раздалось сверху. — Маша, Артуро! — это на своём балконе показалась на миг Лючия.
Пока ждали Лючию, Артур понял, что вчера вечером за его спиной Донато и Маша разработали план поездки по Италии. Первым этапом должен был стать Неаполь, куда эта тучная чета взялась доставить их на машине.
Как всякому самолюбивому человеку, Артуру стало обидно, что с ним не посоветовались. Хозяева машины, которых звали Пеппино и Амалия, показались ему самодовольными буржуями из книг его детства.
— Этот Мистер Твистер довезёт до Неаполя, а что потом? — спросил он Машу. — Тоже хочется быть в курсе.
— Не капризничайте, — ответила она. — Донато приготовил вам сюрприз.
Над головой начали бить колокола, вызванивать свою призывную мелодию. Из глубины двора вылетела Лючия. Трудно было поверить, что она — бабушка. Так по–девичьи легко бежала она навстречу.
— Кафе!
В одной её руке был термос, в другой вложенные друг в друга бумажные стаканчики.
Спокойно и хорошо стало на душе у Артура при появлении этой всегда сияющей женщины.
«В конце концов Маша права, — подумал он. — Везут в Неаполь! С ума сойти. Может быть, увижу морской музей…»
Выпив вместе со всеми горячий кофе, Артур по указанию Пеппино сел на переднее сиденье рядом с ним. Маша и Амалия устроились на заднем.
…Несколько раз в жизни Артуру попадались сведения о знаменитом морском музее Неаполя. То ли в одной из книг Жюля Верна, то ли в жизнеописании Мечникова. Недосягаемая мечта странным образом овладела им давно, со школьного возраста. И вот сегодня, может быть, через несколько часов, она могла сбыться, можно было увидеть живьём через стекла аквариумов всех обитателей Средиземного моря.
Артур жилами чувствовал глубинное родство с ними. Его кровь, кровь всех людей на земле имела тот же состав, тот же вкус солёной морской воды. Если Космос населён бесплотными духовными созданиями (Артур в этом не сомневался), то разнообразие и красота умопомрачительных существ, обитающих в толще мирового океана, были для него не менее таинственным, захватывающим воображение проявлением фантазии и нечеловеческого таланта Творца.
Едва успели скрыться из глаз Донато и Лючия и машина, выскочив за пределы просыпающейся Барлетгы, помчалась по автостраде, Артур попросил Машу узнать у Пеппино — бывал ли он в Неаполитанском морском музее.
Выяснилось, не только не был, но и не знает о его существовании.
«Что и следовало ожидать, — с огорчением подумал Артур. — Бизнесменствуют помаленьку, наживают жирок, для приличия ходят в костел… Скучные люди!»
Вспомнилось, как недавно вместе с доном Донато видел в Москве по телевизору новоиспечённого русского миллиардера. Сидя в своём кабинете, украшенном массивными золотыми безделушками и изображениями полуголых наяд, тот хвастливо демонстрировал тележурналисту стоящую на письменном столе золотую же рамочку с фото самого себя рядом с Патриархом. Даже всегда сдержанный Донато сокрушённо покачал головой.
«С другой стороны, что я знаю об этом Пеппино и этой Амалии, что я злобствую? Артур сам себе стал смешон. — Везут на прекрасной машине по прекрасным местам, да ещё в Неаполь…»
— Маша, спроси, как называется их авто?
— «Ланча».
Пеппино кивнул, улыбнулся, нажал какую‑то кнопку на разноцветной приборной панели. Салон заполнили звуки мандолины, аккордеона.
— Тарантелла, — пояснила Амалия. — Наполетано.
Вскоре «ланча» остановилась у небольшого бара при заправочной станции.
— Пеппино говорит, необходимо позавтракать, — объяснила Маша, когда они вышли из машины. — Сначала поедем высоко в горы, потом в Помпеи на весь день.
— Какие горы, при чём тут Помпеи? Мы ехали в Неаполь!
— В Неаполь — завтра. — Маша уже стояла у длинного стеклянного прилавка с закусками. — Что вам купить, бутерброд с сыром или с ветчиной?
— Оба, — раздражённо ответил Артур.
…Они ехали на запад, пересекая сапог Аппенинского полуострова.
Утреннее солнце ярко освещало коричневатые холмы и зелёные долины с оливковыми рощами, стройными шеренгами виноградников.
Артура поразило безлюдье. Нигде не было видно ни комбайна, ни трактора. Ни одного работающего человека. При этом, как напоказ, всюду простиралась тщательно обработанная, ухоженная земля. Он решил, что все объясняется просто: сегодня воскресенье, или какой‑нибудь праздник.
Однако, выяснилось, сегодня был вторник, обычный будничный день. Итальянские сельскохозяйственные рабочие встают летом в четыре–пять утра, трудятся до жары и возвращаются на поля, когда она спадает.
Сколько ни ехали, вокруг не было ни посёлков, ни деревень. Крестьяне жили теперь в городах, приезжали на работу на собственных автомашинах. Как Паскуале — член одной из Барлетгских общин, который на днях зазвал его и Машу к себе на ужин в трёхкомнатную квартиру.
У этого смущающегося загорелого человека с крепкими жилистыми руками была славная жена Мария, восьмеро детей; старшие девочки оказались очень красивы и улыбчивы, и сейчас Артуру приятно было вспоминать, как он и Маша вместе со всеми молились перед ужином, как пришло понимание того, что не мог осознать в доме Лючии: там и тут еда была трапезой — посланным Богом даром.
…»Ланча», миновав предгорья, легко поднималась по спирали горной дороги мимо обложенных металлической сеткой крутых откосов, над которыми синел густой лес.
Внезапно Артуру вспомнились имена детей другого крестьянина — Ап- полона Гвасалия, живущего в далёкой Абхазии. Двух девочек звали Зина и Варо, младшего мальчика — Константин. А имя старшего он и так никогда не забывал — Давид. Там тоже к еде относились благоговейно, пусть всё было выращено своими руками. У Аполлона тоже была помятая, проржавевшая автомашина. Только «запорожец», а не «фиат», как у Паскуале. А старинный дом возвышался на сваях посреди сада.
И у Паскуале так могло быть. На том месте, где стоит вполне городской дом, раньше был огород, принадлежавший его родителям. Власти Барлетты выкупили эту землю, дали в построенном на ней здании квартиру со всеми удобствами, и теперь Паскуале ездит отсюда работать за город — то на плантации помидор, то, как сейчас, собирать урожай винограда. Трёхкомнатная квартира стала уже тесной для этой семьи.
…Несмотря на то, что подъем становился все круче, Пеппино гнал машину, не снижая скорости даже на бесчисленных поворотах. Когда выскочившая сверху микролитражка чуть не задела их крылом, Артур попросил Машу сообщить, что они никуда не торопятся.
— Очень торопимся. Опаздываем, — невозмутимо ответила она. — Эта гора называется Монте Верджине. По преданию здесь когда‑то было явление Девы Марии. Пеппино везёт нас в Сантуарио — собор при монастыре. Опаздываем на мессу. Понятно?
— Понятно, — буркнул Артур.
Теперь он действительно понял, что означали эти группы молодёжи, монашек, пожилых людей с посохами, которых они все чаще обгоняли.
— Амалия говорит, — не унималась Маша, — здесь происходили и до сих пор происходят чудеса исцеления. Будем молиться за вашу ногу и зрение, хорошо?
— Сенк'ю.
Хотя Артур не просто верил, а знал, что в этом прозаичнейшем из миров чудеса иногда все таки случаются, он не сомневался — ни Машины молитвы, ни его собственные прежнего здоровья не вернут.
Поэтому, когда, оставив машину в каменном мире монастырского двора, они поднялись по стёртым ступеням в переполненный храм, где уже шла месса, Артур не испытывал ничего, кроме чувства досады.
Внутреннее пространство собора, огромное, как железнодорожный вокзал, блистало позолотой и мрамором. Издалека, от алтаря, доносилась усиленная динамиками проповедь.
Они стояли сзади среди пилигримов. Маша шёпотом переводила Артуру каждое слово священника. И через каждое слово звучало — «царица», реджина. Дева Мария настолько велика, что воспарила в небеса и стала Царицей ангелов. Мария — Царица ангелов. Реджина, реджина, реджина…
Маша перестала переводить. А Пеппино в ответ на недоуменный взгляд Артура виновато пожал плечами.
Артур потихоньку пробрался вдоль стен и колонн ближе к алтарю. Он хотел взглянуть на проповедника.
Им оказался низенький, стриженный ёжиком толстый монашек в золотых очках. С профессиональным пафосом вскидывал руки, продолжал восклицать: «реджина, реджина».
Артур повернулся и пошёл к выходу. Через некоторое время его спутники, причастившись, вышли вслед за ним. Пеппино завёл всех в галерею, где спинами к высоким окнам за длинной стойкой сидели монахи. Они принимали от паломников деньги, записывали в толстые тетради просьбы. Здесь же по стенам висели застеклённые стенды. На одних во множестве были закреплены серебряные ноги, на других — руки, на третьих — лёгкие, изображения прочих внутренних и внешних органов человека.
Благодарственные дары когда‑то исцелившихся.
Артур уже хотел выйти наружу, как его плеча коснулась Амалия. Она показала на Пеппино и Машу, которые призывно махали, собираясь спускаться куда‑то в подземелье.
Вместе с грузно переваливающейся Амалией он нехотя пошёл к круто уходящей вниз широкой лестнице.
…В сокровенной темноте подземного пространства перед ним за ярко освещёнными витринами открылись красочные макеты Рождества. Того, что по–русски называется «вертеп». Один и тот же сюжет — младенец Иисус в колыбельке, Дева Мария, Иосиф, ангелы, волхвы… куколки, исполненные с таким мастерством, такой трогательной любовью…
Он переходил от витрины к витрине, разглядывал вертепы, созданные в средневековой и теперешней Италии, Японии, Греции, Дании, Португалии…
Только русского вертепа почему‑то не было здесь.
Артур не забыл, как однажды в Испании, в Эскориале, увидел старинную карту, где на месте, занимаемом Россией, простиралось огромное белое пятно с надписью «терра инкогнита». Как и тогда, он почувствовал в сердце укол ревности.
…И собор с квадратной колокольней, и поднявшиеся чуть выше вершины окрестных гор освещали нежные лучи солнца, ещё утреннего, нежаркого. Но едва «ланча» начала спускаться по спирали горного шоссе, её накрыли облака, моросящий туман. Каплями дождя сочились иглы сосен, вздымавшихся по крутым склонам.
Ехали молча, стараясь не отвлекать Пеппино, пока Амалия не произнесла какую‑то фразу.
— Вы устали? Как ваша нога? — перевела Маша.
На миг обернувшись, Артур столкнулся с добрым, исполненным надежды взглядом Амалии.
— Лучше.
— Лучше? В самом деле? — переспросила Маша.
Он шевельнул ступнёй, и ему показалось, что она поднывает меньше, чем обычно.
На лобовом стекле ёрзали «дворники», дождь лупил по крыше машины, на приборной панели уютно перемигивались разноцветные огоньки. Кружила уводящая вниз дорога, кружили тонущие в облаках горы; в этом круженье было особенное медитативное спокойствие, подстрахованное водительским мастерством Пеппино.
«Первый итальянский дождь, — думал Артур. — А впереди Неаполь. Наполи. Нет, сначала Помпеи.»
Спустившись с сумрачных гор, они выехали на залитую дождём многополосную автостраду, проскочили под отрогами Аппенин один тоннель, другой и оказались в мире, залитом ослепительным полуденным солнцем.
Вскоре «ланча» въехала в самый центр небольшого городка и остановилась на площади, посередине которой был сквер, где под сенью раскидистых акаций с газетами в руках дремали итальянские пенсионеры в подтяжках.
— Помпеи, — объявил Пеппино, выходя последним из машины и указывая куда‑то вдаль. — Везувио.
…Далеко, почти на горизонте, в дрожащем от жары мареве маячила двугорбая гора.
— Неужели оттуда могла докатиться лава? — спросил Артур.
— Пепел, — перевела Маша ответ Пеппино. — Ветер во время извержения дул в эту сторону. Тонны горящего пепла начали падать ночью, когда люди спали. Падал несколько суток. И все — финита. Пеппино предлагает перед осмотром раскопок перекусить. Он с Амалией приглашают в ресторан. Но нельзя допустить, чтоб они платили за нас.
— Конечно, — кивнул Артур.
Когда компания уселась за столиком в тенистом зале ресторана, и официант подал меню, Пеппино быстро ознакомился с его содержанием, сделал заказ и тотчас ушёл, одновременно с официантом.
Уже были поданы ломтики благоухающей дыни с тонко нарезанной ветчиной, салат, эскалопы с картошкой–фри, пиво, а Пеппино все не возвращался.
Он появился минут через двадцать, извинившись, сказал, что искал хороший отель, чтобы заказать номера для ночлега, из чего Артур заключил, что поездка в Неаполь состоится лишь следующим утром.
Этот запыхавшийся толстяк, сходу выпивший бокал холодного пива и принявшийся разделывать эскалоп, как выяснилось за обедом, вовсе не был никаким капиталистом, Мистером Твистером. Специалист по связи, он работал на телефонной станции Барлетгы, имел дочку Сару, чью фотографию вынули из сумочки и показала Амалия. Маша пересказала Артуру, что Сара — приёмная дочь.
Совсем маленькой взята из приюта. С тяжёлой наследственностью. Родная мать алкоголичка и наркоманка.
— Вам было известно об этом, когда брали девочку? — спросил Артур.
— Да, — ответили одновременно Пеппино с Амалией и так светло улыбнулись, что у Артура перевернулось сердце.
Он знал о своей неспособности на такой подвиг.
После обеда обнаружилось, что Пеппино, конечно же, заранее за все уплатил.
Они шагали по узорчатым плитам прожаренных солнцем тротуаров ко входу на территорию трагически погибшего города. Шли мимо бесчисленных сувенирных киосков, где продавались копии древних светильников и статуэток, красочные буклеты, свисающие на ниточках головки ангелов, выглядывающих из‑за картонных облаков.
Возле одного из киосков стоял раскладной столик с разложенными на нём морскими раковинами. Артур, не раздумывая, купил три самых крупных, самых дорогих, попросил Машу положить их в сумочку. Ожидал, что она упрекнёт его за бессмысленную трату денег, но Маша поочерёдно поднесла каждую раковину к уху, глаза её по–детски округлились. Восхищённо промолвила:
— Море шумит.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«Ночь с 22 на 23 августа. Только что вернулись в Помпеи из Салерно. Пишу эти строки в отеле «Европа», в своём N36.
Второй раз за сегодняшний день принял душ. Перевозбуждён. Не могу уснуть. В коридоре по соседству номер, где ночуют Пеппино с Амалией, где‑то рядом и номер Маши. Она заходила, принесла на завтра чистые носки и белую футболку. Отняла прежнюю, синюю, постирать. Простирать мог бы и сам. Все моё барахлишко у неё. Вот и командует.
С одной стороны трогательно, с другой — непрерывной опекой только подчёркивает мою беспомощность. Днём, когда ходили по раскопкам Помпей, то и дело указывала на какой‑нибудь выступ или камень — «Посидите, иначе не сможете идти» Пеппино и Амалия терпеливо ждали под палящим солнцем, утирая лица крохотными платочками. Тени не отыщешь. Лишь кое–где в этом городе мёртвых торчит восклицательный знак кипариса.
Древние Помпеи — многогектарное сборище камней частично вновь составленных археологами в каменные конурки, которые почему‑то называются «виллами» знатных римлян, приезжавших когда‑то сюда на морской курорт. Море давно отступило, так что его ниоткуда не видно.
Древние стены, древние, битого камня, мостовые, кое–где обломки колонн. Километр за километром. То ли Пеппино специально подготовился, то ли он вообще образованный человек — всю дорогу снабжал историческими сведениями, датами. Я вежливо кивал, а сам думал — «Когда же все это кончится? Какого рожна эти люди должны тащиться из‑за нас по раскалённой сковородке?» По–моему, был момент, когда Амалии стало плохо.
В конце концов, вышли к длинному ангару, где за решёткой в глубокой тени с трудом можно было разглядеть среди полок с амфорами, прочей утвари древних две знаменитых отливки из гипса — сгоревших в толще вулканического пепла подростка и женщину. Он сидит, в ужасе закрыв лицо ладонями, она распростёрта.
Вглядывался. Почему‑то вспомнилось: во время бомбёжки ночью бегу с мамой спасаться в метро «Охотный ряд». У меня развязался шнурок на ботинке, наступил, упал. Мама поднимает, завязывает. А над головой в черноте неба два скрещения прожекторов. Как римскими цифрами — XX.
Оглянулся. Пеппино, Амалия и Маша улыбались мне, словно для них была не страшна ни злая сила Везувия, ни сатанинская злоба XX века.
Хорошо было, покинув древний город, сидеть в тени деревьев за столиком кафе, пить ледяной лимонный сок. Здесь я узнал отчего‑то тронувшую меня подробность: Пеппино и Амалия знакомы друг с другом с младенчества.
Потом долго шли до отеля, где я замертво уснул в этом своём номере.
К вечеру постучала Маша, сообщила, что Пеппино предлагает поехать ужинать в Салерно. Неутомимый человек. Это не шумное кавказское гостеприимство, а нечто совсем другое, чему не могу найти названия.
Взял лупу, карту. Пока рассматривал, где находится этот самый Салерно, Маша позвонила дону Донато в Барлетту, чтоб он не волновался. Тот обрадовался, велел после Неаполя поездом следовать в Рим, продиктовал номер телефона какой‑то семьи, которая нас ждёт. Фантастика. Очередной сюрприз со стороны Донато.
Долго ехали в горах, пока не увидели сверху дугу огней набережной Салерно, очерчивающей широкий залив Тирренского моря.
Вышли из машины у пирса, где столпились на ночёвку белоснежные яхты. Сумерки. Теплынь. Запах прогретого за день моря. Разноцветная светящаяся вывеска ресторана «Федерико Феллини». Вот и его имя пошло на приманку туристов…
Почувствовал на себе мимолётный взгляд Пеппино. Как мог он прочесть мои мысли, да ещё на русском? Во всяком случае, тут же предложил поехать в другое место, в пиццерию.
Снова сели в «ланчу», двинулись по дуге освещённой тускловатыми фонарями набережной. Скучной и пустой. Только мотоциклисты без шлемов с подружками на заднем седле порой проносились мимо. Впечатление, что Салерно вымер. Уснул. Рано, как в детском саду.
Но когда мы вошли в большой зал пиццерии, там было полно народа.
Пеппино заказал четыре огромных пиццы. Пока их изготовляли за стойкой прямо у нас на глазах, мы пили светлое пиво из высоких бокалов. Запоздало признался Маше, что пиццу терпеть не могу. И мне было принесено блюдо варёных морских моллюсков. Их разнообразные раковинки были так красивы, что, съев содержимое, я как бы невзначай стал собирать их в бумажную салфетку. И поймал на себе укоризненный взгляд Маши. При этом она вовсю уплетала пиццу. Пеппино и Амалия от неё не отставали. Я все‑таки сунул свою добычу в карман.
И вот мы вернулись в Помпеи. За открытым окном гостиничного номера тишина провинциальной ночи.
Удивительно, именно сейчас, здесь ярко вспомнился один из самых одиноких людей. Мрачный, на мой взгляд, очень красивый человек.
Я, молодой, встречал где‑то в компании Новый год. Под утро после бессонной ночи по свежему снежку дошёл до открывшегося метро, доехал до центра, шёл мимо «Националя», увидел, что кафе уже открыто.
Решил выпить кофе.
Там, в пустом зале, был хаос от разбросанных конфетти. У сцены одиноко стояла украшенная мишурой и серебряными шарами ёлка.
Лишь один человек сидел в отдалении. Едва я появился из гардероба, он призывно махнул рукой.
Это оказался писатель Ю. К. Олеша, с которым я был едва знаком.
Он плакал. Крупные слезы стекали по его тщательно выбритому лицу.
— Молодой человек, они не дают мне водки, — всхлипывая пожаловался он и добавил. — Не понимают, если я не выпью свои сто грамм, я могу умереть.
Я догадался, что его друзья, договорившись с официантками, берегут знаменитого старика от запоя.
Он плакал и взирал на меня из ада одиночества. Когда жизнь подошла к концу. Когда одни друзья твоей молодости расстреляны, у других руки по локоть в крови…
Я уселся в сторонке. Заказал кофе, порцию красной икры, сто пятьдесят грамм водки и бутылку боржоми. Решил разделить водку со стариком, угостить его бутербродом с икрой.
Официантка сгрузила с подноса на столик всё, что я заказал, в том числе графинчик с водкой, рюмку и бокал для боржоми. В тот момент, когда она ушла, старик ринулся ко мне, дрожащей рукой ухватил графинчик, вылил всю водку в бокал. Никогда не забыть, как он пил. Не дай мне Бог!..
Сейчас иду отмывать под краном свои ракушки»
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Самое лучшее в путешествии — его предвкушение. Особенно когда ранним, солнечным утром ты стоишь в уютном вестибюльчике отеля у стойки и вместе со своей спутницей пьёшь по–домашнему предложенный администраторшей крепкий кофе, а впереди ждёт встреча с Неаполем, с Римом.
— Хорошо выглядите, загорели. Выспались? — Маша оглядела Артура Крамера с головы до ног и вдруг опустилась на корточки. — У вас шнурок развязался.
— Спасибо. Я сам, — он попытался её поднять.
Но шнурок на туфле был уже надёжно завязан.
Артуру снова вспомнилась ночная бомбёжка Москвы, мамины руки…
— Машенька, а как вы? У вас был удобный номер?
Машины глаза смотрели отчуждённо, сердито, будто он спросил не о том, чего она ожидала.
— Вчера объелась пиццы. Стала совсем толстая. Почему вы меня не остановили?
— Вы наслаждались, как ребёнок, — он погладил её по шапке волос.
— Я не ребёнок, — в её округлых глазах навернулись слезы.
Напуганный таким поворотом разговора, Артур, услышав стук спустившегося лифта, бросился к выходящим из него Пеппино и Амалии.
— Чао! Бонджорно! — до чего же приятно было попробовать заговорить по–итальянски.
Серебристая «ланча» казалась теперь родным домом, Аппенины — давно знакомой горной страной, скромный завтрак в придорожном кафетерии — прекрасным, а Пеппино и Амалия — ангелами–хранителями.
— Неужели скоро Неаполь? — нетерпеливо спросил Артур, когда с высоты горного перевала открылась слепящая синева Тирренского моря.
— Не скоро, — ответила Маша. — Пеппино сказал, сделаем крюк — поедем не прямой автотрассой. Решил показать нам старинную дорогу — Костьера Амальфитана.
Из‑за упрямства Пеппино Неаполь уже второй день роковым образом отдалялся и отдалялся.
«С другой стороны, главное — не цель, а путь к цели», — утешил себя Артур, когда они, спустившись с перевала, выехали на узкое шоссе, змеящееся между горами и морем.
Уже не в первый раз во время пребывания в Италии Артуру казалось, что он все это когда‑то видел. Эти террасные виноградники, непонятно как растущие один над другим на головокружительных скалах; эти бесчисленные заливы и заливчики, разделённые каменистыми мысами; эти развалины древних хижин и скотных дворов, окутанных разросшимся плющом.
Если бы вместо громоздких туристских автобусов, с трудом вписывающихся в бесчисленные повороты, на дороге появились бы ослики, поселянки с корзинами винограда на плечах, можно было бы ощутить себя в старинной картине.
Итальянские живописцы, оказывается, ничего не выдумывали, изображая этот земной рай.
…За каждым крутым поворотом открывались, казалось, все те же горы, мысы и заливы. И каждый раз они дарили глазу что‑то неуловимо новое. Как разные вариации одной музыкальной темы.
Теперь Артуру Крамеру хотелось, чтобы конца не было этому перемещенью его маленькой жизни между вечным миром гор и вечным миром моря.
— Если бы ещё и поплавать в Тирренском море! — сказал Артур. Он почувствовал себя наглецом, эксплуатирующим чужую доброту.
— Вы же спешите в Неаполь, — отозвалась Маша.
Тем не менее, она перевела его просьбу Пеппино. Тот с готовностью кивнул, что‑то ответил. Выяснилось, и этот дар запланирован. Через несколько километров, у курортного местечка Минори. Правда, сам он и Амалия в воду не полезут. А Маша с Артуром имеют полчаса на то, чтобы искупаться.
— Я тоже не буду, — сказала Маша. — Оставила купальник в Барлетте.
…И вот был пляж. Чистейший. И Тирренское море. Не золотисто–зелёное, как Адриатика. А синее. Ещё более солёное и прозрачное.
Артур плыл, уплывал от пляжа, порой видел стоящую там Машу с его одеждой в руках, Пеппино и Амалию, смеющихся, о чём‑то разговаривающих. Но вскоре они стали для него неразличимы среди других людей на берегу.
Он перевернулся на спину. Лежал, раскинув руки на чуть вздымающейся глади.
«Господи, за что Ты любишь меня? — думал Артур. — Даёшь такой неоплатный аванс… Будто жизнь моя не идёт к концу, а только начинается. Будто даёшь силы, чтоб я написал какую‑то новую книгу, совсем новую, непохожую на прежние… Или же что‑то сделал… Господи, Иисусе Христе, отчаяние опустошило меня. Да что я рассказываю? Ты Сам все видишь и знаешь…»
Послышался глухой звук двигателя. Со стороны открытого моря приближалась белая моторка. Артур поймал себя на том, что потерял ощущение времени. Там, на берегу, под палящим солнцем его ждали.
Взметая фонтаны брызг, поплыл к пляжу.
— Что ж так мало купались? — спросила Маша. — Всего пятнадцать минут.
Он взял из её рук одежду. Поднялся по каменистому склону к шоссе. Быстро оделся в машине. Футболка прилипла к мокрому, просоленному телу. И от этого ощущение свежести усилилось.
Он поблагодарил садящегося за руль Пеппино. Тот благодушно улыбнулся.
И опять старинная Костьера Амальфитана стала открывать за каждым своим поворотом все новые картины, живопись Средиземноморья.
Через полчаса, как‑то сразу, горы и море исчезли. «Ланча» покатила мимо зелёных стен зреющей кукурузы, мимо виноградников,: изнывающих от тяжести свисающих гроздей, мимо сонных селений, где можно было увидеть лишь нескольких велосипедистов, проезжающих в пятнистой тени деревьев.
Потом машина вырвалась на многополосную автостраду, впилась в поток мчащегося транспорта и вскоре загрохотала по разбитой булыжной мостовой, по скрещениям железнодорожных путей. Слева тянулись мощные стены в подтёках вековой грязи. Над ними торчали стрелы подъёмных кранов.
— Наполи, — объявил Пеппино. — Порт.
По выжженной солнцем улице шёл чернокожий парень в комбинезоне. На остановке пожилые женщины и матросы в щегольской форме втягивались в переполненный автобус.
Но вот колеса «ланчи» покатили по бархату асфальта. Над Артуром и его спутниками навис город на горах. Модерновые жилые дома, старинные особняки, дворцы, утонувшие в зелени пальм и кипарисов — всё это вздымалось друг над другом, радуя глаз разнообразием приведённых к единству архитектурных стилей. Имя этому единству было — Неаполь.
Широкие окна зданий слепили весёлыми солнечными зайчиками, не в силах перебороть слепящую ширь Неаполитанского залива, на дальней дуге которого синел Везувий, Везувио.
Сначала они проехали по нижней части города. Выходили из машины у старинной крепости с двумя чёрными башнями, охраняющими вход в беломраморные ворота, у знаменитого театра Сан–Карло, Королевского сада, Королевского дворца. Пеппино, оказывается, взял с собой фотоаппарат, всюду фотографировал Машу с Артуром.
У Артура нарастало чувство неловкости, получалось так, будто они влюблённые, чуть ли не муж и жена. Маша была моложе на целую эпоху. Могла оказаться его дочерью, даже внучкой… У Артура не было никаких видов на Машу, ни на кого на свете.
И Маша, казалось, испытывала то же чувство, слегка отстранилась, когда, снимаясь вместе с ней и Амалией он по–дружески обнял обеих за плечи.
«Все приходит слишком поздно, — думал Артур, в то время, как Пеппино вёл «ланчу» крутыми улицами вверх среди пышной роскоши архитектуры, роскоши кипарисов, цветущих красными и белыми цветами олеандров. — Без машины я бы уже не мог сюда взобраться… Стареющий, слепнущий, кому я теперь нужен?»
Поймавшись на том, что жалеет себя, не доверяет Богу, волшебно выдернувшему его из московского отчаяния, даровавшему такое путешествие, таких спутников, Артур захотел совершить что‑нибудь необыкновенное, доказать самому себе, что не такой уж он развалина, что не все так плохо.
Поэтому, когда почти на вершине горы, выйдя из машины, они остановились у каменного парапета, за которым открылся вид на спускающийся уступами город, на залив, на Тирренское море, и Артур увидел густо усеянную спелыми плодами крону инжира, чудом растущего на склоне горы по ту сторону парапета, он подтянулся на руках, вскочил на парапет и стал пригибать упругие ветви, покрытые широкими, разлапистыми листьями к Маше, чтобы она могла дотянуться до них, полакомиться уже треснувшими от переизбытка сока ароматными плодами.
— Сейчас же слазьте! У меня даже голова закружилась. Упадёте в Неаполь. Умоляю вас.
Артур послушно опустился на горячий парапет. Внизу, за инжировым деревом, в разложенном на плоской крыше надувном бассейне, плескалась загорелая детвора. Ещё ниже, в зелёном дворике, среди кустов роз, старик в чёрных очках, покачиваясь в кресле–качалке, перелистывал газету.
— Капри, — сказал Пеппино, который, присоединясь к Маше и Амалии, тоже срывал плоды с пригибаемых Артуром ветвей.
— Где?
Пеппино указал прямо против себя на море.
— Да вон же. Как зелёная шапочка, — сказала Маша. — Смотрите туда, чуть правее.
Сколько Артур ни вглядывался, ничего, кроме искрящейся синевы не видел. Фосфоресцирующая вспышка на миг ослепила, напомнила… Он спрыгнул с парапета.
Амалия протянула навстречу лежащую в ладонях пригоршню плодов инжира.
— Отбирала для вас, — сказала Маша. — самые лучшие.
— Машенька, пожалуйста, напомните им про Морской музей.
— Пеппино помнит. Но сначала едем вниз, обедать. Все сильно проголодались, а вы?
— Что ж, могу с голодным сравниться, как говорил один знакомый чудак.
И теперь уже в обратно порядке, сверху вниз, замелькали беломраморные особняки, разноцветные здания, фонтаны, увлажняющие пышную субтропическую растительность.
А внизу надвигалось море.
Отыскивая самый лучший, с точки зрения Пеппино, ресторан, они проехали по всей набережной, вымершей в эти знойные часы, по просьбе Артура остановились на десяток минут у рыбачьего причала, где в плоских цинковых лотках, покрытые слоем солёной воды, засыпали выставленные на продажу рыбины утреннего улова; приоткрыв створки раковин, пускали струйки пузырьков воздуха разнообразные моллюски.
Воображению Артура Крамера эти подробности неаполитанской жизни говорили больше, чем если бы он посещал музеи или бродил по городу, уткнувшись в путеводитель.
Именно подробностями, как лопающимися от переизбытка сока шариками зрелого инжира, плодоносит древо жизни, и если можно было бы пренебречь извечной тягой читателей к захватывающим сюжетам, к извлечению какой‑либо насущной пользы, он с удовольствием посвятил бы свои сочинения исследованиям чудес Божьих: полёту бабочки или же запахам моря.
Артур никогда не мог ответить на вопрос, в чём заключается сюжет той или иной его книги. Жизнь не втиснуть, как в прокрустово ложе, в формулу. Если втискивается, значит наверняка остались обрубленными самые плодоносные ветви, значит сочинение ущербно.
Он думал обо всём этом, когда за своими спутниками входил в лаково- красное здание ресторана, осенённое тенистыми акациями.
И снова, заказав обед, Пеппино исчез вместе с официантом. Артур понял, что опять не удастся заплатить за себя и за Машу. Оставалось пить пиво, есть жареных креветок и уповать на скорое окончание паразитической жизни — близился час прощания с этими на удивление щедрыми людьми, которые казались теперь давно знакомыми и родными.
Прошёл час, наконец, Пеппино со своей слоновьей фацией влетел в ресторан, торжествующе размахивая четырьмя голубыми листочками. Оказалось, он не только успел поколесить по Неаполю, найти Морской музей, но уже и купил входные билеты.
После обеда они подъехали к стоящему на отшибе большому белому зданию. Над его фронтоном было начертано — «STAZIONE ZOOLOGICA», так официально называлось это научное учреждение.
«Вот вы, голубчики, здравствуйте! Наконец‑то я с вами встретился.» — произнёс про себя Артур Крамер, входя в длинный тёмный зал, освещённый лишь зыбкими отсветами подсвеченных софитами аквариумов. Огромные, они были вделаны в стены. Тянулись один за одним. Как выставка живых картин.
Стаи больших и малых рыб пронизывали воду хрустальной чистоты, кружили среди нежно–зелёных водорослей.
Посверкивая чешуёй, безмолвные существа, знакомые и незнакомые Артуру, перемещались за стёклами, похожие то на разноцветных птиц, то на плоские тарелки НЛО.
…Морской конёк задумчиво стоял в толще воды, похожий на знак вопроса. а под ним поверх усеянного камешками дна судорожно подпрыгивали прозрачные креветки.
Артур забыл о своих спутниках. Он готов был часами глазеть на этого забившегося в корзиночку осьминога, тоже пялившего на него свои глазки, на громадную морскую черепаху, то поднимавшуюся на поверхность глотнуть воздуха, то ныряющую в глубину.
Все они жили здесь порознь, и нужно было напрячь воображение, чтобы представить себе мир моря, где в толще его одновременно пребывают эти здоровенные тунцы, кособоко двигающиеся крабы, омерзительные, похожие на змей мурены, шевелящие усами среди обломков кораллов лангусты и омары. И ещё акулы, не представленные здесь, видимо, из‑за своих размеров и прожорливости.
— Пора уходить, — раздался за спиной голос Маши. — Мы уже все осмотрели.
Артур оглянулся на неё, на добродушно улыбающихся Пеппино и Амалию. Его пронзило ощущение тайны. Перед ним были люди — существа, ходящие по суше, умеющие разговаривать, смеяться, одаривать своей дружбой…
Чувствуя себя виноватым за то, что опять потерял ощущение времени, Артур готов был послушно повернуть за всеми к выходу, как в глаза ему бросилась парящая за стеклом чёрная бархатная шляпа с огромными колышущимися полями. Грациозность, с которой эта шляпа перемещалась в воде, казалась уроком балета, мастер–класса. Никакая Плисецкая, никакой Барышников не могли сравниться с изяществом и благородством движений этой красивейшей разновидности ската.
Первозданным, вечным веяло от взмахов бархатных крыл, медленных пируэтов величавого сгустка жизни среди мёртвых стен аквариума.
И в то же время однообразное телепание этого ската, всех этих обитателей моря показалось Артуру до обидного бессмысленным, тягостным.
— Несчастные существа, — сказала Маша, когда они вышли на солнечный свет к автомобилю.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«23 августа.
Впервые после появления у меня в Москве Маши, дона Донато, после нахлынувшего изобилия дружественных лиц здесь, в Италии, я в одиночестве.
Сижу за одним из столиков бара на углу широкой, выводящей к вокзалу улицы, шумной, грязноватой. Тут же автобусная остановка, будки телефонов–автоматов, контейнеры для мусора. Все обшарпанное. Самому трудно поверить, что нахожусь в Неаполе, рядом Средиземное море, Везувий. Ничего этого отсюда не видно. Такая улица могла быть и где‑нибудь в Подольске.
Чуть поодаль в тесном ряду других машин припаркована наша «ланча». Пеппино, Маша и Амалия дружной компанией ушли под скрещение
виадуков к вокзалу, чтобы заранее купить нам билеты на поезд в Рим.
Остался ждать их здесь. Попросил официанта принести кофе, лимонад. Заранее расплатился.
То, что сейчас происходит вокруг меня, столь любопытно, что я решил в виде эксперимента последовательно записывать ход событий.
Одинокий молодой негр, одетый, несмотря на жару, в тёплую трикотажную рубашку с «молнией», курит за пустым столиком рядом со мной. Ему явно некуда идти, некого ждать.
Поблизости, за другим столиком, уселись трое, судя по речи, арабских парней и гнилозубый итальянец с золотым крестиком на груди. Взяли штук десять баночек пива. Пьют, что‑то горячо обсуждают.
Тем временем на тротуаре появился старик с большим пластиковым пакетом. Тщательно проверяет железной палочкой с крючком мусорные контейнеры. Подцепил грязный бинт, с сомнением посмотрел на него, бросил обратно. Обходит все телефонные будки. Снимает трубку, с силой вешает. Ждёт непонятно чего. Ведь здесь же звонят с помощью телефонных карточек, а не с помощью монет, уходит дальше по улице.
За это время итальянец и трое арабов переместились вместе со своими баночками за столик к негру. Пытаются разговориться с ним на ломаном английском, угощают пивом, сколько понял, спрашивают, не может ли он помочь достать какие‑то документы, паспорта.
Тот отрицательно мотает головой.
Теперь внимание всей компании переключается на меня, пишущего сейчас эти строки. Исподволь поглядывают.
Кем я кажусь со стороны — тайным агентом полиции, записывающим их разговоры? Туристом с толстым бумажником в кармане ?
Моих спутников пока что не видно.
Негр сбросил кроссовки, содрал носки, берет у компании одну из банок пива, поливает свои грязные, потные ступни, блаженно шевелит пальцами.
Итальянец сначала на своём языке, затем на английском спрашивает, нет ли у меня спичек. Пожав плечами делаю вид, что не понял.
Продолжаю записывать прямо по горячим следам. Очередной несчастный человек, на этот раз в пиджачке, при галстуке, возится сначала у мусорных баков, затем в телефонных будках. Вышел. Поднял у остановки какой‑то билетик. Рассматривает на свет.
— Артур, заждались? — раздаётся издали голос Маши.
Дописываю эти последние строки. Криминальная компания с разочарованием глядит на моих приближающихся друзей.»
…В вагоне второго класса поезда Неаполь–Рим, что по–итальянски звучало совсем сказочно: «Наполи–Рома», было чисто, малолюдно. Артур и Маша сидели в удобных креслах друг против друга у широкого окна, за которым отдалялись прощально машущие Пеппино с Амалией.
Артур представил себе, как они, уставшие за эти два дня, будут возвращаться в Барлетгу, мчать среди виноградников, освещённых закатным солнцем, влетать в темноту многокилометровых тоннелей под Аппени- нами, приостанавливаться у застеклённых будок платных автодорог, чтобы уплатить сбор.
— Билеты хоть куплены за наши деньги? — спросил Артур.
— Конечно, — отозвалась Маша. — Взяла билеты, купила телефонную карту, позвонила в Чеккину. Нас встретит на станции Кампо Леоне сын Джулио и Карлы, к которым нас направил Донато.
— Какая Чеккина? Какое Кампо Леоне? Разве мы едем не в Рим?
— В Рим будем ездить на электричке, если уж вам так хочется его видеть.
— А вам не хочется?
— Мне хочется спать, — откинув голову на спинку кресла, она закрыла глаза.
Досадное ощущение того, что он утратил свободу вольно плыть по жизни, вновь овладело Артуром. Хотя посещение Монте Верджине, монастыря на горе, Помпей, путешествие по старинной дороге вдоль Тирренского моря — все в конце концов оказалось роскошным подарком, он надеялся, что впредь события будут подчинены его воле, как было всегда, даже в самых трудных обстоятельствах. Совершая изо дня в день рискованные рейсы в глазную клинику, он надеялся только на себя. И на Бога.
Теперь же получилось так, что он уже никогда не проснётся в Риме, в отеле, не выйдет рано утром на знаменитые улицы… Будет невесть где ютиться у чужих, незнакомых людей, стеснять их. И все это благодаря ненужной заботе дона Донато, видимо, решившего сэкономить ему деньги.
«Вторых Пеппино и Амалии быть не может. Даже теоретически,» — думал Артур.
Дверь лязгнула. В вагон вошёл худощавый молодой человек, одетый в пёструю маечку с короткими рукавами, потёртые джинсы. Когда он подошёл ближе, стал виден лихорадочный блеск его глаз.
— Синьор! — обратился он сначала к Артуру, а потом и к открывшей глаза Маше. — Синьора!
Она переводила горячечную речь итальянца:
— Я безработный. У меня жена и ребёнок. Не толкайте меня на воровство. Не знаю, что дальше ждёт. Нам нечего есть. Не толкайте на воровство.
Маша вынула из сумочки кошелёк, подала купюру в тысячу лир.
— Грацие, — схватив деньги, он двинулся дальше по проходу.
А навстречу ему уже продвигался баскетбольного роста верзила. В приподнятой руке он держал разноцветные веерочки.
— Синьора! — он протянул их Маше.
Та, отпрянув, отрицательно покачала головой.
— Синьора! — настаивал верзила. В конце концов она приобрела один из веерков, бросила его в сумочку.
— Не сердитесь, — сказала Маша. — Конечно, скрытый вид попрошайничества.
Она была славная, эта плотная молодая женщина с короткой стрижкой чёрных, чуть вьющихся волос.
— Сержусь, — сказал Артур. — Сержусь на то, что вы так молоды. В ваши годы и мечтать не мог мчаться в поезде из Неаполя в Рим… Где, вы говорили, мы сойдём?
— В Кампо Леоне.
— Как это переводится?
— Львиное поле.
В вагон вошёл пожилой усатый контролёр в форме, с чёрной сумкой на боку. Надев очки и пробив компостером протянутые Машей билеты, он объяснил, сколько остановок осталось до Кампо Леоне, узнал от неё, что они из России, впервые едут в сторону Рима, устало опустился на свободное кресло рядом с Артуром и вдруг стал рассказывать о себе, своей жене, своих детях, о том, как боится потерять эту Должность. Приходится не только проверять билеты, но и отвечать за пассажиров и багаж. Мошенники один за другим прочёсывают вагоны, порой прихватывают чужой чемодан или сумку.
Ему явно не хотелось вставать, идти дальше. Но он все‑таки поднялся, напомнил, что до их пункта осталось три, нет, уже две остановки.
…В начале девятого вечера поезд на несколько минут приостановился у маленькой станции Кампо Леоне. Маша с Артуром в одиночестве прошли сперва по платформе, потом сквозь пустынный зальчик вокзала и увидели на пустыре против выхода единственную автомашину, у которой, скрестив на груди руки, стоял в ожидании молодой человек.
— Маттиа, — представился он и открыл багажник своего «фиата», чтобы забросить туда сумки приезжих.
— Так на итальянский манер звучит имя евангельского Матфия, — пояснила Маша, когда они сели в машину и тронулись в путь.
— Так, — подтвердил молодой человек.
Выяснилось, он — студент филологического отделения Римского университета, изучает, в частности, и русский язык, правда, пока говорить на нём не отваживается.
— Вы знакомы с доном Донато? — спросил Артур. Ему хотелось при помощи этого имени создать хоть какую‑то атмосферу тепла и сердечности.
— Но, — суховато ответил Маттиа.
«Прошла зима, настало лето, спасибо Сталину за это», — вспомнилась Артуру поговорочка черноморских жителей, которую они саркастически произносили сквозь зубы, когда летом к ним с севера притаскивались на отдых родственники и знакомые со своими чадами.
Глядя на погружающиеся в сумрак виноградники, уютный городок с фешенебельными домами, где по низу уже горели огни баров и магазинчиков, Артур только теперь в полной мере оценил сердечную простоту дона Донато, Лючии, Пеппино и Амалии.
«Зачем нужно было тащиться сюда, где нет ни моря, ни Рима?» — думал он, когда машина подъехала к одной из больших двухэтажных вилл, высящихся посреди просторных участков, обрамлённых плакучими ивами.
Маттиа ввёл машину в раскрытые ворота ограды и покатил круто вниз, в подземный гараж. Там стояла ещё одна красная малолитражка. По стенам тянулись полки с бутылями, банками, всяческими припасами. В углу громоздился штабель пластиковых контейнеров, наполненных помидорами.
С тяжёлым сердцем вошли Артур вслед за Маттиа и Машей в освещённую электричеством огромную подземную комнату с длинным столом посреди. Чуть в стороне на ковре играли дети.
— Чао! — из глубины помещения, где виднелась кухонная плита и моечная машина, появилась хрупкая, белозубо улыбающаяся женщина с большими карими глазами. Улыбка была задорной, девичьей у этой Карлы, как оказалось, матери пятерых детей, тут же представленных гостям. Маттиа был старшим.
А ещё по крутой лесенке без перил с первого этажа шустро спускалась, выкрикивая что‑то приветственное согнутая старушка — мать Карлы.
Предводительствуемые Маттиа, Артур и Маша взошли по этой лестнице наверх, где им были указаны их комнаты.
Оставшись один, Артур опустился на стул у письменного столика. Оглядел полки с учебниками и другими книгами, кушетку. По всему было видно — это комната Маттиа.
За раскрытым окном в свете фонаря виднелась устланная керамической плиткой неогороженная веранда под навесом. Посреди неё стоял овальный стол, окружённый плетёными стульями.
Артур хотел было вынуть записную книжку, но, подчиняясь накопившейся за этот длинный день усталости, скинул туфли, растянулся поверх аккуратно застеленного одеяла.
Он лежал, закинув руки за голову.
«Господи, спасибо Тебе за все,» — прошептали его губы. И в ту же секунду в закрытых глазах сквозь голубой туман проступили лучистые глаза, затем все лицо, скорбное, исполненное муки…
Артур замер.
Четвёртый раз в жизни, как всегда неожиданно, возникло оно, застало врасплох.
Взгляд не вопрошал, как раньше. Он был устремлён в самую душу. Необычайный жар охватил Артура.
Но вот глаза, чуть рыжеватые усы, все лицо стали уходить в голубоватый туман.
Ощущение Присутствия было таким сильным, что Артур вскочил с кушетки в наивной надежде застать.
Комната была пуста. В окно из темноты сада, как голос вечности, доносилось стрекотание цикады.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Он встал, отодвинул раскладной парусиновый стульчик подальше от разгорающегося костра. Поднырнул в душноватое пространство между двумя деревьями, усыпанными плодами — инжиром и грушей, за которыми, ближе к ограде, поверх старых досок валялись полуразбитые деревянные ящики.
В два приёма перетащил все это добро к тому месту на травянистом бугорке, где теперь находился стульчик.
Пока что под двумя металлическими, поставленными на высокие стойки из кирпича бочками, было достаточно с треском горящих веток, и Артур не спешил протянуть руку к лежащему в траве тесаку.
Можно было спокойно сидеть, издали глядя на огонь, ощущать лицом исходящее от него тепло и одновременно чувствовать спиной жар солнца.
Это тепло и этот жар не были схожи между собой. Определить, в чём они разнятся могла, наверное, белая бабочка, вольно мелькающая в восходящих потоках нагретого воздуха.
Но уж совсем они не были похожи на внутренний жар, испытанный Артуром несколько дней назад вечером в комнате Маттиа, на этой вилле семейств Сирони.
Сейчас он думал о том, что после гибели отца Александра ни с кем не может поделиться происшедшим, вопросить, почему именно здесь, в Италии, это произошло, какой вывод он должен сделать. По опыту предыдущих трёх Посещений он знал, насколько это серьёзно, как меняется после этого течение жизни.
Увиденное в закрытых глазах было РЕАЛЬНЕЕ вот этого костра, этой бабочки.
«Не с кем поделиться, — думал Артур. — Маша скажет — приснилось, Донато может сказать — мистика. Дома, в Москве, кто‑нибудь испуганно перекрестится, процитирует насчёт сатаны, принимающего облик Ангела Света… Нет, даже Маше не рассказать. Не поверит. Обвинит в фантазёрстве, попытке самоутвердиться. Собственно, почему «даже Маше»? Кто она мне такая? Девчонка, попутчица в путешествии…»
Когда грянуло первое появление в закрытых глазах этого Лица, Артур немедленно поехал в церковь, исповедался и, к своему изумлению, услышал от тогда ещё живого духовного отца буквально следующее: «Мне приходится исповедовать сотни, тысячи людей. Такое бывает. Он ведь обещал, что не оставит нас. Он приходит к тем, кого нужно поддержать в вере, в каком‑то очень важном духовном деле. А вы, вместо того, чтоб день и ночь работать над своей книгой, уже сейчас размышляете о том, напечатают её или нет, склонны впадать в отчаяние от действительно нелёгкой вашей жизни, не хотите нести свой крест.»
«Что Он мне хочет сказать? — продолжал думать Артур. — Бесцельно шляюсь по Италии. Но ведь совершенно внятно: для чего‑то прислал Машу, Донато, Лючию, Пеппино с Амалией… Теперь Карлу с Джулио, всю эту славную семью…»
Подняв из травы тесак, он стал разрубать ящики и доски, подкидывать в костёр.
Сегодня, в субботу, был первый день, когда они с Машей решили дать себе роздых и не поехали в Рим, куда с утра пораньше ежедневно ездили на электричке, как на работу.
Тем более, что для семейства Сирони, наступил день заготовки помароллы — томатного соуса, без которого, кажется, не обходится приготовление ни одного блюда, будь оно мясным, рыбным, овощным или же просто пастой — макаронами.
Томатный соус во многих разновидностях можно в любое время года запросто и недорого купить в любом магазинчике, но итальянцы, как оказалось, обожают делать его сами.
Хозяин виллы Джулио, обычно до вечера пропадающий на работе, где он заведовал сверхсовременной механизированной прачечной, сегодня дирижировал работой своей большой семьи.
…После завтрака Артур сидел под утренним солнцем на веранде, проглядывал обнаруженное среди книг Маттиа зеркальное издание стихов Маяковского — на русском и итальянском языке. Он словно брата родного встретил здесь, под Римом.
Несоединимыми были эти миры: мир Маяковского, мир Джулио, его семьи и мир Артура Крамера. Казалось, объединяет их только солнце да щебет воробьёв, порхающих под кроной растущей неподалёку пальмы, да отдалённые вопли радостно возбуждённых детей.
«Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека» — прочёл Артур. Отложив лупу, он потёр уставшие от напряжения глаза и пошёл в обход дома по устланной плитками дорожке, спустился к гаражу, откуда были изгнаны автомашины, и теперь стоял длинный стол, в одном торце которого возвышался над грохочущей электросоковыжималкой Джулио. Из неё в белый пластиковый таз извергался густой томатный сок. У противоположного торца Маттиа с помощью специальной машинки, нажимая на длинную тугую рукоять, насаживал на уже заполненные готовым соусом бутылочки красные жестяные крышечки. А по обеим сторонам стола младшие в длинных белых передниках разливали по бутылочкам с помощью черпаков и воронок подсоленный помидорный сок. При этом нужно было сначала бросить на дно каждой листик базилика.
Тут же сновала Маша. На ней тоже был белый передник. Она подтаскивала пластиковые контейнеры к крану, тщательно мыла помидоры, потом выносила их из гаража на жаркое солнце для просушки и лишь после этого они поступали на стол, где их разрезали на части старшие дети перед тем, как этот полуфабрикат попадал к Джулио в соковыжималку.
Координировала все операции Карла. Но и сгорбленная бабушка Тереза тоже шустро бегала вокруг, подавала все новые мисочки с горками листиков базилика. И хриплым голосом давала детям, а также самому Джулио какие‑то важные указания.
Сначала Артур робко попросил разрешения запихивать базилик в бутылочки, затем взял нож и стал разрезать помидоры, а когда к гаражу на своём «фиате» подъехала юная Кристина — невеста Маттиа — он занял место у машинки, нахлобучивающей крышки.
— Правильно! — одобрила Маша, проходя мимо с тяжёлым контейнером вымытых помидор. — Отрабатывайте обед.
К двум часам дня Маттиа и Джулио отвезли на тележках сотни готовых бутылочек в сад, заполнили ими две железные бочки, залили водой из шланга и развели костёр, чтобы соус пастеризовался. Артур попросил, чтобы ему доверили следить за огнём.
И вот теперь, когда костёр разгорелся, как следует, он снова отодвинулся со своим стульчиком от полыхающих досок, вынул из кармана джинсов записную книжку и авторучку.
Издали, из нижней столовой доносились голоса Карлы, Маши и Кристины, готовивших обед, с веранды слышались смех и крики детей.
«Я умер, — подумал Артур. — Я в раю. Меня уже нет. Нужно быть таким идиотом, как я, чтобы вечно брюзжать на Машу, осуждать других людей. Мне больше ничего не светит.»
Артур то писал, прислушиваясь, не закипает ли вода в бочках, то подолгу смотрел на порой пропадающее в солнечных лучах языкатое пламя костра, вспоминал, как на днях в церкви Джулио читал собравшимся отрывок из Ветхого Завета, из Книги Царств, а Маша переводила: «После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь!»
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«27 августа.
Сегодня поймал себя на чувстве жгучей зависти.
Когда перед отъездом домой вернёмся в Барлетту, нужно будет расспросить Донато, поговорить с Пеппино, с Лючией, со всеми, кто возил меня на пляж, снова побывать на их собраниях в церкви.
Кажется, это то, о чём мечтал отец Александр. С другой стороны, возможно, тороплюсь делать выводы. Сколько раз жизнь лупила меня за тягу к распрекрасным иллюзиям. Потом очень больно.
Просто везёт на встречи с хорошими людьми. Могло и не повезти.
Посмотрим.
Все‑таки чудесно, что нас с Машей осенило хоть на день перевести дыхание, удержаться от соблазна снова таскаться среди толп ротозеев по Риму.
Даже Маша устала. Не говоря уже обо мне, о моей ноге.
Каждое утро вставали в семь. Ослепительно улыбающаяся Карла угощала на веранде кофе с бисквитами, затем Маттиа отвозил на безлюдную станцию Чеккины. Чудесно было ждать, пока диктор объявит, что к «бинарио дуе» подходит поезд на Рим. Мы переходили на платформу номер два, садились в электричку, и минут через двадцать за её окнами, как призраки, возникали тянущиеся к Риму античные акведуки. Почему‑то волнующее зрелище.
Потом центральный вокзал Термини. Идя по платформе, видели спящего на мраморной скамье огромного бомжа. Рядом такая же бродяжка. Ковыряла у него в носу! Идиллия.
Маттиа подарил план Рима. Маша углядела, что в двух остановках метро от вокзала — Колизей. Здесь его называют Колоссео. Отсюда — слово колоссальный.
Это первое, с чем мы столкнулись в Риме. Впечатление по силе не меньшее, чем когда я стоял перед египетскими пирамидами в Гизе.
Снаружи Колизей космически величав. Чем‑то похож на стихи Маяковского. Внутри каменный хаос перерытой археологами арены. Сохранились мрачные тоннели, по которым на неё выпускали то хищников, то гладиаторов.
Потом двинулся за нетерпеливой Машей к Форуму. Ей исторические памятники, музеи неинтересны. Я тоже теперь не ходок по музеям и картинным галереям, с моим‑то зрением. А Машу интересуют только духовные проблемы. И инжир, которым она сейчас лакомится, стоя на стремянке.
Дошли пешком до Форума, благо недалеко.
…Мраморные триумфальные арки, развалины дворцов, храмов, колонн, довольно тесно расположенные внизу, ниже уровня современной улицы. Странно, что не у Колизея, а здесь послышались мне крики мучимых и убиваемых первохристиан, привиделась ползущая пелена едкого дыма. Может быть, потому, что на Форуме сохранилась и двухэтажная тюрьма, где перед смертью находился апостол Пётр. Он тоже был распят. Вниз головой.»
Артур откинулся затёкшей спиной на спинку стульчика; взглянул на Машу, на огонь, на бочки. Вода в них забурлила, из‑под крышек валил пар.
Он подбросил в костёр несколько досок.
Маша все в том же белом переднике продолжала стоять на стремянке, собирала в миску плоды инжира.
— Где Джулио? — спросил Артур. — Сколько все это должно кипеть?
— Только что приходил, — ответила Маша. — Сказал, через сорок минут — баста. И будем обедать. А вы его не видели. Ни его, ни меня. Что вы там пишете?
В сквозной тени падающей от листвы и ветвей на лицо, голые по локоть руки, на белый передник, она была воплощением крепкого здоровья, молодости…
Артур ничего не ответил. Снова склонился над своими записями.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«…После осмотра Форума я что‑то сильно устал, разнылась нога, и Маша, увидев на улице скамью в окружении тенистых деревьев оставила меня на ней, а сама отправилась к ближайшему киоску. Мы решили отдохнуть и перекусить. Тем более, нам составила компанию укромно стоящая под теми же деревьями статуя самого Гая Юлия Цезаря.
Он, конечно, не польстился на принесённые Машей апельсиновый сок, груши и персики. Невидящим взором смотрел вдаль на проезжающие по широкой улице автобусы и автомобили.
Этой улице мы потом пошли к означенной на карте площади Венеции. Навстречу всё время попадались чернокожие парни, назойливо предлагающие прохожим купить зонтики.
Потемнело. Я взглянул на небо. Оно стало жемчужно–серым. Закрапал тёплый чудесный дождик.
Хорошо было, укрывшись под узким тентом кафе, сидеть за покрытым красной скатёркой столиком на углу площади Венеции, пить «капуччино». Даже Маша залюбовалась площадью, мокрой, сверкающей. Правда, дальний конец этого пространства замыкало редкостное по наглой помпезности длиннейшее здание. Официант рассказал, что ныне это Музей оружия. Мемориал строился во времена короля Виктора–Эммануила и Муссолини. Римляне называют его «пишущая машинка».
Гениально точно.
Дождь усилился, и нам пришлось‑таки приобрести зонтик.
Когда идёшь под зонтиком вдвоём, это сближает. Как поздно все это пришло — Рим, Маша…
Свернули с площади направо, на какую‑то удивительно элегантную улицу, довольно узкую. Каково же было моё удивление, когда Маша различила название — Корсо! Знаменитая главная улица Рима. Здесь ходил Гоголь. Здесь увидел он зачуханного чудака, носившего такие панталоны, что казалось, вместо штанов он просунул ноги в рукава куртки.
Женская натура не выдержала. Маша заходила во все магазины по обе стороны улицы, а я ждал её снаружи под зонтиком.
Рим безлюден, время отпусков. Пройдут увешанные фотоаппаратами туристы, и — никого.
Бедная девочка, выходя наружу, говорила, что ей ничего не подходит, ничего не нравится. На самом деле, экономит наши деньги. Тем более, что она же затащила меня в «Оптику», и там мы купили замечательную семикратную лупу. За сумасшедшую сумму — 70 тысяч лир. К сожалению, небольшого диаметра, охватывает лишь несколько слов в строке.
Чем выше кратность, способность увеличивать, тем меньше диаметр. Таков закон оптики, объяснил Маше продавец в белоснежном халате…
Вода в бочках тихо клокочет. Маша давно ушла в дом. Только что подходил Джулио, знаками показал, что больше подбрасывать пищу костру не нужно, что он успел вздремнуть.
Однако, возвращаюсь к Риму. Почти все главные достопримечательности находятся на одной линии: Колизей — Форум — площадь Венеции — Пьяцца дель Попполо. В этих же краях знаменитая площадь Испании, Пантеон… А также масса старинных соборов.
Позавчера, доехав после электрички до станции метро «Октавиано», посетили Собор святого Петра. Попали как раз к мессе в одном из приделов. Помолились, получили из рук священника причастие. Здесь тоже торжественное великолепие мрамора и позолоты.
Все дни то солнце, то тихие, тёплые дождики. Зонт неисправимо сломался вчера, на третий день наших поездок в вечный город.
Зовут к обеду. Так странно звучит моё имя здесь, в Италии — Артуро, Артуро…
Налетел ветерок, невнятно прошелестела листва деревьев. И опять вспомнилось то место из Книги Царств, что прочитал Джулио на собрании общины»
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Было ещё совсем темно, когда ударивший из раскрытого окна сноп света заставил Артура вскочить с постели.
Свет разом погас.
Он перевёл дыхание, заставил себя подойти к раскрытому окну. За ним никого не было. В отдалении слышалась предрассветная перекличка петухов.
На всякий случай он закрыл окно, запер его на шпингалет и подумал о том, что зря не послушался бабушку Терезу.
Каждый вечер согнутая старушка бдительно обходила дом. Её лицо всегда неожиданно являлось из темноты, озарённое комнатным светом. Проверяла, закрыты ли на ночь окна первого этажа.
Всякий раз Артур вздрагивал от её беззвучного появления и всякий раз пытался хоть как‑то вступить в контакт. Однажды перегнулся через подоконник, погладил по плечику. Затрясла головой, закивала, знаками указывая, что окно нужно закрыть, прохрипела — «Буона нотге». «Буона нотге, Тереза,» — отозвался Артур.
Но теперь, когда часы показывали начало шестого утра, это не могла быть бабушка. Фонарь безусловно держала мужская рука, скорее всего, грабителя.
Артур понял, что уже не уснёт. Едва успел он одеться, как услышал робкий стук в дверь. Она была не заперта.
— Войдите!
Дверь открылась, и перед ним предстал Маттиа, одетый в ковбойку и поношенные джинсы, заправленные в резиновые сапоги. Рядом смущённо улыбался точно так же экипированный паренёк с фонариком в руке.
— Извините, — сказал Маттиа, — он думал, я спать тут, у себя, в своей комната. Приехал будить. Едем собирать э–э… виноград! Виноград, по- русски правильно?
Артур улыбнулся, кивнул и увидел в коридоре вышедшую на звуки голосов Карлу, а потом и сонную Машу.
Во время необычно раннего завтрака на веранде выяснилось, что уехавшие на мотоциклах Маттиа и его товарищ собирают виноград, чтобы немного заработать в каникулы. Карла рассказала и о том, что Маттиа с Кристиной обожают друг друга с самого детства, но поженятся лишь после того, как Маттиа закончит университет, встанет на ноги, сможет жить отдельно от родителей.
«Разве тут мало места?», — подумал Артур, но ни о чём не спросил. Маша хотела как можно скорей освободить Карлу. Здесь и без гостей было всегда полно хлопот.
Подвозя Машу и Артура на станцию, Карла напомнила, что в час дня их ждёт к обеду отец Марио, объяснила, как найти его церковь в районе Остии.
Накануне вечером этот молодой римский священник навестил Джулио и Карлу. Они говорили о скором прибытии какой‑то группы перуанцев, которую должны будут разместить по семьям в приходе Чеккины.
Артур с удивлением отметил, что начал кое‑что понимать по–итальянски.
Улыбчивый, отнюдь не похожий на надутого попа священник, с первой же минуты вызывал доверие.
Гости из России, видимо, тоже были интересны падре Марио. Когда тот узнал, что утром они снова поедут в Рим, он пригласил их к себе.
Сидя в электричке и поглядывая на тянущиеся через равнину призрачные акведуки, Артур решил не упустить случай, задать этому несомненно хорошо образованному симпатичному человеку свои вопросы. А их накопилось немало.
Они прибыли на вокзал Термини раньше, чем обычно. Прекрасный римский рассвет золотил вершины зданий и пышно разросшихся деревьев.
— Машенька, давайте для начала погуляем? Просто так. Пойдём куда глаза глядят по солнечным сторонам улиц. А уж потом поедем, как наметили, в Сикстинскую капеллу, к Марио, на виллу Боргезе.
— Если вы не устанете, с удовольствием, — сказала она и добавила. — Я бы хотела ещё зайти в здешнюю синагогу.
— Почему бы и нет, — миролюбиво согласился Артур.
Он уже начал уставать от посещений храмов, и тем более никогда не стремился в синагогу. Артур считал себя русским, хотя был чистокровным евреем. При этом никогда не брал псевдонима, подсознательно, шестым чувством почему‑то знал, что нести крест еврейства, особенно в России — огромная ответственность.
Это был их последний день в Риме.
Шагать по жёлтым от солнца тротуарным плитам мимо посольства Бразилии, пересекать пустынные в этот час перекрёстки, снова идти по незнакомым доселе улицам было чистым наслаждением, ни с чем несравнимым.
Один из тенистых боковых проулков представлял собой рыночек зелени, овощей. На лотках громоздились горы свежевымытых помидоров, моркови, зелёного горошка, укропа, баклажан.
Не успели Артур и Маша углубиться в этот пахучий лабиринт, как раздался призыв:
— Буба!
Артур в недоумении посмотрел направо, увидел восседающую за лотком с аккуратно уложенными пирамидами мокрых огурчиков и томатов древнюю старуху. Она улыбалась ему, как давно знакомому человеку, обнажив единственный оставшийся зуб.
— Буба! Буба! — повторила она, отнюдь не призывая купить огурцы или помидоры, а просто радуясь встрече.
— В чём дело? — спросил Артур у Маши.
Та попыталась объясниться с торговкой, но ничего не поняла. Старуха говорила на диалекте.
— Арриведерчи! — попрощался Артур.
Та все так же ласково улыбалась.
Загадка осталась неразгаданной.
— Теперь тоже буду называть вас Бубой, — смеясь сказала Маша, когда они спустились в метро и поехали на станцию «Октавиано».
Вдруг дохнуло детством, освобождением от всех страхов и забот, возраста. Артур подумал и поднёс к Машиному носу кулак. Увидев это, итальянские матросы, стоящие рядом с ними в переполненном вагоне, несколько напряглись.
Военных сегодня было почему‑то особенно много.
По длиннейшей, огибающей стены Ватикана очереди ко входу в музеи Маша сообразила — нынче воскресенье.
Впускали бесплатно.
По чудесной винтовой лестнице Артур и Маша вместе с разноязыким потоком посетителей взошли в сокровищницу. Поток нёс их из зала в зал из галереи в галерею мимо давно известных по репродукциям статуй, картин, фресок.
Артур быстро устал и уже жалел о том, что нарушил собственное решение — навсегда покончить с посещением музеев. Болезнь, о которой он начал подзабывать за последние две недели, подключённый к жизни других людей, снова напомнила о себе.
Особенную горечь испытал он в зале, расписанном Микельанджело, среди фресок «Страшного суда». Где‑то на потолке, в пестроте красок и позолоты был изображён Бог, протягивающий руку человеку.
Все приостанавливались, задрав головы.
— Вон там, в центре то, что вы так любите, — сказала Маша. — Остановитесь. Нас никто не гонит. Сможете рассмотреть, не волнуйтесь.
Но Артур лишь прибавил шагу. А длинным залам все конца не было. Потом, вырвавшись на солнечный свет, он сказал:
— Слишком много искусства. Помираю, так хочу кофе, хочу просто посидеть на вольном воздухе среди обыкновенной жизни.
И они при первой возможности уселись за одним из уличных столиков кафе, на бойком месте, невдалеке от собора Святого Петра.
На самом деле Артур, как всегда, хотел дать отдых ноге, а вовсе не жаждал кофе, который вынужден был заказать.
Время от времени из глубины кафе выбегал официант и, размахивая цветастым меню, зазывал прохожих:
— Лук! Лук! Лазанье! Капуччино! Лук! Лук! Пицца, сэндвичи! Лук! Лук!
— Лук! Лук! — сказал Артур и подмигнул ему.
Официант улыбнулся, развёл руками, мол, такова жизнь, и одной этой улыбки, этого жеста хватило, чтобы Артур вернулся в прежнее состояние спокойной уверенности в себе, дарованное ему здесь, в Италии.
Пора было ехать на обед к падре Марио.
По дороге к метро Маша увидела в витрине косую надпись — «распродажа». Она вошла в этот большой магазин и пропала там надолго.
Артур расхаживал у входа, уже подумывал о том, чтобы пойти искать её, но спохватился. Он сообразил, что может сам потеряться среди покупателей, не углядеть Машу, разминуться…
Осознание собственной беспомощности пронзило.
— Заждались? — раздался весёлый голос Маши. Она возникла рядом, держа большую, доверху набитую сумку с яркой эмблемой магазина. — Купила двенадцать трикотажных брючек. Всего по тысяче лир! Не сердитесь?
— Зачем вам столько?
— Не мне. Подарки сёстрам из моей общины. Правда, не сердитесь?
— Правда. Опаздываем к падре Марио.
…В начале второго, покружив среди сонных кварталов воскресной Ос- тии, они вышли к находящемуся на возвышении храму. Мощное, как крепость каменное здание оказалось заперто.
Пока Маща обегала его, Артур присел у входа на верхней ступени мраморной лестницы, увидел безлюдную улицу, ребёнка, играющего с собакой на пустой волейбольной площадке, отдалённые силуэты пиний.
Эта интимная, непоказная картинка жизни города вливалась в него солнечной музыкой. Он сам не понимал почему, пока не расслышал, что откуда‑то из раскрытого окна доносится музыка Моцарта.
Он вздрогнул, когда Маша позвала его к обнаруженной ею неприметной двери в боковой части здания.
Отец Марио уже стоял рядом с Машей, держа в руке сумку с её покупками, смотрел на то, как, прихрамывая, подходит Артур.
Они поднялись по крутой, узкой лестнице в квартиру священника.
В столовой, залитой светом, продуваемой сквознячком из раскрытого в голубое небо окна, был уже сервирован стол. В углу против камина стоял рояль с откинутой крышкой.
Пожилая женщина хлопотала вокруг стола, звякала бокалами, раскладывала на белой скатерти возле каждого прибора красные салфетки.
Маша попросила извинения за опоздание, но оказалось, что Марио ждёт ещё одного гостя: испанского священника–миссионера, который после проведённого в Мадриде отпуска возвращается через Рим на Филиппины, на какой‑то маленький остров, где он уже много лет проповедует туземцам Христа, создаёт общины, такие же, как и у дона Донато.
Чем‑то приключенческим, отдающим девятнадцатым веком дохнуло на Артура. Он представил себе крытую пальмовыми листьями бамбуковую хижину, океан, дикарей в пирогах… И поймал себя на чувстве ревности к чужой, наверняка счастливой жизни.
Но едва он пришёл, этот испанский миссионер, Артур сразу понял, что заблуждается.
Пожилой худенький человек с продублённым солнцем морщинистым лицом поставил на стол бутылку какого‑то особенного, привезённого из Мадрида вина, представился. Оказалось, его зовут падре Тринидад, что означает — Троица.
Марио усадил его рядом с собой против Артура и Маши, и после короткой молитвы они приступили к обеду.
Внимание Артура было устремлено на падре Тринидада и на падре Марио. Он понимал, что судьба предоставила уникальную встречу.
Ему показалось смешным и наивным восторженное изумление падре Тринидада, когда тот узнал, что перед ним находятся два человека из России, где он никогда и рядом не был.
В отличие от сравнительно молодого, всё время улыбающегося падре Марио, падре Тринидад имел самые смутные, несколько устаревшие понятия о современной России. Он робко расспрашивал о Горбачеве, перестройке, о Пьяцца Росса — Красной площади…
Артур вырвал листок из записной книжки, написал крупными латинскими буквами свой адрес и телефон, подал священнику, приглашая приехать, увидеть все собственными глазами.
Падре Тринидад бережно сложил листок, спрятал в бумажник и с сомнением покачал головой — в ближайшие годы ни времени, ни денег на такое путешествие не предвидится. На острове очень много работы.
Оказалось, он и ещё два миссионера живут действительно в крытой пальмовым листом бамбуковой хижине на берегу Индийского океана. Местные жители выходят на рыбную ловлю в пирогах, правда, с американскими или японскими лодочными моторами.
Ветерок развевал белоснежные шторы по сторонам распахнутого окна, шевелил листами нот на пюпитре рояля. Казалось, свежее дыхание океана врывалось сюда, в эту римскую комнату.
Падре Тринидад рассказал, что спит в гамаке, что на остров часто налетают тайфуны, а когда стихают ветра, спасенья нет от жары и «москитос».
— А зачем вам все это нужно? — спросил Артур. — Жили бы на своей родине, в Мадриде.
Падре Тринидад в замешательстве потребил короткую седую бородку.
— Это мой личный выбор. Поехал туда, куда позвал Христос.
— Машенька, пожалуйста, переводите сейчас возможно более точно, — попросил Артур свою спутницу, которая и так, вынужденная постоянно переводить, не могла толком пообедать.
— Раньше я не думал быть священником, — старательно объяснял падре Тринидад. — Учился в консерватории по классу скрипки, участвовал в конкурсах, делал успехи. Приходилось всё время стараться быть первым… Однажды друг, молодой художник, привёл меня в христианскую общину. Бог действовал через этого художника, открывшего мне путь к подлинному христианству.
Там, в общине, я постепенно понял, что несвободен, живу в состоянии постоянного стресса, стремлении быть лучше других. Когда Бог освободил меня от всего этого, в душу пришёл мир. Постепенно созрело решение полностью посвятить жизнь служению Христу, стать священником. Приехал в Рим учиться в семинарии. Мне было уже под сорок. Попал на один курс с Марио, там мы познакомились. Там было много молодых людей из разных стран — итальянцы, поляки, даже японец. Вы спрашиваете, зачем я поехал туда, на далёкий филиппинский остров? Чтобы поделиться опытом освобождения от рабства, на которое обрекает мир человека. Хотя мне трудно, я там счастлив. Иногда в свободное время, когда остаюсь один, играю на скрипке.
— Я был у него в гостях, — сказал падре Марио, — не думайте, что там идиллия. Густонаселённый остров, теперь — туристическая Мекка. Приезжают люди из Европы со своими долларами, растлевают местное население. Появились, как в Таиланде, во всём мире, детская проституция… Общины живут не в безвоздушном пространстве.
Падре Тринидад взглянул на часы и поднялся.
— Извините. Должен сделать ещё несколько визитов.
— Христианству два тысячелетия, а зла не становится меньше, — сказал Артур, когда все они вышли в переднюю проводить священника.
Падре Тринидад дважды расцеловался с каждым, внятно произнёс:
— Бог — повар, который готовит на медленном огне.
Вскоре ушли и Артур с Машей. Артур сожалел, что не успел ни задать, ни даже сформулировать все свои вопросы, особенно касающиеся общинной жизни. И ещё он жалел, что не находится с этим человеком в одном городе, хотя бы в одной стране.
— Больше никогда его не увидим, — сказал он Маше, когда они ехали в метро. — Куда мы едем?
— Ещё нет четырёх. Я хотела бы хоть на десять минут зайти в синагогу.
— Прикоснуться к истокам?
— Да. К тому, что лежит в самой основе и православия, и католичества, вообще всего.
Пока они ехали после метро на автобусе, искали синагогу, Маша все говорила о Завете, заключённом Богом с древним израильским народом, о традиции постоянного изучения Торы — Пятикнижия Моисея.
Снисходительно улыбаясь, Атрур слушал её, представлял себе заросших пейсами старых жилистых евреев, всю жизнь изучающих в синагогах эту самую Тору. Сам он плохо знал Ветхий Завет и всерьёз считал, что с него достаточно Евангелия, достаточно помнить Христа, подражать Ему, принёсшему миру не учение, а Самого Себя.
…На пустынной улице, тянущейся вдоль заросшей вековыми платанами набережной Тибра, за сквозной оградой открылось величественное здание синагоги.
Ворота были заперты. Маша подбежала к висящей на них табличке и перевела Артуру, что там написано:
«Ввиду известных печальных событий, вход в синагогу для посетителей закрыт, кроме часов богослужебных. Приносим вам свои извинения.»
Невдалеке от ворот, скучая, прогуливались по тротуару три красавца- карабинера со свесившимися с плеч автоматами.
— Подойдите к ним, узнайте в чём дело. А я пока гляну на Тибр, — Артур пересёк мостовую и оказался у замшелого каменного парапета.
Речка тихо жужжала под мощными красно–белыми арочными мостами. На отмелях привольно росли кусты, какие‑то деревца.
Он подтянулся, оседлал парапет и увидел — дальше, вверх по течению Тибра возвышаются островки со старинными причудливыми домами.
И хотя где‑то над головой мерно рокотал вертолёт, Артура коснулось ощущение подлинной вечности этого города…
— Ну что у вас за манера вечно всюду рисковать? Сейчас же вниз, прошу вас!
Словно впервые увидел он Машу. Крепкую, черноглазую, черноволосую. Неожиданно она показалась ему требовательным олицетворением синагоги, древней Церкви, заботливым, любящим.
Артур спрыгнул на тротуар. Чтобы скрыть замешательство, быстро спросил:
— Что сказали карабинеры?
—Давайте отряхнём ваши брюки, — и она, поворачивая, как мальчишку, действительно стала отряхивать его джинсы. — Оказывается, несколько лет назад в синагоге взорвали бомбу, были убитые, много раненых… С тех пор круглосуточно охраняют.
— Сколько понимаю, у нас есть ещё часа четыре на прощание с Римом.
— Мне теперь всё равно — терпеть не могу быть туристкой.
— Ну‑ка, где наша карта? Гляньте, можем мы доехать отсюда до виллы Боргезе?
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«30 августа. Глухая ночь.
Невдалеке от дома Джулио и Карлы, где я нахожусь, лает собака. После вчерашнего приключения, когда я глупо решил выказать себя удальцом, до сих пор ноет нога.
Но проснулся не от боли.
Сижу сейчас за письменным столом Маттиа, под укреплённой на кронштейне лампой, пытаюсь с помощью этих записей понять, отчего бьёт изнутри тревога. Безотчётно. Будто что‑то назревает в атмосфере. Во мне? Или все проще — некоторые животные предчувствуют начинающееся землетрясение, вулканическую активность. Кто его знает, здесь, в Италии, такое случается. Достаточно вспомнить Помпеи.
«Ночью все страхи страшнее кажутся», — успокаивала меня когда- то одна старушка в Вологодской области.
Как давно это было! Как далеко отсюда.
Хватить бы крепкого чая. Но в доме все сладко спят. Где‑то на втором этаже — Маша.
В высшей степени порядочный человек, она, надеюсь, никогда, ни при каких обстоятельствах не увидит этих моих записей. Хотя… Как всякую женщину, её конечно интригует, что это временами я пишу?
Толстой прятал от жены свой дневник в голенище сапога. Или в валенок. Зачем он его вёл? Зачем вёл дневник Христофор Колумб? Зачем я все это пишу?
Лютое одиночество.
Глухо. Тревожно. Даже собака смолкла.
А вчера мне было так спокойно на вилле Боргезе — почти безлюдном роскошном парке со старинными статуями, вычурными дворцами–музеями, к счастью уже закрытыми. Можно было просто идти под вековыми, невероятной красоты платанами и пиниями, пронизанными лучами клонящегося к западу солнца, слышать окрест неумолчное стрекотание цикад. Просто отдохнуть на тёплой мраморной скамье, глядя на то, как временами вдали тихо проезжают по дорожке туристы на взятых в прокат сверкающих велосипедах. Веял чудесный тёплый ветерок, какой бывает, наверное, только на вилле Боргезе.
Маша склонила голову к моему плечу, спросила — «Можно я немного посплю?»
Она, конечно, устала. Всё время переводит для меня, следит за мной, ни на миг не выпускает из поля зрения.
«Так тебе неудобно,» — сказал я, слегка отодвинулся, водрузил вместо подушки пакет с её купленными для общинных подруг брючками себе на колени. Она положила на него голову, уютно подогнула ноги и уснула.
Или не уснула.
Не знаю. Я окаменел. Боялся потревожить её. Много чего боялся.
Минут через двадцать поднялась, взглянула на часы.
Молча шли сквозь притихший парк к какому‑то другому, пустынному выходу, где не оказалось ни метро, ни автобусной остановки.
Пока она подбегала к единственной приостановившейся у тротуара автомашине, откуда выходила полная женщина в бурнусе с разряженной маленькой девочкой, я особенно остро почувствовал себя виноватым. За то, что трачу на себя много денег, за то, что старше её.
Потом ехали в этой машине на вокзал. Я сидел рядом с водителем — совсем старым, худым, с золотой цепочкой на смуглой шее. Как оказалось, родом из Туниса. Мусульманин.
Знает русское слово — «работать». Категорически не взял с нас ни лиры, провёз через пол–Рима. На прощанье неожиданно сказал — «Бог существует для всех.»
Маша оставила меня за столиком летнего кафе, расположенного на площади против вокзала, побежала узнать расписание пригородных поездов до Чеккины и заодно позвонить туда, чтобы нас, как обычно, кто‑нибудь встретил.
Против меня за тесно сдвинутыми столиками веселилась большая компания: молодые итальянские солдаты с одной стороны, с другой — сколько понял, туристки из Соединённых Штатов, скорее всего, студентки.
В отдалении кружили автобусы, автомобили. Прощально кружил Рим. И я почему‑то стал молиться про себя, чтоб Маша, возвращаясь ко мне, не попала под колеса.
Потом глядел на эту красивую хохочущую молодёжь, потягивал горьковатый джин, думал о том, что идиллическое пребывание на вилле Боргезе внесло ненужную сложность в наши до сих пор простые отношения.
Сейчас мне это особенно ясно.
Она пришла и сообщила, что электричка — только через сорок минут. Что Карла предупредила — вечером нас приглашают на собрание общин, где будут представлять прибывших из Перу братьев и сестёр.
Я с равнодушием воспринял это сообщение. Что мне перуанцы, раскатывающие неизвестно на какие деньги по свету? Забыл, что я и сам в данный момент странствую по Италии. Что Бог предлагает очень важные встречи.
Я был целиком захвачен созерцанием солдат и осторожно кокетничающих девушек. Солдаты молоды и красивы, девушки в своих туристских маечках несколько мелкотравчаты, но тоже ничего себе.
Мы с Машей едва сдерживались от смеха: когда каждый из этих солдат стал клясться, что раньше у него не было любовных историй, а если и была, то в далёком прошлом. «Лаура — экс,» — утверждал один, «Франческа — экс,» — заверял другой.
Девушки веселились. Хохотали, впрочем, и сами солдаты.
Маше с трудом удалось оторвать меня от этого зрелища. До отправления электрички оставалось двенадцать минут.
Кто его знает, зачем я это сделал? Когда на вокзале выяснилось, что наш поезд стоит в дальнем конце длинной, с километр, платформы, я побежал. Словно можно убежать от самого себя, своих болезней, возраста.
Конца не было проклятой платформе.
Мы все‑таки успели. Едва вскочили в последний вагон, электричка тронулась.
Рухнул на сиденье. Маша, ругая меня, присела на корточки, стала массировать ногу. Умело. В своё время она окончила медицинское училище.
Полегчало.
В Чеккине встретил на машине Джулио. По дороге, когда ехали мимо супермаркета, я попросил Машу выйти, накупить на прощанье всем — и детям, и взрослым самого разнообразного мороженного. В другом месте, уже ближе к вилле, увидел в сгущающихся сумерках — продают арбузы. Вытащился сам. Выбрал и купил огромный кавун. Джулио с продавцом перетащили его в багажник.
Вилла за все эти дни стала домом родным. Как особый знак — итальянское издание Маяковского, лежащее сейчас рядом на письменном столе.
Карла и Маша готовили прощальный ужин. А я, обессиленный, сидел за длинным обеденным столом, окружённый младшими детьми, делал им самолётики из газеты «Оссерваторе Романо». Затем Андреа потащил в сторонку на ковёр, торопливо расставил на доске шашки. Но я, вспомнив довоенное детство, стал учить его играть в «чапаевцы», то есть поочерёдно выщёлкивать своими шашками шашки противника.
Славный мальчуган был в восторге, и так странно было слышать из его уст это слово — «чапаевцы»… «Анкора! Анкора!» — ещё, ещё!, —умолял он меня, когда игра кончалась.
Играл с ним, окружённый девочками и отчётливо чувствовал, что нахожусь в средоточии чего‑то сокровенного, святого, куда меня с Машей допустила судьба.
Когда все уже уселись за стол, Джулио привёз трёх перуанцев. Если бы ночью, или просто в лесу, я встретил одного из них — Карлоса, я бы окочурился со страха. Квадратный. Мясистое, узкоглазое лицо мрачного ацтекского бога, пожирателя человеческих жертвоприношений.
Смущённо улыбнулся, садясь со своими товарищами за стол, и сразу — ребёнок, родной, близкий.
Джулио поднялся со своего места в торце стола. Зажёг укреплённые в шандале свечи. Благословил трапезу.
Я тоже молился, и вдруг заплакал. Чем больше старался скрыть, тем больше лились слезы. Кроме Маши и Карлы, кажется, никто не заметил.
После ужина, как дурак, волновался, хорош ли окажется арбуз. Взрезал Маттиа. Раздался треск, и когда обе половинки распались, я увидел, что не осрамился.
Лишь к одиннадцати, под звёздами, на трёх машинах поехали все вместе, с детьми и бабушкой в центр Чеккины, в церковь.
Там, вокруг неё уже море машин. Все выходят, целуют друг друга. Ребятня тотчас — в прятки, в догонялки.
Потом, как у Дона Донато в Барлетте, как, рассказывал падре Тринидад, на филиппинском острове — зал, в центре которого стол, покрытый белой скатертью с гирляндой живых цветов по краям. Он выдвинут вперёд так, что члены общины не вдали от него, а вокруг. В память о Тайной Вечере, когда Христос и ученики за одним столом, ничем не разделены…
Отдельно на почётных местах сидели перуанцы, человек тридцать мужчин и женщин. Когда мы сегодня уедем в Венецию, трое из них, в том числе и Карлос, будут жить здесь, в этом доме, пока не отправятся в Лоретта на встречу с Папой.
Джулио встал со списком в руках, представил каждого.
Один за другим перуанцы поднимались со своих мест, кратко рассказывали о себе. Сельскохозяйственные рабочие, медсестры, учителя, видимо, много пережившие, они работали ночами, в воскресные дни, чтобы скопить деньги на это паломничество в Италию.
Между прочим, Маша и дон Донато ещё в Москве не раз упоминали о предстоящей встрече с Папой где‑то на Адриатическом побережье. Маша стремится туда. А я не очень‑то понимаю, зачем мне там быть. Одинокий волк, со времён наших первомайских демонстраций терпеть не могу массовок, коллективных песнопений.
Джулио представил и нас — людей из России. Поднявшись вслед за Машей перед аплодирующим залом, я с особой силой ощутил свою отрезанность от этого притягательного и недоступного для меня мира.
В дверь стучит Маша. Зовёт скорей завтракать. Оказывается, солнце уже светит сквозь веер пальмы за окном.»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
— У тебя такое усталое лицо, невыспанное, — сказала Маша. — Нога болит?
— Все в порядке.
Артур был ошеломлён тем, что она вдруг назвала его на «ты».
Они сидели друг против друга в поезде Рим–Венеция в пустоватом вагоне второго класса. За окном в солнечной голубой дали исчезали скучные кварталы пригорода, сады, разноцветные бензоколонки.
— Всю ночь заполнял записную книжку? — Маша взяла Артура за руку, робко погладила ладонь. — Записал рассказ Карлоса о том, как община спасла его от наркомании?
— Кажется, нет. А вообще, Маша, вы не должны влезать в эти мои дела, — Артур убрал руку, словно для того, чтобы поправить воротничок рубашки.
— А воспоминание Пеппино об американских моряках в Неаполе? Правда, вас не было рядом, я вам этого не перевела. Рассказать?
Он кивнул.
Маша некоторое время молчала, глядя в окно.
— Где же ваша история? — спросил Артур. Он чувствовал себя негодяем.
Безучастным голосом она рассказала о том, как американские моряки Шестого флота любили таскаться по неаполитанским барам, напивались до полусмерти. Воры вытаскивали у них бумажники. Потом продавали матросов другим ворам, которые снимали с пьяных верхнюю одежду и в свою очередь продавали своих жертв третьим воришкам. Те уже вытаскивали их на улицу, раздевали догола. После чего совершенно голых пьяниц полиция отвозила в комендатуру.
Слушая её, Артур тоже смотрел в окно на проплывающие под высоким откосом железнодорожной насыпи поля небранной кукурузы, на лоснящиеся ленты шоссе.
«Обидел её. Смертельно, — думал он. — Но держись, старина. У нас с ней нет будущего. Такого, как у Джулио и Карлы с их пятью детьми один другого лучше, с их семейным очагом, праздником изготовления помароллы… Бедная девочка, не понимает, что я, как развалины римского Форума — обломки колонн, былой славы.»
Вскоре она привалилась виском к подголовнику сиденья, вроде бы заснула. Во всяком случае, глаза были закрыты.
«Так должно было случиться, — продолжал думать Артур. — Вот почему это чувство тревоги… До сих пор всё было хорошо, просто… Спрашивает, что я записываю, зачем?»
Артур Крамер и сам толком не ведал, зачем он ведёт эти записи. Никогда, кроме школьных лет, не вёл дневников. Никогда ничего не записывал, находясь дома. Но как только жизнь вырывала из привычного ритма будней в путешествие, которое всегда было для него праздником, непременно захватывал с собой записную книжку. Потом из отрывочных записей порой рождались книги или стихи.
Он потрогал торчащий из кармана джинсов толстый переплёт записной книжки, как трогают рукоять пистолета. И заметил, что Маша смотрит на него.
— Когда брала билеты на вокзале Термини, купила в киоске по упаковке сока, абрикосовый и апельсиновый, и ещё по бутерброду. Она пригнулась к стоящей у ног сумке, вынула оттуда пакет с провизией.
— Спасибо, Машенька.
Треугольный сэндвич с очищенными креветками был вкусен, как и натуральный апельсиновый сок, потягиваемый через пластиковую трубочку. И поезд все‑таки мчал не куда‑нибудь, а в Венецию.
— Спасибо, Машенька, — ещё раз сказал Артур.
Она молча забрала из его рук опустевшую картонку от сока, спрятала в пакет. Потом проговорила:
— Вы ещё не знаете, с вокзала дозвонилась моим московским друзьям Алессандро и Марии–Стелле. Через сутки ждут нас во Флоренции.
— Прекрасно, — ответил Артур. Безотчётное чувство тревоги, поднявшее его в предрассветный час, вновь почему‑то затрепетало в нём.
Он снова глянул за окно. За то время, пока они разговаривали, небо поразительно изменилось.
Неправдоподобно высоко идеально чётким клином по небесной лазури медленно плыли ослепительно белые облачка с чуть синеватыми днищами. Клиновидное шествие сотен облачков было настолько торжественным и завораживающим, что он решил обратить на него внимание Маши.
Она снова дремала, уютно устроившись в кресле.
…Поезд пробивался сквозь хребет Аппенин, влетал в многокилометровые тоннели, выныривал в мир заросших плющом и ежевикой ущелий и опять его поглощала чёрная дыра очередного тоннеля.
Каждый раз, когда горы временно отпускали поезд на волю, картина небесного свода разительно менялась. Теперь уже Гималаи витых снежно–белых облаков, отделённых друг от друга, словно стояли на коленях вокруг царственно светящего солнца.
— Маша, проснитесь! Скорей!
Она распахнула глаза, с тревогой оглядела Артура и, увидев, что он живой, невредимый стоит у окна, уснула.
А поезд, поглощённый новым тоннелем, опять летел в темноте.
«Что же это такое? — думал Артур. — Что‑то библейское, жуткое. Захватывающая красота, величие. Тайна. Я видел какую‑то тайну Земли и Неба.»
Когда же взору опять открылся небесный простор, Артур не поверил глазам. Единая, заполнившая собой все небо, завитая, как раковина, си- не–белая туча смотрела на землю двумя глазами, сквозь которые косо лились солнечные лучи.
Ярчайшая вспышка молнии ослепила Артура. Раздался оглушительный удар грома с мощными, незатихающими раскатами.
— Что это, дождик? — сонно спросила Маша.
Она тоже встала к окну.
Поезд уже бежал по зелёной, залитой ливнем равнине, до того плоской, что казалось, никогда не существовало ни страны гор, ни страны фантастических облаков. Небо с обвисшими клочьями туч стало низким.
Артур восторженно поделился с Машей тем, что ему довелось увидеть, пока она спала, рассказал о томившем с утра чувстве тревоги, о коленопреклонении облаков, о туче, похожей на Вавилонскую башню.
— Просто атмосферное явление, может быть, редкое. Кажется подъезжаем.
Хотя они стояли рядом, и Артур чувствовал своим плечом теплоту её плеча, он снова ощутил одиночество.
Ни прославленных каналов, ни гондол, ни дворцов не было видно.
Ровно в 16 часов поезд подошёл к перрону венецианского вокзала. Вокзал был как вокзал — утилитарное сооружение для приёма и отправки пассажиров.
С сумкой, стоящей у ног, Артур ждал под козырьком у выхода, пока она кому‑то дозванивалась с вокзального автомата.
Дождь стихал. Непомерно большая, пустынная площадь лишь кое–где пестрела зонтиками пешеходов. К ступеням вокзала то и дело подчаливали такси, откуда выходили молодые и старые туристы в шортах, вытаскивали из багажников чемоданы на колёсиках.
Артур вглядывался в лица проходящих мимо него людей и был ошеломлён бросившейся в глаза разницей между этими то замкнутыми, то самодовольными личинами и открытыми лицами всех братьев и сестёр, которых он узнал в христианских общинах.
«В конце концов, большинство этих иностранных туристов — тоже крещённые, католики или протестанты, думал он. — Придумываю. Может, познакомься я с ними поближе, это исходящее от них ощущение чуждости, эгоизма, уйдёт?»
— Идём, здесь рядом автобусная остановка, — сказала Маша, подхватывая сумку и пакет с покупками. — Едем в Лидо ди Эзоло, там встретит некий Антонио, отвезёт в отель, где нам уже забронированы места.
—Лидо по–моему не Венеция, — с огорчением заметил Артур. — Сколько знаю, какой‑то курорт для миллионеров. Сдерут долларов по сто за номер.
Прячась в ожидании автобуса от все ещё продолжающегося дождика в помещении автостанции, они пересчитали оставшиеся деньги. Хотя благодаря дону Донато и его друзьям тратиться ни на жилье, ни на питание практически не приходилось, денег осталось меньше половины.
Казалось, они уже давным–давно странствуют по Италии. Но когда Артур и Маша вспомнили — сегодня тридцатое августа, и до отъезда на родину остаётся целых пятнадцать дней, Артур повторил:
— Вот увидите, сдерут долларов по сто! А нам ещё ехать во Флоренцию, возвращаться на юг в Барлетту, оттуда снова в Римини…
— Не паникуйте, — спокойно ответила Маша. — Бог поможет.
— Нечего докучать Ему такими просьбами. Бог — не кассир. Обидно, что вы себе толком ничего не купили.
— Мне ничего не нужно, — ответила Маша. — Другое дело, вместо того, чтобы разъезжать, тратить деньги на билеты, наверное, нужно было оставаться в Барлетте, плавать, тренировать ногу, как было задумано.
— Ничего, Машенька. Зато мы видели Рим, Помпеи, Салерно, Неаполь, о чём не мечтали. Оказались в Венеции. Вернёмся в Барлетгу дней за семь до отъезда, тогда и поплаваю.
В маленький зал автостанции вбежала девушка. Стройная, с гладкими волосами, зачёсанными сзади в заколотый черным бантом тугой пучок, одетая в короткую кожаную курточку, в мини–юбку, в чёрные ботинки на высоких каблучках, она влетела в стеклянную будку телефона–автомата. Дозваниваясь, с кем‑то говорила, и Артур не мог оторвать взгляда от её красивого, оживлённого лица.
Это, безусловно, была не туристка, а местная жительница, настоящая венецианка.
— Выйду наружу, — сказала Маша, — посмотрю расписание.
Он глянул ей вслед.
Коренастая, одетая поверх сарафана в скромный пиджачок, Маша не выдерживала никакого сравнения…
«Замечательный, потрясающе скромный, родной человек, — подумал Артур. — По–своему красива и не знает об этом. Никогда не красится, одета во что попало».
У него сжалось сердце.
Венецианка вышла из телефонной будки. Артур столкнулся с ней взглядом. Увидел юное и уже порочное ярко раскрашенное лицо.
Маша пропустила её у входа, подошла, взяла вещи.
— Автобус через три минуты. Дождь кончился.
…Всю дорогу Маша отчуждённо смотрела в окно, за которым в лучах проглянувшего предвечернего солнца мелькали разноцветные туристские городки, тянулись заросшие камышом каналы, где плавали утки.
«В конце концов ни в чём перед ней не виноват, — думал Артур, серчая ещё и оттого, что автобус отдалялся и отдалялся от города. — Стоило ли приезжать в Венецию, чтобы, ничего не увидев, тащиться невесть куда ради ночлега?»
На каждой остановке входили и выходили туристы, почти все непременно в шортах, с рюкзачками на спинах. Некоторые пожилые дамы держали на руках ухоженных собачек.
Эти пассажиры резко отличались от строго, со вкусом одетых местных жителей — наверняка работников туристского сервиса, устало проглядывающих газеты, или негромко переговаривающихся между собой.
— О чём они говорят? — спросил Артур.
— Диалект. Не понимаю, — ответила Маша. Она продолжала смотреть на разбухшую от влаги, иссечённую каналами равнину.
Через час пути автобус осторожно въехал на маленькую, забитую автомашинами площадь курортного городка. Её окружали отели со свисающими с фронтонов пёстрыми флагами. Понизу каждого здания уже светились витрины магазинов и ресторанов.
Когда Артур и Маша вышли из автобуса, они сразу заметили стоящего у одной из автомашин невысокого человека.
— Антонио? — издалека спросила Маша.
Тот кивнул, торопливо раскрыл дверцы своего «фиата».
Не успели они усесться, как машина рванулась вперёд. У Артура сложилось впечатление — от них хотят поскорее отделаться.
Антонио сразу же сказал, что ему поручено доставить в отель друзей дона Донато, что он извиняется, ибо не может уделить им больше внимания, так как очень волнуется, должен ехать в больницу, где жене будут делать кесарево сечение.
Артур был готов провалиться сквозь землю. «Носят нас на руках, — думал он. — Вторглись в чужую жизнь…»
Вскоре замелькали огни очередного городка — яркие витрины, светящиеся вывески, вычурные фонари. Машина, проехав перед фронтом белоснежных отелей, остановилась у одного из них. Над входом играла огнями вывеска — «Данубио», что, к удивлению Артура, означало «Дунай».
Едва увидев входящих в вестибюль, из‑за стойки выскочила и кинулась навстречу, как к родным, женщина в чёрном костюме. Первым делом она выхватила из рук Маши сумку и пакет с покупками, сказала, что она ждёт гостей из России, что её зовут Рита, поманила всех к лифту.
Антонио ещё раз извинился «за свою ситуацию», вдруг по–братски расцеловался с приезжими и ринулся к выходу.
Вместе с Ритой они поднялись лифтом на третий этаж, проследовали по коридору, вошли в отпертый ею номер. И оторопели.
Номер был на двоих. Две сдвинутые вместе широкие кровати стояли на роскошном ковре почти прямо против входа.
Рита посоветовала приезжим отдохнуть с дороги, сказала, что ужин в ресторане на первом этаже начнётся через сорок минут и тогда же можно будет подойти к ней с паспортами, зарегистрироваться.
Увидев, что номер состоит из двух комнат, Артур направился во вторую. Там не оказалось ни кровати, ни дивана. Лишь изящный столик с пепельницей, два кресла, да ещё шкаф красного дерева.
Собственно, это оказалась не комната, а нечто вроде веранды или большой лоджии. Артур потянул за толстый шнур, раздвинул занавеси и увидел внизу в отсветах вывесок и фонарей фланирующие толпы курортников.
— Спущусь, отнесу документы, — сказала Маша. — Давайте паспорт.
Вышла, хлопнула за ней дверь номера, а он все стоял, прислонившись виском к холодному стеклу.
«Господи, Ты видишь, Ты знаешь, ничего этого я не хотел. Начиная с истории с крестиком. Или же Ты задумал испытать меня на крепость?»
Он молился, пока в номер не вернулась Маша.
— Потрясающе! — сказала она, заглядывая с порога комнаты на веранду. — Номер — бесплатно, ужин — бесплатно, завтрак — бесплатно. А утром после него в шесть тридцать автобусом едем в Венецию. У меня язык не повернулся сказать Рите, что мы не жена и муж, просить второй номер…
— Ничего, сейчас разберёмся. Растащим кровати в разные стороны, вот и все.
Так они и сделали.
В номере стало неуютно. Находиться здесь вдвоём было все тягостней.
— Выходит, пожалели, подали нам милостыню, — сказал Артур.
— Зачем же вы так? — возразила Маша.
Артур вошёл в ванную, умылся душистым мылом, вытерся одним из висящих наготове махровых полотенец. Потом пригнулся к настенному овальному зеркалу.
Лицо человека с седыми висками, тёмными от постоянных бессонниц подглазьями показалось ему незнакомым. Чёрные пятна гематом от уколов под нижние веки ещё не рассосались…
Это был не тот Артур Крамер, каким он себя ощущал. Вышел из ванной, сказал:
— Жду вас внизу.
Он спустился с третьего этажа по лестнице, и сразу его обдало прибоем немецкой речи скопившихся в вестибюле людей, ожидающих ужина.
Это были семьи, целые кланы с мамашами и папашами, дедушками и бабушками, с бегающими вокруг них ухоженными детьми. Все они толпились у входа в салон, где тоже слышалась лающая немецкая речь. Почтенные седовласые герры восседали в чёрных креслах. Кто просматривал газету, кто благодушно посасывал трубку, глядя на экран телевизора показывали какой‑то фильм с привидениями и вампирами.
Заметив в сторонке свободное кресло, Артур уселся в него. Рядом у самой стены сидела старушка в парике, вязала что‑то вроде шарфа. Спицы так и мелькали в её руках.
Раздался удар гонга.
Хозяйка отеля встречала всех у входа. Рядом с ней уже стояла и Маша, ждала Артура.
Рита дружески подвела их к стоящему у задёрнутого пышными гардинами окна к столику, подозвала одну из молоденьких официанток, сказала, что её зовут Эммануэла, что она приходится ей племянницей.
Дразнящие запахи съестного, разносимого по столикам, звяканье бокалов, ножей и вилок, шумные тосты — все это в особой остротой напомнило Артуру и Маше о том, что они весь день почти ничего не ели.
Минут через пять Эммануэла вернулась с подносом, принялась снимать с него на стол тарелки с дымящимся супом–пюре из шампиньонов, поджаренные гренки к этому супу, салат из помидор, два омлета, вазочку с двумя ломтями шоколадного торта и два бокала кампари. Потом был подан и чай.
— Чувствую себя сукиным сыном, — сказал Артур, приступая к еде.
— Не беспокойтесь, умейте принимать дары… Рита успела рассказать мне историю отеля. Оказывается, построен её дедушкой сорок лет назад. Отель полюбили немцы. Приезжают сюда поколение за поколением. Одни и те же семьи. Помнит по именам, даже умерших.
— Как вы думаете, сколько сейчас здесь народа? — спросил Артур.
Маша обвела взглядом гудящий зал. Где‑то в глубине его маленькие девочки пели песенку. Послышались аплодисменты.
— Человек сто, включая детей.
— Семейный пансион, — подытожил Артур. — Вернутся в Германию. «Где вы были летом?» «В Венеции, на Лидо». Престижно.
— Почему вы так недоброжелательны? Ведь мы с вами тоже на Лидо, возле Венеции.
— Плохой христианин, — ответил Артур. — Каюсь. Давайте‑ка выпьем этот кампари за вас, Машенька.
…Неловко было, ничего не заплатив после такого ужина, подниматься и уходить.
В вестибюле они подошли к стойке администратора, где Рита одновременно работала с калькулятором и разговаривала по телефону. Поблагодарили её. И, не сговариваясь, повернули к выходу. Оба робели перед перспективой остаться вдвоём на ночь в номере.
Несмотря на поздний вечер, сырой и ветреный, все магазины по сторонам главной улицы были открыты. Повсюду слышалась немецкая речь. Отдыхающие делали перед сном моцион. Слонялись из магазина с магазин, разглядывали нарядные витрины с выставленными там золотыми и серебряными украшениями, гирляндами кожаных сумок, ремней, бумажников и разнообразными сувенирами, среди которых преобладали макеты гондол.
— Ну и скучища! — сказала Маша. — Давайте уйдём отсюда куда‑нибудь к морю.
Сворачивая в первый же проулок, Артур споткнулся о какой‑то каменный жёлоб, чуть не упал. Маша подхватила его под локоть и уже не отпускала.
Неожиданно перед ними открылся вход на пляж. Пунктир висячих фонарей освещал его пустое пространство, устланное деревянными матами, уставленное пёстрыми зонтиками и пластиковыми лежанками.
Адриатика гнала из ночной темноты длинные волны с фосфоресцирующими гребнями пены.
— Только не вздумайте купаться, — сказала Маша. Она словно слышала его мысли. — Холодно. Меня знобит.
— Не буду, — согласился Артур. — Пора на боковую. Завтра, сколько понимаю, предстоит целый день в Венеции, вечером поездом во Флоренцию, не так ли?
— Вы же знаете. Почему вы спрашиваете?
Они возвращались к отелю. Маша продолжала надёжно держать его под локоть.
— Машенька, создалось впечатление, что вы сговорились с доном Донато за моей спиной… Я ведь ни на что не рассчитывал, кроме как на купанье в море. Не мечтал попасть ни в Рим, ни сюда, ни во Флоренцию… Кстати, эти самые Алессандро и Мария–Стелла знакомы с Донато?
— Конечно, — улыбнулась Маша. — Чувствуете себя персонажем из Ильфа и Петрова, которого охмуряют ксендзы?
— Для меня что православные, что католики — все христиане. Если они христиане, — буркнул Артур, высвобождая руку и входя вслед за Машей в опустевший вестибюль отеля.
Рита, все так же работавшая за стойкой, подозвала, напомнила, что автобус в Венецию отходит в шесть тридцать утра, а в пять тридцать они должны будут спуститься в ресторан, где им будет подан завтрак. Пожелала спокойной ночи. И добавила — её дедушка хочет познакомиться, утром придёт на проводы.
И опять недоступная близость семейного очага, простой теплоты родственных отношений воскресили в Артуре привычную боль одиночества.
В номере, умывшись, он, вместо того, чтобы раздеться и лечь, прошёл на веранду. Стоял в темноте у раскрытого окна, слушал, как в отдалении тревожно подвывает сирена, а где‑то поблизости, совсем как в Москве, шаркает метла дворника.
— Что ты тут делаешь один? Почему не спишь? — Маша подошла, обняла за шею влажной после душа рукой. — Ну что ты тревожишься? Все хорошо. Все у нас хорошо, понимаешь?
Мягко, стараясь не обидеть, Артур отвёл её руку, усадил в кресло. Сам сел напротив.
— Машенька, раз навсегда — я для тебя не пара. Тебе захочется иметь ребёнка, нормального человеческого счастья. А я по сравнению с тобой — старик, того и гляди, могу совсем ослепнуть… Ты ведь умница, сама все понимаешь, правда? Со временем встретишь такого же, как ты парня, молодого, надеюсь, красивого.
Она рывком перегнулась через столик, схватила Артура за руку, поднесла к губам.
— Не надо. Я ведь тоже живой человек. Бог тебя не оставит, девочка. Ложись спать. Не обижайся на меня. Ладно?
Она ушла в комнату. Когда погас свет, Артур прошёл туда, разделся и лёг.
Машина кровать находилась на расстоянии вытянутой руки.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
"31 августа.
Пишу в поезде Венеция–Флоренция. Как обычно, почему‑то полупустой вагон второго класса. Маша у окна напротив меня. Спит. Хотя пути здесь бесшовные, «бархатные», её постоянно укачивает.
За окном вечереющее скучное небо. Снова начались тоннели. Трудно поверить, всего лишь сутки назад — фантастическое коленопреклонение облаков перед солнцем, вавилонская башня грозы… Внутренне роптал, что на Венецию судьба отпустила только один день…
Вот и Венеция позади.
Лицо спящей Маши совсем детское, трогательное.
Отказался от счастья. Сейчас это особенно ясно. Страшно вернуться в Москву. Уйдёт. Даже не будет появляться в моём доме. Зарабатывает мало. Мать в Киеве, прописана в Киеве. В Москве, кроме христианской общины, которая для неё больше чем семья, да секретарской работы на фирме, у Маши ничего, ни кала, ни двора. Чемодан с вещами да швейная машинка.
На самом деле не её — себя жалко. Куда я теперь без неё денусь ?
С другой стороны, именно потому что она при теперешнем моем положении стала необходима, я должен был сказать всё, что сказал вчера ночью в отеле. Произвести хирургическую операцию.
В самом деле, ворвись эта цветущая молодая женщина в мою жизнь, она, безусловно, захотела бы ребёнка, захотела бы втянуть и меня в свою общину, во всё то, на что я неспособен, что насиловало бы мою жизнь, мою свободу.
А как мы оба могли быть счастливы, какой был рассвет, когда мы с вещами спустились в вестибюль! Ясный, солнечный. Эммануэла встретила, провела в пустой зал ресторана к тому же столику, где нас ждал кофе со сливками, горячие булочки с ветчиной. Пришла Рита, привела дедушку Гвидо.
Зачем я обо всём этом пишу? Нет, не потому что борюсь с одиночеством. Тот, Кого я видел в закрытых глазах, всегда со мной. Подспудно помню об этом каждый миг.
И в будничной, обычной жизни порой происходит необычайное. Тороплюсь записать подлинную историю, случившуюся в тот год маминой жизни, когда она, получая пенсию по старости, все ещё ездила на работу в поликлинику. Меня не печатали, жить было не на что.
Как‑то зимой она рассказала мне о том, что каждый раз утром в переполненном едущими людьми автобусе, ей уступает место некая молодая женщина, которая сходит на предпоследней остановке.
Мама сходила на последней, где у входа в пустынный лесопарк одиноко стояло здание районной поликлиники.
Весной, в конце марта, мама внезапно заболела инфекционным гепатитом и надолго оказалась заключённой в боксе Боткинской больницы.
Конечно же, я навещал её, отдавал санитарке или медсестре передачу, подолгу стоял против зарешеченного окна на первом этаже, за которым виднелось лицо бедной моей мамы.
Однажды, уже перед Маем, накануне выписки, когда уже можно было войти к ней в бокс, я застал маму в слезах. Она плакала, вздрагивая, как ребёнок и все показывала на стоящий на тумбочке в литровой банке букет роскошных бордово–красных роз.
Оказалось, утром её навестила та самая незнакомка.
Обратив внимание на долгое отсутствие моей мамы в автобусе, женщина решила, что пожилая пассажирка умерла. Но что‑то не позволяло ей смириться с этой мыслью. В конце концов она доехала до последней остановки, вошла в единственное расположенное поблизости учреждение, как потом выяснилось, описала в регистратуре поликлиники мою маму и, узнав, что она жива, находится в Боткинской, выздоравливает, немедленно поехала туда, разыскала бокс, передала розы, стояла против окна. И плакала.
«Кто вы? — кричала ей мама сквозь стекло. — Как вас зовут ?»
Женщина ничего не ответила.
…Мир, в котором я останусь без Маши, будет миром после Маши. Где я без неё умру.
Делая записи, я в сущности борюсь с забвением, со смертью. Невозможно, чтоб вместе со мной ушёл этот неповторимый день, этот восседавший рядом за столиком восьмидесятипятилетний Гвидо.
Большеголовый, массивный, похожий на античную статую, он тоже пил кофе и, как всякий старик, норовил не столько послушать других, сколько поведать о себе.
«Моя жизнь была исполнена приключений…» — торжественно начал Гвидо своё повествование.
Переводить Маше было легко, потому что говорил он медленно, явно наслаждаясь наличием таких экзотических для него слушателей. Мы узнали, что во время Второй мировой войны он воевал в Африке на танке, семь лет пробыл в плену у англичан. Принципиально не стал учить их язык.
Как всякий итальянец, он говорил и жестикулировал. Глядя на его по локоть голые ручищи, я подумал, что этот бывший танкист после войны, наверное, стал рабочим, скорее всего, строителем. Ошибся. Оказалось, Гвидо всю жизнь прослужил в уголовной полиции. Гонялся за бандитами. Хорошо зарабатывал. Построил вот этот отель на Лидо, где нашли себе работу все его родственники.
Рассказал, что получает неплохую пенсию. В пересчёте на американские деньги — 1.500 долларов.
А дальше самое интересное. Жену его хватил инсульт. Стал возить её в коляске, придумал приспособление, чтобы поднимать вместе с коляской в автомобиль. Ездил с ней повсюду, показывая другие страны. А она была верующая. Однажды попросила привезти её в какой‑то храм. Там была проповедь. От нечего делать, ожидая жену, Гвидо остался.
Что‑то в душе его перевернулось. Хотя это было давно, он и сейчас рассказываем о случившемся, как о величайшем чуде. Короче говоря, стал членом общины, вошёл в семью христиан и словно заново родился.
Собранный, весёлый человек, которого даже неудобно назвать стариком, он, сам того не желая — явный укор мне.
Гвидо пришёл с фотоаппаратом. Сфотографировались на память. И Рита, и Эммануэла, все вместе.
Тяжело было расставаться. Знать, что больше никогда их не увидишь.
Думая обо всём этом в ожидании автобуса на остановке, вдруг обратил внимание на то, что Маша опять называет меня на «ты». «Чувствуешь, какой здесь удивительно прозрачный, морской воздух? Посмотри, какая крупная роса на розах.»
«Это не роса — вчерашний дождь,» — сухо ответил я. Не должен оставлять ни себе, ни ей никакой надежды.
Автобус был сверкающий, как утро.
Приехали к конечной остановке как раз возле причала, где шла посадка на большое туристское судно, направляющееся по Гранд Каналу к центру Венеции. Несмотря на ранний час, оно было уже переполнено. Мы все‑таки успели купить билеты, втиснуться.
И началось!
Проплыв мимо стоящего на якоре военного фрегата с двумя вертолётами на корме, мимо замшелых стен каких‑то старинных фортов, мы очутились между двух бесконечных линий сверкающих на утреннем солнце дворцов.
Глядеть на возникающую перед нами панораму сказочного города, будучи зажатыми в тесной массе туристов, да ещё с сумками в руках, показалось нам обидным. И поэтому, проплыв сквозь всю Венецию, мы вышли у вокзала Святой Лючии, откуда вечером должны были ехать во Флоренцию. Сдали там вещи в камеру хранения. Маша заранее приобрела билеты, позвонила Алессандро, чтобы он нас встретил.
После этого, налегке, снова взошли на идущий обратно к центру прогулочный катер.
Чайки, косо парящие у воды, пёстрые столбики с привязанными к ним гондолами, мосты, проплывающие над головой, справа и слева парад дворцов… Я едва успевал переводить взгляд.
Вдалеке уже показался золочёный купол собора Святого Марка.
Маша сидела рядом у самого борта. Так хорошо было видеть её милый, по–детски невозмутимый профиль на фоне проплывающих мимо палаццо.
Сошли на причале у площади Сан Марко. Сразу же попали в людской водоворот у сувенирных киосков. Все те же модели гондол, буклеты, изделия из венецианского стекла. И ещё маски Пьеро и Арлекинов, Коломбин, большие и маленькие, просто полумаски. Порой аляповатые, порой сделанные с большим вкусом. В конце концов не удержался, купил хорошенькую полумаску — чёрную с позолотой. Но это было потом, после того, как мы пробились на площадь к Собору.
Не так уж часто бываешь счастлив.
Тысячи голубей наполняли площадь. Купили пакет кукурузных зёрен и кормили их, десятками садящихся на плечи, на грудь. Никогда не забыть трепещущий ток живого, тёплого воздуха от взмахов крыл. Не даром в Евангелии Святой Дух символизируется в виде голубя.
Стоял с Машей в клубящемся облаке птиц.
Собор Святого Марка — самый красивый из всех храмов, какие я видел. Он не раздавливает человека своей величественностью. Чёрный, с блистающей позолотой, он не сусален, а нежен. Как нежна вся Венеция.
И не потому что ко входу змеилась очередь, ещё большая, чем в Сикстинскую капеллу, я не захотел побывать внутри него. Боялся испортить впечатление.
Увлёк Машу с площади в улочки, извивающиеся в тылу дворцов, стоящих на берегу Гранд Канала.
Они тоже очаровательны, с их каменными горбатыми мостиками над бесчисленными протоками, где медленно, как во сне проплывают в гондолах влюблённые парочки. Гондольер на корме ловко орудует длинным веслом.
Я торчал на этих мостиках, смотрел вниз на проплывающие гондолы, на всю эту извечную классику, думал о том, что Маше тоже хотелось бы так прокатиться вместе со мной… Но ничего этого ни в её, ни в моей жизни не будет, не должно быть.
Она заходила то в один магазин, то в другой. Купила сувениры для своих друзей из общины — крохотные крестики венецианского стекла. Увидела телефонную будку. Вдруг загорелась желанием позвонить матери в Киев.
Стоял рядом, поневоле слышал, как Маша расспрашивает мать о здоровье, описывает где сейчас находится. Хотя Маша ушла из родного дома, она любит мать, навещает её, привозит часть своей жалкой зарплаты, которую та не тратит, откладывает «на чёрный день».
И все‑таки счастлив тот, у кого ещё есть мама…
Вот Маша спит сейчас против меня — совсем девочка в свои тридцать три, и только складка у губ выдаёт горечь того, что ей пришлось пережить ночью в отеле «Данубио». Унизил её своей жестокой праведностью, будь я неладен!
И потом, когда набродившись до рези в глазах среди блеска каналов и магазинов, оказались в прохладе беломраморного собора Святой Лючии, и Маша принялась рассказывать историю этой особо почитаемой здесь первохристианской святой, которая во имя Христа отказала любящему её юноше–язычнику, по легенде, вырвала свои красивые глаза, отослала ему их на блюде, чтобы они не соблазняли его, я, будто дьявол за язык дёрнул, сказал, что это отвратительные безвкусные бредни, придуманные мошенниками от религии.
Маша осеклась, замкнулась.
Когда вышли из собора, вдруг погладила меня по голове. Прощающим жестом. Как маленького.
Молча взял её об руку, и мы повернули обратно. Хотелось ещё раз напоследок полюбоваться собором Сан Марко. Шли другими улицами, мимо других магазинов и киосков. Вот тут‑то я и углядел дивную полумаску. Упросил Машу примерить её, отчего она сразу стала загадочной, недоступной.
Купил.
Когда подходили к площади, издали послышались звуки музыки. Оказывается, на эстраде против Дворца Дожей играл оркестр. Множество белых столиков со стульями стояло на площади против эстрады.
Уговорил Машу сесть. Заказал тут же подбежавшему элегантному официанту два «капуччино», себе — джин с тоником, Маше — мороженное.
Наверное, нигде так счастливо не слушается музыка — Вивальди, Моцарт… Как по заказу, моё самое любимое.
Я совсем забылся. Хотелось пребывать так вечно среди голубей, солнца, каких‑то разноцветных флагов.
Немолодой человек в накинутом на плечи свитере кайфовал невдалеке от нас со своей красоткой, непринуждённо положив ноги на пустой стул. Он то читал газету, то говорил по радиотелефону, то целовал скучающую подругу.
Между тем оркестр стал исполнять музыку из кинофильмов Чаплина, Феллини, Лелюша. Вдруг поймал себя на тщеславной мысли: наслаждаюсь жизнью с молодой женщиной у Дворца Дожей, могу позволить себе сорить деньгами, как Хемингуэй…
Мы с Машей давно покончили со всем, что нам было принесено, а мне не хотелось уходить. Тем более, никто не гнал.
Правда, Маша всё время порывалась идти.
До сих пор я был заранее настроен против Венеции, её прославленных, сотни раз описанных красот. Но город оказался сильнее моего скепсиса.
Когда настало время ехать на вокзал, последний раз глянул на собор Святого Марка с его крылатыми конями, и снова поплыли по Гранд Каналу под мостами мимо разноцветных мраморных дворцов с окнами, закрытыми синими шторами.
В 17.15 сели с Машей в этот вагон второго класса, едем во Флоренцию.
Рука устала писать. Поглядываю на Машу. Она все спит.
Утром бравый старик Гвидо рассказывал, что юношей учился здесь, в Венеции, в какой‑то бесплатной школе, опекаемой венецианским патриархом. Патриарх почему‑то выделил его из остальных учеников. Узнав, что юноша любит ходить купаться на взморье и уже заглядывается там на девушек, сказал — «Не смотри на девушек, смотри на природу.» На что Гвидо, по–моему вполне резонно, возразил — «Девушки — тоже природа.»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Прошло восемь дней, длинных и страшных.
Артур Крамер стоял в пустынном подземном переходе под железнодорожными путями станции Пескара. Поезд, на который он собирался пересесть, чтобы вернуться в Барлетгу, должен был проследовать через три минуты.
Справа и слева взбегали на платформы ряды одинаковых крутых лестниц. Он отстал, не успел заметить, куда поспешила подняться с сумками Маша. Не различал написанного на стрелках–указателях.
Сверху уже слышался грохот набегающего состава.
— Маша! — Артуру показалось, что голос его слаб, и он закричал, — Машенька, я потерялся!
Маша, запыхавшаяся, возникла перед Артуром, ухватила за руку, быстро повлекла вверх по одной из лестниц к выходу на платформу #4, где уже стоял готовый тронуться серо–голубой экспресс, подхватила оставленные на краю платформы сумки, вбросила их в открытую дверь вагона, подсадила Артура.
— Не волнуйтесь! Вас встретят!
Артур не успел обернуться. Дверь с лязгом задвинулась.
Поезд быстро набирал ход.
Подняв сумки, он побрёл по вагону в поисках свободного места и нашёл его рядом с листающим журнал красивым седобородым человеком.
За окном штормила Адриатика, мутно–жёлтые волны накатывались на голые пляжи. Снова, как восемь дней назад, мчал Артура поезд по Италии. Впервые одного. Без Маши.
Уставившись в окно, он продолжал слышать свой жалкий голос — «Машенька, я потерялся!»
Это было окончательное признание своего инвалидства, старости, своей зависимости от Маши. От одной этой мысли, предполагающей корысть, Артур не смог сдержать стона.
Сосед, отвлёкшись от журнала, вопросительно глянул на него поверх очков. Он был ещё молод, несмотря на аккуратную седую бородку.
«Такого бы мужа Маше, — подумал Артур, откидываясь на спинку сиденья. — Должно быть, уже села в автобус. Счастлива, что сбагрила меня хоть на время. Едет в Лоретта на встречу с Папой. Как же я обрыд ей, будь я неладен.
…Казалось, ничто не предвещало беды. Казалось, путешествие по Италии будет безмятежно длиться после унизительного для Маши объяснения в ночном номере венецианского отеля.
Сейчас, сидя в поезде, мчавшем его вдоль штормового моря назад в Барлетгу, он все думал о том, что стремление никого собой не обременять, стремление к самоубийственной в данном случае независимости парадоксальным образом разрушило его отношения с Машей.
Артур Крамер не замечал, что невольно постанывает, как тяжелобольной, от почти физической боли при воспоминании о случившемся за последние дни. Попутчик, продолжая листать журнал, иногда деликатно косился на него.
В 20.40 восемь дней назад, выйдя из поезда, они очутились в теплыни расцвеченного фонарями флорентийского вечера, медленно шли вдоль состава, вглядывались в лица встречающих.
Алессандро среди них не было.
— Всегда повсюду опаздывает, — сказала Маша останавливаясь. — Обождём здесь, иначе разминёмся. В конце концов, у человека семеро детей.
— Маша, ты словно оправдываешься за него. На самом деле все это ужасно. Я ничего доброго не сделал этим людям.
— Вот придёт Алессандро, сами спросите у него, почему это так. Он ваших книг не читал. Вы для него — никто, — она кинулась навстречу не по–московски элегантно одетому Алессандро.
Он обнялся с ней, дружески поздоровался с Артуром и быстро повёл их через празднично шумящий вокзал к стоящему на площади видавшему виды микроавтобусу.
Яркие огни Флоренции, как планеты, проносились за стёклами. Маша, против обыкновения сидевшая впереди, о чём‑то говорила с Алессандро на итальянском языке, хотя за пять лет жизни в Москве он достаточно хорошо научился владеть русским.
— Алессандро, можете вы объяснить, почему в ваших общинах меня принимают как своего, ничего обо мне не зная, ничего взамен не требуя, не агитируя даже, чтобы перешёл из православия в католичество?
Артур выпаливал свои вопросы, зная, что они глупы.
Спокойно ведя машину среди сполохов огней, Алессандро ответил:
— Все человечество — один организм. Нет плохих, нет хороших. Это понятно для христианина. В Библии сказано — «Да будут все едино». Кроме того, вы — друг дона Донато и Маши.
Артуру хотелось, чтобы она обернулась, хотелось увидеть милое лицо, прощающую улыбку. Он думал о том, что появление в его жизни этой молодой, сильной женщины оказалось в высшей степени выгодным. Что бы он там, в отеле «Данубио», ни вещал, как некогда Онегин Татьяне Лариной, все‑таки выгодно было путешествовать за счёт её друзей, использовать Машу как носильщика, как переводчика, да ещё следящего каждую минуту, чтоб ты сослепу не залетел под машину, не потерялся.
«А ведь внешне все, кажется, было захватывающе интересно, замечательно. И во Флоренции, и в Понтасьеве, и в Пизе, и в Ассизи…» — подумал он, вытащил из кармана куртки уже изрядно обмятую записную книжку и стал при помощи висящей на груди лупы проглядывать записи последних дней.
Сосед–итальянец поневоле обратил внимание на этот довольно редкий способ чтения, на то, что текст написан русскими буквами.
Артур Крамер напряжённо разбирал собственные каракули.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«1 сентября. Поднял штору. Утро в Тоскане. Тишина. Голуби. Туманен между горами. Отдалённый рокот поезда. Выстрелы охотников.
Старинный дом одиноко прислонён к запертой, заброшенной церкви в горах. Внизу за холмами городок Понтасьеве. В пятнадцати километрах от него — Флоренция.
Пока идут сборы, у меня есть минут тридцать после завтрака.
Господи! Даёшь же Ты людям счастье! Спускался» с Машей в столовую вслед за двухлетней Анной–Кармен. Она волокла за собой по ступенькам какую — то белую кофточку. Внизу обернулась, просияла и стала совать эту кофточку мне.
Моё недоумение рассеяла Маша, которая перевела слова Марии- Стеллы, накрывавшей на стол. Оказывается, девочка настолько привязана к матери, что в её отсутствие прижимает к себе именно эту кофточку, пахнущую мамой.
Был очень польщён тем, что удостоился такой награды из рук чирикающей, как воробышек крохи.
Эх, мне бы такую девочку! Старшие дети уже позавтракали, слышно, как они играют в футбол возле маленького огорода, разбитого под замшелыми стенами церкви.
Вдруг, сидя за длинным столом между Машей и Анной–Кармен, подумал: все мои книги — ничто по сравнению с тем, что создали Алессандро и Мария–Стелла.
Не без зависти думал я о том, что они ещё молоды, богаты, имеют такой старинный дом среди холмов, микроавтобус… Совсем другой уровень жизни.
Но Алессандро рассказал, что этот дом им не принадлежит, они арендуют его за небольшие деньги у прихода, что когда родился третий мальчик — Пьетро, было отчаяние, была депрессия — казалось, не на что поднять семью, нет работы, постоянного заработка, нет сил.
Оказывается, и эти на вид столь благополучные люди знакомы с тем, что так хорошо знаю я.
Только теперь, за завтраком, когда пили кофе, я наконец уразумел, что собственно делает семья Алессандро в Москве, зачем три четверти года меняют этот благословенный пейзаж и климат на московскую стужу, грипп, наше опасное неустройство. Они — миссионеры.
2сент. Поздний вечер. Суббота. Только что Алессандро, Мария–Стелла, все семеро детей и мы с Машей вернулись из церкви в Понтасьеве.
Но сначала записываю то, что произошло вчера. Хотя мы оба стараемся держаться по–прежнему, это катастрофа.
Утром за мной зашла Маша… Предстояло почти на весь день ехать во Флоренцию. Как всегда бывает перед встречей с чем‑то необыкновенным, я был радостно возбуждён.
— Машенька, если бы ты знала, — сказал я, когда мы расхаживали у микроавтобуса, ожидая, пока в доме соберутся Алессандро и старшие мальчики, которых отец решил тоже взять с собой. — Если бы ты знала, о чём я сейчас писал в записной книжке, о чём думал! Мне кажется, я вдруг понял, чем держится эта семья, все эти общины, впервые ощутил в реальности, что такое действие Святого Духа. Не смейся надо мной! Эти общины, как острова, как точки роста в нашей мертвеющей цивилизации!
— Ну конечно же! Я тебе ещё в Москве говорила об этом. Ты слушал и не слышал. Как я рада, что тут, в Италии, ты все это увидел, понял. Артур, через восемь дней встреча с Папой в Лоретто, туда приедет масса паломников со всего мира, приедет на автобусе моя община из Москвы…
Я насторожился. Далее записываю буквально то, что произошло.
— Нет, нет, Машенька, не агитируй. Не поеду.
— Но почему? Ты мог бы вернуться в Москву совсем новым, заново рождённым человеком!
— От встречи с Папой, что ли? — перебил я. — Машенька, я уже был пионером, комсомольцем, гражданином СССР. Вон смотри, как бегает во дворике Анна–Кармен с соской во рту. Дай мне хоть немного побыть просто свободным, тем более, я уже старый, больной… Хочешь в Лоретте — езжай сама.
— Да! Единственное на что вы остались способны — это на словах восхищаться моими братьями и сёстрами, а самому пить свой джин с тоником в самых дорогих кафе и ресторанах! На деньги, сэкономленные за счёт таких людей, как Пеппино и Алессандро! — в глазах Маши стояли слезы. — И за счёт дона Донато! Да вы просто совковый халявщик! Вот вы кто!
Сейчас я понимаю, что в её словах таилась какая‑то страшная правда обо мне.
— Маша, ты с ума сошла. Что ты этим хочешь сказать ?
— То, что вас здесь принимают из милости, будто сами не знаете! — она смолкла, потому что со двора, сопровождаемый мальчиками, приближался улыбающийся Алессандро.
Итак, вчера Алессандро угостил нас Флоренцией, со всеми её красотами. Познакомил с членом своей общины — милейшим сутулым Торел- ло — ризничим знаменитого собора Дуомо. В ризнице старинный мраморный умывальник в виде двух очаровательных писающих ангелочков. Торелло повёл старших детей — Маттиа, Даниэле и Пьетро на самый верх построенной Джотто колокольни.
Маша и Алессандро осматривали собор, баптистерий, а я отдыхал снаружи на ступеньках под ярким солнцем, ждал возвращения мальчиков.
Машины слова высветили весь ужас моего нынешнего положения. Ещё острее чувствую своё одиночество.
Потом все мы под водительством Алессандро пришли на какую‑то длинную улицу–базар, где Маша, несмотря намой протесты, купила мне роскошную вельветовую рубаху по моде флорентийского пятнадцатого века. Тут же рядом, в лавочке, Алессандро приобрёл бутылку красного вина и пять порций только здесь изготовляемого «лампредотто» — рубленных телячьих желудков под острейшим кайенским перцем.
После посещения площади Ратуши, на Понто Веккьо — мосту через реку Арно — я купил всей компании по мороженному.
Вечером, когда возвращались через Понтасьеве домой в горы, попросил Алессандро остановиться у супермаркета, вышел, накупил массу фруктов — груши, сливы, арбуз, дыню. Все это всего за 20 тысяч лир. Еле доволок пакеты до машины. По–моему, и Маша, и Алессандро были довольны. Грустно мне было ехать в сумерках вверх через холмы к одинокому дому, где нас у ворот встречали Мария–Стелла, девочки — Ноэми, Мириам, маленькая Анна–Кармен и мой самый любимый — пятилетний Джозуэ. Есть в нём что‑то, чего нет в остальных детях. Впрочем, на зависть прекрасных, как и все дети в этих общинах.
Но этот Джозуэ — особая статья. Сегодня утром в ужасном настроении вышел из дому, чтобы хоть немного побродить в горах. Мальчик увязался за мной. Я попробовал загнать его обратно в дом. Не слушается, не понимает. Взял его с собой. Изгибистое горное шоссе круто пошло вверх, и я сразу же начал прихрамывать, уставать.
Джозуэ увидел. Понял. Ухватил за руку. И стал тянуть вверх, стараясь облегчить мне подъем.
Потом сидели рядышком на сухом травянистом откосе, глядя сверху на долину реки Сьеве. Мальчик всё время что‑то показывал, что‑то горячо объяснял на своём прекрасном языке.
Вчера после позднего ужина, когда ребятня засиделась на кухне перед телевизором, где шли мультяшки, Алессандро начал прогонять всех наверх, на второй этаж спать. Все ушли за матерью. Один Пьетро сидел, как невменяемый. И в конце концов, после неоднократных увещеваний, получил затрещину от отца. С рёвом бросился наверх.
Все во мне сжалось. Я тоже поднялся в отведённую мне комнату.»
Артур прикрыл записную книжку, потёр усталые глаза.
Поезд отправлялся от очередной станции. До Барлетты оставалось меньше двух часов езды.
«Почему я не написал о поездке с Машей в Пизу? Об истребителе, стоящем на постаменте у вокзала, об аркадах, под которыми мы шли, пока у меня не разболелась нога до того, что пришлось опуститься на стул возле первого попавшегося кафе, и Маша побежала в аптеку за обезболивающим, а вернулась с жутко дорогим эластичным носком…
А о Пизанской башне и писать нечего. Действительно падает, почему‑то не падая. Вроде меня…»
Он думал о том, как хороши дети Алессандро и Марии–Стеллы, вспоминал, как, вернувшись усталый от поездки в Пизу, с досадой услышал от Маши, что в десять вечера нужно ехать вместе со всеми вниз, в Понтасьеве на собрание местной общины, будет Евхаристия в честь прибывшей для той же встречи с Папой группы паломников. На этот раз из Бразилии.
Он почувствовал себя совсем чужим на этом празднике. Стоял в сторонке у ступенек, ведущих в старинный собор, смотрел, как выходят из подъезжающих автомашин семьи с детьми, престарелыми бабушками, дедушками, инвалидами в колясках, как все приветствуют друг друга, целуются. Как в подсвеченных фонарями и звёздами тёплых сумерках бегают и смеются разыгравшиеся перед собором дети. А люди все прибывают и прибывают.
Здесь всё было, как в Барлетте, в Чеккине. Особая ни на что не похожая теплота, атмосфера любви,, не навязчивой, не елейной…
Вчера они на микроавтобусе вместе со всей семьёй Алессандро на весь день ездили в Ассизи, где когда‑то жил, может быть самый животворный источник любви — святой Франциск, чья деревянная статуя с гнездом на руках полным живых трепещущих голубков, вместе с высидевшей их голубкой, напомнила Артуру о Венеции.
Артура снова обдало незабвенным тёплым, живым воздухом сотен голубиных крыл, как было на площади Святого Марка, обдало настолько явственно, что он покосился на своего соседа и опять встретился с его вопрошающим взглядом из‑под поднятых на лоб золочёных очков. И Артур улыбнулся этому незнакомцу, так, словно ещё несколько часов назад не блеял он в подземном переходе «Машенька, я потерялся», словно не ожидало его в Москве одиночество, равное смертному приговору.
Увидев, что Артур собирается выходить, итальянец помог ему дотащить вещи до тамбура, и когда поезд остановился в Барлетте, спустил их на перрон. Вернувшись на своё место, он увидел на полу выпавший из записной книжки сложенный вчетверо листок.
ТОСКАНА
Лежит Тоскана в пеленах тумана. И лишь вершины гор, да колокольни церквей старинных высятся над ним. На дне белесого, слепого океана журчит река, да поезд в Рим. Зачем Господь даёт мне видеть, слышать рассвет холодный в стороне чужой? Внизу в тумане проступают крыши, а вон и мост далёкий над рекой. Шеренги виноградников повсюду таят гроздей пьянящих океан. Тумана нет. Его я помнить буду, когда и сам растаю, как туман.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«МЫ ВАС ЛЮБИЛИ, ДАВНО И ТАЙНО ЛЮБИЛИ, ВСЕГДА — звучало В голове Артура Крамера. — ЗНАЛИ ВАШИХ СВЯТЫХ, ВАШУ ИСТОРИЮ, МОЛИЛИСЬ ЗА ВАС.»
Сейчас Артур сидел за длинным пиршественным столом между доном Донато и Машей, вернувшимися вчера вместе с группой молодёжи со встречи с Папой в Лоретто. Среди молодых лиц напротив и по сторонам стола приветливо улыбались ставшие совсем родными Лючия, Рафаэль, Пеппино, Амалия, Паскуале.
…Неделю назад, оказавшись со своими сумками на платформе Барлетты, он попал в трагикомическую ситуацию. Дона Донато не было видно под высокими фонарями пустынной платформы. «Что ж, так тому и быть, всё, что так хорошо началось, пошло прахом, — решил Артур. Протащусь через тоннель в здание вокзала, оттуда — на площадь, возьму такси, адрес знаю — виа Каноза, церковь Сакра Фамилия…»
Внезапно, невесть откуда, рядом возник пожилой сутуловатый незнакомец. Он выхватил сумки из рук Артура и, как бы пригласительно оглядываясь, спрыгнул на пути.
Ничего подобного в дисциплинированной Европе Артур до сих пор не видел. Из пропадающих на глазах вещей ему больше всего было жалко венецианскую полумаску.
Не столько спрыгнув, сколько свалившись на рельсы, он кинулся за убегающим к пролому в бетонной ограде злодеем и конечно же потерял его из виду.
«Итальянский мошенник, — пробормотал Артур, — ты многим не разживёшься, но Маше будет очередной сюрприз…»
Ему стало обидно до слез, когда он пролез в пролом и увидел, что незнакомец с наглым спокойствием укладывает вещи в багажник автомашины.
Теперь этот человек, встретивший Артура по просьбе дона Донато, робкий Луиджи, сидел здесь же со своей трёхлетней внучкой на руках, угощал её сладостями. Странное его поведение при встрече объяснилось впоследствии тем, что он не хотел заставлять Артура спускаться и подниматься по лестницам подземного перехода и решил вывести его напрямую.
«КОГДАЯ ПРОЧИТАЛ В ИТАЛЬЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ПОВЕСТЬ СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА», Я СТАЛ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК. ХОТЕЛ ПОПАСТЬ В РОССИЮ, УВИДЕТЬ ЕЁ.»
Оказавшись на время в Барлетте без дона Донато и Маши, Артур попал под опеку Лючии. Утром просыпался от грохота поднимаемых в окнах и дверях окрестных гаражей, магазинов и мастерских гофрированных жалюзи, под выпеваемый колоколами церковной колокольни призыв.
Вскочив с постели и умывшись, уже слышал бодрый перестук каблучков по коридору.
«Пронто?» — спрашивала Лючия, когда он открывал ей навстречу дверь комнаты, выходил наружу.
Лючия отнюдь не понуждала его спускаться к восьми часам утра в церковь на Евхаристию. В первый раз по возвращении Артур решил сделать это из‑за внушённого Машей чувства вины. Слушать богослужение на итальянском языке, да ещё когда дона Донато заменяет незнакомый маленький толстый священник, чьи ножки, когда он сидит на троне позади алтаря, смешно болтаются в воздухе, казалось нелепым.
Но соседство Лючии, внимательно следящей за службой по раскрытому молитвеннику, то как благоговейно и просто совершал маленький священник великое таинство благодарения — во всём этом чувствовалась подлинная вера.
Лишь сейчас, пребывая во время агапы — трапезы любви — среди этих людей, Артур впервые почувствовал себя не в экзотической Италии с её знаменитыми морями, пейзажами, городами и музеями, а дома.
«БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ, И ЦЕРКОВЬ НЫНЕ ВОЗВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ИСПОЛНЕНИЮ ЭТОГО БОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА.»
Думать о вчерашнем, затянувшемся заполночь разговоре с доном Донато, и ощущать его присутствие рядом, видеть его лучезарные глаза, улыбку и одновременно слышать, как Маша разговаривает по–итальянски с Лючией, поёт вместе со всеми под яростный грохот гитар вдохновенные гимны, было настолько чудесно, что Артуру на миг показалось будто вернулось то время, когда был жив отец Александр. При этом он с ревностью думал о той ободранной коммуналке, где под вечной угрозой вторжения агентов КГБ пыталась зародиться, но так в сущности и не создалась их жалкая община…
«ЦЕРКОВЬ ВЫХОДИТ СЕЙЧАС ИЗ СЕБЯ НАВСТРЕЧУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.»
Псалмов из псалтири — книги царя Давида — было не узнать. Они казались произведениями новейшего искусства. Словно стёрли вековые наслоения пыли. Древние слова сверкали, как глаза этих простых людей, заново познающих Ветхий и Новый Завет.
«ГОРЕ ТОМУ, КТО ОДИН» — ГОВОРИЛИ ДРЕВНИЕ РИМЛЯНЕ. ПОТОМ КОММУНИСТЫ ПОПЫТАЛИСЬ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, ВЗЯВ ЛОЗУНГ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО». НО БЕЗ БОГА ПОСТРОИТЬ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО. МЫ ЭТО УВИДЕЛИ И У НАС НА ЗАПАДЕ, И У ВАС НА ВОСТОКЕ. КОММУНИСТЫ ХОТЕЛИ ВСЕ РЕШАТЬ СИЛОЙ, СПРАШИВАЯ С ДРУГИХ. ХРИСТИАНИН СПРАШИВАЕТ С СЕБЯ.»
Артур понимал, все эти люди выносили, выстрадали на своём духовном пути эти истины. Точно так же, как и те, кого он встретил в Чеккине под Римом, в Венеции, в Понтасьеве…
— Почему не ешь? — спросил дон Донато, наливая в стакан молодое виноградное вино и подкладывая в тарелку катышек нежного, белого, как снег, сыра моцарелла. — Не должен быть грустный.
— Почему? Завтра улетаем в Москву.
Артур чокался с протягивавшими ему свои стаканы людьми, повторял заздравное итальянское «чин–чин!», поглядывал на Машу, которая была здесь совершенно в своей стихии, делилась впечатлениями от поездки в Лоретта.
И в то же время он все ещё был под огромным впечатлением от вчерашнего разговора с доном Донато, да и всего того, что произошло за последние дни, когда рядом не было ни Маши, ни Донато, и он остался как бы без языка.
Вечерами итальянское телевидение передавало в программе новостей пространные репортажи о встрече молодёжи с Папой, и Артур, приблизившись почти вплотную к экрану, тщетно искал среди тысяч и тысяч восторженных лиц Машу. Но ни её, ни дона Донато разглядеть в этих толпах было невозможно. Зато он увидел, как заплакал Папа, когда его приветствовала делегация из России.
По завершении мессы он одиноко завтракал в большой столовой дона Донато. К этому времени всегда кто‑нибудь подъезжал, чтобы по просьбе Лючии доставить Артура на пляж. После Машиных разоблачительных разговоров Артуру было особенно неловко затруднять своими проблемами других людей, но Лючия была непреклонна — «дон Донато а детто!» (дон Докато сказал!). И Артур отправлялся с пластиковой сумкой, в которой лежали плавки и махровое полотенце, вниз к машине, где за рулём ждал кто‑то уже знакомый, или же наоборот, вовсе неизвестный доселе человек. Позавчера им оказался стройный, подтянутый полицейский в белой рубашке с короткими рукавами, которого Лючия по–простецки называла Нардо, полное же его имя было Леонардо. Как у Да Винчи.
Сейчас этот Леонардо вместе со своей женой и двумя детишками тоже находился здесь, за одним из соседних столов, периодически оборачивался к Артуру, заговорщицки подмигивая, напоминая о том, что произошло позавчерашним вечером.
Позавчера Артур решил провести на море весь день. У прохода на дикий пляж возле пирса, он при помощи часового циферблата объяснил полицейскому, что хотел бы пробыть здесь до шести вечера. Леонардо удивился, но и явно обрадовался. Ему было удобно приехать за Артуром именно в это время, к концу своего рабочего дня.
Вновь Артур оказался один на один с морем и солнцем. Он искупался раз, другой. Бил ногами по воде, яростно пытался наверстать упущенное за время путешествия по Италии. Насчитал 1400 ударов. Устал. Подошёл к своей лежащей на сухом песке одежде, достал из кармана джинсов продолговатую фанерку, на которую была намотана леска с крючком, грузилом и красно–синим поплавком.
Зачем, уезжая из Москвы, он выхватил из ветхой рыболовной сумки эту вещь, он и сам не знал, ибо давно понял, что с рыбалкой для него кончено.
Тем не менее, сейчас он дрожащими от нарастающего азарта руками нашарил в выброшенной на берег колючей тине мидию, разбил камешком её хрупкий синеватый панцирь, нацепил на крючок моллюска, направился на уходящий в синеву моря пустынный пирс.
Забросив с самого его конца наживку, он неловко примостился на крутом каменистом откосе и стал приглядываться к искрящимся волнам, тщетно пытаясь разглядеть красно–синий поплавок. «Господи, как я стал жалок, — думал Артур Крамер. — Читатели моих прежних книг были бы жестоко разочарованы, если б застукали меня таким — не вижу клюнуло или нет…»
Он дёрнул наугад леску и почувствовал — что‑то попалось, какая‑то мелочь.
Это была сардинка.
Артур в двух местах проткнул крючком её веретенообразное тельце, осторожно, чтобы нежная наживка не сорвалась, забросил в море, намотал на указательный палец конец лески, хотел снова усесться на камни, как леску едва не выдернуло из руки. И он полетел в воду.
Какая‑то большая, сильная рыбина зигзагами вспенивала впереди поверхность моря.
Артур понимал: либо добыча исхитрится избавиться от крючка, либо старая леска лопнет. Он старался поспевать вслед за рыбой, чтобы леса не натягивалась.
Мельком заметил, что падая, до крови оцарапал локоть и грудь о подводные камни. Царапины саднило от солёной воды. Вдруг он почувствовал себя совсем молодым. И его даже не огорчило то, что леса обвисла.
Артур обплыл оконечность пирса. Выйдя на «дикий» пляж к одинокой горке своей одежды, выбрал леску до конца. Крючок оказался на месте. а это означало — неведомая рыба ушла свободной.
…Он долго лежал на разостланном полотенце, глядел на бегущие по небу облака, на вскипающее от усиливающегося ветра море. Порой вдоль кромки воды почему‑то все в одном направлении проходили люди. То группа цыган в пузырящихся от ветра пёстрых рубахах, то старик, сопровождаемый лопоухой собачкой, то одинокий рыболов со спиннингом, то молодая женщина с распущенными седыми волосами. Словно кто‑то протягивал перед глазами это шествие против ветра, и Артуру опять вспомнился Федерико Феллини, вызвавшая когда‑то протест ключевая фраза из его фильма «81/2» — «Вне Церкви нет спасения».
Люди, шедшие неизвестно куда по кромке моря были наглядно одиноки. Были похожи на него, Артура, когда он ездил в часы пик по Москве, как по краю гибели.
— Ты как капитан, — сказал Артур, поднимая стакан и чокаясь с доном Донато, —Церковь — корабль, эти люди — команда. Вы плывёте вместе с такими же кораблями из Венеции, Рима, Понтасьеве…
— Плывём среди океана дьявола, — сказал Донато. Видно было, что сравнение ему понравилось.
Позавчера, забрав в шесть вечера с пляжа несколько иззябшего от ветра, голодного, полицейский Леонардо отвёз его к себе домой, познакомил с детьми, женой, которая накормила их ужином.
После кофе Леонардо предложил прокатиться и пройтись по улицам Барлетты.
Ветер стих. В городе было тепло, даже жарко. У подъездов старинных домов на вынесенных стульях и табуретах сидели старики, и фая кто в карты, кто в шахматы, греясь в последних лучах заходящего солнца.
За этой внешне спокойной картиной жизни южного городка скрывалась жутковатая изнанка. Как ещё в Москве рассказывал дон Донато и теперь мрачно подтвердил Леонардо, здесь господствовала мафия, рэкет, торговля наркотиками, здесь убивали, грабили также, как и в России.
Хотя общаться с Леонардо пришлось на плохом у обоих английском, Артур понял, что полицейский предлагает ему познакомиться с собравшимися за столиками уличного кафе местными фашистами. Это оказались бодрящиеся стариканы в измятых костюмах. Они пили пиво, яростно обсуждали новости из Югославии, а когда Леонардо объяснил им, что Артур прибыл из Москвы, из России, стали спрашивать о Жириновском — настоящий ли он фашист или агент КГБ, и были страшно разочарованы тем, что перевёл им Леонардо, а именно: по мнению Артура это просто хам, да ещё тяжело больной, у которого надпочечники выделяют слишком много адреналина.
Попрощавшись с фашистами, полицейский перевёл Артура через небольшую площадь с очень красивыми деревьями к другому кафе, где за столиками точно такие же старики пили точно такое же пиво и точно так же обсуждали новости из бывшей Югославии. Это были коммунисты. Сначала они с большой симпатией отнеслись к Артуру, но когда выяснилось, что тот не любит Сталина, не считает Хрущева и Горбачева предателями, атмосфера стала несколько напряжённой, и Леонардо счёл уместным увести Артура к машине.
Позже дон Донато рассказал, что полицейский Леонардо ежемесячно переводит часть своей зарплаты какой‑то совершенно неизвестной ему бедной женщине из Бразилии, чей ребёнок болен детским церебральным параличом.
«СВОБОДА СЫНОВ БОЖИИХ — СВОБОДА СОВЕРШАТЬ ДОБРО БЕЗ НАДО. КОГДА НАДО — ФАРИСЕЙСТВО, РАБСТВО.» — эти вчерашние слова дона Донато были полностью подтверждены тем, что видел и ощутил на себе Артур.
«ПИСАТЕЛЮ С ПРИСУЩИМ ЕМУ ИНДИВИДУАЛИЗМОМ, БОЯЗНЬЮ ПОТЕРЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО ВОЙТИ В ОБЩИНУ.»…
— Артур, дон Донато и Лючия накупили нам кучу подарков, — сказала Маша. — Тебе, в частности, кроме всего прочего, новую клеёнку на кухонный стол, очень красивую.
Артур, конечно, не знал, что весной следующего года повенчается с Машей в том самом православном храме, где служил его убитый духовный отец, а ещё через год Господь подарит им чудесную девочку Веронику. Он взглянул на Машу, на Донато, на Лючию, на Пеппино с Амалией, на Леонардо, на Рафаэля, на всех, через кого Христос воскресил его от смерти к жизни, и забытое детское чувство жарко коснулось его. Чувство прикосновения к матери.
1996–1997


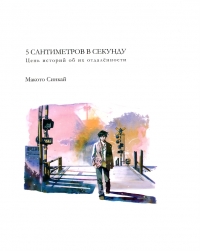
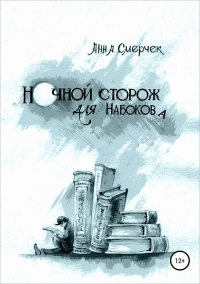
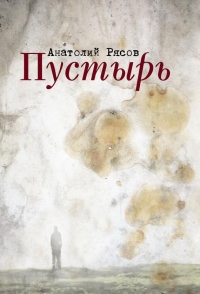

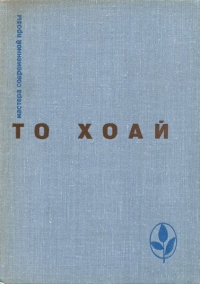
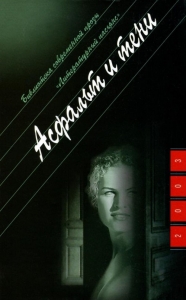



Комментарии к книге «Итальянская записная книжка», Владимир Львович Файнберг
Всего 0 комментариев