Изобретение сюжета
Тоска, а не весна: на Пасху снег выпал. В деревнях вокруг церквей старухи тропы откапывают и мимо сугробов крестным ходом идут. Странно смотреть на них, полумертвых, как они сухими ртами гудят: сущим во гробех живот даровав. Свечи тухнут, валенки с ног падают, старухи друг за друга держатся, но идут. Хотя кому смотреть на них? Некому, разве птицам ночным, по черным голым ветвям сидящим. Молчат птицы, и звезды молчат, и мигают и те и другие, тьмой перемежая старушечье бытие.
Говорят, на Пасху на погостах деревенских — свой крестный ход. Встают мертвые из могил и ходят по кругу вдоль ограды, поют пустыми грудями: смертию смерть поправ. И шествие это, если и вправду оно совершается, должно быть куда многочисленнее того, что вокруг церкви. Живые старухи в мертвецах — что капля в море.
Крутится вокруг своей воображаемой оси Земля, а по деревням ходят старухи с мертвецами: Христос воскресе из мертвых.
Трудно текут по лесам реки, холодная вода со снегом перекатывается, ветер толкает ее вперед. Жутко было бы в такой тьме человеку. Но люди пьяные спят, а мертвецам бояться нечего. И чего бояться старухам, когда попы возвещают им: Христо-о-ос воскресе.
Маша не спит. В ушах у нее играет тревожная музыка. Она представляет себе, что у нее нет дома, что она одна идет в темноте по дороге. Тело ноет от усталости, и все бы отдала за теплую постель и покой. Машины ноги кровоточат, звезды безразлично горят, облака проносятся по небу зловещими птицами. Она смотрит с тоской на окна домов: занавешены. Никто не ждет к себе Машу. Ей становится жалко себя, идущую, сердце сжимается, но вот же она: дома — на ней ночная рубашка, а одеяло хранит ее тепло. Плеер вдруг садится, и музыка перестает играть. Становится тихо, и Маша слышит стук своего сердца. Маша знает, как успокоить его. В темноте она идет на кухню, доски под ее нежными ногами скрипят, но тихо скрипят — родители не проснутся. На ощупь Маша находит холодильник, открывает его, и бледный желтый свет выхватывает из темноты тени стола, плиты, стульев, и ее саму — тонкую девочку в ночной рубашке, с медными пружинками волос, которые, когда она наклоняется к освещенным полкам, падают чуть не до пола.
Она берет тарелку, закрывает дверцу и в темноте ест вилкой ледяной, восхитительно вкусный холодец. Спать она теперь не хочет — слишком вкусный холодец и слишком сладка жизнь, чтобы теперь спать. Она отставляет тарелку и нерешительно берет отцовские сигареты. Она не курит, но пару раз пробовала, и теперь ей хочется попускать клубы серого дыма, который так задумчиво перекатывается и уплывает. Тихо, чтобы не порвать тишину, она надевает в коридоре ботинки. На крыльце холодно и темно, но тем слаще ей будет вернуться. Маша зажигает сигарету и, не вдыхая, отправляет дым тонкой струйкой вперед. Он поднимается вверх, забирается в нос и кусает глаза. Маша играет с дымом, выпуская его то клубами, то струйками, и ей радостно, что она будто бы не одна, будто бы дым тут с ней тоже курит. Ей хочется плакать или смеяться, но от полноты жизни — наполнить мир собой. Когда сигарета ей надоедает, она тушит ее об землю и запихивает в щель под крыльцом. Потом добегает до забора, садится на корточки и, подождав, пока утихнет журчание, бежит обратно к дому. Тихо закрывает дверь, снимает ботинки и скользит в свою комнату, чтобы скорей забраться под одеяло, сесть, обхватив ноги руками, и испытывать счастье. Маша счастлива.
В соседней комнате спят, разметавшись на постели, Машины родители. Они спят крепко и не помнят, что в эту самую ночь, шестнадцать лет назад, они зачали свою дочь. Было это так. Лена гуляла с Пашей, взявшись за руки, и держаться за руки им было хорошо. Паша курил в ясное блескучее небо, а Лена жмурила глаза. Они целовались, Лена прижимала ладони к Пашиной спине, а Паша одной рукой обнимал ее шею, а другой нерешительно гладил Лену в сторону попы. Родители Лены уехали в гости, и в теплой кухне она угощала Пашу чаем, а потом позволила стянуть с себя кофту. Паша порывисто укладывал Лену на ковер, но она взяла его за руку и отвела в свою комнату. Там, на застеленной кровати, Паша судорожно, с четвертой попытки вошел в Лену, а Лена, стиснув зубы и зажмурив глаза, терпела боль. Оба они, каждый по-своему, были счастливы. Тогда Паша ушел от Лены, потому что дома его ждали родители, а Лена осталась и легла спать с сильно колотящимся сердцем. Теперь они спят вместе, а их дочь, бог весть почему, не может заснуть. Годы прошли для нее легко, сами по себе, — только взрослые люди вынуждены толкать тяжелое неповоротливое время, чтобы оно не остановилось.
Маша вылезает из-под одеяла, садится за стол и включает старую, всю в наклейках, настольную лампу. Потертыми глазами глядят на нее животные и люди с наклеек. В полутени на стенах улыбаются музыканты и герои фильмов. У Маши очень много вещей. Все они не представляют никакой ценности для остального мира, но для нее, для Маши, ее комната — сокровищница, набитая до отказа, как замок нибелунгов. Вещи — кусочки дерева, коры и глины, иконки и молитвы на ленточках, а еще свисающие с уголков полок, с гвоздиков и кнопок на цепочках, нитках и кожаных ремешках знаки зодиака, руны футарка, китайские иероглифы, пластмассовые собачки и тряпичные мышки, — все это, когда она включает лампу, выступает из темноты, в желтом свете покрывается расплывчатыми тенями и начинает напряженно существовать. А еще — ее книги; и те, которые не удержать в руках, где цветные картинки и познавательные надписи, и старые толстые книги, с уголками страниц, истончившимися от перелистывания, в которых герои и героини так сладко, так мучительно любят друг друга, и разваливающиеся, переклеенные скотчем учебники, в них что ни портрет, то с синей щетинистой бородой, а если в полный рост — то и с непропорционально большими гениталиями. Книги лежат на полках, в шкафу, на столе, перемешавшись с тонкими и толстыми тетрадками, здесь на полях расцветают цветы, сверкают глазами рыбы и птицы, вздымают башни города, а кроме тетрадок — вырванные одинокие листы с неровными краями, перекидные блокноты, исписанные ручки и изгрызенные карандаши. Под потолком, где сгущается тьма, покрытые пылью, сидят игрушки, куклы и звери. У некоторых из них стеклянные глаза, в которых отражается желтый ламповый свет. Еще больше вещей прячется в ящиках стола, за закрытыми дверьми шкафов, в подбрюшье дивана, в бисерных коробочках и деревянных шкатулках. Окинув взглядом свою кладовую, Маша открывает нижний ящик стола, достает альбом и большую коробку разноцветных карандашей.
Суть реки — рыбы, живущие в ней. Но когда человек смотрит на реку, он не видит рыб. Значит, единственный способ изобразить реку — это нарисовать ее в разрезе, с плавающими в ней рыбами. Все другое будет поверхностно. Это понимали древние египтяне, это понимают дети. Маша тоже давным-давно поняла это и с тех пор никогда не забывала. То, что человек видит, рисовать нет смысла. Поэтому в ее альбоме у птицы четыре крыла, а голова у человека растет из спины.
Маше было шесть лет, когда тетя Валя, приехавшая в гости из соседнего городка, подобрев от водки и селедки под шубой, пронзительно взвизгнула в умилении: так вам надо девочку в кружок отдать! Маша, возившаяся на полу с карандашами и бумагой, подозрительно из-подо лба взглянула на тетю Валю, а потом метнулась взглядом к маме, будто прося защиты. Из мамы уже была плохая защитница — она тоже выпила водки и закусила селедкой. Да ну, — махнула она рукой. А что, можно, — мечтательно проговорил папа.
Через неделю мама объяснила Маше, что кружок — это вовсе не страшно, что она там будет вместе с другими детьми рисовать, а тетенька будет объяснять, как это делать. От подозрения она Машу не избавила. Маша и так знала, как рисовать, ей не нужны были тетенькины объяснения. Но чтобы сделать маме приятное, она позволила взять себя за руку и отвести в кружок.
Кружок оказался вовсе не кружком, а квадратом — большая прямоугольная комната с потрескавшейся краской на стенах. В большие, чуть не во всю стену, окна были вставлены тяжелые двойные рамы, расчерченные, как для игры в крестики-нолики, на девять полей, белая краска на них тоже облупилась. Но это не расстроило Машу, гораздо интереснее было другое: в комнате стояли мольберты. Мольбертов Маша раньше никогда не видела. Мольберты, ящики и коробки с красками, полные стаканы карандашей и банки кисточек примирили Машу с кружком.
Девочки — в кружок ходили только девочки — заглядывали Маше через плечо и кривили рожицы. Они таскали Машу к своим мольбертам и показывали ей домики, речки, дым из трубы и собачек с будками. Маша видела, что их домики похожи на домики, а собачки — на собачек, но сама так рисовать не хотела. Когда тетенька допытывалась у нее, почему (Машенька, ну сколько ножек у собачки? Разве бывают птички без клювиков?), Маша напряженно отмалчивалась, а однажды расплакалась. Тетенька отстала от нее, потому что она была добрая и вообще-то ей было все равно. Кроме того, когда перед Машей клали стеклянный шарик и просили нарисовать фотографию шарика, Маша опускала на лицо трагическую усталость (как когда человека, который умеет хрустеть пальцами, просят — ну пожалуйста, пожалуйста — хрустнуть пальцами) и рисовала шарик так точно, что если бы кошка, которую прикармливала угрюмая сторожиха, ела стеклянные шарики, она непременно набросилась бы на бумагу.
Машины руки наливаются жаром, становятся горячими, как яйца, которые мама варит, чтобы прикладывать к носу, и тяжелеют, как поплавок, пропадающий под водой. Она вырывает из альбома лист и рисует карандашом. На ее рисунке ветер крутит Землю, цепляясь за верхушки деревьев и крыши домов. Женщины и мужчины спят в высоких мягких кроватях, а старики курят ядовитые папиросы, высунувшись наполовину из дверей. Дым от их папирос мешается с теплым размокшим снегом, мечущимся от дома к дому. Старухи ворчат под душными одеялами, нащупав пустое теплое место рядом собой. Собаки тревожно спят, поводя ушами. Улицы ее города пусты и тёмны.
Город, в котором живет Маша, пуст всегда. Зимой ветер наполняет его пустоту снегом, летом — песком и пылью, осенью — мертвыми листьями и холодной водой. Когда ветер выдыхается, пустота начинает звенеть насекомыми, гудеть печными трубами, шептать талыми ручейками. Пустота здесь не похожа на пустоту бутылки, из которой все выпили, она здесь — пустота внутри старой желтой гитары, которую папа снимает со стены, когда тоска отравляет ему сердце. Гитара своей пустотой подпевает папе. Город своей пустотой отвечает тоске Бога.
Мужчины здесь медлительны, а женщины сварливы, ревнивы и скупы. Люди, которые здесь живут, покрываются прожитыми днями, как струпьями, и к старости становятся уродливы, как сама смерть. Собак здесь больше, чем людей, и их лай волной пересекает город от края до края.
Машины руки вдруг становятся легкими, точно во сне. Она чувствует, что замерзла, поднимает голову и смотрит в окно: за окном, будто разведенное в воде молоко, заливает улицу рассвет. Рассматривая рисунок, Маша удивляется, как у нее получилась такая мрачная картинка, когда она была так счастлива. Удивляясь, она закутывается в одеяло и, перестав дрожать, согревшись, засыпает: дыхание ее успокаивается.
Тени собираются вокруг спящей Маши, сгущаются по углам, стекают по стенам, скрипят досками пола, рассаживаются по стульям, руки складывая на сухие колени, на краю кровати, в дверном проеме из тьмы проступают старухи; пальцами-крюками утирают крюки-носы, качают колючими подбородками, кратерами ртов шевелят; тусклые темные глаза ввалились вглубь головы.
Женщины бессмертны; смертны только мужчины. Бабушка Маши, и бабушка Машиной мамы, и бабушка Машиной бабушки, — они живут в Маше, вокруг Маши, и беззубыми ртами перешамкивают ее имя. Шорох этих голосов прорывается в Машин сон и тревожит его, но она не просыпается, спит.
Старухам не спугнуть ее сон; Машина щека румянится из-под одеяла, крылья носа равномерно вздрагивают. Старухи смотрят на нее, вздыхают и из-под седых бровей перемигиваются. В глазах их — нежность и осуждение. Нежность — потому, что свежая Машина жизнь достойна нежности. Осуждение и страх — потому, что дряблой кожей и холодными ленивыми сердцами страхи знают: Маша на них не похожа, Маша другая, мужского много в Маше, и их, старухино, бессмертие она, не зная этого сама, хочет украсть. Молодыми, полными крови руками измять, расплавить, как пластилин, в тепле своих пальцев и сотворить из него себе судьбу.
Тоскливо качают старухи головами, пальцами распухших от тьмы рук перебирают ткань юбок и что-то друг другу говорят: сокрушаются.
Когда наступает утро и звезды за окном бледнеют, тают страхи, потому что мертвым среди живых нельзя.
В школу — через улицу (архипелаг бугристого асфальта в лужевом море); по пустырю, на котором летом расцветают одуванчики, зимой появляются следы хорьков, а в апреле из потекших ручьев кричат отмерзшие лягушки; между рядами серых и страшных гаражей с ржавыми дверьми — Маша ходит как на войну. Маша знает — ей много раз говорили — она не-как-все, и сила, с которой отодвигается от нее ее соседка по парте (закатить глаза, чтобы все видели), сила, с которой сжимает пальцы, выводя в журнале тройку, пятидесятилетняя, с крашеной крышей волос на голове, учительница (помидоры «дамские пальчики» — это про нее), сила, с которой толкают ее пробегающие на перемене одноклассники (Регина, двигай жопой), — все они складываются в силу ненависти, которую Маша испытывает к школе. Единственное, о чем Маша в школе думает — все последние месяцы, с тех пор, как услышала это от девочки из параллельного класса, в веснушках, которая хвасталась, что ее брат… — так вот, брат этой девочки уехал в Петербург и поступил там в школу, живет в общежитии — Маша думает об этом на уроках, на переменах и после уроков, идя по коридору, ступая так, чтобы ноги не попадали на серые квадратики шахматного линолеума, только на зеленые.
Зато когда Маша возвращается (гаражи, пустырь, дорога) домой, она остается одна: мама и папа на работе. Она скидывает ботинки (подошва немного отходит, но Маша не замечает), снимает куртку, бросает в угол рюкзак, по спирали сматывает с шеи шарф; гримаса презрения к миру — тоже, в сущности, одежда — растворяется.
Маша будто на скорость съедает суп (маме не объяснишь, что есть — скучно), составляет из сыра и булки бутерброд и, пережевывая желтое с оранжевым, уходит в родительскую комнату. В комнате — снять с табуретки тяжелый фикус, забраться на табуретку, открыть (стон петель) дверцу шкафа, там — священным сном спят друг на друге кассеты. Кассеты и видеомагнитофон здесь едва ли не роскошь; но в Машином доме они оказались случайно, кассетами и магнитофоном вернул папе долг дядя Миша (на самом деле он папе не брат, но Маша не умеет разбираться в степенях родства, ей все равно) после того, как по образцу столичных устроенный видеосалон за полгода разорился. Было это несколько лет назад, еще когда Маша не умела сама включать магнитофон; дядя Миша с тех пор спился и как бывший учитель истории проводил теперь на рынке для собутыльников исторические параллели.
На обложках кассет машут ногами узкоглазые мужчины с повязками на волосах, поводят пистолетами мужчины в шляпах и сладострастно изгибаются полуголые женщины (вот почему кассеты охраняет фикус). Большая часть из них без перевода (о чем забыл дядю Мишу предупредить столичный продавец), но Маше это неважно: скормив кассету пыльной черной пасти, она придумывает истории, которые ей показывает маленький выпуклый экран, сама. Истории эти всегда про нее. Она уничтожает злодеев, спасает красоток и всякий раз, скрывая улыбку, удаляется (уходит, уезжает, уплывает) от мира в полном одиночестве — таков финальный кадр, до которого Маша почти никогда не успевает досмотреть: снаружи раздается топот ботинок по крыльцу — с работы возвращается мать. Серия экономных энергичных движений — и лишь фикус, подрагивая листьями, вопиет об осквернении могилы.
Мои почерневшие от чужих денег пальцы, мама расспрашивает Машу — оценки, суп, второе, — кивает и хмурится: опять бутерброды? Сначала хозяйственным — она вымывает из морщин, трещин и складок на пальцах черную грязь, — потом хорошим (которое экономит) мылом вспенивает ладони, вытирает крепким полотенцем — каждый палец отдельно — и наконец между прочим просит Машу пойти к бабушке. В ее голосе (сходи, сходи, хлеб отнесешь, поговоришь, бабушка целыми днями одна, ты же знаешь…) еле-еле подрагивает тревога. Маша не знает, но целый день, прижимая трубку ухом к плечу, выкрикивая в окошко: у туалета только остались, будете брать? — мама вслушивалась в тупое размеренное гудение: бабушка не отвечала.
Маша идет к бабушке, город кидается тенями от дома к дому, перелаиваются собаки, в сумке плещет от стенки к стенке в стеклянной банке фасолевый суп. Бабушка любит фасолевый суп. Когда она ест его, она подносит ложку ко рту и губами выхватывает раскаленные фасолины, будто вместо губ у нее руки. Бабушка любит еду.
Бабушка любит рассказывать о голодном детстве. Тогда Маше кажется, что она ее попрекает. Это Маше так кажется. На самом деле голодный ужас, прошивший бабушкину жизнь насквозь, смешивается в таких случаях с удовольствием вспоминать молодость.
Первый раз она голодала в гражданскую — ей было пять лет; последний раз после войны — она сама уже была без пяти минут бабушкой. С тех пор хлеб есть всегда, но бабушка испытывает платоническую страсть к еде — к идее еды — так, как это было во время коллективизации и в войну. Бабушка любит борщ, когда ей приносят борщ, щи — когда ей приносят щи. Сегодня Маша несет ей фасолевый суп. Но он сегодня не пригодится.
Дверь открыта. Маша толкает дверь и проходит в комнату: на высокой кровати (сколько там пожелтевших матрасов — два? три?) под одеялом лежит бабушка и внимательно смотрит на Машу. Здравствуй, здравствуй, садись, — она показывает на стул рядом с кроватью.
Маша ставит сумку с банкой и хлебом на стол у окна и напряженно садится. Бабушка сухой пухлой ладонью ловит Машину руку и поглаживает ее. Маша замечает, что бабушка лежит под одеялом в халате. На одной ноге у нее тапок, второй тапок лежит на полу. Маша теряется: взять тапок с полу и надеть на вторую ногу или наоборот. У бабушки другие вопросы, Маша знает их наизусть и ей неловко на них отвечать — в каком она классе учится, какие у нее оценки и есть ли ухажер. В девятом, нормальные, нет.
Бабушка с удовольствием кивает Машиным ответам, потом приподнимается, подталкивает подушку локтем. Теперь она полусидит на кровати, одеяло углом сползло к полу. Маша дергается, чтобы поправить его, но бабушка ловит ее руку, сжимает ее двумя ладонями и перечисляет набор наставлений: слушайся маму, учись хорошо, слушайся маму, люби родителей, они тебя любят, учись хорошо. В следующее мгновение бабушка умирает.
Маше кажется, что бабушкины глаза распахиваются — она все поняла, все увидела из точки вне — свою жизнь (поросята, корова, пропойца-муж, колхоз, премия, один на все село телевизор, умерший от денатурата сын, хлебные крошки в ящике стола, сервиз из Ленинграда, смерть Сталина, любовник, женившийся на подруге), жизнь всех людей, страшную судьбу несчастной страны, тяжелый грохот, с которым телега этого мира катится в пропасть, свист ветра на улицах вымирающего города, баханье тысяч дискотек и удары молотов, загоняющих сваи в нежное тело Земли, — и через мгновение перед Машей лежит желтый, с матовым, как у воска, блеском кожи труп лысой старухи.
Некоторое время Маша сидит, тупо уставившись в остановившиеся бабушкины глаза. Потом она вдруг замечает, что до сих пор держит бабушкину руку, и кладет ее, тяжелую, на одеяло. Трясет бабушку за плечо. Оглядываясь — все по-прежнему: тикает белый, круглый, на медных ножках будильник, движется на тюлевой занавеске тень от груши, темнеет и пахнет старьем желтый оцарапанный шкаф, — Маша обращает внимание на пакет, который она принесла. Он стоит на столе — в нем, еще чуть теплая, банка с фасолевым супом. Вопрос, забирать домой банку или нет, так властно занимает Машины мысли, что она забывает о стоящем в прихожей под белоснежной салфеткой телефоне, — нужно было бы позвонить. Маша вынимает из пакета хлеб, отламывает кусочек пропеченной дочерна горбушки, жует его и смотрит в окно.
Дожевав, она вынимает из пакета банку, снимает с нее тугую полиэтиленовую крышку и осторожно — не расплескать — выносит во двор. Там она медленно разливает фасолевый суп вокруг груши. Вернувшись в дом, она ополаскивает пустую банку под струей холодной, пахнущей железом воды и, закрыв, уносит с собой. Всё.
Возвращаясь домой, ставя ноги наугад то в мокрый снежный крем, то в темные пучки прошлогодней травы, Маша чувствует в себе странную силу, как будто бабушкина смерть что-то ей подарила — уверенность или счастливую возможность именно теперь сделать то, что задумано и намечтано давным-давно. Остановившись на развилке (асфальтовая дорога с фонарями — влево, темный путь между кустов — прямо), Маша задыхается на минуту от ясного понимания того, что это все-таки будет.
А будет так: Маша, преодолев сопротивление своей матери, пережив многодневную истерику, уедет из этого города. Мама будет убеждать, плакать, умолять, уговаривать, рыдать, проклинать и своей родительской волей запретит. Отчаяние матери будет вещественно — Маша увидит его в красных от слез глазах, в мокрых морщинах кожи лица, в цепких пальцах, сжимающихся схватить Машу за волосы, как в детстве — выбить дурь. В просительной униженности мамы, сидящей на диване одной ягодицей — а как же мы без тебя, ты об этом подумала? Нет. В этой вакханалии женской тоски у Маши будет союзник — отец, который сначала выпучит глаза и специально рассмеется — что?! — и скажет, конечно, нет — иди уроки делай, не пугай мать. Но потом он в каком-то безоглядном вдохновении расплачется, проговорит, выгнав мать с кухни, с Машей целую ночь и под утро, промолчав с полчаса, достанет из жестяной банки для гречки спрятанные на черный день деньги — ровно на билет до Ленинграда (здесь он до сих пор Ленинград). Через неделю постаревшая на целую жизнь мать, закрыв окошко на обед, обольет слезами дохлый станционный компьютер и выбьет дочери билет.
Все это Маша видит не в последовательности событий, а в единстве свершающегося сюжета, в полноте становления жизни. Сжатые кулаки болят и — Маша чувствует — вот-вот брызнут горячей кровью. Маша пересекает разбитую, залитую талым снегом дорогу и уходит по темной узкой тропинке — короткий путь домой.
Маша не знает — и не узнает больше никогда, потому что единственный человек, который это знал, уже умер — речь о бабушке, — в бабушкиной жизни это место (пересечение дороги, ведущей в город, с узкой тропинкой) было важным. Много лет назад дедушка, ездивший в райцентр на курсы, возвращался этой дорогой домой. В кармане новенького пиджака у него свидетельство об окончании курсов — он теперь помощник машиниста — и паспорт, пахнущий свежими чернилами. Рядом с ним, сжимая его предплечье двумя руками, сидит бабушка. Она влюбилась в этого крепкого и уже усатого мужичка, и однажды утром — родители, ошарашенные новыми советскими порядками, только развели руками — бодрый, пропахший махоркой директор свежепокрашенного загса, улыбаясь, клякнул им в паспорта: поздравляю вас, товарищи! Бабушка прижимается к дедушке, удерживает ногами узелок с одеждой, трясется в обросшей сеном и коровьим говном полуторке, глядит на залитую солнцем дорогу и испытывает ничем не оправданное, неотвратимое счастье — единственный, может быть, раз в жизни. Это та самая бабушка, которая холодеет теперь бессмысленным телом в провонявшей кровати.
Дома, после маминой истерики, крика, слез, нашатыря, звонка в скорую, слез, слез, слез, Маша запирается в своей комнате и в альбоме, между недорисованными профилями и башнями туманных городов, пишет на разные лады: Мария Регина, Мария Регина.
Родовая хирургия
Мужчины тотально смертны потому, что их тело легко, как рукоятка молотка. Вес воли — движущая причина их жизни.
Старея, люди чаще всего живут назад — стремительно, как пружина, которую наконец отпустили. Щелчок, с которым мама, ударив клавишу компьютера, выбила Маше билет в Ленинград, был щелчком ногтя, выскальзывающего из-под спирали пружины. Мама стала стареть, и первыми постарели ее глаза. Зеленели новорожденные листочки, вылуплялись из травы одуванчики, намок и слежался песок на бабушкиной могиле — мама, как юла, вертелась по магазинам, собирая Машу в дорогу — носки, трусы, кофточка, свитер, шапка (мама, зачем? лето!), наволочка, тетради, ручки, карандаши (сала кусочек возьмешь?), — но машина ее жизни уже катилась по инерции.
Провожая Машу на поезд, мама заглянула в вагон: кто едет? — объяснила Маше (да знаю я, знаю), что в вагоне есть два туалета и ходить надо в этот, а не в тот, пересчитала еще раз сумки (кажется, все) и с настоящим ужасом посмотрела на чуть пьяного и пахнущего табаком проводника: женщина, покиньте вагон! Посмотрев под колеса поезда (где-то слышала, примета такая), она опустила руку, которой в воздухе шевелила пальцами, и тяжело, отчаянно разрыдалась — так, что у папы свело горло. Мама плакала всю дорогу домой, да и дома успокоилась не сразу, но то, что стало с ней потом, напугало папу еще больше. Она все так же готовила, ходила на работу, вытирала пыль и подметала полы — но ее ладони стали покрываться сухой коркой, волосы выбились из-под заколок и повисли на висках, а яблоки глаз выстыли и остановились. Произошедшее не отпускало маму, так что первый вопрос, с которым она обратилась к папе после нескольких дней молчания, был: почему ты отпустил ее?
С этого момента и до самой смерти — все последующие годы — папа так и не научился отвечать на этот вопрос. Мама задавала его все чаще и настойчивей. Не в том дело, что он не мог сформулировать ответ или упрямо не хотел отвечать. То, что он мог бы сказать — но что сказать боялся, потому что знал, что этот ответ не лучше других, — это что, в действительности, он просто забыл, почему.
А было это так. Папа вернулся с работы и пошел на кухню мыть руки. На кухне было немирно: мать с красными пятнами на лице кричала на Машу. Маша сидела на стуле, подложив ладони под бедра, и молчала, упрямо нагнув голову. На столе были расставлены тарелки и царствовала кастрюля с супом.
Папа начал уже почти привыкать к ссорам: две недели в доме была война. Маша маме рассказывала про школу-интернат, мама в школу не верила, уговаривала, кричала и плакала. Папа хотел есть и чтобы все было, как было, — смотреть на плачущую маму ему было страшно. Папа говорил Маше: перестань выкобениваться, — и надеялся, что она перестанет.
Папа прошел к раковине — мама и Маша, показалось ему, его не заметили. Тогда он стал мыть руки, и, пока он крутил в ладонях кусок мыла, случился взрыв: по доскам пола прогремел стул, с которого ракетой вспрыгнула Маша. Маме, переставшей плакать, и папе, рывком обернувшемуся на нее, она крикнула: я не хочу провести свою жизнь так, как провели ее вы! И, сжав кулаки, убежала из кухни.
Что-то сместилось в мире, и папа, проводивший глазами сбежавшую дочь, продолжая намыливать руки, перестал слышать. Он слышал только шум льющейся воды. Остекленело уставившись в пену на своих пальцах, папа вспомнил, о чем мечтал в детстве.
А мечтал он вот о чем. Из дома — от пьяного, неуклюжего отца и от измученной взбешенной матери — он с соседским мальчишкой бегал в лес. Паша и Витя стаскивали сухие ветки и листья в траншею, оставшуюся от войны. Там у них был шалаш, а в шалаше — склад: они собирали гильзы, обломки касок, а однажды нашли даже обросшую мхом гранату. Когда Паша приходил в шалаш один, он перебирал ржавый металл и представлял себе идеальную жизнь. Выглядело это так: он жил в жарком американском лесу, в пещере за водопадом. От мира его отделяла искрящаяся на солнце тонкая пленка воды. Снаружи это была низвергающаяся с головокружительной высоты струя, вспенивающая голубое озеро внизу. Изнутри это был уютный и удобный дом, стены которого были увешаны трофейным оружием, а полы уложены шкурами тигров и медведей.
Сейчас Паша снова, как и две трети жизни назад, увидел себя в своем идеальном доме: сквозь тонкую пленку холодной воды в него смотрели джунгли и жарко горело американское солнце. И как будто сквозь эту пленку впервые прорвался к нему вопрос: а как прожил жизнь он? Вода бухала в папиных ушах, мозг превратился в колотящееся сердце.
Витя, с которым папа обустраивал шалаш, однажды отправился туда без него и хотел очистить найденную гранату от мха. Взрывом Вите оторвало руки и снесло полголовы. Сейчас папе причудилось, будто вместо Вити был он — мыло превратилось в его руках в гранату, и жар высвободившегося джинна ударял в виски. Папа вдруг понял, что он жив — что он живой комок воли и что сила взорвавшейся гранаты в его руках. Знание живой жизни — жизни как движения воли — тут же покинуло папу, но тихая реверберация этого знания заставила его, когда он доел суп, сказать маме: позови ее, — а когда та пришла с Машей, прогнать маму с кухни.
Что он хотел сказать дочери, папа не знал. Что он должен был бы сказать — забыл, как только выключил воду. Так что, усадив Машу за стол, он спросил ее просто, так, будто хотел узнать: как она хочет жить? Маша не могла ответить на папин вопрос и вместо этого стала говорить, как она жить не хочет. И на вопрос как? — стала описывать жизнь своей матери.
Два человека не могут услышать друг друга, обмениваясь репликами, — папа не понимал Машиной скуки, собственная тоска хватала его клешней за горло. Слова дочери он воспринял как обвинение своей собственной жизни и стал оправдываться. Уже давно закончился выпуск новостей, который он никогда не пропускал, — папа, будто сорвав с раны повязку, пересказывал Маше, как жил он. Разворачивая перед дочерью окровавленный, засохший в корочку бинт — свою жизнь, — папа с недоумением обнаружил, что все, что он может сказать в свое оправдание, — это что у него не было выбора. Разве он мог не пойти в школу? Разве после школы он мог не пойти на курсы — водителей, но хоть бы и механиков, слесарей — все равно? Разве он мог не жениться на матери, которую он любил и которая однажды, краснея и задыхаясь, сказала ему: Паша, я, кажется… И что он мог сделать — кроме как устроиться в автопарк и крутить баранку с девяти до шести каждый божий день, радоваться премии, утаивать часть зарплаты от жены, сбегать по пятницам на пьянки с друзьями, помогать матери вести огород и мечтать о новом телевизоре.
Папа рассчитывал оправдаться, но, рассказывая все дальше и дальше, понял, что зачитывает обвинение, и расплакался. И тогда Маша поняла, что победила, и, ощущая эту победу как новый воздух в легких, сказала, что у нее выбор есть. Что она может поехать в Петербург и поступить там в хорошую школу, про которую она слышала от девочки из параллельного класса, у которой туда поступил брат, что она поступит туда и будет много учиться — так, чтобы поступить потом в университет и жить совсем, совсем по-другому, но только — и это единственное — у нее нет денег на билет.
Мама много раз требовала пересказать этот разговор, но папа отмалчивался. Не мог же он, в самом деле, сказать, что в полчетвертого утра, когда он взглянул на Машу, он увидел вместо милого лица своей дочери — тени бледного утра, кухонных ящиков и полок, тряпичной люстры и висящих на стене гирлянд лука и чеснока так легли — страшное, обезображенное глубокими морщинами лицо дряблой старухи, которая к тому же богомерзко ухмылялась пыльным ртом. Что, испугавшись, он хотел разрушить иллюзию и вскочил, чтобы включить свет, и правильным продолжением этого жеста было — достать из шкафчика жестяную банку в желтый горошек с надписью «греча».
Всего этого папа никогда не мог рассказать маме, мама обижалась и плакала, папа пил и, когда напивался, тянулся к гитаре.
Юность есть возмездие, и как возмездие она безжалостна. Как только мама и папа скрылись из исцарапанного окна поезда, Маша забыла про родителей. Плацкартный вагон — главный русский хронотоп — был полон людей. Люди ехали издалека и уже успели наполнить изрезанное полками пространство запахами — яйца, курица, пиво, носки, несвежее дыхание — и болтовней (а я ей и говорю). Маше было страшно и весело.
Вагон принял Машу безразлично. Проводник отобрал билет, мужичок в майке, оторвавшись от карт, помог забросить сумки наверх, огромная баба предложила яичко («спасибо, у меня есть, я сама хоть полвагона накормлю»). У Маши не было книги, да она и не смогла бы читать — она смотрела в окно: поезд несся поперек садящемуся солнцу; поля, реки, озера, леса, деревни проносились мимо, и каждая новая река была багровее предыдущей.
Мимо Маши пролетали деревеньки и городки, как один похожие на тот, в котором прошла ее жизнь. В полудреме — Маша устала, но не признавалась себе в этом — ей чудилось, что она еще не уехала из своего города, да и не могла, вот же она: водонапорная башня из красного кирпича с обломанной треугольной крышей, вот станционный магазин, в котором ночью очередь за маленькими и пол-литровыми, вот дорога в центр и вдалеке — флаг черт знает каких цветов над главным зданием городской площади, и Маше не нужно было видеть, чтобы знать: четыре колонны и облупившийся герб под козырьком, и памятник лысому Ленину у входа. Город не отпускал ее, он кривился, цеплялся за колеса поезда. Покосившимися столбами, мертвыми фонарями, мятыми дорожными знаками, призраками заброшенных фабрик и мемориалами в честь героев войны — он продолжал быть, хватался клыками столбиков, отмеряющих километраж, за Машину грудь. Ужас парализовал Машу — она вдруг поняла, что ей некуда деться, — и, закрывая глаза, в мерном перестуке колес она слышала неумолимость приговора: куда бы она ни ехала, город будет с ней, он проник в нее, как радиация, как соль проникает в мамины огурцы, с этим ничего нельзя сделать, только, как опухоль вырезают вместе с грудью, отбросить самую свою жизнь.
С усилием, будто выныривая из-под тяжелой мутной волны, Маша открыла глаза. Напротив сидел и внимательно смотрел на нее сквозь полутьму вагона мальчик, каких Маша никогда раньше не видела, — мальчик с лицом наследного принца, красивый, как солнце, просвечивающее сквозь новорожденный лист.
Он лежал там, вдалеке, на полке, читал, теперь читать стало темно, он спустился и увидел Машу, что она не спит, и подумал… — он смущался, — подумал, что, может, они поболтают, раз уж не спят, одни на весь вагон.
Маша не могла толком рассказать, куда она едет. Она слышала, что в Петербурге есть школа — она знает ее номер, — что там учатся не только питерские, там есть общежитие, и что сейчас, в конце мая, там вступительные экзамены, она едет сдавать их, а потом учиться в школе. Глаза мальчика загорались все веселее, пока Маша рассказывала, а когда она сказала, что даже адреса не знает — но номер-то есть, можно в любом телефонном справочнике узнать, — мальчик от восторга даже прихлопнул ладонью по столу.
Он уже закончил школу — ну, почти, — только выпускные остались, а ездил… ну, пришлось поехать, дядя умер, похороны. Расстроился? Нет, он не сильно знал этого дядю, но поехать было некому, и, кстати, если Маша курит, то, может, они пойдут в тамбур, там, наверное, нет никого, можно поболтать.
Дым от зажженных сигарет мгновенно заполнил узкий шкаф тамбура и будто пробудил к жизни дух этого заведения: нещадно завоняло. Я вообще-то не курю, ну, то есть недавно начала. Мальчик посмотрел на морщащийся Машин нос и царственным жестом открыл дверь между вагонами.
Между вагонами, на прыгающих их плавниках, было холодно и шумно, но весело и свежо. Ветер неожиданно залетал в эту ловушку, в смятении рыпался от стенки к стенке и со свистом выскакивал в черные щели. Дым забирал с собой.
Они ни о чем особенном не говорили — Маша и мальчик с лицом наследного принца. Маша рассказывала, что она будет сдавать (не знаю, что обычно сдают — математику, русский), мальчик — куда он будет поступать. Куда-куда? — В кино и телевидения. — На актера? — На актеров там не учат, кино буду снимать. — Значит, режиссер. — Маша! Режиссер — это такой человек, который кричит на артистов, а кино снимает оператор. Маша улыбнулась как посвященная в тайну.
Ветер времени дует в обе стороны. Редкий человек чувствует его ток параллельно своей продолжающейся жизни. Особый секрет — ловить на щеках дуновение времени из будущего. В пустоте между вагонами Маша почувствовала — ее пальцы заледенели от достоверности этого ощущения, — что эти десять минут на прыгающих вагонах — мальчик на одном, она на другом — станут камертоном ее счастья. Отсюда, из поющего стыка вагонов, она видела себя будущую — взрослую, — как она оглядывалась (прошедшее время здесь уместно) на себя-девушку, еще даже не десятиклассницу, неловко попадающую сигаретой в рот и широко глядящую на мальчика с лицом наследного принца — еще не влюбленную, но почти, почти! А тебя как зовут? — Рома, — сказал мальчик, глазами кося на ручку двери.
Так получилось, что Рома вынес Машины сумки на платформу, потом нес их до вокзала (не надо, я сама — да мне не тяжело), потом помог ей разобраться с телефоном (ну ладно, пока… подожди, у тебя нет монетки случайно?), а потом плюнул на то, что дома ждут родители, и поехал провожать Машу до школы (все равно ведь ты сама не найдешь).
Маша впервые в метро, и громада техники вызывает у нее благоговение. Она, конечно, не нашла бы сама: мальчик лавирует между людьми, перепрыгивает из поезда в поезд — будто он родился в метро. В вагоне, держа сумки между коленей, он отрешенно смотрит в пол — его не интересует ни то, как проносятся за окнами провода и лампы, ни реклама на стенах, ни разъезжающиеся двери, ни прозрачная жизнь соседнего вагона, ни люди, сидящие напротив, — большая крашеная тетка с мягким кубиком книжки в ладони, пьяный молодчик, приваливающий голову ей на плечо (она смотрит на него надменно). Маша старается делать вид, будто все это ей тоже до фени, но получается плохо — сторонний наблюдатель, найдись он, все понял бы про нее: первый раз в метро, из какого ты, говоришь, города, девочка? Украдкой Маша взглядывает на Рому, и, вероятно, он бы испугался, поймай этот взгляд: в нем — слишком много знания о будущем и восхищения им.
Из поезда в поезд и на другой — они выходят из метро и скоро оказываются у школы. Не доходя до ворот ста шагов, мальчик ставит сумки на землю (Маша замечает — на асфальт): дальше сама. Покурим?
Маша сглатывает и кивает — и от этого закашливается.
Солнце растворяется в воздухе, из раскрытого окна визжит дрель, дым, кажется, никуда не улетает, остается с ними. Рома внимательно разглядывает клумбу с цветами и молчит. Пока Маша думает, попросить ли телефон (она заливается краской и сигарету подносит к губам чаще, чем нужно), — табак успевает истлеть, мальчик затаптывает ногой окурок, подхватывает рюкзак и — ну ладно, говорит, удачи тебе.
Маша кивает и старается на мальчика (кстати, пока он не ушел: беспорядочные кудри, большие карие глаза, нежной линии нос и узкий подбородок, зубы чуть круглые) не смотреть, и только когда он отходит, кричит вдогонку: спасибо!
Мальчик взмахивает рукой и, на ходу оборачиваясь, улыбается.
Маша вошла в школу, и сухая тетка в очках поперек головы сказала ей, что экзамен только что начался. Маша не успела удивиться: она уже оказалась в классе и, отчаянно стесняясь запаха бутербродов с колбасой из своей сумки, чертила формулу за формулой, потом расставляла запятые и писала что-то про чей-то образ.
Удивление догнало Машу у доски с результатами (мальчик справа от нее сдержанно кивал большой головой, девочка по левую руку плакала) — из всех списков в Машу стреляли три двойки, — и удивилась она не тому, что провалилась, а тому, что теперь будет дальше, потому что не могла же она пойти на вокзал и взять обратный билет: такого билета ей не продадут, его попросту нет в кассе, колесо уже повернулось, зуб зацепился за зуб, и что-то теперь должно быть новое, чего раньше не было — не бывает ведь, чтобы камень, сорвавшийся в пропасть, вдруг остановился и пополз обратно.
Поезд, багровые реки, мальчик с лицом наследного принца (взмах рукой), формулы, орфограммы, вопросительные знаки, двойка раз, двойка два, двойка три, свист дрели, яркий солнечный свет (огромное, во всю стену, окно на первом этаже школы), — пространство плыло перед Машей, но в структуре мира что-то установилось, и, заряженная этим ощущением, она просто отошла от доски и села на скамейку, где стояли ее сумки и где перед тем она несколько часов ждала, когда сутулый мужчина в кривом пиджаке принесет и кнопками (да подождите же вы, сейчас все увидите) прикрепит к доске листы с колонками цифр.
Родители потихоньку уводили детей, какая-то мамаша, огромная и неповоротливая, заискивающе допытывалась у всех подряд, когда апелляция. В конце концов ушла и она; Маша осталась одна, смотрела в окно (ей нравилось это огромное окно и солнечный параллелепипед на полу), потом сунула руку в сумку и выловила последний, почти раскрошившийся бутерброд: колбаса на нем увяла, но пахла по-прежнему сильно.
Пережевывая бутерброд, Маша ловила себя на том, что он кажется ей очень вкусным; ей бы плакать, а тут — колбаса, солнце и нежный ветер за окном. Слизнув масляную каплю с ладони, Маша замерла: в груди у нее что-то подвисло, как бывает на качелях, когда раскачиваешься так сильно, что видишь перед собой только синее небо без конца.
Мелодия, вдруг побежавшая от стены к стене, от которой зазвенели стекла в окнах (тихо зазвенели, но Маша так тонко слышала в тот момент, что — слышала), свист и ритмичное похлопывание по лестничным перилам: по лестнице спустился и прошел в пустой холл мужчина — Маше он показался взрослым, таково волшебное действие костюма и галстука. Увидев Машу, он смутился и перестал свистеть.
Поступили? — Да… то есть нет. Мужчина рассмеялся: так поступили или нет? — нет, — Маша спрятала руку, которую только что облизывала. Мужчина секунду постоял, глядя на Машу, потом коротко посмотрел в окно и сел рядом с ней. Ну и что получили? — Двойки. — Что, все три? — Все три. — А почему не уходите? Маша протянула руку к сумке и пожала плечами. Нет, нет, я не к тому. Поступали, не поступили, все уже ушли, а вы — нет. Почему? Апелляция через два дня. Маша обвила пальцами лямки. Не знаю. Мне не нужна апелляция, я учиться приехала.
Мужчина снова посмотрел в окно. Было видно, как в солнечной ванне купаются, взвиваясь и опадая, пылинки. Он стал расспрашивать Машу — так подробно, что она отняла наконец руку от сумок и отвечала, иногда взглядывая на него. Подростки немногословны, но он медленно вытягивал из Маши — где жила, где училась, как узнала про школу, как отпустили родители, даже как она нашла в незнакомом городе адрес, — терпеливо ожидая, пока Маша искала слова. Наконец после паузы он расцепил пальцы и сказал: ваша работа, конечно, ужасна; ваши знания на уровне седьмого класса, это в лучшем случае; уж не знаю, как по математике, но, видимо, тоже.
Но учиться Маша все-таки будет, раз уж она не ушла. В летней школе. Жить в общежитии. Заниматься. И все в ее руках. Если за три месяца она нагонит остальных ребят (это трудно, но можно сделать), то в конце августа сдаст экзамен во время допнабора — и будет учиться. В десятом классе, вместе со всеми. Все понятно? Кстати, его зовут А. А. Да, — сказала Маша тихо, — спасибо, — и опустила голову. Ну поплачьте, поплачьте. Это хорошо.
Маша еще немного сдерживалась, в потом разрыдалась в голос, всхлипывая и подвывая — плач ее перепрыгивал от стены к стене по всему холлу и выше, по лестнице, к общежитию, куда, когда Маша успокоилась, А. А. и отвел ее, сдав на руки большой маслянистой женщине: заселите девушку. Я ее завтра внесу в списки.
То, про что А. А. сказал «сделать трудно, но можно», оказалось невозможно вовсе — Маша поняла это на первых занятиях. Вместе с ней учились девочки, которые, как и она, не поступили, но собирались пробовать еще в августе. Все эти девочки плохо сдали экзамены, но каждая из них знала больше, чем Маша. Маша не знала ничего: уравнения были для нее темный лес, запятые были лотереей, образов и характеристик она не понимала. Из всех не поступивших (и стесняющихся этого) девочек она была настоящая дура.
Она поняла это после второго дня занятий, ложась в постель. Она уже забралась под одеяло, свет не горел, во все окно сияло ночное небо, соседки по комнате спали куколками, тени были неподвижны — Машу догнал ужас, так что она струной выпрямилась на кровати: в тишине она слышала стук своего сердца, и в биении сердца явственно различала стук колес. Сияние неба померкло, сгустились и потяжелели тени, в глубине коридора прошелестели тапки — маслянистая женщина совершила обход и ложилась спать. Впервые за эти несколько дней Маша поняла, что она одна — за тысячу километров от дома, в огромном городе, где всего несколько человек знают, что она существует, и им абсолютно наплевать на нее, как наплевать на человека, который сидит с тобой рядом в вагоне метро. Вокруг нее — целый мир абсолютной пустоты, здесь не за что ухватиться, некуда поставить ногу, есть только она — ничего и никого, кроме нее, как на Марсе, и то, что ей нужно сделать, — это все равно что перевернуть планету, вывернуться наизнанку — абсолютно невозможно. Маша наматывает волосы на руку и больно-больно тянет их, так, чтобы кожа отделилась от черепа. Страх наваливается на Машу (как боится приговоренный к расстрелу, когда десяток стволов взлетают и замирают на уровне груди?), душит ее, еще чуть-чуть, и она закричит. Включить бы свет, но девочки спят — и пусть лучше спят. Раскаленными руками Маша скидывает с себя одеяло, ставит ноги на пол (не расплавился бы линолеум), нащупывает в темноте стопку книг и тетрадей и медленно, словно сквозь заросли водорослей, пробирается к двери.
Спустившись на этаж, Маша заходит в первую попавшуюся аудиторию, включает свет и, сев за стол, раскрывает учебники. Только когда руки холодеют, а дрожь в теле не удается унять ни на минуту (дом напротив уже красный, и окна блестят), она возвращается в постель. Взглянув на часы, Маша понимает, что завтрак через двадцать минут.
Следующие три месяца, шесть дней в неделю, Маша спит по три часа в сутки. Она уходит из комнаты, когда девочки засыпают, и возвращается к утру — девочки ничего не замечают. Только один человек (позже, много позже) будет знать об этом, и когда он спросит, трудно ли ей было, она ответит: протяни руку к потолку. Вот так. А теперь не опускай ее три месяца. Чтобы не засыпать, Маша пьет кофе — сначала одну ложку на чашку, потом две, три, отказывается от сахара — и когда доходит до пяти ложек (на кофе ушли почти все деньги, которые с собой дала мама), Маша начинает заваривать крепкий, непрозрачный чай. Потом она пьет чай с перцем — с черным, с красным. Набирает в бутылку ледяной воды из-под крана в туалете и растирает лицо. Когда все это перестает помогать, она читает стоя. Однажды, прислонившись к стене и через час очнувшись на полу, Маша понимает, что просто стоять нельзя, и, читая, ходит кругами по классу. Кровь стучит у нее в висках — это все те же колеса бьют по рельсам.
А. А. ведет у Маши русский и литературу, но ни единым жестом не выделяет ее из всех, он строг и отчужден. Только в самом конце июля он, стремительно шагая по коридору, на ходу кивает Маше и одобрительно бросает: хорошо. Действительно, однажды, переписывая из учебника уравнение, Маша обнаруживает, что перед ней на бумаге не чернильная солома, а набор фигур, которым она должна приказать танцевать что-то вроде полонеза. Что-то похожее происходит и с запятыми и с безударными гласными — правила, которые она раньше понимала как тюремный распорядок, становятся для нее правилами дорожного движения, условием прозрачности текста.
Удивительно: днем, на занятиях, Маша не чувствует усталости. Бессонные ночи бессонными ночами, но в классе она другой человек — внимательна и сосредоточенна. Только один раз, выйдя к доске, она внезапно грохается в обморок — переполох. А. А. напуган, медсестра в отпуске, Машу перетаскивают на стул. Очнувшись, она в мгновение собирается и, твердо глядя на А. А. (из цветной мути скатывается и обретает вещественность его лицо — близко, может быть, даже слишком близко), извиняется и просит продолжать занятие. А. А. отправляет ее наверх, но скоро понимает: бесполезно, девочка остается.
В конце августа Маша вместе со всеми пишет экзамен. Задания не сложнее, чем весной, даже, может быть, проще — и все-таки большинство девочек не справляются. В десятый класс зачисляют троих — Машу в том числе. На этот раз нет никаких досок — девочек собирают в классе (они сидят молча, смотрят в исцарапанные столы, дробят пальцами, вытирают лбы: жарко) — потом в класс входит директор, учитель математики и А. А. С порога А. А. находит глазами Машу и еле заметно подмигивает ей. Маша все понимает, но когда директор, приподнимая очки, заглядывает в лист (по итогам экзаменационной работы в десятый «б» класс зачислены…) — строгий взгляд в публику — и называет ее фамилию, внутри Маши все обрушивается. Случившееся она ощущает как пустоту — как будто из нее вынули эти три месяца, и стала новая Маша, в душе которой еще ничего не успело осесть.
Те девочки, которые пролетели, плачут и идут собирать вещи. Поступившие держатся боязливо, как в холодной воде. Они внимательно вглядываются друг в друга, хотя эти три месяца виделись каждый день. Маша тоже разглядывает их: одна — старательная девочка с пухлыми пальцами, волосы собраны в хвост, лицо открытое, как кастрюля; другая — вертлявая деваха с накрашенными глазами. С удивлением Маша отмечает, что помнит имя второй: Даша.
Стремительно (мелькают окна и ступени) Маша поднимается в общежитие, бормоча под нос: я приехала. Надев уличные ботинки, она выходит из школы и маленькими глухими улочками пробирается к набережной. Пиная ногами окурки, камешки и пивные банки, она шепчет: я приехала. На набережной пусто, солнце греет гладкую (ни ветерка) воду. Встав так, чтобы колени касались гранитного парапета, Маша бросает яростный взгляд на шпили и купола, щурится на дребезжащее в небе солнце, оглядывается (никого нет) и в полный голос говорит: я приехала.
Потом она целый день гуляет по набережным, улицам и проспектам — это ее первая прогулка: три месяца она не выходила из школы, жила, будто на корабле. Ангелам и кариатидам она шепчет привет, подмигивает львам и суровым полководцам. К вечеру ноги у нее гудят, как две турбины. Добравшись до кровати в общежитии, она обваливается на простыню и тут же засыпает. В последнее мгновение она успевает сформулировать, что произошло: сегодня она родилась.
Проснувшись, Маша находит на своем столе книгу. Это второй том популярного пушкинского трехтомника, на титульном листе почерком А. А. выведено: «Нежной Маше. Прощайтесь с родимым порогом, Вас ждут неизъяснимы наслажденья», — в этот момент ей в голову не может прийти прочитать эту надпись как-то иначе, чем приглашение к бурной вальсингамовой радости по поводу преодоления того, что по определению не преодолимо.
На следующий день Маша отправляется на телеграф и, забравшись в исцарапанную ключами и ручками кабину, звонит домой. Она говорит маме, что поступила и что, значит, если и приедет теперь, то только на каникулы, да и то не на все. Мама плачет в трубку, спрашивает, на надо ли чего, кстати, умерла собака, и ее одноклассницы поступили в техникум. С проводником в седьмом вагоне во вторник приедет посылка, там будет шоколадка, а в шоколадке — немного денег. Маша говорит спасибо, — прощается и вешает трубку. Голову ее занимает первое сентября, которое — послезавтра.
Мама, отойдя от телефона, садится пить чай (папа на работе) и, носом уткнувшись в поднимающийся из кружки пар, вспоминает, как родилась Маша.
А было это так. Рыбы прятались в подводные норы, чтобы не слышать грохота: кололся, вздыбливаясь, лед на реке. Пустой январский воздух был натянут на мир, как пленка. От мороза трескались губы у людей, и скотина ныла в сараях. Заходя с мороза в дома, люди кривили лица и прижимали ладони к ушам. В лесах под тяжестью снега лопались могучие еловые лапы и с глухим уханьем обваливались вниз. Мучительное эхо перекатывалось от реки к реке: с берегов перекрикивались друг с другом деревья. Звери трясли отмороженными лапами; люди в кровавую картошку растирали носы.
Мама ждала папу дома и с улицы таскала в дом дрова, чтобы кормить ими шуршащее печное жерло. Схватки начались днем, маме стало страшно, и она скулила у печки. Схватки не прекращались, и мама пошла к соседке — та набрала «скорую», и маму отвезли в больницу. В палате на койках лежали семь рожениц. Одни орали, другие затравленно стреляли глазами по сторонам.
Вечером папа вернулся с работы, и караулившая его соседка сказала: поезжай, поезжай — не пустят тебя, а ты все равно езжай. Папа два часа ходил по больничному коридору, каждые пятнадцать минут выходил на улицу и отчаянно курил.
В начале двенадцатого все кончилось. Из мамы достали лиловую Машу, папа слышал ее нечеловеческий визг, и когда он вышел, чтобы идти домой, слезы на его ресницах мгновенно заледенели.
Искушение любовью
Когда роман грозит обернуться агиографией, верный способ вернуть иглу на дорожку — сразу объявить о совершенных героем чудесах (прижизненных, по крайней мере) и без заминки обратиться к тому, на чем работает двигатель любого романа — истории любви.
Первое Машино чудо было густо замешано на Петербурге — городе, который она, вопреки канону, впервые увидела не ранним летом, когда по ночам тайный свет заполняет улицы, реки и каналы и заставляет все — от куполов соборов до пустых пивных бутылок — тускло сиять серебром, когда теплая вода угрюмо чмокает гранитные ступени и кучки пьяных счастливых выпускников мечутся из магазина в магазин, заставляя пожилых туристов сбиваться в сторонку, когда ближе к Дворцовому мосту город пузырится беспокойной толпой, а вдаль по каналу Грибоедова растекается влажной тишью, сводящей с ума любителей Достоевского, — нет, нет, не летом, а поздней осенью.
Сентябрь был еще продолжением этого сумасшедшего лета, Маша никак не могла успокоиться. Она спала больше, часов по шесть, но все свободное время занималась. В десятом «б» она снова была на нуле — все то, что ее одноклассники знали, казалось, всегда, ей доставалось суровым ночным послушанием. Она читала Пушкина, Гоголя, Карамзина, Радищева, учила теоремы, разбирала путаные, похожие на китайскую духовную практику, правила русской орфографии, учила бессмысленные российские реформы, — все это за восьмой, девятый классы, которых у нее, как она поняла, не было. Только во второй половине октября она наконец надела куртку, ботинки, замотала вокруг шеи шарф и вышла из школы. Может быть, это случилось бы еще позже, но на уроке литературы в этот день А. А. вдруг отвлекся от «Невского проспекта» и чуть не кричал на притихший класс: боже мой, юноши и девушки, вы хоть понимаете, как вам повезло? Миллионы людей во всем мире читают все это и понимают через слово, пьют эти тексты, как обезжиренное молоко. Вы живете в городе, в котором европейская культура обрела смысл! — потом Маше А. А. признавался, что, конечно, был слишком категоричен, но какой оратор не машет руками? — Пройдите по этому городу! Не вдоль по улице куда-то, а погружаясь в него. Спрашивайте камни и мостовые, они много расскажут вам. Петербург — это лучшее, что может случиться с вами! Вы никогда не услышите, что там вам нашептывает Гоголь, пока не промерзнете под дождем где-нибудь на Карповке, в полном одиночестве и без копейки в кармане. Подпорожный! Где герой находит свою возлюбленную? — В борделе, А. А. — Надеюсь, Подпорожный, это не единственное, за что зацепился ваш целомудренный читательский взгляд?
Смех смехом, но через час после того, как Маша вышла из школы, полил дождь. Город, который она увидела, — это тот самый Петербург, который станет героем ее первой работы. Погруженный в дождь, плавающий в нем всеми своими домами и храмами, темный и холодный. Город, в котором вещи качаются на самом краю вещественности и вода в каналах напоминает о смерти. Маша насквозь пропиталась дождем, и глаза ее вывернулись наизнанку, приняв в себя все увиденное снаружи.
Забравшись в светлое дымное кафе, она вынула из рюкзака папку с бумагой и карандаш. Чашка с кофе остывала, девочки в фартуках косо поглядывали на Машу, галдели бездельные люди, музыка, болтовня и сигаретный дым кружились вокруг Маши, залезали ей в уши и глаза, но все, что она сейчас чувствовала, было сосредоточено на кончиках пальцев, сжимавших карандаш так, что побелели костяшки. Лист покрывался туманом, и из тумана стали выползать тени — огромный незрячий дом проплывал по набережной, в подворотни попрятались мокрые вонючие чертенята, люди наступали им на хвосты, выныривали, перепутав дождь с рекой, уродливые молчаливые рыбы, в полуоблетевших кронах хлопали крыльями чудовищные зубатые птицы, а потом, неожиданно для самой Маши, возник у гранитной ограды человек, вдруг увидевший всё это как оно есть. Его глаза расширились от ужаса и восхищения, руки вцепились в ограду, чтобы внезапно взбесившаяся вода не скинула его вниз, ноги подкашивались, но он стоял, вперив взгляд в страшное видение, не желая отказаться от него, хотя это было бы так просто — перевернуть лист, отодрать от пальцев карандаш, стрельнуть сигарету и глотать холодный сладкий кофе, переглядываясь с симпатичным мальчиком, одиноко сидевшим у окна. Когда тучи сохмурились над головой духовидца и черные мохнатые птицы заметили его, Машины руки взлетели над бумагой — рисунок был окончен.
Рисунок этот, как и большинство Машиных рисунков, не сохранился. Последним и, вероятно, единственным, кто его видел, был А. А. Разглядывая его, он густо набирал дым из сигареты в рот, молчал и наконец заговорил. То, что он рассказал Маше, стало второй (рисунок был первой) точкой того напряжения, из которого несколько лет спустя родилась «Погоня».
Когда «Погоня» стала известна широкой публике, уже вышли и «Минус один», и «Save», и «Янтарь». Из нее не получилось, да и не могло получиться хита, но киноснобы Европы узнавали друг друга по диску с этим фильмом, появившимся вдруг из безвременья. Файл нашел и выложил в сеть студент, копавшийся в архивах HFF, — когда очередной диск вошел в дисковод и на экране замерцало: «Погоня. Режиссер-постановщик Маша Регина», студент на всякий случай сверился с немецкой надписью на конверте и вскрикнул. Через несколько дней вся мировая паутина полнилась слухами.
Говорили, что фильм этот — ученическая работа, непрозрачная концептуалистская поделка, настолько непохожая на ясный и абсолютно открытый стиль Региной, что, скорее всего, принадлежит не ей, а небесталанному мистификатору, и хотя, конечно, представляет некоторый интерес с технической точки зрения, но ни в коем случае не может считаться шедевром и так далее и так далее. Маше пришлось оторваться от съемок «Голода», вылететь в Берлин и на пресс-конференции в зале «Kino Arsenal» признаться, что «Погоню» действительно снимала она.
Я сняла этот фильм в Петербурге лет десять назад и рада, что он наконец обнаружился. Это хорошая картина, хотя сейчас я такого, конечно, не сняла бы.
После этого страсти улеглись, и фильм перешел в разряд тех, что издают под маркой «Другое кино». Он, конечно, был черно-белым (как любое гениальное кино, — шутя, говорил Рома), или, точнее, становился черно-белым. Пока шли титры, герой рассказывал дебелой вахтерше про свою неверную любовь. Потом он, поднявшись в кабинет, засыпал, и гамма из темно-коричневой незаметно становилась серой. Незаметности перехода помогало то, что дело было ночью — стоило немой вахтерше погасить в кадре грязно-желтую лампу, становилось темно хоть глаз коли. Потом появлялся двойник и начиналось собственно действие, про которое девять из десяти зрителей сказали бы, что оно отсутствует. Маша выгнала своих героев на улицу, и весь их поединок проходил в декорациях страшного, невообразимого Петербурга. Герой гнался за двойником по улочкам, дворам, подворотням, чердакам, крышам, тот прятался от него за мусорными баками, кирпичными трубами, между вагонами на железнодорожных перегонах (вот он, главный козырь в руках тех, кто еще до берлинской пресс-конференции отстаивал Машино авторство, — сцена была похожа на знаменитую погоню в «Минус один»), потом герой убегал от двойника по бесконечным лестничным пролетам и в конце концов на набережной забивался в угол одного из спусков к реке, и тяжелая свинцовая волна лизала его ботинки. В воде мелькало очертание корявой лапы, будто тянущейся схватить героя. В кадре из черных теней и белых отсветов постоянно просвечивали потусторонние образы — хвосты, клыки, зенки, которые зритель замечал не сразу и не наверняка, то есть мог не заметить их вовсе, сочтя просто помехами или случайным сложением света и тени. Двойник мог вдруг перекинуться демоном и сочиться гнойными глазами из-за решетки Летнего сада, в широкой кроне дерева вдруг дергался гигантский крысиный хвост, в пыльном окне мелькала чешуя, — все это случайно, не четко, мельком, так что при желании можно было не обращать внимания.
Восхищения, чаще всего звучавшие по поводу «Погони», касались картинки, техничности и совершенства кадра и даже завораживающей игры двух двадцатилетних актеров, но почти никогда — сценария фильма, его существенности, ну или, иначе говоря, его мессиджа. Ничего удивительного в этом нет. На той же пресс-конференции в «Kino Arsenal» Маша говорила: честно, я сейчас с трудом могу вспомнить или понять, что я снимала. Это были какие-то картинки в моей голове, которым мне хотелось дать свободу. Не знаю, не уверена вообще, что в этом фильме есть что-то, что можно было бы прочесть.
Двойник гонял героя по лабиринтам дворов и улиц, что-то от него требовал, кричал, герой бормотал, оправдывался, переходил в наступление, бросался с кулаками, завершалось все, как и полагается, дуэлью на пистолетах, — но в чем, собственно, заключался их конфликт, было непонятно.
Никто из обсуждавших фильм не знал (да и сама Маша через шестнадцать лет помнила смутно), что суть этого конфликта объяснял ей на маленькой кухне своей прокуренной квартиры А. А. Он долго рассматривал Машин рисунок, курил, промахиваясь пеплом мимо блюдца, и потом говорил ей про Гоголя, про Белого, про художников, для которых Петербург стал лифтом в потустороннее. «Пушкинский дом», говорил А. А., в этом ряду смотрится странно (Маша открыла форточку, чтобы выпустить дым на волю, и, покачнувшись на подоконнике, дотянулась до сигарет), потому что на первый взгляд в нем нет ничего мистического, и многие из прочитавших его свято уверены, что прочли реалистический роман про то, как молодой ученый запутался в своих женщинах. Что ты смеешься? Ну да, про меня. Но на самом деле женщин в этом тексте нет, только мужчины, да и те ненастоящие. Святого искушает бес, вот и вся история. Одоевцев живет в игрушечном мире, в декорации, и вдруг проваливается в мир настоящий, где все встает на свои места, бес есть бес, и душа стоит перед проблемой добра и зла. Блюдце? Держи. Митишатьев старается вытолкнуть его из этого усилия, он искушает его незнанием настоящего, мирным покоем закрытых глаз. И когда искушение преодолено (там еще сбрасывается маска, это очень важно), неизбежен агон, противостояние души и зла. Зло проигрывает просто потому, что душа с всерьез распахнутыми глазами всегда сильнее зла. Это оборачивается проблемой только для романного героя — потому что он должен умереть, вот он и умирает вместе с романом. Но в истинном смысле — происходит освобождение души от декораций этого мира. Прости, непонятно объясняю, но мы ведь не на уроке, да?
Дальнейшие объяснения бессмысленны, тем более что Маша спрыгнула с подоконника, обняла А. А. и его, задумчивого, стала целовать. То лето, после первого курса в Академии, она почти все провела у него, в маленькой квартирке на Пестеля. Пока по ночам было светло, они ходили на Фонтанку пить вино. Покупали бутылку в подземной лавке у широко улыбавшегося армянина, добредали до спуска к непрозрачной суровой воде, чпокала пробка, и слышался плеск льющегося в стаканы вина. Должно быть, только в это лето, если бы он спросил ее, она серьезно могла бы сказать, что любит его. Но А. А. не спрашивал. Маша что-то рисовала, он читал, вместе они гуляли, ели и занимались любовью. Такое лето — когда каждый вечер хорошая погода и безделье не угнетает — дается человеку один раз, говорил А. А. и смеялся над Машей, которая не могла узнать цитаты.
Нарушено благодушие за все лето было два раза, когда А. А. звонила жена. Русские жены бывшими не бывают, шутил он, у него на все была своя цитата. После звонков, целью которых были какие-то бытовые формальности (прости, я бы не стала тебя беспокоить, отрывать… но… — дальше речь шла о комплекте ключей или о запропастившихся черт знает куда документах), А. А. мрачнел и ожесточенно курил. Маша злилась, плевалась сквозь зубы и, хлопнув входной дверью (вздрагивали оторванные полосы грязно-коричневого дерматина), уходила гулять одна, выпивала где-нибудь три чашки кофе и возвращалась. Она не сразу поняла, почему злится. И когда поняла, сразу сказала ему: вид слабого мужчины внушал ей натуральный ужас. А. А. возражал ей, что не такой уж он и слабый, что вот же ушел он от нее, не так-то это было просто… Маша кинула ему: колобок фигов.
Но его взгляд имел в то лето магнетическое влияние на Машу: она успокоилась и рассмеялась. И все же, засыпая, А. А. стонал, как от зубной боли. Маша держала его за плечо и думала, что она знает о его жене. Она видела ее мельком, еще когда она приходила в школу, — тонкая женщина со страдальческими глазами и яркой родинкой в уголке губы. Она любила Бунина, капучино с корицей и А. А. Взрослая Маша в припадке цинизма могла бы сказать про такую: пизда на шнурках, — но в действительности дело было в другом.
А. А. познакомился с ней на филфаке — девушки там были легки, как пузырики жвачки, не все, конечно, многие были просто гоблины, но воображению было где разгуляться, и А. А. успевал, между библиотекой, лекциями и рюмочными, приволокнуться, или, как он сам говорил (любил это кружевное слово), ухаживать за улыбчивыми бесстрашными однокурсницами, а потом младшекурсницами (слушай, говорят, у тебя конспекты есть с первого курса, — есть, конечно, есть). В нем не было «спортивного интереса» — в каждую девицу он взаправду влюблялся (когда он рассказывал об этом Маше — она лежала на спине, и он гладил нежную кожу ее груди, — Маша смеялась: каждый раз как в первый раз) и ни одной не изменял. Лиза не была одной из ряда (впрочем, и ряда никакого, по Станиславскому, не было) — несмотря на то, что она (мама-учительница и отец — отставной полковник уехали в Крым) почти сразу привела его в свою постель, А. А. долго, дольше обычного был заворожен ее задумчивым взглядом, медленными пальцами и родинкой в уголке губы (даже ее имя не казалось ему пластмассовым). Зиму они просидели у нее в комнате, целуясь и переводя с русского на латынь. К весне А. А. стало казаться, что ее мечтательность холодна, как суп из холодильника, а пальцы медленные — от скуки, но так случилось, что — первый серьезный курсовик, доклады на конференциях — он решил отложить разрыв до лета, а летом язык у него обвял, как у перепившего старика.
Лиза нежно гладила его по волосам и говорила, что любит его. А. А. хмыкал и надеялся, что она спросит: а ты? Но она, дрянь такая, не спрашивала. Стоило А. А. представить, как она расплачется, как окоровеют ее глаза, ему становилось противно, он говорил себе, что пусть уж на выходных или на следующей неделе. Осенью, в зените феерического сентября, он все-таки заставил себя. Они вышли с факультета, деревья были обвешаны желтыми, будто бумажными, листьями, Ломоносов на взгляд был горячий, словно отдавал еще летнее тепло, девушки щурились на солнце и улыбались, А. А. остановился, сказал, что ему надо поехать, ну, неважно, по делам, к ней он не может, и вообще, им нужно подумать, что делать, потому что за год многое изменилось, и он не знает, что она думает по этому поводу, но про себя он не может сказать, что он чувствует то же самое, что и год назад, и лучше бы им не мучить друг друга, в этом нет ничего страшного, они будут друзьями, в гости, там, друг к другу ходить, но нет никакого смысла дальше пытаться… близко общаться, если как минимум для одного это уже не более чем обязанность, ведь и для нее в этом не может быть никакой радости, ну все, троллейбус, созвонимся, пока, — и он рванул к мигающему зеленым светофорному глазу. Перебежал, успел, но не мог, конечно, удержаться от того, чтобы у двери троллейбуса глянуть назад: Лиза неслась к нему. Вправо-влево летели машины, сигналили, как резаные, свистели тормоза, дымили покрышки, спиралили вниз бумажные листочки-фонарики, Лиза прыгала, прижав сумочку к груди, от одной несовместимой с жизнью травмы к другой, кричала истошно я люблю тебя, — А. А. чертыхнулся, вдарил ногой по троллейбусу (тот, сверкнув рогами, усвистал к мосту) и метнулся спасать дуру. Махал руками, как матрос на картинках, кричал, хватал ее за локти, тащил к суше, держал за плечи, гладил по спине, ее била дрожь, его — страх и злоба.
После этого прогудел еще один троллейбус, потом еще и еще, — А. А. обнимал Лизу, успокаивал ее, она сквозь слезы просила его не уходить, спрашивала, что ей сделать, чтобы… он говорил: ничего, успокойся ради бога. На них глазели, А. А. отворачивал Лизу лицом к Неве и сам делал вид, что вот они тут просто стоят, обнимаются, что, нельзя, что ли? Чудовищно стремно. Он отвез ее домой, они занимались любовью, потом она прижималась к нему, целовала в грудь и шептала: ты же любишь меня, просто ты сейчас… То, что в этих словах не было, по сути, вопроса, напрягало, но А. А. не мог сказать ей нет, он хотел спать.
Невозможно уйти от женщины, которая тебя не отпускает, понимаешь? Почему? Да потому, что она типа слабая, ты типа сильный, и получается, что это ты ее обижаешь, а не она тебя. Нет ничего хуже, чем чувствовать себя мудаком.
Через полгода (было еще несколько отвратительных сцен, и все до единой закончились одинаково) А. А. предложил Лизе замуж, и она, еще не закончив рыдать, стала придумывать, у кого сошьет платье. Отец-полковник пожал А. А. руку, мать-учительница расцеловала, и через два месяца А. А. и Лиза надели друг другу на пальцы тяжелые золотые кольца.
Маша, уже приучающаяся искать киноцитаты, решила, что это история из «Фанни и Александра»: героиня выходит замуж за монстра, думая, что с ним у нее будет какая-то правильная, настоящая жизнь, но попадает в ад, при этом оказывается, что глупая чехарда в семье ее родителей — и есть в общем-то жизнь, настоящая, и пукающий дядька — дурак, но не сука, а тот — сука, да еще опасная. Да нет, все совсем не так, — скривился А. А.
Оставалось пять лет до того момента, когда А. А. увидит Машу в холле школы, после вступительных экзаменов, и отведет ее вверх по лестнице в общежитие. Еще через год А. А. с оглушительной ясностью поймет, что колотящееся сердце, волны нежности на ладонях и дрожащее пространство в глазах — это любовь, и что может быть глупее для учителя, чем на полном серьезе влюбиться в старшеклассницу, мечтать держать ее за руку и целовать уголки ее губ, плакать по ночам, стонать от того, что тело крутит судорогой, придирчиво рассматривать в зеркале свои зубы, не отпускать ее воображением, рыжую девушку с трудным взглядом и уверенными движениями, которая к тому же (он не знал, узнал позже) сходит с ума от любви к парню, которому на нее насрать.
То, что только бешеная страсть к свой ученице заставила А. А. уйти от круглившейся глазами жены, да и не сразу, а через два года, не странно: точка Б всегда важнее точки А.
Тонкая, задумчивая красавица Лиза, когда кричала, размазывала мокрые глаза по лицу, становилась страшнее атомной войны. Стоило А. А. сказать ей, что он вот что решил, лицо ее перевернулось. А. А. видел такое много раз и все-таки сердце его сжалось, будто ожидая удара, — главное ему теперь было крепко держаться за ощущение металла в пальцах, которое появлялось у него, когда он смотрел на Машу, и не отпустить это чувство. Лиза жаловалась, упрекала, тихо скулила на кухне, звонила, говорила, что заказала столик в ресторане, уверяла, что не сможет жить, предлагала начать с начала, допытывалась, кто она, наконец, когда А. А. через неделю пришел домой, открыл дверь в ванную и нашел ее в пене, примеряющей бритву к запястью, он понял, что все закончилось, — потому что если она лежала и ждала его, чтобы чиркнуть, то она все-таки не сделает этого. Он молча вышел из ванной и выключил свет — расстаться с жизнью в темноте она не сможет. Она мокрая вышлепала из ванной в коридор, вода текла на ковер, за ушами висела мыльная икра — А. А. было жутко и противно, как будто он живьем увидел какого-то голливудского слизняка. И правда, одержимость беспола. Эта мокрая сцена была последней — как раз в этот день А. А. получил ключи от квартиры на Пестеля. Ему просто повезло (как всегда бывает с тем, кто встал и пошел) — уехавший во Францию однокурсник сдал ему свое гнездо под крышей за «чтобы не пустовало», за политые цветы и символические деньги.
Теперь, в этом однокомнатном гнезде, из окна которого был виден кусочек купола Преображенского собора, А. А. сжимал Машину ладонь и, проваливаясь в сон, чуть слышно сквозь зубы стонал. Маша кусала губы. Себе она стонать не разрешала.
В самом начале лета, когда Маша сдавала свою вторую сессию, А. А. предложил ей жить вместе. Она согласилась — не только потому, что на самом деле ей нравилась эта идея, но и потому, что была уверена: А. А. не сможет уйти от жены, и его предложение останется, таким образом, только штрихом вечернего свидания, нежной прогулки от Казанского к Никольскому и обратно. Получив последний автограф в зачетку, Маша села на поезд и поехала домой. А. А. бросила эсэмэску: «Уехала, вернусь как только так сразу».
Любовь матери накрыла Машу тепло и влажно, как пухлая ладонь — муху. Первый же обед (ты же с дороги, голодная, ешь) утянул Машу в сон, в котором мертвая бабушка держала и мяла ее руку, Маше было неприятно, она хотела руку освободить (мертвая же), но было неудобно (все-таки бабушка), и она безвольно позволяла пользоваться своей рукой. Проснулась Маша поздно вечером, в поту: мама, наплевав на июнь, накрыла ее ватным одеялом. Следующий день был воскресенье, и мама взяла Машу на базар. Маша юркала вслед за мамой из ряда в ряд — куртки, платья, крючки и блесны, яйца, рыба, трусы и носки, диски, цепи, моторы, могильные плиты, ковры, кресла, штаны и ботинки, — мама была в этом содоме как дома, всех знала, и у каждой палатки подхватывала Машу за локоть: тебе футболки нужны? Страшный шопинг выжал Машу до сухой шкурки. Она позволила примерить на себя туфли, майку и юбку, дома помогла маме с обедом, наелась (ешь-ешь, вон как похудела) до отвала и упала на диван — руки лежали отдельно от нее, как тряпки. Она с ненавистью смотрела на них, потом подняла глаза на мать и попыталась сказать ей, что так провести лето она не может, что ей нужно работать (она сказала заниматься, чтобы не было вопросов) и для этого нужна ясная голова, холод и голодный желудок. Не успела она договорить, как мать (конечно-конечно, вот завтра и начнешь) стала рассказывать ей, что сосед прогнал жену и пьет теперь водку каждый божий день, что одноклассница вышла замуж, что Волков (ну, помнишь, одноклассник твой) зарезал девушку, с которой дружил (вроде как с кем-то другим гуляла), и был суд, и посадили, что тетя Валя болеет, что учителя математики выгнали наконец после того, как пятый раз нашли его пьяного в садике у школы, что баба Шура, что Алексей Семенович, что Петя, ну, гаишник такой толстый…
Маша тонула в липком новостном киселе, и на границе сна, трогающего ее за пальцы, ей привиделся ее родной город — древнее, древнее камней и рек, подводное царство, в котором руки двигаются медленнее, а звуки человеческой речи глухи и обессмысленны. Все здесь устроено так, чтобы горячий послеобеденный сон хватал крепко и часто, по сути — навсегда. Здесь ценят жирное, неподвижность и смену времен года. На грядке дивана Маша ощутила себя кабачком, наливающимся соками земли. Сон, заполнивший ее тело, был мучителен и свиреп.
Она еще пыталась работать. Следующим утром, встав рано, еще до того, как отец отправился в автоколонну, а мать на вокзал, она разложила перед собой бумагу, заточила карандаш и стала класть линию за линией, но штрихи перерезали бумагу по поверхности, рукам не хватало сил преодолеть сопротивление горизонтали, чтобы рисовать вглубь, между тем она уже не только чувствовала, но и знала: чтобы рисунок получился, первым же движением нужно снять проплесневелую корку существующего и вгрызться в существенное. Дома-водоросли, которые она хотела нарисовать, получались не настоящие, призрачные рыбы и осьминоги — безжизненные, она в ярости кусала пальцы и не находила в них крови, так что, когда мать приоткрыла стеснительно дверь (не спишь уже? пойдем завтракать), Маша швырнула карандаш, смяла бессильный лист и пошла на кухню.
Она пробовала работать дома, во дворе, на железнодорожной насыпи и даже уговорила отца раскочегарить проржавевшую «шестерку» и отвезти ее подальше — в поле, на берег маревеющего под солнцем озера — везде она мяла лист за листом, ломала карандаши, и в какой-то момент подумала, что, вероятно, специальная тяжесть в руках, появлявшаяся всякий раз, когда она действительно рисовала, — она, может быть, не появится больше никогда, как подарок, доставшийся ей по ошибке, как мелкая контрабанда, которую строгий таможенник, качая фуражкой, вынимает из багажа и назад никогда не отдаст, что, может быть, и не было никогда этой тяжести, ей все показалось, вот же и недаром она даже с трудом помнит, как это бывает.
После ужина мать, отправив отца смотреть новости, выспрашивала Машу про мальчиков, не встретила ли она кого-нибудь в Ленинграде, брала ее ладони и намекала, что была бы так рада, так рада. Маша хмелела от ужаса. Когда через неделю она получила от А. А. эсэмэску: «Сразу? Только что», — ее сердце бешено заколотилось, и она внезапно окрепшими пальцами набрала, что завтра приедет. За обедом она соврала что-то про летнюю практику, которая начинается завтра, что она думала, ее не будет, а она все-таки будет, вот ей только что написали. Мама уронила сковородку с шипящей картошкой и расплакалась. Умоляла Машу побыть еще несколько дней, спрашивала, что ей не нравится, скрючилась на стуле и бормотала, что все понимает, что ей скучно тут, и пойти некуда, и друзей нет, но как же они, родители, они ее так любят, так ждали ее на все лето, и вдруг она уезжает, это несправедливо, пожалей нас, и потом вот можно купаться, скоро грибы пойдут, и ягоды, и она так похудела, ей бы поесть и поспать вволю. Маша ковыряла вилкой в тарелке. Отец рассматривал скатерть и потребовал достать водку.
Билетов не было — мама сообщила об этом тихо, но радостно. Но Машу уже было не удержать — вечером она покидала в рюкзак одежду, пошла на вокзал и договорилась с хитрым (лицо — сухой огурец) проводником. Тот взял ее в свое купе за полторы цены билета. Всучив в раскрытую ладонь денежку, Маша вышла из вагона попрощаться с матерью и отцом. Отец был уже пьяный и, мешая слова, желал Маше счастья, мать, устав плакать, была бесцветна и молчалива. Проводник зло мигал из двери, мама сказала: обидела ты нас, дочка, — Маша дернула головой, не решившись на поцелуй, сказала (просипела) прости и ринулась в поезд.
Проводник пил водку, предлагал Маше, Маша отказывалась, ударила по руке, хищно цапнувшей ее за колено, молчала, старалась не слушать вонючие проводниковые байки, — но этим ужасы не исчерпались: в середине ночи у проводника (для тебя я просто Леха) зазвонил телефон, и прогремело страшное слово «проверка». Леха отвел Машу в рабочий тамбур, открыл в потолке люк, подсадил ее, и два часа она лежала в темноте под крышей вагона, рядом с ней плескалась питьевая вода, что-то давило в бок, ныли скрюченные ноги. В узком, похожем на гроб пространстве Маша давилась слезами, в голове ее колоколом раскачивалось обидела, обидела ты нас, обидела. Утром проводник, уже трезвый и злой, вытащил Машу из люка, посадил на нижнюю полку в своем купе, сам забрался наверх и стал оглушительно храпеть, изрыгая похмельной пастью чудовищную вонь. Маша рыдала в голос и съела всю кожу на пальцах.
Утром, встретив ее на «Чернышевской», А. А. едва не сошел с ума от любви к этой девушке, похожей на разъяренного, будто побывавшего в стиральной машине ежа. Они добрели до Пестеля, Маша полчаса фыркала в ванной, потом А. А. накормил ее яичницей и уложил спать. Маша мгновенно уснула, и А. А. долго сидел около нее, вглядываясь в ее дыхание, как двигались крылья ее носа и иногда вздрагивали пальцы. Когда сон ее стал спокоен, А. А. взял книгу и до вечера читал на кухне. В голове его расцветала двухлетней выдержки весна — он гулял с Машей по Летнему саду и впервые осторожно трогал ее за руку. Лето началось, когда Маша проснулась, вышла на цыпочках из комнаты, положила руку ему на плечо и спросила: долго я спала? Он отложил книгу, они пили чай, потом он целовал ее пальцы, глаза, щеки, губы, она улыбалась, целовала его в ответ, потом он высвободил ее из ночнушки и всем телом прижался к ней, так что дыхание сбилось и стало жарко.
А. А. заснул, Маша осторожно отняла руку, держащую ее ладонь, — спать ей не хотелось, выспалась днем — достала из рюкзака лист и стала рисовать. Десять минут на облизывание карандаша — и на бумаге жаркое ярится солнце, томно сжимает голову пастуха, он натягивает на лоб протертую кепку и медленно бьет папиросой о корявый ноготь большого пальца. Поводят вопросительными глазами коровы, жуют через силу, чтобы не заснуть. Потеет горячая трава, блестят жирными листами деревья и кусты, пятнами высверкивает горячий озерный кисель, спят в подводной траве сытые рыбы, спит в скрипучей лодке старик, удочка выпала из рук, во сне старик видит маленького мальчика, шлепающего пятками по воде, чтобы больше разбрызгать. И вдалеке — покатые крыши свисают к земле, как ветви деревьев, в изнеможении, скорей бы заснуть. Спят собаки, старухи, спят, сжав губами сосок, младенцы, спят, откинув голову к стене, их матери. Борется со сном машинист поезда и ведет состав медленно, словно воздух стал от жары тугой или расплавившиеся рельсы могут где-то на солнце оплыть. Но больше всего на рисунке неба, голубую эмаль которого Маше удалось нагреть так, что А. А. утром побоялся прикоснуться к листу, чтобы не обжечься.
Все лето, отвлекаясь только на еду, вечерние слегка пьяные прогулки, трогательную нежность А. А. и сон, Маша рисует, складывая в папку лист за листом. Многое из того, что она сделает, появится потом в ее фильмах — инфернальный Петербург, странные лица, по которым легко угадать целиком судьбу, дома, животные, фигуры людей, поезда, пейзажи, промокшие деревья, дерущиеся дети, лестничные пролеты, пьяное студенческое братство во дворах, мнущая пустую сигаретную пачку девушка в кафе, кривая старуха с тележкой на пешеходном переходе. Рисуя, Маша постепенно начинает понимать, какое кино она хочет делать.
С А. А. ей спокойно. Его любовь легка и необременительна. Иногда Маша сжимает виски ладонями и не понимает, почему бы ей не любить его так же крепко и наверняка, просто и уверенно. Но вопреки этой очевидности на внутренней стороне ее век, стоит ей закрыть глаза, появляется мальчик с лицом наследного принца. Он криво улыбается, но у Маши сжимается сердце. Воображая его руку у себя на животе, она превращается в одни расслабленные нежно губы. А. А. видит это, знает, что не имеет к этому отношения, и его накрывает тоска.
Тот раз, когда после урока по Петербургским гоголевским повестям Маша пошла гулять по городу и впервые увидела изнанку мостовых и рек, не был первым. Она выходила из школы и раньше, в сентябре, один раз.
А было это так. Маша проникла в учительскую и выхватила из-за стеклянной двери шкафа телефонный справочник. Толщина прозрачных страниц по углам стремилась к заслюнявленному нулю, и обрез был исчеркан разноцветными чернилами, но адреса долговечнее телефонов — придя на улицу Правды, Маша обнаружила обещанный сострадательным справочником Институт кино и телевидения. Списки зачисленных еще не успели снять, и Рома в них значился только один. Маша нашла сначала расписание первого курса, потом аудиторию, в которой шла история кино, и села под дверью ждать. Отзвук одного сильного удара сердца разносится потом по всей жизни — Маше даже не пришло в голову, что, может быть, это другой Рома, что тот Рома мог и не поступить или поступить не сюда, так что, когда двери открылись и стали вытекать из них группки за группками студенты и в одной из группок мелькнуло его лицо, — Маша обрадовалась не тому, что это именно он, а тому, что он эту лекцию не прогулял, вот он, здесь: болтает с друзьями, подмигивает им, толкает одного в спину и втроем они подваливают к нескольким девушкам, балующимся мобильниками и пудреницами. Маша подпрыгивает со скамейки, и получается так, что встревает в только завязывающийся разговор (какие планы, девчонки?). Он не сразу узнает ее, досадливо машет товарищу (две минуты, я сейчас) и отводит ее в сторону.
Привет, ты чего здесь делаешь? — говорит он Маше, стреляя глазами на девушек и друзей. Друзья стреляют глазами на Машу, девушки нацеливают в нее пудреницы. Я… так, — Маша не умеет отвечать на дурацкие вопросы. Сдала ты свои экзамены? Ну молодец, поздравляю. В общаге живешь? Ну, тоже неплохо. Как вообще?
Потом он говорит ей, что должен сейчас бежать, чтобы она училась хорошо, ну и всего ей, пока. Маша видит, как он старается показать ждущим его девочкам и мальчикам, что здесь ничего особенного, так, какая-то ерунда, не стоит разговора, он взмахивает рукой и шагает к ним: ну что, решили что-нибудь?
Обида опустошила Машу. На улице Правды она прячет глаза от прохожих, постепенно в ней просыпается ярость, и Маша впервые в жизни узнает, что любовная тоска может стать топливом для машины воображения. Сев на скамейку, Маша раскладывает на коленях лист бумаги. Долго не раздумывая, она рисует спящего на противоположной скамье бомжа — он лежит долго, так долго, что снег засыпает его ноги, набивается в карманы вонючего пальто, тает на лиловой груше лица и застревает в лабиринте бороды. Рядом с ним на угол скамьи садится она — в профиль, положив локти на колени, — она с рук кормит собственным сердцем огромного бесстыжего пса, шерсть клочками, и его язык оплетает Машины ладони. Пес противоестественно улыбается и глазами ласкает Машу.
Собственным сердцем — это, конечно, перебор, но в «Минус один» герой будет так же кормить собаку пирожными, сидя на скамье рядом со спящим бомжом. Собака, пойманная ассистентом где-то на помойке (ее еще специально держали целый день без еды), будет с аппетитом хавать пахнущие мясом пирожные, а Рома будет возмущаться, почему его отрывают от камеры, гримируют и заставляют недвижно лежать на скамье бомжом три дубля подряд: возьми статиста! почему бомжа должен изображать оператор? Маша объясняла ему: прости, в этой сцене мне нужен именно ты.
Секс как молодость
Зимой в общежитии жутко холодно. Виной ли тому вороватый завхоз или ленивая воспитательница, представляющие собой русское государство в миниатюре — они всегда могут кивать друг на друга: один не купил ленту, другая про нее забыла, — так или иначе, в комнатах из окон дует так, что вода на подоконнике за ночь превращается в лед, и девочки ложатся спать в футболках, трениках и носках, укрываются двумя одеялами, в которые заворачиваются, как будущие бабочки в кокон, выставив наружу только носы, чтобы было чем дышать. Маша спит беспокойно: беспокойный ей снится сон. Во сне она проводит ладонью по голове, но там только гладкая кожа, ни одной волосинки не осталось. Сон этот не нуждается в интерпретации потому, что, проснувшись, Маша первым делом протягивает руку к затылку, убеждается, что волос нет, вспоминает: и не может быть, неоткуда взяться, вчера она убедила Дашу, что она, да, хорошо подумала и бесповоротно решила побриться налысо, сунула ей в руку бритву, намочила волосы и заставила прядь за прядью все со своей головы убрать. Даша сначала стеснялась, но потом вошла в раж, брила добросовестно, высунув язык, и, закончив, шутила, что, мол, Маша теперь совсем готова в сумасшедший дом. Маша смеялась вместе с Дашей.
В действительности же дело было так. Маша ждала Рому у выхода из института. Лепил снег, оседал на шапках, нежно трогал за руки и забирался в глаза. Студенты бесились у входа, девочки визжали, мальчики хохотали, прохожие уворачивались от рассыпающихся со звонким шлепком снежков. Маша неуверенно улыбалась, потому что не знала, зачем она здесь. В сущности, Рома уже отправил ее, и что еще она могла ему сказать, непонятно. Но так мир не укладывался у Маши в голове, будто один сустав не вставал на место, и без него вся машина отказывалась правильно крутиться. Больше всего сейчас ей хотелось играть в снежки, визжать и кричать вместе с горячей толпой, в руках у нее снег, она сминает его, полирует, снежок становится меньше и плотнее, в задумчивости она про него забывает, шерстяная варежка становится мокрее, каждый раз как скрипит тяжелая входная дверь, она собирается, вглядывается, резко отворачивается: не он. Мальчик в лыжной куртке, он улыбается в ее сторону — Ромин сокурсник, узнал ее, она пролетает по нему взглядом, чтобы сделать вид, что он ошибся, это не она. Чем больше народу вываливается из дверей на улицу и чем больше шанс, что следующим будет он, тем сильнее она сжимает заледенелый снежок и тем больше боится. Она предполагает, что он может сказать ей что-то неприятное, разозлиться, и лучше всего было бы уйти прямо сейчас, не ждать, потому что ждать имеет смысл, когда не знаешь, что будет, а так смысла нет, но все глупости, глупости, глупости — когда он выходит, он просто не видит ее, потому что сразу поворачивается к идущей вслед за ним девочке, чтобы придержать дверь, пропустить вперед, наклониться и залепить ей за шиворот снежный фонтан, и Маша не может не видеть, что шутка эта сродни признанию в любви, и, завернутый в снег, как в подарочную упаковку, летит в девочкину шею мокрый от жара кожи поцелуй, и сладкая, красная от помады улыбка принимает его на лету.
Рома и девочка соединяются с вопящим студенческим месивом, мелькают лица, руки, разматываются шарфы, и летят на мостовую пуговицы, все против всех, весело и быстро, Рома наклоняется — ладони горстью, — и кто первый попался под руку, получает по спине, по шапке, в лицо (эй, так нечестно!), но когда в очередной раз он уворачивается от чужого снежка, сгребает белый влажный снег с крыши припаркованной машины и замахивается на стоящую в полутора метрах Машу, то, увидев ее, опускает руку, лицо его кривится, и секунды недоуменного промедления достаточно, чтобы в спину ему влетело два раза, он бросает сучка, поворачивается и продолжает игру. В этот момент, как и потом, Маше не то обидно, что Рома обругал ее (в сердцах), и не то, что даже не поздоровался, а то, что опустил руку, не бросил снежок, не взял в игру, как будто веселая студенческая кутерьма — только по приглашениям, и то, что она, не успев подумать, со всей силы кидает свой смерзшийся в ледышку снежок ему в спину (попала — прямо между лопаток), было реакцией только на эту обиду, из которой другая (не любит) вылупилась позже, пока брела, пиная снег, через полгорода в общагу. Рома выгибается, мычит от боли и оборачивается, но только на секунду — и потом ныряет в начинающую уже уставать толпу, хватает за руку напомаженную девицу и прижимает ее к себе.
По дороге в общагу Маша принимает решение побриться наголо, и понятно, что жест этот символически означает отречение от собственной сексуальности, которая ей не нужна, коль скоро тот, кому она была предназначена, играет в снежки с другой. Сомнений в том, что сексуальность ей больше не пригодится, нет: с сентября по февраль она видела Рому четыре раза и все четыре раза получила от ворот поворот. Спустя восемь лет он страстно, но не слишком убедительно будет оправдываться: Регина, я был ублюдок, мне стыдно было, ты хоть помнишь, как мы с тобой на ротонде сидели? Это была их вторая встреча, третья, если считать от поезда. Маша пришла в институт за полчаса до конца занятий, но нашла Рому во внутреннем дворе, он был уже довольно пьян и, кивнув друзьям, увел Машу гулять. По дороге он пил пиво, так что, когда они пришли на «ротонду» (буду тебе достопримечательности показывать, хочешь? — хочу — ну так вот, главная достопримечательность этого города — это я), грязную, но хранящую следы величия парадную, Рома уже едва стоял на ногах. Опрокидывая бутылку себе в рот, проливая пиво себе на куртку, он менее всего походил на кино-Наполеона, которым хотел быть. Качаясь из стороны в сторону, он говорил Маше, что ей страшно повезло с ним познакомиться, потому что очень скоро он станет самым великим оператором всех времен и народов, что имя его будет греметь по континентам, он полностью изменит мир кино, историю которого впоследствии будут рассказывать как то, что было до Евгеньева и что после него, что он заставит зрителя идти на него, на оператора, а не на режиссера, которые все только и умеют, что кричать на артистов. Трезвой Маше смешно было слушать все эти глупости, но не противно: чего не наговорит пьяный мальчик? Ей даже не стало противно, когда он полез к ней целоваться и заодно запустил облитую пивом руку ей под куртку, она оттолкнула его скорее машинально, потому что она хотела его трезвого, а пьяного готова была переждать, но когда он, ухватившись за облупленную деревяшку перил, рывком поднялся, внятно сказал «не очень-то и хотелось» и пошел, промахиваясь ногами мимо ступеней, вниз, ей стало противно от его хамства — впрочем, она тут же простила его, потому что пьяному можно кое-что простить. Вот этим-то свиданием и объяснял Рома то, что было потом: я ж тебе, Регина, столько лапши навешал, что на следующее утро выть хотелось, как бы я тебе в глаза смотрел? Как лез с поцелуем, он не помнил, тряс головой и говорил, что не было такого. Было, было.
Было еще вот что. В день, когда Маша спускается в школу без волос — учителя выдыхают: господи, Маша, что вы с собой сделали! — девчонки все понимают: радикально! — а мальчишки по старой привычке дразнятся: слушай, а это не заразно? — Маша чувствует себя центром внимания и не может не расценить этот факт как своего рода предательство. Жест, который должен был лишить ее пола, сделать ее невидимой для радаров, произвел нечто прямо противоположное. Из девочки-из-десятого-«б» Маша вдруг стала лысой — девочкой, о которой все говорят, на которую все смотрят и которую, когда она идет после второго урока на обед, останавливает в коридоре Коля из десятого «а» и говорит, что ей очень идет, что она очень красивая, то есть она и раньше была очень красивая — Маша звереет — и что ее ничто не испортит, то есть он не это хотел сказать, Маша обходит его — да отстанешь ты от меня?!
Коля будет скрипеть зубами и мотать головой каждый раз, когда в памяти будет всплывать этот неловкий разговор. Маша поймет, что случилось, только через месяц-другой; Даша как раз в тот день откроет для себя: бог есть любовь! — и с расширенными, как у всякого первооткрывателя, глазами постарается убедить в этом Машу — и Маша в ответ хмыкнет: ну да, пути ее неисповедимы.
Длинные взгляды, которыми Коля смотрит на Машу, когда она проходит по коридорам общежития или когда она ест в столовой, щекочут Машину спину, но не более того. Когда она обнаруживает в своих тетрадках и карманах сложенные вчетверо листочки с восторженными, трогательными стихами (понять, кто их сочинил и максимально внятным почерком переписал на листочек, нетрудно — зря он волновался и вглядывался дольше обычного: поняла — не поняла), Маша ловит себя на ощущении, что вообще-то ничего неприятного в этом нет. Волнует ее только одно. Пока ей удается держать при себе Дашу всякий раз, когда Коля заходит к ним в комнату. Но по Дашиным глазам она видит, что та готова улизнуть в любой момент. Даша не понимает, в чем проблема: Машка, ты что! шикарный парень, это же любовь! Спорить нечего: Коля пишет стихи и играет на гитаре, он заводила и лидер класса — девчонки не вешаются на него только потому, что романтически настроенных девчонок нет: что с ним? мороженое есть? — таких всегда желают другим. Рано или поздно Маше придется ему что-то говорить — и она страшно не хочет его обидеть. В конце концов, должен же он сам понять. Не понимает. Прощаясь, он ловит Машину ладонь и целует ее, в его глазах на пол-лица — нежность, пальцы дрожат и полыхают, стихи через один становятся тоскливыми.
Ближе к Новому году, незадолго до каникул, в комнате у Маши и Даши собираются девочки. Тихо выпив две бутылки вина и покурив в форточку, девочки начинают громко обсуждать вопрос: должна ли девушка, за которой достаточно долго ухаживал молодой человек (допустим, что он дарил ей подарки и цветы, платил за нее в ресторанах и клубах), соответствующим образом расплатиться с ним или, как выразилась сторонница противоположной точки зрения, для мужика это лотерея: выиграл — радуйся, проиграл — извини, тут не магазин. Машу мутит от крашеного спирта и от циничности ее одноклассниц и вдруг передергивает от понимания, что этот же вопрос с неумолимостью разрушителя (смешно не поддаваться, — сказал бы А. А., но Маша не читала Бродского) вламывается и в ее судьбу. Не в том дело, что Коля ей не нравится — так вопрос не стоит. Но она чувствует, что это не ее сюжет. Она просто не может себе представить, как она будет с ним, кхм, гулять. В этот момент она твердо решает завтра же сказать Коле, что он очень симпатичный, но.
На следующий день (последний перед каникулами) Маша помнит о своем себе обещании и напряженно ищет предлог его нарушить. И может быть, она в конце концов нашла бы его, но ближе к вечеру (Даша еще сдает какую-то контрольную) в комнату приходит Коля и, заметно нервничая, говорит ей «я тебя люблю». Маша задерживает дыхание, чтобы на выдохе сказать ему, но язык ее вязнет во рту: она понимает, что что бы она сейчас ни сказала, все будет, в сущности, то же, что ей уже сказал Рома, которого она никак не выкинет из головы. Маша вцепляется пальцами в колючий ежик волос и молчит, молчит, молчит. Коля ждет, потом тихо говорит «извини» и уходит. Маше хочется плакать; она восстанавливает в памяти свое состояние, в котором она была, когда Даша здесь, в этой комнате, намыливала ей голову, и ей кажется, что если бы не это, ничего бы не случилось.
Из того момента, когда Даша снимает с Машиной головы склизкие рыжие пряди, стряхивает их в ведро (на пол шлепаются комки густой пены), а Маша наблюдает за ней (и за собой) в маленькое овальное зеркало, прислоненное к настольной лампе, и ей весело и тоскливо, — из этой точки тянется (как в развеселой кинокомедии, когда надо показать на карте передвижения героев) пунктирная линия в зимний, горящий рождественскими огнями Кёльн, куда на фестиваль молодого европейского кино Маша привезла только что смонтированных «Гугенотов» и где Рома поймал ее на фуршете по поводу открытия, и потом без малого неделю между показами и семинарами они шатались из кнайпе в кнайпе (в одном из них и прозвучал ее укол, вызвавший у Ромы поток извиняющегося бормотания: Евгеньев, ты бы постеснялся так ко мне прилипать после всего…), и наконец на пятый день Маша привела его в свой номер, в окне перемигивались красно-зеленые гирлянды, и было понятно уже, что теперь произойдет то, что должно было произойти восемь лет назад: отставив стакан с минералкой, он притянет ее к себе, поцелует и стащит с нее футболку. Момент длится, Рома подается в ее сторону и снова хватается за стакан, Маша молчит, сжимает руками колени (она сидит с ногами в кресле), и в голове ее проскальзывает искра понимания: не в том дело, что он стеснялся ее, а в том, что боялся. Он не поверил бы, даже если бы она прямо сказала ему, что все, что ей нужно, — это его тело и, главное, руки, плечи, губы, ей тогда не нужен был он сам, его время и свобода. Все, что она хотела, это чтобы он обнял ее и раздел, и самой раздевать его, а все остальное, о чем он говорил ей в пустой курилке, когда она пришла в институт в третий раз, предпоследний, мол, не хочет ее обманывать, будто любит, потому что не любит, и не хочет, чтобы она жалела потом, ты очень красивая, ты найдешь себе мальчика, который очень-очень будет любить тебя, и скажешь мне спасибо (от фальши в его голосе Машу и теперь еще передергивает, Рома беспокоится: холодно? — да, кажется, замерзла), — все это глупая ерунда, заплывшая в ее жизнь из какой-то совсем другой истории («другой оперы», — шутит про себя Маша и сдерживает улыбку, потому что Рома уже тянет руку со стаканом к столику).
И вот, когда наяву сбывается то, что наполняло беспокойством ее ночи восемь лет назад (и семь, и шесть), — внимательные Ромины глаза приближаются и пересекают границу, отделяющую чужое от своего, другого от меня, — Маша ловит его ладонь и прижимает ее к своей щеке, отвечает на его осторожный поцелуй, и перед тем, как сосредоточиться на тепле их общего теперь тела, перед ней на секунду приоткрывается страшная, полная тоски яма, и из нее просверкивает откровение, которое, прежде чем погаснуть, успевает свернуться в обессмысленную формулу: секс — дело молодых.
Секс есть проблема, которая должна быть поставлена. Девочки, окружающие Машу в школе, наэлектризованы сексом по самые уши. Чаще всего они говорят о сексе, разговоры эти бесконечны и по сути невинны, хотя Маша не раз краснеет от глупых подробностей и еще — когда ей приходится мотать головой вместо ответа на вопрос Маша, а ты еще не?.. Девочки смотрят на Машу покровительственно, предлагают советы и потом снова переключаются на отчеты о клубах, свиданиях, звонках, — одноклассники, студенты, курсанты, учителя — всякий попавший в поле зрения мальчик становится предметом разговора и оценки, и при этом все девочки мечтательно прикрывают глаза, когда речь заходит об А. А. (и это даст повод девочкам весной шептать за Машиной спиной, что, мол, в тихом омуте). Однако, слушая эти разговоры, Маша с удивлением понимает, что о самом сексе, сексе как таковом, речи нет. Проблема эта занимает ее, и ощущение, которое у нее появляется и которое разрешится в мысль много лет спустя, — вот оно: вглядываясь в секс как таковой, сохраняя честность, отставляя соблазн решить его как что-то из того, что через секс себя только проявляет — производство детей, удовольствие, тщеславие, власть, бизнес, — нужно признать, что существо секса есть молодость.
(Культура, главной сексуальной фантазией которой является худенькая опытная девочка-подросток, а главным жупелом — педофил, есть культура невротическая, и, как всякий невротик, она подвержена внезапным приступам агрессии, так что нужно сразу обезопаситься от обвинений как в использовании готовой модели, так и в производстве child-porno: Маша не лолита, потому что к тому моменту, когда той самой весной А. А. в пустой родительской квартире решился расстегнуть первую пуговицу на ее рубашке, ей было уже семнадцать, да и ему было всего только двадцать шесть, и, кроме того, что важнее, Маша не Лолита, потому что тогда, когда она помогала ему расстегнуть ремень на своих джинсах, она все-таки была еще девственницей.)
Маша смотрит на девочек, слушает их речь — она заворожена их молодостью. Причина, по которой она по вечерам, согнувшись над письменным столом, при желтом свете лампы рисует обезображенных старостью женщин (она ходит подглядывать их в соседнюю аптеку и в продуктовый магазин), не в том, что она подвержена пороку раннего взросления, совсем нет, дело в другом: над листом бумаги, с карандашом в руках, она понимает, что молодость можно обнять мыслью только как то, что уже прошло. Тогда понятно, что секс есть тоска по тому, что не сбылось, но сбыться и не могло: касание животов как единственная возможность разделить с соседом тоску.
В щебечущей девичьей компании, в комнате общежития или в классе на перемене Машины глаза время от времени стекленит тоска — и тоска эта намертво слипается с неизвестного (пока) происхождения ужасом, который холодным ручьем стекает по спине и ночью, когда Даша уже спит, вытаскивает Машу из-под одеяла к столу, где она пытается справиться с дрожью, рисуя своих одноклассниц — красавицам с жадными глазами она дает бугристые темные старушечьи руки, благо она уже наловчилась ухватывать их карандашом, но все чем-то недовольна, что-то остается несказанным, пока наконец однажды ночью (ветер свистит в щели рамы, и свет лампы отражается в окнах напротив) на бумаге не появляется старуха, жующая мороженое за столиком в кафе (такую — видела, не соврала, и именно пустыми деснами жевала) — ложка во рту и губы обнимают ее, но глаза, закатившиеся к потолку, — это глаза школьницы. Когда утром этот рисунок увидит Даша, ее передернет от отвращения, но у Маши ёкнет сердце — все правильно, это ужас, который ей удалось поймать.
«Гугеноты», которых она привезет в Кёльн на фестиваль, чтобы встретить там Рому, будут, в сущности, о том же, о невозможном событии молодости, и труппа, которую она набрала в картину, — двадцать пять мальчиков и девочек выпускных классов, — набрана была не для того, чтобы доказать, что grand opéra можно сыграть задорно и современно (это ведь только инерция жанра), а для того, чтобы вывести в кадр молодость и проблематизировать ее.
Решение это, набрать непрофессиональных артистов, да еще подростков, которое, по общему признанию, и сделало «Гугенотов» не просто кинопостановкой, а самостоятельным явлением кинематографа, родилось случайно. Лелюш будто бы изобрел отражатель только потому, что отчаянно не хватало денег, выделенных на съемки рекламного ролика, ставшего в результате великим «Мужчиной и женщиной». Поначалу Маше казалось, что самое сложное — это выиграть конкурс: La Société Parisienne des Amis de l’Opéra, озаботившееся вдруг тем, что «наша гордость», величайшее произведение Мейербера до сих пор никогда не было экранизировано, искало режиссера по всей Европе, — и то, что из сотен рассмотренных кандидатур была выбрана именно она, на тот момент казалось чудом. Только через много лет стали говорить о том, что выбор был очевиден и что искра гениальности уже видна была в тех студенческих работах, которые она снимала в Мюнхене. На самом деле, если отвлечься от строгой логики судьбы, причин было две. Во-первых, бюджет не позволял пригласить на картину знаменитого или хотя бы опытного режиссера, и поэтому искали среди начинающих и даже выпускников киношкол. И во-вторых, один из членов общества, пожилой кинокритик в синем пиджаке чуть не до колен и тонкой сигаретой в губах, читавший в Мюнхене курс, на который Маша была записана, был попросту в нее влюблен. Маша не подозревала об этом потому, что искренне думала, что критик — гомосексуалист, поэтому когда он вдруг выпускной весной позвонил ей и после трогательных расспросов («над чем работаете», «нет ли проблем с жильем» и «что будете делать после окончания») сказал, чтобы она прислала свежую работу, как только закончит (вы уверены, что не дольше месяца?), и объяснил зачем, Маша, повесив трубку, вдарив по стене кулаком так, что ее Mitbewohnerin, тихая девочка из Словакии, вздрогнула и расплескала кофе на одеяло, — Маша не могла усомниться в том, что этот педик верит в меня, понимаешь?
Между тем одно другому не мешало: месье-тонкая-сигарета искренне верил в Машу как в режиссера и вместе с тем всерьез рассчитывал затащить ее в постель. Мысль о том, чтобы заняться сексом с этим ученым попугаем, настолько поразила Машу — он привел ее в какое-то кафе на рю Монж (буквально только что ее все-таки утвердили) и после некоторого предисловия так прямо и сказал, что, мол, ее благодарность могла бы выразиться во взаимоприятном time waisting у него дома, до которого, по счастью, идти всего пять минут, — так вот, Маша была так удивлена, что выпалила: черт, я думала, что вы… — потом спохватилась и продолжила, — что вы знаете: я не сплю с мужчинами. Детская уловка, которая в любой другой ситуации прозвучала бы как обидная отговорка, тут, за счет, видимо, энергии натурального удивления, что месье оказался straight, сработала на сто процентов: критик был разозлен, но «it’s ok to be a gay» оказалось сильнее; машинально застегивая пуговицы на пиджаке, он стал бормотать, что не предполагал, что он уважает ее выбор и бла-бла-бла. Получилось, что единственное, чем Маша заплатила за возможность снимать «Гугенотов», был устойчивый слух, появившийся вскоре и сопровождавший ее всю жизнь: что Мария Регина — лесбиянка. Слух не слишком досаждал ей, впрочем, однажды ей пришлось давать интервью для лондонского «Diva» и, отвечая на соответствующий вопрос, объяснять, что гомосексуализм, по ее мнению, представляет собой не что иное, как влюбленность в собственные половые органы, а это, как и любой другой род фетишизма, всегда было ей чуждо. Интервью, понятно, не было опубликовано, но тем не менее попало в сеть, и вой, который подняла радужная общественность в Европе, стоил Маше многих нервов.
Но все это было потом. Тогда, в сентябре, после выпуска, Маша обнаружила, что пройти конкурс — это еще не все. На двести тысяч, которые Обществу удалось выбить из министерства, снять историческую постановку было невозможно. Продюсер, объясняя ей про ограниченный бюджет, одновременно предложил и выход из ситуации: одеть героев в пиджаки, ну и общий минимализм, пара стульев в павильоне — огромная экономия на костюмах, реквизите и выездных съемках. Маша обещала подумать и через два дня объявила свое решение: экономить на костюмах она не будет, а будет экономить на артистах — вместо профессионалов, которым надо платить по тысяче, а то и не по одной, за съемочный день, она наберет в картину школьников, каждый из которых обойдется сотней. Пробить эту идею оказалось едва ли не сложнее, чем выиграть конкурс. Маше пришлось идти ва-банк, пригрозить, что вовсе не будет работать, если ей не разрешат снимать подростков. Продюсер, напуганный тем, что съемки снова откладываются (подавать отчет о потраченных деньгах нужно было до конца года), махнул рукой.
«Гугеноты» начинались цитатой: под до-си-ля-ля-си-до увертюры мальчики и девочки вываливались из маленького школьного автобуса — от джуисонской труппы их отличали длинные косые челки и ухоженные лица уни-секс, — но ловкие движения и задор в глазах остаются привилегией молодости безотносительно моды на прически. (К слову сказать, Маше стоило большого труда собрать в Париже труппу со сплошь европейскими лицами, и когда после премьеры кто-то из журналистов упрекнул ее, что нет, мол, среди ребят ни одного чернокожего, в том смысле, что подобный просчет непростителен для молодого режиссера, который приехал сюда из другой страны и должен бы прежде всего усвоить европейские ценности, ей пришлось, скривив лицо, сухо отмахнуться: я снимала кино про Францию шестнадцатого века — насколько мне известно, тогда здесь не было чернокожих.)
Ворвавшись в театр, они разбирали костюмы, девочки примеряли фальшивые драгоценности, мальчики хватали шпаги и весело тыкали ими друг в друга, главный герой корчил рожи возлюбленной, — и потом, когда начиналось собственно действие, было еще ощущение, что это просто школьники бесятся и придуриваются, добравшись вдруг до целого склада реквизитных сокровищ. Но скоро все решительным образом менялось: Маше удалось сделать так, что постепенно глаза ребят из играющих становились действительно страстными, наклеенные усы и бороды будто прирастали к лицам, движения обретали торжественность, в глазах героя, когда он ревновал, полыхала настоящая ярость, — и в какой-то момент зритель понимал, что он смотрит уже совсем другое кино — не про вырвавшихся на свободу школьников, а про злую, кровавую французскую историю. Ближе к концу, когда действие переносилось из помещений театра на бурлящую ночную улицу, казалось в высшей степени естественным, что это уже не улица современного Парижа, с автобусами и рекламными растяжками, а настоящая, залитая настоящей кровью улица Варфоломеевской ночи. В последнем кадре — Сен-Бри, держащий на руках труп дочери, ужас в его глазах — с экрана в зал смотрел совершенно взрослый человек, который вдруг понял, что увлекся игрой, единственным финалом которой, оказывается, может быть только смерть.
Люди не взрослеют, а только состариваются — вопреки критике, которая высмотрела в «Гугенотах» предупреждение против религиозных междоусобиц, фильм был именно об этом. Просто в какой-то момент человек понимает, что маска взрослого, которую он на себя надел, приросла к его лицу навсегда. Есть вещи, которые сильнее человека, — логика развития событий. Герой не мог не подумать, что героиня — чужая любовница, и именно поэтому история, начавшаяся веселой пирушкой, не может не закончиться кровавой резней. Чтобы стать взрослым, нужно бы остановиться и закрыть глаза, но это практически невозможно.
Успех «Гугенотов» был довольно локальным. Это после «Минус один» Регина стала главным молодым европейским режиссером. Тогда, когда вышли «Гугеноты», известность их ограничилась профессиональными кругами. Маша получила первый приз в Кёльне, дала несколько интервью — в «Filmfare», «Premiere», «Empire», — прочитала восторженные заметки о фильме в этих же журналах, и ее телефон записали три-четыре продюсера. Прокат шел плохо, и хотя мюнхенские преподаватели и сокурсники утешали ее, говоря, что фильм-опера и не может пользоваться серьезным успехом, потому что опера вообще не та вещь, которую способно слушать для собственного удовольствия большинство людей, Маша чувствовала, что здесь есть и еще что-то.
Через четыре месяца после кёльнской премьеры Маша улетела в Петербург. Причиной этому послужило не только то, что она уже больше двух лет не была в России, и не только то, что она улетала вслед за Ромой, — об этом, кстати, еще нужно будет сказать несколько слов, — но и то, что она хотела увидеть А. А. Она смутно чувствовала, что он нужен ей как камертон — чтобы сверить нынешнюю Машу, с головой увязшую в кино как профессии — студии, продюсеры, камеры, фестивали, — с той Машей, которая почему-то именно вместе с А. А., хотя она всерьез никогда не любила его, несколько раз в жизни испытала моменты, как она об этом говорила, особых смыслов — слово «истина», по ее убеждению, было из тех, которые нельзя произносить вслух.
Она прилетела в одуревший от весны Петербург: короткоюбые девчонки на Невском едва не выпрыгивали из трусов, в Фонтанке плавали, как в забытом стакане с виски, обмылки льда, в Летнем расколачивали гробы с богами, на Моховой пели на-мели-мы-налима-лениво-ловили пьяные студенты, и во дворе на Пестеля, прищуриваясь, провожали Машу взглядом коты.
Но А. А. больше не жил на Пестеля. Дверь Маше открыла девушка, на руках у которой был ребенок, и он мгновенно скуксился, едва увидел тетю: Илюша, ну что ты, тетя хорошая. Кто такой А. А., девушка не знала. Мобильный его не отвечал, и единственное, что осталось Маше, — набрать телефон той квартиры, где он жил еще до того невероятного лета. Вернувшись в гостиницу, Маша долго валялась на застеленной кровати, курила и щелкала каналы в телевизоре — она не совсем понимала, почему ей сложно набрать этот номер, и поняла это — скорее, честно призналась себе — только тогда, когда все-таки, притянув телефон к подушке, набрала его и услышала да, сказанное голосом, который она слышала только раз в жизни, но запомнила хорошо. Маша мало думала о жене А. А., но совсем не думать о ней было невозможно хотя бы потому, что те самые девочки, которые, потихоньку куря в форточку в комнатах общежития, с удовольствием хвастались друг перед другом своими мальчиками, — те же самые девочки с тем же удовольствием говорили потом на ежегодных встречах класса — а одна какая-нибудь Маше потом обязательно пересказывала, — что Маша А. А. от жены увела и что это некрасиво. Черт знает почему — то ли дрогнул особым образом Машин голос, то ли Елизавета (как же ее отчество?) давно ждала ее звонка и теперь безошибочно угадала — она поняла, кто звонит, и Маша услышала это в том, как она сказала сейчас, подождите, я поищу, как аккуратно положила трубку на стол, тыкала кнопки в мобильнике и сквозь зубы шепнула вот сучка, и потом, четко артикулируя, продиктовала десять цифр — просто сказать «нет» она не могла, не позволяло воспитание, но в голосе, которым она диктовала, слышно было (на то, очевидно, и был расчет), как сильно она ненавидит девчонку, которая — и Маша, может быть, впервые открыла это для себя — разрушила ее семью.
Момент, когда Маша кладет трубку, машинально тянется еще за одной сигаретой, понимает, что на самом деле совсем не хочет курить, и, покручивая ее в пальцах (на тумбочку сыплется мелкими крошками табак), тупо разглядывает накарябанные на гостиничной салфетке цифры, — это еще не осознание потайного принципа работы механизма вины, но, скорее, предчувствие такого осознания. Разговор с незнакомой женщиной, которая ей ни сват ни брат, уводит Машу в медленную, осторожную задумчивость, она даже боится резко двигаться, — так рыбак неподвижно сидит над поплавком, хотя рыбе, казалось бы, в холодной воде все равно.
А. А. живет теперь в квартире своих родителей, которые (отец-инженер, мать-корректор, он — от рака, она — от пустоты жизни) один за другим умерли год назад. А. А. очень не хотелось тогда думать, что случилось это в высшей степени кстати, но по сути так и было: товарищ-хозяин квартиры на Пестеля вернулся из Франции на пару месяцев, специально чтобы квартиру продать, и деваться А. А. было некуда, он недолго покантовался по знакомым, даже снимал какую-то комнатушку на Петроградской, а после смерти матери с облегчением, в котором сам себе старался не признаваться, переехал в опустевшую двухкомнатную квартиру на Третьей линии, полную вещей, которые — выменянный у полузнакомого майора немецкий сервиз, радиоприемник с деревянной панелью и огромными пластмассовыми кнопками, грязно-коричневый торшер, бюстик Чайковского, ПСС Горького в желтых суперобложках — служили главным образом якорями, державшими его слишком старых родителей во времени их молодости, но теперь, когда пост этот был окончательно сдан, они стали похожи на выброшенные в наличную действительность обломки экзистенциального кораблекрушения (ведь крушение постигло не только Советский Союз, но и identity его команды).
А. А. все выбросил на помойку — не потому, что вещи были старые, а как раз вопреки этому. На самом деле он испытывал нежность к старым вещам, но теперь старался вытравить из себя нежность вообще, которую, после того как Маша стала отдаляться от него осенью, на втором курсе, с головой уйдя в работу — она теперь даже не каждый вечер приходила ночевать на Пестеля, — и редкие пронзительные взгляды, те, что он еще ловил на себе летом, исчезли совсем; она не порвала с ним, нет, просто незаметно исчезла, испарилась, как испаряется пролитая на пол вода (от Маши остались несколько футболок и подаренный ей когда-то Пушкин), так что еще через год, когда она выбила свой судьбоносный грант и собиралась в мюнхенскую HFF, и накануне вылета назначила ему встречу в дурацком кафе на Литейном и там неуверенно, очевидно из чувства долга, говорила ему, что будет скучать (и сама же морщилась от очевидной нежизнеспособности этой формулы), он не мог удивиться этому и не имел права ни на что, кроме как, глупо растягивая губы, сказать такое же фальшивое ну, пиши что ли, — так вот, боль, которую он испытывал после этого (он ощущал ее как вакуум в груди — его было не заполнить ни сигаретным дымом, ни водкой, и облегчение наступало только тогда, когда он, сидя на краю старой эмалированной ванны, плакал, уткнувшись лицом в полотенце), — эту боль он считал инобытием той нежности, которую испытывал к Маше, и, раз ампутировать одну только ее из души никак нельзя, решил бороться с нежностью вообще (к старым вещам — как частный случай), которую А. А. не без некоторого основания считал первопричиной всех своих бед. Поход этот был вполне донкихотовский, но бросаться на ветряные мельницы судьбы в доспехах из глухо постукивающих друг о друга слов так же естественно человеку, как писателю — злоупотреблять метафорами.
А. А., увиденный Машей на пороге квартиры на Третьей линии (она настояла, что приедет к нему прямо домой, ей не хотелось снова впасть в фальшивый тон, к которому обязывает общепит), был, правду сказать, похож на свое отражение в пыльном зеркале. Его глаза, когда-то с ума сводившие девушек тем, что по ним было понятно: этот человек в каждый момент жизни умудряется высечь из мира искру радости, — эти глаза, хотя Маша по одной ей принадлежащему праву и разглядела в них все то же, они все-таки были уставшими и недоверчивыми, как будто он заранее предполагал, что ничего хорошего из Машиного визита не получится, но по роковой своей слабости не мог просто послать ее.
Нет-нет, А. А. не был похож на несчастного Пьеро: у него был здоровый цвет лица, рубашка на нем сидела все с той же небрежной горделивостью, и квартира на Третьей в любой момент готова была принять любую восхищенную его лекциями студентку (после защиты он читал только в университете). Они появлялись здесь часто: пили вино, курили, любовались фотографиями на стенах, крутили в руках диски, рассматривали, наклонив голову, корешки книг в шкафу и потом загадочно улыбались, когда А. А. касался губами выгнутой шеи, подглядывая одним глазом в стеклянную дверцу за отражением. Рабочий стол был на половину своей высоты завален книгами и журналами, мигал лампочкой задремавший ноутбук — авторитет А. А. держался не только на умении говорить и носить рубашку, но и на сумасшедшем объеме работы, которую он делал. Пока он заваривал чай на кухне, Маша перебирала сваленные на подоконнике бумаги и обнаружила его фамилию в оглавлениях нескольких научных сборников и глянцевых журналов: расширяю жанровый диапазон, — сказал А. А., заметив, что она держит в руках один из них. Маша видела, что ее исчезновение не сломало его жизнь, и радовалась этому. И все-таки во взгляде, который она на себе ловила, она угадывала обиду, закамуфлированную под доброжелательное равнодушие.
Смысл этой обиды навсегда останется невербализованным между ними, но это и не обязательно. Подглядывая за тем, как аккуратно А. А. наливает чай, слушая его ненужные объяснения про квартиру, про диссертацию, отвечая на его вопросы (она похвасталась «Гугенотами» — в России про них ничего не слышали пока), Маша вдруг отчетливо — и какое-то холодное чувство выгибает ее позвоночник — понимает: после Машиного исчезновения А. А. должен был признаться себе в том, что тем летом она всего лишь затыкала с его помощью дыру в своем сердце. Этот факт она — и тогда, и сейчас — больше всего хотела бы от него скрыть, потому что на самом деле он никогда не был для нее всего лишь мужчиной, как, например, тот мюнхенский мальчик, который, узнав, что она уезжает, с улыбкой сказал ок, мы же ничего друг другу не обещали. То, что она не любила А. А., правда; но правда и то, что если бы какой-нибудь небесный компьютер разложил перед ней карты с изображениями мужчин, которых она когда-либо встречала, и спросил бы, кого она выбирает любить, Маша не задумываясь ткнула бы в его иконку. При том что она раскрыв рот слушала А. А., когда он говорил, восхищалась его умом и удивительным способом жить так, чтобы любая гнусность оставалась снаружи, — при всем этом она никогда не чувствовала особенного жара в ладонях, когда он брал ее руку, и голова ее не кружилась, когда он целовал ее.
Они до самой ночи пьют чай, потом идут в магазин за вином, курят одну сигарету за другой и пересказывают друг другу слухи о бывших Машиных одноклассниках. А. А. плюет на статью, которую надо бы закончить до завтра, а Маша плюет на гостиницу — неловкость, еще ощущавшаяся в первый момент, уже растворилась в пустой болтовне. Под утро А. А. расстилает Маше на диване в гостиной, а сам ложится в спальне, и это не формальность — Маша не притворилась бы спящей, если бы он, пожаловавшись на не заснуть никак, пришел бы к ней в свете разгорающегося над Невой солнца, но он — действительно ли хотел спать или не захотел показаться невежливым — не пришел.
Зажмуривая глаза (она давно отвыкла засыпать при свете солнца), поджав колени к груди, Маша еле заметно улыбается: едва ли А. А. помнит, но именно в этот день четвертого мая восемь лет назад, здесь, в этой квартире, она потеряла девственность.
А было это так. Весной как-то само собой установилось, что Маша провожала А. А. из школы. Просто однажды она встретила его у Смоленки — она гуляла после занятий, а он шел пешком на Малый, чтобы сесть там на автобус. Случайно это было только в первый раз — каждый следующий день она специально шла туда, где старая липа корявым стволом нависала над тропинкой, а он, если знал, что занятия у нее еще не закончились, находил какие-нибудь дела, чтобы задержаться в школе. Через неделю, помогая ей перепрыгнуть лужу, он взял ее за руку и потом уже не отпустил. Они шли, держась за руки, вдалеке Маша заметила елку, и почему-то ей пришло в голову, что у этой елки он остановится и поцелует ее. Действительно, чем ближе они подходили к загаданному дереву, тем медленнее становился шаг, но прямо у него, когда уже было понятно, что именно так и произойдет, Маша с А. А. услышали развеселый гомон, и из-за поворота (А. А. нервно выдернул руку) вырулила мальчишеская компания: из всех мальчиков (здрасьте, Лексейлексеич) что-то заметил только Коля, и взгляд его был сразу укоризненный и удивленный.
А. А. не нашел повода снова взять ее ладонь. Маша удивлялась его робости, да он и сам, сидя потом в автобусе, щурясь в запыленное стекло, ругал себя: как мальчик, как школьник, детский сад, — но он чувствовал тут что-то, что было сильнее его, — когда Маша была рядом, мир погружался в какое-то марево, и в этом мареве он ничего не мог сделать, а мог только следить за развитием событий.
На следующий день Маша остановилась у той же самой лужи, которая очень кстати не успела еще высохнуть, и сама подала ему руку. Они рассмеялись, и на этот раз, дойдя до елки, А. А. остановился, развернул Машу к себе, долго смотрел ей в глаза, погладил ее щеку и поцеловал. В сущности, совершенно неважно, сказал ли он, что любит ее, — потому что если сказал, то это должно было очень смешно прозвучать: Маша, я вас люблю (в школе ученики и учителя обращались друг к другу на вы), — а если не сказал, то Маша все равно услышала и, услышав, потянулась к нему с новым поцелуем — чтобы не отвечать, но и потому еще, что целоваться было хорошо.
Прошел целый апрель — прогулки становились длиннее, по Смоленке они шли уже в другую сторону, к заливу, пели птицы, и вылуплялись листы на деревьях, ветер с залива шевелил чуть отросшие Машины волосы, они шли медленно, часто останавливались, А. А. обнимал Машу и прижимал к себе ее легкое тело, смотрел на нее внимательно, будто хотел увериться, что вот она, в его руках, сидели на каменных ступеньках у «Прибалтийской» (по площади, задирая головы к небу, катились на роликах дети), в дождь прятались в арках домов или в кафе на Среднем, пили кофе, не расцепляя рук, А. А. то веселил Машу профессиональным фольклором («все люди по природе своей бобры»), то вдруг на полном серьезе рассказывал про Блока, Маша смотрела ему в глаза, и в такие моменты А. А. казалось, что все вокруг катится куда-то вбок, — так прошел целый апрель, прежде чем однажды они, обогнув чуть не весь остров, не оказались на Третьей линии и А. А. между прочим сказал, что здесь вот живут его родители, которых, правда, сейчас нет, уехали на дачу. Он, путая слова, сразу заговорил о чем-то другом, и Маша, сжав его руку, свободной ладонью указала на дверь парадной: здесь? а ключи у тебя есть? (Да, они, конечно, уже говорили друг другу ты.)
В квартире А. А., расшнуровывая ботинки, говорил, что сейчас заварит чай и что у мамы наверняка припрятано где-нибудь печенье или вафельный торт, надо только поискать, но Маша, уже скинувшая кеды, едва он распрямился, притянула его к себе. Он целовал ее за ухом, гладил плечи, сквозь ткань рубашки касался ее груди, потом повернул пуговицу у шеи, Маша сбросила с него пиджак, они ушли в гостиную, и там А. А. мучился с ее ремнем, и она наконец сама расстегнула его, и потом, лежа рядом с ней на диване, А. А., чтобы не плакать, проводил пальцами от ее закрытых глаз вниз, по плечам, груди, животу, и волосы у нее в паху были той же длины, что и на голове. Маша лежала с закрытыми глазами, сосредоточившись на боли, которая, пульсируя, затихала.
Феноменология вины
И все-таки не произойти это не могло. Просто потому, что, когда два симпатичных друг другу человека остаются вдвоем в пустой квартире, это не может не произойти. Проснувшись, А. А. сходил за свежими багетами, вернулся, сварил кофе и разбудил Машу. Он громыхал на кухне чашками, пока Маша была в ванной, достал для нее из шкафа махровый халат (похоже, он у тебя не висит без дела — это что, комплимент? — как хочешь), налил ей кофе, сделал бутерброд и, когда Маша села на табуретку, закинув ногу на ногу, поправил у нее на колене полу халата. За Машей оставалась свобода интерпретации этого жеста — то ли дружеская забота, то ли ненавязчивое ухаживание, — и Маша, с минуту подумав, прикоснулась к его ладони: передай сахарницу, пожалуйста. Игра — тем более милая, что оба участника уже хорошо ориентировались в правилах, — закончилась на диване в гостиной, с которого А. А. еще не успел убрать простыню и одеяло с подушкой. Маша лежала у А. А. на груди, он гладил ее по спине, разглядывал ее профиль и ругал себя, что не сдержался.
Мужское сознание склонно приписывать женскому мотивации, типичные только для него самого. Маша решилась на ответный жест совсем не потому, что ей хотелось что-то продемонстрировать или в чем-то убедиться. Ленивое солнечное утро должно было закончиться именно так, и она просто не видела повода лишить себя этого сюжета. Едва ли она сама могла внятно ответить на вопрос, зачем ей нужен был этот секс. Во всяком случае, не раньше того момента, когда она ехала в поезде домой и, уткнувшись носом в темнеющее не только с каждым часом, но и с каждым километром окно, прокручивала в голове четыре дня, проведенные в Петербурге.
Соседи на полках спят, звенит ложка в стакане, Маша жалеет, что так и не научилась пить в поездах. Она накручивает прядь волос на палец, морщится и трясет головой: ничего не получилось. В Мюнхене ей казалось, что стоит вернуться в Питер, встретиться с А. А. и погулять по Коломне, как к ней вернется чувство цельного, наполненного смыслом мира. Она для этого забрала вещи из гостиницы и упросила А. А. отменить лекции в понедельник — чтобы жить несколько дней так, как это было семь лет назад: гулять, пить вино и заниматься любовью. Поэтому было важно снова целовать его и ощущать его тяжесть на своих бедрах: это был необходимый элемент мозаики прошлого. И однако, хотя все ритуалы были исполнены и все формулы произнесены, заклинание не сработало. Все было то же — плеск воды и багровое солнце — но как той, прежней, Маше удавалось слышать в этом музыку мира, так и осталось тайной. На исходе воскресенья, когда они с А. А. сидели на ступеньках у Манежа и он держал ее за руку, курил и вглядывался в мелькающую искрами вспышек набережную у Исаакия, Маша прижалась к нему и сказала так, чтобы это прозвучало как нечаянно сказанная вслух мысль, не требующая ответа: как же это я тогда была так счастлива.
А. А. не ответил сразу. Он докурил, затушил сигарету, освободившейся рукой нашел ее ладонь и сказал так, будто не отвечал на вопрос, а задавал свой: зачем тебе счастье? Что-то вроде счета в банке, чтобы на нем всегда были деньги. Не бывает никакого счастья, глупости это. Счастье случается, вот и все. Ты будешь сидеть ждать его здесь, а оно там (А. А. махнул рукой в сторону Сената). И потом, это же вспышка, от нее остается только резь в глазах. Может, побудешь еще? Маша помотала головой. Ну и правильно, лучше уже не будет, — А. А. поднялся и потянул Машу дальше, в серебрящуюся темноту линий.
Маша уже почти спит, голова ее соскальзывает с ладони на стыках рельсов, и последние несколько дней бледнеют в ее сознании, как след дыхания на стекле, за которым в суровой тьме псковских лесов проясняются картины Петербурга, прожитого вместе с А. А. семь лет назад, но оставшегося для Маши навсегда таким и только таким.
Для Маши Петербург — тихий и темный город, который весь, если не считать внушающих ужас и унижающих человеческое достоинство спальных районов, можно обойти пешком, — стал настоящим полигоном счастья, городом, в котором ежесекундно может случиться так, что шестеренки мира начинают вдруг крутиться ладно, струны натягиваются, и мир звучит нежной музыкой, причем, как выясняется, совершенно неважно, что именно делать в этот момент. Можно заглядывать в открытые двери парадных, как пыль кружится в широких пролетах лестниц; можно принюхиваться к запаху укропа на Сенной и конопли — на Малой Садовой; можно угадывать на брандмауэрах разрушенные в блокаду дома, читать надписи на замках, прицепленных к ограде моста у института прикладной астрономии (Котя + Холера), вглядываться в закатное солнце, просвечивающее галерею павловского дворца, целоваться на эстакаде заброшенного таксопарка, перешагивать через косиножек, расхаживающих по ночным улицам, разглядывать гниющие в глинистых лужах кленовые листы, засыпать на берегу пруда на Елагином, пинать большие, как перепелиные яйца, желуди, кормить из рук булкой белые лайнеры лебедей, открывать шампанское в пять утра на Невском, мокнуть до трусов под теплым дождем, пробираясь по Дворцовому на Васильевский, ходить прицениваться к корюшке, щуриться на солнце, садящееся в створе Гороховой, слепнуть от золота и воды в Петергофе, подслушивать разговоры пьяниц под голубыми елями у памятника Добролюбову (я памятник нерукотворный, моя тропа не зарастет), косить глазом на обломки алюминиевых туч, несущихся прямо над головой, втягивать носом октябрьский ветер с Невы, хрустеть засахарившейся инеем травой первого ноября, раскачивать ногой нежную кожицу лужи, хранящей янтарный лиственничный начес, взметать против солнца сухой светящийся снег, лопать пышки на Желябова, пьянеть от запаха хлеба, плывущего над ночной Петроградской, месить ногами белоснежный сорбет или вдруг услышать победительное чириканье сотен невидимых птиц.
Засыпая, Маша перебирает эти возможности как возможности своей памяти, не более. То, что было когда-то видимой стороной истины, стало теперь только картинкой: так, глядя на сфотографированный закат, человек недоумевает, как это он разглядел в груде оранжевых облаков Бога.
Последний укол яви перед тем, как Машу с головой накрывает мутный поток громыхающего колесами по рельсам сна, — это чувство вины: уже пять дней Маша в России, а Рома уверен, что она до сих пор в Мюнхене. Этот маленький обман (тем более маленький, что они еще не успели связать друг друга обещаниями) — первое звено в цепи, которую они будут без устали ковать многие последующие годы. Маша не смогла бы объяснить Роме, который жарко дышал в трубку и говорил плюнь на гансов, приезжай скорее, — зачем ей нужны были эти несколько дней в Питере без него. Напротив, она могла бы сказать, что едет к родителям — что тут удивительного? — но, во-первых, она окончательно решилась на эту поездку, только проведя последний день с А. А., а во-вторых, она не хотела, чтобы кто-нибудь вообще знал о том, что она едет домой.
Что она едет — Маша не сказала даже родителям. Забыла номер телефона, не успела в суматохе, — это, конечно, отговорки. Главная причина в том, что Маша просто боялась звонить. За четыре года, проведенные в Германии, Маша набирала домашний номер всего несколько раз. В конце каждого разговора Маша обещала маме звонить почаще, несколько месяцев до следующего звонка мучилась угрызениями совести и снова брала телефон только тогда, когда мучение это становилось нестерпимым. Всякий раз мама пыталась рассказать Маше, как живут они с папой. И хотя Маше всегда удавалось сводить разговор к необязательному вообще-тону, было понятно и без подробностей: мама с папой живут очень плохо. Они стремительно старели, отец спивался, мама сходила с ума. И вот об этом-то Маша не хотела ничего знать — она смутно чувствовала, что если всерьез сосредоточиться на этой истории, то ей придется признать, во-первых, свою в ней вину, а во-вторых, невозможность что-либо исправить. Звонок со словами «я еду, девятичасовой, второй вагон» был бы до некоторой степени обещанием, которого Маша дать не могла, — будто она готова принять участие в ужасе, накрывавшем жизнь ее родителей.
Утром ее толкает в плечо проводница (в своем рваном сне Маша в этот момент бьется плечом о борт корабля, выныривая из холодной соленой воды, — в вагоне действительно страшно холодно), потом минут десять Маша курит до тошноты в мерзлом пустом тамбуре. Она глядит в окно, узнает все — речку, в которой она купалась, а однажды зимой провалилась под лед, сосны у насыпи, которых раз-два-три-четыре ровно четыре, ничегошеньки не изменилось, раздолбанный переезд, дома, про каждый второй из которых она знает, кто тут живет, — и сладость возвращения в детство мешается у нее с чувством омерзения ко всему, что она узнает. Платформы не хватает на весь состав, Маша спрыгивает с третьей ступеньки прямо на землю, вокруг нее на траву и деревья оседает туман. Когда грохот вагонов стихает, на Машу обрушивается оголтелый птичий грай.
Потом Маша садится в пустой, пропахший бензином львовский автобус. Не совсем пустой: в автобусе есть водитель, смутно знакомое мужское лицо, перепаханное морщинами, в уголке рта пляшет сигарета, от запаха которой нехорошо кружится голова. Прищуренные от встающего за лобовым стеклом солнца глаза отвлекаются от дороги и смотрят в зеркало на Машу: Пашкина, что ли? Маша кивает. Не узнать тебя! Маша пересаживается поближе: что? — не узнать, говорю, тебя, изменилась! — водитель улыбается, стряхивая пепел в окно, Маша улыбается в ответ, понимая, что слова его значат «совсем не изменилась» — иначе как бы он ее узнал?
Дядя Толя (вспомнила) еще спрашивает то, что спрашивают уехавших в город детей, — закончила? работаешь? замуж вышла? — и с удовольствием, перекрикивая взревывающий на подъемах мотор, рассказывает про свою — учится на заочном, снимает комнату, работает в парикмахерской (в городе давно уже нет парикмахерских, но они остались здесь), ты к ней сходи, она пострижет. И когда до дома остается одна остановка, Маша решается спросить, как отец. Дядя Толя сует еще одну сигарету в рот, придерживая руль локтем, прикуривает, чертыхается на яме, перехватывает руль расширяющимися к ногтям пальцами и отплевывает табачную крошку. Да ничего, что ему еще делать, — и для ясности щелкает широким ногтем под подбородком.
Маша протягивает дяде Толе деньги, он отмахивается (а, в следующий раз) и напоследок, перед тем как Маша выпрыгивает на занесенную песком бетонную плиту, остановку, объясняет ей, где парикмахерская.
Из детства все вспоминается большим. Машу всегда волновала выпуклая оптика памяти, несколько раз она хотела написать сценарий для фильма о своем детстве, куда перенести бы: калитку, которую надо чуть приотрывать от земли, чтобы закрыть на проржавевший крючок, хмель, цепляющийся за столбы беседки, и сквозь листву перемигивает солнце, огород, тянущийся до самого горизонта, огромный сарай, где вместо пола — песок и загадочно пахнет полынью, — всякий раз она спотыкалась на том, как героиня, возвращаясь к тем же состарившимся вещам, открывает дверь в дом и видит — что? Маше мерещился в этом сюжете какой-то труп — героиня с размытым лицом должна была увидеть качающееся под потолком тело не то матери, не то отца. Но в конце концов стало понятно, что это голимое обобщение, потому что настоящим обобщением, сюжетом-всерьез, могло быть только то, что Маша увидела на самом деле, — войдя во двор через открытую калитку, Маша увидела на крыльце дома в промозглой утренней тени лежащего спиной к двери отца.
По ладони, положенной под голову, по подтянутым к животу коленкам, но главное — по удушливому кислому запаху вокруг него Маша понимает, что отец спит. Она садится на нижнюю ступеньку крыльца и закуривает. Спустя минуту от запаха табака у отца начинают подергиваться крылья носа, он просыпается и смотрит на Машу (привет, пап, — чтобы облегчить ему поиск слов).
Потом он, покачнувшись, садится, прячет лицо в ладони (на трех костяшках — гематомы), мыкает Маша, ты как… — запутывается и суетится. Маше приходится встать и двинуться вслед за ним обратно к калитке, причем он поворачивается к ней спиной, шепотом бормочет что-то про мать, которую муха укусила, и машет рукой — пойдем, пойдем.
На улице, шагах в двадцати от дома, он говорит громче и внятнее, он уже придумал: поздно вернулся, мать легла спать, и он не хотел ее будить, она вообще спит теперь не очень, да и здоровье не то, и несколько раз повторяет, что она святая женщина. Они идут дальше, и чем больше отец запутывается в словах про здоровье, сон и святую женщину, тем чаще речь его перебивается упоминанием магазина, и наконец, дойдя до угла, он озабочен только временем — который час. Маша понимает вдруг, что это вопрос, достает телефон и говорит. А, открылся уже, — отец протяжно глядит в сторону пластиковой двери с большими красными цифрами «9:00–22:00» и бредет дальше, все так же пряча лицо.
Маша уже все поняла, но она не может себе представить, как это она скажет: «пап, тебе, может, выпить надо?» или так: «папа, тебе подлечиться не надо?» или как-нибудь еще. Она чувствует одуряющую тупую слабость, останавливается, погружает тяжелую, мигом постаревшую руку в карман и просто (na-ап) достает кошелек. Отец искоса смотрит на нее, и по тому, как он берет вынутые из кошелька сто рублей, становится понятно, что она еще вовремя приехала — объявись она (вопреки еще не данному обещанию) через год или два, он уже не брал бы их застенчиво, сжавшись всем телом, а заискивающе и нарочито громко сказал бы «доча, дай батяне на маленькую».
Устроившись на огромной сосновой колобахе в жидкой тени бледно-зеленой на фоне неба березы, отец глотает по чуть-чуть водку и рассказывает Маше новости. Маша садится рядом, чтобы слушать. Новости — это то, что ей придется слушать целый день. То, что расскажет ей отец, потом с подробностями перескажет мать — уже после того, как отец, немного порозовев, вдруг спохватится (она-то что, так и не знает?), потащит ее за руку домой, чуть подтолкнет вперед в дверях: встречай, мать! — и мать, не по годам высохшая и согнутая, будет рада до слез, но радость не помешает ей прикрикнуть на отца так, что у Маши сведет судорогой лицо: хоть дочери бы постыдился (отец глупо улыбается).
Все утро мать будет готовить праздничный обед — селедка под шубой, салат из крабовых палочек (предупредила бы, я бы холодец сделала), жареная курица с картошкой — за это время Маша узнает, что соседская девочка гуляла по шпалам и осталась без ног, что непьющий сын какой-то тетки выпил вдруг купленной ночью на углу водки и умер, а другую девочку ее парень толкнул под машину (говорят, беременная была), от всего этого у Маши потеет спина, она ложится на диван и закрывает глаза — ты поспи, поспи, — и в полусне материнское бормотание смешивается с шумом закипающей воды, с шкворчанием сковородки, со стуком ножа по доске. В соединении этих шумов Маше слышится ритм, которому подчинена судьба живущих здесь — Волков, одноклассник твой, помнишь? вышел, — от ножей, мотоциклов и отрезанных ног — женился зимой, на Таньке из седьмого дома, она его старше на пятнадцать лет, — до маленькой водки в 9:00.
За обедом отец уже вымыт и причесан, в наглаженной рубашке с большими розовыми лилиями (Маша помнит: праздничная), он даже моложе смотрится, ему позволяется выпить; налив ему рюмку, мать убирает бутылку в холодильник, потому что иначе он тянется за следующей сам. Тем не менее посреди обеда матери приходится отвести отца в спальню, там раздеть его и накрыть одеялом. Вернувшись, мать ставит локти на стол по бокам от тарелки с остывшей курицей, прячет лицо в ладони и начинает плакать. Седой хвостик, в который она стала завязывать волосы, мелко трясется.
Из того, что мать могла бы рассказать Маше, нет ничего, чего она бы не знала, — что отец пьет, что он ее доводит, что она прямо не знает, что делать, это невозможно, и перед соседями стыдно — с отца она незаметно перескакивает на свое детство, на бабушку, на брата, — но, задаваясь вопросом, почему мать рассказывает ей то, чего (мать знает, конечно) Маша не может не знать, Маша вдруг понимает, что по большому счету мамы у нее нет.
Вперившись взглядом в холодную обкусанную куриную ногу, Машина мать перелистывает память в поиске того момента, когда машина ее жизни вдруг зацепила грязный снег на обочине и неведомая сила утащила ее туда, куда она как раз ни за что попасть не хотела (этот момент, с которого, как сейчас уже понятно, все могло быть только так и никак иначе, ей приходится отодвигать все дальше и дальше), — поиск этот в последние годы стал основным содержанием ее повседневности, поэтому речь ее безэмоциональна, как на актерском «сухом» прогоне.
Невозможно было представить, что девочка, которая бредет к остановке автобуса, чтобы ехать в школу (тот же город, и по тому же, семь-тридцать, расписанию ходит автобус), что она, эта девочка в резиновых сапогах (сменка в мешке) и зашитом под мышкой пальто, она достает из кармана кусок хлеба, чтобы дать ждущей ее собаке, и треплет ее по ушам свободной рукой, — что она, эта девочка, будет заканчивать свою жизнь сбитой с толку старухой при спившемся старике. В глазах этой девочки (ладони щекотно от шершавого и горячего собачьего языка, она говорит вполголоса ешь, ешь, Матильда, — и щурит один глаз — с той стороны, откуда сквозь холодный воздух пробивается сухое солнечное тепло), в блеске крупных облизанных губ, в движении узкой ладони — безответственное счастье, которое ее мать, если бы могла видеть эту сцену, опознала бы как свое счастье.
Структура счастья проста, как круглый блин, и неразрешима, как квадратура круга. Та женщина, которая когда-то приехала сюда с едва знакомым мужем и здесь родила сначала мальчика, а потом Машину мать, когда она, уже после смерти деда, лежа по ночам в холодных простынях, пыталась нащупать в своих внутренних органах поселившуюся там смерть и вспоминала, как была счастлива, она так и не смогла вспомнить ничего более существенного, чем трясущаяся полуторка и свет солнца. Все, что случилось с ней потом, было, если не обесценивать счастье до простого человеческого, тупой болью. И то, что зажмуривающая глаза старуха старалась прогнать из своего изнывающего от бессонницы воображения, сейчас и перед глазами ее дочери, потому что девочка, которая по утрам уходила в школу, спрятав в кармане кусок хлеба для Матильды, по вечерам, ворочаясь в постели, зажимала уши, чтобы не слышать, как воет мать и как отец подолгу молчит и наконец взрывается матерным криком, как гремит по полу стул и взвизгивает мать — и только когда все стихало, она откидывала одеяло, пробиралась на цыпочках к комнате родителей: в дверную щель она видела мать, мешком сидящую на полу под иконами.
Золото на иконах отсвечивало багровым, Богородица и Христос с голубым шаром на ладони, поджав губы, молчали, — под ними же потом умирал брат после того, как по неосторожности на работе влил в себя вместо спирта денатурат, который сжег ему большую часть желудка. Два года нечеловеческой боли, злобы и зависти убили тридцатилетнего парня, а его мать высушили до кости — иконы за это время успели закоптиться поверху до черноты. Машина мать всегда подходила к постели своего брата, спрятав глаза, и когда он ловил ее руку — расскажи, как в школе, — она бормотала про оценки и домашние задания, но, конечно, совсем не то, что он хотел бы услышать, ни слова про мальчика из десятого класса, у которого такой голос, что, когда она сидела рядом с ним на скамейке, дрожание доски отдавалось у нее в животе, и ни слова про подружку, которая учила целоваться, — всякий раз она говорила, что очень много домашки, и стоило брату все-таки отпустить ее ладонь, уходила к себе, чтобы листать подружкины тетради с секретами, содержание которых нельзя рассказать.
От той принцессы в бальном платье, над которой девочка корпеет в тетрадке (нарисуй свой любимый рисунок), от того томления в груди, которое она ошибочно приписывает вдохновению и в котором пишет строчка за строчкой ямбы про опавшие листья и улетающих птиц, — от всего этого только один шаг до той ночи, когда Паша прижмет ладони к ее спине, и в конечном счете — до дня, когда мать будет судорожно поправлять складки на купленном у соседей свадебном платье, а потом раскрасневшиеся тети и дяди будут тянуть к ней сложенные в трубочку губы: какая ты сегодня красивая! Эти же тети и дяди потом наполнят дом старыми вещами — кроватка, пеленки, распашонки, игрушки, ванночка, — устроят на работу, и им же потом нужно будет врать, что у нас все хорошо: вот обои купили. С какого-то момента становится ясно, что не было ни единого шанса на то, чтобы что-то случилось иначе, — и, рассказывая дочери про ее отца, который пил, но иногда, и редко пропадал по ночам (надо было тогда уже построже быть, а я думала — перебесится), мать делает это потому, что она на самом деле хотела бы рассказать про Матильду и чувство ее горячего дыхания на ладони, и про то, как брат сжимал ее руку после ухода врача (что он там сказал, ты слышала?), и про мать, которая на третий день после смерти сына со всей силы отхлестала ее по щекам, зацепившись за съеденные конфеты, — но для всего этого у нее нет слов.
За стандартными формулами, с помощью которых в получасовой рассказ архивируется вся жизнь (а потом ты в школу пошла, деньги нужны стали), Маша слышит стук тысяч ножей по тысячам досок, на которых режут в мелкие кубики тонны вареной картошки всякий раз, когда надо кого-то похоронить, родить или выдать замуж. Этот мерный стук завораживает Машу — вглядываясь в свою мать, которая уже предлагает ей доесть курицу, потому что она больше не хочет (я погрею, а?), она обнаруживает зону тотального одиночества, где ужас человека перед жизнью не может быть разделен ни с кем, где при всем желании невозможно никому помочь, где теряют свою связующую силу связи родства, а слова «мать» и «отец» становятся только обозначением происхождения. Ее мать, которая сейчас наливает чай и бормочет что это я тут так, прости, — Маша понимает (хоть и отвечает да что ты, все в порядке) — закончит свою жизнь с теми же двумя-тремя картинками в голове и с тем же недоумением «как это все так получилось», и в целом мире нет ни одного человека, который мог бы простить бедную девочку. Так что, когда на следующий день отец вернется домой, прислонится плечом к вешалке, вешалка упадет и вместе с ней упадет отец, мать будет кричать на него, Маша будет стоять в коридоре и пытаться расслабить хотя бы ноги, чтобы уйти в комнату, отец будет ползти на четвереньках вперед (извиняюсь, я починю), а потом уткнется лбом в пол под Машиными ногами (Машенька, прости меня! ты меня прощаешь?) — она не сможет ему ничего сказать. И когда мать примется укладывать отца на кровать и из-за двери будут еще доноситься его вялые пережевывания Машенька, ну скажи! — она вдруг почувствует страшную нечеловеческую ненависть — и к отцу, и к тому механизму, открытие которого станет отправной точкой для начала работы над «Минус один».
Маша сорвется и уедет в Питер на следующий день, дав отцу повод еще раз легально напиться, а матери — возможность сжать ее ладони и срывающимся голосом попросить приезжать почаще (ты ведь вернулась теперь? из Германии-то?). Но и без маминых намеков понятно: в том, что ее жизнь свернулась в ленту Мёбиуса — муравей, шагающий по бесконечному полю возможностей, хочешь не хочешь, оказывается там же, откуда начинал свой путь (математики называют четырехмерный вариант этой модели бутылкой Клейна — бутылкой, да, по-русски эта метафора особенно наглядна), — в этом виновата Маша. И событие этой вины не там, где Маша, перетерпев мамины слезы, села на поезд до Ленинграда, а там, где безымянному, кричащему от страха лиловому комочку присвоили порядковый номер, чтобы не перепутать, если что, где чей младенец. Вину эту невозможно искупить возвращением хотя бы потому, что перемещаться в любую сторону можно только в трех измерениях (да, в этом смысле скорость памяти близка к скорости света). И это не тот счет, который можно оплатить наличными, хотя миллионы детей делают именно так, и Маша, конечно, тоже будет посылать маме деньги. То, что эта вина неизбывна, — структурная особенность мира, в котором довелось жить человеку. И если бы вдруг крепления, на которых держится мир, чувство вины и обида, которая есть та же гайка, только с обратной резьбой, если бы они вдруг ослабли, тогда холодная мощная волна хаоса дернула бы вверх все человеческое общежитие подобно тому, как енисейская вода за пять минут превратила в металлолом многотонные турбины Саяно-Шушенской ГЭС.
В тот момент, когда Машины ноги закоченели от предчувствия этого холода (она так и не смогла сдвинуться с места — мать, уложив отца, отвела ее на кухню), она вдруг поняла, зачем возвращалась домой. Понятно, не для того, чтобы отдать дочерний долг (отдать долг, если речь идет о родителях, покойниках, бывших женах или друзьях, всегда значит только подтвердить его), и, уж конечно, не для того, чтобы убедиться в том, что жизнь ее родителей вошла в штопор. То беспокойство, которое охватило ее еще в Кёльне, суть которого она никак не могла сформулировать, было вызвано тем, что, вслушиваясь в шипение шампанского, которое разливали по бокалам официанты в холле Людвиг-музея, в Ромины крики, когда он старался перекричать гомон толпы в пивной, в его все более мерное дыхание, когда она утыкалась носом в его горячую шею, в бодрые вопросы девочек с микрофонами (скажите, почему в вашем фильме играют подростки? — главное было разжижить слюнный кисель во рту), — она не слышала того, что привыкла слышать, — гула смысла событий.
Проще всего было бы следовать логике — полететь за Ромой, который звал ее с собой, или подписать какой-нибудь контракт, чтобы не остаться без работы, если уж не было никакого своего сценария, на который можно было бы попробовать раздобыть денег, — но она полетела сначала к А. А., а потом домой, чтобы остановить это скольжение, услышать ритмичное постукивание внутри груди, включиться всем телом в работу сознания, — словом, чтобы написать свой собственный сценарий для нового фильма, такой сценарий, от которого ноги заходят ходуном, торопясь на площадку, и ради которого захочется разодрать кому-нибудь глотку, чтобы только дали это снять.
Такой сценарий можно написать лишь кровью, и прилив этой крови к рукам Маша ощутила, стоя в коридоре над пьяным отцом, — жар страшной, нечеловеческой ненависти, — когда она ясно увидела, что движется по той же свернутой в восьмерочку ленте, в ту же сторону и так же неумолимо. Что она всегда будет жить виной за спившегося отца и несчастную мать. Что она никогда не сможет забыть Роме его сучки, и в то же время из окаменевших слоев памяти на нее всегда будет с укоризной глядеть А. А. И что чем дальше она будет жить, тем больше друг за друга будет цепляться шестеренок: умрут мать с отцом, сопьется А. А., у нее родится дочь, пьяный Рома пошлет ее на хуй — и новые, которых она не может предвидеть, только предчувствовать, — и все они с каждым поворотом все сильнее будут толкать ее к концу концов, в котором уже теперь различима одинокая запутавшаяся старуха — она ставит на полочку фотографию с черной лентой наискосок, ее губы шевелятся, повторяя фразы, сказанные в начале времен. Думая об этом, Маша пробует на ощупь свое чувство вины — можно ли от него отказаться, — и понимает, что нет, нельзя, это своего рода нравственная гемофилия, несвертываемость внутренних соков души. Но при том, что механизм первородного греха обеспечивает существование человечества в целом, в конкретном случае своей собственной судьбы всегда есть соблазн попытаться раскрутить гайки и на высвободившейся энергии соскочить с конвейера по производству трупов.
Оказавшись в своей комнате (спи, Маша, — но она, конечно, не будет спать), Маша садится за стол, разглаживает по исцарапанной пыльной поверхности лист бумаги и осторожно, как будто она боялась бы вдруг проткнуть бумагу грифелем, начинает рисовать. За окном темно, как в колодце, на стекло мелким пунктиром ложится морось, капли отсверкивают желтым, полукруглым от козырька лампы светом, тьма шевелится размытым пятном куста, и где-то еле слышно надрывается мотор. В комнате холодно и пусто. Вещи, наполнявшие жизнь девочки Маши, собраны в картонные коробки и покоятся на шкафу. Сокровища, из которых выветрилась сокровенность, — значки, фигурки нэцкэ, фломастеры, блокнотики, кусочки коры и глины, куклы и звери — ничто из этого больше не могло бы помочь Маше. К потемневшим обоям прикноплен календарь с махровым котенком, ящики стола разорены, и книги на полках стоят заподлицо. На лампе просвечивает наклейка: мальчик признается девочке в любви, сердечки, вылетающие из его груди, выцвели дожелта, странная парочка — мертвые сторожа срытого кладбища. В комнате пахнет сырым подполом. Но пламя, которое накаляет Машины руки, сушит комнатный полумрак. Квадратные тени сереют на потолке, в треугольниках их перекрестий видится какое-то напряжение — Маше за наклоненное плечо заглядывают голодные спросонья призраки плюшевых медведей, в их пластмассовых глазах под слоем пыли играет электрический зигзаг-огонек. Маша рисует вокзал.
Вокзал похож на темницы Пиранези — белое солнце просвечивает стеклянные плоскости, бликует на металлических трубах и начищенных в лед полах. Лопается пузырь тишины, и взрываются звуки: шаркают тысячи ног, гомонит многоязыкая речь, гремят репродукторы, скрипят тормоза, кричит реклама с экранов, шипят разъезжающиеся двери, стучат колесики сумок и чемоданов, воют кофемолки. Толпа течет по эскалаторам, в лифтах, смешивается в прозрачных залах, кружит у теряющихся в небе колонн, у касс бурление замедляется и потом успокаивается в устьях платформ, трогаются и разгоняются поезда. Запахи кофе, сосисок, бомжей, кожи, средств для мытья стекол, зубной пасты, мятных жвачек, газет и рекламных листочков разрывают ноздри, и слизистые дуреют, кружится голова, колотится как заведенное сердце: вокзал — территория жизни всерьез. Потом на Машином рисунке появляется человек, мужчина, он стоит на контровом свету, толпа обтекает его, как колонну, подбородок его задран, и видна небритая шея, пальцами он вцепился в растрепанные волосы, рот искажен, и зажмурены глаза, полы расстегнутой куртки заострились в стороны — рисуя этого человека, придавая ему черты своего отца, каким она запомнила его в молодости, искривляя эти черты своими сомнениями и озарениями, Маша еще не догадывается (и догадается только тогда, когда картинка вдруг схлопнется, оставив ее в холодной сырой комнате один на один с пыльной лампой и темным, облитым с той стороны водой окном), что человек, которого она нарисовала — почти на ее отца не похожий, а какой-то незнакомый, объемный, самостоятельный, — что этот человек — герой ее будущей картины.
Герою «Минус один», над нелепой беготней которого будет до боли в животе смеяться весь мир, Маша делегирует свою страсть вырваться из намагниченной области причин и следствий человеческого общежития. Сама история, сложившаяся у нее в общих чертах сразу после того, как она сделала последнее движение карандашом, будет классической комедией положений. Макс — Маша назвала так главного героя не только для того, чтобы передать ему две первые буквы своего имени, но и потому, что ей нужно было среднеевропейское имя, — соберется уйти с работы и из семьи, придет на вокзал, чтобы уехать в аэропорт и оттуда — на Кубу (еще во время титров он рассматривал гологрудых гогеновских аборигенок и выбрал только другой остров — ну да, еще и потому, что остров свободы). Он сядет на скамеечку ждать поезд, и когда сидевший рядом мужчина встанет, возьмет чемодан и уйдет, Максу останется чужой, точно такой же чемодан, до отказа набитый взрывчаткой (выбор был между бомбой, деньгами и наркотиками, но уж где вокзал, там и бомба). Максу придется убегать от исламистов, полиции, жены, начальника — и пока это все, что Маша знает про своего героя. Она чувствует лишь, что рассказать то, что она хочет рассказать, можно только в ключе шекспирического хохота (потому что у кино нет права на прямое высказывание, которым, быть может, чересчур смело пользуется литература).
Писать сценарий дома Маша не сможет, она понимает это на следующий день, когда осторожно, стараясь удержать в голове все придуманное перед сном, выходит из комнаты и вдруг ни с того ни с сего огрызается на мать, допытывающуюся, хочет ли она на завтрак яйцо или сырники (мама, мне, правда, абсолютно все равно, — не работает, мама зависает и возвращается к началу цикла, Маша просто успела об этом забыть). И то, что Маша тут же за столом выдумывает опять какой-то нелепый звонок, вынуждающий ее немедленно сорваться ради неясной, но срочной работы, — это, конечно, опять предательство, она отдает себе в этом отчет. На этот раз мать, посмотрев на Машу, у которой теперь нет даже сил на вранье (хотя, по логике, в том, что она сказала, не было лжи), мягко садится на затертый продавленный диван, укладывает старое лицо в бесформенные ладони и тихо, но не скрываясь, плачет — потому что что скрывать, если Маша не скрывает, что врет.
Для матери совершенно очевидно, что Маша уезжает потому, что ей противен такой, новый, отец, потому, что она стала совсем далека от матери и ей противно слушать ее болтовню, потому, наконец, что молодым трудно быть долго со стариками, все равно что в церкви; и Маша при всем желании не могла бы объяснить матери, что, хотя все это, в общем, правда, она могла бы еще терпеть, и даже долго могла бы, но что есть область такого ее собственного, чем она поделиться не может — вернее, знает, что не должна.
Маше, ковыряющей ложкой в тарелке, остается только наблюдать за тем, как застывает, подобно вулканической лаве, ложь, и лить новые порции, когда мать начинает выпрашивать еще хотя бы пару деньков, — родовое свойство как лжи, так и денег — их никогда не бывает достаточно, именно поэтому отец лжи и князь (кесарь) мира сего — одно и то же лицо (на монете). Для Маши это значит еще и то, что когда она следующим утром выйдет из поезда, добредет пешком до Пяти углов, заберется в кафе, закажет завтрак, достанет телефон и наберет Ромин номер, ей придется сказать ему, что она вот только что прилетела. Не позвонила. Сюрприз.
Машин звонок застанет Рому в постели, и хотя накануне последняя была лишней и поспать удалось всего пару часов, он спрыгнет с кровати, стремительно приведет себя в чувство и бросится к Пяти углам (не уходи никуда, жди меня там). Ему покажется спросонья, что если не зафиксировать Машу в пространстве, то есть риск, что она опять исчезнет с радаров — всю последнюю неделю он вместо ее голоса слышал в телефоне вежливую женщину, что-то объяснявшую ему по-немецки, но из всего потока речи он выхватывал только her, убегающую в конец фразы приставку, и злобно давил телефон, бурча под нос в рифму и невежливо — немецкого он не знал.
Маша могла только догадываться — да и то, пожалуй, тогда еще не могла, — что для Ромы случившееся в Кёльне было не наверстыванием упущенного (как будто бы он все эти годы жалел, что так и не трахнул по глупости эту саму идущую в руки девочку, — хотя жалел, конечно), а чем-то особенным, новым, чего он ждал, но не ожидал. Бог с ней, с игрой слов: Рома влюбился в Машу — не как в милое воспоминание и не потому, что тогда она была иногородняя школьница, а теперь лауреат, нет, просто, когда он у нее в номере ставил на столик стакан с водой и брал его обратно, он поймал себя на том, что ему не столько хочется оказаться у нее между ног, сколько близко-близко смотреть ей в этот момент в глаза.
Рома, отшивающий Машу у дверей института (с задней мыслью, что это добавляет ему очков), был мальчиком, для которого чудо человеческой близости еще так же само собой разумеется, как перманентная эрекция. Рома, закончивший институт, Рома, работающий как лошадь, Рома, заливающийся по пятницам пивом из бара в бар (мужики, здесь телок нормальных нет!), Рома, раздевающий новых знакомых девиц (снимай сама, что-то мне не расстегнуть), этот Рома обнаружил, что лучшее из того, что может случиться между юношей и девушкой, — осторожность прикоснуться ладонью к щеке и взмах ресниц в ответ, и что это лучшее он куда-то проебал.
Вот как это было. Рома влюбился в девочку, которая уворачивалась от его снежков и ловила поцелуи, через несколько месяцев она стала его девушкой, и всякий раз, когда он у нее дома залезал ладонью ей под футболку, смотрел ей в глаза, спрашивая, можно ли дальше (не словами, конечно), и она целовала его, запуская пальцы ему в волосы, — они целовались до того, что опухали губы, и у него после этих вечеров отчаянно болело в паху, так, что он с трудом добредал до дома, — во все это время и потом, когда девочка решила, что достаточно (серьезно спросила, есть ли у него резинки), и еще потом, когда они, едва закрыв дверь, начинали стаскивать друг с друга одежду и он валил ее на пол прямо в коридоре, было уже не до резинок, а когда ее родители куда-нибудь сваливали, они не одевались целыми сутками, и все это продолжалось больше года, — Рома всякий раз, когда проводил пальцами по ее подбородку, шее, груди, животу, бедрам, чувствовал что-то вроде электрического разряда, пробегающего через позвоночник. Потом они стали ссориться и мириться, потом все меньше трахаться, вплоть до того, что перестали совсем, и к середине второго курса с облегчением разошлись — в конечном счете потому, что нельзя не разойтись, когда от секса не осталось ничего, кроме движений тазом, а тебе еще только девятнадцать.
Еще два раза Рома очаровывался девушками до того, что хотелось целовать, целовать, целовать (первый раз прошло через месяц, второй раз его отфутболили, и он еще полгода пил в компаниях за любовь), но чаще были девушки, которых интереснее всего было раздеть и посмотреть, что у них между ног. Рома с азартом включался в игру, с каждым разом все смешнее шутил, все с большей серьезностью отвечал на вопросы, заданные на выдохе сигаретного дыма (ты как считаешь, может быть дружба между мужчиной и женщиной?), и нельзя сказать, чтобы ему это не нравилось. Через два раза на третий ему удавалось затащить полупьяную девицу к себе (к этому времени мама с папой сняли ему однушку с условием, что за свет и телефон он будет платить сам), и тогда он с удовольствием доставал фотоаппарат — дайка я тебя щелкну — по носу? — а у тебя есть другие места? покажи!
На тоске по взглядам, держанию за руки и долгим прогулкам он поймал себя, когда стал часто разглядывать в социальных сетях фотографии красавицы-одноклассницы, у которой был взрослый мальчик, девочки, уворачивавшейся от снежков, — вообще всех девушек, в которых был влюблен. Тогда он стал вглядываться в своих девиц (тридцать два кадра до трусиков — да, он снимал на пленку) и понял, что смотреть им в глаза ему не интересно. И хотя он продолжал получать удовольствие как от секса с ними, так и от процесса role-playing, в нем поселилось настороженное ожидание — не превратится ли какая-нибудь из них вдруг в существо, вызывающее пронзительную нежность.
Нельзя сказать, чтобы он вовсе не вспоминал про девочку, с которой провел такую странную ночь в поезде, которую провожал до школы и которая потом три раза приходила к нему на улицу Правды, — вспоминал. Он плоховато помнил ее лицо, но ему казалось, что он помнит ощущение от ее взгляда. И это было то самое ощущение, которое теперь никак не удавалось синтезировать, — будто с той стороны границы тела контрабандой провозят нежную дрожь. Он не думал о Маше как о человеке, которого он может когда-нибудь еще увидеть, — попытки найти ее аккаунт на каком-нибудь сайте с поиском по номеру школы и году выпуска провалились (да даже если бы и нет — понятно же, что ничто так не отдаляет людей, как ежедневные обновления статуса), общих знакомых у них не было, куда она поступила, он не знал. Поэтому случайная встреча в Кёльне — он не сразу вспомнил ее, увидев в толпе на открытии фестиваля, — была не внезапным обретением заочной любви (так могло бы быть с другими, о которых он думал чаще и отчетливее), а только удивлением (ого, как тесен мир!), ну и радостью, конечно, потому что в конечном счете как бы далеко мы ни посылали тех, кто нас любит, нам ведь все равно радостно, что любят нас, а не кого-то еще.
Предлагая Маше выпить пива, Рома, конечно, хотел бы убедиться, что все в силе, и даже — чем черт не шутит, хотя он менее всего отдавал себе в этом отчет — все-таки исправить ошибку юности (еще бы — Маша из запуганной провинциальной замухрышки в потертом пальтеце стала мало того что красавицей — главная перемена была не в одежде и не в оттенке кожи, а в жестах и взгляде, которые теперь принадлежали сильной уверенной женщине, запросто командовавшей огромной съемочной группой — это было видно), но и то, и другое оставалось в глубине его внимания, на поверхности же было другое — простое желание выпить с человеком, которого не видел тыщу лет. И даже когда он после второго стакана во втором баре (в первом они еще разминались, а во втором взяли метр на двоих) начал подкатывать яйца, он делал это скорее по привычке, включился механизм, который он так долго оттачивал в питерских кафе. Только тогда, когда он по Машиным глазам понял, что сам на себя доносит, он смешался и постарался скорее напиться.
На следующий день в дневной программе Рома смотрел «Гугенотов». Фильм ему не понравился (где кино и где опера, Регина?), но он все же не мог не увидеть, что перед ним настоящая профессиональная работа, к которой даже придираться надо как к настоящему кино. И так получилось, что вечером они выпили много меньше пива, зато когда Маша стала с ним прощаться (все, Евгеньев, с ног валюсь, утром еле встала), он вдруг обнаружил, что они три часа проговорили о камерах, пленках и монтаже.
Все это не объясняет, как случилось, что Маша из старой знакомой, а теперь еще и коллеги, про которую было бы любопытно знать, есть ли у нее кто-то, стала девушкой, ради которой Рома уже после конца фестиваля, когда его группа отправилась в Питер, остался, наплевав на халявный билет, еще на два дня (визу почему-то выдали на десять дней) и которой он потом, из Питера, звонил раз в двенадцать часов, чтобы спросить и рассказать какую-нибудь дурь, а в сущности, чтобы еще и еще раз сказать я тебя люблю. Сосредоточиваясь на этом вопросе — не сразу, а значительно позже, когда стало понятно, что их любовная лодка дала течь (из всех поэтов он знал только Маяковского, и ему нравилось думать, что он похож на горлана и главаря), — Рома так и не смог понять, что же произошло.
Третий вечер был теплее предыдущих, они вышли из кнайпе на берег Рейна, стали спускаться по ступенькам к воде, Рома подал Маше руку — рефлекторная вежливость, всего-то, — но когда ее ладонь оказалась в его руке, когда он прикоснулся к ее теплой и мягкой коже и, стоя чуть ниже ее, увидел ее лицо, освещенное парящими в высоте фонарями, случилось так, будто переключился какой-то тумблер, будто картинка из черно-белой стала цветной. Сразу он не придал этому значения, лишь слегка удивился — потом уже, отматывая пленку назад, он понял важность этого щелчка: если бы Маше пришло однажды в голову дать волю бабской язвительности и спросить как же так, Евгеньев, не любил, не любил, а тут ни с того ни с сего, — он, оставаясь максимально честным, только и мог бы сказать, что не знаю, Регина, я тебя вдруг увидел.
И хотя Маша так никогда и не задала этот вопрос, это не значит, что он не крутился у нее в голове. Она кладет трубку, пообещав, что будет ждать его, что никуда не уйдет, заодно позавтракает пока, и впрямь, делает заказ — и ловит себя на мысли, какое у него будет лицо, когда он войдет сюда и ее не увидит. Эта сладкая мысль щекочет под кожей, Маша стучит зажигалкой по столу, крутит телефон — она понимает, что, конечно, никуда не уйдет хотя бы потому, что такая мелкая месть смешна, но в тот момент, когда она ловит себя на желании схватить сумку и уйти гулять (сказать потом, что заждалась, не выдержала, решила пройтись, телефона не слышала…), ей становится противно — она понимает, что боль, причиненная однажды Ромой, стала ее частью и она никогда не сможет отказаться от памяти о ней, эта боль (хоть самой боли уже и нет) всегда будет причиной чувства его вины — и совершенно неважно, будет ли он сам чувствовать то же; дело не в нем, а в ней. На Машу наваливается мерзейшее из ощущений — что все уже понятно, понятно, понятно. То, что по-настоящему надо было бы сделать, — это позвонить А. А., поехать к нему, а на Ромины звонки больше никогда не отвечать — и единственное, что удерживает ее на Пяти углах, это мелькнувшее вдруг озарение о том, что и там все то же.
Если бы двумерное существо поняло, что скучно двигаться только плюс-минус вперед и плюс-минус вправо, оно постаралось бы подпрыгнуть. Маша вместо этого тянется к сумке, достает лэптоп и сосредоточивается на сценарии. Странным образом энергия отталкивания от мысли о Роме и А. А. позволяет ей быстро вернуться к Максу, который как раз выходит из магазина с только что купленным кофром и придерживает дверь двум бородатым мрачного вида мужчинам, пришедшим в магазин за двумя точно такими же кофрами.
Когда Рома забегает в кафе (таксист-горец все понял про него: торопишься, парэнь? — и выцыганил лишний полтинник: нэту сдачи), он видит Машу, склоненную над экраном, рядом скукожились остывшие круассаны. Машину рассеянность он приписывает усталости от перелета.
Плюнь ты на эти булки, их тут в микроволновке разогревают. Давай-ка лучше домой, накупим еды, устроим королевский завтрак. Это твоя сумка? Нет, подожди, сначала целоваться, — и потом они ловят машину — к нему, на Нарвскую, покупают сыр, ветчину, багет, апельсины, помидоры, яйца и кофе, который, кажется, закончился.
Некоторое время спустя, прогоняя в голове эти первые (да, по большому счету, и последние) их несколько недель вместе — он каждое утро тихо выползал из кровати, шел за королевским завтраком, будил ее поцелуем и запахом кофе, возвращался со съемок с пиццей и бутылкой вина, что-то ей рассказывал, но Маша слушала сквозь слова, а несколько раз просила дать ей еще поработать, и он часами сидел на кухне, листая журналы, и в конечном счете засыпал, — Рома перетолкует Машину рассеянность как свидетельство того, что она вернулась к нему для смены ролей, убедиться, что мальчик, пославший ее когда-то, теперь вполне ее. Рома припишет Маше то, о чем к тому моменту будет мечтать уже сам. Бросая Маше обвинения, что, мол, она тогда и вернулась, чтобы отомстить, — Рома будет беситься от того, что сам отомстить уже не может. Не в том только дело, что Рома не был склонен к рефлексии, но и в том, что он никогда, тем более задним числом, не мог поверить в необходимость работать круглые сутки на износ и Машино подожди, закончу сцену принимал именно как не так уж я тебя и люблю, — короче говоря, Рома и впрямь решит, что она вернулась к нему не по любви.
К тому моменту он, конечно, забудет главное — неопровержимое свидетельство того, что в действительности Машино чувство к нему ничуть не угасло ни с момента их расставания в Кёльне, ни даже со времени ее хождений на улицу Правды. Вечером, когда бутылка из-под вина катилась в угол, она брала его ладони, прижимала их к своим щекам и смотрела на него. Этот взгляд, когда-то его смущавший — как будто он и не рождался, по слову средневекового мизантропа, между калом и мочой, — был для него теперь пронзительным счастьем.
Он осторожно отнимал свои ладони, проводил ими по ее плечам, прижимал к спине, бережно целовал, гладил волосы, расстегивал рубашку по одной пуговице — потом, освободив ее от джинсов, целовал колени, прижимал к кровати, скатывал в спираль трусики, проскальзывал пальцами между бедер, чтобы в горячей глубине услышать, как бьется ее сердце, — потом поднимался к ее глазам и, ловя животом ее частое дыхание, уходил в нее целиком, держа большой палец правой руки близко от уголка ее, для него тоже правого, глаза, будто компенсируя этим движением невозможность буквально прикоснуться к ней взглядом, — и потом засыпал, держа в ладони теплую устрицу ее груди.
Диалектика свободы
Половина всех интервью для Маши начиналась вопросом, как так получилось, что она стала снимать кино. Маша старалась каждый раз придумать что-нибудь новенькое, чтобы дать сдачи скуке, ударяющей в челюсть при этом вопросе (не зевать!), — фрау Регина, как вы стали режиссером? — у меня не было выбора. Мой отец поступал в институт кино вместе с Михалковым, это такой режиссер у нас в России, но провалился. В результате Михалков стал режиссером, а мой отец — водителем автобуса. Умирая, отец завещал мне стать режиссером и снять такое кино, чтобы всем было ясно, что за говно снимает Михалков. Проблема в том, что когда я выросла, я обнаружила, что он иногда снимал не такое уж говно, так что, думаю, мне придется сменить профессию, — но со временем ее ответы стали повторяться, выдумывать что-то новое не было сил, а однажды (когда Маша поняла, что журналисту важен не ответ, а ее инициалы в начале каждого четного абзаца) она даже ответила на этот вопрос честно — что получилось это случайно.
А было это так. Весной в конце одиннадцатого класса, когда мальчики и девочки передавали из рук в руки толстые мягкие книжки, на прозрачных страницах которых умещались призраки всех вузов СПб, и с чувством наконец обретенной свободы тыкали пальцами то в одну строчку, то в другую, Даша по секрету сообщила Маше, что будет поступать в театральный (как думаешь, есть у меня шанс? — у тебя? Конечно же!). Конечно же, Маша не знала, есть у Даши шанс быть актрисой или нет, она даже не знала, как поступают в театральный; то, что занимало ее мысли, — это рибонуклеиновые кислоты, потому что биология была титульным экзаменом на психфаке, куда она по какой-то залетной фантазии собиралась поступать. Тем не менее, хоть время было дорого (жизнь на Земле существует три с половиной миллиона лет, а понять про нее все нужно за три месяца), Маша согласилась ходить в театральный на туры вместе с Дашей, чтобы ей было не так страшно.
В начале июня на Моховой было солнечно, весело, шумно. Девушки в длинных юбках закатывали глаза и бубнили из Бродского, мальчики широко расставляли ноги и махали руками: ВОРОНЕ КАК-ТО БОГ, — в коридорах поступающие со стажем делились с неофитами секретами мастерства (у X поющий курс, к нему без голоса смысла нет, а Y любит, чтобы девушки раздевались, ну, сами понимаете, — ухмылка). Поступать тем не менее полагалось сразу ко всем: после первого тура у X можно было еще успеть на консультацию у Y.
Маша с Дашей срезались на первом туре и у X, и у Y, но увидели себя в списках на второй к N (Дашу пропустили просто так, а Машу спросили: цвет натуральный? я спрашиваю, цвет волос у вас натуральный?). Даша кривила рот — режиссерский курс, самый отстойный — и боялась: к N рвались матерые мальчики и девочки, крутившиеся в этой карусели уже пятый-шестой год. На маш и даш они смотрели свысока, все уже играли после работы в полупрофессиональных театриках, сокращенные названия которых расшифровывали доброжелательно, через губу, когда их спрашивали: «дожди»? это что такое? К N они поступали не потому, что хотели быть режиссерами, а потому, что по возрасту им нельзя было поступать к другим.
Даше все они казались небожителями: они уверенно выходили в центр полукруга, смотрели N прямо в глаза и медленно, внятно выговаривали сначала свои имена-фамилии, а потом — что будут читать. Даша хотела махнуть рукой, но Маше неловко было смотреть на ее прокисшую физиономию: пойдем, ну; уделаешь их всех, он тебя заметил — видишь, даже не спросил ничего.
Нечестно было бы умолчать о том, что Маше понравилась веселая кутерьма на Моховой с анекдотами в коридорах и песнями на улице. Не то чтобы она всерьез рассчитывала поступить (в перерыве между турами она продолжала листать толстенную «Биологию»), но ей хотелось еще немного продлить этот праздник. И все-таки, когда после второго тура (Маша ведь специально, чтобы не быть подруге конкурентом, на вопрос а вы, девушка, кем хотите быть? — ответила, что режиссером), так вот, когда после второго тура ассистент N, выйдя в коридор, громко выкрикнул: Регина! — а Даша своей фамилии так и не дождалась, Маше пришлось опустить глаза и по дороге в школу пообещать Даше, что на третий тур она не пойдет (что ты, иди-иди, это судьба, я вообще не хотела на режиссерский курс).
Да, Маша пошла на третий тур, понесла с собой несколько рисунков (прошедшим второй тур N, оттягивая влево-вправо пальцем ворот водолазки, сказал приносить с собой все, что вы, ребята, делаете, — кто-то лепит, рисует, мастерит, кто-то сочиняет стихи, музыку — все несите, покажите себя во всей красе), поставила в пятнадцать минут с другими ребятами сценку (страшная дичь: двое только что познакомились в вагонном тамбуре и…) и поступила. Долгое время Маша была искренне уверена, что N понравились ее рисунки, — до тех пор, пока кто-то из бывших сокурсников не передал ей, уже в Германию, случайное откровение мастера. Выпускным спектаклем курса должна была стать «Анна Каренина. Начало» — собственная сценическая версия N, которую до того отвергли два знакомых худрука (понимаешь, Фоменко…). Петербургскому Фоменко втемяшилось в голову, что гувернантка-англичанка должна быть непременно натуральной рыжей, а других рыжих девушек среди поступающих не было.
Сколько Маша потом ни пыталась представить себе, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы не эта ничем, кажется, не примечательная идея, что женщина, из-за которой «все смешалось в доме Облонских», должна быть рыжей, — она не могла этого сделать. Спустя несколько лет снимать кино, думать о кино стало для нее настолько естественно, что картинка «Маша с вниманием выслушивает людей и дает им советы» совершенно поблекла в ее фантазии, и, более того, от одной мысли о том, что она могла бы «быть психологом», ее передергивало.
Тот же эффект, впрочем, производило и словосочетание «быть режиссером». После первого года, проведенного большей частью с утра до вечера в аудиториях на Моховой, Маша открыла для себя, что в действительности она терпеть не может театр. Маша не могла смириться с тем, что берег Волги достаточно хорошенько вообразить (тогда и зритель его увидит, понимаете? — нет, Маша не понимала), что богатую обстановку достаточно обозначить (составьте три стула и — тряпку на них), что говорить нужно так, чтобы в последнем ряду было слышно — они тоже заплатили за билет! — и при этом «как в жизни», но главное — что ее работа каждый раз будет зависеть от того, с какой ноги встал артист. По нескольку раз в неделю Маша сбегала вместе со всеми в театр (мы студенты N) и ни разу не смогла избавиться от странного чувства, что вот перед ней ходят артисты и — когда плохо, когда хорошо — играют спектакль.
Очень вероятно, между тем, что Маша так и не смогла бы сформулировать для себя эти и многие другие претензии к театру, если бы не А. А., который, узнав, куда Маша поступила, спросил: и что ты там будешь делать? Не удивительно, что, возвращаясь каждый вечер после репетиций в квартиру на Пестеля, Маша могла еще час проспорить с А. А., защищая свою (будущую) профессию от его нападок. Удивительно — во всяком случае для А. А. — было то, что будущий режиссер Маша Регина оказалась полным профаном в классическом кинематографе. Каждый раз, когда А. А. апеллировал к чему-то, что ему казалось естественным, — будь то «8 ½» или «Крестный отец», — Маша гордо трясла головой и признавалась, что не знает, о чем речь.
А. А. пришлось купить проектор, выкрасить стену белой краской (я выкрашу комнату светлым, — пропел он, вернувшись из строительного магазина, и опять ему пришлось пояснять, откуда цитата) и заняться ночным просвещением. Поначалу со скрипом (у меня в девять речь!), а потом так, что ее было не оторвать (ты спи, спи, я посмотрю, ты же уже смотрел?), Маша смотрела — безо всякой системы — все, от «Броненосца „Потемкина“» до «Любовного настроения», благо интернет-линия позволяла. Выключая компьютер, Маша взглядывала на телефон (четыре часа спать!), забиралась в нагретую постель и, переложив руку А. А. с груди, чтобы ее тяжесть не стесняла дыхания, на бедро, засыпала, воображая уже не спектакли, которые она бы поставила, а фильмы, которые бы она сняла.
Взрослая жизнь начинается тогда, когда у тебя появляются такие знакомые, с которыми ты видишься раз в год. В этом смысле Маша-учащаяся-на-Моховой может считать себя вполне взрослой. Она встречает на улицах мальчиков и девочек, с которыми она училась в школе (несколько раз звонил Коля, но Маша не может с ним встретиться — утром занятия, вечером репетиции, сам понимаешь). Однажды Маша, идя вечером по Моховой в сторону Пестеля, встречает Дашу. Маша отнекивается — нет денег, — но Даша все-таки затаскивает ее в кафе (поговори мне еще). Маша знает, что родители пропихнули Дашу на филфак (куда еще отправить девочку, которая не знает, чего хочет?), и готовится слушать, как там замечательно, но происходит другое. Заказав себе коньяк (а ты? — нет-нет, не надо, у меня дела еще), Даша быстро пьянеет — только после этого Маша понимает, что Даша уже пила сегодня — и в голос начинает рыдать. Она не знает, что она делает на филфаке, она не знает, что ей делать, ее жизнь не складывается, надо куда-то переходить или вообще уехать куда-нибудь: хоть замуж выходи, — резюмирует Даша, голова ее уже клонится к плечу.
Ничего особенного ни в этой встрече, ни в этом разговоре нет. Но пока Маша ведет пьяную подругу к метро (отпустить ее страшно, шатается, до дома доберешься? — Маша, ты такая добрая!), она вдруг понимает, что все, кого она встречала таким вот образом случайно на улице, в той или иной форме жаловались на то же. Даже те, кто, широко улыбаясь, бодро говорил, что все отлично, учеба? очень нравится! — даже они в спрятанных в цветных варежках пальцах прятали секрет: не то, не то. После этого Маша начинает замечать, что и ее сокурсники, и (на улице, в коридорах она слышит их речь) студенты других курсов иногда проговариваются. В шутку, потому что здесь, естественно, все гении, но шутка шутке рознь: Маша и на репетициях не может не видеть, что многие пришли не туда. Даже Коля, который по телефону успевает сказать ей, что у него группа, говорит это как будто специально, чтобы она не сомневалась, что он свою судьбу нашел. В порядке эксперимента она спрашивает — очень осторожно — А. А., и он, задумавшись, отвечает ей честно, что иногда ему кажется, что он больше мог бы сделать в математике, поступи он в свое время, как и мечтал вплоть до десятого класса, на матмех.
На вопрос, почему ты занимаешься тем, чем занимаешься, редкий человек не ответит, что так получилось. Маша вглядывается в лица вахтеров в Академии, в лица кондукторов и официанток, преподавателей и продавщиц, охранников магазинов антиквариата, врачей, которые по утрам исчезают в дверях глазной поликлиники, женщин за пятьдесят, которые бегут по улице, крича в мобильный телефон: квартира очень хорошая! сегодня еще пара ее смотрела! — в лица лысоватых мужчин, которые аккуратно несут в руках портфельчики из искусственной кожи, и стареющих девушек, выходящих из солярия, — она видит, что все эти люди остались без судьбы.
Машу начинает лихорадить, потому что все, чем она сейчас занимается, — не то. От страха Маша начинает смотреть больше — два, три фильма за ночь, пересматривает, нажимая на паузу и прокручивая обратно, чтобы заметить границу кадра, подолгу смотрит в остановленные кадры — к утру у нее гудит голова и режет глаза. На лекциях она упорно, кадр за кадром, восстанавливает ленты в памяти. Просыпаясь, она ловит себя на том, что смотрела во сне Бергмана, которого тот никогда не снимал. Фильм кажется ей гениальным, но вспомнить его целиком нет никакой возможности (то, что вспомнила, все-таки наскоро зарисовала). Разговаривая с А. А., выслушивая претензии преподавателей (вы же будущий режиссер, вы не можете опаздывать!), стоя в курилке с ребятами с актерских курсов, которые думают, не стоит ли завести с ней знакомство уже сейчас, Маша иногда ставит происходящее на паузу — Регина, вы слушаете?! — и раздумывает, кого или что надо переставить, чтобы был кадр, — да-да, извините.
А. А., конечно, замечает, что что-то происходит (хотя бы ночные кинобдения, раздражение от которых он уже начинает в себе давить), и списывает все на великую силу искусства. И он прав — Маша смотрит кино так, как она смотрела его, приходя из школы домой, ныряет в него, как в воду солдатиком, но есть и кое-что еще, чего не было тогда: от совершенной геометрии кадра, правильного цвета и идеального монтажа все ее тело выгибается, а руки становятся горячими. В конце концов она понимает, что никогда не будет заниматься театром, но что с этим делать, она не знает.
К лету ее растерянность достигает предела — она кое-как сдает экзамены, думает, не поехать ли в Москву во ВГИК (сотню раз слышала, что с улицы не берут), не пойти ли на Ленфильм, но к кому? с чем? N, когда она заикается про кино, спрашивает, кто ее родители, — Маша не сомневается, что жизнь ее катится в жопу, так что когда ей звонит Коля и зовет встретиться (дело есть одно), она тут же соглашается, потому что ей нужно почувствовать, что хоть кто-то не думает про нее, что она полное говно (в том, что Коля все еще любит ее, она тоже не сомневается — иначе не звонил бы).
Дело вовсе не в том, что А. А. уехал на конференцию и вернется только через несколько дней. Как ни странно, А. А. — последний человек, которому она могла бы хоть намеком рассказать, в чем проблема. Для нее нет человека ближе, чем А. А. (в конце концов, каждую ночь на протяжении полутора лет спать с человеком в одной постели — что может быть ближе?), он поймет ее слишком хорошо, Маша даже заранее знает, что он мог бы ответить ей — судьба не беременность, ее не видно по животу, ни про кого нельзя сказать, счастлив он или нет, пока он не умер, чувство тотальной экзистенциальной неустроенности несет с собой любой человек с благородной душой, — вот примерно все это, но Маше, пусть она не вполне готова себе в этом признаться, хочется гораздо более глупых вещей — чтобы ей сказали, что все у нее получится, например.
Коля встречает ее у метро с букетом ромашек, они идут в кафе, пьют вино и едят мороженое. Маша рассказывает, как она замечательно учится. Коля рассказывает про себя — группа, что-то вроде инди-рока, записали диск, сняли клип для и-нета. Допив вино и доев мороженое, они идут гулять. Идут молча. Маша видит, что Коля мучительно перебирает в голове варианты, что бы такое говорить, чтобы это не заканчивалось, потому что еще чуть-чуть и единственным логичным развитием событий будет в сторону метро. Наконец Коля (ну скажи же ей хоть что-нибудь!) выговаривает то, что глупее всего: ну а как вообще? Маша пытается спрятать улыбку (что ты? ну извини) и поднимает эту неловкую подачу: вообще, не очень, Коля.
В детстве, — начинает она отвечать ему (два года с А. А. не прошли даром), — в детстве, помнишь, как бывает, думаешь, стану взрослым, буду машинистом, ну, или не машинистом, не важно, в поезде, нестись в этой штуке, быстро-быстро, главное, можно смотреть вперед, а не вбок или, хотя и это редкая удача, назад, не думаешь же, что этот вот машинист приходит домой со смены, ест, пьет, ругается там с кем-то, ничего этого нет, только момент, и этот момент и есть вся твоя будущая взрослость, нет же никаких сомнений, что вот так и будет, и вот вырастаешь и понимаешь, ну то есть я не знаю, я тут поняла, что жизнь это не один момент, а много моментов, прыгаешь по ним, как фигурка по доске, вроде бы и случайно, как там кубики выпадут, а вроде бы и нет, потому что ты же сам их вроде бы бросаешь… С каждым словом Маше легче говорить, потому что Коля молчит, только смотрит на нее влюбленно, так что скоро — как будто теплом речи она продышала дырочку в заледеневшем стекле — становится понятно, что без бутылки вина им не обойтись, Коля тоже что-то такое говорит — а я в детстве, ни за что не угадаешь — разведчиком? подводником? — географом — что?! — ну да, может, и стал бы, только я проболтался родителям, они сказали бабушке, а бабушка серьезная была, она мне чуть ли не вузовский учебник по географии подарила, понимаешь? я в пятом классе, наверное, учился, — они смеются, говорят, перебивая друг друга, и, конечно, давно уже прошли станцию метро. Они покупают на Литейном бутылку вина, и (не из горла же пить) Маша решает зайти домой за стаканами.
Дома становится понятно, что незачем никуда идти, можно пить и здесь, они устраиваются на кухне, Коля из чувства момента не спрашивает, где это она тут живет, они сидят до закрытия метро, идут еще за одной, возвращаются и сидят до утра. В числе прочего Маша слышит наконец все то, что хотела слышать, — что она страшно красивая, невероятно талантливая и что у нее, да, все получится. В четыре часа они решают, что пора спать (ну я домой тогда — не смеши мои тапочки), и, так как раскладушки у них с А. А. никакой нет, Маша стелет Коле на одной половине кровати, а сама ложится на другую: меча у меня нет, а отдельное одеяло есть — мяча? — меча! — а зачем? — чтобы положить между нами — давай без него — что? Заворачиваясь в одеяло, Маша вспоминает, как говорили школьные подружки — пьяная баба пизде не хозяйка, это я вам точно говорю! — и с тупым напряжением думает, что ей теперь делать, когда Коля — ну понятно же, что.
Они перебрасываются засыпающими словами, Маша думает, что думает Коля, но он в конце концов решительно поворачивается к стене, и скоро дыхание его успокаивается. Машино сердце перестает биться в ушах, и последнее, что она понимает перед сном, это что вообще-то ей страшно хочется поцеловать его, а последнее — это что Коля заснул не потому, что сильно пьяный — к четырем-то утра люди трезвеют, — а потому, что он, дрянь, такой вежливый.
Утром все не сказанное и не сделанное ночью еще витает в воздухе, Коля прячет влюбленные глаза и торопится уйти домой: вещи надо собрать, я же уезжаю завтра. Когда он надевает ботинки, Маша, чтобы не молчать, вспоминает: ты говорил, дело какое-то у тебя? — да бог с ним, ерунда — да ладно, не парься, — и Коля говорит, в чем дело. Камера. Полупрофессиональная камера, на которую они снимали клип с группой, лежит у него дома и ее страшно оставлять, потому что… Ему приходится сказать, что он снимает комнату в коммуналке. Я хотел спросить, может, можно у тебя оставить. На две недели. Я на две недели уезжаю. Или ты тоже уезжаешь? Коля уходит, Маша полчаса сидит в ванной с включенной струей воды и потом еще полдня — пока Коля съездит за камерой и вернется — трет себе виски. Голова у нее не болит, дело в другом: она пытается понять, что ей теперь делать, чтобы не быть дрянью.
Маша не может принять никакого решения — просто когда Коля приезжает с камерой (это, оказывается, три тяжеленные сумки: тут аппарат, тут штатив, тут провода, аккум запасной, рассеиватель) и, прощаясь, тянется ее поцеловать, она не подставляет щеку, как обычно, а закрывает глаза. Про себя она знает, что это предательство, но чтобы Коля не подумал, что это такая форма благодарности (потому что тогда она будет дрянь вдвойне) — it’s a fee, nothing, fee, nothing, fee, nothing more, — она говорит (в шутку, конечно), что это арендная плата. В смысле? — спрашивает Коля, утыкаясь носом в ее подмышку. Маша попользуется его камерой, пока его не будет. Не бойся, не испорчу.
Человеческая жизнь есть функция от событий. Функция эта — человеческая воля. (А воля есть всегда воля к власти, говорил один властелин мира.) Проблема, однако, в том, что знание об истории существует только как вектор в прошлое — память. И хотя считается, что история повторяется (практическая ценность исторической науки держится на этом шатком предположении), знать загодя и наверняка, что получится из приложения воли к событию, невозможно. С этой формальной точки зрения человеческая свобода сомнительна, как сомнительна свобода пьяницы, брать ему еще одну или нет. К счастью, есть науки посложнее математики (математика вообще наука простая, тем и привлекательна). Но и математики — хорошие, конечно, математики — признают, что путь от «дано» к «че-тэ-дэ» немногого стоит, если он не взывает к чувству прекрасного. Прекрасное вообще есть мысль о непротиворечивости сущего.
Когда Маша слышит про камеру — SONY PD150, которая и не Колина даже, это они с ребятами скинулись, взяли бэушную, — ей становится ясно как божий день, что будет в высшей степени правильно ей сейчас, в эти две недели, снять кино. Она не знает, как пользоваться этой штуковиной (один мануал к ней — без малого двести страниц; когда Коля протягивает ей его и показывает, расчехлив аппарат, где какая кнопка, она старается не подать виду, что все эти термины для нее — тарабарщина), она не знает, про что снимать и кого снимать, но кровь стучит у нее в ушах — так что когда Коля окончательно уходит, в пятнадцатый раз повторив я люблю тебя, Маша медленно проходит на кухню, бьет ладонью о подоконник и кричит, надрывая глотку: да пошли вы все на хуй!
Маша не знает, с чего надо начинать придумывать кино, поэтому она хватается за привычное — она раскладывает на полу в комнате свои рисунки. Несколько часов она тупо смотрит на них, прикуривая одну сигарету от другой. На ее рисунках пузырится Петербург. Дома, дворцы, старухи, мосты, конные статуи, деревья, решетки, уличные музыканты, обелиски, кариатиды, бомжи, витрины, лестницы, снегоуборочные машины, фигуры поэтов и полководцев, соборы, станции метро, цветочные ларьки, площади, трамваи, дворы, люки, цепи, девочка в белой шапке, ангелы, львы, сфинксы, колонны, бутылки, подземные переходы, мужчины в шляпах, башни и шпили, солнце, дым из труб, катера — все это лупится на нее с листов бумаги, щурится, темнит, скалит зубы, мельтешит, шепчет, гудит — Маша в отчаянии позволяет им всем кричать вместе, хором, в ушах у нее балаган, карканье ворон и звон чайных ложек, вой ветра и плеск воды, свист шин, пиканье светофоров, предрассветная тишина, стихотворные строчки, крики «ебать», бормотание распространителей прессы, музыка из магазина, документики, щелканье троллейбусов, стук каблуков, хлопанье дверей, тыц-тыц-тыц из дорогих автомобилей, нежное постукивание снега по стеклу, молчание парочки за соседним столом, заунывный перелив сирены, — и только когда все это выдохлось и Маша осталась в глубокой, мягкой тишине, — за окном уже темно, но Маша не знает, который час, — она все поняла.
Она собирает с пола рисунки и запихивает их под диван. Оставшиеся семнадцать листов она раскладывает в нужном ей порядке — это узловые моменты фильма. Теперь Маша чувствует, что проголодалась, собирается за чем-нибудь съестным в магазин, и по дороге ей приходит в голову, что лучше истории для всего этого, чем битовский роман, о котором А. А. за это лето прожужжал ей все уши, ей не придумать.
Два дня до возвращения А. А. Маша занимается тем, что кроит текст диалога героев, переставляет куски, рисует, засекает, сколько минут звучит текст, сокращает текст, перерисовывает, мнет листы, рисует стрелки, стирает, скрепляет нарисованное, вычеркивает, переписывает, — в общем, когда дышащий пушкиногорским солнцем А. А. заходит в квартиру, запнувшись о кофр со штативом — черт! привет! что это у тебя тут такое? — он сразу видит сценарий — змейкой разложенные по полу рисунки с надписями, стрелками, цифрами и наклеенными вырезками с текстом. Хронометраж будущей картины — двадцать семь минут.
Судьба — рыба тяжелая: Маша обнаруживает, что жара в руках и способности спать два часа в сутки не достаточно, чтобы снять кино. Оказывается, чтобы все получилось, нужно сломить сопротивление массы людей — от А. А., который, выслушав ее, говорит, разумеется, что она не может снимать, потому что не умеет, до милиционеров в Летнем саду (здесь территория музея, девушка, не понятно?), которым, слава богу, хватает очаровательной улыбки, многоэтажной лжи про курсовую работу и шести пива. Проще всего с актерами — Маша вызванивает двоих бездельников с третьего курса. Один из них — дылда, с огромными лапищами и рубленым лицом (каждый раз, встречая ее в коридоре, распахивал руки и гудел: запомни меня, о будущий режиссер Регина! разве я не Отелло?) — становится двойником, а другой — кожа да кости, мечтательный взгляд, тонкие пальцы (Машенька, вы даже не представляете, какая вы красивая! я каждый раз, когда вижу вас во сне, улыбаюсь, серьезно!) — понятное дело, героем. Сложнее всего найти машину — два дня Маша требует у А. А., чтобы он обзвонил знакомых (Машундер, ты с ума сошла, кто же даст свою машину! — дают как миленькие, с пятого звонка).
Когда через семь лет Маша будет в Берлине снимать «Минус один» — свой первый взрослый авторский фильм, — она поймает себя на мысли, что все те трудности, которые казались непреодолимыми в конце второго курса, — заставить камеру дать именно тот оттенок, который нужен, добиться от распиздяев-актеров, чтобы они перестали играть и выучили текст, найти именно такое дерево, которое она рисовала, дождаться хорошего света, ушить пиджак, чтобы он не висел, как на вешалке, — эти и другие — ни одна из них — не преодолевается легче. На каждого помощника, который полагается ей как человеку, про которого все остальные согласились считать, что она настоящий режиссер, — будь то ассистент, кричащий в мегафон на массовку, или гример, молоденькая девушка с немыслимым количеством сережек в ушах и в носу, для которой Маша специально крупно рисует лица, — на каждого из них приходится дополнительный геморрой, которого никто, кроме нее, на себя не возьмет: будь то продюсер с пластмассовой улыбкой (фрау Регина, мы не можем оплатить магазину еще один день, наш бюджет…) или директор студии, которого приходится отшивать, хотя ему очень надо, чтобы в картине играла одна очень талантливая девушка, вам стоит посмотреть на нее.
Она будет сидеть в раскладном креслице на огороженном кусочке Курфюрстендам, уговаривать себя не злиться, смотреть на небо, ждать, когда уйдет чертово облако, молиться, чтобы не сдулись актеры, мимо, за ленточкой, будут идти люди, показывая друг другу пальцами на нее, на площадку — schau mal! — чтобы успокоиться, она будет еще и еще раз перебирать листы со сценами, и вдруг, как будто кто-то сменил слайд, она увидит себя на набережной Фонтанки, сидящей на ступеньке, локти на коленях — взгляд на небо (куда ветер?), на часы, — и успокаивающей своих гениев. Регина, давай репетнем хоть еще разок, все равно делать нечего. — Нет, ребята, зарепетируем. Почитайте мне лучше стихи. Что у вас по речи было?
Не смещение времени в прошлое напугает ее (фрау Регина, кофе? — да, спасибо), — Маша знает, что дежа-вю — всего лишь эффект мозга, — а внезапное осознание того, что ситуация эта будет с унылым постоянством повторяться в будущем. Будут другие фильмы, другие актеры и другие молчуны-осветители, — но эта ее поза, взгляды на небо, ухающее сердце и заканчивающиеся сигареты, — вот это все будет раз за разом одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ярость стискивает ее кулаки, и Маше будет стоить страшного труда отказаться от неожиданного тяжелого желания вскочить и одним криком отменить сегодняшнюю съемку. Рома, который в следующий момент подойдет к ней сзади (в каждой руке по чашке — ваш кофе, фрау Регина!), получит в ответ что ты орешь как резаный, — и, конечно, обидится. Он примет это — резкий тон и ненавидящий взгляд — на свой счет. Маша будет успокаивать его, объяснять, что она нервничает, съемка стоит, время идет, ветер выключили, а тут ты кричишь над ухом, я просто на взводе, извини, — и Рома сделает вид, что все понимает.
Во время работы над «Минус один» Маше, конечно, приятно будет думать о том, что могла ли она тогда, гоняясь с ребятами по Фонтанке на прокуренном «Фокусе», представить себе, что через семь лет она будет — и так далее. Но к тому времени Маша научится испытывать подозрение ко всякой приятной мысли. Проблема в том, что мысль эта только на первый взгляд гарантирует будущее, которое невозможно помыслить сейчас. На самом деле в будущее она не конвертируется. И если сейчас происходит что-то, о чем ты не мог подумать раньше, то это случилось не благодаря времени, а вопреки ему. В действительности, в природе времени, как и любых неживых объектов Вселенной, заложено стремление к равновесному состоянию вещей: пусть все будет как есть. И если хоть что-то в этом мире течет и хоть что-то изменяется, то только благодаря личному усилию. Шутка, которая успела надоесть Маше еще в исполнении девиц с Моховой, вдруг снова развеселит ее, но объяснить Роме, почему она расхохоталась, она не сможет: все течет, все из меня! — Регина, тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты сумасшедшая?
Семь лет назад Маша не знала, что за две недели с нуля можно снять разве что рекламный ролик. Когда из своего Мурманска вернулся Коля, работа только началась. Он позвонил утром, Маша была в машине вместе с А. А., и только рычащий из динамиков Уэйтс позволял надеяться, что он не услышал Колин радостный голос я тебя люблю! Маша сказала, что перезвонит, и взглянула на А. А.: ей было бы проще, если бы он спросил, кто это, но он не спросил. Понять, действительно ли он так сильно занят дорогой, было невозможно. Перезвонила Маша только в середине дня — когда вчетвером с ребятами они отправились есть блины, она, проверив, в кармане ли телефон, улизнула в туалет. И хотя каждый мальчик знает, что девочка проводит в туалете немало времени, все же, вернувшись, она боялась поймать на себе взгляд А. А. А. А., впрочем, внимательно слушал какой-то актерский анекдот. Глотая остывший чай, Маша поймала себя на ужасе перед мыслью: не слишком ли внимательно?
Да, Маша сказала Коле, что она не успела, что ей нужны еще две недели, и Коля сказал, что нет проблем. Она сказала, что не сможет встретиться, потому что с утра до вечера снимает, и Коля сказал, что, конечно, умрет от нетерпения, но не совсем. Но когда он спросил (в шутку, конечно) можно я хоть звонить буду? — Маше пришлось молчать. Молчать так долго, чтобы Коля наконец сказал понятно. И прежде чем вернуться в пахнущий горелым маслом зал, Маша долго мыла лицо холодной водой.
Вечером Маша с мануалом в руке лежала перед камерой на полу в комнате, когда А. А. из кухни на сигаретном выдохе крикнул: я тебя раньше никогда такой не видел. Квадраты таблиц стали наплывать на Машу со страниц мануала. Что? — Я говорю, что ты с камерой настоящая начальница. Властная, волевая, этот туда, этот сюда. Очень необычно, правда. Я тебя люблю. — Такую начальницу? — Разрешите вас поцеловать, товарищ директор? — А. А. уже стоял на пороге комнаты, и Маша отложила мануал со взбесившимися таблицами в сторону.
Причина, по которой Маша во что бы то ни стало хотела скрыть от А. А. факт измены, заключалась не в том, что Маше было стыдно (стыд перед А. А. она научилась преодолевать еще раньше, чем начала спать с ним в одной постели: Регина, признавайтесь, прочитали вы «Крейцерову сонату»?), а в том, что ей не хотелось его расстроить; объяснить, что то, что произошло, произошло не более чем случайно, она бы не смогла. То есть она знала, что А. А. заставит себя все понять и рано или поздно, через день ли, через два, придет к ней и скажет знаешь, Маша… Но Маша знала, что возможности разума не безграничны. Тот первый удар, который получил бы А. А., скажи она ему, что, мол, так-то и так, — Маша живо представляла себе это: молчание, спрятанные растерянные глаза, покрасневшие уши — этот удар остался бы в памяти тела, а Маша, какая бы сонная она ни сидела на утренних репетициях, уже знала, что память тела — это такая штука, которая не rewriteable. Было и еще кое-что — то, что заставляло Машу ненавидеть себя. Перебирая в голове все эти многоходовки взаимных уступок и обязательств, она вынуждена была признаться себе в том, что в конечном счете есть одна главная причина, по которой ей нужно оставить все, как есть, хотя бы пока, что в действительности она просто-напросто боится сорвать съемки.
Маша до самого начала августа строила кадры, экспериментировала с фильтрами и запрещала горе-артистам играть бровями. Что она не сможет уберечь А. А. от своей тайны, она уже не сомневалась, и каждый раз, когда это понимание вдруг застигало ее на площадке, Маша старалась работать быстрее и быстрее — не столько потому, что успеть бы до, сколько чтобы сосредоточиться на другом.
Коля позвонил спустя ровно две недели — вечером того самого дня, когда Маша, не вполне веря в то, что говорит, сказала: ну все, ребята, успели.
Пока А. А. чехлил камеру и грузил ее в машину, ребята принесли пиво, но Маша не могла пить: усталость от сделанной работы была ей знакома, но впервые она не могла подсластить эту усталость взглядом на то, что получилось. Ребята пели и считали «Оскары», прохожие щурились из-под лбов на сидящую на поребрике громкую молодежь, солнце нагревало бутылки, А. А. молчал и курил. Маша холодела от ужаса: она даже примерно не знала, с чего начинать монтаж.
Вечером Маша с А. А. были дома, заиграл телефон, и Коля стал объяснять Маше, что две недели прошли, и, может быть, получится потом еще, если ей нужно будет, но что камера нужна ему прямо сейчас, так что он где-то через час заедет, если она не против. Маша слышала, что Колины слова вязнут у него в киселе слюны, ей стало противно, что он не спросит просто о том, что ему нужно знать, а — ясно как светлый день, что — хочет выяснить это как бы невзначай. Тем не менее Маша, конечно, сказала Коле, чтобы приезжал, сказала А. А., что сейчас приедет Коля за камерой, и Коля приехал.
Роме, который будет допытываться, что это она целый день такая задумчивая, Маша скажет, что вспоминает свой первый фильм, — это тот, что ты в HFF отправляла? — да, дуракам везет, — и потом, когда они согласятся, что что-то не спится, выйдут из гостиницы и отыщут ночную шаверму недалеко от Potsdamer Platz, Маша будет говорить ему, что что-то в этом есть: снимать без денег, без студий-шмудий, потому что так ты никому ничего не должен, ну не получится и не получится, никто от тебя ничего не ждет. Рома будет улыбаться, потому что ясно же, что это дурь, что просто неудачный день, что завтра придется все переснимать, если будет погода, вот она и сходит с ума.
Но житейская правда тем и отличается от истины, что ее может быть много разной. Кроме всего этого, Машу будет мучить картинка, на которой Коля, ожидавший увидеть кого угодно — мальчика, папика, подружку, — когда ему открыл дверь А. А. (здорово, Озеров, давно не виделись), весь обмяк, смотрел на Машу (только не отвести глаз), смотрел на А. А. (здрасьте, Лексейлексеич), и А. А. обернулся на Машу, а потом, когда Коля вошел, протянул ему ладонь, и не мог же Коля не протянуть свою, и не было никаких сомнений в том, что А. А. все понял и именно поэтому настоял на том, чтобы Коля зашел, рассказал, как дела и так далее, и ей тоже пришлось сказать конечно, Коля, — хотя больше всего ей хотелось просто вышвырнуть обоих за дверь.
Втроем они пошли на кухню, там что-то пили и ели, говорили о кино. А. А. говорил, что при всем при том кино искусство не самостоятельное, что оно, как и комикс, есть только инобытие литературы, текста, и в этом смысле вторично (посматривая на Машу, не собирается ли обидеться), но при этом возможности текста неизмеримо шире, потому что текст — явление языка, а язык, по Хайдеггеру, есть дом бытия, картинка же, тем более картинка движущаяся, как и театр, не имеет прямого отношения к истине, а только позволяет языку сказаться там, где он при других обстоятельствах не мог бы, и в определенном смысле это профанация, как было профанацией первое греческое представление, освобожденное от сакральной функции. Коля сердился, смотрел на Машу, закуривал, забыв, что только что потушил предыдущую, тряс головой — нет, он согласен, пусть вторичное, но это не отменяет того, что за ним будущее, это вообще смешно доказывать, атомная энергия тоже вторична по отношению к паровой тяге, ну и что, зайдешь в любое кафе — люди — студенты, бухгалтеры, умные, глупые — все говорят о кино, и никто не говорит о книжках, пересказывают сюжеты (вот именно! — А. А. поднимал указательный палец), обсуждают актеров, ну вторичное, и к живописи вторичное, и к фотографии, но в том-то и дело, что все искусства соединились, и получилось кино, и сила его больше, чем каждой составной части, сила воздействия на человека, попробуйте-ка кого-нибудь заставить прочесть «Илиаду» целиком, а «Звездные войны» все смотрели, хотя по сути одно и то же. В том-то и дело, что, — Маша слушала, слушала, не столько что они там говорили, сколько шум чайника, треск табака, урчание холодильника, пыталась представить себе, чем это может закончиться, и вдруг поняла, что ничем особенным: она просто скажет, что устала и хочет спать, А. А. с Колей отнесут тюки вниз, а она разденется и залезет под одеяло, и когда вернется А. А., он обнимет ее и скажет, как будто ничего особенного не имея в виду: по-моему Озеров в тебя влюблен.
И именно это — а не то, как она два месяца боролась с Adobe Premiere, договаривалась с угрюмым звуковиком, как вдруг ей пришло в голову отправить диск с пачкой рисунков в HFF, и как оттуда пришло письмо с просьбой прислать полный пакет документов (см. на сайте) (играет фальш-финал главы: да, именно так Маша Регина стала режиссером), не ее детская радость пополам с недоумением: приглашают-то приглашают, но почему-то на операторский факультет (и судя по всему, А. А. был прав, предположив, что для политкорректности нужна была девушка-оператор, да еще из восточной Европы, — это она поняла уже в Мюнхене, добиваясь перевода), — это все останется как набор фактов, но то, что действительно будет прожигать память насквозь, что будет заставлять пальцы сплетаться так, чтоб белели под кожей кости, — это чувство недосказанности, незавершенности мелкого и корявого сюжетца. Ненависть, которую она будет испытывать к этой истории, — чисто эстетического свойства: подобным образом тело ее перекручивает и кривится рот, когда она смотрит картину, в которой концы не сходятся с концами, конфликт не стоит выеденного яйца, а актеры наигрывают на три зарплаты.
Коля звонил потом несколько раз, он все никак не мог поверить, что Маша не может, что нет времени, что дела, каждый раз говорил, что позвонит еще, и даже перестал говорить я тебя люблю, — а зимой перестал и звонить. Маша так и не поняла, действительно ли А. А. по Колиным глазам, по ее молчанию все понял и со своим надмирным великодушием сделал вид, что не заметил, или решил, что Маша всего лишь не хочет обижать, даже заочно, симпатичного, ничем не плохого юношу (влюбиться всякий может). Глупо, глупо, глупо. И Маша, напившись пива (потому что нельзя же такой огромный Dornerkebab съесть без пива), будет хохотать над Ромиными шутками. Шутки не очень смешные, но пива много, а главное — Маша поймет, что все это глупости, а все остальное еще глупее. Коля вызывает А. А. на дуэль. А. А. в праведном гневе указывает Маше на дверь. Маша, встречая споткнувшегося о штатив А. А., исповедуется не отходя от кассы, что Озеров дал ей камеру, что они тут бухали целую ночь, а на следующий день изображали двуспинного зверя.
Все, Евгеньев, хорош пиздеть, работать завтра.
Как Капа стал фотографом
Это такая тема из детства — родители отправили тебя спать, а сами смотрят кино какое-нибудь, и вот ты лежишь, не спишь, конечно, из-за стенки глухие звуки, то драки какие-нибудь, то музыка, шум улицы, разговоры, слов не разобрать, только интонации, и вот ты лежишь, чуть не к стенке ухом прижавшись, и придумываешь, что там за кино, — из этих вот звуков. Незаметно так засыпаешь.
Плюс твой храп — офигенная дорожка. Это ведь сверху соседи, да? Слышимость в этих домах — с ума сойти. Они ведь тогда еще, два года назад, нас замучили, дочка их. Родители на выходные свалят, так у нее — полный дом: девчонки в хайратниках, мальчики с гитарами. Нет, все-таки ролевики — эти ребята мирные, только поют уж очень хреново, выли тут по две ночи подряд.
Я ведь только потом поняла, что ты обиделся. Ты думал, я прилечу и мы тут с тобой будем целыми днями в койке валяться да гулять при луне, а я, сволочь такая, — спасибо за ужин, а теперь не мешай. Господи, мы же с тобой вообще не знали друг друга, вообще, как будто только что познакомились. Ну что я должна была тебе сказать? Знаешь, дорогой, я когда работаю, ко мне лучше не лезть, вот подожди, сценарий допишу и тогда буду вся твоя без остатка. Ну и я… Знаешь, у меня же тоже не до фига опыта было, Леша-то был умный как черт, вот я и думала, ты все поймешь, а тебе, оказывается, нужно было преданно в глаза смотреть. По десять минут три раза в день после еды. Что, неужели не видно было, что я тебя люблю без памяти, как в самый первый раз? Ты спи, спи, не просыпайся, я себе еще пива возьму, терпеть его не могу, но что-то же надо пить после такого.
Ну а потом, когда я закончила? Поехали, типа, в отпуск, это ж настоящий медовый месяц был, я даже думала, не намекнуть ли тебе про замуж. Тут ты должен спросить, почему не намекнула. Ну а зачем? Это ж ерунда, типа, я так тебя люблю, что даже штампа в паспорте не боюсь. Замуж надо, если дети, а какие тут дети. Мне кино надо было снять. Да и тебе тоже. Вот тоже обида вселенская: тянула, не сразу позвала тебя. Ты хоть помнишь, что ты мне говорил тут, держась за стенку? Да я как только увидела, как ты работаешь, сразу поняла, что если будет фильм, то снимать его будешь ты, сразу, просто это тема такая: нельзя, пока еще точно ничего не известно, начинать говорить про это. Я еще и черных кошек боюсь, жду, пока кто-нибудь пройдет. Ты-то мало того что красавец, хоть и дурак, ты же еще талантливый, как Карлсон, у тебя какое-то чувство геометрии кадра совершенно сумасшедшее. Лови момент, будешь трезвый — не скажу.
Берлин, значит. Ты знаешь, я потом подумала, что «Минус» — на самом деле просто поток каких-то невероятных совпадений, удач, не знаю, и похоже, что без этого хорошее кино вообще не снять, будь ты хоть Эйзенштейн. Сначала тебя встретила, потом вдруг поехали в Берлин. Я же в Берлине почти не была, так, заезжали один раз на выходные с ребятами, из Мюнхена в основном в Италию народ катается, ближе и теплее. Так вот, мы с тобой тогда приехали на Haupt, и я сразу поняла, что вот это тот самый вокзал, который нужен, который я рисовала. А потом уже ходили с тобой по городу, я автоматически натуру смотрела, тянула тебя поближе к железке, ты злился, надо ж все посмотреть, улицы там, остров музеев, тиргартен, пиво, ты еще не знал, что в Берлине темное пиво не пьют.
А теперь ты мне говоришь, тебя напрягало, что мы на мои деньги гуляем. Бог ты мой, какая херня! Ну сказал бы, что напрягает, я бы тебе в долг дала, только мы же все равно все прогуляли, все, что у меня от «Гугенотов» осталось, там было-то… Нет, если это всерьез, то я не могу жить с мужиком, который на такой херне заморачивается. Какая-то говнополиткорректность: знаешь, я буду с тобой трахаться, но за ужин мы будем платить отдельно. Слышал бы ты себя со стороны. И вообще, я что-то не видела, чтоб ты напрягался. Радовался как младенец: у меня первый отпуск за полтора года! У нас же отпуск! фигли мы пойдем в пиццерию! пошли в нормальный кабак! А сам, получается, что? Ходил и думал: у-у-у, богатенькая сучка! Так получается? Как это все мерзко, мерзко. Не то мерзко, а что вот я тут сижу на полу перед тобой и несу всю эту херню с твоим хольстеном паленым.
Знал бы ты, как мне иногда хочется послать тебя на хуй. Первый раз это было месяца через два, как мы вернулись в Питер. Я сначала думала, это все шуточки такие: кому это ты звонишь-пишешь, кто у тебя там в Германии… Но вот когда я съездила в Москву, и ты устроил истерику, почему я не брала трубку, и у кого я там брала в рот, блядь, я впервые это почувствовала. Я же не снимала в России, можно было догадаться, но я не подумала, что здесь такая фигня, мол, если девушка снимает или снимается, значит, она кому-то дала. И все в этом так уверены, что даже девушки не сомневаются. Я еще, дура, рассказала тебе по чесноку, что типа, да, намекали, какие у вас волосы красивые. И тут ты… Понимаешь, ужас был в том, что я по твоим глазам видела, что ты на самом деле веришь, что я там кому-то за деньги давала. И дело не в том, что ты мне наговорил, а просто я когда увидела это, я прямо вся ненавистью налилась, как груша, хотелось сделать тебе больно, даже реально, чтоб ты сдох, и вот в этот момент я поняла, что могу легко уйти от тебя.
Помирились. Мы же с тобой всегда миримся и теперь тоже помиримся с утра, что нам еще останется делать. Глупо же, когда ты начнешь виноватые глаза делать, говорить тебе, что нет, мол, первое слово дороже второго. Хотя так и надо было бы, в общем, сделать. А может, и нет, ведь в результате получилось все равно так, как ты думал. Кто поумнее, сказал бы, что, типа, о чем думаешь, то и получится. Или это не только в России так, а везде. Карма, елки-палки. Это, знаешь, просто такие сюжеты, которые почему-то появляются в твоей жизни и потом повторяются снова и снова, и ты ничего не можешь сделать, просто происходит из раза в раз одно и то же, одно и то же, с другими людьми, в других обстоятельствах, но то же самое. Помнишь, когда мы снимали сцену у магазина, день был херовый, солнце так и не вышло, нам потом еще переснимать пришлось. Ну вот, и ты начал спрашивать, что это я какая-то не такая, а я тебе сказала, что вспоминаю Питер и все дела. В общем, так и было, но меня тогда вот что вдруг поразило. Что получилось-то точно так же. Когда проживаешь такие моменты, не ловишь, что все это уже было, только потом понимаешь. Ту-то работу, которую я в Питере делала, тоже, в общем… Ну, там не было никаких денег, продюсеров-хуюсеров, но все равно подобная фигня была. Ну, короче, так получилось, будто я за камеру дала парню. В общем, это совсем не так было, но выглядело именно так. Хороший парень был. Ну, и есть. У него группа какая-то, зовет меня даже иногда на концерты. И тут то же самое. Ты думаешь, что — я заранее знала, что вот Петер достанет мне денег и поэтому все и произошло?
Блядь, получается, будто я тут оправдываюсь перед тобой. Да я не хочу оправдываться. Ну да, я отдаю себе отчет в том, что чувствую себя виноватой, но я не знаю, откуда это, я точно знаю, что никакой моей вины нет. Ну ладно, о’кей, пусть оправдываюсь. Я очень долго пыталась найти деньги на фильм, ты помнишь. Рассылала сценарий в десятки контор, везде получала от ворот поворот, ездила куда-то с кем-то встречаться, и все хвалили мои волосы. Это продолжалось целый год. Мне даже пришлось найти тут работу, и я снимала корпоративные ролики. Ты мне хоть раз сказал, что, типа, Регина, это, блин, не достойно твоего таланта?! Да я чуть с ума не сошла, я уже готова была сложить ручки на животике. Все мне говорят, что фильм, который я хочу снять, полное говно и на него никто ничего не даст, — целый год! — и что я должна была думать? Ну конечно, я должна была верить в себя, да, я верила. Только, знаешь, это трудно.
А Петер… Я же тебе ни разу не рассказывала, как все было. Только в порядке ругани, а спокойно — ни разу. Хочешь послушать? Ну, как хочешь. В общем, тогда в Мюнхене… Я туда поехала, как на праздник. Обстановку сменить, тебя хоть несколько дней не видеть, шучу, шучу, ну и повидать, кого давно не видела. Обидно, конечно, было слушать, как они там все уже по-настоящему работают, но я не парилась особо. Петер там, в кнайпе, случайно оказался, он когда-то давно начинал у нашего мастера. Звезда, красивый дядька, близкий друг двух великих немцев, все дела. Ну да, на него там все смотрели, как на бога. Ну, я тоже, наверное. Хотя не поэтому. Он просто, я тебе говорила, формой головы на отца моего похож, меня это вставило. Ну, не в этом дело. Я знаю, для тебя принципиальный вопрос, когда он взял у меня сценарий почитать. Ну так вот, я тебе говорю: после. После, понимаешь? Конечно, я рассказала всем, что ищу, мол, денег на фильм, но не было такого, что он кинулся ко мне и сказал, давай сценарий и в койку. Он вообще со мной не разговаривал. Спросил, где я остановилась, нормальный светский вопрос, ну я и сказала, я ж не знала, что он на следующий день притащится с утра пораньше с цветами.
Что я тут буду перед тобой разводить. Это были офигенные три дня, да, честно. Ухаживал, как настоящий влюбленный. Я и сама в него немножко влюбилась. Сложно не влюбиться, когда, ну, прогулки, разговоры там, да не в этом дело. Он просто настоящий, понимаешь? Он потому и актер хороший, что сам по себе настоящий. Актерами не становятся ведь на Моховой. Если прет из человека жизнь, значит, он актер, и никакими техниками этого не добиться, можно только немножко заполировать. И таких людей так мало на самом деле, что когда встречаешь — влюбляешься, тут я не виновата, это мир так устроен. Ну да, я помнила про тебя. Но я же не планировала, что вот мы тут погуляем денек-другой, и тут-то я ему и дам. Вообще, такие вещи планировать — это все равно что в жопу себе швабру засунуть и ходить так. Мешает, понимаешь? Мы ж не для того живем, чтоб ни в чем не быть виноватыми и сдохнуть, сказав себе: о какой я клевый, мне не в чем упрекнуть себя.
Я понимаю, в режиме оправдания это глупо звучит, но — правда: это случайно получилось. Ну, он придумал какой-то повод, чтобы к нему в «Рэдиссон» зайти, что-то там взять, карточку забыл. Ясно было, что вообще-то он хочет со мной потрахаться. Он даже не намекал на это, сказал, что я могу подождать его внизу, и я могла подождать, а назавтра улететь. И тогда получилось бы, что я такая динамо, покрутила мужиком три дня, наелась, напилась и пока, спасибо за цветочки. Нет, пойми, я бы легко так и сделала, но я подумала: что я из-за какой-то фигни буду отказывать себе в удовольствии заняться сексом с человеком, который мне, между прочим, страшно нравится? Давай, скажи мне, что я должна была наступить на горло собственной песне. Кому должна? Тебе? Так что я сказала, что поднимусь, а потом сказала ему, что не надо никуда идти, если у него тут есть выпивка. В «Рэдиссоне» нет номеров без выпивки, к счастью.
И только потом, когда мы с ним уже ночью валялись с вискарем, он спросил про сценарий. Я не знаю, понимаешь, не могу ответить за него, думал ли он заранее, что, типа, если даст, тогда возьму у нее ее писанину почитать. В принципе, я бы удивилась, если так. И конечно, с моей стороны по всем правилам было бы правильно отговориться и не давать ему сценария. Я бы, может, и не дала, если бы закончила его неделю назад, но я же год с ним проносилась, и я, понимая, что это, да, шанс, серьезный шанс, может быть последний, и что вместе с тем я поступаю как сволочь, но я все-таки дала ему сценарий.
И на этом, заметь, история не заканчивается. Потом уже, когда я была здесь, и он мне написал, что это его роль, что он даже на рисунках моих похож на Макса, что клевый сценарий, что покажет его одному человеку, а я бы пока подумала, подходит ли он мне, я ему честно ответила, что если, типа, вдруг окажутся деньги, то другого актера и желать было бы нечего, но что снимать я буду с моим парнем, с тобой то есть, товарищ храп, и что если он намек понял, то, может, и не стоит ему беспокоиться и все дела. Блядь, благородная душа, учись, Евгеньев! Знаешь, что он мне написал? Что то, что было, было нелепой, хотя и счастливой случайностью! И что — записывай! — сохраняя в душе память о первых днях нашего знакомства как одно из самых дорогих воспоминаний его жизни, он тем не менее надеется, что в дальнейшем наши отношения будут развиваться максимально плодотворно, не выходя, впрочем, за рамки профессиональной сферы! Ты понял, Евгеньев, как с девушками надо? Дура! проститутка!
Ну и что, ты действительно думаешь, что я должна была тут же все тебе рассказать? Знаешь, Рома, мне тут дали денег на фильм, и еще замечательный актер нашелся, я, правда, с ним переспала, но не парься, я больше не буду, обещаю. Ты вообще себе представляешь такой разговор? Кроме того, ты же должен понимать, что тебе пришлось бы тогда остаться в Питере. Ну или мне отказываться от фильма, но я бы по-любому не отказалась. А мне вообще-то хотелось, чтобы именно ты снимал. И потом, да, Петер хороший мужик, но мне не хотелось с тобой расставаться, вообще не хотелось. Я тогда думала в том духе, что ну вот мы с тобой ругаемся иногда, миримся, кричим друг другу, чтоб катились на все четыре стороны, ссоримся из-за хрени какой-нибудь, потом трахаемся и все забываем… Ну и что, в общем, это нормально. Все так живут, да? И все эти счастливые парочки, к которым ты приходишь в гости, милая, дай гостям тапочки, дорогой, поставь чайник, смотрят влюбленно друг на друга, показывают тебе, какие они счастливые вместе, ведь это всегда так бывает, и мы себя так ведем. А на самом деле час назад эти голубки планировали друг друга зарезать. Так люди-то и живут. И не потому, что они, суки, такие лицемерные, а потому, что иначе было бы невежливо. В общем, это действительно неизбежно. Вот я жила два года с Лешей. Он старше меня, умнее, тогда — особенно заметно было, и вообще спокойный как слон, но все равно же мы с ним срались. Не так, конечно, как с тобой, ну, разойдемся там по квартире или уйдет кто-нибудь погулять. Это не какая-то глобальная вещь, все ведь всегда бывает из-за ерунды. Понимаешь, кого-то в детстве учили, что надо за собой крышку унитаза опускать, кого-то — нет. А люди из этого делают вывод, что они друг другу не подходят. Ну не бином же Ньютона, все это знают, даже если не говорят, поэтому и продолжают все-таки жить вместе. Прости, что я тебе ерунду несу. Я все к тому, что у меня уже не было тогда иллюзии, что вот я найду такого парня, с которым можно будет жить душа в душу и ни разу не сраться. Я думала об этом очень серьезно перед «Минусом» и решила, что я тебя люблю и бросать не хочу.
Разве плохо было? Ты же первый кричал, что ура-ура, наконец-то серьезная работа, да еще за нормальные деньги. Не знаю, в общем, если серьезно сказать, то единственное, в чем я реально виновата, это что не сумела оставить тебя в счастливом неведении. Я на самом деле так и не знаю, как ты догадался. Сказал тебе кто-нибудь? Да, вроде, некому было, никто не знал. Что Петер тебе сам сказал, я что-то не верю. Господи, счастье, что это хоть под конец случилось, а то вообще фиг знает, что бы было. И не потому, что ты бы ушел из картины, думаю, что не ушел бы. Просто я тогда вообще с тобой не справилась бы. Ты и так решил, что я тебя презираю и считаю говном, так мне не нравится, так не нравится. Рома, это же нормально! Это нормальная работа оператора и режиссера. Оператор предлагает, режиссер говорит нет, у меня своя картинка, у тебя своя, — это, типа, творческий поиск, на то и кино, а режиссер на то и режиссер, что за ним последнее слово. А ты вообразил, что я тебя чуть ли не разлюбила и таким образом даю тебе это понять. Да если бы я тебя разлюбила, я бы тебе тут же, не отходя от кассы, так и сказала бы. И скажу, если что. Я вообще честная, сука, как советское правительство.
А ты говоришь — могла бы хоть соврать. Ну вот представь: ты приходишь ко мне и на полном серьезе спрашиваешь, спала я с Петером или нет. И я, значит, должна была сделать хвост пистолетиком и сказать, господь с тобой, Ромочка, что за мысли у тебя в голове! Ну это же бред! Ты сам понимаешь, что это бред? Все равно я бы не смогла тебе так соврать, чтобы ты поверил. И не потому, что я хуевая артистка, уж на это-то меня хватило бы. Просто если такие мысли завелись, то это как кариес, понимаешь, ты сам не смог бы мне поверить, даже если бы очень захотел. Если уж ты реально хотел, чтобы я тебя обманула, нужно было тогда не спрашивать.
Короче, я не знаю, Рома, в чем прикол. Мне кажется, что это какая-то изначальная порча. Просто с самого начала все идет вкривь и вкось, и ничего ты с этим не сделаешь. Может, все было бы по-другому, если бы ты тогда, я имею в виду, вообще давно, не стал бы выпендриваться, а просто переспал бы со мной, маленькой провинциальной влюбленной дурочкой, — не знаю — разбежались бы, может, а может, жили бы долго и счастливо. Это я не к тому, чтобы повесить на тебя что-то, ты знаешь, у меня бзик на этом. Конечно, ты ни в чем не виноват, ну не хотел и не хотел, подумаешь. Вообще никто не виноват, это чертова жизнь так устроена и все тут. Где-то с самого начала что-то сломалось. Может, еще до нашего рождения. И ты видишь это, пытаешься исправить, говоришь себе: эта хуйня со мной никогда не случится! — и как только пытаешься сделать шаг в сторону, оказывается, что в этой-то стороне вся хуйня и есть. Кто поумнее сказал бы, что это судьба. Хуйня это, а не судьба, нет никакой судьбы. А есть просто логика. Вот такая хуевая, но логика.
Только не надо мне говорить, что я тут разошлась. Ну разошлась, но ты сам виноват, если б не ты, я бы не напилась так, чтобы тут тебе сочинять монологи с матом. Что ты, благородный дон, сделал-то? Ты же не пошел, не убил Петера, не бросил работу, не уехал, меня не убил, не сказал, чтоб я шла куда подальше. И правильно. Правильно, понимаешь, я ничего не могу сказать. У нас контракт, работа, картина почти доснята. Если б ты взбрыкнул вдруг, вот тогда ты был бы идиотом. Но ты молодец, покуражился, набухался-наорался и за работу. Я даже думаю, если честно, что ты специально ждал конца съемок, чтобы не пришлось ставить перед собой вопрос ребром — тварь, типа, я дрожащая или уеду щас в Питер. Потому что тогда пришлось бы уехать, а тебе этого не хотелось, ты же не мог не видеть, что картина в общем складывается.
Вот видишь, опять получается так, будто я тебе рассказываю, какой ты подлый и расчетливый. Я совсем не это хочу сказать. Я хочу сказать, что это такие танцульки, если уж ввязался в них, то будь добр — две шаги налево, три шаги направо, других вариантов просто нет. Противно только, что ты не сам в них ввязываешься, а такое ощущение, что это они тебя в себя ввязывают. Не ты живешь эти сюжеты, а они живут тебя, понимаешь? Если всерьез об этом думать, то возникает вопрос — а ты сам-то где? Если ты начнешь последовательно вычитать из себя все то, что не есть ты — сюжеты, тебе навязанные, чувство вины, в которое тебя вталкивают, вера, которую тебе прививают, я не знаю, любовь к родине, книги, которыми ты пропитался, вот это все, — то в конце концов получается странная вещь: тебя-то и нет! Никак ты не обнаруживаешься, за что ни схватись, все откуда-то в тебе поселилось. Ну вот мясо твое, кости, кровь, жилы, кожа, но и это-то, если уж так смотреть, тоже — все, что ты когда-нибудь съел.
Я об этом думала, когда в Берлине осталась монтировать, а ты улетел. Они там что-то намудрили с контрактом, на монтаж было запланировано в два раза больше времени, чем надо, — то ли перестраховывались, то ли и в самом деле думали, что я еще не знаю, в каком порядке сцены идти будут, в общем, у этих немцев иногда не меньше распиздяйства, чем у нас. Я не стала строить из себя стахановца, приходила на студию к восьми, мы там сидели с Мартой, что-то делали до двух, а потом я уходила. Знаешь, Берлин весной — это что-то совсем особенное. Он реально весь пахнет сиренью, куда ни пойди. Я еще вырвалась наконец из гостиницы, сняла квартиру на Пфлюгер-штрассе, в Кройцберге — восточный Берлин, что ни говори, все-таки симпатичнее западного. Мне в какой-то момент начало казаться, будто я зажила обычной жизнью простой Гретхен, офигенное ощущение — встаешь, идешь в булочную, потом добираешься до студии, что-то там режешь, склеиваешь без суеты, потом обед, идешь по магазинам еды купить, готовишь что-то дома. Я даже телевизор начала смотреть.
Ты, наверное, думал, что раз уехал без окончательного объяснения, так я мучиться буду, страдать от неизвестности и все такое. А я впала в такое умиротворение, не знаю, мне ничего не надо было, только гулять вот так по городу, лежать на газонах, смотреть на народ, заходить в магазинчики, работать по чуть-чуть. В общем, что-то в этом есть. Если б ты приехал тогда, я бы тебе сказала: расслабься, чувак, это все такая фигня, представь, как ты все это будешь вспоминать через сорок лет, когда тебе будет семьдесят, тебе будет не до секса, лишь бы попить чего-нибудь тепленького, ведь вспомнишь это все с улыбкой — не брезгливой, а, ну, благословляющей, что ли, что вот был ты такой молодой и так волновался из-за того, кто с кем спит, знаешь, посмотришь на мальчиков и девочек, которые будут обгонять тебя на улицах, и порадуешься за них, что у них все играет, что у них в запасе еще столько времени. Ну, короче, я будто резко превратилась в такую добрую старушку, только что голубей с кошками не кормила.
Я даже про «Минус» тогда перестала думать. Нет, то есть я думала, держала в голове и монтаж, и озвучку еще, но в принципе было понятно, что картина получилась. И это было главное, а что там дальше будет — прокат, фестивали, критика, — это как-то перестало волновать. Для меня вообще весь этот шум, который поднялся, был, ну, не то что неожиданным, а я просто не сразу поняла, что этот шум есть, и он — из-за моей картины. Причем, знаешь, я даже точно помню момент, когда я это поняла. Это было в Венеции, за два дня до объявления. Я стояла у Palazzo, курила, а у входа куча народу ждала какую-то голливудскую рыбу, фотики настраивали, шумели. И вот тут что-то щелкнуло, я даже закашлялась, потому что слишком много дыма сразу втянула. Я вдруг как-то осознала, увидела, не знаю, что и я тут тоже вроде бы не хуй собачий, что я тут тоже в конкурсе, и вообще-то, почему бы моей картине и не выиграть, я же видела другие и видела, что моя ничуть не хуже. В этот момент у меня забилось сердце и потом уже не переставало. То есть меня вот это именно сломало, а не то, что мы с тобой помирились и снова стали трахаться.
Я же знала, что ты тут без меня членом туда — членом сюда, донесла, знаешь ли, разведка. Ну, я понимаю, ты, наверное, как бы так мстил. А может, как это называется, трахни десять других, пикапер фигов. Да хоть сорок, не в этом дело. Понимаешь, просто не в этом дело. Это вообще странная мысль, что вот есть у тебя проблемы и эти проблемы можно решить как-то механически, приплюсовывая других людей. Как в плохой книжке — что-то у автора не срастается, и он вводит героев, еще, еще, еще, а все только больше расползается, а заканчивать-то надо, и в конце концов ему приходится всех убивать, чтоб не путались под ногами, вот в чем проблема, Рома, а не в том, что книжка плохая.
Ну да, знала. Мне, может, надо было сделать, как сделал ты? Приехать, выложить перед тобой, что я все знаю, и начать рвать волосы на голове? Чтоб ты тут обосрался со страху. Вот, типа, я думала, ты такой, а ты не такой, мы не можем жить вместе и так далее. Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. И все это для того, чтобы наконец согласиться, что мы квиты и — давай начнем новую жизнь, но при этом ты все-таки больше виноват, чем я, так что ты мне должен и не забывай об этом. Мне просто хотелось с тобой жить, понимаешь? И когда я прилетела и увидела тебя, я сразу поняла, что и ты этого хочешь. И зачем тогда все эти дебеты-кредиты? И знаешь, без всяких этих обещаний и клятв кровью, что больше никогда, и демонстративного выбрасывания рассованных по карманам презервативов. Вообще без слов, потому что и так все понятно. Ведь я же могла просто не приехать к тебе и все, да? Но приехала, а если так, то все понятно.
Мне тогда показалось, что ты это понял. Ну, потому, что ты не говорил ничего, просто встретил, обнял, поцеловал, как будто ничего не было… Как мы тут с тобой мерзли, помнишь? А ты, оказывается, решил всего лишь отложить расчеты до другого раза. Год целый терпел, но не забыл. Выбрал момент, когда это будет нелепее всего, неудобнее всего. Ну мне правда тогда не до личной жизни было, вообще. Тебя-то никто не рвал на части, у тебя не было по три интервью в день, к тебе не приставали со знакомствами десятки людей, про каждого из которых ты ни черта не знаешь — может, это просто сумасшедший, а может, супер-пупер важная птица. И нигде же от них в этом вонючем городишке не спрятаться, разве что в Гран-канал нырнуть. А тут еще ты: я тебе теперь не нужен, смотри, как тебе этот пидор улыбается, может, даст тебе денег на следующий фильм, ты спроси, спит ли он с девушками. Я тебя не убила, наверное, тогда только потому, что сил не было даже нож поднять. Ты вот потом говоришь, мне типа стыдно, я себя так вел, так вел. А что мне теперь-то с твоих извинений? Ты мне тогда не просто праздник испортил, ты мне сделал больно, когда я слабее всего была, и от этого вышло вдвойне больнее. Не знаю, тебе когда-нибудь загоняли иголки под ногти? Мне тоже нет, но, думаю, что это ненамного больнее. И вот после этого ты мне говоришь: извини, типа, не знаю, что на меня нашло. Ах, сука ты, какая же ты сука!
Пейте пиво пенное. Ну, с другой стороны, как говорил Федор Михайлович на Сенной площади, все, что ни случается, все к лучшему. Англичане, когда попадают в неловкое положение, делают вид, будто никуда не попали. В этом есть огромная сермяжная правда. Если случилась какая-то фигня, нет ничего такого, что можно было бы сделать, чтобы исправить ситуацию, это иллюзия. Единственный способ исправить ее — это вести себя так, как если бы ничего не случилось. Волшебное «если бы»! Но проблема в том, что — и я тогда это поняла — людское общежитие устроено так, что тебе не дадут так себя вести. Ты думаешь, ты один такой? Все, все остается на счетах, ничего не исчезает. Для меня тогда последней каплей было, что Петер начал яйца подкатывать. Он, похоже, решил, что раз работа закончена и теперь уже я от него не завишу никак, то моя девичья гордость не пострадает и можно бы еще разок напоследок перепихнуться к взаимному удовольствию. Нет, он ничего не говорил, просто улыбался, руки целовал, в глаза смотрел, но я же видела. Короче, я его понимаю, и на самом деле ничего плохого в этом нет, ну, я же действительно ему нравлюсь, и он знает, что и я тоже не считаю его уродом. Наверное, если бы я просто еще раз сказала ему, что нет, он бы отвял. Но что-то я этому такое значение придала, что не выдержала…
И вот когда я тут прилетела в Питер, меня вдруг осенило, что сняла-то я хуйню! Что это все какая-то голимая схема, слишком простая, а так просто ничего не бывает, неполная правда — это ложь, и получается, что я хотела снять что-то о жизни, а сняла о своей голове. Ну да, это такая символическая история. Чувак пытается сойти с рельсов, но ему не дают. Не потому, что кто-то против — на фиг он кому нужен? — а сама сеть событий начинает сопротивляться. Ну хохмочки, приколы, но по сути-то что? Это мысль на пять копеек — что нельзя избавиться от механики жизни, просто передвигаясь в пространстве. Иначе все моряки были бы буддами и мир давно был бы спасен. Когда Леша мне это стал объяснять, я уже все это знала, ну, то есть про «Минус». И слава богу, а то бы я ему не поверила.
И старушечья эта философия тоже фигня. Наслаждайтесь тем, что у вас пока еще стоит, и не парьтесь, будет еще время подумать о вечном, а теперь — дискотека! Вся Европа так живет, и что? Дело ведь не в том, чтобы смириться с тем, что ты попался, да и невозможно это, если человек еще хоть немного в сознании. Проблема-то в том, что надо вырваться оттуда, куда попался, и вырваться, пока еще голова работает. Это ведь, кстати, совсем не очевидная вещь. Знаешь, я реально заметила, что у меня голова хуже стала работать. Скорость не та, вот что страшно. Тебе еще только тридцать, а ты уже чувствуешь, что ты не можешь думать так же быстро, как десять лет назад. Не поглупела, нет, наоборот, конечно, за счет книг, там, разговоров с умными людьми, всего думанного-передуманного, но раньше было так, что я свои мысли не успевала записывать, понимаешь, а сейчас как бы памяти больше, а процессор устарел. Времени-то мало, а надо успеть стать человеком.
Ну так вот, это я к тому, что уж если снимать кино про это, то надо снимать всерьез — про то, как действительно в жизни бывает. А для этого — не знаю, что надо. Ты в курсе, как Капа стал фотографом? Короче, он снимал свой первый репортаж для «Life» на аэродроме в Англии. Двадцать четыре самолета, бравые летчики вылетают на задание. И вот он снял их, они улетели, а вернулось только семнадцать — семь человек, пока он чаек попивал, стали жареным мясом. Они приземляются, он к ним — с фотиком. И один парень, которого выносили на носилках, посмотрел на него и сказал, а, типа, это ты, фотограф, ну что, доволен ты, такие фотки тебе были нужны? Ну вот, а потом была уже высадка в Нормандии, и Капа стал тем, кем он стал.
Вот как надо работать-то. И как так снимать — не теоретически, а на самом деле, — я не знаю.
То есть, опять же, ясно, что не получится это просто — знаешь, поехать в Африку там, валяться с камерой под пулями. Поехать можно куда угодно, хоть в жопу, ничего не изменится, если ты сам себя не разломаешь и не соберешь заново. Я про это и Леше говорила, у нас вообще был очень серьезный разговор, но, елки-палки, мы не трахались! Господи, я теперь жалею, что не потрахались, хоть, может, кайф словила бы, не зазря выслушивала бы твои истерики. Ну что мне сделать, чтоб ты поверил? Я вообще ни разу с ним не спала с тех пор, как мы с тобой вместе, ни разу! Я с ним знакома столько же, сколько с тобой, а жили мы вместе дольше, если без перерывов считать, нам уже не надо это, пойми, мы просто с ним, ну, как-то связаны теперь, и это навсегда, такие вещи нельзя прекратить. Нет, ты, конечно, не понимаешь. Тебе кажется, что если девушка пришла в гости к молодому человеку, то закончиться это может только одним. И вообще, все вокруг ходят и только и думают, как бы с кем потрахаться, да еще так, чтоб тебя натянуть.
Ты не вовремя позвонил, я не могла тебе соврать. И потом, если б я не взяла трубку, это как раз и значило бы, что мы — того, заняты. А мы с ним разговаривали. У него вообще очень тяжелый период в жизни, ему нужно было что-то вроде совета, может быть, впервые — от меня. Я вообще вовремя приехала, он даже сказал, что я, типа, почувствовала. Ну, я не могу тебе рассказать, да и на фиг тебе чужие проблемы? У тебя своих-то… Посмотри на себя. Тебе втемяшилось в голову, что твоя девушка с кем-то там закрутила. И что ты сделал? Устроил истерику, бил посуду, сломал дверь, чуть меня тут не отфигачил, и? Ушел, два дня бухал черт знает где. И в конце концов вернулся. Чтобы снова тут рассказывать мне, чуть не блюя, какая я проститутка. Ты так хочешь быть мужиком, а мужики так себя не ведут, понимаешь, бабы так себя ведут. Знал бы ты, какой ты мерзкий, когда напьешься. Жалкий, противный. Я такое отвращение почувствовала, когда впервые увидела отца своего бухого в стельку, уже когда взрослая была. И вот теперь, глядя на тебя, вспомнила — один в один.
Вот это-то как раз то, чего я больше всего не хотела никогда. Я живу, и всю жизнь на меня налипает что-то — ситуации, голоса, сюжеты, люди, слова, одежда, адреса, воспоминания, ощущения — как какие-то крошки сыплются, пока ты обедаешь, и смахнуть все эти крошки со стола — вот что реально трудно, но если этого не сделать, то, в общем, можно прямо сейчас повеситься. Мне только-только почудилось, что у меня что-то стало получаться, а оказывается, ничего подобного.
Блин, я поверить не могу, неужели тебя действительно все эти вещи не волнуют? Ты же не можешь не понимать, что рано или поздно ты сдохнешь. И что до этого момента кровь из носу нужно понять, что происходит, иначе ты ничем не отличаешься от таракана. И вместо того чтобы испытать ужас от этого, ты заморачиваешься на том, кто с кем спит. Да ты сам спишь! Ау, проснись! Бесполезно. Я знаю, после литра в рыло хрен тебя разбудишь раньше двенадцати.
Я тоже тогда ложусь, хрен с тобой. Давай-ка я напоследок расскажу тебе, что будет утром. Утром ты проснешься, и тебе страшно захочется мне присунуть. Но ты не сможешь этого сделать, пока мы не помиримся, так что ты быстренько скажешь мне, что, типа, перебрал вчера, и вообще, мол, давай забудем, мы же любим друг друга, что бы там ни было, скажешь, что веришь мне, что да, я ни с кем не спала. Пахнуть еще будет противно, лень убирать бутылки, знаешь, кислый этот запах выдохшегося пива. Ну и вот, ты навалишься на меня, будешь отворачивать лицо, чтоб не дышать мне в нос перегаром, долго-долго будешь пихаться, потому что тяжело с похмелья. А ужас в том, что мне будет хорошо, понимаешь? Это сильнее меня. Я люблю тебя.
Games Play People
Маше не было нужды врать Роме, тем более что он и в самом деле спал, пока она давилась теплым пивом, стряхивала пепел в горлышко предыдущей бутылки и сочиняла ему свой иногда прорывающийся в речь монолог: действительно, с тех пор, как это само собой случилось на диване в гостиной два года назад, Маша ни разу не спала с А. А. Более того, она была настолько уверена в том, что ничего подобного и быть не может, что даже во время берлинского отпуска рассказала Роме, с кем она была, пока он трахал сокурсниц. Маша не могла подозревать, что А. А. станет Роминым идефиксом в пьяных контекстах типа у тебя был уже один умник, вот и иди к нему, если я не устраиваю, — а если бы могла, то, может быть, и не стала бы ничего рассказывать. Ромины нападки на умника были тем противнее, что Маше приходилось защищать А. А., она до сих пор чувствовала нежность к двум годам, проведенным с ним. Несмотря на это даже представить себе, что она могла бы вернуться к нему, казалось невозможным: этот сюжет был просто закрыт, реанимация его была бы родом петтинга с Мнемозиной, а Маша всегда испытывала отвращение к неестественным удовольствиям.
Более того — нет смысла делать из Ромы бесчувственного придурка — он тоже если и видел в А. А. соперника, то только в рассуждении Машиной головы, а не ее междуножья. Призывы вернуться к бывшему никогда ведь не означают именно то, что говорят, их смысл в простой дразнилке: козел твой бывший, а ты дура, что жила с ним. Если же иметь в виду, что по умолчанию мы предполагаем цельность человеческой личности во времени, то и того проще: Евгеньев, ты хоть бы Эрика Берна почитал — сама ты дура!
Когда Маша, получив свою медальку, вдруг, никому ничего не говоря, сорвалась из Венеции, Рома еще два дня сидел в номере, смотрел телевизор и пил. Несколько раз ему пришлось объяснять незнакомым девушкам и мужчинам, что он не знает, где Регина. Он действительно не знал. Может быть, она переехала в другую гостиницу, может быть, уехала с кем-нибудь прокатиться в Рим, Флоренцию, Милан, да мало ли куда и с кем можно прокатиться. Признаться в том, что Маша улетела в Питер, было сложно: пришлось бы заодно сказать себе, что это он ее довел. Проще было убеждать небритое отражение в том, что это она его довела: за всю неделю была с ним от силы два часа, улыбалась каждому встречному-поперечному, любой пархатый журналист ей важнее и нужнее, чем он, как будто он тут вообще ни при чем, а если никакого продюсера рядом нет, то, извини, я тебя люблю, но ничего не могу, уже сплю.
В конце концов Рома и в Питер полетел как бы не за Машей, а просто по инерции — не голубей же ему тут кормить. И, зайдя в квартиру, он не кинулся сразу искать следы Машиного возвращения, а обнаружил их — чашку с недопитым кофе, запачканную пепельницу — только после того, как старательно содрал с сумки все бирки и, смяв их в липкий комок, стал искать свободный пакет. Все это время — с того момента, как он вернулся в уже полупустой номер, до того момента, когда он, сев на незаправленную кровать, стал набирать Машин номер, — Рома твердил про себя обвинение за обвинением. Количество томов в виртуальном деле «Евгеньев против Региной» множилось и множилось. Присяжные в умилении теребили платки. Обвиняемая, коварно завладев сердцем истца, манкировала любовным чувством, заигрывала с другими мужчинами, проявляла непростительную невнимательность, ставила профессиональную реализацию выше семейных обязанностей этсетера, этсетера, этсетера. На основании изложенных фактов прокурор требовал признать Регину виновной в остывании любовного чувства и назначить ей наказание в виде исправительных работ по начатию всего с начала — прокуроры, да, косноязычны.
Шутки шутками, но, случись и впрямь беспристрастному наблюдателю разбирать это дело, Машиному адвокату пришлось бы туго. И не только потому, что мнение суда всегда охотнее склоняется на сторону обиженного мужчины — равноправие ведь существует только на бумаге, которая терпит любую ересь; в действительности равноправие означает лишь равновесие любви, — но и потому, что как раз равновесие-то Машиной с Ромой любви было безвозвратно нарушено, и отрицать это значило бы лгать под присягой. Равновесие, о котором идет речь, всегда равновесие неустойчивое, так что искусство любви в этом смысле схоже с искусством клоуна, удерживающего на собственном носу на потеху детям большой цветной шар. Со стороны падение этого шара представляет собой одно неделимое событие, но клоун-то знает, что окончательному падению предшествует замирание сердца и шум в ушах. Рома слышал этот шум каждый раз, когда они были наедине и Машин взгляд ни с того ни с сего останавливался, когда она скучнела посреди ничего не значащей болтовни, восторженность которой естественна только между влюбленными и пьяными. Он видел, что внутри нее идет какая-то работа, к которой он не имеет никакого отношения. Сердце его замирало, когда на его шутки: Регина, ты так много матом ругаешься, как ты детей будешь воспитывать? — она так же шутя отвечала: ну вот ты и будешь воспитывать, тоже мне идеал современника нашелся.
Стучит молоток, судья объявляет перерыв, Рома слушает длинные гудки в трубке, набирает снова и снова, в зале суда становится тихо, и, пока Рома дозванивается, можно успеть рассказать еще кое-что.
В бешенстве кидая в чемодан носки вперемешку с визитками, впихивая футболки так, чтобы склянки с косметикой не бились о коробку с медалью, чуть успокоившись в аэропорту (возня с заменой билета и уважительная радость таможенников подействовали терапевтически) и наконец уже в полудреме подлетая к Пулково, Маша наверняка знала, что будет звонить А. А. Она не собиралась навязывать ему роль психоаналитика, нет, А. А. просто был единственным человеком, которому не стыдно было бы похвастаться символической тяжестью своего чемодана. Впрочем, самой себе она объясняла желание позвонить А. А. путанее: он все равно узнает про нее, и ее звонок будет знаком, что она и не думает зазнаваться. Она собиралась набрать его номер сразу по приезде, но еще в такси, которое мчало ее в Марко Поло, ей пришла в голову история про безымянную женщину и троих мужчин: она выбирает между ними, думая, что выбирает себе судьбу, но в сущности выбора у нее нет. В самолете, прикрывая блокнот ладонью от любопытных взглядов старушки с крашеными волосами, она вдруг поняла, что это и есть ее новый сценарий и что в общих чертах он готов.
Поэтому, прилетев в Питер, она запаслась сосисками-апельсинами-кофе-сигаретами (слава богу, хоть в этой стране все магазины не закрываются, как один, в восемь часов вечера) и двое суток просидела с бумагой и карандашом. Только на третий день, почувствовав, что любое написанное на бумаге слово вызывает у нее раздражение, Маша набрала номер А. А. Он ответил мгновенно, как будто все эти два дня только и делал, что пялился в телефон.
Квартира на Третьей линии страшно изменилась. Когда-то она производила такое впечатление, будто здесь живет аккуратная и незаметная женщина. Теперь это была квартира одинокого и несчастного мужчины. У стен на полу стояли батареи бутылок, между ними дрожали клубы свалявшейся пыли, пепельницы были полны, на кровати лежало серое, очевидно с месяц не менянное белье, на столах вповалку сложены были пустые пачки из-под сигарет, книги, бумажки, квитанции, какая-то компьютерная рухлядь. Воздух был старый, тяжелый. В туалете журчала вода. Сам А. А. был небрит, на его рубашке не хватало пуговиц, возбужденный взгляд одновременно извинялся и как бы говорил ну и что такого, подумаешь. Разглядев его в полумраке, Маша вдруг поняла, что этому человеку уже почти сорок лет.
Такие вещи не случаются вдруг. Когда Маша на кухне все-таки не выдержала: что это у тебя с чашками стало, — имея в виду все, не только чашки, А. А., конечно, понял, о чем она, и было видно, что ему неприятно вспоминать, что когда-то вся посуда у него сверкала естественной белизной, но взявшейся вымыть хоть две чашки Маше он сквозь шум воды пробубнил, что вроде в порядке все. Маша не расслышала, и А. А. не стал повторять. В конце концов, вот так вот взять и объяснить это было невозможно. Вроде бы все это время он каждый день жил так же, как предыдущий. Читал, писал, готовил лекции, принимал гостей. Незаметно гости становились все старше и среди них было все меньше женщин. Готовить лекции становилось все проще и все ненужнее. В работе все чаще можно было отключить голову и писать по придуманной много лет назад схеме. Сорта сигарет становились дешевле. Маша отказалась от портвейна, А. А. с сожалением достал чайные пакетики. Он говорил, что стал теперь старый, что раньше девушки иногда заходили, что он не ждал ее, Маша слушала про то, что все у него то же самое, корябаю что-то, а что — бог знает, и зачем, — но по его нервному взгляду, по прыгающим пальцам она видела (сначала подумала, уж не трубы ли горят, но потом поняла — нет, дело в другом): есть еще что-то, чего А. А. не говорит, но вот-вот скажет — ты вообще-то очень вовремя позвонила.
Опять Маше пришлось почувствовать что-то вроде вины: все-таки любовь его к рыжей старшекласснице была чрезмерна. Неизбытая обида высосала из его жизни сок радости. Слушая А. А. — что так за все это время у него никого по-настоящему не было, что пробовал он жить с кем-то просто из необходимости с кем-то жить, но ничего не получилось, слишком уж противно, люди вообще довольно противные существа, только любовь ставит все с ног на голову (А. А. шутит, шутит), — Маша чувствует, как погружается в ужас от того, что прямо перед ней, здесь, совершается, уже свершилось, таинство смерти человеческого в человеке и что она тому виной, только не надо ля-ля, он все-таки взрослый мальчик. В конце концов, когда А. А., все так же шутя, потому что нельзя же такие вещи говорить всерьез человеку, которого не видел много лет, хотя, да, именно этому человеку ты и хотел бы все это рассказать, говорит, что от всей этой бессмыслицы он снова начал встречаться с женой, бывшей, но и она так никого себе и не нашла. Собственно, началось это случайно, случайно встретились в очереди в магазине, не могли ж они сделать вид, что не знакомы, стали спрашивать друг друга, что да как, так вот, все как в молодости — гости, и как-то так получилось, что оказались в постели, нет, она тоже не специально, и вот, самое дурацкое — что она, кажется, беременна, тридцать пять лет тетке. А. А. закуривает, а Маша говорит ему, что не выдержит больше у него тут и что пусть он моется-бреется и пойдем посидим куда-нибудь, только оденься хоть по-человечески.
А. А. пытается отговориться — денег нет, — Маша нагло отвечает: зато я нынче не бедствую, давай-давай, я пока почту проверю, — и ему приходится мыться и бриться, потому что ему все-таки хочется услышать, что она думает по этому поводу, хоть он и знает, что это абсолютно ничего не изменит.
Когда Рома раз за разом набирает Машин номер, она видит, что он звонит, но выключает звук: они с А. А. уже сидят в странном ресторане с китайской кухней и караоке, и ей не до объяснений, где она и с кем. То, что было невозможно в прокуренной квартире, под звук льющейся в неисправном унитазе воды, стало возможно на вечереющем Большом, по которому они медленно шагали, иногда ударяясь ладонями, — так, как десять лет назад: между ними вдруг снова побежал ток общего языка. В пятничный вечер машины едва успевают парковаться у торговых центров, Большой кишит шумными компаниями, Шестая-Седьмая линии пахнут пивом и табаком, Средний сверкает витринами. Маше приходится иногда кричать, чтобы А. А. услышал ее. Конечно, тебе надо жениться, — кричит она, — вы разводились? А. А. качает головой. Тогда тем более. Ребенок — хороший повод. Она сбавляет голос, увидев, как косится на ее последние слова идущая навстречу молоденькая девушка с острым носиком. Маша с трудом находит слова. То, что ей хочется сказать ему, это что на самом деле никакой разницы — возвращаться ему к жене или нет. Дело не в том, что ему уже почти сорок, что к нему в гости перестали приходить аспирантки и что больше такого шанса не будет. Просто если уж он вляпался в этот сюжет, то бежать от него бессмысленно. Он все равно в том или ином виде нагонит его. И может быть, наоборот, как раз так и удастся обмануть его — как ловят рыбу, слегка приотпуская леску. Распространеннейший из аргументов против семьи — нежелание связывать себя — глупейшая вещь: мы с самого начала связаны по рукам и ногам. Выход из этой истории уж во всяком случае не в плоскости событий. Что опустившийся холостяк, что престарелый родитель — картинки одинаково пошлые. Пытаясь объяснить все это так, чтобы вышло не обидно, она сбивается на себя, на свою работу, на кино.
Фильм, над которым уже хохотали кинотеатры всей Европы, А. А. смотрел пока только с компьютера, дрянную экранку, это, конечно, совсем не то, но он и сам рад сменить тему — он не заговаривает больше о своей жене, то, что ему надо было услышать, он услышал. Он не мог думать, что Маша захочет вернуться к нему, но ему нужно было, чтобы она знала. В ресторан они заходят, говоря уже совсем о другом.
А. А. готов был признать, что изобразительно «Минус» точен и прекрасен, что фильм сделан во всем — от волосатиков, которые в переходе у метро поют из Карлоса Пуэблы «de su presencia gigante», до диалогов типа «где этот чертов чемодан?» — «где-где, в пизде!» — «а пизда где?» — «в уме!» (это русский перевод, но нафиг немцам рифма, если они не читали Пелевина?), — что громадная метафора вокзала организует все пространство ленты, что финальная сцена, в которой Макс идет по улице и останавливается у лотка, чтобы купить газету с вакансиями, сообщает всей картине новую глубину, — пока А. А. говорил все это, Маша краснела и теребила пальцы (а что, есть товарищи, которые выслушают все это с холодным носом?), — но он все-таки не мог не сказать, и именно потому, что он не журнальный рецензент, что — но Маша уже и сама знала, что.
Что если убрать из «Минус один» все хохмочки, все тонкие намеки (даже на Толстого — был там в одной сцене мужичок, который сидел в углу и стучал молотком, его еще спрашивали, не пробегал ли тут кто, а он отвечал, что ни разу не видел, чтоб тут кто-нибудь ходил: все бегают), то от фильма останется только голая схема, которая целиком и полностью выдумана из головы. Побег вроде того, что замыслил главный герой «Минус один», это правда, не удается никогда, если не иметь в виду побег по самому большому счету, такой, какой совершил-таки усталый раб — если верить Лотману, — добавляет А. А. И происходит это (уже домысливает Маша) не ввиду каких-то сверхобстоятельств, а наоборот, просто по природе вещей.
Маша как раз отключает звук на телефоне (не то чтобы она не хотела слышать Рому — просто не сейчас), когда А. А. расслабленным голосом говорит, что это же, в конце концов, первый фильм, — в голосе его слышна усталость почти пожилого человека, который вот-вот скажет, что не может, в общем, двадцатишестилетняя девушка сказать что-то о жизни, потому что что она про нее знает, и с этим, конечно, нельзя не согласиться, но одновременно Маша радуется растущему внутри нее протесту: он говорит ей о том, что она все-таки на правильном пути — сделать что-то может только тот человек, который делает что-то, что сделать невозможно.
Рома продолжает звонить, Маша видит, как из глубины сумки семафором мигает телефон, А. А. делает вид, что не замечает; перекрикивая пьяную тетку, поющую в караоке, Маша отвечает ему, что она будет еще снимать, что есть уже предложения, нужно только дописать сценарий, она даже начала уже, десять страниц написала (ловит себя на мысли, что Роме никогда про свою работу не говорит), что это такая история из нескольких новелл про девушку, которая выходит замуж за одного, а потом другая история — как если бы она вышла замуж за другого, и еще раз, — и в конце концов все три истории приводят по большому счету к одному и тому же — бездарно прожитой жизни. Маша и сама чувствует, что пересказывает какую-то глупость, ей хочется объяснить подробнее, про то, что это все та же мысль — нет никакой разницы, что в жизни выбрать, так и так ты окажешься в жопе, А. А. кивает, он все понимает (лезет в карман за телефоном), но ведь это опять схема, видишь, ты уже заранее знаешь все про свой фильм, — последнее он еле успевает договорить, потому что, с удивлением взглянув на номер, отвечает и, сказав в трубку да, пожалуйста, — передает телефон Маше.
Ревнивец — что сотрудник коллекторского агентства: изобретателен и упрям. Набрав Машин номер в девятый раз (загадал девять), Рома уже знает, что Маша с ним, с А. А. (сам потому что в такой ситуации — знал, с кем бы был; да и чем ближе к четвертому десятку, тем меньше остается вариантов). В порыве сомнамбулической уверенности он набирает в поисковой строке социальной сети имя и фамилию, отфильтровывает по году рождения (на восемь лет старше Маши — это она говорила) и из трех вариантов («думай быстрее» — анекдот вспоминается, но не смешит) безошибочно выбирает страницу с искомым номером. Если что, думает, буду телефонный хулиган, — и когда после пяти гудков с той стороны поднимают трубку, спокойно говорит: Машу можно?
В фильме, который Маша все-таки снимет — вопреки сомнениям А. А., да и своим тоже, — будет эта сцена: героиня сидит над пиликающим телефоном и решает, брать ей трубку или нет. Обычно не склонная что-то артистам объяснять (здесь мне нужна радость — а откуда она у нее? — я тебе не Станиславский, просто сделай, как я прошу, только бровями не играй), Маша на этот раз сядет с артисткой в перерыве — в какой момент она понимает, что все кончено? — ну, когда он говорит ей… — фигня, ничего подобного, вот когда над телефоном сидит, уже понимает, чутьем своим, потому что на самом деле все равно даже, возьмет она трубку или нет, уже то, что он звонит ей вот сейчас, — уже значит, что все кончено. Это как оргазм — с какого-то момента, его еще нет, но он неизбежен — чтобы ни произошло… Ничего не поправить, никаким образом… Нам ведь всегда кажется, что пока еще самого страшного не произошло, можно что-то изменить, а она вот в этот момент вдруг — как укол в сердце — понимает, что это иллюзия, и иллюзия страшная — страшная тем, что огромное количество народа умудряется тянуть это состояние годами. Артистка будет хлопать глазами и кивать, и Маша уже после съемок, заворачиваясь в одеяло, как в кокон (в берлинской квартире страшно холодно), подумает, что зря загрузила девчонку, добилась только, что та стала играть понимание, а надо было просто сказать ей, чтобы играла скрытую ярость, вот и все. Потому что обреченность и проживается как тихая бессильная ярость.
Режиссерская ошибка непростительна — сцену придется переснимать, артистку обмануть, — но по-человечески Машу можно понять: не с журналистами же делиться сокровенным — прокручивая в памяти раз за разом пятничный петербургский вечер, Маша обнаружит, что, принимая трубку из рук А. А., она, уже зная, чей голос услышит, знала и то, чем все это закончится.
То ли посели одеяла, то ли Машино тело за время, прошедшее с детства, во все стороны растянулось — закатать себя в непроницаемый кокон не получается, — Маша сползает с кровати и, завернувшись в покрывало, идет на кухню. Кухня пахнет старым дымом, Маша закуривает, чтобы перебить запах, залезает с ногами на подоконник и открывает окно. За окном — крыша старого гаража, и из-под куста, растущего из шифера, сигает в сторону серый котище. Маша видит, как тускло блестят с земли пуговицы его глаз: Мурзик, Мурзик, — зовет, но пуговицы гаснут, и Маша остается одна. Октябрьский ветер шевелит листья, загоняет дым в окно, Маша подворачивает покрывало под пальцы ног, и холод, аккуратно схватывающий ее снизу, приносит ей странное удовлетворение. Через полсигареты ей уже хочется, чтобы так было теперь всегда — открытое окно, холод, сбежавший кот, спиральная струйка из сигареты и темнота.
Кто бы ни был автором Книги Бытия, он был не прав так же, как и автор «Капитала»: труд — не проклятие и не радость, а дар изгнанному из бессмысленного рая пролетарию (потому что любые орудия труда в конечном счете принадлежат Богу), труд — единственная возможность сбежать от экзистенциального ужаса. Маша заставляет — медленно, как будто в киселе — руки и ноги двигаться, приносит на кухню бумагу и карандаш, включает свет и, стиснув зубы, проводит линию. Каждое движение кистью руки мучительно, Маша прикусывает изнутри щеку, чтобы боль отвлекала от порывов свернуться в комочек и плакать. Постепенно — по мере того, как из белизны листа проступают черты лица, — Маша приотпускает щеку и наконец забывает про нее. Руки наливаются кровью, Маша хлопком закрывает окно, ставит вариться кофе и переходит за стол, сдвинув в угол немытые чашки.
На бумаге жирует лето. Свисают с деревьев налитые зеленой кровью листы, вздыхает в окне занавеска, на скамейке пахнет под солнцем лак, удерживая полы халата, сжимает колени старуха, из кармана она выуживает семечки и одной рукой отправляет их в рот, а другой — роняет вниз, где в пыли топчутся и гомонят голуби со злыми глазами. Маша раз за разом стирает старухе глаза и рисует их заново, пока не находит правильные — пустые, как стаканы с оставленным накануне на дне чаем.
В восемь утра Маше нужно быть на площадке, а в пять она доползает до кровати, чтобы хоть немного успокоиться. На кухонном столе остается запепленный лист со старухой. На обороте набросаны несколько сцен следующей картины.
Перед тем как проснуться от настойчивых звонков ассистента (будильникам она уже давно не доверяет), Маша видит сон про новое поколение мобильных телефонов, в которых стоит принять вызов — и вызывающий немедленно оказывается тут. Звонит Рома, Маша настойчиво жмет отбой, но — то ли кнопка заела, то ли конструкция телефона не предполагает такой функции — понимает, что Рома вот-вот будет тут, она ничего не может сделать и в бессилии дергает рукой.
Сон этот следует интерпретировать как подавляемое страстное желание вернуть Рому — конечно. Но нельзя не заметить, что он в каком-то смысле воспроизводит ситуацию полуторагодовой давности — в китайском ресторане с караоке, где Маша принимала телефон из рук А. А. с чувством игрока в пинбол, который прекрасно знает, что как бы то ни было, шарик вернется к воротам, если уж не пропадет там, где в еще более символичной игре — игре в классики — под финальной дугой дети пишут «огонь».
А было это так. Маша взяла трубку и три раза ответила «да» на три дурацких вопроса: ты в Питере? с А. А.? пригласишь? Рома приехал через полчаса. К тому времени Маша с А. А. уже успели перейти к пустой болтовне, смысл которой примерно как в игре в подкидного дурака — валет смешной истории из жизни побивается королем свежего анекдота, а выигрывает в результате тот, у кого на руках больше тузов общих воспоминаний. Выигрыш, впрочем, ни там, ни там никому не нужен — важно перебирать карты в руках.
Трясясь через полгорода в вонючей «восьмерке» в сторону моста Лейтенанта Шмидта, Рома думал, что едет наконец все выяснить до конца. В фантазии его он входил в кафе, где А. А. обнимал Машу, и предлагал А. А. выйти. Или, выпив рюмку водки, он вытирал губы тыльной стороной большого пальца, а потом спокойно сообщал Маше, когда она может забрать вещи. Маша оправдывалась, он принимал оправдания. Или не принимал. Но, войдя в пахнущий свининой ресторан, он попал совсем в другой темпоритм: Маша с А. А. были расслаблены, как оставленные без внимания улитки, улыбались ему, А. А. протянул руку (пришлось пожать), налил рюмку.
Глядя на усаживающегося напротив Рому, как он держит меню, как закуривает, как неловко задевает сигаретной пачкой полную до краев рюмку (А. А. тянется через стол подложить салфетку), Маша видела, что: Роме хочется сцены в достоевском духе, швыряния пачек в камин, полуторастраничных стилизованных диалогов, катания на тройках и эпилептических припадков — но Маша при всем желании не в состоянии была Роме подыграть. И не потому, что у нее не было сил, — напротив, она чувствовала, что сейчас могла бы хоть бородинское сражение снять (обманчивое ощущение, которое дарят нам легкие наркотики, к числу которых относится и алкоголь), — а потому, что ей было слишком хорошо, свое состояние абсолютного совпадения с происходящим она не готова была променять ни на какие определенные блага.
Минутная неловкость с пролитой водкой, заминка с выбором закуски (возьми свинину, мы ее только что ели, очень ничего, — Маша тычет пальцем в меню), за знакомство, Рома все еще мучительно искал повод спросить, что происходит, но А. А. уже вспомнил, как ведутся светские диалоги: я тут на днях был на выставке в музее фотографии…
Официантка тащила свинину, чуть не опрокинул их, пробираясь к караоке, толстяк с болтающимся на груди галстучным узлом, Рома распахивал руки (фотография — искусство времени! времени, а не того, что человек думает своей головенкой!), А. А. наливал еще по одной, Маша испытывала странное чувство, как будто в ней появился кто-то третий. У нее было тело, которое чувствовало себя хорошо, была сама Маша, которая договорилась со своим телом отложить свои дела на потом, и был теперь кто-то третий — он следил за происходящим посредством отверстий в Машиной голове и с высокой колокольни плевал на все, что происходит, он просто наблюдал.
Русские мальчики добрались уже до смысла искусства (то, что мы вычитываем из произведения искусства, и есть идея, сознательно она вложена или нет, и если нечего вычитать, то зачем нужно такое произведение? — да ведь может же быть просто красиво! — в том-то и дело, что не может!), толстяк засовывал галстук в карман, он нашел в караоке, что искал, и, повернувшись к своему столу, косил глазом в экран. Третьего в Маше сейчас больше всего интересовал именно он: понятно было, что он не успевает, и придется ему подхватывать — бви все возрасты покорны… По мере желтения букв на экране он пел: безу-у-умно я люблю Татьа-ану, — раскрывал при этом рот, будто приподнимал крышку унитаза, и подвывал, как фановая труба, левую руку то прижимал к расстегнутой рубашке, то протягивал к Татьяне, которая прятала крашеный хохочущий рот в ладонь, а кто-то хлопал ее по спине и показывал исполненному оперной страсти толстяку шутливый кулак.
И в то время как Машин обожженный водкой язык разминал горячую свинину, в то время как сама Маша пыталась вспомнить, сводят ли уже мосты, третий внутри Маши странным образом наслаждался беспримесной пошлостью происходящего. И противоестественное наслаждение этого третьего мешалось с Машиной досадой — мосты все-таки разведены.
Не будет большим преувеличением сказать, что этот третий и был той силой, которая сразу после разрыва с Ромой толкнула Машу в работу на износ. Подписывая в Москве контракт на десятисерийную «Большую Якиманку», Маша меньше всего думала о гонораре (и, надо полагать, именно поэтому он не был такой уж заоблачный, каким рисовало его воображение озабоченной такими вещами общественности), — ей важно было ничего не ждать, начать снимать уже завтра, так что, пролистав сценарий, выбив себе право его по ходу дела, если потребуется, подправить, она получила аванс, сняла квартиру и почти полгода прожила в ней, на Никитском, засыпая на два-три часа утром, целыми днями снимая, монтируя, озвучивая, по вечерам переписывая сценарий следующей серии, а по ночам сочиняя сцену за сценой «Любовь к трем козлам» — таково было рабочее название «Save».
Работа нужна была ей, как опустившемуся алкоголику нужна с утра настойка боярышника, — иначе пришлось бы остановиться и посмотреть с холодным вниманьем на то, что ей уже почти тридцать, что она предала своих родителей, разбила жизнь двум мужчинам, сама при этом мучается одиночеством и пока еще не сняла ничего такого, за что ей не было бы стыдно по самому большому (не сказать гамбургскому, чтобы не вспомнить А. А.) счету. Летом ее еще пытались социализировать на студии (Мария Павловна, у Люды день рождения сегодня, у гримера… — о’кей, закончим на час раньше — нет, я не к тому, мы вас приглашаем…), но после того, как раза четыре подряд Маша отказалась, стараясь делать доброжелательное выражение лица, ссылаясь то на усталость, то на дела (может быть и у меня личная жизнь), ее перестали дергать, за спиной прикладывая палец к виску (вы видели ее улыбку?), но уважительно: талант!
Идиотская история про менеджеров среднего звена, про их любовь-морковь, про их наркотики, про их офисную тоску (почему-то в руководстве канала решили, что мсз очень хотят посмотреть на себя в телевизоре) превращалась в Машиных руках в десяток новелл о людях, которые, как беспокойные мухи, запутались в паутине, принятой ими за взрослую жизнь. Я понял, что жизнь рулит только до восемнадцати лет… — говорил один из героев так, будто выносил на суд людской последнюю правду об этом мире, и, да, в общем, это и было то, что Маша думала про московских мальчиков и девочек, на полном серьезе решивших, будто мрачный бог торговли в обмен на десять часов жизни пять дней в неделю подарит им вечную молодость в пятницу вечером.
Уже потом, когда Маша за три часа до самолета в Берлин давала интервью симпатичному молодому человеку с какого-то культурного сайта (мальчик, откапывая в рюкзаке диктофон, выложил на стол кафе в аэропорту «Силу взрывной волны» — Секацкого читал когда-то А. А., и Маша, не задумываясь об этом специально, была с мальчиком чуть более откровенной, чем обычно) и он спросил ее, не жалко ли, что не дали доснять сериал, она честно ответила, что нет, не жалко — я думаю, что в этих четырех сериях я все, что могла сказать о проблемах офисной жизни, сказала, не знаю, что еще можно было бы добавить, да и на самом деле не такая уж это большая проблема, нечего там растекаться мыслью по древу. От прямого вопроса, почему съемки прекратились, Маша отвертелась. Она могла бы рассказать, как ее пригласили в кабинет с видом на Кремль и сказали, что разочарованы получившимся продуктом (от одного этого слова Машу замутило), что сериал задумывался как комедийный, зритель нас не поймет, а мы ориентируемся прежде всего на зрителя, — и, может быть, она так и сделала бы, если бы и впрямь чувствовала себя обиженной, но на самом деле ей было все равно. Там, в кабинете, она просто промолчала, потому что буквально накануне получила письмо из Берлина, но самоуверенному парню, постоянно поглядывавшему на свои часы и в окно, как будто он хотел сверить свои по тем, которые на башне, она ответила в кафе, под диктофон. Нет, она не думала о зрителе, когда снимала. Это вообще порочная идея — ориентироваться на зрителя. Нужно просто максимально честно и абсолютно всерьез снимать то, что ты думаешь и чувствуешь. Люди ведь не так уж сильно отличаются друг от друга, в конечном счете мы все находимся в одной и той же заднице — что директор филиала, что кассирша. Когда говорят о необходимости ориентироваться на зрителя, имеют в виду, что надо ориентироваться на человеческую лень и глупость. А лени и глупости во всех нас и так полным-полно, их не надо дополнительно стимулировать. Ну, то есть мне не надо — может, кому-то и надо.
Четыре серии «Большой Якиманки» показали через полгода в ночном эфире, но еще раньше они разошлись по сети, и фразами из них перекидывались друг с другом тысячи молодых людей по всей стране: ну что тебе пожелать? самых дорогих машин, самых красивых мужчин! (девочка, игравшая секретаршу Эльвиру с разноцветными ногтями, вообще была хороша, но эта сцена удалась ей особенно), гуляли по набережной, видели яхту Абрамовича, сфотографировались или с собакой целуется, поди ты, с людьми-то противно!
Третий, мучивший Машу своим безразличным любопытством, был с ней и на съемочной площадке на Мосфильмовской, и в кабинете ориентирующегося на зрителя молодого человека с часами, — он вообще теперь почти не покидал ее. Только тогда, когда она брала под мышку лэп-топ и спускалась на Новый Арбат, чтобы, забившись в угол пластикового кафе, выдавить из себя несколько строк своего сценария, — не каждый раз, но иногда, — ей удавалось заставить его исчезнуть — впрочем, вместе с ним исчезала и сама Маша, и ее тело, а оставалось только неясное жужжание фраз, из которого кто-то-вместо-Маши пытался за хвост выхватить самую нажористую.
Сценарий «Любви к трем козлам» — фильма, который в конечном счете решено было назвать «Save», потому что при чем тут Гоцци с Прокофьевым, — Маша написала за три с половиной месяца, перевела на немецкий еще за две недели, но, отправив файл в Берлин, на этом не остановилась. Дело было даже не столько в тайной уверенности, что сценарий примут (Маша видела все его недостатки, и все же он был неплох), сколько в том, что без еженощного самоистязания бессонницей она уже не могла — и, заливаясь кофе, она чиркала лист за листом, прорисовывая сцены будущей картины.
В Берлин Маша улетала с огромной папкой рисунков. Мальчик-журналист поглядывал на прислоненную к стене папку и наконец не выдержал: вы рисуете? — Да, — не задумываясь ответила Маша, — это, по правде говоря, мой основной заработок — на полотнах старых мастеров я рисую всякую белиберду и переправляю через границу.
Диктофон был уже выключен, мальчик вызвался проводить Машу до зеленого коридора: строй янычар зеленых, — пробормотал он (блеск начитанности пропал втуне — Маша не узнала цитаты) и, прощаясь, все не мог уйти. Ну давай, у меня есть еще минут десять. Мальчик поправил рюкзак на плече. Вы… ты совсем туда валишь, да? Маша рассмеялась. Вечный вопрос русской интеллигенции валить или не валить ей уже однажды приходилось обсуждать — с А. А., когда она ехала сдавать экзамены в HFF. От А. А. она тогда впервые услышала ритуальные мантры про закат Европы и про константин-леонтьевское вторичное упрощение, впрочем, в исполнении А. А. появлялся дополнительный обертон: на самом деле в этом ведь есть красота, за которую так ратуют они все (А. А. махал рукой в сторону их всех) — нужно увидеть красоту этого жеста: Архимед, который не говорит noli tangere, а подводит вооруженных варваров к своим кругам, чтобы прочесть последнюю в своей жизни лекцию, — круто, круто… Тогда Маша сделала вид, что поняла, но поняла только потом: А. А. таким образом смеялся над ней. Вспомнив тот разговор, Маша смеялась теперь сама, рискуя обидеть мальчика, но не стала ничего говорить ему про Архимеда, а сказала просто: совсем можно только сдохнуть, чувак, — и, подхватив папку, двинулась под зеленую табличку. Интервью, которое Маша прокрутила потом на культурном сайте, так и называлось: «Совсем можно только сдохнуть».
Прилетев в Берлин так же, как когда-то в Кёльн, в рождественское столпотворение, Маша испытала тот самый когнитивный диссонанс, о котором знать не знали ее герои из «Большой Якиманки», — с той разницей, что они не могли позволить себе «порше», а ей пришлось считать монетки и отказываться от глинтвейна на Гендарменмаркет. Она нашла русского юриста, показала ему договор, который полгода назад не глядя подписала, и тот обругал ее дурой. В белом, как кабинет стоматолога, офисе в полупустом здании с окнами на s-Bahn юрист ходил, сложив ладони треугольником, и прикидывал, как решать вопрос. Маша прислушивалась к звукам здания — говорила в трубах вода, стонали двери, спорили друг с другом каблуки, — и еще прежде, чем юрист разбил пополам свой треугольник, будто выпуская на воздух какого-то джинна, Маша поняла, что она вообще не хочет решать вопросы, а просто хочет денег. Белый, как кабинет стоматолога, офис явно не был тем местом, где их можно было достать.
Причинно-следственные связи только на первый взгляд кажутся неисповедимыми. То, что в «Save» на одной из ролей появился Петер, было прямым следствием того отвращения к вопросам, которое Маша испытала, глядя на граффити по ту сторону железки. Выйдя из офиса, она немного подумала, поняла, что другого выхода у нее нет, — и позвонила Петеру. Встретившись с Машей вечером в битломанском кафе у Zoo, он, ни слова не говоря, вышел к банкомату и принес ей десять бумажек по пятьсот евро. Понятно, что после этого не предложить ему роль она не могла.
В ожидании, пока на студии готовы будут подписать договор (каждую неделю по телефону ей придется слушать, что на этой неделе не получится, зато на следующей наверняка, sei sicher), Маша проведет два месяца. Она будет спать до вечера, слоняться по улицам, дочитывать книги до половины, ходить в кино на голливудские картинки, есть сосиски с карри в подземных переходах, сидеть в интернете до ломоты в пояснице, даже начнет ходить по музеям и вечером пить в барах пиво и кофе с лимоном, а напившись, трясти сиськами на танцполе (удивляясь поначалу, почему не пристают, но потом поняв: нет, не политкорректность, просто она всех пугает), возвращаться домой в семь утра, на виду у оседлывающих велосипеды соседей слизывая с горлышка последние капли выдохшегося пива, — все это время Машин третий будет наблюдать за ней, молчание его будет становиться все насмешливее, а сама Маша начнет как будто уходить куда-то, ее будет все меньше и меньше, и иногда ей будет казаться, что это она глядит уже в маленькую щелку за тем, что ее глазами видит ее третий.
В начале марта ей позвонит Петер и спросит, как дела. Маша скажет, что денег нет. Петер помолчит и скажет, что он не об этом — как у нее дела. Маша промолчит. Тогда Петер приедет к ней. Маша будет сидеть на подоконнике и курить, Петер — сидеть на стуле и переводить на нее взгляд с раковины и пола. Грешным делом Маша подумает, уж не приехал ли он получить по счету, и начнет прикидывать, сколько ей придется спать с ним за пять тысяч. Но Петер, не зная, куда девать ладони, будет молчать и спросит только, что там на студии. Маша скажет, что они все дырки от задницы. Уходя (еще в магазин надо успеть, — Маша подумает: ну и отговорочка), Петер замнется у двери и скажет Маше, чтобы она потерпела и, это, ну, в общем, заняла себя чем-нибудь. Только когда через неделю Маше позвонят и попросят приехать подписать договор (вы можете сегодня?), она, кинув телефон в диван, поймет, зачем приезжал Петер. И когда через три дня, уже после того, как ей переведут часть гонорара, она спросит его: ну так что, значит, мне не могут дать снять фильм, пока ты не похлопочешь? — он не станет отпираться, а скажет так же, в шутку: ну слушай, я же хотел получить назад свои деньги.
Включаться в работу будет тяжело. После первого дня — под прицелом четырех пар внимательных глаз ей придется выжимать из себя, сколько дней отвести на кастинг, а сколько — на натуру, свой голос Маша будет слышать как будто из-под воды и за поворотами своего языка следить, как будто за каким-то поселившимся во рту моллюском, — она вернется домой, вскроет банку пива из холодильника, выльет ее в раковину, бормоча по-русски нахуй, нахуй. Вместо того чтобы лечь спать, Маша достанет бумагу, разложит ее на столе и несколько часов просидит над листом — она будет есть свои щеки, бить себя по голове, пить кофе, жалобно стонать, но так и не сможет нарисовать ничего, кроме квадратиков, стрелочек и треугольничков. Зато когда она проснется на следующее утро, она почувствует свои руки своими, а не чьими-то еще.
Назавтра Маша скажет группе, что вчера была не в себе, что они неправильно все спланировали, и перекроит график съемок так, что на каждый день придется едва ли не в два раза больше работы. Она сделает это специально, чтобы, возвращаясь на Фридрихштрассе, падать от усталости в постель, не в силах даже кинуть яйцо на сковородку, она будет пить яйца сырыми (как в детстве — разбивая в блюдце, всыпая перец и соль), размешивать вилкой и поглощать, недоразмешав.
В день, когда Маша будет объяснять девочке-актрисе про телефонный звонок (девочку, она настояла, взяли почти дебютантку, чтобы денег хватило заплатить Петеру, — хотя, конечно, Маша не могла не понимать, что, дай она волю своей наглости, Петер снялся бы и почти бесплатно), в этот самый день не прилетит в Берлин из-за беспокойного вулкана партнер девочки. Съемки придется остановить, группу отпустить, и Маша останется в пустом полутемном павильоне, не понимая, что происходит и что ей делать. Петер, зайдя в павильон за забытым пиджаком, постарается удивиться и скажет Маше то единственное, на что она не сможет огрызнуться: мой бог, босс, ты же ела последний раз полгода назад — поехали скорей что-нибудь слопаем, — и отвезет ее на своем демонстративно стареньком «мерседесе» в то самое битломанское кафе.
Ночью после этого ужина у Маши сложится сначала в воображении, а потом на листе бумаги образ следующей картины. Пытаясь понять, как это получилось, Маша будет успокаивать себя тем, что вот же она сегодня впервые не выдохлась как бобик, что, объясняя девочке-артистке про телефон, невольно воскресила в памяти волнение питерского пятничного вечера, что потом, сидя с Петером в кафе, думая о том, что неужели же он и впрямь влюблен в нее — настолько, чтобы даже молчать об этом в тряпочку, — тоже невольно взволновалась, вообще вспомнила про эту сладкую одурь, разозлилась (что злость — лучшее топливо для останавливающихся рук, — разумеется), — но что-то будет свербеть в памяти, какая-то заноза, давая понять, что это не все.
Маша не вспомнит, конечно, но в том и наше преимущество перед героиней, что мы знаем про нее (или, во всяком случае, про ее историю) чуть больше, чем она сама. В действительности дело было так. Петер кивнул официанту, как старому знакомому, заказал что-то из меню (говяжий стейк well-done «Wait», морепродукты «Every Little Thing», на десерт «A Taste of Honey» и тому подобное), болтал, сплетничая про каких-то мельком виденных на студии людей, пил пиво, позволял себе долго смотреть на Машу, только когда она отворачивалась к плазменной панели, потом, чтобы не умолкать, затрещал про героев заведения (вот этот фильм, который крутят на экране, был снят в Лондоне в 1969 году, и самое смешное, что на премьере никто из битлов не был! — Маша не видела, что тут смешного, но усмехнулась) и не переставал трещать до самого конца, когда они, расплатившись (это все равно, но если хочешь, заплати за себя — за себя не буду, давай тогда уж поровну), споткнувшись о стул, извинившись перед толстым байкером с Maß’ом и наперстком водки, пошли к выходу, и когда Петер распахивал перед ней дверь, с экрана как раз донеслось: «When i find myself in time of trouble…»
Те же самые клавиши Маша слышала полтора года назад в Питере. Они все трое были уже пьяны до бессмысленного возбуждения, когда толстяк с засунутым в карман галстуком снова пробрался к караоке и, еле попадая микрофоном в рот, не зная слов, не успевая за желтеющей строчкой, стал выть в сторону своей избранницы лэт ит би, лэт ит би, спикинг уордс оф уиздом, я в классе лучший по английскому был, лэт ит би, лэт ит би…
Они вышли из китайского ресторана, заткнув караоке входной (выходной) дверью, и через три шага очутились в светлой ночной тишине. Молча дошли до Третьей линии, А. А. стал зазывать к себе, мол, постелет им в гостиной, чтобы не дурили головэ (так на псковщине говорят? — подмигнул), — и очень может быть, что это подмигивание и сделало ночлег у А. А. окончательно невозможным. Рома громко и четко сказал, что спать не хочет, что они с Машей погуляют, подождут моста. Маша посмотрела на А. А., прикрыла глаза, и тот, попрощавшись, качнувшись, исчез в парадной.
Молчание, повисшее по исчезновении А. А., Маша переживала мучительно. Ей ясно было как два пальца, что единственное, что нужно Роме, это любой повод, чтобы начать выяснять отношения. Маша испытывала отвращение к этому виду общения, но есть вещи, на которые, как на рекламную рассылку при регистрации на сайте, подписываешься, когда говоришь я тоже люблю тебя, — и чтобы облегчить Роме задачу, она спросила его, как он догадался, что она с А. А.
Следующие несколько часов, шагая по проезжей части линий, присаживаясь покурить на облупленные черные оградки палисадников, заходя в круглосуточные за пивом, они выясняли отношения. Они змейкой между Большим и набережной прошли до Шестнадцатой и вернулись к мосту, успев с десяток раз проиграть один и тот же набор ходов от реши наконец, что для тебя важнее, до если так, то нам лучше расстаться.
Когда они подошли к сфинксам, до сведения оставалось полчаса, Рома навыяснялся отношений всласть, опьянение его перешло в стадию полной гармонии с миром, они остались у сфинксов ждать и открыли последние банки с пивом. Вода была спокойна.
В устрашающей тишине скрипел Ромин голос, Рома просил прощения, говорил — завтра проснемся — и как будто не было ничего, позавтракаем, и все пройдет. Маша молчала, молчала — мы с тобой ходим по кругу, ходим по кругу. Знаешь, где ходят по кругу? в тюрьме. Глотала пиво, смотрела в воду, трезвела. Рома говорил: давай заведем ребенка.
Небо успело стать нежного розового цвета, загорелись купола и шпили, Афина торжественно протягивала вперед сверкающий лавровый венок, остатки бледной ночи зацепились за уголок Румянцевского сада, шелестели первые машины, на той стороне Невы вспухал Исаакиевский собор, томно изгибался Сенат, неподвижно сидел на коне Петр, — и Маша вдруг с проникающей ясностью ощутила, как это не она смотрит на них, а они — памятники, дома, храмы, вода, ступени, мосты, прорези облаков, кариатиды и эркеры Английской набережной, еле угадываемые фигуры на крыше Зимнего, всплывающий из-за Адмиралтейства Ангел — весь этот неподвижный, холодный с ночи камень смотрит на них, на пьяного бормочущего Рому и на трезвую, страшно уставшую Машу, чьей мере безразличия к происходящему могли бы позавидовать сфинксы «из древних Фив в Египте».
Рома гладил ее по лежащей на колене руке и говорил я люблю тебя. Маша молчала и вытряхивала в запрокинутую голову остатки пивной пены. Ну что, ну что не так, что ты молчишь, скажи что-нибудь. Маша поставила банку в угол ступени и поднялась: сейчас сведут, давай машину ловить.
В квартире Рома стал раздевать Машу, искал икающим ртом ее губы, мял грудь, толкал к кровати — Маша отбросила его и ушла на кухню, поставила чайник. Рома пришел на кухню, привалился плечом к косяку и протянул тела твоего прошу, как просят христиане: хлеб наш насущный дай нам днесь! Мария, дай! Маша не узнала цитаты и ответила на автомате — так, как говорили в детском саду: дай уехало в Китай.
Несколько часов Маша проспала на кухонном диванчике, утром покидала в чемодан все, что хотела забрать с собой, положила ключи на стол, оставила дверь прикрытой. Еще два пролета она слышала удаляющийся Ромин храп.
Горизонт событий
«Save», снятый, смонтированный и озвученный за пять с половиной месяцев (Маша воевала с артистами, ссорилась в хлам с продюсером, литрами заливалась кофе в монтажной), был фильмом про девушку, чью жизнь в один из узловых моментов — выбор между тремя мужчинами: кому сказать «да»? — удалось сохранить, как компьютерную игру. Сюжет прослеживал ее судьбу до первого коллапса (взаимная ненависть, ты мне всю жизнь испортила! — посмотри на себя, кем ты стал!), и тогда срабатывала кнопка «вернуться к предыдущему сохранению». Героиня выбирала другого, переживала новый коллапс и снова возвращалась, чтобы выбрать третьего и потратить третью жизнь на то, чтобы прийти к очередному коллапсу. Game over. В фильме снимались. Маша, никогда не игравшая в компьютерные игры, знала наверняка, что и они всегда заканчиваются теми же credits.
Как раз после выхода «Save» Маше и пришлось давать интервью «Diva» и объясняться по поводу гомосексуализма: оголтелые тетки решили, что кино это — про них, про то, что не нужно выбирать между мужчинами, про то, что они все козлы. Отвечая на вопросы пятидесятилетней дамы с масляными мужскими глазами и фиолетовым бобриком на голове, Маша поразилась, как превратно может быть понята ее простая мысль: дама мягко требовала тех ответов, которые заранее решила услышать (…но ведь вы не вывели в фильме ни одного положительного мужского персонажа, почему?), и так, кажется, и не поняла, что фильм, который ей так понравился, был про невозможность другого сценария в принципе — ни с женщинами, ни с мужчинами, ни с зелеными человечками.
С какого-то момента (момент этот нельзя ни предугадать, ни осознать в настоящем, только вспомнить о нем, точно так же, как момент взрыва человеческой жизни, Big Bang послеродовых криков всегда уже был), так вот, с какого-то момента человеческая жизнь неизбежно начинает схлопываться, преодолеть гравитацию смерти уже невозможно, что бы ты ни делал, какие бы кнопки ни нажимал, сингулярность полного и окончательного одиночества неизбежна, а угадать, что этот момент уже в прошлом, можно по все ускоряющемуся спиральному вращению одних и тех же событий, мест, дел, связей и лиц (в этом, кстати, секрет эффекта «большой деревни» — города, Европы, всего мира) — и именно поэтому нет ничего удивительного в том, что Рома, подрабатывая на одном из вечных ленфильмовских сериалов, однажды на площадке услышит, как артистки обсуждают «Конец игры» Региной, и одна из них, небрежно откидывая волосы за ухо, скажет: Регина? я с ней в школе училась, — все взгляды оборотятся к ней, но Даша (surprize!) будет смотреть прямо на Рому, потому что вообще-то этот брутальный оператор ей сразу понравился.
Пройдет совсем немного времени, прежде чем, лежа в постели, он — с сигаретой, она — с полотенцем между ног, они будут удивляться, как это так получилось, что вот они вместе — он, проводивший Машу до школы, в которой она училась вместе с Дашей, и она — потащившая Машу на Моховую поступать за компанию. Главное, впрочем, так и останется недосказанным — что это не только ирония судьбы, но и издевательство — она получила эрзац своей актерской мечты (вечные эпизоды в сериалах, которые ненавидела, бесконечные сюсюканья с ассистентшами, которых терпеть не могла), а он — заменитель своей любви, Ткачиху-Повариху вместо младшенькой, Ольгу вместо Татьяны.
Затащить Рому в постель будет нетрудно — после того, как он два года назад проснулся с больной, как будто просверленной, головой в пустой, обезмашенной квартире, его соблазняловка сломалась: он также по пятницам тащил полутрезвых девиц к себе домой фокусничать с фотоаппаратом, но девицы чувствовали заразу и, если уж не были совсем пьяны, отговаривались лекциями, папой-мамой и не-теми-днями. Рома решил, что так надвигается старость, но дело было в другом: в действительности все это стало ему чудовищно скучно. Глаз его не горел, девицы, которым нужно было ощущение игры для оправдания (сама не знаю, как это получилось), уезжали с другими, а Рома сохранял в закладках все больше порносайтов — там все всегда всерьез.
Поэтому Даша, бросившая взгляд на отвлекшегося от камеры Рому и сразу про себя все решившая (не без бредовой задней мысли, что, может быть, так она когда-нибудь получит нормальную роль), просто возьмет его, как бесхозную вещь: разок пройдет мимо и задержится, чтобы поправить юбку, разок сделает glance, и вот он уже спрашивает ее, глядя, как ассистент тащит рельсы: а ты сейчас с Машей общаешься? — с Машей? — с Региной; я же работал с ней — серье-озно?
Она даст ему свой телефон, он позвонит через неделю (она десять раз успеет себя проклясть, что не взяла его), пригласит в пиццерию (с 16:00 50 % скидка на салат-бар, но по пятницам не действует, рядом будут сидеть мальчик с девочкой школьного вида, и мальчик свысока и удивленно посмотрит на них с Ромой: пора уже бамбук курить, а туда же), и, то ли чтобы набить себе цену, то ли чтобы сразу расставить точки над i, Рома скажет ей: вообще-то мы не только работали, но и жили вместе.
Они встретятся еще три раза (Даша выдержит приличествующую случаю паузу), на четвертый раз она скажет, что ей сегодня не надо домой (к себе домой? а ко мне? — это предложение? — а ты согласишься?), однако секса не выйдет: Рома зачем-то напьется водкой (зачем-то — то есть он не поймет, зачем; со стороны понятно, что напьется он со зла, как будто это он принимает тут решения), напьется и будет способен только на пьяные признания — ты представить себе не можешь, как мне это надоело… тебе я могу сказать, ведь мы друзья, да?.. надоело это, трахаешься налево-направо… каждый раз фью-уть, разбежались… не должно быть так… еб твою мать, мне не двадцать лет… и даже, блядь, не двадцать пять… я хочу семью… с хорошей девушкой, чтоб вот не было этой хуйни… извини… Даша уложит Рому спать, помоет посуду и ляжет к нему. Утром он трахнет ее: ему покажется, что он влюбился.
Этим же утром он успеет смутно пожалеть, что сказал Даше про Машу, потому что когда она, держа ладонь у него на животе, скажет да, слушай, забыла спросить, а как тебе вообще Машин фильм-то? — ему уже будет неловко сказать правду, и вместо этого он потянется за пачкой сигарет, чтобы отвернуть скривленное лицо: ну, так, нормально…
Смешно, но этим же вечером Даша позвонит Роме, чтобы ошарашить его: ты уже слышал? про Машу-то? — день, который Даша начнет потом отмечать как первый день их вместе, окажется тем самым днем, когда «Bild» опубликовал ШОКИРУЮЩИЕ ФОТОГРАФИИ — всего-то на них и было шокирующего, что Петер с Машей, выходящие из машины, Петер с Машей, сидящие в ресторане, и рука Петера на Машином колене, но по европейским новостным лентам пронеслось и даже докатилось до московских сайтов: Маша Регина живет со своим артистом (который к тому же почти в два раза старше ее!), и они собираются пожениться.
В таблоидах всегда пишут правду, как никогда не врут мифы народов мира: Маша действительно уже больше года жила с Петером, впрочем, не более чем в переносном смысле — жили-то они: он в своем доме, а она в своей съемной квартире, а вот в рестораны ходили вместе и вместе спали — то в ее съемной квартире, то в его доме.
Получилось это так. После триумфальной премьеры «Save» на Потсдамер-Платц (зал потребовал Машу на сцену и не отпускал двадцать четыре минуты, великая испанка, возглавляющая жюри, уже во дворе, под крышей Сони-центра, нашла Машу и что-то ей, никто не услышал, что, сказала, плюс большая статья в завтрашней «Die Welt»: Кто посмеет не дать медведя Региной? — в неловком переводе) Маша оказалась потеряна. Каждый момент ее жизни последние пять с половиной месяцев был поминутно расписан — времени стоять на месте не было. В шумной толпе, среди разноцветных огней и громкой музыки Маша не понимала, что делать дальше — идти направо или налево. Ее тело, если бы его спросили, высказалось бы за скорейшую отправку домой, но оказавшись дома — делать что? Подумав несколько минут (кто-то что-то кричал ей в ухо, совал к губам диктофон), Маша вдруг вспомнила, что она должна сейчас делать. Она нашла глазами продюсера, пробралась к нему и притянула его ухо: по-русски это называется abwaschen.
Официанты таскали к сдвинутым столам пиво и водку, креветки и сосиски, меняла цвета крыша, у Маши все быстрее кружилась голова, потом узкий круг отправился по приглашению Петера к нему, там узкий круг разграбил бар и отправился в середине ночи восвояси, а Маша не смогла: она лежала, свернувшись калачиком, на диване и спала. Петер отнес посуду на кухню, вытер столы, выкурил сигарету и сел рядом с Машей: эй, босс, пойдем, отведу тебя в спальню. Маша села, бормоча, что поедет сейчас домой, что она не может его стеснять, надо вызывать такси — какое такси, кёнигин, у меня три спальни, не парься — нет-нет, извини меня, я только в ванную зайду, — однако еще прежде, чем дойти до ванной, Машу вывернуло прямо под висящую на стене обложку «A Hard Day’s Night», и Петер мыл ей лицо холодной водой, потом, пока она отмокала в душе, вытирал с пола остатки креветок и сосисок, заваривал крепкий чай, потом завернул ее в халат, напоил чаем, уложил в одной из своих трех спален, накрыл одеялом и еще с полчаса сидел рядом, глядя на нее. И один раз погладил ее по рыжей голове.
Утро ушло на извинения — за вчерашнее, да, но не только: подспудно еще и за сегодняшнее, ведь по законам жанра после такого полагается дать, а она не могла: трещала голова, но главное — было противно давать из чувства вины. Чувствуя себя таким образом вдвойне виноватой, Маша поковыряла завтрак и заикнулась про такси. В конце концов Петер посадил Машу в «мерседес» и отвез в город. На Фридрихштрассе Маша выползла из машины, махнула рукой, вошла в парадную, подождала минуту, потом вышла и добрела до маленького русского ресторанчика: завтрак у Петера был вкусный, но с похмелья ей всегда хотелось нормального человеческого супа, в идеале — кислых щей.
В ресторане, хозяин которого с гордостью сообщал своим клиентам, что к нему нет-нет да и заходит Мария Регина, кислых щей не было, но Маше этого не сказали. Вместо этого ее попросили подождать, повар бросился размораживать капусту, а официантка побежала в офис — Маша согласилась подождать, если ей дадут лист бумаги и карандаш. Нет, это не было пижонством: просто сидеть и ждать Маша не могла, иначе пришлось бы думать, что ей делать, когда она проснется.
Последние три месяца, доводя до белого каления сначала съемочную группу, а потом монтажера и звукорежиссера, Маша возвращалась домой в час ночи, валилась, как мешок с картошкой, на табуретку в кухне, тянулась к холодильнику за пачкой сока (встать не было сил) и, обхватив голову руками, вперивалась взглядом в запепленный лист, на котором она когда-то ночью нарисовала кормящую голубей старуху. Она не могла вспомнить, зачем она ее нарисовала. Каждый раз, допив сок, она отодвигала лист обратно под сахарницу: нужно было обязательно успеть выспаться.
Там, в русском ресторане, с кислыми щами с одной стороны и листом бумаги с другой — рисовать высохшими, как палки, руками вообще невозможно, — Маша стала рисовать, просто чтобы рисовать. Она нарисовала стол со скатертью. Съев еще две ложки, она пририсовала сервант, потом пианино с бюстиком Чайковского, картины по стенам, заставленный цветами подоконник, книжный шкаф с длинными, переползающими с полки на полку рядами одинаковых желтых корешков и часы с маятником… Тарелка была уже пуста, Маша почувствовала, что карандаш вываливается из деревянных пальцев, последним усилием зачирикала все, что нарисовала, и перед тем, как ее сознание окончательно схлопнулось, оставив только автопилот, — расплатиться, сунуть в карман листок, дойти до квартиры, закрыть за собой дверь, грохнуться на кровать, — она поняла, что нарисовала сейчас то, что так долго пыталась вспомнить про свою старуху: ее прошлое.
Этим же вечером Маша позвонила Петеру и еще раз извинилась: если хочешь, можешь приехать и поблевать у меня в коридоре. Только повесив трубку, Маша поняла, что только что пригласила Петера к себе.
Петер приехал с огромной quattro stagioni и двумя бутылками prosecco. Устроившись в комнате на полу, он стал пересказывать Маше, кто что говорил сегодня в Театре. Пицца была горячая, шампанское холодное (как это ему удалось — думала), Маше страшно хотелось обнять Петера и заняться с ним любовью, но она не знала, как это сделать. В конце концов, когда Петер взялся открывать вторую бутылку (как же я буду трезвый блевать? надо напиться сначала — не надо блевать — почему? — потому что потом с тобой противно целоваться будет — а ты собираешься со мной целоваться? — собираюсь — а чего же мы ждем? — не знаю, хлопка одной пробки, наверное), она просто села на него сверху и потянулась к его губам.
Петер отставил бутылку, прижал ладони к Машиной спине, а потом, нацелововавшись, отстранился, чтобы поймать ее взгляд: ты точно этого хочешь, кёнигин? Маша ответила конечно, — дать глупый ответ на дурацкий вопрос в данной ситуации было проще и быстрее, чем объяснять, почему есть вопросы, которые не надо задавать. Спустя полчаса, когда Маша потянулась открыть-таки вторую бутылку — шампанское было уже не такое холодное, но все равно казалось холодным по сравнению с жаром его языка, который еще как будто ласкал ее, — Петер не удержался и от второго дурацкого вопроса: что же это такое было? — спросил он, перебирая пальцами ее волосы. Маша сунула ему в руку стакан и, пока оседала пена, сказала: дружеский секс, Петер, мы же с тобой друзья. Петер шумно втянул пену, чтобы Маша могла долить.
Позже, когда Маша намылится в Россию — снимать картину, которую про себя будет поначалу называть просто «русской», это во-первых, а во-вторых — чтобы разбить регулярность отношений с Петером, которые ведь придется же рано или поздно порвать, чего бы это ей, а главное ему, ни стоило, — она вспомнит эти его дурацкие вопросы и будет думать с чем-то вроде облегчения за прошлое, что вопросы эти были кстати. И еще — что сразу же, с первого раза она все-таки отправила его домой.
Потому что когда она пошла на кухню варить кофе, а он — в ванную по делам, она еще не решила, отправлять его или нет. Вопрос этот ворочался в ее голове и подергивал хвостом, как рыба на солнцепеке, но немедленного решения вроде бы не требовал. И только когда Петер уселся на стул, придвинул к себе лист с зачириканным столом, книжным шкафом и так далее, — лист, который она сунула в карман джинсов, выползая из русского ресторана, а потом выкинула вместе с мелочью на кухонный стол и напрочь о нем забыла, — когда Петер взял этот лист в руки и спросил, чтобы не молчать, что это такое, Маша включила кофеварку, кофеварка забурчала — что? о чем ты? — увидела, что Петер держит в руках, и все вспомнила, — только тогда она поняла, что пора как можно скорее выпроваживать друга.
Маша чуть не насильно влила в Петера кофе (а шампанское тебе сейчас нельзя, тебе же за руль), закрыла дверь и с аккуратным сосредоточением — как когда держишь в зажатой ладони лягушонка: не раздавить и не дать выпрыгнуть — расчистила стол, достала новый лист, наточила карандаш и вымыла чашку, чтобы налить в нее свежий кофе. Работать — было сейчас для Маши способом не думать, что и зачем она только что сделала. Как будто Маша-маленькая говорила Маше-большой: видишь, я делом занята, — и Маша-большая шла на три буквы.
Но едва карандаш коснулся листа, обе Маши исчезли. Ветер трогал тюль и чуть пыльные мяса фиалок, тикали на серванте часы с четырьмя кручеными медными колоннами, со стен, чуть потупившись, глядели трофейные тарелки и в тяжелых крашеных рамах — охапка сирени в пузатой вазе, береза на обочине разъезженной в грязь дороги, Пушкин, сложивший на груди детские ручки, — на пианино вдохновенно стояла гипсовая голова Чайковского, блестел лак, и застыла в фуэте балерина. За диваном сонно подергивались перекати-поле пыли, неслышно скрипели тектонические плиты паркета, поземкой текли запахи с кухни. От цветастых обоев отскакивал далекий стук ножа о разделочную доску, отзвякивала тонкой струйкой стекающая из крана в раковину вода. Накрахмаленная скатерть горбинками складок расчерчивала стол на шесть частей, высилась башня из переложенных ветхими салфетками тарелок, и, завернутые в полотенце, жались друг к другу вилки и ножи. На серванте, рядом с часами, глядели в потолок черно-белые, приготовившиеся фотографироваться люди. На них садилась муха и, потревоженная шаркающими шагами, улетала за тюль, к фиалкам, на которые пролился из-за облака солнечный свет.
Стеклянный кофейник был пуст, Маша вдруг поняла, что ей страшно холодно, и одновременно — что теперь она все знает про шаркавшую на кухне старуху.
Все следующие дни по вечерам Маша выпроваживала Петера и писала новый сценарий. Через неделю ее под аплодисменты вытолкнули на сцену, она взяла в руки холодного тяжелого медведя, на нее нацелилась батарея объективов, но ни одна фотография не получилась как полагается — с беспримесной радостью и частоколом зубов — на всех Маша получилась отсутствующей, с закушенной губой: вместо сужающихся зрачков камер она видела тяжелое движение занавесок и вместо щелчков затворов слышала шаркающие с кухни шаги. Она согласилась дать одно интервью, а потом мимо Петера, который предлагал abwaschen (с расчетом на проснуться вместе), — извините меня все, болит голова, — проскочила на площадь и поймала машину до дома.
Через две недели (утром — два интервью, потом обед, потом съемки для телевидения, плюс еще хлопоты с получением гражданства, на которых настоял продюсер: ну его, каждый раз с визами возиться; тем более что тебе сейчас этот паспорт на блюдечке должны подать, — потом Петер — кёнигин, что с тобой происходит? все в порядке? я тебя люблю, — домой и до рассвета с бумагой) — через две недели черновой вариант сценария был готов.
Маша не заметила (да и как она могла?), что написала сценарий, под который невозможно будет достать денег. Госпожу Регину, у которой на подоконнике в спальне берлинский медведь воздевал лапы над венецианской медалью, примут в десятке чистых дорогих кабинетов, напоят кофе и накормят пирожными, но везде скажут то же, что ей сразу сказал Петер, — что фильм о России, о русских проблемах никому, увы, не интересен, вы же понимаете, что сценарий надо переписать, ведь это несложно, перенести место действия, сместить акценты, взять в картину европейскую звезду (намекающая улыбка), тогда — хоть миллион, хоть десять, а так… Маша будет дуреть от понимающих улыбок и извиняющихся жестов и, снова и снова возвращаясь к этой мысли, трясти головой: она знает, как снимать этот фильм в России, а иначе пусть снимает кто-то другой.
История не текст, но нам она доступна только как текст — ничего удивительного, что есть вещи, которые становятся понятны только ближе к концу. Лишь оказавшись в Петербурге, сев в снятой еще из Берлина квартире с карандашом, чтобы выписать телефоны, по которым надо позвонить, Маша, к своему ужасу, откроет: упорству, с которым она хотела снимать будущий «Янтарь» в России и нигде кроме России, было три причины.
Первая — сознательная и бессмысленная: будто сценарий написан о России. Но фильм ее не был ведь о сугубо русских проблемах; когда человек, состарившись, понимает наконец, что прожитая им жизнь умещается в ладони горстью бессмысленных семечек пополам с шелухой, и больше всего мучает то, что он никак не может объяснить это тем, кто идет вслед за ним (просто потому, что нет никакого канала, по которому можно было бы передать откровение), — это проблема такая же русская, как немецкая или китайская, и полковничья петербургская квартира (привет А. А.), за которую она так схватилась, с легкостью могла бы быть заменена особняком в Лондоне или домом в Риме. Вторая причина была полусознательной и не совсем бессмысленной: снимать в России — значило снимать с русскими актерами, и это было единственное, чем она могла объяснить Петеру, что не берет его в картину; она и в самом деле не могла бы просто так взять и попрощаться с ним, он ничем ее не обидел. Но это-то как раз все ерунда.
Настоящая причина, по которой Маша должна была снимать в России, находилась вообще за пределами Машиной головы и имела отношение к гравитации событий жизни, к сюжету, в который она влипла однажды, как муха на клейкую ленту, в междувагонье разбитого, дребезжащего поезда: снимать в России — значило снимать с Ромой, все другое было бы безумием; искать другого оператора — значило сопротивляться естественному ходу вещей; она действительно не знала оператора лучше, чем Рома; наконец, она просто, ни в коем случае не допуская эту мысль до места, где ее можно было бы осмеять или оспорить, то есть до собственной головы, страшно хотела Рому увидеть.
Регина — самый модный молодой режиссер Европы, Регина, чье лицо в стоге рыжих волос красовалось на апрельской обложке «Times», Регина, которая за последние несколько месяцев провела несколько десятков тяжелейших переговоров и в конце концов, не говоря никому ни слова, собрала манатки, сдала хозяйке ключи от квартиры на Фридрихштрассе, позвонила Петеру только из аэропорта (кёнигин, мать твою! ты рехнулась! ты не можешь вот так взять и улететь!) и улетела в Россию, в которой не была два года, чтобы потратить свои деньги, мило улыбаться всем воображающим о себе московским мудакам, переспать с кем угодно, если уж без этого никак, но зубами вырвать свое — возможность снимать свой собственный фильм так, как она хочет его снимать, — эта самая Маша, в полупустой, обставленной из «Икеи» квартире на Фонтанке, грызя карандаш, рисуя квадратики в разлинованной тетради, поймет, что снова попалась как девочка: она знает как дважды два, что будет дальше: она встретится с Ромой, они снова будут трахаться как заведенные и снова будут ненавидеть друг друга.
Поняв это, Маша положила карандаш в ложбинку развернутой тетради, пошла на кухню, нашла стакан, налила его до половины виски из дьюти-фри, выпила в три глотка, закурила, взяла телефон и, медленно, как в молоке, тыкая кнопки, позвонила домой, маме.
Не нужно ведь особого повода, чтобы позвонить маме — Маша и звонила ей раз в пару месяцев просто так, чтобы спросить как дела и рассказать, что у нее все по-прежнему, — но в этот раз получилось иначе: Маша действовала в панике — панике, которая заставляет человека из комнаты, заполненной дымом, бежать в соседнюю, где уже рушатся потолочные перекрытия, — как будто этот звонок помог бы ей смириться с тем, что от ветки ее жизни больше не будет отвороток, и сколько бы она ни тянула тормоз, состав мчится только туда, куда мчится, — и в каком-то смысле после этого разговора ей и впрямь проще стало набрать Ромин номер (погорелец, увидев летящие сверху багровые балки, тут же отшатывается обратно, в комнату, охваченную дымом): подняв трубку, мама рассказала, как у них с папой дела, что у них все в порядке, все по-прежнему, что мы тебя ждем, приезжай, приедешь? — но весь разговор, ни разу не ошибившись, мама называла Машу Лешенькой. Холодея от ужаса, Маша поняла вдруг, что мама — ее не такая уж, в сущности, старая мама — разговаривает с несчастным своим, в тридцать лет умершим от денатурата братом.
Маша села на икеевский стул, обхватила руками живот, согнулась и сидела так, пока не вспомнила про виски. Прежде чем позвонить Роме, она выпила еще три раза по полстакана: стоять ей уже не хотелось, сидеть на стуле не было сил — она сползла на пол и, чувствуя, как из крашеной стены в ее спину забирается холод, закашлялась в трубку: здорово, Евгеньев! работа нужна?
Маша рассчитывала на долгий разговор, на какие люди в Голливуде, как дела, над чем работаешь, на осторожные, намеками, выяснения с кем ты, и, чем черт не шутит, может быть, даже приезжай прямо сейчас, есть будешь? — ничего подобного: Рома торопливо назначил на завтра встречу и бросил трубку. Конечно, Маша не могла знать, а Рома ей не сказал, что она позвонила очень вовремя: Даша как раз была в душе, шумела вода, и, выходя из ванной, она только услышала, что Рома с кем-то прощается: кто это? — звонил-то? — ага — да так, приятель один из института — и чего? — ну какая разница! почему тебе обязательно все надо знать? ты что, следователь на жаловании? — обиделась, ушла на кухню и потом, уже после примирения (Рома врал, врал, врал), три раза спрашивала так кто звонил-то?
В желании не говорить Даше, кто звонил, не было ничего рационального — все равно, если они с Машей снова будут работать вместе, не узнать об этом Даша не сможет, — смысл был в другом: ему хотелось во что бы то ни стало оттянуть разговор в жанре что ты молчишь; не только потому, что это будет страшно неприятный разговор, но, главное — чтобы продлить момент их с Машей, как раньше, наедине.
Услышав в трубке Машин голос (удивился собственному удивлению, потому что ждал ведь звонка), Рома представил себе как наяву: вот он просит у Даши прощения (ты замечательная, но я правда не могу без нее, прости меня, если сможешь), зажимает уши, кричит, хлопает дверью, — и его передернуло. Через секунду он уже решил для себя раз и навсегда — и потом, мирясь с Дашей, куря на кухне, ты ложись, я посижу еще, аккуратно снимая пепел об угол пепельницы, бесясь, что не удается успокоить сердце, только уверится в этом решении, — что ничего этого не будет, что с него хватит безумия, а с Машей по-другому не получится, что вот же он нашел, что искал, тихую уверенность-размеренность, спокойного, понятного, нормального человека, какого черта еще надо, он не откажется от этого ради еще одного полугода стояния на ушах. Рома мотал головой и кусок за куском поглощал яблочный пирог: чувство голода никак не уходило.
Рома нарезает пирог, Маша хлещет виски; и то, и другое не вечно — они идут спать.
Причина, по которой Машина с Ромой судьба так никогда и не легла на рельсы какого-нибудь приличного сюжета — будь то Филемон и Бавкида или Бонни и Клайд, — причина, которую Рома, сам того на заметив, осознал, поглощая яблочный пирог, а Маша поймет только тогда, когда этого уже при всем желании нельзя будет не замечать, — в чудовищном, издевательском несоответствии их представлений о будущем (ведь представление о будущем — это всегда желание). Машу кидало в ярость, стоило ей почувствовать себя героем дурацкого, как дважды два, сценария, в котором все заранее ясно; Рома, напротив, сходил с ума каждый раз, когда (как в китайском ресторане эти двое дурили ему голову, не говоря прямо, что происходит, что вы тут без меня решили?!) не понимал, чего ждать в следующий момент.
Все это не значит, что Рома не встретится с Машей. Встретится на следующий же день.
Сказав Даше, что едет на переговоры по поводу работы (нельзя говорить, ты чего, а то сорвется), Рома доедет до Каменноостровского, поставит свой VW-универсал у магазина «Цветы» (все позднесоветские здания похожи на мавзолеи, как будто система чувствовала, что ее ждет) и поднимется на второй этаж «Ленфильма», в кафе — Маша будет сидеть под афишей «Человека-амфибии» и принимать поздравления от неопределенно-пожилого возраста ассистентки по артистам; этих женщин всегда зовут по имени (уменьшительно, без отчества), и они всегда всех знают и помнят едва не с колыбели. Дождавшись, пока Люся (или Стася?) отдаст Маше бумажку с номером (звони, Машенька, дорогая), Рома сядет напротив и тоже, как же без этого, поздравит.
По-человечески им поговорить не дадут — через каждые три минуты к их столику будут подходить люди, чтобы поздравить Машу (Рома в эти моменты будет думать, что вот ведь, ничего не меняется, хоть они уже два года как не вместе), будут оставлять визитки, фотографии, бумажки с номерами телефонов — но все-таки главное прозвучит: Маша скажет Роме, что есть сценарий, что нужны деньги, расспросит его, к кому сейчас надо идти, с кем говорить, кто может знать, и самое главное — она спросит его: сам-то как? Рома в ответ посмотрит ей прямо в глаза: ты в школе училась с девочкой, Даша, помнишь? И — иначе зачем бы он заговорил о ней — ты живешь с ней? понятно — забавно — любовь-морковь? — типа того.
Поразительно, но при всей ненависти Маши к закрытым сценариям и при Роминой к ним любви ждало их ровно противоположное тому, чего они хотели: для Маши было ясно как божий день, что его типа того не более чем попытка закрыть глаза на неизбежность; для Ромы, решившего раз и навсегда, что никаких отношений с Машей, кроме деловых, у него быть не может и не должно, сюрпризом окажется, что то, что он там себе решил, никого не волнует: для него сценарий останется открытым.
Мальчик, положивший перед собой шоколадный батончик, чтобы ни в коем случае к нему не прикасаться, потому что он решил тренировать силу воли, конечно, съест этот батончик — и зритель смеется не только потому, что он включил «Ералаш» (а для чего его включают?), но и потому, что он-то все заранее знает про этого мальчика — иначе зачем сценарист положил бы перед ним шоколад?
Соблазнительно было бы думать про Рому, что он как тот мальчик, только лишен порока рефлексии, но это слишком просто; в действительности дело сложнее: Рома, очевидно, в силу своей профессии привыкший мыслить картинкой (а всякий кадр статичен, в сущности), не мог предполагать, что для отыскания смысла происходящего нужно встать не только в позицию наблюдателя за тем, что происходит, то есть срастись с объективом, но совершенно необходимо отвлечься и от камеры, занять позицию того, кто наблюдает за оператором.
И, как тот мальчик, только слопав шоколадку, понимает наконец, зачем она тут с самого начала лежала, так и Рома — только тогда, когда он проснется рядом с Машей (желтый солнечный свет будет литься в окно сквозь мелкую тюлевую сетку и взрываться цветом, попадая на раскинутые по подушкам Машины волосы, сосновая лапа будет качаться на ветру, и на землю с нее будут падать капли искрящейся воды, Маша будет лежать с закрытыми глазами, чуть приоткрыв губы, и ладонь ее тоже будет беззащитно раскрыта), — только тогда он, потянувшись за фотоаппаратом, поймет, что произошло.
А дело было так. Маша неожиданно легко нашла деньги на фильм. В японском ресторане, подхватывая палочками кусочки рыбы с тарелки, поминутно прикладывая телефон к уху и ласковым голосом воркуя в него: нет, дорогой, я тебе перезвоню через полчасика, хорошо? — ей тонко, с милой улыбкой объяснили, что денег ей дадут, благо надо немного, но по документам будет проходить втрое большая сумма, и, если она не против — мы же взрослые люди… Маше хотелось вцепиться в эту холеную рожу, объяснить, что она в принципе против мудаков в секондхендовских футболках и ботинках из-самого-дорогого-в-этом-городе-бутика, но революционный порыв был смят мыслью о том, что ей также не нравятся мудаки в дешевых ботинках или, наоборот, в дорогих пиджаках, так чего тут выпендриваться, — и Маша наклонила голову: о’кей, я поняла. Комитет с невозможным названием, при поддержке которого выйдет ее фильм, Машу не интересовал — главным для нее было, чтобы никто не вмешивался в ее работу; это ей обещали. Мудаку, пьющему зеленый чай (только не с жасмином, ради всего святого), главное было освоить бюджетик, — так он и сказал.
Так вот, Маша с Ромой отсматривали натуру. Три раза они съездили неудачно — то натура была невыразительная, то корпуса слишком свеженькие (у нас баня замечательная — спасибо, нам баня не нужна) — и наконец на четвертый раз нашли, что искали. Это стало понятно сразу — как только они, после часовой гонки по «Скандинавии», свернув на грунтовку, протрясясь по ней еще с полчаса, забрались по крутому песочному въезду наверх и увидели старенький (облупившийся, но крепкий, как все, что строили деды, — высокий портик, четыре колонны, пилястровая подрифмовка, палимпсест тимпана) корпус в окружении сверкающих сосен. Чтобы не спугнуть удачу, они молча, с недоверчивыми лицами обошли корпус, выслушали неловкий рассказ тетки-директора с красивыми чистыми руками, которые она не знала, куда деть (вот, тут у нас это, раньше для медперсонала, ну а потом, когда, поменялось все, теперь номер тоже, у нас удобные очень номера, у нас баня отстроена недавно), проверили, не слишком ли близко баня, попросили оставить их одних. Достали фотоаппараты.
Справа от старого корпуса (у нас новые есть, хотите посмотреть? — они близко? — нет, минут десять идти — не надо тогда) начинался спуск, и Маша с Ромой, скользя на ковре из сухих иголок, спустились немного вниз — крутая диагональ холма, вертикали сосен, горизонтали стоячих солнечных лучей, чересчур синее озеро внизу — самый настоящий Myst, — пробормотал Рома, щелкая затвором, но Маша была не знакома с геймерской классикой и услышала немецкое слово: Mist?! Да иди ты, это то самое, что нам надо!
Потом они вернулись, нашли тетку-директора, в многозначительном молчании прошлись с ней внутри корпуса, взяли номер, попросили принести поесть и, пока ждали обед, перещелкивали фотки на лэп-топе, цокали языками. Все, у меня уже руки чешутся. — Подожди, давай еще раз все обдумаем. — Чего думать-то? Час от города… — Полтора. — Какая разница? Тебе что, не нравится? Солнца море, снимай не хочу… Ели молча. Маша уже все решила, вопрос был только в том, не заломят ли цену. Думала она о другом: было три часа дня, и за окном стремительно темнело: дождь будет, надо под дождем поснимать — о елки, а как же мы обратно поедем, — Рома застыл с котлетой во рту, а потом рефлекторно дернул руку за телефоном — он не говорил Даше, что они уехали так далеко, потому что — зачем.
Маша тоже думала про Дашу. Она виделась с ней месяц назад, на следующий день после того, как Рома вернулся домой и объявил Даше с преувеличенной радостью: работа будет! настоящая! — и потом с преувеличенной второстепенностью — что он случайно встретил на студии Регину (она только вчера вернулась из Германии, представляешь?), и вот так получилось. Может, она тебе роль найдет. Когда Рома ушел в душ, Даша взяла его телефон, нашла номер, с которого ему звонили вчера вечером, аккуратно переписала его на спинку чека из продуктового магазина и спрятала чек в кармашек сумочки.
Они встретились через два дня. Маша понимала, зачем нужна эта встреча — еще не успел остынуть оторванный от уха мобильник, а она уже решила, что просто пошлет Дашу куда подальше, как только та даст повод, и на Гостинку (в каждом городе есть такое место, где встречаются в том случае, если не знают, куда пойдут) приехала ровно за этим, — но план пришлось менять на ходу: ты в понедельник прилетела? и сразу же ему позвонила? ну вот, а я-то думаю, странно что-то, он мне сказал, что случайно встретил тебя на «Ленфильме», смешной, — потому, что если он врал ей, значит, дело серьезное, и неловким движением можно было бы попросту потерять оператора. Даша тянула Машу в кафе, Маша сопротивлялась — старалась потянуть время (слушай, я Питера не видела сто лет, дай поглядеть на него), — и они стали гулять по Фонтанке, а потом по улицам с фамилиями поэтов на каждом доме.
Перебрасываясь ритуальными а этот, а тот, а та, они ходили битый час, пока Маша не поняла, что в их ситуации, как в любой торговле, проиграет тот, кто первым назовет цену — в их случае, вообще заговорит первой. Поняв это, Маша сказала, что замерзла (двадцать пять градусов на улице, но Даша ухом не повела), и они зашли в первую попавшуюся дверь. (Маша не посмотрела заранее на название, а зря: войдя, первое, что она увидела, — были морды Леннона сотоварищи; это был бар «Ливерпуль».) Маша проглотила эту насмешку, села, взяла пиво и стала просто ждать. Ровно через полстакана, после очередной неловкой паузы, Даша наконец сломалась: Маша, я с тобой хотела серьезно поговорить… — ммм? — у тебя на него виды?
От такой формулировки пиво сразу стало горчее, чем надо, но Маша проглотила и это: ага, он будет снимать мое кино — я не про это, ты же понимаешь, — и Даша объяснила, что они с Ромой идеально друг другу подходят, что они так счастливы вместе, что когда она встретилась с ним, он был вообще на человека не похож, опустившийся, безвольный, пил, а сейчас все так изменилось, — домашняя заготовка оказалась очень жалостливой (решила показать мне заодно, какая она клевая актриса, — мелькнуло у Маши), но финал был выше всяких похвал: Машенька, милая, я же знаю, что стоит тебе поманить его пальцем, и он пойдет, я просто хочу спросить: он действительно тебе нужен? (глаза ее наполняются слезами) Если нужен, скажи мне, я просто уйду тогда, без обид.
Самые чудные способы выдумывают люди, чтобы вырывать друг у друга обещания, и Маша еле удерживалась от соблазна предложить Даше тут же заключить договор и заверить его у нотариуса: ей просто предлагалось опять сыграть в партию, исход которой и даже все до единого ходы были заранее известны. Конечно, едва ли Даша отдавала себе отчет в том, что, поскольку поманить пальцем — это что-то из школьной жизни, а в действительности такие вещи если и зависят от пальцев, то только от пальцев того, кто сидит за клавишами, то, о чем она действительно просила — это чтобы Маша испытывала как можно большее чувство вины в том случае, если они с Ромой опять окажутся вместе. Конечно, Дашу нужно было послать в жопу или даже попробовать объяснить ей, что происходит, хотя это было бы совсем жестоко, но поскольку Региной нужен был оператор, и оператор, думающий о фильме, а не о бешеной бабе, она согласилась играть в эту игру: говорю тебе, мне нужен оператор. Евгеньев — лучший, вот и все, у меня в Германии бойфренд, кстати, ему бы тут понравилось. — Обещаешь? Маша скрипнула зубами. Обещаю.
Глаза у Даши высохли мгновенно, но все-таки она сходила еще в туалетик, чтобы стереть тушь, а вернувшись, стала щебетать (слушай, я вообще так рада за тебя, кто бы мог подумать, что я живу в комнате не с кем-то там…) и дощебеталась до второго главного вопроса: а что за фильм у тебя будет? Ради приличия Маша повторила текст, выученный для продюсеров, а потом сказала прямо (подумала: это похоже на месть, ничего не поделаешь): я бы тебя взяла, но кино возрастное, если только в эпизод медсестрой… (Эпизод этот только что выдумала — если что, потом снимем и вырежем.) Жалко, — протянула Даша, но все-таки продолжила щебетать. Какой же пакостный народ эти артисты, — чтобы заглушить эту мысль, Маша стала громко заказывать еще пива.
Пиво вдруг загорчило на западном и восточном краях языка, и Маша поспешила смыть горечь санаторским компотом (из сухофруктов — вкус больших, от пола до потолка, заляпанных окон школьной столовой): переждем дождь и поедем, — сухо сказала она, и Рома обрадовался: ну, если так…
Потом, когда вся эта история стала так подозрительно напоминать дурное советское кино, Маша думала: когда сам Рома понял, что происходит? — тогда ли, когда они, оставив вещи в номере, выпросив у директорши полиэтиленовые дождевики, снова вышли на улицу, чтобы снимать одинокую затактовую сосну на опушке, переливающиеся с ветки на ветку струи, темное клокочущее небо, барабанящее озеро внизу? или тогда, когда, вернувшись в номер, почувствовали, что страшно замерзли, и Рома вспомнил, что у него в машине есть (початая, правда) бутылка коньяка? или тогда, когда они решили, что раз уж досидели до такого часу, грех не поснимать боковое солнце (оно как раз вышло)? — и ей пришло в голову, что Рома ничего не понимал до самого последнего момента, когда солнце уже в общем закатилось, и на мокром хвойном ковре она съехала прямо к нему в руки, и два фотоаппарата прижались друг к другу, мешая им целоваться. И даже когда они вернулись в номер, попросили ужин, налили коньяку, и Рома вышел (скажу, чтобы кофе сварили; хочешь кофе? — ага, — подумала, — телефон не забудь), чтобы позвонить Даше, он наврал ей с три короба про старого приятеля, у которого забухал (Машка? да она к себе поехала, в гостиницу!), он сделал это не потому, что не мог сказать правды, а потому, что не хотел зря расстраивать — он до сих пор не был уверен (то есть просто не спросил себя), будут ли они с Машей спать в одной постели или на разных (но про кофе, кстати, не забыл).
Впрочем, потом, когда работа будет уже в разгаре (первыми они начнут снимать домашние сцены на студии, а санаторий на холме, похожем на голову старого хиппаря — лысом на макушке и патлатом по бокам, закажут на конец сентября — начало октября), Маше уже самой будет не до рефлексии о своей лав-стори — жанр «Янтаря» (название придумала, пока в темноте забирались на холм, — что может быть проще, по названию заведения, а заведение должно называться именно так, действительное его название — ошибка) — скорее уж детектив без преступления — не располагал. Рома так и не объявит Даше, что она права во всех своих подозрениях, Даша будет делать вид, что верит ему, Маше покажется, что нет ничего пошлее, чем ей самой заводить разговор, — ив результате история будет с каждым ходом становиться все пошлее и пошлее. Даша приедет в «Сосны» на два дня, Маша примется снимать ее, не замечая многозначительно-долгих Дашиных взглядов (а равно и насмешливо-всепонимающих глаз то ли Стаси, то ли Люси, которая всегда, по традиции, в курсе) — и более того, она решит, что не будет ее, Дашу, вырезать, — ее оснащенное готовым к бою носиком личико будет хорошо контрастировать с как будто обкатанным в ладонях лицом главной героини, — правда, Даша так и не поймет своего счастья, без нытья: реплику бы, ну хоть одну какую-нибудь, — не обойдется. И в ночь, когда Рома, поймав Машу в коридоре, будет сбивчиво объяснять ей, что ну ведь не нужны же нам тут сейчас разборки, правда, — и она останется одна в комнате, не сможет спать, будет злиться, закрывать насильно глаза, сдаваться, открывать их — в окне будут плыть по небу матовые облака (жемчуг в тени), и если очень-очень постараться, можно будет перещелкнуть зрение и увидеть молочно-белое небо, по которому текут ручьи темно-синей акварели, — к четвертому часу утра, когда уже будет не различить, от обиды ли хочется выть или от злости на себя завтрашнюю невыспавшуюся, Маша поймет, что опять попалась: ибо, как всегда, лучшее, что могло быть, уже произошло, когда три месяца назад она проснулась от солнечной щекотки на глазах, поспешно и смешно слепила губы, облизав их, — Рома сидел на краю кровати с фотоаппаратом и уже поворачивал к ней экранчик с только что щелкнутым кадром, на котором она — рыжая, солнечная, оттененная белизной подушки, которую обнимала овальной рукой, и одеяла, предательски убежавшего с груди, — спала так, как будто не было в ее жизни никогда ничего, кроме этого утра.
Следующим вечером Даша уедет, и Рома, придя к Маше, сядет рядом, скажет, что специально напился вчера с ребятами, чтобы ничего не было, и она поверит, потому что это-то как раз, конечно, правда (не подлец, всего лишь трус, будто она его не знает), но Маше будет не успокоиться — не из-за ревности (к черту всю эту фигню, не до того), а потому, что нутром почувствует, что этому водевильному сюжету не хватает контрапункта настоящей беды, — и проверяя себя весь следующий день, и еще один, поймет, что, и в самом деле, чувство это не было минутной фантазией, что надо к чему-то готовиться, но как готовиться фиг знает к чему, и так и не приготовится — так что когда на третий день раздастся звонок и голос в трубке, который слышала один-единственный раз пять лет назад, но запомнила, как запоминается и на бесконечном реверсе, заезжая концом на начало, крутится в голове всю жизнь какая-нибудь хрень, сообщит ей, что Алексей Алексеевич умер, инфаркт, Маша, сидевшая у монитора, сунет телефон в чашку из-под кофе, хрипло объявит перерыв, дойдет, сдерживаясь, до комнаты, и там наконец, заперев дверь, до пляски в суставах плеч разрыдается.
Онтология смерти
Из-под пятницы суббота: придется воскресить А. А., чтобы рассказать еще об одной имевшей место встрече, ибо она и впрямь состоялась — получается, незадолго до его смерти. Встреча эта не носила судьбоносного характера для А. А., но Маша по результатам ее приняла решение, которое… Нет, не то чтобы не прими она его, иным был бы сам позвоночный хребет событий (едва ли; что там может быть иным?), более того, это решение она приняла бы, вероятно, и так, потому что, в конечном счете, в этой жизни, похоже, вообще мало что зависит от наших решений, но обстоятельства были бы другими, и другим был бы эмоциональный фон, а вот он-то как раз куда как важен и, не в пример проявлениям взлелеянной Шпенглером воли, способен так повернуть каждое из событий-позвонков, что кривая сюжета окажется другой.
А дело было так. Оказавшись в Петербурге в безделье (встречи и телефонные переговоры отнимали не столько время, сколько нервы) и в одиночестве (Рома все еще пребывал в уверенности, что он хозяин своей судьбы; Даша общаться напрашивалась, но Маша не брала трубку), но главное — в июле, когда город полупустой и теплый, как шершавый, нагревшийся под вечер камень в лесу, Маша подолгу гуляла. Чувство ностальгии, испытываемое ею по нескольку раз в течение дня, а иногда становившееся его, дня, центром тяжести — проходила ли она по Моховой (мелькал призрак спешащей на сцендвижение первокурсницы), оказывалась ли на линиях (на мгновение оживала в полупьяной буйной компании вместе со всеми дерущая глотку — на-аднойна-ге! — одиннадцатиклассница), спускалась ли к воде напротив Летнего (не сама тоска, а воспоминание о ней — точное, как позднейшие копии античных оригиналов) и так далее, и так далее, и так далее, — чувство, объективно очень приятное, поначалу Машу радовало, но потом стало ей подозрительно — как должны быть подозрительны мыслящему человеку все приятные вещи.
Наконец ей стало ясно, что поскольку причиной возникающего эффекта не могут быть здания, детали пейзажа или геометрия пространства (мир не имеет по отношению к нам намерений — сказал бы А. А., туда-сюда махнув сигаретой, и опять Маша постеснялась бы спросить, откуда цитата), то, значит, происходящее происходит только внутри нее самой: каждый раз, когда сердце ее сводит сладкая судорога — это поднимается из могилы памяти мертвая Маша (Маша-одиннадцатиклассница, Маша-первокурсница — это не могилы, а улицы на кладбище) и испытывает сладострастное счастье от мимолетной, эфемерной — какой-никакой, но все-таки жизни. В одну из прогулок, на Литейном, Маша зашла пообедать, вспомнила, какое кафе было через дорогу (ныне вместо кофе — сосиски: продуктовый магазин), и вдруг как будто собственными глазами увидела — с нее, с Маши, свисают гроздьями мертвецы, цепляются за ее полные крови плечи, руки, груди, бока, шею; хватка каждого, как плоскогубцы, и у каждого одна надежда — пожить еще хоть секунду. В панике Маша, пробормотав заказ, стала набирать Петера (он звонил вчера, но не было настроения с ним разговаривать, а теперь это казалось необходимым), но — призраки обретают особую власть над человеком именно в тот момент, когда он скашивает глаз, чтобы поймать их в поле зрения, потому что это они готовы к атаке, а не наоборот, — вместо Петера она набрала А. А.
У него еще были лекции, но Маша поймала его через два часа на углу Пестеля и Гагаринской. А. А. не выглядел опустившимся человеком — как можно было бы подумать про того, кто, встретив старинную любовницу, тут же тащит ее в рюмочную, — напротив, два по сто он заказывал так, будто читал широко известные стихи, глаза его смотрели увесисто и спокойно, кисть недвижно возлежала рядом с пепельницей и иногда, как лебедь с воды, взлетала ко рту. Первую неловкость залили пятьюдесятью граммами, и вопрос, как и о чем говорить с человеком, про которого ты, оказывается, ничего не знаешь (не хочешь знать!), отпал. Нет, старый А. А. узнавался — в естественном, как дыхание, цитировании (в ответ на Машину невинную похвальбу — берлинале, бешеный прокат «Save» — как сказал бы один римский император, не дай им превратить тебя в кинорежиссера, — но это еще ладно, Маша, кажется, поняла), в нежелании говорить о ерунде (ну работаю, рассказываю молодежи глупости всякие, ну семья, статеечки, что тут может быть; гляди-ка, какая старуха, просто дюреровская), в пытливом внимании к ее, Маши, рассказам (пусть она понимала, что это воспитание — сказать «всего лишь» у нее не повернулся бы язык) — и все же это была подмена, смысл которой Маша поняла только тогда, когда на очередное ее вопрошание о делах, А. А. ответил, что про него говорить не интересно как раз потому, что со мной все ясно.
Тогда Машу укололо только удивление, что раньше он такого никогда не сказал бы, но уже потом Маша обкатывала и обкатывала эти слова, как волна полирует гальку, и ей стало ясно, что А. А. умер не потому, что был как-то специально несчастен (хотя и впрямь в паре, впервые родившей в сорок, есть, чисто технически, механизм отложенной трагедии), а потому, что сценарий его жизни был дописан, залитован и сдан в печать, — это было, правда, не более чем омерзительно, и все-таки вполне достаточно.
Да, и надо признать, что Маша была воспитана хуже, чем А. А.: они взяли и вторые сто, потом перешли на Советские и взяли там еще, а Маша все продолжала рассказывать о себе (впрочем, ее надо простить — хотя бы потому, что у А. А. точно не было диктофона), но главное не это, главное — думая о себе, Маша вдруг обнаружила, что А. А. существует для нее теперь по тому же способу, что и Моховая, и перекрашенная дверь парадной, и вид на краешек Летнего с угла напротив Пантелеймоновской церкви, что сам по себе он просто человек, с которым ее ничто не связывает, даже общие воспоминания, потому что всё они помнят по-разному, и что, значит, А. А. для нее — такой же точно мертвец, которого она тащит с собой, как какое-нибудь беспозвоночное — выращенный из себя экзоскелет. Она почувствовала это так ясно, будто огромный А. А. и впрямь костлявой лапой цеплялся бы за ее лодыжку, и, почувствовав это, она рефлекторно — так, как дергают ногой, — стала спрашивать его о жене и ребенке.
А. А. долго тер сигарету о край пепельницы, обнажая прячущийся все глубже огонек: не знаю. Не знаю, зачем ты хочешь это знать, но если хочешь — пожалуйста: да, солнышко мое, я все помню, но это абсолютно все равно. С девчонками все в порядке. Маша смущенно забормотала, что она совсем не это имела в виду и я надеялась, что у тебя все по-новому, и чем быстрее она лопотала, тем труднее А. А. было разлепить как будто замерзающие губы — ладно, послушай, я же говорю, что это все равно, успокойся, — и, то ли отвечая на чуть слышную в последнем слове досаду, то ли просто по логике развития интонационного периода, Маша почти прокричала: я не волнуюсь! ты первый начал! И А. А. облегченно согласился: я вообще первый начал. Я родился первый.
После этого они минут пять молчали, потом заговорили о водке (потому что разные марки водки представляют собой незамутненную никакими эмоциями тему для разговора), потом А. А. сослался на завтрашнюю лекцию, которую надо готовить, и ушел к Невскому ловить троллейбус. Маша попрощалась с ним, уже зная, что прощается навсегда. Решение это казалось ей естественным (хотя спроси ее кто, если ее мертвецы — это те, кого она носит с собой, то почему избавляться надо от других людей, она, очевидно, не смогла бы ответить) и, как казалось, далось легко. И все-таки, когда вечером позвонил Петер, она после минуты ничего не значащего разговора нашла повод сорваться на него, разрыдаться и в ненависти бросить телефон в стену. (Кёнигин, — будет он говорить ей позже, — я же все понимаю, на что обижаться?)
А. А., таким образом, умер для Маши дважды. И когда это произошло во второй раз, под синим, как на иконах, небом, между медью сосновых стволов — инфаркт: сказал ей сломленный и все же спокойный голос, — она, отвывшись, занемев, высохнув, вымыла лицо, напилась воды, подняла лицо над раковиной, посмотрела в зеркало и с ненавистью ткнула своему отражению средний палец, — а потом как ни в чем не бывало вышла на свежий воздух и продолжила съемку. Вся процедура заняла не больше получаса; ни на какие похороны она, чтобы не терять драгоценные съемочные дни, решила не ехать.
Русский язык — развлечение не хуже комнаты смеха: говоря «ни на какие похороны», он, язык, не соврал — на Смоленское кладбище (ибо там — не в честь не сдержавшего слова поэта, как подумала бы иная поклонница, а просто потому, что рядом с родителями, — желал быть похороненным А. А.) Маша не поедет, — и все же соврал, потому что Маша на похороны-таки поедет, только на другие.
Запрыгнув, едва не опоздав, в вагон с целиком выкупленным для нее купе (к тридцати годам желание быть ближе к народу обычно проходит и хочется уединения), открыв бутылку коньяка (потому что другого способа заснуть нет), с каменным от напряжения — не расплакаться — лицом, Маша будет полночи пить, разумеется, напьется, и в пьяном одиноком бреду ей причудится, что смерть отца, приключившаяся через четыре дня после инфаркта А. А., получилась не сама по себе, а по какому-то бессовестному и неподсудному, как безличное предложение, умыслу: только она решила отцепить от себя одного из мертвецов, как другой стократ требовательнее хватает ее за горло. Конечно, не в том дело, что нельзя же не поехать на похороны собственного отца (конченого алкоголика — ну и что), а в том, что всё откладываемая на потом любовь к папе с его смертью неизбежно выпадает в осадок чистейшим веществом неизбывной вины.
Маша спит, у проходящих мимо ее купе раздуваются ноздри, в покачивающемся окне сменяются, как во взбесившемся диафильме, одна другой темнее тени излысившихся кустов и нахохлившихся елей, то вдруг все бледнеет и замирает и тяжело, медленно дышит сизая ночная вода — Маша спит без сновидений, не зря же она пила коньяк.
Утром она спрыгивает в вязкую мазутно-дождевую кашу, ноги мгновенно схватывает ледяная вода, и, трясясь в холодном автобусе, в котором пахнет так, что кружится голова, особенно на голодный желудок, Маша жалеет, что оставила в вагоне коньяк. По мере удаления от вокзала автобус наполняется стекающимися к рынку старухами — в руках у них ведра с яблоками, загадочные сумки, запахи еды и смерти, — они оглядывают Машу с медленным, как будто заранее удовлетворенным любопытством, и что-то бормочут друг другу, маскируя свист и скрежет речи за естественным шумом мотора. Когда Маша ступает на бетонную плиту остановки и автобус уезжает, она как будто оказывается в пространстве абсолютного беззвучия, и это оглушает ее.
Из-за забора углового дома ее взгляд ловят глубоко вдавленные в голову глаза — и хотя Маша прекрасно знает старуху, живущую в этом доме с начала времен, и это именно она звонила позавчера в «Сосны», чтобы сообщить, что батя помер и надо ехать скорей, Маша тем не менее не может вспомнить, как ее зовут, а старуха уже скрипит ржавой калиткой и семенит, держа мясистой ладонью юбку, к ней, чтобы придирчиво оглядеть, взять за предплечье — вот оно как, Машка, бывает, бог дал бог взял, ну пойдем, — и пока они идут к дому, старуха запутанно и от смущения немного грубовато пытается Маше что-то объяснить, но Маша не понимает, над чем тут подумать надо, что делать, и почему дом пустой сейчас, нету матери там, у бабы Люси она.
Старуха отпирает дверь Машиного родного дома выловленным из кармана юбки ключом, по-хозяйски заходит внутрь, топочет ногами, включает свет и, взяв Машу за плечо, мягко толкает ее в комнату: ну иди, там он. Лицом она указывает в сторону двери, а сама идет в кухню: тарелки посчитаю.
Оставшись одна, Маша замечает в себе секундное удивление, почему завешано зеркало и такой ужасный воздух — ах да, да, — и толкает дверь. В комнате сумрачно, и Машины глаза еще с полминуты привыкают к сумраку, прежде чем она различает стоящий на стульях гроб, а в нем — своего отца в костюме и при галстуке. Маша толком не знает, что делать; садится рядом, смотрит на отца, но ей совсем не хочется трогать его — ни руки, ни лицо. Она отворачивается.
На кухне грохочут тарелки, стонут дверцы шкафов и скрипят выдвигаемые ящики — Маша леденеет от страха и бессилия: ногти ее до крови впиваются в ладони. Единственное, чего ей хочется, но чего она, конечно, не сделает, — это потихоньку выскользнуть из дома и, пока старуха пересчитывает вилки-тарелки, бежать на вокзал, залезть в любой поезд, хоть в товарный состав, хоть под крышей вагона, трястись, мерзнуть, все что угодно, только бы с каждой минутой — еще одним километром дальше, дальше, дальше. Маша сидит, спрятав ладони под мышки, и еле удерживается, чтобы не начать покачиваться. Становится тихо, и через минуту (в течение которой Маша чувствует на себе изучающий взгляд) в оставленную открытой дверь проскальзывает старуха. Она сначала садится на краешек кровати с той стороны отца, несколько минут сидит там, вздыхая и то наклоняя, то поднимая голову, потом, будто что-то заметив, поправляет манжету, галстук, воротничок, волосы, спускается обратно к ладоням, берет их в руки, гладит — и единственное, что удерживает Машу от того, чтобы с криком да бросьте же это, он мертвый, мертвый, мертвый оттолкнуть старуху, — это что старуха не поймет, о чем речь: на лице у нее умиление и удовлетворение.
Наконец старуха как бы с сожалением отпускает отцовские руки, прогоняет с лица легкую светлую улыбку и говорит Маше ну пойдем, пойдем, посидишь еще, надо нам с тобой порешать кой-чего, похоруны чай, не в грибы сходить, — бубнит она, и бубнит, пока берет Машу за плечо, бубнит, мягко подталкивая к двери, как будто сама Маша и не вспомнила бы, где дверь. На кухне, где старуха (как же, мать твою, узнать, как ее зовут) может говорить уже в голос, выясняется, что вопросы — это что будет бесплатно, а что нет, и кому и сколько надо будет дать: батюшке дать надо будет, он, может, и откажется, а все равно надо, мужикам на погосте две бутылки надо будет дать, это, значит, по… — Маша пытается достать кошелек, но старуха останавливает ее, и, похоже, этот скорбный список придется, хочешь не хочешь, выслушать до конца, а он бесконечный, в нем банки горошка шествуют за палками колбасы, водочные бутылки маршируют вслед за табуретками, батареи апельсинов выкатываются на передовую бок о бок с пузатыми банками, полными крепких соленых огурчиков, и над всеми шеренгами командирствуют хваткие, опытные — старуха загибает пальцы — Люся, баба Паша, Аньку попросим, ну мать тоже, уж сыр-то небось сможет порезать, — потом она переходит к диспозиции пира, встает и махами рук показывает, как они поставят стол и сколько с какой стороны человек посадят, и, увлекшись, задевает стопку тарелок (Маша успевает прийти на помощь, но одна тарелка все-таки срывается вниз и гибнет), ну пизда на лапах! — старуха сердито вскрикивает. Маша втягивает голову в плечи, как будто отец мог бы теперь заорать, чтоб не мешали ему.
Потом они куда-то идут, Маша порывается отдать старухе деньги, та отпихивает ее — погоди ты размахивать-то, — и что-то опять объясняет, что — были, говорит, деньги-то, не врет, наверно, а? — косой взгляд на Машу — ты же и присылала небось, нет чтоб на книжке хранить, нет, в носок куда-то попрятала, а теперь говорит «не помню». Машка! — старуху вдруг осеняет, — а тебе не говорила она, куда, а? Маша мотает головой, ни о чем таком мать не говорила. А она что, не помнит? — Маша слышит себя как будто со стороны. Да говорю же я, чем ты слушаешь, плоха мать-то твоя, — раздраженно талдычит старуха, — сама увидишь сейчас. Ноги у Маши становятся ватными; что-то мямля, она опускается на скамейку у серого забора и, чтобы придать этой задержке легитимность, тянется за сигаретой. Ну покури, покури, Машка, погоди, пришли почти, — речь старухи ласкова и сурова.
Прежде чем Маша сточит сухую сигарету и затолкает окурок в холодную октябрьскую землю, чтобы, слегка пошатнувшись, подняться со скамьи, уловить не предназначавшийся к просмотру старухин взгляд из-под выбившихся седых, пошевеливаемых ветром прядей — взгляд сразу и осуждающий, и прощающий, — прежде чем она пройдет еще до угла и направо пять домов (и почему-то особенно запомнятся — вообще от всего этого дня, как воспоминание, а не логический конструкт, останутся только они — желтые, яркие, как фонарики, березовые листья, беспомощно дергающиеся в ослепительном ледяном небе), чтобы в доме, про который (вдруг вспомнилось) в детстве говорили, будто живет в нем немецкая шпионка — потому, видно, что там было всегда все слишком в порядке, цветы в квадратиках, грядки в досочках, занавесочки треугольничками, — так вот, чтобы — придется же это, как ни откладывай, сделать — найти свою несчастную мать, прежде чем она сделает это, следует обратить внимание на то, что именно эта череда, начиная от встречи с А. А. до встречи с матерью, — череда не событий даже (какие ж это события; размазня одна), а чистого, дистиллированного ужаса, — именно она, судя по всему, и подтолкнет Машу к мысли о том, что — опять же: это не была мысль, это было тяготение земли для летящего (привет Стоппарду) с пизанской башни ядра, некоторая внешняя неизбежность того, что — ей нужно как можно скорее родить ребенка.
Однажды, отвечая на вопрос о героине «Save», почему та отказывается от рождения ребенка (интервьюер был ночной, в очках и с легким джазом в качестве фона, поэтому он поставил вопрос расширительно — о бездетности европейской молодежи вообще), Маша сказала, что просто эти люди живут в таких местах, где нет шанса встретить кого-нибудь, от кого можно было бы завести ребенка. Интервьюер понимающе закивал очками, заговорил об интернете, виртуальной реальности, — и Маша облегченно соглашалась, но в действительности, конечно, речь должна была идти не об этом. Маша имела в виду, что рождение ребенка есть радикальная форма встречи с Другим, в то время как все человеческие усилия западной цивилизации уходят на то, чтобы от встречи с Другим уклоняться ежедневно и в конечном счете встречи с Другим избежать; ничто так не пугает человека (и этот страх есть предмет рефлексии в многочисленных фильмах ужасов), как одна только возможность такой встречи, лишь представление о ней (и поэтому childfree есть не что иное, как fearful).
Но в том, кажется, и состоит повседневная работа художника — чтобы носить в себе все язвы века: Маша же первая испытывала панический ужас при мысли о ребенке, о человеке, с которым хочешь не хочешь надо договориться, и расковыривая эту рану все больше и больше, в глубине она обнаруживала очень простой, но фундаментальный страх — страх невозможности бэкапа. (Вот он, памятник Отмене Последнего Действия: факел, высоко поднятый над головой, и плетка в заведенной за спину левой руке.) И, как одной империи можно изменить, только сменив ее на другую, страх можно выбить клином другого страха: все то, что случилось за время съемок «Янтаря», заставило Машу почувствовать себя загоняемой по сужающемуся коридору дичью; и беременность была будто бы тем-чего-никак-нельзя-было-ожидать, попыткой обмануть охоту, не говоря уж о символическом противопоставлении: нарождающаяся жизнь сопротивляется подступающей со всех сторон смерти. Все это, конечно, не отменяет того, что Маша была уже взрослая женщина, и ей было, в общем, давно пора.
Беременной Маше пришлось дать несколько интервью в преддверии выхода нового фильма, и каждый раз она по-разному отвечала на задаваемый с особо благостной улыбкой и взглядом ей под грудь вопрос. В минуту раздражения она могла сказать, что не уверена, от кого ребенок, и ей любопытно посмотреть. Если журналист ей почему-то нравился, могла рассказать длинную-предлинную историю про то, как ей не доверили курс во ВГИКе, а ей так хочется оставить после себя кинематографическую школу, но ведь надо серьезно подходить к вопросу — воспитывать будущего режиссера с пеленок. К тому моменту, когда журналист начинал соображать, что к чему, обычно было уже поздно. Ясно, что тот, кто взялся бы всерьез перечислять аргументы в пользу решения о продолжении рода, попал бы впросак — как и тот, кто решился бы объяснить наконец, почему надо любить родину или зачем надо говорить «спасибо». Важнее другое — разрушить иллюзию (неизбежную, видимо, для структуры текста) о принятии решения как совершающемся акте, потому что в действительности для Маши это было продолжающееся мучительное усилие.
Вплоть до того момента, когда швейцарский доктор с грузинской фамилией после изматывающего двухчасового марафона зафиксировал остановку родовой деятельности и строго склонил голову к плечу: резать будем, заинька, коли сама не хочешь, — вплоть до того момента, когда Маше поднесли к лицу маску, она истерически вздохнула и перестала наконец рожать ребенка, — до самого этого момента ей было трудно принять решение.
Диагностировав тяжелейший «чистый» гестоз, очаровательная немецкая старушка развела руками — куда раньше смотрели?! А что раньше: раньше — монтаж, не до того; чудовищные отеки ног Маша относила на счет усталости от работы (монтировали по десять часов в сутки) и туда же чуть позже списывала страшное, нечеловеческое давление. Но даже тогда, когда стало трудно обманывать докторов, когда и со стороны стало очевидно, что что-то не так, и Машу стали настойчиво уговаривать лечь на обследование, уже брали трубку вызывать бригаду, — Маша отговаривалась, что она гражданин другой страны и лучше завтра улетит в Германию. Тогда, конечно, трубка ложилась обратно, тетя-доктор качала головой и говорила: прямо завтра тогда летите, не откладывайте, это же всего лишь обследование. (Сказать настоящую причину — что как бы там ни было, нужно закончить озвучку и монтаж, а потом уже хоть трава не расти, — было, понятно, нельзя; не потому даже, что тогда тетя-доктор настояла бы (нет), а просто потому, что это была бы потеря времени.)
Чудом, уже в Швейцарии, когда за три недели до родов Маша все-таки, на следующий день после того, как три раза подряд посмотрела final cut, легла, врачам удалось свести к минимуму токсикоз и предотвратить гипоксию, но объяснить Маше, откуда взялся этот чертов гестоз, они так и не смогли. (То, что непонятно докторам и пока только смутно-догадливо для самой Маши, яснее, быть может, со стороны: ребенок, растущий в теле матери, которая, вроде бы, решила рожать, но, с другой стороны, не уверена, не заставили ли ее так решить, как заставляют избирателя принять единственно верное решение, — этот ребенок не мог не подумывать о том, чтобы сбежать к чертям собачьим от чересчур рефлексирующей мамаши. Впрочем, да, можно предложить и более простое, более естественное объяснение, именно его предложили Маше врачи на родине, когда в карточке написали позднородящая; это, в конце концов, правда.) Как бы то ни было, когда по окончании действия ксенона ей принесли дочку, приложили к груди и панический вой сменился деловитым сопением, — Машу, после секундного ужаса и омерзения, захватила мощная и стремительная, как цунами, волна любви к этому лиловому червячку. И если бы не страх оторвать ее от еды, она всем телом затряслась бы, но вместо этого — и как бы в компенсацию — разрыдалась; не в голос, но тихо, с какими-то неприличными всхлюпываниями — так, что в три секунды промокла подушка. Маша почувствовала, что все решено; и — все решено без нее. Скоро Машу вместе с лиловым червячком накрыла простыней турчанка-медсестра, и ее поразило выражение лица спящей женщины: будто у атлета, который держал над головой штангу, а ее у него вдруг походя забрали, — тупое и использованное.
В действительности, из всех маленьких усилий, из которых, как мозаика из смальты, каждый день складывалась Машина беременность, только самое первое удалось относительно легко и сразу — решив, возвращаясь из дома тем же поездом назад в Петербург, бросить курить, она оставила на столике купе пачку сигарет, придавила сверху зажигалкой и через неделю почти не вспоминала о сигаретах. Уже следующая задача — забеременеть — оказалась куда как более трудной.
Рома встретил Машу — невыспавшуюся, зато трезвую — на вокзале, они позавтракали и поехали на север. Маша забралась на заднее сиденье, чтобы хоть в машине, может быть, немного подремать. Ехали молча: Рома отдавал дань Машиной угрюмости; Маше, угрюмой и отупелой, было не до Роминого беспокойства. Где-то на полдороге Рома заглянул в наклоненное зеркало: не спишь? Маша мыкнула. Рома еще помялся и сказал наконец, что из-за этих трех дней тут кавардак небольшой, разброд и шатание, в общем, кто-то уехал с базы, кто-то наоборот, ну и Дашка тоже, короче прикатила, ну и… понимаешь, я же не начальник, я не могу ее выставить… Маша не отвечала так долго, что Рома решил уже, что она все-таки спит. На самом деле Маша, тормозившая после бессонной ночи, никак не могла понять, что ей нужно ответить. Она уже составила было фразу о том, что коль скоро он взрослый мальчик, а Даша — его, пусть и бывшая (если и впрямь так), женщина, то ему следовало бы разобраться с ней самому, она даже открыла рот, начала что-то говорить, осеклась, а Рома поймал в зеркале отражение ее опухших глаз — и тут ей пришло в голову, что, конечно, он не может сам всего этого не понимать, но раз, понимая, все-таки отказывается разбираться сам, то зачем ей его воспитывать? — тем более что теперь это бессмысленнее всего. Поэтому, отвечая на его вопросительное а? — Маша выпалила мгновенно (как бывает после долгого трудного размышления) пришедшее в голову: что ж ты так поздно сказал? заехали бы к тебе, хоть потрахались бы. Рома опешил, но скоро облегченно залопотал про то, что закончим съемки, тогда уже… не посреди же работы устраивать тут… — но Маша уже наконец заснула.
Выгнать Дашу удалось только на четвертый день работы (Маша торопилась не только потому, что Даша, вырастающая то тут то там, заливающаяся смехом и обращением дающая понять, что она с Региной на ты, была ей противна, а еще и потому, что вот-вот должны были начаться месячные). Ближе к вечеру директор картины резко, раз уж она не хотела понимать намеков, объяснил Даше, что контора не платит за пребывание на съемочной площадке постороннего человека, и Даша, пошедшая розовыми пятнами, уселась в Ромин универсал, чтобы всю дорогу обменивать свое злое молчание на его долгосрочные обязательства: радость моя, будь это другая картина, другой режиссер, я бы плюнул на все, но ты же знаешь Машу, ее от работы отрывать себе дороже, вот доснимаем, тогда… хочешь, поедем куда-нибудь? — Даша молчала.
Рома вернулся со станции страшно злым (ждать электрички пришлось лишний час), посмотрел планы, подснятые помощником за это время, все забраковал, но снимать дальше не было возможности — стемнело и пошел дождь. Уже ночью, сидя у Маши, стакан с виски в руке, сигарета — в окно (почему ты все-таки бросила курить?), Рома говорил, стараясь смягчать формулировки, что, в сущности, Даша чувствует себя очень неловко, это нельзя не принимать во внимание, ведь она когда-то жила с тобой в одной комнате и вы друг у друга списывали, а теперь ты режиссер, а она актриса на эпизоде. Потом он отставил стакан и целовал Машу, а она сказала, что сегодня можно так.
Рома удивился — не так уж он был пьян, чтобы не помнить, что Маша всегда подходила к этому вопросу куда более щепетильно, — но еще больше он должен был бы удивиться утром, увидев, как она побежала в ванную, подхватив прокладки из сумки, — должен был бы, потому что в действительности он решил от греха подальше ничего не заметить, и — чудесное свойство мужской психики — уже через пять минут он и в самом деле стал ничего не заметившим. Маша же, сидя в туалете, готова была заплакать от злости.
Задержка у Маши получилась на следующий месяц; ей пришлось, рискуя в пух и прах рассориться с продюсером, затянуть съемки, снимать в последние дни все больше и больше — уже почти зимней — натуры, переснимать уже давно снятые кадры, — но даже когда группа стала разъезжаться, Маша осталась и заставила остаться Рому еще на два дня, пока увозят остатки реквизита и оборудование. Последний раз они спали вместе в пустом здании, в полной тишине: было холодно, директриса принесла им два лишних одеяла, но и под ними, прежде чем о чем-то таком думать, пришлось чуть не полчаса трястись от холода и сдавленно орать от прикосновений ледяных ног. Рома, уже привыкший к тому, что весь последний месяц сегодня можно так, подумывал о том, чтобы попробовать посчитать дни (несколько дней после того, как она вернулась — но только какого же она вернулась?..), но не делал этого, потому что в конце концов ей виднее. Вероятно, если бы Маша спросила его, желает ли он не отходя от кассы стать отцом ее ребенка, он бы предложил подождать более благоприятных обстоятельств, но она не спрашивала, а он, оставляя в ней свое семя, не просто испытывал известное, несравнимое, увы, с безопасным сексом, удовольствие, но и позволял себе (только в предположительном, конечно, ключе) фантазии о папе-Роме — самом разном, от папы-Ромы, ведущего выводок детей в сад перед работой, до папы-Ромы, нехотя признающегося, что, да, и в Германии тоже у него есть дети, но он не может сказать, от кого.
То, что испытывал Рома, раскачиваясь под двумя наполовину съехавшими одеялами, следует назвать азартом; и Маша, говорившая каждый раз, что сегодня еще можно, делала это каждый раз специально, поддерживая азарт, ну и для того, чтобы дать Роме, если он захочет, возможность за этот обман ухватиться. В деле производства детей мужчина значит до обидного мало. Рома просто, как он не заметил в первый раз, продолжал не замечать и потом: самое главное — что Маша не только на площадке, но и в постели стала кардинально другая. Прижимаясь к нему, подстраиваясь под его ритм, она была сосредоточена внутрь себя: Рома стал для нее — правда, дорогим и любимым — инструментом; как музыкант, прикладывая камертон к деке, сосредоточен не на камертоне, а на своем слухе.
Правда заключалась в том, что Маша в несколько последовавших за смертью А. А., похоронами отца и свиданием с матерью недель как будто плыла в молоке, в молочном супе из поднимающихся откуда-то из глубины образов. У нее было такое чувство, будто на энергии воплощения этих образов в реальность можно контрабандой протащить в реальность и себя саму, вместе с мягкими макаронинами образов выплыть из молока на ясный и яркий свет дня. По-видимому, она в этом состоянии не очень отличала образ будущего ребенка от подлежащих воплощению кадров. По крайней мере, выражение лица у нее, когда она целовала Рому и когда сидела за монитором, было абсолютно одинаковое. Знал об этом, по понятным причинам, только Рома и никому ничего не говорил.
Однако известное напряжение чувствовалось теперь на площадке всегда — ведь режиссер должен ввести в резонанс с собой всю съемочную группу, как художник должен срастись с кистью, стрелок — с ружьем, лыжник — с лыжами: внезапные коллективные вспышки гнева, или общая апатия, когда гримеры гримируют по два часа, а осветители бродят как призраки, или резкая непроизвольная смена темпоритмов, или бьющийся-ломающийся ни с того ни с сего реквизит, — люди склонны приписывать такие вещи либо слепому случаю, либо действию потусторонних сущностей, так что Маша была вне подозрений. Парадоксальным образом осторожные испуганные взгляды устремлялись на Машу как раз тогда, когда она менее всего этого заслуживала — скажем, когда она решительно потребовала переснять снятую чуть ли не в самом начале сцену (диалог героини с сыном наедине), положила на стол большой кусок сыра, коробку саморезов и попросила старушку играть более упрямо, но немного отстраненно, вкручивая в процессе саморезы в сыр (ни в коем случае не играя сумасшествие), — многие из группы, если бы не страх схлопотать, буркнули бы, что такого в жизни не бывает, — но даже если Маша и чувствовала, что у кого-то тянется рука покрутить пальцем у виска, то с чего бы ей было кому-то что-то объяснять: она-то знала, что так в жизни бывает, она видела это.
А дело было так. Маша докурила сигарету, вращающими движениями запихнула окурок в землю под ногами, и старуха (Маша почти вспомнила, как ее зовут, крутилось на языке, так что когда они вошли в дом и хозяйка подала голос из кухни: Галь? — это было как наконец отвалившаяся от ранки корочка; конечно, теть-Галь) отвела ее к матери. Мать сидела в квадрате светлеющего окна, на контровом свету, и пока у Маши привыкали глаза, молчание скрипело шагами старух в прихожей. Когда глаза наконец привыкли, Маша увидела осторожную мамину улыбку. И мама очень доброжелательно, но с интонацией немного вопросительной сказала ей: здравствуйте.
Маша села на край застеленной кровати, и хотя она совершенно не представляла, с какой интонацией нужно говорить «мама, привет, это я, Маша», — именно эти слова она произнесла, и прозвучали они так, как будто она осторожно постучалась бы среди ночи в родительскую спальню. И только когда мама закивала головой — а, здравствуй, здравствуй, — Маша смогла судорожно вдохнуть. Все это было очень похоже на то, как если бы мама просто не разглядела ее в первый момент, а потом признала бы. В это можно было верить, и даже довольно долго.
На самом деле в это можно было верить даже после того, как — уже через пару часов, дома, теть-Галь расставила приданных ей старух по боевым позициям и, чуть подумав, посадила мать в угол резать сыр, старухи работали, как оркестр, как футбольная команда, как центр управления полетами, так что никто в угол не смотрел, пока Маша не ахнула, — Маша увидела, как мать сосредоточенно и упрямо закручивает в кусок сыра саморез за саморезом, вытаскивая их из ящика стола (где отец всегда хранил промасленные тряпочки, гвоздики, шурупы без гаек и гайки без шурупов). И даже когда, в ответ на теть-Галино Ленк, ты зачем нахуй сыр портишь? — мать будто разом вынырнула из своего сосредоточения, судорожно задумалась (видно было, что она действительно не знает, зачем), еле промямлила покойник очень любил… — и подняла на теть-Галю вопросительные, просительные глаза, — даже и на это еще можно было не обратить внимания.
Однако чуть позже, перед самым отъездом на кладбище, мать взяла Машу под локоть, увела ее в дальнюю, бывшую Машину, комнату, заставила открыть подбрюшье дивана, долго ворочала пыльные коробки и пакеты, потом наконец вытащила один и протянула Маше, сказав со значением: вот, лежат, вам-то пригодятся они. Маша заглянула в пакет и поняла, что мама принимает ее за кого-то другого: в пакете лежали детские игрушки. Страшно было смотреть на улыбающуюся осторожно мать и жутко — внутрь пакета, где лежали перчаточные куклы из ее детства, щедро набитые ватой и прочно зашитые: рваные они чуть-чуть были, подзашила я их.
Маша взяла пакет, спряталась от матери и, как будто он жег ей руки, быстро сунула между шкафом и стенкой. Но по дороге на кладбище (тряслись в «буханке», коленями уперевшись в гроб) у Маши подпрыгнуло и заколотилось сердце: ей вдруг пришло в голову, что ничего лучше этих глупых зайцев и медведей нельзя придумать для титров будущего «Янтаря». В холодной, с заиндивевшими стенами, утробе пропитанной бензином машины Машу душила радость удачи — от неуместности этой находки кружилась голова; и было страшновато: так, наверное, испанцы выносили золотых богов из покинутых храмов Месоамерики.
Перекочевав в фильм, эти игрушки стали универсальной метафорой; набитые ватой перчатки о двух лапках с головами колобка, зайки, волка, мишки и лисы говорили сразу о тысяче вещей, но главное — они внушали ужас, но внушали его тайком, так что к последнему титру «режиссер Мария Регина» в зале, набитом самыми циничными критиками и киноманами, становилось тихо-тихо.
Нечто подобное происходило и в финале, когда героиня встречала в лесу оленя (крупный план: нежные, широкие ноздри животного, восхищенные старушечьи глаза, подушечки пальцев гладят шерстяные рожки), — сцена эта, завершающая картину, так же мало поддавалась однозначной трактовке. (Не в пример финалу «Save», в котором героиня колотила кулаками в стеклянную дверь и, получалось, в экран: выпустите меня из этого долбаного кино.) Олень этот также был «вывезен» Машей из поездки домой: изначально сценарий заканчивался просто смертью героини, олень же явился сам собой на похоронах, когда мать вдруг положила на лежащий уже на веревках гроб поднятую с земли надвое расходящуюся веточку.
К этому моменту осознание того, что мать ее не в себе, окончательно догнало Машу, и Маша стала как будто пьяная — в голове у нее гудело, и события в окружающем мире наступали как бы рывками, — ей было страшно. Не только потому, что страшно узнать такое про собственную мать, но и потому, что, как выяснилось, она о ней снимала кино, и, главным образом, потому, что через день она должна была вернуться к съемочной группе и продолжать снимать это кино, теперь уже зная, про кого она его снимает.
Потому что, конечно, хотя обстоятельства жизни матери и героини были несхожи — мать ее не была владелицей большой старинной квартиры, других детей, кроме Маши, у нее не было, дети не отправляли ее сообща в богадельню, чтобы потом приезжать по очереди и ебать бедной сбрендившей старушке мозг, — все же в главном, безусловно, это была та же история — история про то, как человек с нарастающей скоростью движется к абсолютному финалу в оглушительном одиночестве, как перед окончательным затемнением экрана человек проясневает все больше, больше, больше, но сталкивается с трагической невозможностью этот опыт каким бы то ни было образом передать остающимся.
Жизнь абсурдна, но когда она хочет шутить, она надевает маску логики: критика, столь благосклонная к Региной до сих пор, предъявляла «Янтарю» прежде всего непонятность: так, будто до сих пор Регина снимала кино о чем-то близком и заранее понятном — религиозной терпимости, умеренном левом дискурсе или феминизме, — а теперь обманула связанные с ней надежды и сняла что-то туманное о русской, наверное, душе.
Это, плюс проблемы с прокатом (права на ленту принадлежали какому-то едва ли не на бумаге существующему телеканалу, и, чтобы передать их, согласно первоначальной устной договоренности, за символическую сумму конторе приятеля Петера, пришлось оформлять и переоформлять целый грузовик документов, за это время прошел фестивальный цикл, фильм уже не был новинкой, и прокатчики воротили от него нос) — вот и получилось так, что «Янтарь» «провалился». Провал этот, однако, следует признать чисто техническим — спустя месяц после появления ленты в сети (высококачественный рип появился сразу после официального релиза; Машу не раз будут спрашивать журналисты, не имела ли она отношения к появлению файла, — и Маша будет громко и четко отвечать «нет», при этом недвусмысленно подмигивая), так вот, спустя всего два месяца «Янтарь» посмотрели больше ста тысяч человек во всем мире.
Но еще до этого и, конечно, задолго до того, как «Янтарь» стал регулярно, как по расписанию, попадать в списки must see десятилетия, и раньше нового поколения критиков, ставившего старшим в вину, что «Янтарь» проглядели, Маша знала — спокойным чутьем, которое художнику дается раз-два в жизни, — знала, что теперь-то у нее получилось. Первый человек, который сказал ей об этом, был Петер. Он встретил ее в аэропорту Цюриха, до последнего момента недоумевая, почему вдруг Цюрих (сказала: встретишь — поймешь), и, действительно понял когда она выплыла из-за поворота коридора с одной легкой сумочкой, да и ту несла рядом с ней девочка с желтым шарфиком на шее — потому что есть кое-какие привилегии у женщин на девятом месяце. Перехватив сумочку у молча чертыхнувшейся, что нельзя достать телефон и сфоткать звездную пару, девочки, Петер медленно повел Машу к напрокат взятой «ауди Q5» и всю дорогу — а ехал он медленно, как улитка, облизывая дорогу животом, — до арендованного домика с видом на озеро в Golden Küste (все это были Машины инструкции, выполненные им слепо: надо так надо) молчал, зная, что все что угодно прозвучит фальшиво, кроме того единственного вопроса, который он боялся задать: даже не кто он? а какого хера его тут нет?
Сценарии, которые рисовал себе в воображении Петер, все были верны лишь отчасти. Действительно, отец ребенка был для Маши в некотором смысле не более чем инструментом — но все же ни от кого другого ей не пришло бы в голову залетать; и впрямь он был сволочью — хотя дело было вовсе не в том, что отец не хотел ребенка, а в том, что отца хотела другая женщина; наконец, у него на самом деле были дела — и именно такие, которые не позволили ему прилететь вместе с Машей, но Петеру как обладателю синего паспорта и в голову не могло прийти, что это были за дела: правда, как часто бывает, заключалась в банальности — Роме просто не давали визу.
Проблема в том, что вещи, которые должны происходить по самому собой разумеющемуся ходу вещей, именно что в соответствии с естественным ходом вещей не происходят. Рома и Маша должны были бы расписаться, но они не могли этого сделать, хотя бы потому, что не могли заговорить об этом.
Маша всю зиму занималась пост-продакшн — не то чтобы действительно не было ни минуты завести этот разговор, скорее это был удобный повод всякий раз от мысли о таком разговоре отмахнуться. И не в том дело, что разговор не начинал Рома — женщины знают тысячу и один способ заставить мужчину завести любой разговор так, чтобы мужчина был уверен, что завел этот разговор сам. Если уж начистоту, то Маша, все более подозрительная к любого рода вещам, которые кажутся — ей самой прежде всего — само собой разумеющимися (потому что — а кто субъект этого «само собой»?), с каждым днем все больше удалялась от ясности при ответе на вопрос «зачем это нужно?». Именно этот вопрос, а не «что ты молчишь?» она должна была тогда уж задать Роме, но как-то слишком уж дико он звучал.
Как ни странно, Рома молчал не потому, что не хотел жениться на Маше, вообще-то как раз наоборот — проблема была в том, что он, метущийся между или от него беременной Маши и или ждущей его всегда с обедом Даши, в действительности, по вполне сновидческой логике, хотел бы жениться и на той, и на другой. В сущности, именно эту ситуацию неустойчивого равновесия ему и не хотелось вопросом «выйдешь за меня?» разрушать: утром он просыпался с Машей, готовил ей завтрак и, прильнув на минуту ухом к животу, провожал на студию, а день и большую часть вечера проводил в своей, уже женской, квартире, где Даша все с меньшим и с меньшим усилием по преодолению тяготения совести склоняла его к сексу.
При этом именно Даша единственная отдавала себе отчет в том, что происходит, — что время работает на нее. Всякий раз, когда она, сев на стул, расстегивала его джинсы и говорила ну привет, Романчик (сначала его кривило от такого обозначения того, что он привык считать просто членом, но фаза начальной локализации скоро прошла, и это приветствие стало вызывать у него эрекцию), — Даша понимала, что она может вытянуть из него «предложение», но что тогда она проиграет, потому что чем дольше он пребывает в утешительной ауре необязательности, тем меньше он понимает, зачем вообще уходить от Даши.
Во всех этих распасах не было ничего противоестественного (вот ведь и Содом с Гоморрой были уничтожены не за то, за что часто думают, а за обычную жизнь), так что в первый момент Рома даже не понял, почему так пренебрежительно смотрят на него в консульстве: ну да, не расписаны. Вы что, не понимаете, что рожать через месяц?
За день до того, как Маша повела свое удвоенное тело к самолету, чтобы стать средней частью бешено воющей на взлете матрешки, а Рома, помахав ей рукой, покатил в магазин (потому что Даша просила заехать еще в магазин), они расписались — и, по большому счету, Маше было уже плевать на жалкий Ромин тон, извиняющийся за формальность, глупость, но ведь никак без нее, — она была целиком сосредоточена на странной ситуации, когда мертвый (говоря о мертвом, мы, как выясняется, всегда имеем в виду некоторую особую форму жизни, и, исходя из этого, ничего не остается, кроме как признать ребенка, до тех пор пока он не родился, мертвецом) руководит жизнью живых.
Чего Петер не знал, так это того, что самолет доставил ему не только Машу, не только сформировавшегося и уже бурно реагирующего на звучащие в машине Бранденбургские концерты ребенка, но и диск с новой картиной. Врачи настаивали на том, что ложиться нужно сразу по прилете, но Маша выгадала один день, чтобы, во-первых, самой, заперевшись в гостиной, два раза подряд прокрутить final cut «Янтаря», а потом, ночью, показать его Петеру, который, переводя на нее как будто с трудом высвободившийся из-под власти картинки (хоть и картинки уже никакой не было — титры) взгляд, не знал, что сказать (не говорить же ей кёнигин, ты сняла шедевр, — такие вещи читаются по глазам), и неожиданно для себя произнес (имея в виду картину): кёнигин, ты какая-то напуганная.
Еще бы ей не быть напуганной. У Маши был повод быть напуганной.
А дело было так. Вернувшись с кладбища, деловитая стариковская компания под командованием теть-Гали уминала салаты, водку, вареную картошку и жареные куриные ноги. К ночи остатками еды до отказа забили холодильник и каждый уходящий взял с собой апельсины, горсти конфет, завязанные в пакетики стеклянные банки с салатами. Маша, у которой перед глазами все плыло — не от водки (она не пила), от усталости, — уложила мать, причем мать кивала и кланялась и говорила спасибо вам большое. Потом Маша сидела одна в полутемной — горела только отвернутая к стене старая настольная лампа — комнате и курила, уставившись в темное зияние окна. Отрыжка возвращала вкус селедки под шубой, и Маша загоняла ее обратно коньяком. Из теней в углах выходили и рассаживались по комнате старухи — мать ее матери, ее мать и ее бабки. Они как будто хотели что-то говорить, но передумывали — вздыхали, качали головами, отводили глаза, сцепляли пальцы, переглядывались, как будто думали что-то вместе и с чем-то все вместе соглашались. Усатые губы вздергиваются, поднимаются и опускаются складчатые веки, обхватывают друг друга негнущиеся пальцы — старухи качают головами и шевелят подбородками, будто жуют что-то. Слишком далеко ушла от них Маша — далеко в холод и далеко в пустоту. И тем, значит, больнее и страшнее будет ей возвращаться — а как иначе? все вернулись.
Удвоение мира
В Россию Маша никогда не вернется.
Эмиграция — благодарная тема для рефлексии, но Маша будет высказываться об этом факте своей биографии без энтузиазма. На знаменитой пресс-конференции в «Kino Arsenal» по поводу обнаружения «Погони» она скажет в ответ на соответствующий вопрос: попробуйте целиком заменить себе кровь, полностью слить свою и залить в свое тело чужую: я везде в России.
А один из героев «Голода» скажет: «Моя родина проиграла величайшую войну в истории человечества и была разграблена и разорена победителями. И особая трагичность тут в том, что лучшая, талантливейшая часть народа помогла это поражение организовать. Поэтому пребывание в России для человека с умом и совестью мучительно».
К тому моменту Маша почти перестанет общаться с журналистами, так что этими полутора ограничиваются ее публичные высказывания по поводу эмиграции — в первые два года журналистам просто не приходило в голову спрашивать что-то такое: мало ли кто уезжает из своей страны на пару лет, а Маша никогда не говорила о том, что не собирается возвращаться.
Говорила только однажды — Петеру, причем в первый же день как прилетела. Тогда же она произнесла загадочную фразу о том, что уехать из России для нее, может быть, — один из способов удвоения мира. Петер пропустил эти слова мимо ушей — чего не скажет женщина, которой со дня на день рожать, — и однако на них нужно обратить самое пристальное внимание потому, что ими, попутно, Маша выболтала одну из сокровеннейших своих мыслей — пусть не до конца сформулированную.
Придется вернуться в Петербург — именно там, за несколько месяцев до отлета, ей открылась работа этого механизма. Дело было так. Маша сидела за монтажным столом и в сотый раз прокручивала сцену, в которой сын и дочь в присутствии больной старухи-матери выясняли, кто из них перед ней меньше виноват, — «восьмеркой» снятые искаженные лица и мучительный взгляд старухи, силящейся понять, зачем они кричат, — всю эту сцену, как и любую из своих лент, Маша знала наизусть, каждый кадр в мельчайших деталях, и тем не менее, чтобы, может быть, добиться озарения, чего тут не хватает, вновь и вновь нажимала play, — когда задергался в кармане телефон, и Маша увидела на экране незнакомый номер.
Голос, который услышала Маша, был ей, однако, знаком — это была Лиза (дурацкое слово «вдова», но чем человек старше, тем больше в его жизни появляется дурацких слов), — и в то же время Маша впервые слышала этот голос не раздраженным и не высокомерным: Лиза говорила примирительно, как будто смерть А. А. что-то значила для них двоих, а не только была катастрофой сама по себе. Выяснилось, что Лиза должна передать Маше какую-то вещь, которую, она не могла толком объяснить, то ли А. А. велел передать, то ли Лиза просто хотела Маше подарить, — Маша, впрочем, не расспрашивала: она решила поехать.
Вещью оказался Пушкин — второй том желтого трехтомника. Маша успела совсем забыть про эту книгу и как будто впервые читала: «Нежной Маше. Прощайтесь с родимым порогом, Вас ждут неизъяснимы наслажденья» — только вчерашний студент мог сделать такую трогательную во всей своей и пафосности, и двусмысленности надпись, но теперь Маша поймала себя на ощущении, что принимает это послание не от двадцатипятилетнего, а от до сорока лет нескольких месяцев не дожившего А. А. Маша сунула книгу в сумку; Лиза угощала ее чаем. В углу комнаты возилась с куклами курчавая черноволосая девчушка, Машу немного мутило от запаха табака, но поскольку ее живот пока еще можно было принять за последствие излишней любви к мучному и не более того, она не жаловалась, чтобы не поставить себя в идиотское положение — больше всего она не любила отвечать на не прозвучавшие вопросы. Из того, что говорила Лиза, было понятно, что передать Маше Пушкина — ее собственный почин; она нашла книгу на рабочем столе А. А.: ему, наверное, был нужен текст для статьи или для лекций, — это прозвучало вопросительно, как будто Маша могла бы подтвердить, что нет, не в том дело, что А. А. до последних дней своей жизни обливал слезами вещь, которую он подарил когда-то девушке, в которую влюбился, и как будто Лиза сама не понимала, что самим фактом и своего звонка, и этой встречи (я подумала, что эта книга должна быть у вас, так будет правильно) она в некотором роде разоблачает собственное открытие, только теперь, очевидно, сделанное (чем и объяснялся примирительно-уважительный тон ее голоса), — что А. А. Машу любил и умер, этой любви не пережив.
Лиза рассказывала, как он последние годы все тускнел, тускнел весь, понимаете, инфаркт не рак, его не ждешь, но тут поневоле поверишь, что люди такие вещи… ну, предчувствуют как-то, — и Маше вдруг стало ясно, что цель всего этого мероприятия — хоть немного поделиться ответственностью за его смерть: я не принесла в его жизнь радость, но ведь это вы когда-то отняли ее у него, — этого, понятно, Лиза не говорила, но Маша поняла ее именно так, и тогда ей стало противно до того, что занемел во рту язык, она уже не могла поддакивать, а только кивала, кося глазом на девчушку с почти знакомым лицом: девчушка укладывала куклу спать. Кукла спать не хотела, девочка закрывала ей глазки указательным пальцем и говорила ей, чтобы она засыпала, а не то плохо будет, спи давай. Девочка заносила ладонь над куклой как будто для удара и так оставалась в задумчивости. В этот-то момент Маше и пришло в голову, что ребенок не просто, как повторюша дядя хрюша, воспроизводит с куклой тот способ, каким с ней обращается ее мать (а что еще ждать от женщины, которая курит рядом с дочкой?), а таким образом — удваивая мир — силится понять, почему ее мать так с ней обращается. Лиза, следя за Машиным взглядом, обнаружила, что девочка ее сдает, сцепила пальцы, как будто защищаясь, и протяжно спросила у зайца, не хочет ли она посмотреть мультик, а Маша одновременно поняла сразу две вещи: что в сцене, которую она сегодня засмотрела до дыр, не хватает именно игры старушечьих ладоней — это раз, и во-вторых, что она только что нащупала фундаментальную тему для своей следующей работы.
Удвоение мира — единственный способ сделать мир познаваемым. Не только потому, что эта операция позволяет поставить рамку, отграничить требующий понимания кусок от бессмысленного мяса впечатлений, но и потому, что таким образом человек задает своему шаткому положению в этом мире третью точку опоры: я и мир — это всего лишь трагическая ситуация; я, мир и второй мир — это уже структура, благодаря которой можно установиться и попробовать применить голову.
На третий день после переезда из домика на Golden Küste в клинику Маша потребует бумагу и карандаш и начнет рисовать. Она будет рисовать лица, окружавшие ее в юности, — разумеется, это будет подготовительный этап к работе над «Чумой» (в фильме будут играть пятнадцать актеров, и каждого Маша найдет из нескольких тысяч фотокарточек — ассистенты собьются с ног и проклянут diese Geisteskranke, но ей действительно нужны будут именно эти, заранее нарисованные: в «Чуме» сам ритм появления в кадре мальчишечьих и девчоночьих лиц станет чем-то вроде несущей конструкции, не зря же Маша нарисует в общей сложности несколько десятков лиц и эти пятнадцать, уже на Фридрихштрассе, отберет, раскладывая и перекладывая листы на полу большой комнаты, из которой по такому случаю вынесет вообще все), ив то же время, заставляя свою память работать на пределе возможностей, вытаскивая из забвения лицо за лицом, Маша обнаружит, что этот стремительно разрастающийся каталог есть также не что иное, как мир ее незаметно оказавшейся в прошлом молодости, и, заставляя призрак за призраком проступать с поверхности бумаги, она, в сущности, впервые пытается понять, что это был за мир.
Однако что до незавершенных сюжетов, то у Маши еще будет случай вспомнить момент, когда она, наблюдая за дочкой А. А., впервые подумала об удвоении мира. Ане, ее собственной дочери (имя выбрал Рома, и Маше оставалось только прикрыть глаза, когда она поняла, что ее дочь будут звать так же, как и дочь А. А., — Рома, конечно, не мог этого знать), будет чуть больше трех, когда она окажется способна более или менее объяснить свои рисунки. Аня принесет маме расчириканный цветными карандашами лист и станет рассказывать: это мой дом, это я, это крокодил, это корова… — а где мама? — Аня задумается, глядя куда-то в сторону, и скажет: мамы нет.
Уложив Аню спать, Маша возьмет в руки рисунок и разрыдается, давясь, чтобы не закричать: девочка, четыре года назад закрывавшая кукле глазки, обвиняла свою мать в том, что та неразборчива в методах воспитания; у ее собственной дочери окажется к маме куда более серьезный счет — Маша, изо дня в день пропадающая на студии, на съемках, едва ли не сразу после родов, попросту лишит Аню себя. И это будет значить, что ее собственная дочь пополнит когорту людей, перед которыми она смертельно виновата, — на скамью обвинителей (ибо должна ведь быть и такая скамья) она, когда вырастет, сядет рядом со своим дедом, рядом с отцом другой Ани и рядом с матерью своей матери.
Маша ребром ладони стирает с листа слезы, лист коробится, и цветные линии расплываются. Берлин ликует: грохочут дансинги, с шипением вырывается из кранов пиво, лопаются на противнях сосиски, воздух наполняется запахом конопли, дрожат под землей поезда, — Берлин — город бушующей молодости, плещущего через край тестостерона. Снесенный до основания, отстроенный на пепелище, Берлин отрицает саму идею преемственности, но Маша, рыдающая в маленькой каюте на борту космического корабля, все пассажиры которого родились уже в полете, обречена возвращаться мыслью к своей матери, оставленной на нечеловеческих ледяных просторах восточно-европейской равнины.
На следующий день после похорон теть-Галь разбудила Машу звоном посуды и, когда Маша вышла на кухню, поставила перед ней разогретую курицу и миску с салатом: водки не надо? и правильно. Сложно было бы не догадаться, зачем, едва рассвело, теть-Галь пришла к Маше — не для того же, чтобы накормить ее завтраком, — и все же вопрос ее: что с матерью-то думаешь делать? — прозвучал с той мерой прямоты, к которой Маша была не готова. Не то чтобы Маша совсем об этом не думала, но ковырялась вилкой в курице так, будто взывала о помощи. Теть-Галь, вздохнув, уселась напротив, уперев локти в стол: сюда ты не вернешься? не вернешься. В город можешь забрать? — Я не… — Все понятно, Машка, не объясняй. Получается что же, в казенный дом мамку сдавать? Маша положила вилку. Они долго, очень долго молчали. Наконец теть-Галь встала, вытерла намытую посуду, повесила полотенце на протянутую над печью веревочку и деловито — так же, как высчитывала, кому нужно дать бутылку, а кому две, — стала перечислять, сколько денег нужно в месяц на питание, сколько на дрова, сколько платить за свет и за газ, и сколько, в конце концов, нужно добавить ей за труды на бутылку. Назвала конечную сумму: это в месяц. Справишься? Маша кивнула, еще не совсем понимая, и подняла на теть-Галю взгляд. Что ты не поняла? К себе я возьму твою мамку. Я не переломлюсь, а в тараканник этот, знаешь, собаку не отправишь, не то что соседку. Под себя она пока не ходит, да и будет — не беда. Маше оставалось только настоять на удвоении суммы «за труды на бутылку». Теть-Галь пожала плечами: отказываться не буду, ты, главное, присылай вовремя. И курицу-то ешь, остынет, гляди.
Ситуация, в которой лучшее из возможных решений оказывается безнадежно плохим, плоха не тем, что решение трудно дается (напротив: чего проще), а тем, что оно никогда ситуацию не завершает: человек, которому удалили опухоль, рано или поздно умрет — но умрет от рака, а не просто от старости. И дело тут не только в том, что сознание не до конца и неправильно выполненного долга перед матерью не отпустит Машу теперь никогда (и ни деньги, которые она регулярно будет переводить теть-Гале, ни какие-то лекарства — их ей насоветует берлинский врач: пресенильный Альцгеймер, редкая штука, нет, не лечится, это так, в сущности, витамины, — которые она будет ей посылать коробками, ничего тут не изменят), но и в том, что, когда история эта, в искаженном, разумеется, виде, станет достоянием общественности, Маше припомнят «Янтарь», и редкая газетная крыса не напишет о том, что Регина сначала бросила собственную мать в доме престарелых, а потом еще и цинично использовала этот сюжет для картины. И, конечно, посвящение, предпосланное «Чуме», будет в этом контексте трактоваться как изощренное издевательство, ибо, как наперебой будут петь инсайдеры, изначально оно предназначалось именно «Янтарю», и только потом Регина усовестилась и перенесла его на один фильм вперед. По другой версии, снять столь бесстыдное посвящение с «Янтаря» Машу уговорили.
В действительности, понятно, предлагаемые обстоятельства героини «Янтаря» не шли ни в какое сравнение с условиями, в которых оставалась погружаться в бездну своего бессознательного Машина мать. И главное даже не то, что фильмовая старуха была окружена ссорами и сварами людей, которые изо всех сил старались использовать ее, наплевав на таинство медленного ухода в безумие, а то, что, в отличие от нее, Машину мать никто не бросал в ужас другого, незнакомого и враждебного, мира. (Именно поэтому Машина мать, согласно ежемесячным телефонным докладам теть-Гали, будет у нее все больше осваиваться и даже помогать по мелочи на огороде, а выдуманная старуха вынуждена будет совершить дополнительное чудовищное усилие, чтобы сбежать и из этого мира — в мир равнодушной природы, к сосредоточенно вырисованным Машей и Ромой матовоглазым котам, медленно перебирающим листьями кустам и прозрачным в свете закатного солнца стволам сосен. Кадр, который войдет во все учебники: голубиный трупик, усыпанный зеленым стеклом мух.)
И уж конечно, Маша знала, что делала, когда ставила в титрах «Чумы» посвящение «Моей матери, которая ушла». Потому что именно в «Чуме» это посвящение проясняло существенный смысл и выводило на должный уровень обобщения историю мальчиков и девочек, родители которых ушли — на две недели уехали из дома.
Поначалу Маша рисовала лица. До родов оставалось чуть больше двух недель. День был занят суровым расписанием — процедуры, обследования, прогулки, еда (несколько раз к Маше пустили журналистов с одинаковым, будто утвержденным где-то в Брюсселе, набором вопросов — одному из них она рассказала, что решила рожать в Швейцарии потому, что, как она только что сказала, ждет девочку, а в России очень большой налог на новорожденных девочек, — и послу в Берне пришлось опровергать эту чушь). И все же сразу после ужина Маша, полулежа, расправив на планшете, который слегка давил живот, большой шершавый лист, рисовала. К Роминому приезду (а он прилетел за четыре дня до) в углу ее палаты стояла в папке пара десятков набросков: ты что столько работаешь? в бога не веруешь? — Рома принес с собой едва уместившуюся в вазе охапку ромашек, и Маша невпопад ответила: не-а, не боюсь.
Маша была вся немного отрешенная, но Рома отнес это на счет предстоящего события и не парился — вместе с Петером (который отказался от дорогого контракта, но Маша об этом никогда не узнает) он носился из магазина в магазин и закупал для Ани вещи (ибо прежде, чем человек появляется на свет, у него уже должны быть вещи), днем забегал к Маше на час-другой, был взбудоражен, не мог усидеть на месте — не только потому, что это подобает молодому отцу, но и потому, что вечерами он бродил по Цюриху и наслаждался одиночеством в абсолютно незнакомом городе. И, да, без Петера он, конечно, не справился бы.
Петер, который в прошлой жизни уже был женат, у которого в Мюнхене ходил в школу сын, оказался единственным человеком, отчетливо знавшим, что именно должно быть в доме, куда собираются привезти младенца. Рома и представить себе не мог, что список вещей окажется настолько большим (он даже слова «распашонка» не знал, и потом, когда Маша просила передать ему распашонку, переспрашивал: это это? злойлих-хуйхен?), а Маша была как будто не здесь — и до родов, и неделю после них: засыпая от усталости (все время хотелось спать), она изрисовывала лист за листом. Она пока вполне не понимала, зачем они ей нужны, никакая история еще не высверкнула в зазорах между ними, но она смутно чувствовала, что нужно нарисовать как можно больше, пока еще есть время хоть немного работать, и что из пухнувшей с каждым днем папки вылупится рано или поздно фильм.
Папка окуклилась и не подавала признаков жизни полгода: только в январе, уже в Берлине, когда Аня стала спокойнее и теперь более или менее спала хотя бы полночи и когда Рома в очередной раз улетел в Питер (за эти полгода он летал четыре раза, и каждый раз не меньше, чем на неделю, — работа, солнце мое, что поделаешь), у Маши появилась возможность развязать тесемочки и, полусонно вглядываясь в наспех сделанные рисунки, попытаться вспомнить, что за ощущение ей удалось поймать тогда в Цюрихе. За это время вышел в ограниченный прокат и подвергся недоуменной критике «Янтарь», и тот факт, что лучшая ее картина не просто встретила холодный прием профессионалов (это, сколько критиков ни презирай, неприятно), но даже толком не была показана, только усугубил ее состояние, которое Рома характеризовал с простотой человека, культивирующего имидж рубахи-парня: Регина, ты хоть понимаешь, что ты совсем рехнулась?
Чего не понимал Рома (потому что если бы он понял это, то ему пришлось бы думать о том, почему так получается: most people would rather die then think — Регина, говори по-русски, меня с немецкого-то воротит, а ты…), так это того, что другой важнейшей причиной Машиного ухода в себя был не кто иной, как он сам. Рома учил немецкий (разумеется, оператор, снявший «Минус один» и «Янтарь», мог найти себе работу где угодно в Европе, но для этого нужно было хоть немного владеть языком) — Петер устроил его на лучшие курсы в Цюрихе, — но он занимался так, будто речь шла о бессмысленнейшем из школьных предметов, и едва ли не каждый день возвращался домой на рогах. Маше было не до того: Аня отнимала все время, и в редкие моменты, когда она позволяла маме просто ничего не делать, Маша сидела и молча пила чай с молоком, отпуская взгляд бесцельно путешествовать по стенам и окнам. В трезвые минуты Рома пытался расшевелить Машу, пересказывая ей мировые новости, а в пьяные — кричал, что она изменилась и он ей на хрен не всрался, — ни на то, ни на другое у Маши просто не было сил откликаться. Отправляясь в Россию, Рома каждый раз мягчал и несколько дней до отлета вел себя как зайчик — стирал, гладил, занимался немецким и гулял с коляской, — а через неделю-полторы возвращался чернее тучи и в первый же вечер отправлялся в кнайпе. Принято считать, что секс есть высшее проявление любви, стало быть, следствие; в действительности секс — единственная причина, которая может сравнительно долго заставлять человека мириться с близким соседством с другим человеком. К концу съемок «Чумы» Рома и Маша окончательно перестанут спать друг с другом.
Трудно вот так вот взять и сказать, откуда и как возникла идея «Чумы». Как и должно происходить в подобных случаях, «Чума» родилась из не обходимых внешних обстоятельств (Аня была еще грудная, а значит, съемки могли быть только павильонные), из Машиных размышлений (о том, как работает механизм превращения мира в интеллигибельный мир, в данном случае), из случайности (второй том Пушкина, который Маша возила с собой) и из того, что составляло ее быт (и, кстати, это — история главного героя, который никак не может устроить отношения сразу с двумя девушками, — единственный случай, когда Маша напрямую перенесла в картину обстоятельства личной жизни; впрочем, единственный, кто это заметил, был Рома, но он на всякий случай, чтобы не оказаться правым, ничего не спросил). Архетипическая фактура фильма — запершиеся от всех молодые люди и девушки предаются развлечениям — скрепляла все это воедино и одновременно прятала все по отдельности.
Некоторая пунктирность композиции — фильм был похож скорее на множество с первого взгляда хаотично намешанных картинок, чем на монолитную, от завязки к развязке разворачивающуюся историю, — была также следствием обстоятельств. Маша писала сценарий «Чумы» урывками: записывая то, что пришло в голову, правой рукой, в то время как левая удерживала обедающую Аню, корябая карандашом по первой попавшейся бумажке, скрючившись над коляской, наконец свесившись с кровати — тогда, когда вываривающаяся в мутном потоке сознания реплика не давала заснуть. Иногда, когда приходил Петер (он приходил раз в неделю и приходил бы чаще, если бы Маша мягко не запретила), он оставался с Аней, а Машу отпускал на час-другой посидеть в кафе через дорогу — и тогда Маша записывала разом целую сцену или склеивала реплики из вороха вырванных из разных блокнотов бумажек в страницу, на обороте которой зарисовывала ключевые кадры.
Петер всякий раз звонил накануне и приходил в Ромино отсутствие, хотя и не втайне от Ромы — напротив, когда Маша говорила, что завтра придет Петер, Рома всегда, не говоря ни слова, проваливал на полдня. Петер не просто приносил Ане подарки — с содранными бирками, но часто и без бирки было понятно, что на игрушку он потратил столько, сколько иные тратят на электронные новинки, — он привозил целые багажники подгузников, влажных салфеток, стиральных порошков, чая, мороженого, сыра, выносил мусор и пару раз помыл пол; он, когда Маша решила, что пора, нашел ребенку няню и квартире домохозяйку (ослепительная красавица-марокканка, она слишком хороша для меня), но было и нечто кроме этого: Петер на протяжении без малого года был единственным каналом, соединяющим Машу с внешним миром — с миром профессиональным прежде всего, и если Маша, когда пришло время переговоров с продюсером, а потом и пред-съемочного периода, съемок наконец, была вообще в состоянии быстро включиться в работу и не выглядела со стороны как неизвестно за каким чертом севшая в режиссерское кресло мамаша, то в этом была прежде всего заслуга Петера. Петера, которому, когда он в шутку спросил, пишет ли она для него роль, Маша честно ответила, что кино молодое, так что только, если его это устраивает, эпизод в самом начале — родитель, за которым главный герой закрывает дверь (оставалось только взмахнуть бровями, когда он согласился). Петера, который, как это было понятно и без слов, переехал бы к Маше на Фридрихштрассе, если бы было можно. Петера, про которого каждый раз вернувшийся вечером Рома спрашивал: ну как герой-любовник? ублажил? — Машу мутило от его хамства, но она только молча запиралась с Аней в своей комнате.
Разумеется, Маша должна была послать Рому ко всем собачьим чертям — такой вывод легко сделать в формате женских посиделок за бутылкой красного (девочки, я бы на ее месте), и такое решение легко принять, когда сказка уже почти рассказана (надо было, пожалуй, остаться у бабушки с дедушкой — подумал колобок). Однако в силовом поле совершающейся жизни была масса причин этого не делать. Начать с того, что каждый раз, когда Маша с Ромой, уложив Аню спать, проходили стандартный сужающийся круг взаимных ну прости меня и да ладно, забей и снимали одежду, секс их был похож на что-то такое, ради чего стоит жить и прощать друг друга. С другой стороны, Маша, у которой не было веры в то, что взрослого человека можно — силой ли убеждения, страхом ли истерики — заставить измениться, продолжала надеяться на то, что взрослый человек может однажды сам задать себе прямой вопрос, честно на него ответить, мужественно принять решение и так далее. Дело, наконец, в том, что на вопрос «почему Маша не уходила от Ромы?» вообще не может быть получен корректный ответ, потому что человек никогда не уходит откуда, а всегда идет куда, и поэтому единственный вопрос, на который можно, не рискуя сильно соврать, ответить, это «почему Маша не уходила к Петеру?», но для ответа на этот вопрос время еще не пришло.
Еще несколько некрасивых и, в сущности, случайных подробностей, но без них, кажется, не обойтись. Вот Рома, абсолютно серьезно и спокойно убеждающий Машу в том, что ее решение завести ребенка было ошибкой (за окном ночь, они сидят на кухне и пьют чай с принесенным Петером мороженым — Рома уплетает за обе щеки). Вот Рома, принесший домой бутылку водки, отказывается уходить пить где-нибудь на улице (молчи, баба! дожили: мужик в своем доме выпить не может, — Рома пьян в стельку, тон его с водевильного меняется на юродивый: ах извините, ваше величество, это же не мой дом, а ваш, — Маша, не выдержав, хлопает межкомнатной дверью и запирает ее). Вот Рома в посткоитальной безмятежности задумчиво говорит, что любовь — это болезнь, которая дольше четырех лет продолжаться не может, ученые доказали (у Ани дневной сон, и нужно бы успеть погладить белье, но Маша вдруг цепенеет и, свернувшись калачиком, отворачивается к стене, на которой дрожит пробившийся через сиреневый цвет солнечный лучик). Достаточно.
Последний съемочный день «Чумы» стал последним днем их вместе и одновременно — последним днем существования творческого тандема Регина-Евгеньев. Они купили две бутылки вина, Рома — отметить, Маша — подкрасить вином воду, и на половине второй бутылки маятник скандала заработал, набирая амплитуду. Рома начал с обвинений в деспотичном поведении Маши на площадке (Евгеньев, а как, по-твоему, я должна снимать? дорогой Ромочка, скажи, пожалуйста, не против ли ты снять еще один дублик? это работа! мы там не муж и жена, а оператор и режиссер!), но это был только затакт. То, к чему вел Рома, это что Маша поработила его, заставила выйти замуж, привязала ребенком и вынудила переехать в Германию потому, что тебе нужен был оператор! Ты посмотри на себя, ты же чудовище, ты пожрала всех вокруг себя, ты используешь всех для своей работы, ты и ребенка завела не потому, что тебе хотелось ребенка, а потому, что ты что-то такое в голове своей придумала, ты больная, ты не человек! Маша слушала Ромину истерику и, поймав себя на страстном желании вцепиться ему в горло, вскочила, переворачивая заодно стол: ты подлый ублюдок! — и, когда бутылка отгремела по кафелю, спокойно: ты подлый ублюдок, и я хотела бы, чтобы ты сдох.
Тут, может быть, требуется еще одна специальная «женская» оговорка: Рома виноват не только в том, что разлюбил (разумеется; однако нужно принять во внимание и простительную неизбежность этой вины), но и, главное, в том, что не хотел эту вину признать. В сущности, Роме нужно было, чтобы развитие событий само закрыло эту ситуацию, сохранив его белый фрак незапятнанным, и иллюзия того, что это возможно, и есть главная его вина, ибо иллюзии, в отличие от ошибок, непростительны. Проблема, в конечном счете, не в том, что Рома комфортнее чувствовал себя с Дашей (конечно же, к ней, а не работать, улетал Рома раз в месяц на неделю), а в том, что весь этот год он добивался того, чтобы Маша послала его на три буквы — ну или в Arshloch, это слово он выучил одним из первых, — чтобы в итоге все не выглядело так, будто он бросил жену с маленьким ребенком, и, добиваясь этого, он просто не признавался себе, что делает. Однако, выставляя Роме этот безжалостный счет, нельзя не принять во внимание и того, что Маша могла бы (и, если серьезно, должна была бы) Роме помочь. Конечно, в результате она это и сделала: переворачивая стол, она уже поняла, чего Рома от нее ждет, но понимание это пришло непростительно поздно.
На самом деле с того момента, как Маша, еще на похоронах отца, оказалась погруженной во что-то вроде мутного вязкого молока, она так и продолжала плыть в этом молоке. Со стороны это выглядело как равнодушие: Маша равнодушно участвовала в любом разговоре, равнодушно смотрела по сторонам, когда ее оставляли в покое, и равнодушно ухаживала за Аней, когда она этого требовала (именно это дало повод для самого чудовищного из Роминых обвинений, и, вероятно, не чувствуй Маша, что это не просто необоснованная чушь, она не нашла бы в себе сил взорваться). Так это выглядело со стороны, но Маша еще не сошла с ума, она отдавала себе отчет в том, что происходит, только сама форма этой отчетности была изводом того же равнодушия — или, если уж начистоту, его источником и причиной. Равнодушным был третий, все больше завладевавший Машиным сознанием: была Маша, действующая так, как того требовали обстоятельства, была Маша, осознающая, что происходит, отдающая первой Маше команды, переживающая, испытывающая боль и радость, и, наконец, был третий, который просто за всем этим наблюдал, и самой безмолвностью своего наблюдения утверждал бестолковость действий Маши-первой и бессмысленность переживаний Маши-второй. Во всяком случае, именно так Маша понимала все происходящее изнутри, и совершенно ясно, что тот, кто регистрирует внутри себя действие этой инстанции третьего, не может не согласиться с его, третьего, правотой.
Единственным, что вырывало Машу из-под власти этой инстанции, была работа (на площадке она стала еще более, чем раньше, жесткой и четкой; Петер, работавший с ней последний раз на «Save», бросил: кёнигин, ты там, в России, что, полком успела покомандовать?), и если после гнусного, с какой стороны ни посмотри, разрыва с Ромой Маша не замкнулась в себе окончательно, то дело тут только в том, что «Чума» была доснята и ее теперь нельзя было не смонтировать.
В «Чуме» играли пятнадцать мальчиков и девочек, однако ошибкой было бы считать ее фильмом о подростках, наподобие агитки Ларри Кларка. Проводив родителей в отпуск, главный герой учреждал нечто вроде идеального государства, причем утопия эта, прямо по Гегелю, носила сразу и социальный, и экзистенциальный характер. Вот твои родители счастливы? ну, удовлетворены собой? И мои тоже нет, — объяснял герой товарищу. И ни у кого вокруг, — взмах рукой на распаковывающих пакеты с бутылками и закусками гостей — кого ни спроси. И тем не менее мы все собираемся сделать то же, что и они: учиться, работать, завести семью и бегать к любовницам. Результат заранее известен! Тогда что надо сделать? — Что? — Что-то принципиально другое, понимаешь? — Выпить? — Ребята, у нас есть кое-что получше! (В кадре появлялась бледная брюнетка почти идеальной красоты.) Идите сюда! — А что, у вас там дует? — О, у нас такие ветра! Разумеется, в рамках бытового реализма они ничего, кроме как выпить и покурить, сделать и не могли. Однако произведение искусства на то и произведение искусства, чтобы подхватить реальность на крючок иносказания. Утопия, учрежденная героями фильма, была, как у Буратино и его друзей, не чем иным, как театром, — и разумеется, как любой подобный проект, в некотором смысле театром жестокости. Ясно, что, оставаясь формально картиной, изображающей бытовое поведение подростков, «Чума» была обобщающим высказыванием об универсальном механизме жизнепроживания, ибо в конечном счете человек никогда не «учитывает опыт», а просто механически повторяет его.
И раз уж Гегель появился здесь, придется ждать, пока он не уйдет сам, не выпроваживать же старика: «Пир во время чумы», разыгрываемый героями по ролям, был антитезой ведущему сюжету не только в идейном, но и в художественном смысле. Отвечая на вопрос, как ей пришло в голову использовать пушкинский текст, Маша сказала в одном из интервью (не отвечая, конечно, а просто проговаривая то, что казалось ей важным), что ни одна из существующих экранизаций трагедии не достигла успеха именно потому, что историю эту играли взрослые, тогда как то, как ведут себя пушкинские герои, — это детский сад, только невзрослые люди могут так себя вести, это история про жестоких детей, вот чего не поняли ни в семьдесят четвертом, ни даже в семьдесят девятом году. Проще говоря (ибо у корреспондента стекленели глаза), этот текст можно сыграть только несерьезно, теперь понятно?
Конечно, завернутый в занавеску полупьяный подросток, появляющийся в проеме двери, чтобы тонким подвизгивающим голосом, давясь от смеха, вскричать безбожный пир, безбожные безумцы!.. — был объективно смешон — и залы всей Европы хохотали при его появлении, однако в «Чуме» был и момент неподдельного ужаса — когда Вальсингам вдруг понимал, что учрежденное им идеальное государство оказалось не чем иным, как миром взрослых. Удвоенным миром, да: все тот же выбор между Мери и Луизой, дома у нас печальны, все та же телега, наполненная мертвыми телами, и Пушкин управляет ею. В этом смысле чрезвычайно важно, что вопреки канону подобных историй утро в «Чуме» не наступало — действие заканчивалось за полночь, и пир продолжался. Вальсингам остается, погруженный в глубокую задумчивость, — гласил финальный титр, данный на темном экране, и это было не просто следование оригиналу, а тот единственный вывод, который Маша как ответственный художник могла сделать: в этой жизни только и можно, что остаться в задумчивости.
То, что стало для проницательных критиков абстрактным построением, для Маши было плотью и кровью ее собственной судьбы. Потому что если уж снимать с языка, как с луковицы — шкурку за шкуркой, представление за представлением, то нужно признать, что уже тогда, когда Рома катил засыпающую Машу в стареньком «фольксвагене» в сторону «Сосен» и не извиняющимся (потому что за что извиняться-то) голосом объяснял про Дашу, которая приехала, и что ж ее теперь, выгонять, что ли, Маша уже, по самому большому счету, поняла, что в конце концов он останется с Дашей. И тот еще бином Ньютона был — зачем Рома летает в Петербург (регулярно перед вылетом преображаясь на несколько дней, Рома буквально расписывался в том, что никакие подозрения не будут беспочвенными). И наконец, когда Маша, спеша на съемки, чуть не сбила на Александер-Платц крутящуюся с задранной головой вокруг собственной оси Дашу (только те, кто только что приехал, не в курсе, что по велосипедным дорожкам в Берлине лучше не ходить), понимание того, что Рома уже, в сущности, утек, можно было только отложить. А влажные ладони — они у Маши вспотели, впрочем, это было связано с радостью, что Даша ее не узнала, — не более чем факт ее биографии. Биографии, из которой тот факт, что Рома, который поедет тем же путем через полтора часа вместе с Аней в маленькой «BMW»-десятилетке (найденной, кстати, Петером), возможно, встретит Дашу и куда-нибудь ее подвезет, — уже исключен.
Именно тогда Маша поняла, что настоящая бездна открывается не там, где ты понимаешь, а там, где ты обнаруживаешь, что в твоем понимании нет никакого смысла. Я знаю, что будет, но я ничего не могу, — Маша не смогла бы сказать, откуда у нее в голове всплыла эта строчка, и не было А. А., чтобы, усмехнувшись, объяснить. Понимание не спасает: ты все понимаешь и все видишь, но сделать ничего не можешь, — крутишься, как белье в стиральной машине. Этим кадром — работающей стиральной машиной — откроется в результате «Чума», и нельзя не согласиться с остроумным критиком, заметившим, что именно этот образ Маше как молодой матери должен был быть особенно близок.
Только так, получается — описав круг с «Чумой» в центре, — оказалось возможным приблизиться к ответу на поставленный и многозначительно оставленный в середине главы вопрос о том, почему Маша не уходила к Петеру. Потому что, конечно, ничто другое Маша не видела с такой отчетливостью, как то, что вся логика развития сюжета заставляет ее дрейфовать от Ромы к Петеру. Но как раз отчетливость и несомненность этой логики повергала ее в состояние парализующего ужаса. И уже не только потому, что ее собственная единичность не учитывалась неведомым (и, без сомнения, нигде в реальности не существующим) составителем этого сюжета, но и потому, что — komisch! — бормотала она на освещенной вытяжкой кухне, орудуя ножницами, — это ведь то же самое, это все было, я там уже была.
А было вот что. Через два дня после того, как Рома, полтора часа прособирав по квартире свои вещи (благо, не так уж много их было), отбыл в неизвестном-известном направлении, позвонил Петер. Спросил, как дела, как наследница престола (уже ходит, держась за стенку, с ума сойти!), спросил, правда ли, что все досняли, и пригласил отметить. Маша договорилась с няней на лишние три часа, и вечером Петер приехал за ней на сверкающей, будто только что из ювелирной лавки, спортивной «ауди», про которую Маша знала, что он выгоняет ее из гаража в исключительных случаях. Нет, Петер не собирался признаваться ей в любви — он действительно не имел в виду ничего большего, кроме как устроить скромный праздник по поводу начала пост-продакшн. Но Машу он нашел в настроении, далеком от праздничного, — она молчала, не отзывалась на шутки, еле-еле реагировала на вопросы о девочке и пожимала плечами на попытки заговорить о работе: ganz normal. К тому моменту, когда они доели горячее, ужин окончательно стал похож на поминальный. Они сидели в углу, в темноте, подальше от экрана, по которому показывали какой-то футбол, и Маша видела, конечно, что Петер страдает от несоответствия милой обстановки, прекрасного ужина (здесь лучший выбор долины Луары во всем Берлине) и праздничного повода — замогильному настроению, в котором протекает их встреча: долг вежливости требовал уверить его, что он тут ни при чем. И хотя Маша не хотела объяснять, в чем дело (тем более что дело было не в том, собственно, что Рома ушел), она тем не менее, взяв бутылку (Петер не моргнул и глазом, ему как раз нравилось ее органичное небрежение любым этикетом), сказала, преодолевая вязкость во рту, что Рома ушел, я потому такая квелая, прости меня, правда.
Разумеется, Петер, как всегда, ответил глупостью: я знал, что так будет, кёнигин, — но это было только начало; выпив еще два бокала, закуской к которым, кроме штруделя, были вопросы и ответы в духе что, насовсем? — ага, forever and ever and ever, — Петер розовел, розовел, прятал руки под стол и снова вынимал их, — он наконец решительно сказал, что он знает, что он на пятнадцать лет старше и ты страшно молодая и все такое прости я знаю что говорю это очень очень страшно глупо но ведь правда я уже старый дядька и кёнигин я вот здесь вот чувствую совершенно точно что у меня никогда ничего такого больше никогда не будет я тебя люблю я страшно тебя люблю. Выходи за меня замуж пожалуйста прошу тебя ты знаешь я все для тебя сделаю для тебя и для Ани ты даже представить не можешь как я буду о вас заботиться и любить вас обеих. И знаешь даже если ты не хочешь то не прогоняй меня я тогда просто буду рядом и буду заботиться о вас и никогда ничего такого больше не скажу если тебе неприятно.
Машино молчание, пока он говорил, еще не было отрицательным ответом, как не был им тот факт, что она ни слова не произнесла еще несколько минут после того, как он замолчал, и все это время прошло в абсолютной тишине, в которой только и стали слышны взволнованный голос комментатора, крики болельщиков, треск свечи и шелест снега за окном. Однако Маша продолжала молчать и дальше — она впала в оцепенение, она, сунув ладони в карманы джинсов, чуть заметно раскачивалась на стуле, и взгляд ее исследовал бессмысленный рисунок на лакированной поверхности деревянной столешницы. Петер еще несколько раз говорил что-то, что предполагало бы продолжение коммуникации — Маша? ты хорошо себя чувствуешь? я попрошу счет? — но коммуникации не было, Маша, можно было подумать, куда-то телепортировалась. Когда Петер встал, она встала вместе с ним, забралась в машину, молча смотрела перед собой, пока он медленно вез ее домой, на прощание, как будто тело не сразу подчинялось командам, подняла ладонь, а потом аккуратно прикрыла за собой дверь. Аня сосредоточенно спала, раскинув в стороны коленки. Только отпустив няню, Маша позволила себе расплакаться, причем приступила к этой процедуре раздумчиво, как если бы речь шла о вечернем душе.
Впрочем, Маша плакала не дольше, чем принимала бы душ: уже через несколько минут она под кухонным краном вымыла лицо и принялась варить кофе. Потом — чтобы куда-то спустить клокотавшую внутри ярость — она достала ножницы и стала разрезать на мелкие треугольники крепкие листы рисовальной бумаги, причем время от времени что-то пришептывала, как будто сквозь губы прорывалась какая-то речь. Все это время третий равнодушно посмеивался — не над Машей, а просто потому, что это объективно смешно, — он-то знал, что удвоение мира — хреновый способ его познания, потому что таким образом ты неизбежно вчитываешь в мир самого себя, и, получается, мир снова ускользает от тебя и ты опять остаешься один на один с собой, а «с собой» тут значит «с тем, что в тебя привнесено». Листы бумаги поддавались с трудом, но зато, когда на столе образовалась высотой с дымящуюся кружку горка треугольничков, ярость была погребена под ней, и только болели покрасневшие пальцы правой руки. Наконец Маша сдавленно, чтобы не разбудить Аню, расхохоталась: она вдруг поймала себя на мысли, что, хотя она была уже тридцати-с-лишним-летней теткой и ей, случалось, говорили в разных ситуациях «я тебя люблю» (и даже «ich liebe dich»), а пару раз говорили и «выйдешь за меня?», — но никто никогда не говорил ей этого так — как полагается, как надо это говорить. Komisch.
Семена вещей
«Чума» вышла на экраны через два с половиной года после «Янтаря» (через четыре — после «Save») и одним махом вернула Машу на первые полосы газет и обложки журналов. Нет никаких причин не признать сразу же, что возвращение это во многом, конечно, было обусловлено скандальной сорванной пресс-конференцией в Каннах — ибо даже фотография с золотой веткой, но без хотя бы захудалого скандала, не попадет на обложки самых читаемых (по мере расширения бессмысленности) изданий, — и все же была особая справедливость в том, что фильм — обладатель золотой ветви был, кроме того, и самой успешной лентой года в Старом Свете — оставляя, разумеется, за рамками рейтинга «Человека-дурака 17», «Глумерки» и прочие поводы вволю наесться попкорна. Оно конечно, большая часть публики шла в кинотеатры на обнаженку и ржач, но Маша как никто понимала, что искусства и не бывает без смеха и похоти хотя бы потому, что именно они ставят человека перед реальностью смерти. Что-то в этом роде Маша и пыталась объяснить на пресс-конференции, предварявшей показ во Дворце: проблема комедий в том, что они на самом деле вовсе не смешны; люди смеются над ними только потому, что на комедии положено смеяться, а если бы это было не обязательно… — но журналисты слушали вполуха и переглядывались: кто и как спросит о том, что всем действительно интересно.
Вечером того же дня Маша сидела на набережной и с ожесточением гуглила «мария регина». Петер, приканчивая третий стакан виски, уговаривал ее прекратить это бессмысленное занятие хотя бы ради прекрасного вида: ты только погляди — яхты, огни, небо какое, какая тебе разница, что они там о тебе пишут… Но Маше была разница: на фотографиях, сопровождавших публикацию в русской газетенке («Когда б вы знали, из какого сора: Мария Регина упекла в психушку собственную мать»), серели покосившиеся домики и дороги в хляби, зловеще зевающий разбитыми окнами провинциальный казенный дом, но где мог быть снят этот «иллюстративный материал», Маша и представить себе не могла, иллюстрировал он только то, что они поленились даже узнать, где я на самом деле родилась, и съездить туда, понимаешь! — кёнигин, плюнь. Захлопывая лэп-топ, заказывая бутылку шампанского, Маша уже жалела о произошедшем несколькими часами раньше — хотя, возможно, не более чем иллюзией была мысль о том, что, знай она заранее о появившемся несколько дней назад и успевшем разлететься по сотням блогов переводе этого подлого вранья, она бы успела подготовиться — в действительности у Эдипа нет ни единого шанса доказать, что он не верблюд, коль скоро однажды такая мысль пришла кому-то в голову.
Никому, в сущности, не интересна судьба Эдипа, всем интересно, что он скажет, — Маша поняла это мгновенно, как только юноша, представлявший популярное французское издание, поднялся, демонстрируя всем безупречного покроя рубашку, и сказал, что картине предпослано такое-то посвящение, поэтому всем будет интересно знать, почему именно такое и что мадам Регина имела в виду. Едва ли кому-то из присутствующих будут интересны подробности моей личной жизни, достаточно сказать, что мой отец уже умер, а мать жива — если вы будете иметь это в виду и досмотрите фильм до конца, то вы обязательно поймете. Эринии, однако, уже почуяли запах крови; одна из них, грузная дама с фиолетовым бобриком, хотела бы позволить себе уточнить, что, вероятно, коллега имел в виду недавно появившуюся публикацию, в которой утверждалось, будто мать мадам Региной содержится в… весьма печальном положении и что будто бы мадам Регина не делает для нее всего того, чего требовал бы дочерний долг, — нет сомнений, что в этой публикации нет ни слова правды, однако поскольку мадам Регина никак пока не комментировала эту информацию, то… — шах и мат.
Кёнигин, ну кто тебе мешал ответить, что, мол, статьи такой еще не читала и потому никак не могу прокомментировать, ну вот, ты опять молчишь. Да, Маша молчала, молчала и молчала. Сначала она думала, что ответить, потом, когда поняла, что что бы ни ответила, это все равно, она отключилась — ей нравилась тишина, тело ее было абсолютно расслабленно, только страшно болел желудок, все, что ей сейчас было нужно, — это стакан минералки. И незаметно для себя, когда микрофон перехватил Петер, чтобы сказать, что мы тут собрались для того, чтобы обсудить картину, поэтому, — Маша встала и ушла. Пресс-конференция закончилась в шуме и гаме, потом был показ, Маша на одну минуту появилась на сцене, а потом попросила Петера отвести ее куда-нибудь, где точно нет шансов встретить кого-то из тусовки. Разверзалась черная пасть неба, Маша блевала на песок горькой пеной, шум прибоя скрадывал ее стоны, и набегающая с юга волна прятала последствия трех бутылок шампанского. Петер, качаясь, держал Машу за плечи и уговаривал плюнуть на все: ты же еще ничего не ела сегодня, пойдем поедим.
Тема голода требует предварительного замечания: раз уж мы упомянули Машины разъезды, предпринятые для поиска натуры к новому фильму, не лишним будет сказать и то, что рождение последней (по счету, по крайней мере) ленты, которую Маша успеет снять, было связано (ведь в действительности тот сор, из которого все растет, ничего общего со стихами не имеет) с тем, что, еще монтируя «Чуму», Маша встречалась в Берлине с Колей — горе-Тристаном. Еще до того, как в Маше что-то сломалось и она перестала давать дурачащие публику интервью, она однажды высказывалась о занимающей русских драматургов и сценаристов проблеме ружья: есть нечто искупительное в том, что императивный характер этой максимы неотделим от туманной неопределенности в вопросе о том, кому она принадлежит, — Маша не упоминала только, что, говоря это, повторяет услышанное когда-то от А. А., и правильно — мысли, продуманные нами, всегда только наши.
Так вот дело было так. Маша катила по Лейпцигской и на перекрестке с Вильгельмштрассе вдруг остановилась, припав на правую ногу: приклеенная к стене афиша извещала ее о концерте группы из России, и лицо фронтмена было Маше знакомо. Маша не сразу заметила, что афиша еще актуальна — концерт послезавтра, — но когда заметила, мгновенно решила пойти. В этом решении не было ничего сентиментального — разве что в самой глубине памяти мелькнула хвостатая тень трогательного, в сущности, юношеского секса, но Маша знала, что эта рыба в любом случае давным-давно сорвалась с крючка и ушла, — то, что заставило ее купить билет в грязноватый клуб с говорящим названием, это почти утилитарное соображение: она рассчитывала на то свойство памяти, по которому с материализацией призраков прошлого оживают (несмотря на то что призраки ничуть на себя не похожи) в абсолютной, хотя и объективированной точности наши собственные чувства — которые ей при работе над «Чумой» как раз и были нужны. Хвала вечному кёнигсбергскому девственнику, мы-то знаем, что единственная хитрая рифмовка, которая тут есть, в меру сил пытается быть отголоском набоковской.
Маше не понравилась группа (ей всегда казалось, что люди играют тяжелую музыку от безысходной неспособности сочинить хоть простенькую мелодию), к тому же она сильно отвыкла от клубной атмосферы и, даже забившись в угол у барной стойки, чувствовала себя посетителем без видимой причины шумного музея; мало того, она отчетливо видела, что взмыленный длинноволосый фронтмен чувствительно пьян, — и все же досидела до конца, чтобы передать в осажденную гримерку записку с высокомерным (от досады, не более того) «еще раз спасибо за камеру; найдется минутка? дай знать, — М. Р.». Маша расплатилась, готовая к тому, что записка навечно останется в бутылке, и однако через две минуты перед ней возник мужчина, протягивающий ей визитку: Мария Павловна? я Андрей, продюсер группы, — ну конечно, кто еще тут надел бы пиджак.
Может показаться странным, что идея «Голода» — фильма о человеке, который отказался от еды из отвращения к пищеварительным процессам, — была вызвана впечатлением от встречи с алкоголиком тем более заурядным, что он был музыкантом. Но, с одной стороны, кванты творческого воображения и не должны давать отчет ньютоновской логике сил, а с другой, некоторая логика тут все-таки была. Коля выгнал всех из гримерки и, пока они разговаривали, выпил едва ли не половину пол-литровой, — впрочем, заметно пьянее он не стал, разве что под конец принялся настойчиво звать Машу по маршруту кабак-гостиница продолжать. Разумеется, Маша отказалась, и ребенок дома ждет, — было хоть и правдивой, но отговоркой (а да я кормлю еще, — так и вовсе враньем): сиделке можно было бы позвонить и пообещать ей сказочные отступные, возможно, Маша так и сделала бы (хотя бы потому, что Коля, даже Коля-алкоголик, оставался красавцем), но проблема была в том, что, зазывая Машу «в номера», Коля всего лишь выполнял программу автопилота, в действительности ему это вовсе не было нужно. Глядя ему в глаза, пока он, спрашивая ну как ты? — снова и снова рассказывал о себе (группы, альбомы, гастроли, сейчас надо придумать еще, как отсюда выбраться), Маша видела на том месте, где должен был быть Коля, совершенно другое существо. Этим существом был алкоголь, и он, как всякое живое существо, хотел только воссоединиться с самим собой.
Главный герой «Голода» — фильма, который был в большей степени иносказанием, чем все предыдущие Машины фильмы, — похожим образом объяснял свой отказ от пищи: я вдруг понял, что всю жизнь кормлю какую-то тварь внутри меня (его дочь в это время сидела рядом и усиленно скорбела лицом; Маша знала, как заставить сыграть вранье — мне нужна здесь настоящая скорбь, понимаешь?). Это, впрочем, было только одно из объяснений — в другой раз он подробно описывал, что происходит с пищей, когда она попадает в организм человека, и это подробное, довольно сухое объяснение само по себе заставляло чувствительных зрителей, пусть ненадолго, но перестать жевать (ибо нельзя же, как заметил критик, идти на фильм с таким названием без бутерброда).
Сценарий «Голода» (Маша решила наплевать на Гамсуна, нет же у наследников копирайта на слово) был написан чудесным образом за две недели — как будто он уже где-то находился, и Маша его только наскоро записала. Она снова работала по ночам: вернувшись со студии, она отпускала сиделку, шла с Аней гулять в Тиргартен, дома играла с ней, укладывала спать и до середины ночи, сидя по привычке на кухне, уничтожала несколько чашек кофе вместе с несколькими сотнями килобайт дискового пространства. Такой режим давался ей куда тяжелее, нежели десять лет назад, утром ей приходилось, чтобы привести себя в рабочее состояние, выхлестывать еще по нескольку чашек кофе, и, словно в насмешку над ней, очень скоро дал знать о себе желудок: через несколько месяцев, когда боли (ощущающиеся как неестественное чувство голода) будут уже невыносимыми, Маша волей-неволей отправится к врачу и выяснит, что нет тут никакой мистики, у нее попросту открылась язва.
Для истории с ружьем вообще характерно то, что вешают-то одно ружье, а стреляет совсем другое: день мучительного концерта запомнится Маше вовсе не встречей с Колей и даже не тем, что в этот день родилась идея нового фильма (на самом деле, уже мчась в такси, Маша думать забыла об оставшемся допивать виски и выбирать себе школьницу на ночь Коле, и идея эта проснется только спустя несколько дней — генезис этого чертика ex machinem для Маши будет даже не вполне ясен), а тем, что именно в этот день, когда Маша отпустила красавицу-марокканку и укладывала Аню спать, Аня вдруг встала в кроватке, взяла Машу за руку и, глядя в глаза, серьезно и старательно выговорила вай исава. Маша ошалела, потому что до сих пор все, что она слышала от дочери, это «а» и «ы», — растерявшись, она переспросила что? — и Аня, решив, что мама плохо расслышала, повторила громче: вай исава! — господи, конечно, милая моя, давай, давай скорее рисовать. Маша вытащила Аню из кроватки, усадила ее за столик, достала кисточки, бумагу, акварель, налила воду в стаканчик, и целых полчаса, сидя за Аниной спиной, помогала ей стирать беличий ворс о торшон. Обе они были счастливы, но Аня не видела, как мама, наклонившись вместе с ней над бумагой, слизывает стекающие к уголкам губ слезы: Машу, будто надутый до предела воздушный шарик, распирала любовь к маленькому, задерживающему от усердия дыхание человечку.
До final cut «Чумы» — полгода и шесть пачек торшона, которые Маша с Аней изведут вместе. После того как сценарий «Голода» в черновом варианте будет закончен, Маша две ночи поспит как человек, а потом снова засядет за работу — заливаясь кофе, теперь уже пополам с минералкой, Маша будет рисовать. В первую ночь, только еще трогая бумагу карандашом, она панически испугается, что у нее ничего не получится, но уже через полчаса, в продолжение которых едва ли не половина карандаша будет съедена, Машу ударит могучая горячая волна, и медленно, но как-то как будто целиком из прямоугольного бумажного провала начнет выступать обветренный склон горы, поросший редкой, обожженной, присыпанной песком травой, за ним внизу — кусок тяжелого прозрачного моря, в дымке незаметно оборачивающийся раскаленной эмалью неба. В сотне с лишним рисунков (значительно больше, чем к какому-либо другому из своих фильмов) Маша, по сути, создаст автономный мир, в котором жаркий ветер будет сушить пальмовые листья с коричневым окоемом, по камням будут осторожно двигаться зобатые ящерицы, и в оазисе на ступени горы будут грузно покачиваться ветки с теплыми апельсинами, — мир, который, как выяснится, предстоит еще найти.
Сделать это окажется непросто. Сразу после того, как работа над «Чумой» будет закончена, Маша вместе с Петером улетят ins Land wo die Zitronen blühen — за полторы недели они проедут от Венеции до Неаполя, но подходящей натуры так и не найдут. Кёнигин, где они еще могут жить, ты погляди вокруг, это же просто Gott verdammt noch mal! — Петер любил это выражение, которое Маша несколько вольно переводила для себя слышанным когда-то в Петербурге «ебать мой лысый череп». Петер полетит с ней на правах не только друга (в гостиницах они будут брать один номер с двумя кроватями), не только водителя (синий «альфа-ромео», на котором он настоит, поведет только он — Маше останется лишь смотреть на карту и по сторонам), но и актера, для которого Маша написала наконец главную роль. Съезжая на обочину, они будут вылезать и осматриваться по сторонам; Петер, обводя руками поросшие пиниями склоны (рисунков он не видел), будет убеждать Машу, что его герой именно здесь непременно купил бы себе виллу, Маша — кусать губы, качать головой, и потом они будут ехать по узким вихляющим дорогам дальше. Что это должна быть именно Италия — не обсуждалось: ясно, что фильм о Севере («человечество не может не испытывать тоску по времени, когда Севером был не север города, а север континента», — Маша напишет эту фразу в числе первых для сценария, впрочем, в окончательную версию она не попадет), нужно снимать в декорациях Юга по существу, и таким югом не может быть, конечно, ничто кроме Италии. Но только вернувшись в Берлин, Маша ясно сформулирует, почему они вернулись из поездки ни с чем: понимаешь, Петер, мне нужна не бертолуччиевская Италия, а пазолиниевская, хоть я и не люблю этого пижона.
Разумеется, полуторанедельная поездка была не только работой, но и в большой степени отпуском от дикой берлинской жизни, таймаутом между изнурительным монтажом «Чумы» и свистопляской с переговорами и подписанием контракта на «Голод» — продюсеры будут хвататься за головы, услышав, что фильм опять о русских и о России (пальмовая ветка, понятно, смазала бы им горло, но до нее еще месяц). Медленная (чтобы получше все рассмотреть) и молчаливая (Маша принимала молчание как лекарство и даже запретила Петеру включать музыку) езда с видом слева на море, которое то уползало в сторону, то выпрыгивало из-за поворота, была для Маши чем-то вроде чтения списка кораблей, которое поэт вынужден время от времени предпринимать, чтобы вернуться к себе. Петер предлагал остановиться то там, то тут на день-два, но Маша как будто боялась остановок и, более того, каждый раз торопила его с обедом: эй, не слишком-то, тебе еще голодающего играть.
Маша, возможно, и сама не призналась бы себе в том, что поездка эта была в частности и отдыхом от забот о ребенке, и тем не менее. Даже несмотря на то что мысль об Ане от самолета «туда» до самолета «обратно» непрерывно гудела где-то на периферии ее слуха: Аня осталась в Берлине с отцом.
До сих пор, с начала декабря до весны, Рома брал Аню каждый второй день, чтобы погулять, — Маша согласилась на такой режим не просто потому, что любые споры на эту тему были бы ей отвратительны, но, главное, потому, что ей хотелось, чтобы Аня общалась с отцом: идея неполной семьи не меньшая, в сущности, странность, чем мысль о возможности только правой или только левой половины оркестра. Рома сказал Маше, что снял квартиру неподалеку и живет один — не то чтобы Маша принимала специальное решение мириться с этой ложью, это получилось само собой, будто негласный общественный договор, про который одураченная публика не понимает, ни с какого похмелья умудрилась его заключить, ни как умилостивить чудовище, вызванное в мир его алхимическими формулами: Гоббс, между нами, был человек с воображением школьного учителя физкультуры. Аня не могла еще толком объяснить, где и с кем она была и чем занималась, и Рома, хотя он назвал бы параноиком того, кто указал бы ему на это, пользовался Аниным молчанием: что делали? — в зоопарк ходили, потом заехали ко мне, поиграли, я тут такой коврик купил, — однако Рома неизбежно, хотя бы потому, что ему никогда не пришло бы в голову покупать ребенку какой-то такой коврик, проговаривался (невинно, впрочем, куда как невинно) о том, что за всем его образом действия стоит стратегический женский ум. Ясно, что к тому моменту, когда Аня способна будет сказать, что была у папы с тетей Дашей, — Маше придется смириться с тем, что Аню делят между полной семьей и мамой, а иначе получится как-то даже некрасиво.
И — как общество, однажды обнаружившее себя перед фактом уже заключенного договора, вынуждено мириться с каждым новым притязанием Миноса, — оказалось само собой разумеющимся, что Аня останется с Ромой, пока Маша съездит в Италию — не оставлять же ребенка с няней на полторы недели. Из одной неизбежности вытекала другая, и не было, кроме этой, никакой другой причины, почему Аня должна проводить с Ромой целиком каждые вторые выходные, разве что Регина, тебе же работать надо, вот и поработай спокойно, чего тебе еще, — сама конструкция этой фразы была не столько Ромина, сколько Дашина, впрочем, Маше становилось все труднее отделять инсталлированную в Рому Дашу от самого Ромы, из чего, стоило задуматься, можно было бы сделать вывод, что пора поберечь паруса, но в том-то, если уж на то пошло, и мессидж Ариадны, что другого пути из лабиринта, будь ты хоть трижды герой, нет — Маше действительно позарез нужно было работать.
Даша появилась из-за поворота незадолго до второй поездки в Италию: Маша вырулила на Unter den Linden — не то чтобы она приехала раньше, нет, скорее просто не опоздала — и, сощурившись на сверкающее фостеровское яйцо, увидела, как Рома целует Дашу и Аня машет ей ручкой. В сущности, это была очень трогательная картина: маленькая девочка, а рядом с ней, на корточках, папа машут ладошками сначала немного пятящейся, потом решительно уходящей женщине, — так что когда Рома выпрямился, развернулся (продолжая держать Аню за руку; на губах — счастливейшая из улыбок) и увидел Машу, а Маша невольно держала еще в фокусе Дашу, это было видно, Рома даже не стер с лица улыбки — и что оставалось делать? Только спросить: давно она тут? — и услышать в ответ ложь безобидную настолько, что, во-первых, она даже не стремилась всерьез быть похожей на правду, а во-вторых, взвиться на нее мог бы только человек, не наделенный ни вкусом, ни чувством меры. Маша посадила Аню в кресло, и всю дорогу по Фридрихштрассе, пока она крутила педали, Аня, размахивая ручками, что-то, что не слышно было за шумом в ушах, лопотала. Аня силилась развернуться, чтобы убедиться, что мама ее слышит и понимает, ветер подбрасывал ее невнятного, как у папы, цвета волосы, носик проклевывался из-за щеки, и сильнее всего Маше хотелось прижать, прижать, прижать Аню к себе. Что, милая моя, что? — Пифать надо!
Когда в конце апреля Маша снова отправится в Италию, она уже оставит Аню не просто с Ромой, а с Ромой и Дашей. На этот раз она возьмет с собой не только исполнителя главной роли, но и оператора — они приземлятся в Риме и будут продвигаться все южнее и южнее, пока наконец недалеко от Тропеи Маша не остановит Петера; она выйдет из машины и, пройдя немного в сторону от дороги, сядет прямо на землю: камни, песок, сосновый стланик, дрок, цепляющиеся за камни земляничные деревья — именно этот пейзаж Маша ночами вырисовывала год назад, только оказалось, что тогда она видела его в зеркале: в действительности склон горы будет не слева, а справа, и ступенька ее будет смотреть внутрь кадра, а не вовне; и, разумеется, так будет точнее. Петер сядет несколько минут спустя рядом, отворачивая лицо от колючего песка. Вот, — скажет Маша, — вот это. Теперь ты понимаешь? Петер покивает: бинго, кёнигин, только здесь понятно, что это за человек. Маша поднимется, чтобы показать оператору ракурсы, которые нужно заснять. Четыре ночи они проведут в Тропее, каждый день выезжая на точку и до изнеможения топчась по склону. Оператор (Эрик, молчаливый швед — Маше было важно, чтобы снимал северянин), изведя под сотню пленок, поймет, что то, что ему рассказывали о Региной — даже если она будет точно знать, что тебе жить осталось три часа, она все равно заставит тебя снимать, и еще на полчаса задержит, она не человек, — похоже на правду, но будет уже поздно: Маша успеет по-настоящему заразить его будущим фильмом, и в снимках, которые он в Берлине развесит по стенам студии, проступит вместе и мертвое, и идиллическое пространство будущего «Голода».
Маша увидит эти снимки только по возвращении из Канн. Она быстро пройдет по коридорам, чтобы как можно меньше кивать поздравляющим, закроет дверь в комнату, поставит вращающееся кресло посередине, и Эрику, который в этот момент будет сортировать нерасклеенные фотографии, покажется по ее выражению лица, будто она шла сюда пешком из самой Франции. По мере рассматривания снимков Машино лицо расслабится, пальцы оживут и подберутся, а в глазах загорится упрямый хищный огонь: с этого момента ей станет ясно, что фильм состоится, — Эрик видел то же, что она. И именно поэтому, когда он, спустя почти полчаса, спросит: так как там, в Каннах? все в порядке? — Маша не пошлет его тут же в жопу, а только скажет: они выяснили, что я съела свою мать, трахнула отца и завалила сфинкса, а я так надеялась все это скрыть — по-русски в таких случаях говорят «пичалька», Traurichkeitchen.
Аня, пока Маша с Ромой были в Каннах, оставалась с Дашей — Рома сказал Маше об этом как о чем-то решенном и естественном: они дружат, Даша знает все, что нужно, на самом деле она Аню очень любит. А, клопик, ты же дружишь с тетей Дашей? — Дрэжу. — Вот видишь. В этот момент Маша поняла, что объяснять, почему она не хочет, чтобы ребенок оставался с Дашей, ей пришлось бы не только Роме, но и, что куда сложнее, самому ребенку, поэтому она, вместо того чтобы устроить скандал (это, как она потом поймет, была последняя возможность устроить скандал), просто в очередной раз попросила не называть Аню клопом. Они сидели в открытом кафе в Mitte, и Рома помогал Ане есть мороженое; кафе, в котором они сидели, называлось «Anna» — Роме показалось забавным сидеть в таком кафе.
После того как во время фестиваля появились и стали распространяться слухи о том, что у Региной не все в порядке с головой, — с одной стороны, понятно, что, получи ветку другая картина, о пресс-конференции говорили бы значительно меньше, если бы не забыли вообще, а с другой стороны, Машина выходка действительно смотрелась странно, даже в самых доброжелательных изданиях писали что-нибудь вроде пожелай Регина как-нибудь подтвердить расползающиеся по широкой общественности слухи, трудно было бы найти более эффективный способ, чем хлопнуть дверью посреди пресс-конференции, — с этого момента все, что бы о ней ни говорилось, говорилось уже в поле обсуждения, правда это или неправда, и понятно, что если сам такой вопрос возник, значит — скорее правда, чем нет. Именно этим объясняли отказ, которым Маша теперь отвечала на любые просьбы об интервью. Именно на это намекали вдумчивые аналитики, припоминая, что и как говорила Регина журналистам раньше. Именно такой вывод можно было при желании сделать из интервью, которые, ввиду Машиного молчания, раздавали теперь все, кто хоть немного имел с ней дело за последние десять лет. Оказалось, что это очень удобная сквозная тема для критической статьи, написанной с интонацией «теперь-то наконец все понятно», — а кому ж не хочется написать такую статью?
Отныне что бы Маша ни делала, все, при попадании в поле обсуждения, становилось похоже на действия сумасшедшей. Когда выяснилось, что для съемок следующей картины в Калабрии будет построена роскошная вилла (шикарный дворец — в одной из версий), заговорили о гигантомании, свойственной неуравновешенным натурам — кроме того, возникает вопрос, нет ли тут искажения действительности — правда ли, что гигантское поместье строится для съемок фильма, а не просто для режиссера, мать которой, как известно, находится в весьма печальном положении в России? Через две недели после возвращения из Канн, на берлинской премьере «Чумы», Маша опрокинула бокал с шампанским на голову бритому хмырю, который, сидя на диванчике к ней спиной, с увлечением высказывал своему маленькому кружку мнение не в плане осуждения, а просто это же медицинский факт, такие болезни всегда наследственные, причем чаще всего именно по женской линии, — слушатели с противоположного диванчика делали бритому намекающие знаки, но он, заглядевшись на свой ботинок, решил, что они просто так деликатно подзывают официанта с подносом, и в первый момент не понял даже, что произошло: Scheise, поаккуратней нельзя?! — он так и подумал, что это официант оступился. Кто-то успел заснять эту сцену на телефон, и ролик, выложенный в сети, за две недели получил без малого полмиллиона просмотров: с экранов это выглядело, как если бы люди сидели и спокойно беседовали, а тут вдруг ни с того ни с сего, — ясно, что так поступить могла только бешеная.
К середине августа — группа уже паковала чемоданы, готовясь к выезду в Италию, — у Маши обострилась язва настолько, что ничего не оставалось, кроме как пойти к врачу. После унизительной процедуры (лежа на боку, Маша думала о том, что, может быть, не вредно напомнить человеку о его онтогенетическом родстве с первочервем) ей прописали таблетки, и раз в неделю, до самого отлета, она выходила в аптеку за несколькими разноцветными упаковками. Статья, в которой юркая журналистка приблизительно пересказывала свой диалог с провизором аптеки (рыжая девушка, которая к вам приходит, покупает антидепрессанты? — а почему вы спрашиваете? — у вас есть в продаже психотропные препараты? — да, а что? — эта девушка за ними приходит? — извините, я не имею права…), появилась, когда Маша уже была в Тропее. Обнаружившая ее в сети помреж показала экран Петеру, и Петер запретил говорить о статье Маше: давай не будем, а то у нее опять живот заболит. Маша с Эриком в это время стояли чуть поодаль, и Эрик что-то, показывая на экспонометр, Маше тихо бубнил.
До самой пресс-конференции в «Kino Arsenal» Маша не общалась ни с одним журналистом (на саму эту пресс-конференцию она согласилась, не в последнюю очередь уступая доведенному ее отказами до белого каления продюсеру), однако дело тут не только в том, что ей противны были именно журналисты, — в действительности Маша вообще просто все меньше общалась. Раз в неделю в пятницу вечером она садилась на самолет в Ламеция-Терме и, приземлившись в Берлине, проводила выходные, общаясь только с Аней и больше ни с кем. В остальное время она работала и, пока работала, была собранна и энергична, как всегда. Даже в те моменты, когда работы не было, когда группа обедала, ждала солнца, отдыхала вечером в гостинице (пару раз Машу даже затащили на пляж), — у того, кто пытался вступить с ней в контакт, оставалось впечатление, будто он оторвал человека от работы. Мало сказать, что это была выстроенная стратегия, что Маша окружала себя мембраной, сквозь которую ничего не должно было проникать, кроме — как выстроить кадр, какие фильтры нужны, как и что нужно играть и тому подобных вещей, — если уж докапываться до неочевидного, то нужно сказать, что виновато отходившие от нее актеры, художники, костюмеры и прочие добродушные ребята (Мария, пойдемте с нами купаться! Мария, у нас тут отличная пицца, хотите? госпожа Регина, международный профсоюз алкоголиков приглашает вас на научную конференцию, посвященную рецепции свободного времени в контексте феномена трех бутылок кьянти, с докладами выступят… — как там еще хохмят актеры) были абсолютно правы: Маша действительно работала, во всяком случае, то, что внутри нее происходило, можно было вполне назвать внутренней работой — в ней, как в газовой центрифуге, изотоп за изотопом вырабатывалось чистое вещество одиночества; и хотя, пожалуй, формулируя результат этой работы, мы рискуем создать впечатление, будто Маша уже как-то концептуализировала свое чувство — чего не было, того не было, это чуть позже, — все же нужно рискнуть высказать то, что (бобер, выдыхай) мучило Машу, — что тот, кто пожелал бы остаться с миром один на один, должен был бы отказаться не только от семьи, не только от родины, но и от любви.
Последним, с кем Маша могла еще говорить ни о чем, был Петер. Понятно, почему именно он: Петер сам поставил себя в объективно смешное положение бывшего, ставшего другом, — слова из меню женской мудрости, да. Но не только в этом дело — Петер, игравший у Маши еще в «Минус один», после смерти А. А. и ухода Ромы оставался единственным, кто знал, как общаться с сумрачной Машей — а она теперь всегда была сумрачной. Он заходил к ней в номер, подсаживался в перерывах между съемками или вечером ужинал с ней в семейном ресторане — и он как никто знал, что такую Машу нельзя провоцировать ни на какой разговор, помимо разговора о свежих морепродуктах, форме облаков или манере местных крестьян одеваться. По-настоящему удивился Петер только тогда, когда в ответ и на эти разговоры Маша стала растирать ладонями лицо и бормотать господи, что за дерьмо ты несешь, что за дерьмо.
Петер — есть кое-какие привилегии и у бывших — не мог, конечно, не видеть, что нынешняя Маша — это не та Маша, которая легко поднялась с ним когда-то в номер «Рэдиссон» в Мюнхене, и даже не та, которая на девятом месяце показывала ему в съемном домике на Golden Küste «Янтарь». Вначале он для себя объяснял это разрывом с мужем, потом — регулярными разлуками с Аней, сложной работой над картиной, больным желудком, журналистской травлей, — наконец, собравшись с духом, он издалека завел туманный разговор, в финале которого почти неожиданно для себя самого озвучил то, что пришло ему в голову в последнюю очередь, — что психоаналитик совсем не то что психиатр, и пойти к нему, кстати говоря (к чему — кстати? к frutti di mare?), совсем не зазорно.
И, коль скоро даже Петер — человек, которого, в отличие от читателя, трудно заподозрить в невнимательности (ну хотя бы потому, что про второго, в отличие от первого, мы вообще ничего не знаем — проблематичен даже, прости господи, относительный онтологический статус обоих), — заговорил о медицинском вмешательстве, то самое время сказать вот что. То, что со стороны могло показаться поступательной трансформацией Машиной психики, было в действительности осознанным внутренним путем. В конечном счете, нужно задаться вопросом: понимала ли Маша, что происходит, или иначе, а смогла бы Маша сама написать роман «Маша Регина»? — и ответить, что да, конечно, почему бы и нет, смогла бы. Вот почему, услышав от Петера про психоаналитика, Маша весело, веселее, чем требовала ситуация (обернулись даже японские туристы), рассмеялась и сказала только: а ты в курсе, что Альтюссер, был такой философ, проходил анализ у Лакана, а потом укокошил собственную жену?
Там, в Тропее, Маша впервые с чудовищной проникающей ясностью увидела, что единственным человеком, который вполне понял бы, что она имеет в виду, был А. А. И что в другой, лучшей, правильнее сложившейся жизни она не могла бы желать ничего лучшего, кроме как быть с ним и любить его — потому, что он был на самом деле не вполне чем-то отдельным от нее, а, скорее, трагически вынесенным за пределы ее существа ее собственным внешним понимающим. И когда Петер — идеальный, в общем, мужчина — в ответ на вырвавшееся у нее по пьяной лавочке (ночь была жаркая, в гостинице было невозможно, спать не хотелось — они сидели на камнях у берега) знаешь, что мне тут пришло в голову? что человек, в конечном счете, стоит перед выбором: быть живым или быть умным; и вот умный человек, к своему ужасу, вынужден выбирать второе, — так вот, Петер стал окольными путями рассказывать ей, как она всем нужна, а Маша подумала, что А. А. успокоил бы ее, только сказав, что да, Маша, милая, но утешение в том, что этот выбор никогда не нужно делать прямо сейчас. Петер все успокаивающе бормотал, прижимал Машу к плечу. В конце концов ей стало жалко его бестолковой растерянности: чугунному немцу нужен был простой, естественный, единственный Grund, чтобы, кхм, поместить на него пьедестал своего спокойствия (пьяному человеку, уж как есть, не до презрения к красивым словам). Хочешь, кое-что тебе скажу? — это они уже прощались в полутемном коридоре тихой ночной гостиницы, — та статья, про то, что я маму слила и все такое… — Что? — Я знаю, чьих это рук дело. Ее, Ромкиной сучки. — Почему ты так думаешь? — Ни почему, я просто уверена.
(Почему — на самом деле было: очевидная логика, по которой Даша старательно, шаг за шагом, осваивала территорию Роминой жизни; и для того, чтобы окончательно демаркировать границу между Машей и тем, что она уже называла своей семьей, оставалось последнее, единственное, в сущности, хоть Маше это пока и в страшном сне не может присниться, впрочем, до этого еще дойдет дело, — ну да, но не объяснять же это все ночью, пьяной, в коридоре гостиницы.)
Так получилось, что к моменту, когда в начале осени студент HFF обнаружил «Погоню» в груде архивных дисков, Маша не выходила на связь с широкой общественностью больше трех лет — каннский фальстарт не в счет. И, конечно, Маша, втайне надеявшаяся, что эта игра в молчанку заставит наконец всех заткнуться и забыть про нее, поставила не на ту карту. Ровно наоборот: тихий бубнеж Регина-сумасшедший-дом-матери-если-все-что-говорят-правда-сумасшедший-дом-такое-бывает-с-талантливыми-людьми-теперь-надо-говорить-бар не прекращался ни на неделю, а когда в сети появилась тридцатиминутная лента с какой-то мистической беготней и хулиганским монтажом, киномир взорвался, как пакетик кукурузы. Сначала высказали свое компетентное мнение, фейк это или не фейк, все те, кому за высказывание такого мнения платили, потом, по цепной реакции, все те, кто, наоборот, платил за обнародование своего мнения, и наконец — вообще все, кто просто бесплатно имел свое мнение. Идея устроить по такому случаю громкую пресс-конференцию принадлежала, конечно, продюсеру — и все-таки Маша не послала его на три буквы, хотя могла бы, чего уж там, ограничиться тремя строчками письма на адрес какого-нибудь киноманского сайта. Но она согласилась — как потому, что с каждым разом все труднее отказывать продюсеру в таких вещах, так и потому, что пресс-конференцию они, суки, хотят? будет им пресс-конференция — чтоб они все полысели, клоуны. Петер, которому формально предназначался этот монолог, вздохнул. Извини, это я не про тебя.
Оставив Эрика с группой подснимать всякую мелочь, в один из первых дней октября Маша вылетела в Берлин. Из Тегеля нужно было бы отправиться прямо в «Kino Arsenal» — не так уж много времени оставалось до начала, два часа с хвостиком, — но Маша решила, вместо того чтобы тусоваться лишний час на Потсдамере, убить его в каком-нибудь кафе подальше от центра, уселась, взяла завтрак и вежливо мотнула головой подошедшему к ней с ворохом газет и журналов официанту. Но когда он уже отворачивался от нее, махнув своим ворохом, Маша, помимо запаха типографской краски, уловила еще кое-что — свою собственную фамилию на первой полосе и фотографию Ромы, на коленях у которого сидела Аня. Весь оставшийся час Маша читала и перечитывала интервью, в котором, в общем-то, не было ничего криминального — правда, только правда, хотя и не вся правда, — два раза на периферии появлялась талантливая молодая актриса, составившая счастье знаменитого оператора, и одна из фотографий удостоверяла ее благонадежность: милая женщина в брючном костюме, нога на ногу, расправившая ладони в стороны, как бы показывая, что она прозрачна, как окно в солнечное берлинское утро, — Рома со скрытым сожалением рассказывал, что у Маши просто нет времени, она так много работает, Аня большую часть года живет у нас, и они так хорошо с Дашей ладят, мы как настоящая семья, и, добавляла от себя интервьюер, тут Роман, конечно, лукавит, потому что если то, что я видела, не настоящая семья, то я и не знаю тогда, что такое настоящая. Любой непредвзятый читатель должен был сделать вывод, что Регина, вопрос о матери которой Рома наотрез отказался обсуждать, сбыла ребенка с рук, потому что он мешает ей снимать новый фильм, и слава богу, что ребенок нашел такую здоровую семью и такую добрую женщину, заменившую ей мать. Дрожа от ярости, Маша села в такси и набрала Рому. Регина, не сходи с ума, интервью как интервью, что ты там такого нашла? я вообще о тебе ничего не говорил, у тебя паранойя! что ты говоришь? я не слышу, у тебя там шум какой-то, и однако оказалось, что они с Дашей все равно хотели кое о чем поговорить, когда тебе удобно? — так что сразу после пресс-конференции Маша должна была позвонить им — ну, договоримся там, как и что, ты, главное, не волнуйся. Разумеется, нет лучшего способа привести человека в бешенство, чем попросить его не волноваться, — даже если Рома об этом и не знал.
Краем сознания Маша радовалась тому, что день начался так, как начался, — ярость, клокотавшая у нее в руках, в груди, в животе, оставила голову холодной — лучшего состояния, чтобы появиться в «Kino Arsenal», нельзя было и придумать. Зал был полон — продюсер, вылетевший за пять дней, чтобы готовить пресс-конференцию, знал свое дело. Встретив Машу на улице, у входа, он просиял: прилетела! слава богу! — а что, были варианты? — ну знаешь, с тебя станется, — возможно, это и не было ни на что намеком, но Маша научилась уже видеть намеки во всем и, посмотрев куда-то мимо, сказала, что ей нужен теплый зеленый чай.
Пресс-конференция, ссылку на полную расшифровку которой можно было уже к вечеру найти в любом задрипанном кино-бложике, была, по выражению одного из кинокритиков, трехчасовым сеансом издевательства над всем журналистским сообществом, — прочитав это, Маша убедилась, что задумка ее удалась. Коротко подтвердив, что «Погоня» действительно является ее юношеской работой, Регина сказала, что впервые в жизни поговорит с публикой начистоту, не будет ни шутить, ни морочить никому голову.
Все это, конечно, само по себе было не чем иным, как глобальной разводкой, — за три часа Маша не ответила ни на один заданный из зала вопрос, причем под конец даже объяснила почему: задавшись целью говорить серьезно, нельзя иметь в виду ни один из тех вопросов, которые возникают сами собой. Внимательно выслушивая каждого, кто брал микрофон, Маша кивала головой и говорила то, что к делу не относилось. Журналисты с каждым разом смелели: извините, но вы так и не ответили на вопрос о том, какие отношения у вас с бывшим мужем, — я оказалась в положении, когда мне приходится тут изображать что-то вроде Urbi et Orbi, но в этом нет моей вины, хотя я, конечно, отдаю себе отчет в том, что если ты снимаешь фильмы о чем-то, что не совсем понятно даже тебе самой, трудно ждать от публики, чтобы она спрашивала о том же, о чем спрашиваешь ты, хорошо если найдется пара-тройка таких людей, и если их нет здесь и сейчас, в этом никто не виноват, дело даже не в том, что ситуация не располагает, а просто сама структура hic et nunc такова, что шансов на то, что выпадут четыре шестерки подряд, практически нет — такие вещи всегда случаются со знакомыми ваших знакомых, а не с вами.
Журналисты переглядывались, продюсер прятал лицо в ладони, люди вставали и уходили из зала, но тем, кто досидел до конца, нужно же было что-то писать — и в завтрашних публикациях самым популярным отрывком Машиной речи стал тот, где она отвечала на вопрос, о чем будет новый фильм: это еще один вопрос, ответить на который нельзя, не сказав какую-нибудь глупость. Такие вопросы задаются, чтобы было потом что написать в пресс-релизе: актуальные проблемы современности, одиночество человека в современном мире, ответы на вызовы, которые ставит перед нами современность, — все это вещи, от которых разит, как в России из привокзальных сортиров. Меня интересуют не вещи, а их семена. Для того чтобы говорить о семенах вещей, нужно уничтожить сами вещи, и сделать это нужно, рискуя уничтожить себя, — половина газет вышли на следующий день с заголовками вроде «Мария Регина призналась журналистам, что подумывает о самоубийстве». Комментарий психиатра: сложно утверждать что-то наверняка, но то, что тяга к суициду наравне с мегаломанией — один из симптомов биполярного расстройства…
Склонимся перед авторитетом науки: и впрямь, утверждать что-то наверняка — сложнее некуда, но во всяком случае из тех, кто написал о прошедшей пресс-конференции, как кажется, что-то понял только один человек — юноша-кинокритик из России (когда-то удививший Машу «Силой взрывной волны», но она, конечно, не запомнила фамилии), просидевший в «Kino Arsenal» все три часа молча, — в своей воскресной статье на культурном сайте он обращался риторически к Маше: фрау Регина, ну что за детский сад? Уже через час после того, как продюсер сдавленным голосом поблагодарил всех присутствующих за то, что уделили время, Маша лежала в постели на Фридрихштрассе и тихо постанывала от стыда. Ей хотелось хотя бы немного поспать, прежде чем звонить Роме, но спать было невозможно — ее мучило сознание своего идиотизма, как будто, действительно, она посмеялась над детьми за то, что они не умеют ходить на горшок: ну, Регина, довольна? самая умная, да? всем доказала, что ты невъебенная сучка! Маша трясла головой, уговаривала себя успокоиться, злилась, что не может, злилась, что злится, — через час бешеного верчения на кровати (одеяло вылезло из пододеяльника и как будто по-тихому уползло, спасаясь, — ясно, что это оно специально) Маша рявкнула, скрутила и швырнула одеяло в угол и, шатаясь, пошла в ванную.
Только у дверей ресторана, в котором был назначен разговор, мы будем вдвоем, Аня останется с сиделкой, — Маша поняла, что ресторан был китайский — то ли Рома не сказал ей об этом по телефону, то ли Маша не вполне еще вывалилась из полусонного смятения, главной темой которого были угрызения совести (такие вещи тянут друг друга из темного глубоководья памяти — как фонетические ассоциации, не более того), и приняла слова китайский ресторан за собственное сорвавшееся с цепи чудовище — в противном случае Маша, разумеется, настояла бы на каком-нибудь другом месте для встречи. Было поздно — одетый в какие-то как бы китайские тряпки мальчик уже распахивал перед ней двери страшного аттракциона.
Было поздно — уместный рефрен для финала книги, потому что — а что еще можно сказать о герое, когда финал уже просвечивает сквозь оставшийся десяток страниц? Разве что герою может казаться, что есть еще какие-то варианты, и автору — что можно еще что-то сказать. В действительности мы, похоже, пропустили момент, в который стало тотально поздно для всего, колеса поезда уже соскочили с рельсов — успеть бы, прежде чем раздастся грохот, договорить то, что разумеется само собой.
Было поздно строить из себя хозяйку положения — не только потому, что Маша была чудовищно вымотана перелетом, пресс-конференцией, совестью, несостоявшимся сном, но и потому, что на самом деле она и не была уже хозяйкой положения, — Рома с Дашей сидели за столиком на диванчике, ей остался стул напротив них, и выглядели они уверенно, будто парочка, пришедшая в банк погасить ипотечный кредит. У нас сегодня торжественный день, дорогая. Я скрывать не стану. Мелькали листы бесконечного меню, у нас к тебе, как я говорил, важный разговор, склонялись из темноты сощуренные улыбающиеся лица, это касается Ани, мелкие тарелки с приторным запахом, я думаю, ты уже догадалась, палочки, вылезающие из тряпичного носка, который складывается гармошкой, она уже большая и называет Дашу мамой. Телефон. Звон керамических палочек. Принесите вилку. Нет, не нужно. Ты сможешь видеться с ней на выходных, как и сейчас. Не было караоке, вместо него играла какая-то китайская попса, но Машу как раз это разозлило, будто режиссер всей этой дури поленился даже использовать такую очевидную выигрышную рифму. Рома говорил, глядя на свои руки, Даша переводила взгляд с него на Машу и обратно. Для ребенка это гораздо более здоровая атмосфера, будь честной сама с собой, у тебя нет на него времени. Извините, пожалуйста, я управляющий этого ресторана, могу я попросить ваш автограф для нашей wall of fame? Маша плыла в молоке, моментами будто выныривая на поверхность, и тогда она видела полупустой ресторан, стол, уставленный долбаной едой, слышала далекий звон посуды с кухни, шум кофейного автомата и как будто со стороны видела себя — женщину на границе смертельной усталости, держится за виски, лопнувшие, должно быть, капилляры и — вот сейчас, сейчас бы я заснула. Унизительное положение человека, которому объясняют очевидную, хотя и объективно несправедливую истину. Хорошо, где мне расписаться? Что им сказать? Что вообще в таких ситуациях говорят? И все же что-то сказала, язык занемел, двигать им было трудно, к тому же Маша боялась, что ее стошнит. Рома замолчал, Даша в нетерпении перекинула ногу на ногу: Машенька, для тебя это будет только хуже. Ты же понимаешь, что тебя прежде всего отправят на психиатрическую экспертизу, и уже неважно, что там скажет врач — для судьи сам факт, что такая экспертиза понадобилась… Взмах пальцами, как будто взлетел кверху пепел. Тебя могут вообще лишить прав, а так ты все-таки постоянно будешь видеться с Анечкой. Анечкой, блядь.
Как у человека, пальцы которого все-таки соскользнули, крик о помощи сменяется, должно быть, криком ужаса, так Маша, неподвижно сидевшая на хлипком деревянном стуле, плывшая в красно-желтом мареве, кружившаяся в водовороте запахов сладкого мяса, в одно провалившееся мгновение поняла, что уже поздно бороться за Аню, она проиграла, и это случилось уже — начиная с какого-то момента отчуждение Ани стало неизбежно, чтобы спасти себя, нужно было бороться, отстаивать, судиться, включаться на полную катушку в жизнь, но Маша была уже отчуждена от жизни. Вставая, Маша опрокинула в сторону дивана стол, полетели соусы, куски оранжевого мяса, рассыпной рис, палочки, невесомые чашечки, подставочки под палочки, салфетки, соль, перец, уксус, темно-красные брызги, — ненавидящий Дашин взгляд и несчастный Ромин, замершие в оцепенении официанты, зырящие по углам едоки, — и все это в беззвучии, потому что все, что слышала Маша, это собственный злобный стон — она стонала, чтобы сделать вид, будто не рыдает в полный голос — так, как не рыдала ни когда умер отец, ни когда умер А. А., ни как когда-то черт знает когда в детстве папа побил маму.
В квартире на Фридрихштрассе — омерзительной до того, что нужно, как это раньше не пришло в голову, залить ее водой, не специально, случайно — Маша, едва сев на стул в кухне — потому что надо подумать, надо подумать, подумать о том, что делать, — обессиленно, безвольно, на счет три выкатывается в неуместно восхитительный сон.
Маша снова в Калабрии на съемках, тянется по склону дрок, мреют на солнце кусты можжевельника, на сломе горизонта тонут в янтарной дымке кроны пиний, у корней ковыля шагает краснолапая саламандра, из щелей в скалах выбираются бледные толстомясые цветы: кажется, вспугни — юркнут обратно. Щеки гладит упругий ветер, слышится короткое блеяние, в вышине с потоком теплого воздуха поднимается сокол. Машу окликают, она оборачивается, взмахивает рукой и идет снимать. Установлены рельсы, расставлены рефлекторы, загримированы актеры — все готово, пора начинать.
Открытие Америки
В Машиной жизни, как это в жизни и бывает, мало что изменилось.
Вплоть до того момента, когда Маша в берлинском посольстве России продырявит портрет высшего должностного лица (тот еще анекдот, хватило бы времени рассказать), никто вообще не будет ничего знать. Петер догадывался, что что-то не так — что-то неуловимое: изменился стиль Машиной работы, к неутомимости и упорству прибавилась скрупулезность; вместо того чтобы снимать десять часов подряд и успеть за это время три сцены, Маша снимала теперь все те же десять часов, но успевала только одну, раз за разом заставляя гримеров перерисовывать лица, осветителей — переставлять приборы, актеров — играть по пять-шесть дублей, как будто она была все время чем-то недовольна, или вдруг посреди работы над кадром ей приходило в голову, что можно сделать лучше, и тогда нужно начинать все с начала, — но все это само по себе еще не проблема, во всяком случае, для режиссера с именем, поэтому всякий раз, когда Петер пытался начать об этом разговор, он сводился к кёнигин, ты уверена, что все в порядке? — да, а что?
На самом деле похоже на то, что Маша просто потеряла ощущение времени, и съемочный процесс стал для нее чем-то вроде пространства, которое нужно исходить вдоль и поперек. Это тем более похоже на правду, что ощущение пространства вообще стало для Маши во время работы над «Голодом» ключевым: снимая в Италии фильм о России, она столкнулась с необходимостью постоянно удерживать в рабочей части сознания оба эти простора. Временами это было похоже на галлюцинации: как будто дымчатая по краям, серая с зеленым среднерусская равнина готова была вспучиться из-за пожухшего калабрийского холма, залить солнечный, с видом на море склон своим туманом, засыпать рыхлым снегом, и вот-вот должна была запеть неслышная, метафизическая нота величественной тоски, ибо именно тем и отличается русская тоска от любой другой, что она неотделима от величия.
Воздух, которым дышала Маша, это был тот же воздух, которым одновременно с ней дышали во Пскове и в Твери, солнце, на которое она вместе со шведом-оператором щурилась, это было то же солнце, которое сейчас выглядывало из-за туч, в нежнейший малиновый отсвет окрашивая берега Волхова и Волги, и земля, по которой она гоняла свою съемочную группу, это была та же самая тектоническая плита, лежа на которой, ее прабабка (шел первый год войны) выкинула из себя лиловый комочек, которому через двадцать лет пришлось самому разрешиться от бремени, и, рожая Машину бабку, она тут же рожала и Машину мать, и Машу, и Машину дочь, — крик всех рожениц сливался в один торжествующий вопль обнаружившего себя на Земле человечества.
Это была та же земля, по которой с папиросой в зубах водил свои локомотивы Машин дед, и та же земля, по которой однажды протарахтела полуторка, привезшая Машину бабку — юную, с улыбкой тайно сознающей себя абсолютной власти — домой к хмурым дедовым родителям, и на которой перед самой войной ловкими, по локоть черными от сажи руками дед поставил дом — крошечный, но ползающим по полу спиногрызам он казался огромным. И не где-то еще, а именно здесь, тут же, где Маша подскакивала с режиссерского кресла, чтобы заставить артистов перестать играть, ее бабка приняла мучительную голодную, как у людей жизнь, похоронила сына и мужа, пережила метаморфозу, превратившую ее сильное сексуальное тело в уродливое вместилище угасающего сознания, и была (вот от чего кровь застывает в жилах), в общем, счастлива. В этом же самом пространстве ее мать расширяющимися кругами осваивала мир своей жизни — школа, колхозное поле, огород, танцы в ДК, электрические разряды по позвоночнику, когда Машин отец неловко целовал ее в губы и гладил ладонью по спине, — и в один неуловимый момент круги стали сужаться, оставив ее в конце концов одну с ее призраками. Все это — мать, ей четырнадцать лет, кормит соседскую собаку, отец выходит на первый в своей жизни рейс, ему двадцать один, бабка умирает, держа Машину ладонь в руках, и еще тысяча тысяч событий — конкретных, наполненных мощными, как низвергающаяся в пропасть толща воды, эмоциями, — все это происходило, правда, не сейчас, но здесь же. Где Маша тряслась в поезде до Петербурга, и где она теряла невинность с трогательным, в сущности, мужчиной, своим учителем, и где она сняла свою первую картину, и где приземлилась впервые в Мюнхене с искусанными напрочь губами, любила нервного оператора своих фильмов и родила от него пухлую — три пятьсот: не жук чихнул — дочь.
Это универсальное ощущение заставляло Машу холодеть от ужаса не только потому же, почему человек, давно не видевший моря, выпрямляет спину, оказавшись на берегу, но и потому, что оно моментами, как если бы соскальзывала вдруг в сторону грань лентикулярной линзы, оборачивалось метафорой, смысл которой заключался в том, что, вопреки не успевающему за мыслью языку, все то, что происходило с людьми, жившими с Машей на одной земле, происходило не только здесь же, но и сейчас. Как будто то, что было с Машей, было не с ней, а с какой-то метачеловеческой сущностью, внутри которой все эти истории — была одна и та же история; не повторяющаяся из раза в раз, а буквально — одна.
Ясно, что ключевая метафора «Голода» транслировала схожее ощущение. Главный герой отказывался от еды именно потому, что его повергала в ужас независимость внутренних процессов его тела от него самого. (Коли зашла об этом речь: как раз то, что Петеру удалось это сыграть, сделало роль по-настоящему большой работой, а среди ролей Петера — и вовсе крупнейшей.) Дело было, однако, не только в еде. Раз задумавшись о странном механизме, работа которого ставит под сомнение его самостоятельность, герой находил сходное действие везде. Все, что он привык считать своей собственностью, обнаруживало свойства сущности, воля которой превосходила его волю. Отвращение, которое он испытывал к родственникам и партнерам, коренилось не в презрении к их будто бы низким моральным качествам — напротив, они все были милые люди, и он резко одергивал дочь, когда она сетовала, что вот, мол, примчались как на пожар, а если б не деньги, не было бы их ни видно ни слышно, — нет, проблема, как она ему представлялась, была в другом: деньги, — говорил он в другой сцене, — забеспокоились, это очень похоже на чувство голода. Более того: все то, что составляло основу человеческого существа в нем — чувство признательности друзьям, родственное чувство, любовь к дочери, наконец, — все это также раскрывалось как независимо от его воли действующие программы, иначе почему он категорически не мог остаться один на один с переступившей уже порог смертью; да идите же вы все в задницу! — кричал герой набившейся в его спальню толпе и откидывался на подушку с извиняющейся гримасой на лице. Толпа переглядывалась понимающе.
Вообще юмористический эффект «Голода» — герою никак не удавалось остаться одному; сколько он ни давал миру понять, что не нуждается в нем, мир с сочувственной улыбкой дочери, доктора, друга в ответ выказывал полное понимание: в таком состоянии человека лучше не трогать, просто побыть рядом — был тоже вариацией главной темы: невозможность установить границы собственного существа. Схожим образом срабатывали в «Голоде» и «споры о России»: если кто-то при мне начинает говорить, что кровавый тиран Сталин погубил миллионы людей, я сразу понимаю, что этот человек в школе не читал Толстого, — говорил один из героев, — мне не нравится Сталин, мне вообще не нравятся низенькие, да еще с усами, — между прочим вставляла дочь, доктор машинально проводил пальцами по верхней губе, и герой Петера, до последнего державшийся, наконец обнаруживал себя встрявшим в спор, из которого не было и не могло быть никакого выхода, который все-таки увлекал его, тем более что осторожно-доброжелательные взгляды вокруг его подбадривали, при этом переглядываясь, как бы говоря друг другу «давай-давай», — и герою в конце концов становилось противно до того, что он снова срывался в потешную истерику. Дополнительную иронию всему этому придавало то, что на дух не выносивший цинизма герой всякий раз взрывался, стоило его партнеру — цинику par excellence, любившему своим цинизмом бравировать, — высказаться, помахивая сигаретой, в духе у нас на предприятии только два отдела — отдел эксплуатации кадров и отдел кадров эксплуатации. Выслушав короткую задыхающуюся проповедь, партнер невозмутимо отвечал, притушивая сигарету: это ты мне говоришь, что надо думать о людях? а ты о нас думаешь?
Нет, Маша не ставила себе задачу высказаться о России — собственно, невозможность такого высказывания всерьез, в частности, и обосновывалась «Голодом»; чтобы ни у кого не оставалось соблазна вчитать в фильм какой-то историософский смысл, тот самый циник-партнер почти в самом финале подводил итог дискуссии с доктором о функционировании системы «власть — общество» в России: в жопу в этой стране и так всех ебут, а вот брать в рот уже стыдно, — причем сразу за этой репликой следовал кадр, в котором в окно гостиной заглядывала коза, — настоящая русская тема включалась в картину не на уровне высказывания, а — цветовой гаммой кадра, звуком ветра и внезапно пошедшим дождем. Весь мир — Россия, — говорила дочь, и за все без малого два часа это была единственная ее неподдельная реплика, — так и лента, и повествование замыкают петлю, возвращаясь к Машиному ключевому, никак не поддающемуся вербализации ощущению.
Не сказанное оставалось в «Голоде» важнее сказанного — это верно не только в отношении слов, произносимых героями, но и в отношении вообще ощущения, настроения фильма, той неслышной ноты, которую как будто все время слышали, не отдавая себе в этом отчет, герои. Посмотрев уже смонтированный фильм — это будет в Берлине, Маша выгонит из просмотровой всех, оставит только Петера, — он скажет: ну ты стратег, кёнигин. Ему придется пояснить, потому что Маша сделает удивленное лицо: он имеет в виду ту атмосферу, которая сложилась в Калабрии, — группа, нервничающая от того, что все идет так медленно, что сцена за сценой переснимаются, что она как будто какую-то двадцатичасовую эпопею снимает в своей голове, — все это в конечном счете на экране отразилось как смутное, изнутри разъедающее героев беспокойство, будто в сытый солнечный день звучит издалека тоскливая однообразная мелодия. Нет, — скажет Маша, — я ничего такого специально не делала.
Маша, может, и не делала, а вот Петеру приходилось — на правах не только исполнителя главной роли, но и самого авторитетного артиста в группе, человека, который регулярно отвечает на вопросы вроде а каково сниматься у такого-то? и как проходили съемки того-то? — служить чем-то средним между громоотводом, аниматором и штатным психологом. И хотя расписание позволяло ему отлучаться со съемок, он за все пять месяцев ни разу этого не сделал; вместо этого он разговаривал, увещевал, успокаивал, выслушивал, развлекал. Быть душой общества (давай-давай, работа актера над другими, — как однажды походя отшутилась Маша) — тяжелый труд, иные получают за него деньги, но Петер вполне сознательно пошел на это не только потому, что ему важно было, чтобы фильм вышел — и вообще, и ausgezeichnet, Петер понимал, что за роль он играет, — и не только из профессиональной симпатии к Маше, но и потому, что ему хотелось просто быть к Маше поближе. В этом желании мало было рационального — что рационального в неразделенной любви? — и все же, когда Петер спрашивал себя, в чем тут дело, он формулировал для себя это так: я могу оказаться ей нужным, — ощущение, что Маша не в себе, что она что-то страшное за собой тащит, не пропадало. То, что Петер не формулировал, а значит, оставлял за собой возможность не принимать это во внимание, — это что в действительности с этой нужностью in spe связывалась надежда она еще может стать моей.
И разумеется, ничто не могло быть дальше от истины.
Оставляя в стороне все, что уже сказано как о внутреннем Машином состоянии — какое может быть состояние у человека, которому объяснили, что родная дочь ей не принадлежит? — так и о Машиной судьбе — орбита которой стремительно удалялась от жизни в том смысле, который имеется в виду, когда спрашивают «как жизнь?», — нужно, кажется, сказать просто: Маше было не до того. Со съемок в Калабрии она, как и раньше, каждую пятницу улетала в Берлин, где Рома на два дня передавал ей Аню, они гуляли, рисовали, ели мороженое и ходили в зоопарк — мама, волк! — где, Анюта? а, вижу, подойдем? — нет, я боюсь — боишься? — я боюсь волк! — надо говорить «боюсь волка» — боюсь волка, — Маша собиралась с силами: сейчас ей все больше казалось, что злосчастный китайский ресторан был не более чем дурным сном, что ничего непоправимого не произошло и что, когда она вернется в Берлин, в студию, ей просто, как это и должно быть, отдадут Аню и она будет отпускать ее на выходные к папе.
Вот, кстати, чем вульгарный фрейдист отличается от настоящего: там, где один попадется на повествовательскую удочку с наживкой в виде классического анализа, другой обратит внимание на инерцию языка — в Машином словаре свили гнездо устойчивые формулы, описывающие нормальный ход событий, и поэтому статусом реальности не могло обладать то, что произошло на самом деле: когда после пяти изматывающих месяцев в Калабрии Маша вернулась в Берлин, Ромин телефон не отвечал, квартира в Шенеберге, куда она приехала на следующее утро, была заперта, а хозяйка, которую Маша нашла, подняв на уши полдома, сонно сообщила, что жильцы съехали два дня назад: расплатились и съехали, у меня нет никаких претензий.
Маша поехала в студию, работать. И это не было проявлением особенного мужества или крайнего безразличия, а просто — что ей было еще делать? Кто угодно — квартирная хозяйка, полицейский, которого та предложила вызвать, юрист, про которого у нее промелькнула, успев вызвать дрожь отвращения, мысль, где его, если что, искать, — все сказали бы одно и то же; более того, Петер ей это и сказал после нервного совещания, на котором расписывали предстоящую студийную работу по срокам, и группа, чувствуя, что Машу почему-то сейчас лучше не трогать, на всякий случай согласилась со всеми ее непомерными требованиями. Он тогда подошел к ней наедине и требовательно спросил кёнигин, на тебе лица нет, что, lieber Gott, произошло? — и она прошипела ему, что они съебались, они украли Аню, — он побелел и сказал: ну подожди, не волнуйся пока, подожди денек, они еще позвонят, не могли ж они вот так взять и уехать. Что ей было делать? Разве что в перерыве позвонить в посольство и записаться на встречу с послом — завтра; тогда послезавтра. Потому что ясно было как божий день, что они не только могли, но и улетели — в Россию; иначе никакого смысла в побеге не было.
У Ромы, когда она все-таки дозвонилась до него на следующее утро, нашлась тысяча причин: тут у Даши проблемы, пришлось, да и мне тут работу предложили небольшую, мы ненадолго, ты же можешь приехать, я пытался тебе позвонить, но… — Маша не хотела взрываться, это было бы стратегически неправильно, но когда он сказал про позвонить, ее всю перегнуло, и она врезала телефоном в стену. Что значит позвонить?! ты вообще не мог увезти Аню — для того чтобы узнать это, не надо звонить! Действительно ли так она кричала? Телефон был разбит, и Рома ее уже в любом случае не слышал. Вставив симку в новый телефон, Маша, уже в студии, получила несколько эсэмэс — циничных, разумеется, потому что, предлагая Маше прилететь в Питер (мы не прячем Аню от тебя, — плюс лживо помигивающий восклицательный знак), Рома прекрасно знал, что она должна работать.
И Маша, с ртом полным крови — вгрызалась в щеку всю дорогу до студии, — превозмогая чудовищную боль в голове, начала монтаж. Развеселый Cutter (дядя, достань воробушка, улыбка чеширского кота сменяется цепкой сосредоточенностью и обратно как по щелчку), когда через две недели ему скажут — на ухо, потому что все всё знали, но Регина тебя убьет, если что, — в чем дело, присвистнет: такого темпа работы, такой четкости, внимательности, мгновенной реакции он никогда не видел — так вот в чем дело! — да, а вы как хотели.
Нечеловеческая работоспособность была единственным признаком, по которому можно было бы, если бы было кому, судить о том, на краю какого отчаяния Маша пыталась себя удержать. Отпуская группу на перерыв, Маша оставалась в монтажной, до одурения прокручивая горы материала, и помощница — девочка, в Машу, кажется, немного влюбленная, которую Петер предупредил, что если у Маши снова откроется язва, виновата будешь ты, пойдешь по статье за вандализм, — изо всех сил уговаривала ее поесть: привезли пиццу, я заказала, с беконом — поставь, пожалуйста, на стол и, подожди, свари еще кофе — а пицца?.. Во всем остальном — никто не мог бы сказать, что с Машей что-то не так. Посол на Unter den Linden встретил ее внизу, проводил наверх, полчаса рассказывал ей, что, да, чтобы вывезти ребенка, нужен был Einverständniserklärung, что, раз ребенок улетел, значит, такая бумага была, и уверена ли она, что никогда такой бумаги не подписывала, что затевать судебный процесс, ну да, можно, но это история на годы, и не проще ли полететь в Россию и там все уладить, тем более что, в общем, не обязательно вступать для этого, ну, на правовое поле, куда как проще решить все, так сказать, по-семейному, вы же не разведены? — Маша больше молчала, чем говорила, и послу в голову не могло прийти, что больше всего ей хочется вцепиться ему в горло: Маша ни минуты не сомневалась, что этот хрен полосатый лично подделал подпись или, во всяком случае, не задумываясь сделал бы это.
Разумеется, Маша не страдала паранойей, она понимала, что несчастный herr Botschafter не мог, скорее всего, даже если предположить, что хотел бы, принять участие в похищении ее дочери — не он заверял подпись на Einverständniserklärung, не он уговаривал Аню, что а мама к нам потом приедет, не он успокаивал Ромину совесть — ей все равно работа важнее, чем ребенок, — и все-таки полосатый хер оказался — wrong time, wrong place, спасибо, дядя Сэм, — означающим в верхней части соссюровского гамбургера, который для Маши символизировал всю ту ядовитую и цепкую, как репейник, жизнь, которая украла у нее дочь. Именно поэтому то, что произошло две недели спустя, было только фактом Машиной биографии, не более того, и именно в этом качестве, как идиотский анекдот, случившееся и нужно рассматривать.
А произошло вот что. Маша снова записалась на прием, посол, как и в прошлый раз, встретил ее внизу, проводил наверх и там стал доверительным голосом уговаривать не раздувать никому не нужный скандал, Мария Павловна, поймите, — после того, как он пятый раз (Маша считала) произнес ее имя и отчество, она достала из сумочки «Glock» — реквизиторы волшебные люди, особенно если не задают вопросов, — и направила его на полосатый пиджак. Она, в сущности, вовсе не собиралась стрелять, ей важно было только увидеть в глазах системы что-то человеческое, что-то кратное ей как отдельному человеку, с собственными страданиями, собственными надеждами, собственным чувством справедливости, — страх, боль, ужас, раз уж не обнаруживалось вовне ни сострадания, ни понятной ей надежды, ни родственного чувства справедливости, — и когда увидела (все продолжалось не дольше полуминуты: расширившиеся зрачки, обмелевшая кожа лица, напряжение всего тела), отвела ствол в сторону и все-таки, чтобы не возникло подозрения, будто все это нелепый понт (хотя чем еще, прости господи, все это могло быть?), выстрелила, причем не целясь попала — из собственного сценария она бы вычеркнула это место, направив пулю в стену или на худой конец в окно, потому что это уж слишком в лоб — в висевший на стене портрет верховной власти, символизирующей, в России по крайней мере, тупую безличную силу, разрушившую Машину жизнь, — силу необходимости. Журналист из «Allgemeine», когда будет раскапывать эту историю, подкупит уборщицу посольства, и она расскажет ему про дырку в портрете, но он не решится вставить это в статью — все равно никто не поверит, да и безвкусно, не говоря уж о том, что впечатлительная уборщица эту дырку как пить дать выдумала.
Была охрана, был обыск, была реквизиция реквизита, и посол, прикладываясь к стакану с виски, бормотал режиссерша ебаная, лечиться надо, Маша несколько часов провела в маленькой комнатке с металлической дверью — обезьянник не обезьянник, но дверь была заперта, и в туалет пустили только после долгих уговоров и под охраной, — в конце концов Botschafter пришел к ней — я хочу, чтобы вы знали, вопрос решался в Москве, принимая во внимание ваш статус, — дело замяли, — ваши вещи вам отдадут внизу, вход в посольство вам с этого дня, само собой, запрещен. Само собой, дело замяли не столько принимая во внимание статус, сколько потому, что подобная история — нам нафиг не нужна, не поднимай бузу, ты ж знаешь, — могла бы сорвать переговоры о каких-то там на тему родительского киднеппинга соглашениях. Машин выстрел плюхнул в холодную стоячую воду, ни одна долбаная лягушка в этом болоте даже не квакнула. Маша вышла на залитую вечерним солнцем Unter den Linden, улыбающиеся люди показывали друг другу пальцами: смотри, наше посольство, моща! Маше казалось, будто пальцами тыкают в нее.
Все тайное становится явным — дискурс-привет детям страны советов! — история — про Регину-то слышал? — распространялась неспешно, но тем достовернее становилась — да, господи, все знают! — и через две недели была уже достоянием кинематографического сообщества всего Старого Света. Об информации из достоверного источника написали несколько желтых газет, у которых оставались еще свободные полосы. Но преступление ничто без мотива: только тогда, когда в своем блоге петербургская актриса (скандалистка и тусовщица на самом деле, но не впишешь же эту строчку в сверхкраткое, в одно слово CV, тут всегда в таких случаях пишут «актриса») написала ну не стыдно вам, дорогие, мусолить чужие тряпки, а? чокнутая, больная… хотела бы я посмотреть на любую другую маму на ее месте… — только после этого история вышла из желтого гетто и стала, не в последнюю очередь благодаря ухватившимся за нее общественникам, достоянием публики. Посольство официально опровергло распространившиеся в ряде СМИ домыслы, Маша всех журналистов посылала куда подальше, и однако о предположительно имевшем место выстреле как о поводе поговорить о важной, до сих пор остающейся не решенной проблеме в одних изданиях и о слишком давно молчащей Региной в других писали десятки человек на пяти языках. Мнения, как простейшие, размножаются делением, и если один критик писал о том, что Региной, при всем уважении к ее таланту, стоило бы пройти наконец соответствующее обследование у специалистов, то другой эксперт осторожно спрашивал себя, не часть ли все это рекламной компании «Голода», который, по слухам, только подтвердит тот факт, что Регина как режиссер выдохлась? Творческие неудачи теперь, кажется, принято маскировать агрессивной вирусной рекламой.
Маша, когда кто-то из осмелевших на студии робко намекал ей: Мария, вы не читали? такое пишут, что волосы дыбом, — неизменно доброжелательно отвечала, что давайте поговорим об этом после работы, о’кей? — и однако после работы, даже если осмелевший еще оставался в студии, ему было не до разговоров — доползти бы до дома. От журналистов отбивался продюсер — пресс-релизы, звонки, милая, ты совсем совести лишилась, ты не могла мне сказать, что у тебя такой материал пойдет? — опровержения и обещания, отказы, вы вчера родились? я вам скажу новость, дайте ее с пометкой «молния»: режиссер Регина уже три года как не дает интервью, никому. В начале лета в «Empire» вышло большое интервью с Петером, где он говорил о «Голоде», премьера которого была предварительно назначена на август: я думаю, — говорил он, — что съемки в этой картине были самым главным событием в моей жизни — в моей профессиональной жизни, во всяком случае, точно. Уверяю вас, что работа на таком уровне духовного напряжения для любого артиста — и счастье, и мечта, и величайшее испытание. И еще: то, что я видел в монтажной, превосходит все прежние работы Региной. Несмотря на то что Петер, несомненно, и так все это сказал бы, продюсер все-таки заранее позвонил ему: ну ты там дай им всем прикурить, а то совсем распоясались, бога не боятся. Несколько раз он и сам говорил под включенный диктофон, причем однажды, расслабившись, уж очень хорошенький был мальчик-журналист, сказал: последнее время она как будто покрылась патиной какой-то, обросла скорлупой. Самым комическим образом это было прямо противоположно тому, как обстояло дело в действительности.
Потому что на самом деле с Машей произошло нечто совершенно иное: двадцать четыре часа в сутки, даже во сне — спала она мало и почти постоянно просыпалась рывком, выныривая из-под тугой пленки пронзительного тоскливого сна, — она жила с истончившейся до небывалой проницаемости оболочкой. Именно поэтому, если подумать (потому что — а зачем иначе?), она чисто механически ограничивала контакт со средой. Не в том даже дело, что среда была враждебная — что враждебного в милых девочках и мальчиках на студии? — просто если у монады нет окон, то ей, очевидно, грозит исчезновение вместе с превращением в окно. Между тем именно как большое, во всю стену, с натертым до скрипа стеклом окно Маша и ощущала себя. Острее всего это чувствовалось за пультом — она работала, как будто растворившись в кадре, то есть буквально: как будто она и была кадром; это случалось в лучшие моменты и раньше, только раньше это состояние нужно было специально, иногда подолгу, наколдовывать, — в студии и на улице. Маша все так же ездила на велосипеде (только теперь в глухом мотоциклетном шлеме: выглядело глупо, зато ее было не узнать), и ей казалось, что жирующая вокруг жизнь, как пахучая чашечка хищного цветка, незаметно переваривает ее. Веточка, попавшая под шуршащее переднее колесо, переламывалась с торжествующим, дивной красоты звуком, прячущаяся в панике под куст мышь заламывала сердце совершенством своего устройства, Маша не могла себя пересилить и останавливалась, чтобы поднять с земли глупую черно-красную гусеницу, и гусеница слепо тыкалась туда-сюда по ее ладони, пока Маша с сожалением не отпускала ее, на выезде из Тиргартена солнце перемигивало по окнам домов сотней ясно различимых оттенков, пузатый старик останавливался отдышаться так, будто он и был конечной целью мироздания, панкующая молодежь, сидя на асфальте кружком, пела нестройно «Knockin’ On Heaven’s Door», причем нестерпимо, до боли хотелось отдать кому-нибудь велосипед и сесть вместе с ними, стать своей у них, Маша с остервенением внюхивалась в запахи булок и кофе, пиликали возвышенным хором телефоны, и холеная мама успокаивала плачущего ребенка, горе которого было неотменимо, богоравно, всесокрушающе, — на студию Маша через раз приезжала в слезах.
Становилось ли вечером лучше? Нет. Мир в тени все так же полнился цветами, формами, запахами, звуками и голосами: огни вывесок, витрины и фонари складывались, как нарочно, в гармоничные соцветия, тени деревьев прочерчивали на тротуарах контуры волшебных карт, запахи пива и конопли пьянили аккумулированной радостью, гомон толп на площадях и на порогах дискотек нарастал, взрывался и утихал, как вагнеровская увертюра, — все это проникало в Машу, наполняло ее и, будто раковая опухоль души, плодилось, плодилось в ней восторгом и тоской. Маша приезжала на Фридрихштрассе — так опускался на дно крейсер «Стерегущий», матросы которого сами открыли кингстоны, отделявшие их от густой соленой воды и напуганных рыб, — бросала шлем у двери, минут десять сидела в тишине и темноте (относительной тишине и относительной темноте — дом говорил с ней сотней голосов, тихо гудели трубы, глухо кричал сверху по-турецки мужской голос, за окном подпевали коты, и стена перед ней меняла тон в ритм работающему у кого-то напротив телевизору), после чего набиралась смелости и звонила в Петербург. Трубку сразу давали Ане (она как раз готовилась спать), и Маша слушала Анино лопотание, которое ей все труднее и труднее было разбирать. Настоящий ужас, однако, ждал Машу ближе к середине лета, когда Аня все чаще стала отдавать папе телефон после минуты-другой разговора: ну ладно, мама, пока! — Аня, подожди, послушай… — привет; да она мультик тут смотрит. После этого Маша остервенело бросалась на бумагу — и только тогда жизнь, порыкивая, уползала в свою нору.
За время пост-продакш «Голода» Маша написала два сценария — один из них был едва ли не автобиографическим, про девочку из провинции, поступающую в художественное училище (в финале героиня переживала не то всамделишний, не то нафантазированный роман с красавчиком-учителем), а другой представлял собой диковатую вариацию на каренинскую тему, в которой все вокруг Анны вели себя так, словно уже читали роман, хоть ничего и не могли поделать, — но этого было мало. Кроме того, Маша изрисовала эскизами две папки бумаги — на картинках этих будут лица, животные, городские сценки и какие-то будто инопланетные пейзажи — а еще, купив масляные краски и растянув на подрамнике холст, она написала две картины. Картины — громко сказано: кисти Машу слушались плохо, масло выкидывало самые неожиданные кренделя, так что попытки пересоздать (обуздать, конечно, на самом деле) цветовое берлинское буйство — дневное в одном случае и вечернее в другом — провалились; свернутыми в трубочку их потом найдет в углу кухни Петер; его передернет, когда он их развернет.
Петер несколько раз за все это время напрашивался в гости, но Маша пустила его только однажды: кёнигин, я тут рядом, я так нарезался, я просто не доберусь до дома, — и хотя, говоря по совести, не так уж он был пьян, как хотел казаться по телефону, Маша его не выгнала: только не мешай, алкоголик чертов, я работаю — работаешь? шеф, ночь на дворе, какая работа? — так что, тебе вызвать такси? — молчу, молчу. Маша сидела с лэп-топом на кухне, Петер бродил по коридору и по комнатам, бормоча Gott verdammt: он помнил эту квартиру другой. Перед ним вповалку лежали футболки, носки и джинсы, разбросаны были по полу листы с эскизами, подрагивали в углах от движений воздуха комки пыли, валялись скомканные в трубочки-гармошки и переломанные пополам полиэтиленовые пакеты, карандашная стружка, придавленные чем попало — банкой из-под кофе, другой книгой, статуэткой — на раскрытых страницах книги и альбомы, на столах стояли чашки с желтыми и черными изнутри донышками, диски были свалены вперемешку с коробками, в коридоре лежали подошвами вверх туфли и упавший, да так и брошенный шарф, а на кухне из раковины вспухла ощетинившаяся во все стороны, как военное укрепление, черенками вилок и ложек гора тарелок: кёнигин, твоя домработница попросила политического убежища в Швейцарии? хочешь, я найду тебе новую? — спасибо, намек понят — нет, правда. Маша захлопнула лэп-топ и крутанулась на стуле: о’кей, будем считать, что поработала.
Они еще около часа посидели с виски (Маша больше нюхала, чем пила), Петер сплетничал, причем пару раз ему удалось даже рассмешить Машу, и уговаривал дать ему роль: все что угодно, босс, ты же знаешь — совратитель малолетней, пойдет? — если только малолетней тебя — ну почти, — и потом Маша отправилась спать: ты идешь? правда, уж извини, у меня сейчас только одна кровать. Она дала ему второе одеяло, и Петер тут же переполз из-под него к ней. Рука, пробравшаяся к ней под футболку, не встретила сопротивления, вместо этого Маша внятно, в голос сказала: Петер, тебе не надоело трахаться? — а? — я говорю, ты уже взрослый дядька, трахаешься, наверное, лет тридцать пять, ведь должно же было надоесть. Петер убрал руку из-под футболки и обнял Машу поверх нее. Извини, я не хотела тебя обидеть. Проснулись они, как засыпали, — обнявшись.
Домработницу Маша так и не найдет, но Петер узнает об этом уже только тогда, когда вернется в Берлин с премьеры «Голода». По игровому полю своей жизни Маше осталось сделать один ход (во всяком случае, в рамках этого текста; все другие ходы, если они будут, придется совершать уже за его пределами). Потому что премьера «Голода» будет назначена в Кёльне.
Почему в Кёльне? Потому ли, что Маше смутно хотелось зарифмовать эту премьеру с первым своим фестивальным триумфом (and the Oscar goes to, — шутит ведущий, фанфары, кадры из «Гугенотов», пока она пробирается вперед, из колонок несется: Russland, Akademie der Teatralischen Künste, Petersburg, HFF)? Потому ли, что ей важно было в тишине погулять по набережной, где Рома как-то застыл на полминуты, глядя на нее удивленно, как будто впервые увидел, да так, в пространстве памяти — ценности Мнемозины не подвержены инфляции, — и остался стоять с протянутой, обопрись на меня, рукой? Она не была в Кёльне с тех самых дней. Если и так, то главное, во всяком случае, было не это. Принципиально важно было нейтрализовать насколько возможно премьерный ужас — толпа, шампанское, улыбки, вспышки, вопросы, поздравления, — Маше казалось, что берлинских масштабов присущей любому подобному мероприятию бессмыслицы она не выдержит, сорвется; в Кёльне же можно будет обойтись малой кровью, а то и отсидеться где-нибудь в углу. Продюсер поломался для виду, но согласился быстро — решил, что так будет даже лучше: нелюдимость для public relations тоже товар, только уж нелюдимость должна быть высший сорт, без кокетства. Пресс-релиз, слава богу Маша его не видела, рекламировал премьеру новой картины самого загадочного режиссера наших дней, намеренно отнесенную за рамки фестивальной, а равно и столичной суеты.
Забегая, насколько это возможно, вперед, следует сказать, что премьера прошла так, как Маша и мечтать не могла: никакой суеты, никаких улыбок, гробовая тишина, разговоры шепотом, нарастающий гром аплодисментов после финального кадра, полные пабы стремительно сбежавших (фуршетные столы остались нетронутыми) критиков и журналистов. Рецензий, вышедших в последующие несколько дней, было немало; большинство из них, что называется, friendly — Регина доказала; выводит на новый уровень; вне всякого сомнения — шедевр, — и однако все они потонули в том информационном цунами, которое стало подниматься еще вечером, а на следующий день захлестнуло все новостные ленты: премьера нового фильма Марии Региной прошла в отсутствие режиссера.
А дело было так. Прилетев в Кёльн и устроившись в гостинице (не та же самая, нет; номер с окнами напротив розы собора, но было все равно: отставленный стакан, стянутая футболка, мгновение нерешительности — все равно заставляли Машу кусать щеки), Маша вышла купить какую-нибудь вещь, которая поможет ей чувствовать себя вечером более независимо, купила красную, как перезревшая малина, юбку и, вернувшись в номер, поняла, что придется тогда уж брить ноги. Некоторое время она пошаталась голышом по номеру, выпила на два пальца виски, поглядела на пестрое туристское море внизу, пиликал, разряжаясь, телефон — Маша не слышала, почувствовала вкус крови во рту и стала зализывать щеки языком, ей хотелось как-то ответить собственной тоске, было неуютно, нужно было бы сесть рисовать, но не было времени, сев на кровать с еще одним глотком виски, она надолго впала в транс, думая о том, как бы она оказалась здесь вместе с Аней и повела бы ее в собор, а потом купить ей что-нибудь, а потом вместе съесть мороженого, потом вскочила, нужно было торопиться, вытащила бритву и отправилась в ванную. В ванной, вслепую потянувшись за шампунем, Маша поскользнулась и, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, проехалась запястьем левой руки по ждущей на краю бритве, после чего все-таки упала, ударилась головой об эмалированный край и отключилась. Мало сказать, что это не было суицидальной попыткой — это было даже мало на нее похоже; кто же будет резать вены безопасной бритвой, да еще с включенным душем, и все же впечатлительная администраторша, которой продюсер кричал в трубку в ванной? достаньте ее из ванной! — была абсолютно убеждена в том, что после короткого вскрика — что? что там за дерьмо? — залепетала: господи, господи, она покончила с собой.
Идеи обладают собственной волей и жадностью к жизни: раз появившись в сентиментальной администраторской голове, мысль о суициде мгновенно завладела продюсером (я так и знал! прямо чувствовал!) и тут же двумя бригадами скорой помощи (вторую, перестраховываясь, вызвал он же), и через какой-то час в фойе гостиницы не протолкнуться было от журналистов, фотографов, горничных, официантов, недоверчиво-любопытных постояльцев: Регина? подожди-ка, что-то знакомое. Маша, легко пришедшая в себя — нашатырь, боль в затылке, — попыталась отмахнуться от склоненных над ней, сидящей в кресле, лиц, но в ответ на свое у вас у всех паранойя, я просто случайно упала, перевяжите руку — и до свидания, — услышала понимаю, фрау Регина, и все же позвольте нам помочь вам, хотя бы для нашего спокойствия, я обещаю, что никаких лекарств не будет, — поняла (особенно по метнувшемуся, как шары на бильярде, коллективному взгляду), что чем больше она будет говорить, тем будет хуже. И замолчала.
Маша погрузилась в молчание свободно, как будто давно была к нему готова. Как будто условность, заставлявшая ее отвечать на вопросы и поддерживать бессмысленные разговоры, была отброшена, и у нее появился наконец формальный повод не откликаться на позывные извне. Петер, провожавший ее в больницу, когда врачи сломались и согласились оставить их наедине, говорил с ней час: ты же не делала этого, я спрашивал у горничной, вода была включена, шишка у тебя на затылке, бритва, ну? я вытащу тебя, подниму такой хай, что они просто вынуждены будут тебя отпустить, завтра же; Gott verdammt, двадцать первый век, свободная страна, человека держат в психушке, да они еще на коленях будут просить тебя ничего плохого про них не говорить; но я же не могу один, ты тоже должна, ты должна хотя бы согласиться, пожалуйста, кёнигин, — Маша лежала с закрытыми глазами и только иногда взмахивала веками, когда он вскрикивал особенно громко; Петер, ехавший по ночному Кёльну в центр, уже далеко не был уверен, действительно ли Маше совсем не нужна хотя бы небольшая психологическая помощь. Следующим утром он говорил с врачами уже куда более дружелюбно (две, может быть три недели, тогда можно будет с уверенностью судить…), а потом стал хлопотать о переводе. Продюсер, звонивший ежедневно и ему, и врачам, улетел в Берлин («Голод» требовал особого внимания: в сложившихся обстоятельствах это особенно важно, это, в сущности, война, нам надо ее выиграть, — два помощника кивают головами), в Кёльне остался только Петер, он звонил, узнавал, говорил, советовался, переводил деньги — через неделю Маша в тонированном просторном автомобиле уехала из кёльнской больницы на пару сотен километров южнее, в тихую клинику в тени гор, день пребывания в которой стоил столько же, сколько один Петера съемочный день. Врач, проговоривший с Петером почти два часа — спокойное и внимательное лицо, пухлые маленькие губы пробиваются из ровного газона усов и бороды, рисует, говорите? — посоветовал привезти ее инструменты и бумагу — карандаши, краски, пастель, чем она рисует? — и Петер, попрощавшись с Машей — я на два дня, туда и обратно, что тебе привезти? — улетел в Берлин, держась в кармане пиджака за холодные, но постепенно теплеющие ключи от квартиры на Фридрихштрассе.
Там, на Фридрихштрассе, Петер перебирал ее рисунки, обрывки листков, на которых что-то было написано по-русски, мыл посуду, подметал пол, все сам, никого не хотел пускать, собирал книги, складывал одежду, сидел на кровати, держа лицо в ладонях, было бы легче, если бы плакать, но никак, беспокойно, весь в поту, спал, собирал в сумку все, какие нашел, карандаши и краски, Gott verdammt, Gott verdammt, — в эти самые минуты доктор вывел Машу на прогулку и пригласил ее присесть на скамейку: лиственничный запах, запах греющейся на солнце кожи, метнувшаяся было через тропинку, но испугавшаяся и прыгнувшая обратно на ствол белка — тень. Фрау Регина. Хотите честно? Я не слишком следил за вашим творчеством, кино не самое мое большое увлечение, смотрел когда-то «Минус один», конечно, но в последние дни посмотрел все, это естественно, это и большая честь, и ответственность — помогать вам. Я абсолютно уверен, что вы недолго у нас пробудете, но очень надеюсь на то, что мы с вами станем друзьями. Мне очень понравились ваши работы, хотя они неровные, как у любого, особенно большого художника, наверное. Я в этом дилетант, не поймите меня неправильно, но раз выдался случай поговорить о своих впечатлениях с автором, — грех им не воспользоваться. В сущности, ведь все ваши картины об одном, вас мучает тема взросления человека, столкновения с миром, выход, ну что ли, в такое безвоздушное пространство, если под воздухом подразумевать все, что так же естественно, как дыхание. Я, может быть, плохо объясняюсь, извините. Это и в самой первой вашей картине, в «Гугенотах», — дети, которые сами не заметили, что пока играли, оказались взрослыми, и вот уже все всерьез и пора умирать. «Минус один» меня не очень впечатлил, еще тогда, слишком уж прямолинейно, что ли, я думаю, что и вы сейчас со мной согласитесь, да? Связи, условности, жизненные ловушки, которые держат человека, и ему не сбежать от них, а кто ж не мечтает бросить все и улететь на Кубу, да? «Save», в общем-то, о том же самом, о тех же ловушках, которые не обойти, все равно попадешь — не в эту, так в другую. Ничего, что у нас тут такой киноведческий семинар получается? Вы меня остановите, если вам неприятно. «Янтарь», конечно, лучшая ваша работа, ну, на мой взгляд. Я, правда, не видел пока «Голода», он же не вышел еще? В «Янтаре» есть какая-то загадка, какая-то непроглядная глубь, где взгляд теряется. Ну, может быть, чертовщинка какая-то. Плохо, когда фильм можно легко объяснить, а «Янтарь» нельзя. К тому же, я не знаю, вас ведь называют комедийным режиссером, я прав? Но вы сами явно так не думаете. Вот «Чума» смешная, очень. Я не хочу сказать, что она не глубокая — и тоже дети, как в «Гугенотах», — но «Янтарь» явно серьезнее, и поэтому, мне кажется, вы как-то свободнее в нем себя чувствовали. «Голод» я пока не смотрел, но, судя по тому, что пишут, мне он должен понравиться. Знаете, я вас очень прошу воспринимать пребывание здесь просто как отдых. Вы, в сущности, в санатории. Никаких лекарств, никаких процедур, купайтесь, гуляйте, ешьте вволю, читайте, рисуйте или просто валяйтесь без дела. У вас ведь не так много свободного времени, да? Ну вот, считайте, что это отпуск. Давно вы были в отпуске? Поверьте, он вам нужен куда больше, чем вы, может быть, сами думаете. Успокоитесь, наберетесь сил, а когда прилетите снова в Берлин, вы увидите, что все пойдет немного по-другому. У вас в руках закипит работа, вы перестанете уставать, и я предвкушаю, с каким удовольствием буду потом еще много лет смотреть ваши картины. Я ведь не ошибусь, если скажу, что у вас громадье планов? Сейчас, подождите, я вспомню, это было в том же интервью, где вы сказали, что единственные настоящие открытия — географические, любые другие ничего не стоят. Сейчас, сейчас…
Я хотела бы снять фильм о Колумбе, о том, как он добивается своей экспедиции, обивает пороги, умоляет, угрожает, убеждает, заставляет, потом собирает свои корабли, вглядывается в лица матросов, гоняет носильщиков, проводит пальцами по просмоленным щелям, командует отплытие, его жадный взгляд, жестокие руки, жаркий ветер, хлопают паруса, скрипит дерево, и подплескивает тяжелая вода, борта кренятся, и кричат недовольные мужицкие голоса, корабельные священники поют с каждым днем все более грозно, подходят к концу запасы, нет никаких карт, и некуда ткнуть пальцем разъяренной команде, стучат брамсели и реи, вода меняет свой цвет, и, глядя на нее, бледнеют морщинистые лица, гнетет тишина, и нескольких матросов секут в назидание другим, нельзя расстаться со шпагой, и ноги все более злобно цепляются за палубу, темнеет небо, и все ближе подбираются молнии, приходится орать на команду изо всех сил, а карты нет, нет, нет, потом крутятся между кораблями акульи плавники, бритвами режут воду, презрительный взгляд вниз и такой же — на делегацию, пришедшую от всей команды просить повернуть назад, сечь, сечь их, а на сколько видит глаз вокруг — соленая и злая пустыня, и кроме звезд и компаса ничто не связывает с миром три мелкие щепки, туго, на одной его воле пробирающиеся вперед, куда — никто не знает куда, и садятся на мачты птицы, и море нежнеет, и ветер несет незнакомые запахи, и худой матросик откуда-то сверху испуганно кричит: земля! Земля!
БЛАГОДАРНОСТИ
Спасибо Ирине, пять лет терпевшей от главы до главы, и другим первым читателям романа. Александру Михайловичу Терехову — за поддержку и ценнейшие замечания, не все из которых, увы, удалось учесть в начавшем уже застывать тексте; Елене Даниловне Шубиной — за лестное для любого, не только для начинающего, автора предложение; Юлии Гумен — за первоклассную работу; Виктору Леонидовичу Топорову — за прямоту; Леониду Абрамовичу Юзефовичу — за советы и поддержку; Павлу Васильевичу Крусанову — за добровольно взятый на себя громадный труд по редактированию текста; Борису Валентиновичу Аверину, внимательнейшему на свете читателю, — за добрые слова о романе; Наталии Курчатовой — за единодушие.



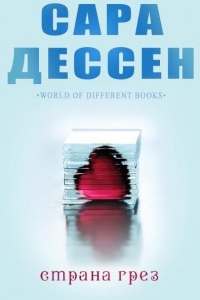
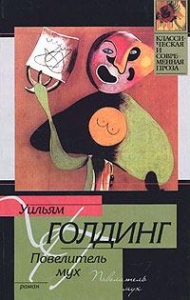





Комментарии к книге «Маша Регина», Вадим Андреевич Левенталь
Всего 0 комментариев