Красивой семье Ушаковых — Лене, Стасе, Михаилу и Денису — дружески посвящает автор вязанку своих писаний
Большие птицы
Глава 1
Передний зуб шатался, висел на волоске. Ощущение трагедии нарастало. Зенкович теперь все воспринимал трагически, хотя внешне жизнь его протекала почти спокойно. Правда, жена ушла от него, забрав его любимого сына. Иногда Зенковичу удавалось повидать сына. Это было тяжко и становилось с каждым разом все тяжелей, все обидней… Впрочем, если смотреть со стороны, Зенкович жил как будто вполне беззаботно. Денег еще оставалось, пожалуй, на год, переводческой работы пока хватало — можно было жить. Грустно, но можно. Погрусти — и живи. Вот только приклеить зуб…
Он вышел из метро, увидел синее небо над шумной площадью и подумал, что все поправимо. Вокруг строят такие дома. А значит, стройматериалы совершенствуются. А значит, чародей Израиль Романович приклеит зуб и можно будет даже улыбаться. Вот где-то здесь в переулке поликлиника. Кажется, в Спасском. А где Спасский? Зенкович дошел до середины улицы и попал в водоворот машин. Попытки проскочить под носом у самосвала и «Волги» кончились угрожающей неудачей. Зенкович решил переждать. А потом? Где тут все-таки Спасский?
Зенкович огляделся. Рядом с ним стояла нежно-розовая девица с белыми волосами до пояса. На ней была очень длинная юбка. Странная, полудеревенская косынка. И дубленка. Дубленка, впрочем, как у всех. Светлые волосы отливали рыжим. От «Лондатона»? А светлая отчего?
— Рыжая! Где же тут Спасский? — Зенкович спросил менее изысканно, чем обычно. А спрашивал он почти всегда — надо или не надо: он был общителен, слегка взвинчен. Сходился он с девушками сразу, хотя влюблялся редко — только в результате длительной неудачи или твердого решения. — Где же тут все-таки Спасский, а, рыжая?
Девушка посмотрела на него, улыбнулась, растерянно пожала плечами.
— Ай ду спик… Ай ду спик оунли инглиш, — сказала она: говорю, мол, только по-английски.
— Ноу рашн эт ол? — весело сказал Зенкович. — Вовсе, стало быть, не сечешь по-русски?
Она покачала головой.
— Это нам хоть бы хрен, — сказал Зенкович. — По-английски у нас всякий простой человек. Простой советский человек, который на голову выше всякого ихнего… Кого же он там выше? Не вспомню. А-а-а… Высокопоставленного чинуши. Ясно?.. Откуда же ты такая? — Светофор мигул, Зенкович подхватил ее под руку, и они перебежали на тротуар. — Из каких стран?
Он с удовольствием заговорил по-английски: гляди, так вот запросто лопочет у нас первый встречный, не хотите ли.
— Ого, Квинсленд. Красивые места. Что-то я переводил про вас. Уже не помню. Птица киви. Крик кукабары. Мишка-коала. Или это не про вас?
Она сказала, что сейчас, временно, живет в Лондоне.
— Совсем хорошо! Зеленая Англия, старая добрая Англия, — сказал Зенкович; все это было читано-перечитано, думано-передумано, хотелось-перехотелось давным-давно, еще тогда, когда он учил английский, писал курсовую о метафорах Голсуорси и мечтал, ох как мечтал повидать Англию. А теперь? Черт его знает, что теперь, он уже так давно не думал об Англии, о Голсуорси — просто переводил, что давали. А странствовал по России, в пределах… — Старая добрая Англия, — повторил Зенкович. — Хорошо небось в Англии…
— Мясо очень дорогое, — сказала девушка с серьезностью, — я уже два года не ем мяса. Я ем фасоль. В ней много белка. Фасоль не хуже.
— Хуже, — сказал Зенкович, — гораздо хуже.
Он рассмотрел ее лучше и удивился, что давеча так уверенно заговорил с ней по-русски: она была точь-в-точь ирландская простушка из голливудского фильма, из какой-нибудь «Дочери Райана». Эти ярко-розовые щеки, красная сеть сосудиков, расположенных так близко под кожей, синие глаза, прямые белые волосы — красота заморско-пейзанская, грубоватая и нежная в одно и то же время, и пастельная, и вульгарно-яркая: Зенкович не раз потешался над этими красотками в цветном кинематографе. Он думал, что это шалости системы «Техниколор», ан нет…
— Мясо это что, — сказал Зенкович, — мяса у нас навалом. — Он покачал передний зуб и отметил про себя неизбежный налет патриотизма в собственных речах. — Мяса у нас здесь до черта. Особенно в Доме журналиста. Хорошо там обстоит с мясом. Можно с уверенностью сказать, что в Доме журналиста проблема эта решена.
Он оглядывал ее с удовольствием. Она была очень серьезна и благожелательна. Ей больше двадцати, но меньше тридцати. Очень хорошенькая. Одежда представляет собой странное сочетание щегольства, моды, нелепости, небрежности и даже потрепанности. Впрочем, ей виднее, вероятно, так нужно, так у них носят.
— Вот я зуб укреплю, — сказал Зенкович, — можно тогда идти есть мясо. Так и быть, накормлю мясом, раз такие трудности в мелких странах.
— Я подожду, — сказала она просто.
На этом они расстались.
Сидя в ненавистном кресле, Зенкович со смехом рассказывал Израилю Романовичу про эту встречу.
— Англичанки, квинслендки, австралки — на черта они нам, Семочка? — сказал чародей, прилепляя зуб на место. — Уже мало нам своих блядей? Или у тебя еще не было квинслендского триппера, Сема? Вот так. Готово, гуляй, мой мальчик. Пока будет держать. А вообще, надо менять во рту всю работу. Сколько уже держится твоя работа? Лет десять?
Зенкович так мало ожидал увидеть девушку еще раз, что даже не сразу узнал ее, выйдя на улицу. Потом с некоторой гордостью отметил, что она ждет. Не мяса же она ждет. Она ждет его, такая вот молоденькая розовощекая девочка из далекого Квинсленда. Значит, он, Зенкович, еще стоит чего-нибудь и незачем строить трагедии. А может, ей все же хочется мяса, в нашем возрасте, Сема, не надо сильно преувеличивать свою половую привлекательность. Впрочем, может быть, ей просто скучно одной в большом и шумном городе. Да еще без языка. Так или иначе, он должен сейчас быть на высоте, он должен найти такси и повезти ее в Домжур, где дают вполне приличное «мясо по-суворовски». (Что значит «по-суворовски»: пуля дура, а штык молодец? Нет, не валяй дурака, просто это на Суворовском бульваре — но вот где взять такси?) Зенковичу повезло: таксист остановился и повез их без пререканий (никто не унижает так часто гусара и ухажера, как московские таксисты, — стой себе и скучай со своей барышней и своей рублевкой, а мы — на вот тебе, под носом, мы в парк, мы все в парк, сколько нас есть, по дороге в парк можно, конечно, заехать на вокзал, мы знаем, куда заехать, не твое дело, а ты стой и жди…)
Если бы он был один, Зенковичу не пришло бы в голову тащиться в Домжур, не такая уж там приятная публика, и вообще не станет он на собственную жратву тратить лишнее время или тратить лишние деньги (несмотря на вполне зрелый возраст, Зенкович еще не решил окончательно, на что стоит тратить лишние деньги — может, на путешествия, на дополнительную жилплощадь и дополнительную независимость, главное, чтобы не думать о деньгах, никогда не работать просто для денег).
Дорогой они продолжали знакомиться — Ивлин, Семен (она звала его то Семьон, то Сьоми, то, наконец, Сомми и Соми), он объяснял ей, что за улицы проезжают, кто построил эти здания, что знаменательного в них происходило. Он почему-то считал своим долгом знакомить ее с Москвой, которую сам знал неплохо (впоследствии он повторял свои рассказы всякий раз, когда они ехали по Москве, даже после того, как убедился и в том, что повторяется, и в том, что она забывает все без исключения, а может, даже и не слушает).
Не будет преувеличением сказать, что Зенкович нервничал во время этого первого ужина. Не то чтобы ему впервой было вот так на улице, почти на бегу, познакомиться с красивой девицей и пойти с ней ужинать, хотя, если говорить о весьма редко распространенных в этой части света квинслендских девицах или вообще о девицах с то ли дружественного, то ли враждебного нам, но всегда инородного Запада (впрочем, ведь этот чертов Квинсленд далеко на Востоке, но все равно, наверное, Запад, раз он не входит ни в «страны социализма», ни в «слаборазвитые»), — то, пожалуй, что и да, впервые. В былые времена Зенкович был, конечно, гораздо осторожнее и осмотрительнее на этот счет. И не только потому, что сами времена были осторожнее и осмотрительнее, но и еще почему-то, не очень ясно почему, может, потому, что уже приближалась в его собственной жизни черта, за которой не черта было терять. Так или иначе, сегодня он довольно отважно и безрассудно приволок девицу в Домжур, и вот теперь они сидели за одним столом с какими-то молодыми мужчинами в очень черных не по весне костюмах (все ясно, «старики» из областной, обкомовской газеты: «Наш главный, старик, собаку съел на прессе…»), жевали суворовское мясо и запросто говорили по-английски («маутфул эв инглиш», как говорят англичане, полный рот английского и полный рот мяса).
Зенкович хорошо говорил по-английски, хотя это доставляло ему теперь удовольствие очень недолго, не то что в юности: ну, убедилась она, что он чешет по-английски, убедились окружающие, а теперь бы вот в самый раз перейти обратно на свой ленивый, выразительный даже в своей лени и небрежности, свой собственный, обкатанный, исхоженный до самого далекого закоулка, чувствительный и к теплу и к холоду, точно голая спина, свой привычно незамечаемый, но нежно любимый русский, ан нет, тут уж не перейдешь…
Два «старика» из партийной прессы за их столом уже давно к ним приглядывались, однако еще не захмелели достаточно, чтобы решиться заговорить. В свой срок они пришли к этому, предложив им совершенно особенной украинской перцовки, которую украдкой вынимали из-под стола, вдобавок к той, самой обыкновенной, что была на столе и к тому же втридорога. Один из них стал насиловать свой школьный английский, а потом все же попросил Зенковича перевести для Ив, что у них сегодня торжественная и трогательная встреча, они подружились в Донецке на облпартконференции райпрофактива и так далее, все в том же духе. Они посовещались с Зенковичем, как лучше перевести это для Ив, что переводить, а что нет. Переводить ли, например, что один из них заведует отделом областной партийной газеты, или просто сказать, что он журналист из Донецка. И как перевести, что Донбасс — это всесоюзная кочегарка.
— Переведу, не беспокойтесь, — сказал Зенкович. — Какие же еще бывают газеты, кроме партийных. И не обязательно переводить все слово в слово. Главное, чтоб адекватно…
— Во-во, — сказал один из «стариков», — главное — дипломатия.
Зенкович отметил, что Ив старательно переписала в книжечку адреса новых знакомых, и усмехнулся: он сам тоже был великий путешественник и знал, как полезны адреса в дороге.
Когда они вышли из ресторана, она крепко сжимала его руку, из чего Зенкович заключил, что привозная перцовая оказалась непривычно крепкой. Он отметил также, что прохожие провожали ее взглядом: она была хороша и она была ни на кого не похожа здесь. Как же он, лопух, не разглядел этого сразу. Впрочем, ему было простительно: он спешил к зубному, противно шатался зуб, и весь мир шатался, рушился вокруг него в эту зиму.
Зенкович предложил ей осмотреть древний монастырь, и она согласилась. Монастырь — это было беспроигрышное мероприятие: на помощь Зенковичу там приходили строения, древние фрески, древние легенды — и собственные воспоминания, связанные с этими строениями, этими легендами и этими фресками. Зенкович неплохо разбирался в русской старине. Ко всему прочему сразу за стенами монастыря начинался квартал, в котором жил Зенкович. Так что было вполне естественно для них обоих, натаскавшись по древнему кладбищу и наговорившись вдоволь, зайти к нему домой попить чаю, выпить вина и закусить, полистать книги…
Они обошли вокруг любимой его церкви Вознесения, и Зенкович в который уж раз отметил легкую стройность церкви и словно бы отрешенность от всего, что ее окружало, — от строений последующих веков, от безобразия нового жилого квартала, от одиноких парочек в тени деревьев. Зенкович подумал о своей спутнице: интересно, что она могла думать об этой древней, прекрасной церкви? Какие могли у нее возникнуть ассоциации? Что она могла ощущать? Для него все заключалось как раз в этих ощущениях и ассоциациях, в чувстве родства, совместной отрешенности и опальности, но она, при чем тут она?
— Очень красиво, — сказала она вежливо, — очень красиво. Но ты говорил мне, Сьоми, что много таких церквей было разрушено. Отчего же ты не протестовал? Отчего вы не устроили мирную демонстрацию и кампанию в защиту?
— Не помню отчего, — сказал Зенкович, — вероятно, я был в это время занят. Или отдыхал на курорте.
…Дома она уселась в углу на ковре, подобрав ноги под широкую юбку, а Зенкович метался по кухне, отыскивал в шкафах и холодильнике разнообразные, забытые в его бесхозности продукты питания и с торжеством ставил перед ней. Она попивала вино маленькими глоточками и, судя по всему, чувствовала себя совсем неплохо в его холостяцком дому. Ее синие глаза смотрели исподлобья мечтательно и нездешне. Она курила неумело и вычурно, держа сигарету между пальцев.
«О чем она думает?» — мучился Зенкович.
— Во Франции я была вот в такой же комнате, — сказала она вдруг, — и в Сан-Франциско… И в Хайфе…
Он подумал об этой птичьей свободе перемещения и почувствовал легкий укол грусти, пожалел себя грустью свободного и все же скованного в пространстве.
— А вот один раз в Дагестане… — сказал он.
Они очень естественно перебрались с пола на его широкий диван, листали там книжки, разговаривали, курили, целовались. А потом он обнял ее крепко-крепко, она задышала чаще, вцепилась ему в спину, зашептала:
— Не надо, не хочу…
Но при этом она не отпускала его, сама все крепче прижимала к себе, расцарапывая ему спину в кровь, — и эта жестокость ее, и эта мягкость, и нежность, и скорое ее забытье, и удивительная, тающая гибкость ее тела — все это привело Зенковича в состояние умиленное, благодарное… Пластинка тихо поскрипывала в углу, забыв остановиться, на кухне забытый звонил телефон, пророча на миг отступившие неприятности… Она вдруг стала тихим шепотом рассказывать о своем неприютном и жестоком детстве, о странных родителях, о давно покинутой родине, благодатном зеленом Квинсленде у синего океана… И ему стало ее жалко, потому что у него были нежные родители и нежное детство — в суровой стране, в суровое и жестокое время. Ему захотелось оградить ее от этого большого, открытого и равнодушного к ней мира с его мучительной свободой и необходимостью выбора. Оградить и себя от вчерашних и завтрашних неприятностей, от своей беззащитности перед прошлым, вырваться из грозовой атмосферы, в которой он жил все последнее время.
— Ну вот, приезжай сюда, — сказал он, гладя ее шелково-мягкую спину. — Приезжай. Поженимся…
Неуместное, грустное это слово сошло с его губ свободно и нежно, точно предвещая тихую радость и непережитое наслаждение. Точно это не он все расхлебывал и расхлебывал целых полтора года последствия такого же вот умиленного состояния, посетившего его лет десять назад в возрасте хотя и не юном, но все же более простительном, чем теперь.
Она промолчала, он склонился над ней, и они снова ушли без оглядки в занятие, в котором поначалу лишь хотелось доказать ей свою благодарность, свою силу и в котором позже, уже без всяких мыслей, он пережил редкостную отдачу, и радость утомления, и близость.
Потом они сидели раздетые на ковре, пили чай — тихо мурлыкала музыка.
— Вот! — сказала она, прислушавшись, и он подумал, что не знает и вряд ли узнает когда-нибудь, с чем связано это ее «вот», с чем связана для нее эта музыка, как она воспринимает ее. И еще он подумал, что это и не важно, раз такое вот приходит освобождение, такая самоотдача, такое их странное уединение, на краю света, тайком от всех — двое прекрасных пасынков мира, а может, и баловней судьбы (такими представали они сейчас разнеженному взгляду Зенковича)…
Потом он проводил ее до дома, где она гостила у своих квинслендских друзей-дипломатов, и они еще долго обнимались в подъезде и на лестнице, презрев все соображения о возможных наблюдателях, долго ласкали друг друга, то распаляясь, то тихо грустя, потому что завтра ей надо было уезжать — то ли в Лондон, то ли еще дальше — на край света, в этот невообразимо далекий Квинсленд.
Эти объятия на лестнице, этот вечер, воспоминание о мягкой ее ласке и синих отрешенных глазах надолго остались в его памяти, намного дольше, чем глубокие следы ее царапин, — остались и сопутствовали ему в путешествиях и злоключениях этого лета.
Летом он долго пытался выпросить своего мальчика, чтобы уехать с ним отдыхать. Потом, отчаявшись и окончательно издергавшись, улетел один на Север. Там он плыл однажды на теплоходе с бригадой молодых актеров из Москвы. В Баренцевом море нещадно качало, и Зенкович впервые испытал здесь приступ морской болезни. Сострадательная, полногрудая второкурсница из Московского театрального института принесла ему кружку крепко заваренного чая. Зенкович грелся этим чаем в углу, на койке, потом задремал… Он проснулся среди ночи. Теплоход шел в тумане. Ревел тифон. Полногрудая актрисуля уже спала в своей каюте, Зенкович понял, что больше не уснет — из-за сердца и крепкого чая. Он заснул только под утро, а проснувшись, узнал, что актеры уже сошли на берег, оставив ему письмецо и телефоны. В эту ночь он насочинял множество стихов — про свою неприкаянную жизнь, про гнусный ненужный Север и доброту полногрудой актрисочки, угостившей его чаем…
В сентябре он встретил ее после занятий на Новом Арбате, и они, не сговариваясь, замахали машине с зеленым огоньком.
— Ко мне? — спросил он.
— Да, — сказала она. — Как ты хочешь. А что-нибудь выпить найдется?
— Здесь. — Зенкович хлопнул по объемистому портфелю, где умещались и рукописи, и словари, и одежда, и закуски, и вино.
Она была очень молодой, нежной, искушенной. Она любила театр. Любила вина — всякие. Любила мужчин и готова была полюбить Зенковича. А может, уже и любила его, к исходу для. Она уехала на занятия рано утром, оставив сдержанно нежную записочку, но явилась уже среди дня — сбежала с занятий. Она была немногословной и неутомимой. Как только она видела, что Зенковичу больше не хочется ни есть, ни заниматься любовью, она убирала со стола, застилала постель, наливала себе вина и открывала тетрадку с ролью. Звали ее Василиса.
Зенкович был приятно удивлен, обнаружив, что при ней можно работать. Можно разговаривать, а можно также и молчать. Она не мешала, не раздражала, была бесшабашна и добра. У нее были тонкие аристократические руки и белая нежная кожа. Любое грубое прикосновение оставляло на ней пятна. Это было неудобно и однажды подпортило ему настроение. Он уехал в командировку на неделю, а вернувшись, обнаружил, что ноги ее над коленями покрыты свежими синяками. Из опыта семейной жизни он неплохо знал происхождение таких синяков. Она рассмеялась и ответила фразой, которой он сам же ее научил: «Спала только с вами». Он с раздражением подумал, что ему этого и впрямь, видно, хочется («Тогда что же, и уехать нельзя? Да, вероятно, нельзя. От нее нельзя. Ни от кого нельзя»). К сожалению, она не ограничилась этой прекрасной фразой и рассказала, что к ней приставал сокурсник. Они учили роль, и она оставила его ночевать у себя, но пригрозила «выкинуть его в окно», и он, конечно, испугался. Зенкович при всем тупом старании не смог бы поверить в эту историю. Он вздохнул и решил про себя, что все обречено на скорый конец. Он даже не ожидал, что это его так расстроит. Когда она позвонила под вечер и, как обычно, спросила своим низким грудным голосом: «Я еду?» — он сказал, что будет занят сегодня.
Василиса звонила в эту ночь трижды, и Зенковичу было ее жаль, хотя он слышал, что она пьяная, и понимал, что она сидит где-то в компании, где, скорее всего, не ведут интеллектуальных споров, а делают что-нибудь более привычное и доступное.
Василиса безропотно звонила каждый вечер той недели и чувственным басом осведомлялась, можно ли ей приехать. В конце концов она вернулась на свои позиции и мирно проводила Зенковича в новую командировку. А по возвращении он нашел новые созвездия синяков на ее полных белых ногах. Впрочем, это было не главное: еще до этого, позвонив из аэропорта сыну, он услышал от бывшей жены, что по некоторым новым семейным обстоятельствам ему сейчас лучше было бы пореже встречаться с мальчиком… Дома он очистил переполненный почтовый ящик и увидел продолговатый, не наш конверт. На нем адрес, написанный по-русски детскими каракулями, и английскую марку. Это было письмо от Ивлин. В конверт была вложена и фотография. Ив стояла среди зелени в длинном белом платье, настолько странная, нереальная и несовместимая с пейзажем, что, будь это живописью, художник в случае коммерческой необходимости мог бы говорить о сюрреализме. Письмо было нежным и печальным, английский язык правильным, изысканным и литературным (Зенкович припомнил, что она год или два училась на филологическом у себя дома: вот она сидит, одинокая и прекрасная, в доме у друзей, которые сейчас в отъезде; пятиэтажный дом стоит в парке, в доме пусто, и Темза плещет внизу; если он позовет ее, она приедет, ей понравилась Россия, а его янтарные глаза так нежно мерцали в полумраке. Она помнит его сладкие речи, его предложение, его обещания… она решилась, пусть только он напишет…).
Василиса выпила стакан вина и терпеливо ждала, пока он перечитывал письмо. Она вымыла посуду, повозилась немного в ванной, перестирала грязные вещи из его рюкзака.
— Что нового? — спросил он рассеянно.
— Одна девочка из общежития украла женьшень. И тут же стала предлагать — кто купит? Такой шум.
— Ай-яй-яй, какая глупая девушка. — Он поцокал языком. — Откуда берутся такие? Еще что хорошего?
— Я буду играть Катерину. Мне все завидуют.
— Роль завидная… Ну а кого еще выбрасывали в окно?
— Спала только с вами…
И все же она очень спешила погасить свет.
Ночью он встал попить, зажег свет, откинул одеяло.
— Ого! — сказал он. — Много же мы навыбрасывали за окошко…
И рассмеялся беспечно: Темза лепетала где-то под окном пустого пятиэтажного дома… Бывает же такое.
Воспоминание о лепечущей Темзе и его собственных янтарных глазах спасало Зенковича в последующие месяцы от слишком серьезного отношения к своим семейным и переводческим делам. Василиса вела себя безупречно, была нежна и предупредительна. Она была добрая девочка. Заработав десять рублей за ночную массовку, она являлась к нему домой, увешанная подарками и продуктами. Зенкович с тоской думал, что если б можно было никогда не оставлять ее одну… И если б она еще поменьше пила.
Часто она рассказывала Зенковичу, кто посягал и кто предлагал. И как она устояла. В простоте душевной она полагала, что этим удается поддерживать его ревность и заинтересованность на определенном уровне. Рассказы эти только усугубляли его чувство безнадежности. Тем более что уже на середине рассказа становилось ясно, что отказать она не смогла. Зачастую коллеги-поклонники провожали ее до подъезда его дома. При этом они не просто сопели или, скажем, тискали ее пышную грудь, ноги, но и также, по свидетельству Василисы, говорили какие-то «очень точные» и даже «где-то пророческие слова» о ней самой и об искусстве. Запомнить этих слов она не могла, так что Зенкович их, к сожалению, не услышал, а ему так нужны были пророческие, хотя бы «где-то пророческие» слова, «точные» слова, об искусстве или о ней. Впрочем, однажды ей удалось донести до дома суждение (и даже акцент) иностранного режиссера, посетившего их курс: довольно противно выворачивая «э», он назвал ее «сэкс-торпеда». Мнение это заставило Зенковича призадуматься над классификацией сексуального оружия: он-то считал Василису заблудшей телкой, сладкоежкой и пьянчужкой, очень доброй и шлюховатой. Ее желание тереться обо все на свете нежными щеками никак не ассоциировалось у него с сексуальным взрывом. Впрочем, режиссеру было, наверное, виднее, к тому же он употребил это выражение, вероятно, в каком-то своем, профессионально-театральном смысле…
В конце месяца Зенкович получил телеграмму о том, что Ив приезжает в субботу днем, берлинским поездом.
В пятницу вечером, услышав по телефону бодрый басок Василисы, Зенкович сказал, что приехать к нему нельзя. «Ну что ж, — сказала она упавшим голосом. — Где б напиться?» Сердце у него сжалось, но он должен был побыть сегодня один, подумать. Василиса позвонила среди ночи и сказала, что они пьют очень славно, хотя слишком много приставаний. Зенкович промолчал. Он думал о том, что с этим надо было кончать в любом случае и что вот оно — будет наконец другое. Однако мысль эта не успокоила его окончательно: другое, другое… А что другое?
Он думал об этом на вокзале, в ожидании поезда меряя шагами перрон. Знакомые ему голоса дикторов московского иновещания на разных языках возвещали прибытие берлинского поезда. Зенкович пытался представить себе, как она сейчас выйдет из поезда, как шагнет ему навстречу… что он скажет ей, что он должен сказать…
Она вышла в сопровождении рослого симпатичного африканца и долго жала ему руку, прощаясь и благодаря за помощь. Зенкович ждал возле ее чемодана, который поставил на перрон африканец. Носильщики не торопились ему на помощь. Но вот Ив подошла наконец, чмокнула его в щеку, оглядела перрон. О чем она думала при этом? Может быть, о том, что вот она, Земля обетованная, и вот он, ее суженый. Может, просто припоминала, не забыла ли чего в вагоне. Зенкович, совладав с любопытством, поволок дальше свою ношу.
Ив подозрительно взглянула на его мрачное лицо и спросила:
— У тебя что-то лицо кислое. Может быть, ты расист?
— Нет, — без убеждения возразил ей Зенкович. — Если бы этот человек был желтый, красный, белый или синий — лицо мое оставалось бы таким же черным и кислым.
— Да? — Она взглянула на него так строго, что Зенкович порадовался в душе: в чем, в чем, а уж в расизме его не упрекнешь…
Дома Зенкович накрыл на стол, но Ив задумчиво пожевала творогу, похвалила черный хлеб и отодвинула тарелку. Не сговариваясь, они встали и пошли к постели.
Она была такой же ненасытной и нежной, какой он помнил ее: она таяла, становясь вдруг совсем маленькой и словно бескостной, потом воскресала, обретала прежнюю длину и упругость и что-то пришепетывала по-английски, что он пытался перевести и не мог. Особенно часто она повторяла слово, напоминавшее «дорогой», но при этом первый звук она оглушала, пришепетывая по-детски. Может, она лепетала от нежности. А может, это было вовсе не «дорогой», а какое-нибудь другое, жаргонное слово, которого он не знал. Спросить было неудобно. Впрочем, это ведь было не важно, потому что ему было хорошо. «Хорошо, — думал он, — очень хорошо… Пусть будет так, вот так, и не кончается никогда…» Однако все кончилось еще до наступления сумерек, надо было вставать и думать над будущим, хотя бы над самым ближайшим будущим…
Зенкович встал, позвонил, и они стали собираться в гости. Ив надела на себя что-то просторное, белое, какой-то странный балахон, который вряд ли решилась бы надеть самая экстравагантная русская девушка. Однако ей было можно, ей все было можно, и ей удивительно к лицу был этот балахон, а золотые волосы, падавшие на плечи, делали ее похожей на фею. Во всяком случае, так сказали Зенковичу и его школьные друзья, собравшиеся по какому-то семейному поводу на квартире одного из самых старых его друзей в Теплом Стане.
Перед уходом из дому, когда Зенкович уже гасил свет, Ив вытащила из чемодана шоколадку в фольге, когда-то напоминавшую своей формой слона, однако изрядно помятую и утратившую форму. Ив предложила взять эту шоколадку в подарок детям его друга.
— Помялась, — сказала Ив, с нежным сожалением гладя шоколадку. — Нет, знаешь что, лучше мы отдадим ее дочке твоего брата… Или детям твоей сестры…
Зенкович, уже успевший запихнуть в портфель все подарки для детей и взрослых, одетый томился в прихожей, ожидая возлюбленную.
— Мы возьмем эту штучку ко всем по очереди, — сказал он. — Я жду, милая. Идем…
В метро все смотрели на них, конечно, из-за нее, впрочем, может, еще и потому, что они являли такой яркий и предосудительный контраст черного и белого, нашего и не нашего. Ив, конечно, замечала это внимание, но оно, вероятно, было для нее привычным, к тому же она была занята сейчас Зенковичем — она гладила его руку, иногда чуть приоткрыв влажные губы, касалась его щеки, его глаз, рта и шептала, зверски уродуя его простое русско-еврейское имя: «Сьоми», «Соуми», «Сомми», «Семми».
Ив очень понравилась его друзьям, а их жены, его старые (уже во всех смыслах старые) институтские подруги, отводили Зенковича на кухню и говорили, что она чертовски, удивительно мила, держись за нее, Сема, вот оно, твое счастье, найденное прямо на улице, — забудешь немножко свои невзгоды, родишь новых детей и, как знать, может быть, съездишь в этот самый заморский Квинсленд. Это последнее, довольно наивное пожелание толстая усатая Люба, жена его товарища, комментировала фразой из знаменитого анекдота про сторожа и слона в зоопарке:
— Съездить-то он съездить, да хто ж его пустить.
Зенкович объяснил Ив, что в этом анекдоте говорилось про наивного посетителя, который, прочитав на клетке слона, что славное животное съедает в день сто килограммов картофеля, полцентнера моркови, тридцать литров молока и так далее, воскликнул в изумлении:
— Неужели он все это может съесть?!
В ответ на что и услышал от сторожа, подметавшего клетку, эту вот самую фразу: «Съесть-то он съесть, да хто ж ему дасть».
Зенкович кончил переводить, но Ив все еще смотрела на него выжидающе, из чего он заключил, что анекдот то ли непонятен ей вообще, то ли теряет смысл в переводе. Вообще, ему приходилось очень много переводить сегодня: оказалось, что большинство его друзей напрочь перезабыло английский, а те, кто говорили, выражались настолько странно и неточно, что он раздражался и поневоле снова влезал в разговор.
Говорили они с ней о всякой ерунде. О том, сколько кто получает здесь и сколько кто на Западе, сколько где платят за квартиру и почем пара обуви… Они так все набросились на Ив с расспросами, как будто эти темы не были говорены-переговорены и по-прежнему представляли животрепещущий интерес. Ив с большой готовностью сообщила им, что жить на Западе очень плохо и трудно, что мяса она не ест, а получает всего сто сорок фунтов в месяц, из которых большую часть откладывает на путешествия. Друзья Зенковича взялись с большой серьезностью доказывать Ив, что, во-первых, их сто пятьдесят в месяц еще меньше ее ста сорока фунтов, во-вторых, они работают одиннадцать месяцев в году, а путешествуют только один, в пределах своей страны, и то приезжают в долгу как в шелку, тогда как она, насколько они поняли, путешествует восемь месяцев в году. И здесь они особенно напирали на тот пункт, что она может поехать куда ей только захочется, а они всюду хотят и почти никуда не могут…
Ив со страстью отвечала, а Зенкович насмешливо и лениво переводил им, что это даже очень хорошо, что они не могут никуда поехать, потому что человек распыляется, носится по свету без толку и не приносит пользы своей родине, не может приобрести профессию — вот хотя бы и она…
Вообще, Ив находила в положении русского интеллигента множество разных преимуществ. Во-первых, он ближе к земле, прочнее стоит ногами на реальной почве (Зенкович не мог бы объяснить это друзьям или кому бы то ни было, а потому просто переводил). Кроме того, русский интеллигент менее распропагандирован, чем западный интеллигент. Снисходя к их растерянности, Ив объяснила, что русский интеллигент знает, с какой стороны ему ждать удара пропаганды, и потому он сопротивляется ей, тогда как западного интеллигента пропаганда застает врасплох и оттого дурачит с большей легкостью…
Угощение было прекрасное, и Зенкович обрадовался несказанно, когда его школьный друг Витя, тихий инженер, кажется, старший инженер, а может быть, даже главный (сто восемьдесят в месяц), вдруг заговорил по-английски и взял на себя говорильно-переводческие функции. Зенкович видел, что друзья его не спешат согласиться с Ив и оставляют за собой жалкое право решать самим, чего у них больше и чего меньше. Что касается Ив, то ей, кажется, понравилась ее миссионерская роль. Зенкович с облегчением отметил, что она, снисходя к жизненному опыту его друзей, который она, кажется, отождествляла с жизненным опытом Солженицына, не запрезирала их слишком уж сильно за их мелкобуржуазную недалекость.
В течение ужина случился и еще один мелкий инцидент, который прошел без особых последствий для всех, кроме Зенковича, у которого разболелась голова. В кухне был включен репродуктор, и вот, помогая хозяйке переносить из кухни еду, Ив краем уха услыхала торжественный голос диктора, сопровождаемый бравурной музыкой. Она спросила, о чем говорит радио, и тогда услужливый Виктор включил передачу в комнате и в кухне на полную катушку. Передавали предпраздничные обращения и лозунги. Гости прервали беседу и выслушали все — и гром оркестра, и призыв безмерно повышать добычу угля, повышать производительность труда, увеличивать экономию, а также что-то еще…
— Уже можно выключать, — сказал Зенкович. — Я все понял.
Но Ив заупрямилась, и хозяин не мог не пойти ей навстречу. И вот они добрых полчаса сидели, оглушаемые радио, и растерянно слушали. В заключение Ив объяснила им, что все это очень интересно, очень здорово и, наконец, просто трогательно. Ну а кончилось тем, что у Зенковича разболелась голова и он предложил собираться домой.
Их уговаривали остаться, посидеть еще. Ив, по просьбе хозяйки, рассказала, где она была за последний год, и друзья Зенковича долго слушали перечисление, включавшее Францию, Турцию, Италию, Венгрию, Израиль, Грецию, ФРГ, Чехословакию, Югославию и еще несколько мелких стран. Гости притихли. Может быть, им стало грустно при мысли, что они никогда не увидят этих прекрасных стран, что жизнь их проходит так быстро, а вот эта девочка, почти ребенок…
Зенкович почувствовал, что ему тоже стало чуточку жаль себя, и поднялся со стула.
Когда они прощались в передней, жена школьного друга спросила, есть ли в Квинсленде птицы — нелепый вопрос, достойный стареющей женщины, которая все еще считает себя прелестным, резвым ребенком. Ив ответила с готовностью и величайшей серьезностью:
— Да. И очень большие.
— Большие птицы, — восхищенно качая головой, повторила бывшая резвушка, а добрая усатая Люба обняла Зенковича за плечи (Боже, за десятилетия дружбы все эти жесты становятся механическими!) и сказала: «Ну вот, Семчик, увидишь больших птиц», на что Зенкович, прощально чмокнув ее в щеку, ответил ее же собственной фразой: «Да хто ж ему дасть». Он подумал при этом, что жизнь прекрасна, все прекрасно, и размеры птиц занимают в нашей жизни так мало места, однако ему приятно было, что и «большие птицы», и его заморская птичка произвели на его друзей такое глубокое впечатление. Преодолевая головную боль, он простился со всеми и вытащил Ив на улицу. Она волокла за собой целый пакет подарков — всякая там хохлома, и резьба, и даже культовая мелкая пластика, содранная со старообрядческих кладбищ, — все, что не жаль отдать такому дорогому, не нашему гостю.
Они вышли на темную улицу, которая упиралась в пустырь. Дальше смутно видны были лес и мерзостная свалка, окружающая новостройку. Низко в небе прогрохотал самолет. Потом стало свежо и тихо. Зенкович сказал, успокаиваясь: «Вот скоро я куплю здесь поблизости квартиру. Будем ходить к Вите в гости». Ив погладила его по руке и сказала, что Витя ей очень понравился. Потом она спросила, не может ли он лучше купить квартиру где-нибудь в центре в одном из старинных домов (она видела там два или три совершенно замечательных). Зенкович не стал ничего объяснять, поцеловал ее умиленно, и они доехали до метро в обнимку. «Твои друзья очень добрые», — говорила Ив время от времени, встряхивая пакет…
Он даже не сразу понял, что произошло на пустынной станции метро (он видел лишь, как заметалась, закричала старушка контролерша, услышал свистки, суматоху — потом поспешил на помощь Ив), а когда наконец разобрался, ему стало нестерпимо стыдно и перед старушкой, и перед случайным пассажиром, и даже перед второй контролершей, толстой и рыжей теткой, которая была совершенно счастлива, что представился случай побазарить.
Выяснилось, что, пока Зенкович менял пятаки, Ив сделала довольно ловкую, однако все же неудавшуюся попытку пройти в метро без билета, и даже после того, как он объяснился со всеми на станции и они отъехали несколько остановок, Зенкович, безмерно сердясь на нее, да и на себя тоже, за то, что принял этот полузабытый школьный трюк так близко к сердцу, все еще продолжал спрашивать ее с недоумением:
— Ну зачем это? Как можно?
Ив объяснила, что она очень ловко умеет ездить без билета, а в Лондоне однажды ездила так в автобусе целый месяц, сэкономив большую сумму. Транспорт в Лондоне (да и во всех остальных городах) очень дорог, так что она только противится таким образом бессовестному ограблению и борется с миром наживы. Зенкович был в полной растерянности, не знал, что сказать. Потом, уцепившись за слова о наживе и ограблении, он объяснил ей уныло, что транспорт здесь принадлежит социалистическому государству. Он успокоился только тогда, когда выдавил из нее обещание больше не ездить без билета.
Дома они угрюмо раздевались, изредка перебрасываясь замечаниями насчет ванной, воды и зубной щетки. Зенкович отметил, что она аккуратно развесила на стуле свою кофту-балахон и юбку, сбросив зато все лишнее с постели прямо на пол. Он прошелся по комнате, поднимая с полу подушки, наволочки, одеяла, с усмешкой припоминая при этом, что уборка в этой квартире для него почти всегда состояла в том, что он собирал лишние вещи с пола. «Ну что ж, — подумал он, — прибавится уборки, и только».
В самый дальний угол Ив зашвырнула его пижаму. Она сказала, что пижам не потерпит, потому что спать нужно голым, и только голым. Зенкович покорно спрятал пижаму в шкаф и теперь лежал один в зябком ожидании. Она ходила по комнате, ища что-то на полу: может быть, он нарушил порядок, в котором были разбросаны по полу постельные принадлежности. Хождение нагишом казалось для нее естественным, и Зенкович подумал, что у себя, в жарком квинслендском раю, они, может быть, всегда ходят голыми, ходят босиком и все кладут на пол. Потом Зенкович унял свою праздную фантазию, вспомнив, как редко обнажаются в жарких странах. Вероятно, этот нудизм был плодом цивилизации и неистового стремления Ив к натуральности, к освобождению от чего-то ненавистного, с чем она боролась все время, к месту и не к месту используя терминологию из его школьных учебников — буржуазия, капитализм, классовая борьба.
Тело ее незапятнанно белело, солнце южных стран не оставило на нем следа. Зенкович любил загорелую кожу, однако с годами он стал отчего-то все меньше ценить спортивную, юную упругость форм, все больше вожделеть податливой мягкости. Ив была мягкой, словно бескостной, таяла, растекалась, исчезала в его объятиях. Она была довольно высокая, но, когда прижималась к нему, он начинал чувствовать себя большим, почти огромным. Но прекрасней всего было то, что его объятия так сильно ее волновали, что он значил для нее в постели так много. В забытьи, в безумстве она снова и снова шептала ему полупонятные английские слова, а потом гладила его долго-долго, остывая с трудом.
Они лежали в полудреме, когда Ив вдруг вспомнила, как суетилась и квохтала сегодня старушка контролерша в метро. И она засмеялась счастливым и дерзким смехом. Она, конечно, заметила, что вся эта история и даже теперешний ее смех шокируют Зенковича, и спросила:
— А ты разве никогда не крал в магазинах самообслуживания?
— Еще нет, — надменно сказал Зенкович, пожалев об ускользающем забытье, — как-то не приходилось…
— Мы с Томом икру на Рождество в Швейцарии украли… Целую банку икры.
— Засранцы вы с Томом, — буркнул Зенкович беззлобно, снисходя к их молодости и аппетиту.
Но Ив не приняла его снисхождения.
— Дело в том, что швейцарцы такие честные. Они совсем не следят…
— Основание достаточное, — сказал Зенкович ласково, но Ив продолжала смотреть на него с подозрительностью. Она не уверена была, что ей удалось его убедить.
— Было Рождество. И нам так хотелось икры. К тому же нам понравилась икра. Она была очень вкусная. А швейцарцы такие честные…
— Да, да… — кивал Зенкович растерянно.
Он понимал, что должен сказать что-то. О Боже, если б это все происходило с ним в юрте, в экзотическом вигваме, в горном кишлаке, в общаге текстильной фабрики где-нибудь в Сыктывкаре, он бы со спокойной душой поддакивал и царапал украдкой в своем блокноте, на будущее… Но с этой ему ведь жить. Это и есть его будущее. И, преодолев оцепенение, он начал свою проповедь, заговорил сбивчиво и нудно, чувствуя, как неубедительно звучат его слова и главное — неинтересно, ну да, неинтересно… Она, вероятно, уже слышала все это сто раз, и ей было неинтересно… Он начал с того, что его мало порадовал этот рассказ. Что ему нечем оправдать унижение воровства: ведь они даже не были по-настоящему голодны. Кроме того, они украли не хлеб, они стащили икру, то есть стремились к той же самой роскоши, к которой стремятся богачи, к самому изысканному продукту, к исчезающим ценностям планеты. Они продали бессмертную душу за эту хамскую роскошь, то есть они ничем не лучше богачей и даже хуже их — потому что пошли ради этой роскоши на сознательную низость. Вот он, Зенкович, жил в справедливом обществе, и то он никогда не вожделел того, что хватали жлобы и стяжатели, не вожделел той же икры из закрытых буфетов… Мама говорила ему в детстве, что красть дурно — что там еще… Ну, что еще дурно?
Ив сказала, что он просто ничего не понимает. Он никогда не жил в обществе, в котором богатства распределены так неравномерно. Он ведь не знает, как туго им пришлось в Швейцарии. Он когда-нибудь работал на кухне в посудомойке? Да, приходилось, в армии — Зенкович содрогнулся при воспоминании об исступленно жарком среднеазиатском полдне, о провонявшей посудомойке с сальными кафельными стенами, о мутной воде, приносимой из дальнего арыка, о сотнях сальных мисок с кусками бумаги и хлеба, с окурками, воткнутыми в кашу. Да, мне приходилось, бедная моя девочка… Она там еще работала вдобавок в прачечной, а вечером помогала югославке стелить постели. Это было в Швейцарии, в отеле для горнолыжников; до того они два месяца колесили с ее Томом по Германии и Венгрии, деньги кончились, когда им сказали, что в Швейцарии можно неплохо заработать. Она возненавидела горнолыжников — загорелые немцы, которые ничего знать не хотят, кроме своих лыж, так довольны собой, все время смеются, и — лыжи, лыжи, лыжи…
Хозяин отеля был урод, калека, все части тела у него были деформированы. В конце срока он вдруг сказал, что ничего им не заплатит, потому что у них нет разрешения работать в Швейцарии и к тому же они плохо работали. Зенкович представил себе, как она возится в посудомойке и в прачечной, ни слова не понимая ни по-немецки, ни по-французски, ни по-сербски…
— Мы с Томом часто ругались тогда и хотели расстаться.
…Вот они приходят после работы в свою комнатку, недовольные друг другом, они слышат, как жизнерадостно смеются в ресторане немцы-горнолыжники, всему предпочитающие эти ненавистные горные лыжи — всему на свете, даже Бобу Дилану, даже Че Геваре…
Зенковичу стало мучительно жалко ее, он почувствовал себя одним из сытых горнолыжников мира. Он вспомнил душевную муку, с которой приехал совсем недавно в свой первый в жизни горнолыжный отель после развода с женой. Вспомнил медленное и неверное исцеление — благословенные горы, благословенные горные лыжи, благословенный ледяной воздух гор и голубые льды, к черту ваш наивный биг-бит с его полудетской, косноязычной программой коренного переустройства мира… В полумраке Зенкович гладил ее бедное юное тело, впервые сознавая, что оно и многоопытно и многострадально, может быть, намного многоопытнее и намного многострадальнее, чем его собственное, уже не совсем молодое, но тоже еще гладкое, дочерна загорелое во многих странствиях тело. Он гладил ее, он жалел ее, прозревая. Нет, «прозревая» — неточное слово, он ведь никогда и не думал, что где-то там, за Альпами или Пиренеями, лежит рай земной: он слишком много переводил английских и американских авторов, чтобы верить в рай, который может рождать такую боль. Однако многие вокруг него свято верили, да и он начинал верить в это иногда, машинально, конформно, в силу привычки, инерции и еще — вероятно, протеста против своего собственного, здешнего, столь несовершенного рая. Он гладил ее, жалел, но тело ее вдруг напряглось, выпрямилось: она не принимала, не хотела его жалости.
«Плохо?» — спросила она. Нет, ей было не так уж плохо, подумаешь… В прачечной там были совершенные машины, она справлялась без труда. В посудомойке тоже были машины. А до того путешествовали два месяца по Европе на свои более чем скудные сбережения. Она проработала месяц, они купили грузовик-фургон. А Том не работал вовсе. В конце концов там, в Швейцарии, хозяин заплатил им целую кучу денег.
— Мне кажется, в душе он нам симпатизировал… — сказала она.
— Это естественно. Тебя нельзя не любить, — сказал Зенкович, и она серьезно кивнула — да, все встречные ее любили.
Зенкович отметил, что самоирония не входит в ее юный арсенал юмора. Но она, вероятно, права, ее не следует жалеть, в конце концов, она поехала туда для удовольствия, работала добровольно, только для удовольствия, не из чувства долга, не из нужды. Она не заслуживала жалости. И тогда Зенкович пожалел себя, потому что он уже включен был, кажется, в эту жизнь, где нет долга и нет жалости, нет добрых маминых заветов о том, что хорошо и что дурно, а есть только преходящее удовольствие и безжалостный протест против несправедливо не нами устроенного мира. Мир этот нужно выпотрошить, как старую игрушку, а может быть, и сжечь в огне большого нового пожара, который помогут разжечь смелые, бескомпромиссные люди — Лев Троцкий, председатель Мао, Арафат, Бобби Сил из «Черных пантер», Шмобби Фил из новой битовой группы, режиссер Годар из Франции и еще кто-то, кого Зенкович уже не помнил, потому что у него была своя компания живых и мертвых — старик Швейцер и Папа Иоанн, самоотверженная мама и добрый унылый алкоголик Шмуль Нахимов из писательского дома на Аэропортовской, у которого была такая чуткая совесть, словно его собственная, давно расстрелянная мать еще расхаживает по русским городам с наганом, в кожаной куртке, творя безжалостный суд и расправу, не давая покоя своему нежному, мягкому сыну.
О, суета, суета сует и всяческая суета, ванитас ванитатум… — пробормотал Зенкович, прижимая к себе прохладную спину Ив, вовсе не надеясь, что она поймет его элементарную латынь, — он уже уразумел, что бремя старинного образования не входило ныне на Западе в число вожделенных добродетелей. Зато она поняла, что желание и сила его возрождаются, тепло задышала ему в щеку, вскрикнула, забормотала что-то на своем таитянско-лепечущем любовном английском, заменявшем ей все иностранные языки.
— Боб Дилан, Шмоб Шмилан, Троп Трилан, Троцкий, Высоцкий, Спасо-Кукоцкий… — бормотал он. — Девочка моя бедная, из края непуганых идиотов, из края непуганых птиц, больших птиц…
— Ты сказал «титс»? — вдруг спросила Ив. — У меня очень маленькие «титс».
— Нет, нет, — сказал Зенкович. — Совсем не маленькие, мне нравятся твои «титс» — твоя грудка. Все хорошо. Все прекрасно.
Глава 2
В первые дни он считал своим долгом водить ее на экскурсии, без конца таскать по городу, рассказывать ей все и показывать, вываливая на нее с радостью свои знания о городе, накопленные за долгую жизнь в Москве. Потом он заметил, что она с трудом переваривает все эти чужие названия, имена, факты чужой истории. Ну что ж, он ведь и сам давно перестал впитывать информацию. Он обнаружил, кроме того, что у нее есть свои принципиальные возражения против экскурсий. Она соглашалась поехать, ехала охотно, но потом вдруг исчезала куда-то. В одном древнем монастыре Зенкович, не успев показать ей самый интересный собор, обнаружил, что она уже забралась со своим фотоаппаратом на какую-то старую фабричку, разместившуюся в поздней церкви. Фабричка была обнесена забором и проволокой, так, что, может быть, туда вообще было нельзя, никому нельзя, а ей и подавно… После небольшого скандала он сумел увести ее прочь, и тогда она объяснила, что она против «сайтсиинг», против экскурсий как таковых. И он без труда согласился временно прекратить все экскурсии.
Поразмыслив над странностью ее поведения, он решил, что поведение это нетрудно понять. Толпы туристов бродили по планете, заползая в самые ее экзотические уголки, вытаптывая их и превращая в места массового «сайтсиинга». И конечно, ей, жаждавшей тех же странствий, но пытавшейся отстоять свою свободу, не хотелось потеть в одной толпе со всеми возле Ай-Софии или собора Святого Петра. Ей хотелось отыскать там пусть маленькое, но совершенно свое, оригинальное местечко, выцарапать свое собственное, особое впечатление и суждение. Этого требовал нонконформизм ее возраста, жажда оригинальности, необходимость утвердить собственную значимость, индивидуальность, то, что она называла «айдентити». Это было вполне естественное стремление, столь же естественное, сколь и бесплодное. Это маленькое «свое», руководимое ее настроением и волей случая, мешало ей увидеть прекрасное и вечное, хотя бы и заглаженное взглядами сотен тысяч праздных туристов…
Зенкович заметил, что она очень устает от города. Самому ему Москва давно уже была не по силам. Каждый раз, когда он получал более или менее крупный заказ на перевод, он уезжал из города и работал где-нибудь на даче или в деревне. За последний десяток лет он обжил все Подмосковье, работал в невероятных по убожеству сарайчиках и самых богатых дачах. Он был неприхотлив. Правда, в последнее время ему стали все меньше нравиться открытые уборные в поле в зимний двадцатиградусный мороз.
Вскоре после ее приезда он предложил Ив переехать в деревню или на дачу. Она с энтузиазмом приняла его предложение, и они стали собираться. Бегая по издательствам и завершая городские дела (Ив любила говорить, что он «целый день, как крот, ползает по метро»), Зенкович спрашивал у знакомых, нет ли пустующей зимней дачи (он все-таки не уверен был, что Ив перенесет тяготы деревенского быта). Однажды, обедая в Союзе писателей, он встретил старого Савву Груза. Когда-то Груз был довольно популярный сценарист (популярность сценаристов, как и популярность переводчиков, охватывает весьма ограниченный круг профессионалов). Все знаменитые шедевры Груза, вышедшие или не вышедшие на экран в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, были ныне прочно забыты. Среди других забытых сценаристов Савву Груза выделяла дача в Стародедове: он ухитрился скопить денег и купить у гулящего сына когда-то весьма известного, ныне покойного режиссера грандиозную (по тем временам, конечно) с хамской роскошью построенную дачу. Но хватка и работоспособность старого Саввы Груза ослабли, он с трудом поддерживал если и не былое великолепие, но хотя бы жилое состояние своего загородного сокровища, изредка приезжая туда, обходил свои владения, восхищаясь целым и отдельными его частями, а потом уезжал надолго. Величественное строение под сенью подмосковных берез пустовало. Зенкович сподобился однажды прожить в пустующем дворце целую зиму, потом забыл про него, но сейчас, встретив вдруг Савву Груза, вспомнил все. Более того, Савва Груз, пожаловавшись на обилие работы («Киргизфильм» принял его довоенный сценарий о судьбе ишачка на большой стройке, среди новых друзей), сам предложил Зенковичу пожить на его даче. Конечно, ни о каких деньгах с Саввой говорить не полагалось (деньги брала мадам, и притом втридорога), так что под вечер Зенкович успел заехать к Саввиной жене, расплатиться и взять ключи от стародедовской дачи, где Зенковичу, как и в прежние времена, была предоставлена одна просторная комната и право пользоваться кухней, ванной и службами.
На пустынной даче все было, как в прежние, неправдоподобно далекие времена. Со скрипом открылась обвисшая калитка, запертая на три замка. На давно не метенной дорожке догнивала осенняя листва. Пока Зенкович отпирал дом, Ив с нетерпением выглядывала из-за его спины. Она почти сразу исчезла в недрах дома, и он один разбирал вещи. Видимо, новые дома были для нее привычным развлечением. Она появилась минут через сорок и шепотом позвала его. Глаза ее блестели: «Идем, я тебе кое-что покажу». Ив увела его в самую дальнюю комнату, безошибочно вынула ключ из большой связки, отперла едва заметную дверь в стене:
— Вот!
— Что вот?
Посреди стола стояла большая стеклянная забытой формы довоенная банка от огурцов.
— Да, забавно, — сказал Зенкович без особого воодушевления. — Только…
Ив не была склонна выслушивать его «только», однако он все-таки высказал ей свои соображения на этот счет. Он говорил строго, скучно и обреченно:
— Только нехорошо, что ты залезла в их комнату, Ив. Открыла их комнату их ключами — ну что тебе тут? Мы ведь еще и в своей комнате не убрались…
Она была не согласна с ним и даже возмущена его робостью — подумаешь, чужие комнаты, чужой дом, чужие ключи… Да что она их — обокрала, что ли? А если бы и обокрала… Он выступил как фарисей и трус, как сторонник проклятой собственности и жалких приличий. Все в нем возмущалось против необходимости защищаться, оправдываться. Он был уверен в своей правде и не собирался затевать дискуссию: его пустили сюда, зная, что он будет вести себя именно так, а не иначе, так что ей придется подчиниться существующим здесь правилам.
— Мне не нужно чужого, — сказал он с дрожью в голосе. — Тебе не нужно чужого. Нам с тобой не нужно чужого…
— Я все поняла, — сказала она с озорным блеском в глазах, — просто тебе очень хочется захватить чужое, и ты подавляешь в себе это желание…
Зенкович был взбешен ее доморощенным фрейдизмом и низкими подозрениями. Он молча ушел разбирать вещи, установил машинку и сел за работу. В работе было спасение и прибежище от всех трудных проблем, требующих решения, — гори оно все голубым огнем, он просто будет работать, разве не это главное?
Вечером он приготовил ужин, они поели, легли в постель и помирились. Ветер шумел за высокими сводчатыми окнами. Старый дом непонятно шуршал и шелестел, загадочно поскрипывал. Зенкович вспомнил, что много лет назад, поселившись здесь впервые, он проснулся среди ночи и услышал, как скрипит дубовая лестница, уводившая наверх, на второй этаж, в огромную барскую спальню. Зенкович встал, запер дверь, но и после того, как шаги на лестнице утихли, он еще долго не мог заснуть, лежал и думал о том, что огромный этот дом может и должен быть населен призраками. Он построен был в пору процветания великого режиссера, который, создав на тогдашнем безрыбье вполне проходимую комедию, сразу стал личным любимцем всемогущего властителя и простым миллионером полуголодных времен. Тогда он и построил эту немыслимую виллу, где растил в нелепой местечковой роскоши единственного наследника, создавал новые угодные хозяину шедевры и, наверно, вполголоса сетовал на то, что при других условиях он мог бы и что-то приличное, что-то настоящее… Потом наследник вырос, стал сильно пьющим оболтусом, устраивал бардаки среди этого убогого великолепия вместе с наследниками других тогдашних временщиков. Кончилось все печально: под пьяную лавочку они изнасиловали и убили чью-то юную наследницу, зарыли ее вот тут же в саду, потом каялись, отбывали наказание. Могучие отцы с трудом спасли их от смерти и долголетней каторги. Великий режиссер печально шаркал ночными туфлями по огромному дому в бессонные ночи, размышлял о переменчивом счастье, а потом, в одно прекрасное зимнее утро, вдруг схватился за сердце и умер в одиночестве… Как же ему было теперь не бродить по ночам?
Впрочем, ночные шаги на лестнице, как вскоре выяснил Зенкович, были не человеческие. Это была всего-навсего огромная крыса, и хозяйка, приехав на два дня, повела с ней решительную борьбу, после чего крыса благополучно покинула дом, но по всей «просмотровой зале» теперь валялись ее дохлые крысенята…
В старых полуразвалившихся шкафах еще лежали никому не нужные режиссерские разработки и сценарии, гимны в честь мудрого, храброго, великодушного диктатора, а также свидетельства о высоких наградах, реликвии славы и власти.
Зенкович хотел рассказать Ив историю про безжалостного повелителя-вождя и его любимого режиссера, однако сдержался и рассказал только про крысенят. Что она могла понять в этой печальной истории абсурдной человеческой жизни, ужасающей тщеты всего — и славы, и богатства, и власти, и страха… К тому же это была его, их история, потому что великий диктатор был развенчанным кумиром его, Зенковича, детства. А фильмы бывшего дачевладельца были шедеврами искусства во времена его, Зенковича, юности. Потому что весь этот мусор, разбросанный по дачным шкафам, был когда-то «современным искусством», высшим достижением передового стиля. Потому что это прошлое висело над ними и сегодня. А что ей было до всего этого?
…Их жизнь на огромной пустынной даче стала входить в колею, нарушаемая, впрочем, раз или два в день небольшими происшествиями и мелкими конфликтами. Так, зайдя однажды на кухню, Зенкович, уже почти привыкший к тому, что Ив моет в кухонной раковине (затыкая ее при помощи картофелины) и овощи, и посуду, и даже крупу, вдруг обнаружил, что она моет в этой же раковине свои длинные золотые волосы. Возникла долгая и бесплодная дискуссия о чистоте и чистоплотности. Ив настаивала, что русским, как людям менее чистоплотным, не понять преимущества раковины с хорошей затычкой, в которой можно мыть все, что угодно. Зенкович старался проявить большую терпимость и разглагольствовал о том, что вообще чистота понятие относительное, а брезгливость уж и вовсе субъективное чувство. Что проточная вода, в которой еще ничего не мыли, и специальная посуда для продуктов, отдельная от посуды, предназначенной для стирки, а также от посуды, предназначенной для мытья головы или мытья ног, импонируют ему гораздо больше и не провоцируют его брезгливости.
— В проточной воде заводятся микробы и черви! — в ужасе воскликнула Ив. — От нее бывает рак! Как все-таки ужасно, что у вас нет затычек и цивилизации.
Зенкович попытался остаться академичным и напомнил, что древние славянские племена, жившие еще довольно по-свински (не более, впрочем, по-свински, чем кельтские или саксонские), неизменно уличали друг друга, а также своих ближних соседей в том, что они «ядяху нечисто».
Если не принимать в учет этих и подобных им этнографических столкновений, жизнь их протекала в первые дни в мире и любви. Иногда Зенкович уезжал на весь день в город — он виделся с сыном и «ползал, точно крот, в метро», разъезжая по издательским делам. В этом выражении Ив было все ее презрение и к городу, и к метро, и к его делам. Страдая от суеты, он склонен был с ней согласиться отчасти, однако совсем отказаться от дел не мог. Оставаясь одна дома, Ив гуляла, читала и писала письма, много-много писем домой. Глядя, как она покусывает авторучку («настоящий „паркер“, очень дорогая ручка»), Зенкович вспоминал годы своей службы в армии, когда он отправлял в Москву тонны писем. Они были как отчаянная попытка навести мосты между старой и этой новой, против воли навязанной ему жизнью. Зенкович не раз хотел предостеречь Ив от этой бесполезной траты времени, но в последнюю минуту вспоминал политотдельского капитана Гиммельфарба. Капитан вызвал его однажды и стал журить за то, что через полевую почту прошло за неделю двадцать писем от Зенковича и к Зенковичу. Зенкович крикнул тогда, едва сдерживая слезы, что у капитана все с ним, здесь, а у него, Зенковича, нет никого, а все там, за тридевять земель. У бедняжки Ивлин тоже, вероятно, все были там, за тридевять земель. Она часто писала своему Тому — издали отношения их виделись ей еще более грустными и прекрасными. Зенкович и сам питал сочувствие к этому незнакомому мальчику из неведомого мира, который, расставшись с Ив где-то на пути то ли в Париже, то ли в Лондоне, продолжал блуждать по свету, перебиваясь шоферской и барменской работой, вдали от родного Квинсленда, от богатых родителей-художников…
Возвращаясь вечером из города, Зенкович запирал на ключ калитку и подходил к единственному ярко освещенному окну огромного дома. Он видел Ив. Она сидела, свернувшись калачиком в кресле, и читала, а чаще писала. Золотистые волосы скрывали ее опущенное лицо. Словно ощутив его взгляд, она поднимала голову, отбрасывая волосы, и тогда он видел ее прекрасные, холодноватые голубые глаза. Может, она прислушивалась к шагам за окном. Может, ждала его возвращения. Ему хотелось думать, что это так, но он допускал, что она вовсе и не думает о нем. А вот о чем и о ком она думала? Что она пишет? Надо попросить ее когда-нибудь почитать ему какое-нибудь из писем. Или прочесть самому. Это будет, конечно, дурной поступок. Ну что ж, еще один дурной поступок к веренице его грехов…
Он стучал по стеклу. Ив вставала с кресла, вглядываясь во мрак. Лицо у нее было напряженное и только. Потом она шла отпирать дверь. Он привозил ей подарки. Она упрекала его за отвратительную русскую привычку часто дарить подарки. Но он ничего не мог поделать с собой: он поступал так всю жизнь.
— Мы дарим подарки только на Рождество и на день рождения, — строго выговаривала она.
— Ладно, — отмахивался он. — Вы, наверное, дарите что-нибудь шикарное… А мы так. Пустячки.
Однажды она спросила, дарит ли он сыну подарки так же часто. Он поднял голову, внимательно посмотрел на нее. И понял, что надо пощадить ее и пощадить себя. Он сказал, что нет, соврав ей впервые. Она прочла ему длинную нотацию, предостерегая, чтобы он не вздумал портить ребенка и подрывать подкупом его любовь. Зенкович слушал и жалел ее при этом, жалел себя. Что-то было в ней страшное, в педагогике этого ребенка из странного холодного мира.
В ту ночь он был особенно нежен с ней, точно с больным ребенком, и она внимательно приглядывалась к нему, прислушивалась, а потом вдруг сказала, совсем неожиданно:
— Никогда не знаю, кончил ты или нет. Напрасно ты меня обманываешь…
Может, по-английски это звучало чуть мягче («ту кам», «прийти»), однако он был шокирован. («Скинчив чи ни скинчив?» — спросила его как-то деловитая хохлушка в послеармейский год юности.) А главное — он-то размышлял, о чем это она сейчас думает…
«О Боже! — взмолился он. — Когда же я начну понимать, чем занята эта милая, золотистая головка… Надо побольше, еще больше говорить с ней, расспрашивать о прошлом, о близких, о каждом дне ее прежней жизни».
Он вдруг спросил о Томе, об их жизни там, в Лондоне.
— Том был шофером, на грузовике. О, водители грузовика в Лондоне могут неплохо заработать! — воскликнула она. — Есть такие люди, которые угоняют машины с грузом. Водитель ставит машину в условленном месте, у пивной, и идет пить пиво. А эти люди угоняют машину с грузом, груз продают, а грузовик потом где-нибудь ставят. Шофер заявляет в полицию, но не сразу. Водителю — ничего, он же не виноват. А потом ему за это дают кучу денег. Можно неплохо жить. Я сто раз Тому говорила, но он отчего-то не хотел договариваться с угонщиками.
— Может, он просто был честный, и мама в детстве…
— Нет, — сказала Ив с презрением и страстью. — Это просто его еврейская мягкотелость и трусость…
— Разве он еврей? — спросил Зенкович, пытаясь переварить историю с грузовиками.
— Да. Конечно. В Квинсленде много евреев. Все мои друзья были евреи, кроме Джейн.
— Где их нет… — сказал Зенкович растерянно. — Где же их нет… Значит, угнать грузовик… Веселенькая история.
Назавтра Зенкович стал собираться в город — он должен был повидаться с мальчиком после школы, а до того у него было еще свидание с машинисткой и с редакторшей.
— Буду ползать под землей наподобие крота, — сказал он мирно.
Ив захихикала.
— Неплохо я это придумала, — сказала она.
— Неплохо, — согласился Зенкович. Он подумал, что для представительницы англоязычной страны она все-таки недостаточно широко использует возможности английского юмора, однако кое-какое чувство юмора у нее все же есть. И это неплохо.
Ив сетовала на то, что до сих пор нет снега.
— Будет, — сказал Зенкович. — Непременно будет. Это просто неизбежно. Как победа коммунизма. Что же я еще хотел взять в город? Забыл… — бормотал он, собирая вещи.
Ив сказала, что она все больше убеждается, что в Китае коммунизм победит раньше.
— Ну и пусть их… — сказал Зенкович. — Ага, вспомнил!
Он должен взять с собой заявку на новый перевод.
Да, он еще не дописал в ней последнюю фразу, которая должна окончательно рассеять сомнения издательства и обеспечить ему работу по меньшей мере на три месяца. Про что же им написать? Вот, решено, он им и напишет про неизбежность. У него еще осталось четверть часа… Садясь за машинку, он обнаружил, что Ив куда-то исчезла.
— Неизбежна… Вот так! — сказал он, ставя точку и вынимая лист из машинки.
И вдруг услышал страшный грохот у дверей, ведущих на улицу. «Что-нибудь случилось, — пронеслось у него в мозгу. — Что-нибудь не слава Богу… Раньше или позже… И так мы с ней слишком отважно…»
Он бросился ко входной двери. Ив бежала ему навстречу, стуча грубыми ботинками. Дубленка ее (подарок сердобольной подруги из Тель-Авива) была распахнута, шнурки на ботинках (подарок из ФРГ) не завязаны до конца, лицо взбудораженное, потрясенное…
— Снег! — сказала она. — Пошел снег!
Зенкович с облегчением опустился в передней на стул и выглянул в окно.
— Да, действительно, — сказал он. — Кто бы мог подумать… Самый настоящий снег.
Но Ив не стала его слушать. Ее башмаки снова прогрохотали по коридору и затихли во дворе. Зенкович почувствовал, что по полу тянет холодом, двери были распахнуты настежь. Он вышел в сад. Входная калитка в воротах была тоже распахнута настежь. Ив не было видно. Зенкович с сожалением оглядел влажные, обреченные на скорое умирание хлопья раннего снега. Потом взглянул на часы и заспешил: пора было добираться к поезду.
Он вынул из тайника плитку жевательной резинки для сына и сунул ее в портфель (он уже знал, что резинка — это вдвойне преступно; он не только подкупал сына, но и давал нажиться западным монополиям, а также их местным пособникам-спекулянтам), уложил бумаги и быстро переоделся. Потом он вышел в сад и стал звать Ив. Ее не было в саду. Не было ее и за калиткой. Зенкович вернулся домой и увидел, что ее ключи лежат на столе. Значит, она не далеко. Он снова вышел за калитку, взглянул на часы. Он уже начинал опаздывать на поезд. Впрочем, еще можно попасть на следующий и вовремя подоспеть к метро «Дзержинская», где его будет ждать машинистка… Зенкович стоял с портфелем у калитки и чувствовал, что ожидание становится безнадежным. Он не мог уйти, оставив незапертыми калитку и дачу: в это время дня алкаши-слесаря и алкаши-монтеры то и дело тычутся в обитаемые дачи в поисках утреннего рубля. Более того, мог вдруг нагрянуть кто-нибудь из Грузов, а дача не заперта — будет скандал. В то же время Зенкович не мог опоздать, он никогда не опаздывал, не заставлял людей ждать ни у метро, ни на углу под часами, нигде… «Не опаздывал, так будешь», — повторял он про себя, и в нем поднималась ярость. Куда она унеслась? И главное — почему не сказала ему ни слова, знает ведь, что ему уходить? А почему она должна думать о его делах? Первый снег в России — это событие, это радость, а остальное — его беготня в метро, его ребенок, его работа, его долг… У нее нет долга, у них нет долга. Какое ей дело до других, до мира, и мир и другие существуют только в данную минуту, когда они умножают твою радость, помогают справиться с голодом того или иного вида, щекочут новизной нервы… Ну вот, он опоздал на вторую электричку, он безнадежно опоздал. Зенкович поставил портфель на землю, присел на бревнышко у калитки — он был в ярости. Да что она, ребенок, что ли? Василиса, в конце концов, моложе ее. Да его собственная сестра, которая уже года три как тащит на плечах семейство, моложе ее. В чем же дело? Этот холодный мир, который в их ночные часы возникал из ее рассказов, разве этот мир располагал к безответственности? Нет, но он, вероятно, толкал к безразличию. А протест против этого мира толкал к безответственности и безделию. О, черт, но это же гнусно все, гнусно, опять, что ли, пойти, сесть работать… Он усмехнулся горестно, обреченно, он был сейчас не в состоянии работать…
Она появилась часа через полтора, устало опустилась на стул в прихожей.
— Я ходила далеко-далеко, — сказала она гордо. — В овраге нападало много снегу… Вот столько…
— Я должен был быть у машинистки в десять, — начал Зенкович тихо и хрипло. — Ты не предупредила меня. И ты не взяла ключи…
— Ну и что? — сказала Ив просто. — Знаешь, там, за рекой…
Зенкович заорал на нее — он хотел высказать все спокойно, но не смог сдержаться. Он понимал, что так нельзя, но продолжал кричать, пока не высказал все. В глазах ее были непонимание и отчуждение. Потом в них вспыхнул огонек острой враждебности. Зенкович понял, что проиграл. Он ничего не объяснил. А она привыкла к такого рода стычкам, она закалилась в них. У нее больше навыка и крепче нервы… Он пошел к дверям, не простившись, всю дорогу до Москвы ругал себя, проклинал ее.
В городе он все время думал, что она делает там, одна на огромной даче среди берез… Вечером, возвращаясь домой, он уже упрекал себя за грубость. Он был неправ. Он старая брюзга и утратил способность удивляться, чувствовать, а она молода, в ней столько непосредственности, столько наивности. В свои двадцать пять она как дитя, истинный ребенок, отчего же он не умиляется этому? Разве он не приучен был ценить выше всего на свете эту детскую непрактичность, искренность, непосредственность, простоту? Простота. Хуже воровства… Интересно, когда эти ценности перестали волновать его? Разве не отталкивают его по-прежнему, особенно в молодых женщинах, практицизм и жлобство, рассуждения по низам и убогий, одноклеточный разум? Так что же говорит в нем сейчас? Возраст? Возраст, да, возраст… С каких пор стал он таким педантом, службистом, ревнителем долга? Он, выделявшийся среди друзей своей бесшабашностью? А может, виной наша жизнь — эта наша робость и задавленность, сознание своего бессилия, ограниченности своих прав, наше законопослушание? Она человек из другого, более раскованного мира. Как может он предъявлять к ней те же требования, что к себе?
От автобусной остановки он почти бежал. Отпирая дрожащей рукой калитку, повторял про себя слова раскаяния и жалости… В их комнате было темно. Все! Она уехала… Он увидел, что окна огромного кабинета Саввы Груза пылают огнями. Этого еще не хватало! Старик приехал. Но где же все-таки Ив?
Зенкович постучал в дверь, увидел, как легкая фигурка метнулась из кабинета Груза. Ив. Значит, свет зажгла она.
— Я там читаю, — сказала она, отпирая. — Там красиво.
Он прошел за ней в кабинет, не снимая пальто, увидел книгу на постели Груза: здесь она читала, лежа поверх грязного солдатского одеяла. Зенкович не мог вспомнить, с чего он хотел начать свои извинения. Он начал с попреков. Он же сто раз просил не заходить в чужой кабинет, такое у них было условие с хозяином — каждый у себя. Это чужая комната. А у них есть своя, и разве так трудно…
— Но дом такой огромный, — сказала она, пожимая плечами. — А ты платишь им кучу денег…
Это был бесплодный спор. Зенкович пытался объяснить требования Груза особым психическим складом литератора: вот он, Зенкович, тоже не терпит, чтобы кто-нибудь заходил к нему в кабинет, рылся в его бумагах или книгах…
В конце концов он махнул на все рукой и повел ее ужинать.
…А утром снова шел снег. Ив смотрела в окно, кусала колпачок авторучки и писала открытки, много-много открыток — в Квинсленд, Англию, Францию, ФРГ, Израиль, Турцию, Соединенные Штаты. Зенкович догадывался, о чем она пишет сейчас: снег за окном, пушистые хлопья снега, русские березы в снегу…
Он весь день работал. Пополудни сделал перерыв и наскоро приготовил обед. Он был крайне неопытен, но хотелось есть, а Ив готовить не умела. Она работала в кафе и столовках в разных частях света, однако там она только заваривала чай или мыла посуду, то есть у нее была узкая специализация. Зенкович с грехом пополам научился готовить какую-то дрянь из концентратов.
За обедом она опять смотрела в окно на падающий снег, ей было трудно оторваться от этого зрелища. Потом поблагодарила его за обед и пообещала вымыть посуду. После этого она надолго затихла где-то в утробе огромного пустынного дома. Зенкович наткнулся на нее под вечер, когда встал из-за машинки, вертя в голове нескладную полуанглийскую фразу своего перевода, и отправился в туалет. Он потянул на себя дверь уборной и обмер: Ив меланхолически сидела на унитазе, наблюдая через окно, как в сиреневых сумерках кружатся хлопья снега.
Она повернула к нему голову и сказала ободряюще:
— Ничего. Ничего.
Зенкович отчего-то смутился и рявкнул:
— Что ничего? Запираться надо!
Наутро Ив заявила, что ей тоже необходимо поехать в Москву — купить открытки и конверты.
— Стоит ли таскаться в поездах и автобусах, — возразил Зенкович. — Я тебе привезу сколько угодно. Самых лучших.
Однако Ив настояла на своем, и Зенкович подумал, что при ее незанятости каждое самое мелкое дело приобретает огромную, ни с чем не соразмерную значимость. Он подумал, что сам виноват, не может занять ее, но, вот уж когда все утрясется, он придумает ей какое-нибудь занятие. И в первую очередь она займется русским. Что должно было утрястись, они оба представляли довольно смутно. Еще до переезда на дачу они твердо решили, что поженятся, и посетили помпезное учреждение, называемое московским Дворцом бракосочетаний. Там объяснили, что нужно получить бумажку из далекого Квинсленда, подтверждающую, что девица Ивлин Уайт не состоит у себя на родине в браке и оттого никаких препятствий к их браку нет. Им обещали назначить по получении этой бумаги весьма умеренный срок ожидания, чтобы все наконец свершилось. Так что они отправили запрос в Квинсленд и теперь ждали поступления бумажки от неторопливых (жарища там небось в этом Квинсленде страшная) квинслендских чиновников. Окружающие, качая головой, предупреждали Зенковича, что «никто им этого не позволит». Знатоки даже помнили два или три случая, когда не позволяли, чаще не в открытую, просто оттягивая время, пока одному из брачующихся не придется уезжать восвояси, так и не дождавшись бракосочетания. Ив и Зенкович решили, что им ничего не остается, как ждать и полагаться на судьбу.
…Итак, сегодня она отправилась с ним в город — за конвертами и открытками. На станции они сели в полупустой вагон и огляделись. Напротив них разместились старушка и молодой солдат в шинели. Ив шепнула Зенковичу, что ей очень нравятся такие вот серые, длинные солдатские пальто. На месте Зенковича она бы непременно стала носить такое. Конечно, буржуи и мещане будут смеяться, но те, кто понимают, должны будут признать, что это и модно, и красиво, и дешево, и современно. Зенкович промолчал. Тогда Ив достала свой дневник и начала заносить туда новые записи, а Зенкович все еще думал, почему он не стал бы носить шинель, будь у него хоть что-нибудь другое. Вернее, он думал над тем, что мог бы ответить Ив, убежденной в гениальной простоте и очевидной выгоде своего предложения. Что служба в армии вовсе не является редкостной привилегией, а после демобилизации ничто не побуждает солдата (во всяком случае, его, Зенковича, не побуждает) к ностальгическим воспоминаниям? Что солдатская форма настолько примелькалась здесь, что предприимчивый пижон, нарядившись в шинель, скорее затеряется, чем выделится в толпе? Что если дешевый шоферский полушубок, столь удобный при русской зиме, не отталкивает даже самых привередливых снобов, не раздобывших западной дубленки, то этой нужды в шинели никто здесь не ощущает?..
Солдат спросил, нет ли у Зенковича спичек. Зенкович ответил, что не курит, и усмехнулся:
— Я за махорку сахар получал.
Солдат серьезно сообщил ему, что нормы довольствия изменились, после чего между ними завязался разговор, состоящий из полуфраз-полунамеков, понять которые мог только посвященный, то есть служилый.
— Первый год?
— Курс молодого.
— Ого!
— Дают просраться. Ничего, я в комендантском…
— Сачок. Увольнения есть…
— Пока редко нас касается…
— Чудачки?
— Навалом…
Зенкович видел, что юный солдатик родом из глухого угла Средней Азии и горд тем, что попал служить в Подмосковье. Что здесь он получит свои первые культурно-сексуальные впечатления, а потом много лет будет рассказывать обо всем этом в родных местах, сожалея изредка, что не остался на сверхсрочную. Что он совершенствует свой русский язык под сильным влиянием старшины-украинца… И еще Зенкович подумал, что никогда не сможет перевести их разговор для Ив. Ее, к счастью, их разговор и не заинтересовал.
В магазине «Искусство» они накупили великое множество открыток. Ив выбирала сама. Зенкович следил за ее выбором, стараясь воздерживаться от комментариев. Больше всего ей нравились реалистические рисунки в стиле русских пятидесятых и сороковых годов. Она выбрала также репродукции картин Серова, посвященных Ленину. Зенкович так привык к этим репродукциям — он не мог представить себе, что они не существовали когда-нибудь. Или что кто-нибудь мог их не знать. Среди них были «Ходоки у Ленина». Ив сказала, что картины эти очень трогательны.
Они расстались в центре, и Зенкович поехал в издательство. Здесь он, как всегда, встретил много знакомых. Когда он рассказывал им об Ив, некоторые пожимали плечами, другие, поздравляя его, говорили, что ему повезло. Одна знакомая сказала в ужасе:
— Зачем вам такая грандиозная форма самоутверждения, Сема, разве ваш развод был невероятней, чем все прочие разводы? Почти все мы разведены…
Зенкович возмутился против этого предположения. Он скорее согласился бы, если б кто-нибудь заподозрил, что тут присутствовал расчет. Тогда очевидная нерасчетливость его действий защитила бы его от такого упрека.
Вечером Ив сама открыла ему дверь. Она ждала, и вид у нее был растерянный, несчастный.
— Меня оштрафовали в поезде, — сказала она, всхлипнув. — На три рубля. Так много…
Зенкович опустился на стул и стал хохотать.
— Что тут смешного?! — крикнула она со слезами обиды на глазах, но он не мог удержаться и продолжал хохотать. Нет, отчего же, это смешно. Он представил себе, как закаленная в боях бригада контролеров изловила опытную безбилетницу из далекого Квинсленда. Они доказали ей, что тут тебе не Лондон и не Бонн, что надо строго блюсти социалистическую законность… Зенкович представил себе, с каким презрением к ее притворному нерусскому лепету они вырвали у нее из зубов баснословную сумму в чужой валюте — целых три рубля… Ее отчаяние казалось ему безмерно смешным: право, жаль, что она не видит в этом ничего смешного. Да, они еще пригрозили, что в следующий раз возьмут десять (как они с ней объяснялись, он так и не понял). Ив спросила, как они ее узнают. Зенкович, с трудом сохраняя серьезность, объяснил, что на нее теперь заведено досье, а фотография нарушительницы разослана по всем дорогам. Потом ему стало жалко ее, и он возместил ей потерю. Однако она еще долго была безутешна и за ужином без всякого интереса ела творог, разбавляя его консервированным болгарским лечо (от ее кулинарных экспериментов у Зенковича мороз продирал по коже). Желудок ее справлялся со всем, и она открывала все более оригинальные гастрономические сочетания.
— Звонила друзьям, — сказала она.
— Ну, что слышно в мире?
— Опять успешный угон самолета, — сообщила она с гордостью.
— Что значит успешный? — спросил он, поперхнувшись. — Опять кого-нибудь ухлопали?
— Они пригрозили убить пассажиров, посадили самолет в Каире и предъявили требования. Убиты две женщины и ребенок, остальные целы… Им обещали выдать арестованных террористов. Полиция осталась с носом. Ты послушай, как они сделали…
Зенкович слушал ее рассеянно. Он думал о том, что убит ребенок и еще какие-то ни в чем не повинные пассажиры. Он думал, что лихим обезьянам, вооруженным скорострельным оружием, все нипочем. Что есть в мире тысячи скучающих, которым милы эти игры. И есть также множество политиков, которые делают на это ставку. Еще он подумал, что русского интеллигента, да еще в его возрасте, уже не может тешить фигура Карла Моора; для него рассудительный и приличный Франц куда милее, чем краснобай и убийца Карл с его обидой на несправедливость судьбы.
Вечером, в постели, чувствуя его молчаливое неодобрение, Ив продолжила рассказ о своих богах и героях. Это были «черные пантеры» и Бобби Сил. Они разъезжали в машине, полной оружия: американские законы разрешали им ездить во всеоружии, просто так, на всякий случай… Полицейская патрульная машина ездила по пятам. Это было ужасно для прогрессивного Бобби и его друзей. Тогда они стали сами гоняться за полицейской машиной. Они ведь были во всеоружии… Каково?
Зенкович гукнул в подушку, издав звук, который при ее известной сговорчивости мог означать, что она его развеселила, что он в таком же восторге, как и она сама. Ив так и восприняла его странный звук, потому что ей не терпелось рассказать еще и про Пэт Херст, наследницу тех самых Херстов, у которых пресса и миллионы. Зенкович все еще думал о бедных полицейских, которым пришлось все дежурство дрожать за жизнь: они-то ведь были просто на работе… Зенкович был воспитан на презрении и ненависти к американской полиции: к этому приучали его лучшие американские кинорежиссеры и писатели. Сейчас, пожалев бедолаг-полицаев, он отдал свое внимание крошке-миллионерше. Ее похитили, старомодный киднеп. Пока папа готовил полмиллиарда или еще сколько-то ихних денег, крошка вступила в шайку, ее похитившую. Ее засняли при ограблении банка. Такова была неотразимость современного бандитизма, вероятно прикрашенного к тому же какой-нибудь ультралевой политической программой. Смешно, что очкастый еврей-догматик Лева Троцкий в таком ходу у всех этих автоматчиков, подумал Зенкович. А может быть, и не смешно. Он все-таки был сторонник всяческих стрельб. Интересно, умел ли он сам стрелять или все это было просто вытеснением комплексов у бедного шлимазла?..
— Ты меня слушаешь? — спросила Ив.
Глаза ее сияли. Проказливая улыбка играла на губах. О чем она говорила? Ну да, об успешном угоне. О Пэт Херст, черт, но отчего же ее так жалко, так жалко их, бедных идиотов?
— Иди сюда, террористка, — сказал Зенкович. — Иди сюда, половая террористка…
* * *
— Не спорить же мне с ней опять про эти гадости террора, — сказал мягкий Зенкович строгому Зенковичу.
— Ну а потом, когда этот аргумент у вас ослабеет и вы станете слишком старый для этих игр, Сема? — строго спросил рассудительный Зенкович.
— Не знаю. Таки не знаю, — сказал мягкий Зенкович. — А вы знаете?
— Нет. Но не мешало бы знать в вашем возрасте…
— У тебя красивый зад, — прошептала Ив. — И красивый член.
— Ну разве она не прелесть, — сказал мягкий Зенкович, становясь твердым.
— Да. Но возможно, что она просто знает, как нужно говорить в этих случаях. Не такая уж большая наука… — пробормотал строгий Зенкович и заметил, что сбивается, теряет дыхание. Он понял, что сейчас не его время.
Глава 3
Приближалось Рождество. Христианский мир был охвачен рождественским ажиотажем. На сей раз эти треволнения, в прежние времена возникавшие далеко от Зенковича и от шестой части света, в которой он существовал, затронули его самым неожиданным и неприятным образом. Ив, изнывавшая без дела, ухватилась за Рождество (это как раз и было настоящее дело) и заявила, что Зенковичу тоже пора об этом подумать — где справлять, как, что приготовить? Письма, поступавшие из Квинсленда, были полны Рождеством: те же где, и как, и что. Неоднократно, с утомительной подробностью были описаны маленькие, милые подарки, которые эти люди дарили кому-то или собирались подарить на Рождество. Зенкович представил себе, как задыхаются почтовые ведомства, доставляя с континента на континент сами эти подарки и многочисленные их описания. А представив, он с сознательностью гражданина примирился с тем фактом, что рождественские поздравления опоздают на месяц-два и придут ко Дню Советской армии (он должен был учесть и трудности, переживаемые в такую пору ведомством перлюстрации, которое, по его соображениям, не могло не существовать).
Ив решила сама испечь для Зенковича первый в ее (не говоря уже о его) жизни рождественский пирог. Зенкович не любил пирогов (он предпочитал им пирожные и пирожки), кроме того, ему вообще не следовало есть мучного, однако он был растроган. Правда, он предвидел здесь для себя многие трудности и не ошибся. Ив потребовала, например, чтобы он купил миндаль, упомянутый в ее поваренной книге как обязательный ингредиент рождественского пирога (он мог, впрочем, оказаться и тортом). Миндаль, как назло, не попадался Зенковичу в его странствиях по магазинам, и тогда Ив стала упрекать Зенковича, что он совсем не думает о Рождестве. Если говорить честно, он и правда почти не думал о Рождестве. В былые годы он еще испытывал некоторый трепет в канун Нового года. Однако с годами и этот его предпраздничный трепет иссяк. Зенкович научился с мужеством и спокойствием встречать календарные даты.
Припоминая вертепы католических костелов и волхвов, приносящих дары, полузабытые строчки из Пастернака, Зенкович будил в себе сейчас интерес к чужому празднику. Ив обучила его двум рождественским гимнам, которые он из-за отсутствия слуха не мог исполнять самостоятельно. Они пели вдвоем, и это выглядело весьма трогательно. Однако ему все еще трудно было примириться с рождественской суетой. Он считал, что вечером 24 декабря они смогут сесть в кресла друг против друга, зажечь свечи, прочувствовать все как следует. Он имел в виду само событие — рождение Иисуса Христа. Ив настаивала, что есть вещи более существенные, чем благочестивое размышление. Пирог. А главное — елка. Он заклинал ее не рубить деревьев в поредевших окрестностях Стародедова. Она строго-настрого запретила ему покупать елку у алкашей на перроне. Она объяснила, что это будет проявлением крайнего фарисейства, потому что алкаши ведь тоже рубят елки в здешних окрестностях. Покупать жиденькие елочки у государства она отказалась по многим причинам. Обойтись полиэтиленовой елкой тоже. Назревал конфликт.
Вернувшись с пустыми руками после беготни за миндалем, Зенкович обнаружил, что «просмотровая зала» полна дыма. Нарушив запрет Груза, Ив затопила камин и убедилась, что он зверски дымит. Посреди залы кособочилась несчастная елка. Ив производила браконьерскую операцию в сумерках и при этом сильно побаивалась милиции: все это заметно отразилось на достоинствах дерева и качестве заготовительных работ.
Зенкович грустно покачал головой и сказал, что он не одобряет подобного зверства. Ив отшвырнула в сторону поленья, крикнула что-то непонятное и выразительное, потом исчезла надолго в недрах обширного грузовского дома.
Огорченный Зенкович лег спать, с чувством безнадежности размышляя о том, как, в сущности, мало английских матерных слов ему удалось усвоить за долгие годы учебы… Он проснулся в середине ночи и заметил, что спит один. Шаркая ночными туфлями (как и пижамы, они подверглись жестоким преследованиям, так как Ив считала, что ходить босиком и натуральней и не в пример гигиеничнее), Зенкович обходил многочисленные комнаты грузовской дачи. Ив он нашел в кабинете самого Груза. Она мирно спала в постели престарелого сценариста, накрывшись его солдатским одеялом. Зенкович был взбешен (позднее, однако слишком поздно, он сообразил, что именно на такой эффект рассчитывала его возлюбленная).
— Как ты можешь? — закричал он. — На чужой постели? На чужих простынях?
— А что такого? — сказала она невинно.
Вне себя от ярости, он выдернул ее из постели.
— Хорошо, — сказала она, стоя совсем голая посреди кабинета. — Хорошо. — И направилась в спальню Грузов. Там еще со времен великого режиссера стояло огромное красного дерева царское ложе с высокой спинкой, на четырех дубовых столбах. Здесь Зенковичу было труднее настигнуть Ив. Борьба на феодальном ложе закончилась неожиданными объятиями. У Зенковича осталось впечатление, что инициатива принадлежала Ив, хотя она и расцарапала ему спину. Впрочем, он не мог бы сейчас сказать наверняка… Они лежали притихшие, и она вдруг стала рассказывать о своем детстве. У ее мамы были очень толстые грубые подштанники, каких давно уже никто не носил в цивилизованном Квинсленде. Ив со старшей сестрой стащили эти подштанники и за два пенса с рыла тайком показывали их одноклассникам. Зенкович постарался грубоватой шуткой отогнать ужас, в который поверг его отчего-то невинный этот рассказ.
— Больше показать было нечего? — спросил Зенкович.
— Было… — Ив хихикнула. — Я в первом классе была — одни мальчик попросил меня показать пипиську. За это он обещал мне отдать белого мышонка.
— Не обманул? — грустно спросил Зенкович.
— Нет, не обманул. Только мышонок у меня убежал… Так жалко…
— Хорошо хоть пиписька осталась, — пробурчал Зенкович, засыпая.
А утром Ив заявила, что без рождественского пирога все-таки невозможно, а пирог этот нельзя печь без миндаля, раз миндаль упомянут в поваренной книге, так что она сама отправится в Москву на поиски миндаля. Зенкович большими буквами написал ей на бумажке — «миндаль», после чего Ив отправилась в самостоятельное путешествие.
Зенкович остался один в доме. Он попытался работать и убедился, что вчерашний скандал выбил его из колеи. Он бесцельно бродил по огромному дому, пытаясь представить себе, чем занимается здесь Ив целыми днями, пока он пропадает в городе. О чем она думает? Что она там пишет? И пишет, и пишет… Вот в этом кресле сидит она каждый вечер, когда он возвращается из города, — пишет письма и открытки или корябает в большой розовой книге, прошитой проволокой. Зенкович рассеянно взглянул на кресло и увидел вдруг эту розовую книгу. Она торчала из-под наваленной в беспорядке одежды, и Зенкович подумал, что, вероятно, Ив, убегая, в спешке запрятала ее под одежду, а он эту одежду сдвинул… Зенковичем овладело непреодолимое желание хоть одним глазком заглянуть в эту заветную книгу, с которой она расстается так редко. Просто подглядеть наугад, хоть два слова…
Он открыл книгу и обмер. Звучное английское слово, вполне соответствующее не менее звучному, а может, и более хлесткому русскому слову, обозначающему женский орган, извечное средоточие греха и срама, было начертано трижды посреди страницы — «кротч», «кротч», «кротч». Вероятно, английское слово звучало менее непристойно, чем русское. От частого употребления в книгах, на сцене и на экране самые подзаборные английские слова мало-помалу утратили свою элементарную непристойность, однако самый факт этого писания, самая картина повергла Зенковича в ступор: он представил себе, как она сидит целый вечер, мечтательно обратив взгляд к темному окну, как она грызет авторучку и время от времени, склонившись над розовой книгой, выводит в ней — «кротч», «кротч», «кротч».
Оправившись от изумления, Зенкович стал лихорадочно подыскивать объяснение странному тексту. Нет, нет, прежде всего он должен напрочь отказаться от этой русской особенности восприятия. По-английски это почти что и не было непристойностью. Это было точное, конкретное и вполне дозволенное обозначение анатомического центра ее земных наслаждений: именно так обозначали его сегодня писатели, пишущие по-английски, все писатели, не только Генри Миллер или какие-нибудь там битники. И все же… Что могло означать это упрямое повторение?
Зенкович стал возбужденно и лихорадочно листать заветную книгу, бормоча при этом: «Да, да, миленький, джентльмены не листают чужих записей, но, радость моя, часто ли джентльмены встречают этакое и попадают в подобную ситуацию?»
Это было поразительное чтение. Зенковичу не сразу удалось установить связь имен и событий, описанные ею переживания и мужчин-героев… Он понял только, что переживания эти были чисто сексуального порядка. Забвение страсти… Механика акта. А потом — тоска по возлюбленному. Зенковичу не везде удавалось понять, по какому из возлюбленных. Зато описания того, как его невеста млела, таяла, изнывала от желания или умирала в оргазме, были не лишены выразительности. Боль пронзала ее организм, рвала на части ее бедное влагалище (это приносило новое ощущение и потому заслуживало отдельной записи). Наиболее памятные оргии тела были описаны ею подробно и многословно. Зенкович вынужден был признать, что все эти изнуренные, осунувшиеся лица, все эти ошалелые от страсти глаза, плывущие над ней в тумане, произвели на него некоторое, довольно макабричное, впрочем, впечатление.
Мысль, которая мучила его при этом, была прежде всего о том, зачем все это было написано, что это могло означать. Попытка остановить ускользающее наслаждение? Опыт литературного подражания? Нежелание потерять для высокой беллетристики свой собственный богатый, отчасти, вероятно, для этого и добываемый сексуальный опыт?
Зенкович обнаружил записи, которые касались его персоны, и с разочарованием отметил, что записей этих не так много. Однажды он причинил ей не изведанную еще боль, войдя сзади (а следовательно, внес разнообразие в их половую жизнь, обогатил ее опыт). Он имеет обыкновение гладить ее ноги, когда она переступает через него, ложась к стене. Как-то вечером он печально сказал ей, что он уже старик, и она отметила в дневнике правдивость этого замечания, его щемящую искренность (так тебе и надо, осел, в твоем возрасте уже не следует кокетничать возрастом). В среду он нежно погладил ее пальцем… А вот пятница — он совсем забыл погладить ее пальцем, лихорадочно сорвал с нее одежду… Она часто писала о своей нежной и печальной красоте: что будет она делать, когда увянет ее лилейная шея…
Зенкович захлопнул книгу и тут же опять раскрыл ее, пытаясь снова отыскать особенно поразившие его места: и это — когда лицо его исказилось от страсти, и то — как семя текло по ее ногам, по животу, а бедная ее «кротч», пронзаемая тысячью игл… О Боже!
Здесь было много описаний того, что опытные ораторы называют «текущим моментом». Вот она сидит в кресле, а снег падает за высокими стрельчатыми окнами дачи. Она в поезде, и странный мужик напротив нее ковыряет в ухе… Еще один, в метро, — пожирает ее глазами…
Зенкович запихнул розовую книгу под разбросанное тряпье (он столько раз подбирал эти прозрачные штанишки на обеденном столе, в коридоре, в кухне, хорошо хоть они обрели наконец место в комнате), вышел в «просмотровую залу», присел у холодного камина и закурил. Подумал, что он, в сущности, все время ждал каких-либо открытий в этом духе: слишком уж велика была неизвестность, слишком глубоко его непонимание. И все же он не угадывал именно этого — потока эротики, странной сосредоточенности на жизни одного-единственного, такого милого, но все же вполне скромного на вид органа ее тела. Он признался себе, что ожидал более страшных разоблачений из ее прошлой жизни. Он не мог бы сказать, чего именно он ждал. Там в Англии она могла, например, состоять в шайке грабителей или в клубе наркоманов.
Что означают, однако, ее записи? Без сомнения, здесь налицо литературный зуд. Генри Миллер и его последователи раскрепостили слово и описание. Конечно, английские эквиваленты русского «е. ть» или «п. да» больше не могли шокировать английского читателя, однако в умелых сочетаниях еще могли его щекотать. Ныне прямота выражения ушла в личную переписку читающей публики. При умелом употреблении эти слова стали давать пишущим то же ощущение мастерства, какое в прежние времена, вероятно, давали удачные каламбуры, цитаты, описания природы или словесные портреты…
Зенкович со смесью облегчения и досады подумал, что записи эти совсем немного рассказали ему о подлинной Ив. Ну да, он знает теперь, над чем она бьется, когда грызет ручку долгими вечерами. Знает о ее отношениях с тем «другим», у которого пятиэтажный дом, и с тем, который дал ей работу, и еще с тем, который подарил фотокамеру. Но он и раньше догадывался о специфике мужской благотворительности по отношению к молодой и хорошенькой женщине. Здешний немудреный опыт подсказывал ему эти догадки. Он знает теперь, о чем она думает, сидя в поезде или в компании его друзей… Однако он не знает по-прежнему, что есть Ив, кто это прелестное, синеглазое чудище из далекого, странного мира. Да, результат умопомрачительного чтения, кажется, невелик. Все это не имеет значения. Ну а что имеет значение? Зенкович ощутил, что вступает на странную территорию, где реальные факты теряют вес и цену. Может, именно об этом она говорила в тот вечер, настаивая, к раздражению его друзей, на том, что русские прочнее стоят на земле, чем интеллигенты Запада… Тьфу, при чем тут Запад? И при чем тут интеллигенты? И при чем тут земля?
Зенкович не заметил, как зала погрузилась в сумрак. Раздался нетерпеливый стук по оконному стеклу. Вернулась Ив. Она не достала миндаля. Теперь он, Зенкович, должен обязательно достать кардамон. Об этом сказала ей по телефону подруга из Квинсленда. Да, вот: назавтра они приглашены в гости к этой подруге. Будет настоящий квинслендский барашек, чудо из чудес.
Пока, в предвкушении завтрашнего барашка, Зенкович сварил для нее манную кашу, экзотическое русское блюдо, которое она опять ела с большим удовольствием и похваливала.
После каши они принялись за труд любви, и крепкий сон вознаградил Зенковича за его усердие.
Утром Зенкович приготовил на завтрак яичницу, однако Ив, понюхав ее и поковыряв пальцем, сказала, что такую яичницу не ест. Затем она неторопливо обнюхала все кастрюльки и тарелки с едой и сказала, что этого вот она не терпит, того не любит, а вот это уже, вероятно, протухло. Зенкович объяснил, что так не принято делать у них, в Старом Свете: хочешь — ешь, не хочешь — не ешь, зачем же тыкать во все пальцем и хулить.
— Кроме того! — сказал он, раздражаясь все больше. — Ты могла бы и сама что-нибудь приготовить. Или хотя бы подать на стол…
После завтрака он долго не мог сосредоточиться на переводе — думал о ней. В чем дело? Отчего же она сидит вот так без дела… Вероятно, это его вина, рядом с ним всякая женщина становится бездельницей, садится ему на шею, как бывшая жена… А вдруг… Ему пришла мысль, что, может быть, он просто уснул вчера до срока и теперь она вымещает на нем свое неукрощенное беспокойство. Это было очень здравое, вполне реалистическое соображение. Однако оно его не утешило.
Вечером они отправились к квинслендским друзьям Ив. Так Зенкович в первый раз за свою жизнь вступил на запретную территорию, где проживали не наши, заграничные люди, более того — дипломаты. Зенкович не сомневался, что в стены и в мебель этой не по-нашему роскошной квартиры вмонтированы самые новейшие и самые чуткие микрофоны. Это было лишь одной из десятка причин, мешавших ему чувствовать себя здесь хорошо. Правда, время от времени его посещала веселая мысль, что микрофоны, конечно, неисправны, а ремонтники сачкуют, зная, что будет не с кого получить рубль за ремонт.
Дженни, подруга Ив, жена видного посольского чиновника, была длинноногая, симпатичная, широколицая, держалась с шикарной простотой и доброжелательностью. Сам дипломат был образцом благородства и хороших манер. В целом же делать у них Зенковичу было совершенно нечего.
Что касается Ив, то она с университетских лет дружила с Дженни и всегда считала себя при этом более яркой, более талантливой, более красивой и непредсказуемой.
А между тем именно Дженни была на сегодняшний день замужняя дама и хозяйка роскошного дома, а также благодетельница Ив. В этих тяжких условиях Ив должна была сохранять и достоинство, и превосходство, и дружбу. Список благодеяний Дженни был бесконечен, так что первой задачей для Ив было сбросить с плеч тягостное чувство благодарности, стать неблагодарной. Зенкович с ужасом отметил, что это не составило для нее труда. За что, собственно, быть им благодарными, этим серым, нудным людям, для которых ее, Ив, дружба — награда? Эти люди богаты, так что жертвы для них ничего не значат. Кроме того, им нечего делать. А кроме того, им нужно же, помогая кому-нибудь, облегчать свою совесть богачей. Зенкович, впрочем, не заметил, чтобы люди эти мучились угрызениями совести или ощущали так остро свой долг богачей по отношению к бедной Ив. Более того, Зенковичу показалось, что рассуждения Ив — очень удобное мировоззрение для хиппи-путешественницы: переночевала у одних, поела у других, переоделась в новое платье у третьего и двинулась дальше, исполненная трогательной неблагодарности. А что такое благодарность вообще? Неизвестно. Так зачем же отягчать себе душу этим никчемушным, чаще всего так и нереализуемым смутным побуждением, столь характерным для этих унылых русских, щепетильных евреев и вовсе уж помешанных на благодарности русских евреев?
Квинслендский барашек оказался вполне съедобным, однако гастрономические ощущения никак не компенсировали Зенковичу все возрастающего чувства неловкости. В начале вечера хозяева затеяли с Ив спор о свободе воли, и Зенкович был немало удивлен, что они с такой привычной легкостью оперируют терминами, на которые он с его врожденной нелюбовью к абстракциям никогда не решился бы. Потом он утешил себя мыслью о том, что, окажись здесь кто-нибудь из его соучеников по университету, они могли бы лихо поспорить о надстройке и базисе, удивив терминологией этих великовозрастных детей. Главное было бы удержаться при этом от смеха. Что ж, у этих людей, которые спорили сейчас с таким серьезным видом, была другая школа, метафизическая… Зенкович подумал, что спор о надстройке и базисе произвел бы на них, вероятно, немалое впечатление — как-никак это были высоты современной левой мысли, а не быть левыми в их возрасте и положении неудобно. Запивая барашка сухим вином, Зенкович вполуха слушал спор, перекатывал во рту насмешливые фразы и оставлял их про себя — он не успевал приготовить их вовремя. А потом хозяйка вдруг обратилась к Зенковичу с вопросом, от которого барашек застрял у него в горле. Взглянув на него прекрасными, слегка раскосыми глазами, она спросила, не думает ли он, Зенкович, что его страна еще очень далека от коммунизма. Честно говоря, последние лет пятнадцать подобные размышления не приходили Зенковичу в голову. Он стал лихорадочно рыться в памяти, вспоминая, что же он думал об этом раньше, лет пятнадцать назад, но и там всплывали только фразы и лозунги. Один из них, огромный, аршинными буквами, стоял на горе в таджикском городке Нуреке. Он торжественно заявлял, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Второй был связан в его памяти со множеством пейзажей. Он лаконично утверждал, что победа коммунизма неизбежна. Или неотвратима. Зенкович задумался, с какого лозунга ему лучше начать и нельзя ли вообще избежать дискуссии. Не дождавшись ответа, хозяйка с жаром сказала, что, по ее мнению, Китай более последовательно идет к коммунизму и достигнет его раньше. Зенковичу всегда казалось, что ему не жалко Китая. Его дело — жалеть Россию. Однако его покоробили спекуляции красивой дамы из сытенького Квинсленда. Зенковичу представилось огромное, почему-то желтое, будто на карте, пространство, населенное полуголодными и запуганными людьми, отданными на милость верхушке, где происходит тайная и беспощадная борьба за власть.
— Участь Китая представляется мне ужасной… — сказал Зенкович серьезно.
— Хуже, чем ваша собственная? — не без ехидства спросила красивая Дженни.
Зенкович с тоской взглянул на толстенный дубовый стол, куда, по его расчетам, могло быть вмонтировано не меньше двух десятков микрофонов. Вспомнил выступление старого Бернарда Шоу в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Старик сказал им тогда, что испытывает на этой сцене сильное искушение запеть. Зенковичу тоже захотелось спеть что-нибудь безобидное или просто забиться под стол. Между тем Дженни перешла в наступление. Она сказала, что Зенкович распропагандирован, индоктринирован и находится в сетях советской пропаганды. («Вот сейчас-то у них, как назло, испортится микрофон», — с тоской думал Зенкович.) Что ему преподносят здесь выдумки о Китае. Она требовала, чтобы он немедленно объяснил, откуда это он знает, что в Китае все так ужасно. И с чего он взял, что можно верить советским источникам на этот счет? Зенкович понял, что положение его безнадежно. Ну как он объяснит этим серьезничающим детям, что он знает, испытал все это или почти все? Что он пережил этот Китай в своем сердце. Что еще носит его неизжитым в печенке. Как он объяснит им, что он не может, не хочет заливаться соловьем перед их микрофонами? Что ему неинтересен ликбез? Что ему тошно заниматься бесполезным делом их перевоспитания — пусть этим займутся китайцы? Что ему вообще скучны эти политические распри и даже барашек не дает им права…
Зенкович отодвинул барашка и сказал, что читает иногда журналы, издаваемые в Китае, и что эти журналы многое говорят его чувствительному сердцу. Вот и все, пожалуй….
Здесь на помощь ему неожиданно пришла Ив. Она с тыла совершила налет на лживую буржуазную демократию и западный образ жизни, изобличила неравенство, вскрыла язвы, вступилась за неимущих… Все вместе было чудовищной пародией на памятные Зенковичу институтские семинары по марксизму и политэкономии, особенно такие, на которые все пришли неподготовленными и теперь говорят что попало, желая дотянуть до звонка. Муж Дженни доблестно сражался, отстаивая западную демократию, всеобщее избирательное право, свободу печати и высокий жизненный уровень современного квинслендца. Его рассуждения были безупречными и смехотворными. Тем не менее он быстро расквитался с Ив и, нанося последний удар, темпераментно спросил, во что же она верит, если не верит в бесплатное здравоохранение, высокие заработки ее соотечественников, в их демократические свободы?
— В синее небо, — сказала Ив нежно и мелодично. — В красное солнце.
«Так тебе и надо, дурак, — подумал Зенкович. — Не будешь спорить с женщинами».
Он погладил под столом ее коленку, отметив при этом, что колготки у нее рваные.
Западные друзья провожали их до дверей, приглашали заходить почаще, и Зенкович кивал обреченно, разглядывая стены и мебель, совершенно ненадежные на предмет установки в них звукозаписывающей аппаратуры; абсурд и безнадежность были во всем сегодняшнем мероприятии, в ужине, в спорах, в новом приглашении… Господи, зачем это все мне? И что дальше?
Но потом Ив нежно обняла его в лифте, дверь лифта открылась вдруг, они вышли на каком-то этаже, непонятно каком, и застыли перед стеклянной стеной на площадке лестницы, может, на той же самой, что и прошлой весной; рука ее проворно и ловко скользнула к нему в брюки, они забыли на миг о своем правовом и географическом положении…
— Ив! — прошептал он. — Ив… Дуреха… Международница…
— Сьоми… Поближе, Сьоми… Сюда…
Глава 4
Они прожили больше месяца на даче Груза, а подтверждение ее свободы из Квинсленда все не приходило. Муж Дженни солидно объяснил, что чиновники всех ведомств не работают под Рождество и что они не сразу раскачаются после Рождества.
Зенкович пытался ввести их жизнь в колею. В те дни, когда ему не нужно было ехать в город, он работал с утра, потом готовил обед, потом занимался с Ив русским языком. Занятие это становилось все более мучительным и бесперспективным. В одноязычном Квинсленде не было, вероятно, склонности к изучению иностранных языков и нужды в этом. Объехав полсвета, Ив не запомнила и дюжины слов на каком-либо иноземном языке. Вероятно, языки ей не давались. Кроме того, она оказалась неприспособленной к регулярным занятиям. Оправдывая свою лень, она изобретала множество хитрых отговорок и в эти мгновения была еще более, чем всегда, похожа на ребенка. Она заявляла, что Зенкович плохой учитель, что он не смог заинтересовать ее, что он не смог объяснить, «что означает для него самого русский язык», не смог дать ей в двух словах «сущность языка».
Зенковича охватывало чувство безнадежности. Все более безнадежным казался ему и его собственный английский язык, которым он всю жизнь гордился. Ведь после стольких лет учебы он так и не понимал быстрой английской речи. И ничего не понимал, если собеседники не принимали его в расчет или старались, чтобы он понял как можно меньше. Собственная его английская речь, как он убедился, не была приспособлена для выражения нюансов чувства и мысли. Зенкович с раздражением думал, что по-английски он говорит не только грубее и примитивнее, но еще и гораздо глупее, прямолинейнее, догматичнее, чем по-русски. Исчезали оттенки юмора, ирония, самоирония, спасительная дистанция между человеком и словом. Он был другим человеком по-английски и переживал унижение из-за своего бессилия, неспособности пробиться через барьер чужой языковой стихии.
В конце концов их занятия с Ив тоже зашли в тупик, и Зенкович пообещал ей найти «настоящего» учителя. Пока же она делила время между чтением Достоевского, прогулками по лесу и писанием писем. Последнее занимало в ее жизни столь значительное место, что Зенкович поневоле задумывался — что же оно значит, это эпистолярное пристрастие, это скрупулезное описание мельчайших событий и пейзажей, собственного состояния и даже самого процесса писания писем (весьма внушительная часть любого ее послания — «давно вам не писала», «пишу наспех», «пишу, сидя в кресле, поджав колени», «сегодня уже написала туда-то»…). Зенкович пришел к выводу, что писание писем входит в систему ее экзистенциального мироощущения. Чтобы лучше осознать, прочувствовать данный миг бытия, она должна непременно зарегистрировать его письменно. Всякий факт ее жизни — будь то сексуальное переживание или посещение музея — словно бы терял для нее всякую ценность, если не запечатлеть его в письме или открытке. Зенкович подумал, что путешествия ее по свету выглядят примерно так: переехала на новое место, осмотрелась, отослала открытку с местными видами — и можно ехать дальше.
Однажды, распечатав очередную пачку писем из дому, Ив дала Зенковичу два или три письма почитать. Первое было от ее «бедной, обнищавшей матери» (так Ив любила ее называть). Здесь было перечисление отосланных в прошлом и позапрошлом месяце маленьких подарков, сюсюкающее описание садика, бесконечные жалобы на нужду: вот, на прошлой неделе у нее кто-то одолжил на два дня фургон, а ездить на маленькой машине почему-то было неудобно, так что старушка была целых два дня почти что безлошадной («карлис», Боже ее сохрани). К тому же из-за ужасных расходов ей пришлось до двух раз в неделю сократить визиты наемного садовника (все те же тюльпанчики в саду). Вторым было письмо закадычной подруги Ив, Зенкович читал его с неослабным обалдением. Подруга рассказывала, что вчера они с Джеком были в гостях, а когда вернулись, начали под деревом «делать любовь» (этих людей нельзя было обвинить в ничегонеделании). Успешно завершив акт, они с Джеком взяли немножко спермы и стали рассматривать ее под микроскопом. Ох, это было волнующее зрелище! Маленькие проходимцы суетились, скакали, сталкивались лбами, боролись… Зрелище было настолько вдохновляющим, что подружке Ив захотелось немедленно завести ребенка…
Вскоре после Рождества невестой Зенковича овладело мучительное беспокойство. «А что, если эта бумажка из Квинсленда не придет вообще?» — сказала она однажды. Что, если ей придется уехать из России навсегда? А она еще так мало видела здесь, почти совсем ничего не видела… Она завела будильник, поставила его на шесть утра и, встав затемно, стала собираться в дальнюю дорогу. Она сообщила Зенковичу, что поедет далеко-далеко. Он сквозь сон пожелал ей доброго пути, но потом вдруг забеспокоился, и сон покинул его. Он встал и предупредил ее, чтобы она не заезжала дальше, чем положено иностранцам (черт его знает, сколько им положено?). Он специально предупредил ее, чтоб она не вылезала на станции Дрюбино, там какой-то объект, про который им не положено знать (черт его знает, про что им можно знать?). После ее стремительного ухода Зенкович вернулся в постель и попытался успокоить себя. В конце концов, почему это он еще должен осуществлять охранительные функции? Почему? Пусть кто-то этим занимается, кому положено. Сам он будет держаться в рамках… Вот и все. Однако он уже взял на себя эти функции и выполняет их весьма рьяно. Что же им движет при этом? Как что? Желание сохранить хотя бы то немногое… Что немногое? О Боже, чего там объяснять — им движет страх. А страх не нуждается в обоснованиях. И что значит — он будет держаться в рамках? Он наверняка уже вышел за рамки. И кто знает — каковы эти рамки? Сколь широки они? Когда-то было точно известно, что ничего нельзя. Сказано четко и ясно. Удивительно ли, что столько пуганых с ностальгией вспоминают сегодня то четкое, ясное время универсальной запретности…
Зенкович понял, что не сможет больше уснуть. Он встал, оделся. Работа не клеилась. Он бродил по дому, осаждаемый страхами. «Что она может натворить?» — в ужасе спрашивал он себя. И отвечал себе, что она может натворить что угодно. В этом мире, кроме Него и кроме Нее, которым так трудно договориться, были еще неведомые Они, про которых принято было говорить с опасением и обреченностью. «Они не разрешат», «Им все известно». Зенкович всегда старался держаться подальше от Них, вести себя так, словно Ему нет до Них дела. Но он, конечно, не хотел, чтобы Им было до Него хоть какое-нибудь дело. Нынешняя ситуация была неприятна тем, что могла разрушить эту его мифическую, им самим придуманную независимость.
Темнело… Зенкович зажег свет. Ему не работалось. Он бродил по даче, пытался читать. Потом вдруг начал перебирать бумаги на ее столе, словно они могли дать ему ответ — где она сейчас и что делает. Что еще она придумает в будущем? Разрозненные листки с уроками русского языка, упражнения, изобилующие ошибками (число этих ошибок не убывает, а растет день ото дня — полная безнадега), обрывок какого-то ее письма, вероятно, черновик (она ведь переписывает свои письма по многу раз). Он пробежал глазами начало письма и обмер: «Мы живем теперь на даче, где нас с Семи не видит КГБ. Мы с Семи полагаем, что нам удалось очень ловко их провести». Боже! Боже! И эту белиберду она сообщает старушке матери, которой эта информация, конечно, совершенно необходима. Она обклеивает конверты красивыми марками и сует их в почтовый ящик. А потом, о Боже, они передвигаются медленней, чем в XVII веке, эти письма, медленней, чем при Андрее Виниусе и ямской гоньбе… Для чего-то же их там маринуют… А что значит «мы с Семи»? Семи, голубушка, еще с детства приучен думать, что Их не проведешь, что они знают все… Семи вырос в кафкианском мире вечной вины перед Ними, в оруэлловском кошмаре озвученных кустиков, и если он под старость предпринял такую вот эскападу, то это вовсе не значит, что он хотел бы, чтобы ты семь раз в неделю бросала в ящик такие вот фантастические отчеты о подрывной деятельности Семи…
Интересно, сколько таких писем она успела написать и отправить?
Зенкович стал лихорадочно рыться в ворохе бумаг и, на счастье — ничего себе счастье! — нашел черновик еще одного ее письма к матери. Здесь ничего не было про него. Зато Зенкович с ужасом обнаружил, что любознательная старушка из квинслендской глуши могла почерпнуть из этого письма множество сведений о его друзьях. Здесь сообщалось, например, что «инженер Гриша не согласен с правительством по поводу низкой зарплаты, которую ему платят». Боже мой, бедный Гриша, если бы он прочел… И если бы Они прочли… Что значит «если» — конечно же Они прочли! Строго говоря, тут нет ничего особенного. Можно и так догадаться, что Грише не нравится маленькая зарплата, а нравится чуток побольше. Однако зачем она нужна Грише, такая реклама? Зенкович, конечно, в ответе за это перед Гришей и другими — это он привел ее к друзьям.
Ну а он сам, каково ему?
Он бродил по комнатам, то приходя в ярость, то теряя силы от безнадежности и бессилия сделать что-либо… Как он может ей объяснить? Да и потом — унизительно это все объяснять…
Она вернулась поздно, ее синие близорукие глаза светились торжеством. Все в порядке. Она ехала долго-долго, среди белых полей. Потом она познакомилась в поезде с русской девушкой, учительницей по имени Фира, и та пригласила ее в гости. Вот адрес. Зенкович взял в руки бумажку и взвыл от ярости: это была, конечно, станция Дрюбино, широко известный, сугубо секретный и как бы никому не известный объект.
— Ты не поедешь! — закричал он.
Он знал, что проиграет сразу, и она действительно тут же встала на дыбы.
— Поеду, — сказала она. — Все равно я поеду…
Потом он сказал ей о письмах. Что так нельзя. Он убеждал ее, умолял, и в конце концов она согласилась пойти на компромисс. Она сказала, что пошлет свои новые письма дипломатической почтой, в «дипломатическом мешке» — уж там-то наверняка никто не прочтет. Решение это придало ей новую энергию. Назавтра с утра она написала целую кучу писем, запихнула в конверт и сказала, что перешлет их по почте в квинслендское посольство, откуда они полетят за океан «в мешке».
— Я сопроводила их запиской к моему знакомому в посольстве.
У него не хватило сил на продолжение дискуссии. Он только попросил показать ему сопроводительную записку.
— Не покажу.
— Покажи.
— Хорошо. Читай!
Зенкович, уже разворачивая записку, начал злиться на себя: на черта ему эта записка? Но там было сказано следующее:
«Дорогой Джонни! Семи говорит, что КГБ читает мои письма…»
— Ты что, с ума сошла? Я что, говорил тебе, что КГБ читает твои письма? — заметался Зенкович. — Я говорил, что твоей маме не нужно знать, какие у Гриши разногласия… Вообще, у Гриши нет ни с кем никаких разногласий. Гриша рот боится открыть. И какого черта твоей маме…
— Ага! — воскликнула она с торжеством. — Ага! Ты прочитал мое письмо к маме! Ты сам как КГБ. Ты хуже КГБ!
«Да, я хуже, — уныло подумал про себя Зенкович. — Я не разрешаю ей писать то, что не разрешили бы Они, если бы она брала у Них разрешение… Но Они могли бы и не заметить, проявить небрежность, а я… Боже, да пусть она пишет все, что ей вздумается…»
Это решение отчего-то успокоило его на время. Он пошел на кухню готовить ужин. Однако там, оставшись в одиночестве, Зенкович снова пришел в возбужденное состояние. Да неужели она никогда ничему не научится? Отчего она должна ставить под удар его друзей, его самого? Он отговаривал ее, пока она не уснула.
Наутро Ив все-таки удрала в Дрюбино к русской девушке по имени Фира. Она наотрез отказалась показать Зенковичу адрес и фамилию этой девушки. «Ты просто ревнуешь», — сказала она, напомнив Зенковичу, что вдобавок ко всем прочим страхам он должен еще и ревновать. Он должен, просто вынужден ревновать, ведь она молода, красива, экзотическая, заокеанская птичка в снежной стране, а новая любовь — это ведь так естественно и так просто… Но Зенкович на сей раз не ревновал, еще не ревновал. Просто он был уверен, что эта странная учительница из Дрюбина носила имя Елизавет Воробей… Он пережил мучительный день ожидания, один в огромной пустынной даче со своими страхами и мыслями о сегодняшнем и, главное, — о завтрашнем дне: что будет, что будет дальше, как я смогу…
Ив вернулась не поздно. Вместе с ней приехала девушка Фира, учительница музыки из Дрюбина. Фира разговорилась с Ив в электричке. Она была счастлива, что ей удалось сохранить остатки своего школьного английского («Учительница всегда хвалила меня в средней школе…»). В благодарность Фира решила научить заморскую девушку готовить русские пельмени и украинский борщ, а также квасить капусту. Фира села за рояль в «просмотровом зале» и стала играть русскую песню «Катюша» («Катюша» — это самая знаменитая песня на свете, ты должна знать ее, Ив. Отчего же она тебе не нравится, если это лучшая русская песня? Ну повторяй за мной: «И бойцу на дальнем пограничье…»). Нет, эта Фира была, пожалуй, не Елизавет Воробей. «А раз так, она должна будет испугаться», — подумал Зенкович: он не мог простить ей этого дня треволнений. Зенкович спросил у Фиры, можно ли иностранцам в одиночку посещать Дрюбино. Она стушевалась и вскоре стала прощаться. Зенкович принял седуксен и лег спать.
Проснулся он среди ночи, потому что Ив дергала его за причинное место.
— Что же это такое? — заговорила она плачущим голосом, убедившись, что он проснулся. — Сам говорил, что любишь меня, а сам уснул и не хочешь заниматься любовью… У меня в жизни такого не было… Сам говорил, что любишь…
Зенкович хотел пошутить. На мгновение ему показалось, что нечто весьма остроумное приходит в голову, однако сон не отступил, и это нечто остроумное завязло в трясине сна. Зенкович закрыл глаза и еще некоторое время слышал, как негодовала Ив. В конце концов стало тихо. Она забрала одеяло и ушла куда-то.
«Пошла небось в кабинет Груза… — сонно подумал Зенкович. Но даже мысль об этом нарушении правил не смогла разбудить его окончательно. — А может, и нет… Может, она просто займется онанизмом… — Он припомнил фразу из ее недавнего письма к Тому: „Мастурбирую перед твоей фотографией…“ — Мастурбирую так мастурбирую… В кабинете так в кабинете… Эти люди умеют любить», — сонно подумал Зенкович. Он сладко потянулся, свернулся калачиком. Седуксен избавил его от тревог.
Наутро Зенкович постарался возместить Ив недоданное вчера и даже отчасти преуспел в этом. Однако он видел, что она не простила ему вчерашнего. Позднее, лежа почти до полудня в усталой дреме, Зенкович думал о том, что она, вероятно, права: никто не сможет возместить нам потерь ушедшего дня, и нечего откладывать на завтра, уповать на будущее — у будущего свои задачи и свои радости…
К полудню у Зенковича заболело сердце. Он имел неосторожность рассказать об этом Ив. Она проявила крайнюю враждебность к этой новой, совершенно непростительной, с ее точки зрения, демонстрации физической слабости. Ив передала ему то, что ей не раз говорили друзья из квинслендского посольства: отличительной и наиболее отвратительной чертой русских является ипохондрия. Одна русская женщина, работавшая в посольстве, позвонила однажды на работу и сказала, что «у нее сердечный приступ». Квинслендский персонал смеется над этим звонком уже полгода, потому что сердечный приступ — это когда человек умирает. Зенкович знал, что Ив тотчас напомнит ему и злосчастную историю с придатками, — их бесплодный спор, который тянулся добрых две недели, истощил нравственный потенциал Зенковича и в результате ни к чему не привел. Зенкович предупредил Ив однажды, чтоб она не сидела на снегу. Он заботливо, как подобает будущему мужу, предостерег ее от «женских болезней», то бишь от воспаления придатков. Он не знал, как это будет по-английски, и объяснил как мог, сославшись на печальный опыт своей бывшей жены. В ответ на эту заботу Ив хладнокровно разъяснила ему, что такой болезни, или таких болезней, не существует в природе. Что же касается прежней жены, то она просто морочила его, — вероятно, у нее были аборт или триппер. Дотошный Зенкович привлек на свою сторону столичные медицинские силы для доказательства своей правоты. Это вынудило Ив к внеочередной поездке в город. Вернувшись, она с торжеством объявила ему, что такой болезни действительно не существует. Все ее квинслендские друзья и даже доктор британского посольства, взвесив показания, пришли к выводу, что у русских женщин может случаться нечто подобное из-за антисанитарного состояния некоторых русских уборных. Зенкович опешил. Потом он решил, что они видели грязные станционные сортиры и предположили, что русские садятся в них на толчок голым задом. Вероятно, прогрессивному Квинсленду незнакома была традиционная сельская «поза орла». Но как же английская сырость и холода? Нет, нет, наверняка их женщины тоже… К счастью для Зенковича, Ив не вспомнила сегодня спор о женских придатках.
Однако не всегда ему так везло, как сегодня. Общаясь с Ив ежедневно и будучи почти единственным ее собеседником, Зенкович чувствовал, что он все больше проникается ненавистью к массовой информации и полуобразованию, которые становились для него почему-то специфической западной чертой. В спокойную минуту он понимал, что это скорее признак нашего времени или черта женская, к тому же присущая Ив, однако в пылу спора он видел лишь, как на него надвигается эта чужеродная волна слабоумия, и она казалась ему непохожей на привычное, отечественное слабоумие. Модных предрассудков у нее было множество: чаще всего они касались того, что «вредно» или «полезно» для человека, а также ее представлений о гигиене. Впрочем, иногда они уходили в сферы, далекие от ежедневных потребностей. Ив доказывала благотворность теорий доктора Лэнга о шизофрении, преимущества ночных «родов с улыбкой» или террористических акций, совершаемых различными экстремистскими организациями. Часть этих теорий она, без сомнения, почерпнула во время работы в документальном кинематографе. Политическими воззрениями она была обязана своим лондонским любовникам, и однажды в разгаре спора, чувствуя бессилие всякого опыта и всякой логики перед ее упрямым предубеждением, Зенкович вдруг заорал в ярости:
— Из какого пальца ты все это высосала?! Из какого грязного…
Он остановился вовремя, решив, что для них обоих будет лучше, если он спишет эти идиотские воззрения на счет западного, на худой конец квинслендского повального слабоумия. На счет моды и полуобразования. В своей прежней жизни он легко мирился с женской простотой и необразованностью и не мог понять, отчего так раздражает его сейчас тот факт, что эта маленькая головка нафарширована модными теориями и терминами.
Как-то по дороге со станции она попыталась всучить ему свою сумку с продуктами, вдобавок к двум, которые он уже волок на себе.
— Я устала… — сказала она жалобно, — психологически устала.
Это бессмысленное «сайколоджикалли тайэд», которым она хотела оправдать свою лень, на некоторое время стало для Зенковича символом ее абсурдного полуобразования.
Споры между ними перерастали в ссоры, ссоры в конце концов кончались объятиями, а они возвращали Зенковича к реальности: перед ним была развитая физическая и отсталая умственно девочка. В ее отсталости не было никакой патологии. Вероятно, это было привилегией ее пола, класса, времени, среды, раннего физического развития и еще Бог знает чего. Так или иначе, глупо было состязаться с ней в здравом смысле и образованности, спорить, скандалить, приходить в отчаяние. И все же после их примирения на душе у него всякий раз оставался смутный осадок тревоги и недовольства собой. Что будет дальше? Как они уживутся? К чему приведет ее ничегонеделание?
Между тем неторопливая бюрократическая процедура совершалась своим путем. Из Квинсленда пришло подтверждение, что девица Ивлин Уайт в браке не состоит. Зенкович вместе с Ив и своим престарелым отцом (это была непостижимая мера предосторожности со стороны брачных властей) съездили в городской Дворец бракосочетаний и подали там заявление о вступлении в брак. Им определили умеренный срок ожидания и дали приглашение на церемонию бракосочетания, точно назначив день и час, посоветовав, где заказать машину, купить фату и кольца…
— Это все? — удивленно спросил Зенкович.
— Все.
Конечно же он ждал от них всяких хитростей и уловок. Он ждал препятствий. А ему просто сказали прийти в такой-то день и получить свое сокровище навеки. На веки вечные. На муки вечные. На радость и муку. В том, что ему предстоят муки, он уже не сомневался.
Глава 5
Страх перед счастливым будущим, которое он выбрал себе с такой готовностью, перевешивал сейчас в душе Зенковича уже ставшие привычными немногие радости их совместной жизни. Этот страх порождал в нем, а может быть, и в ней постоянное раздражение и готовность биться за свои права. Зенкович вставал по причине бессонницы рано и сразу садился за работу. До полудня, когда просыпалась Ив, он уже успевал прийти в раздраженное состояние. Ив вставала, готовила себе отвратительно выглядевший, убогий завтрак и садилась за письма. Она существовала независимо, обособленно от него, в каком-то другом мире. В то же время (в отличие от его первой жены) она не собиралась предоставить ему полную свободу. Он должен был непременно включать ее во все свои планы. Она желала быть его спутницей в каждой из поездок, во-первых, потому, что у нее нет своих собственных дел, а во-вторых, потому, что она хочет ездить. С одной стороны, это радовало Зенковича: значит, он ей все-таки нужен. С другой стороны, призрак несвободы, с которым Зенкович сражался наяву и во сне всю свою сознательную жизнь, обретал в будущей семейной идиллии весьма реальные очертания. Зенковича несколько пугали и те изменения в его собственном характере, которые произошли или просто были им обнаружены во время совместной жизни с Ив. К примеру, он всегда считал себя неприкаянным бродягой-путешественником. Бродяжничество — это была его радость, его неоспоримая привилегия, выделявшая его среди всех друзей. С пятеркой в кармане он мог бродить по городам и весям, ночуя где попало, питаясь чем попало, преисполненный умиления по поводу красот природы и людской доброты. Он никогда не копил денег, не собирал ни икон, ни монет, ни старинного оружия. Он коллекционировал красоту мира, встречи, состояния… И вот он встретил наконец девочку, которая с таким умением, почти что в мировом масштабе осуществляет эту его жизненную программу. Так отчего же встреча эта не умиляет его? Более того, он испытывает раздражение при виде этих бесцельных странствий, ее безответственности, постоянной жизни за счет чужой доброты, ее неприкаянности и никчемности, вечного ожидания помощи от других людей, расчета на эту помощь… Почему это раздражает его?
Он, который всегда эпатировал друзей своей небрежной неконформностью, при встрече с ней вдруг начинает искать прибежища в надежных и старых ценностях, цепляется за первое, что может спасти его от ее разрушающей неустойчивости, — за работу, конечно, в первую очередь — за работу. В разгар их скандалов или рано утром, когда она еще спит, он в споре, в разладе с самим собой поспешно садится за стол и работает — переводит (все-таки, может, эти переводные книги нужны кому-то), пишет (удача или неудача, любовь или крах, но написанное им останется, может быть, «его найдет далекий мой потомок», найдет в виде книги или рукописи, какая разница, он не знает другой возможности реализовать себя).
Зенкович заметил, что Ив с уважением и с завистью относится к стуку его машинки. Часто ее начинало раздражать, что он так много работает.
— Ты как машина, — говорила она. — Как ты можешь быть настолько педантичен?
Он не отвечал, молча прятался в работу от нараставшего взаимного раздражения.
В то утро, когда ему позвонили из Бюро пропаганды, у них происходила безобразная ссора. Во время завтрака Ив, распахнув халатик, вдруг почесала правой рукой причинное место и сказала с зевком:
— Какой-то зуд у меня…
— Может, смазать? — сказал Зенкович.
— Пожалуй. Где у тебя крем, Семи? В туалете?
Ив вернулась из туалета, растирая на ладонях остатки крема. Потом потянулась к хлебнице.
— Ты руки помыла? — спросил Зенкович, с трудом сдерживая ярость. — Нет?
— Брось ты, — отозвалась Ив весело, — все эти ваши теории. Лучше бы поменьше лекарств пили. Не отравляли бы себя химией. Организм должен сам бороться с болезнями…
— Руки… — сказал Зенкович хрипло, когда она снова потянулась к хлебнице. — Пойди вымой руки.
Но Ив не хотела потакать его предрассудкам. Почему это она должна делать так, как у них тут принято. Это все предрассудки, и она не намерена…
— Вымой руки! — закричал Зенкович. Потом он схватил ее в охапку, отнес в ванную и там насильно вымыл ей руки мылом.
Бросив недопитый чай, он ушел в комнату. Сердце у него ныло. Он был зол на нее, зол на себя, проклинал все на свете. Надо махнуть на все рукой… Но как? На что? Предстояли долгие годы вот такого противоборства. Такой нервотрепки…
— Нет, нет, мне это не по силам, — малодушно повторял Зенкович, сидя за столом и тупо глядя на машинку. — Просто не по силам…
В это время позвонили из Бюро пропаганды. Ему предложили поехать на выступления с группой писателей. Конечно, за счет Союза, и не бесплатно, места там, сами знаете, интересные, соглашайтесь… Зенкович использовал обычно всякую возможность поездить по стране. Правда, выступления перед публикой он никогда не считал достойной тратой времени, однако в поездках этих можно было увидеть что-нибудь интересное, так что некоторая неловкость и неудобство окупались. А сейчас, услышав предложение уехать, испытал вдруг огромное облегчение. Он ведь всю жизнь так всегда поступал — уехать, сбежать от трудностей и неразрешимых проблем: пронесутся мимо тебя и под тобой тысячи километров пути, а потом, когда вернешься, забудешь, над чем ты здесь ломал голову… Уехать!
Зенкович дал согласие поехать и объявил об этом Ив. Он поедет, встряхнется, и, может быть, сон вернется к нему. Они отдохнут друг от друга немножко, обдумают свое поведение: нельзя ведь, чтобы так продолжалось… Ив сказала, что он глубоко ошибается. Она и не подумает оставаться здесь одна. Она поедет с ним. Или уедет в Лондон.
— Езжай куда хочешь, — сказал Зенкович беспечно, и ему стало страшно. Столько раз за последние недели приходил он к мысли, что совместное существование их невозможно, что будущее беспросветно, но сейчас, произнеся эту святотатственную фразу, всерьез испугался. Нет, нет, он ведь хочет ее, любит ее, наконец, ему жаль ее — вот она сидит у камина, свернувшись калачиком в кресле, в огромном пустом «просмотровом зале» грузовской дачи — такая красивая, такая одинокая и никчемная…
— Хорошо, — сказал он. — Я возьму тебя с собой. Только, пожалуйста… Я прошу тебя… Помни, что мы еще не оформили наше… наш… так что, вероятно, мы не имеем права… Точнее, я не имею права… Будем осторожны и благоразумны…
— Сьоми… Сьоми… — нежно прошептала она. А потом вдруг взглянула на него искоса. — А ты не обманешь меня?
Зенкович не сказал в Бюро пропаганды, что он едет не один. Они условились, что, приехав на место, он подыщет Ив частное жилье у друзей и тогда она приедет вслед за ним.
Вечером, купив билеты, он возвращался домой, на дачу. Он предчувствовал новые объяснения и споры. В нижнем вестибюле метро он услышал иностранную речь и обернулся. Необычайно серьезная девочка-гид толковала что-то молодым, упитанным иностранцам, обвешанным фото— и кинокамерами. Скорей всего, это были скандинавы. Они разглядывали мозаику и позолоту на потолке, обменивались замечаниями, до ужаса серьезными или непостижимо веселыми, и Зенкович, не понимая ни их веселья, ни их серьезности, вдруг ощутил острую досаду. На кой черт эти толпы с фотокамерами шляются из одного конца света в другой? О чем они думают? Что они могут понять или почувствовать, глядя на дурацкие мозаики и раззолоченный потолок станции, той самой, которую Зенкович помогал созидать еще в студенческие годы, в порядке общественной нагрузки? В последний раз он разглядывал ее лет пятнадцать назад. Тогда на потолке, в медальонах, менялись мозаики: популярные физиономии министров заменялись другими, обобщенно-незнакомыми… Это было в краткую эпоху «осознания вины»… Чем представляется ныне этим людям потолочная роскошь ненавистной станции? Вероятно, чем-нибудь вроде ханского дворца в Бахчисарае. И что они думают? Впрочем, какая разница? Почему вообще его, взрослого человека, должно интересовать мнение этих взрослых недоростков? Что могут они понимать, эти дети, в судьбе его города, в его, Зенковича, судьбе? Эти выкормыши сытой демократии. Эти поклонники автомобильной цивилизации. Эти обожатели Че Гевары и Мао…
Дома Ив заявила ему, что она не будет сидеть здесь и ждать его вызова. Она поедет с ним. Где будет он, там будет она. Зенкович понял, что ему не переспорить ее. Он сказал себе, что в ее аргументации есть последовательность. Что ее привязанность к нему трогательна… На самом деле у него просто не было сил спорить. Он сдался, махнул рукой, и ощущение безнадежности укрепилось в его душе.
Он взял для них билеты в тот же поезд, в котором ехали остальные, но только в другой вагон. Они договорились соблюдать осторожность, так, на всякий случай. Разложив вещи в своем купе, Зенкович оставил Ив и пошел к коллегам предупредить их, что едет в том же поезде. Ему с трудом удалось отмотаться от дружеской попойки и увлекательного спора о гонорарах. Возвращаясь, он увидел Ив в тамбуре. Она оживленно беседовала с грузинским парнишкой, прикрытым огромной кепкой. Парнишка ехал в соседнем купе и, насколько понял Зенкович, вез фрукты на продажу. Их разговор с Ив представлял собой экзотическое мычание на двух подобиях русского языка, прерываемое смехом. «В сущности, это для нее неплохая пара, — подумал Зенкович с досадой. — Во всяком случае, для дорожного приключения. Был ведь у нее в Лондоне какой-то матрос-африканец и какой-то террорист-араб». Зенкович подумал также, что с точки зрения профессиональной он мог бы позавидовать этой ее способности входить в любые группы и слои, принимая все так близко к себе, на себя. Зенкович и сам без особого труда сходился то с санитаркой, то с байкальской рыбачкой, то с райкомовской девой из провинции, но при этом он оставался по-прежнему им далеким. А вот она…
Прыщавый грузинский мальчик смотрел на него испытующе: муж или соперник? Для его кодекса чести и самолюбия это было существенно. Потом расшаркался и открыл им дверь. Это был рыцарь, воспитанный мальчик, поэтому нож он так и не вытащил.
«Интересно, что же она поняла из их разговора? — подумал Зенкович. — Вероятно, то, что мальчик этот хочет спать с ней. Что ж, это немало…»
Мимо них бежали леса, перелески, поляны, заснеженные поселки. Однажды поезд остановился на полустанке. Кругом стыли на холоде могучие ели, сверкали голубые снега… Тепло светились красные окна сторожки, белым столбом поднимался дым из трубы…
— Вот здесь можно жить… — сказала Ив, и Зенкович особенно остро понял ее растерянность, неприкаянность. Можно было жить здесь и жить там, мир был полон красоты и соблазнов, стержень и смысл жизни были утрачены — и вот она мечется по свету, бедная дурочка, тоскующая по ограничению, завидующая нашей бедности…
Старинный северный городок, где Зенковичу предстояло выступать, был прекрасен: торговые ряды XVIII века, купеческие домики на главной улице, серое небо и кресты старинных церквей, словно притянутые к куполам тяжелыми цепями. На сей раз Зенкович не испытал привычного возбуждения, приехав на новое место: на душе его лежал груз заботы. Нужно было найти жилье для Ив, надо было все-таки оговорить с ней кое-какие правила осторожности.
Зенкович нашел жилье для Ив и устроил ее довольно неплохо. Пока их группа обсуждала программу выступлений в местном обкоме, Ив бродила по городу. В первый день она познакомилась с какой-то милой старушкой, знающей язык.
— Это хорошо. Только… городок небольшой, тут все на виду… — начал Зенкович, но не кончил. Что он ей объяснит? Что у нее нет разрешения на поездку? Что местные блюстители международных связей будут повзводно ходить за ней к концу сегодняшнего дня? Он уж говорил ей об этом. Он скажет еще раз. Что это изменит?
Его план держать ее в стороне от их группы рухнул почти сразу. Она не отпускала его ни на шаг, а он не мог исчезнуть совсем. В группе оказался старый приятель Зенковича, писатель-фантаст. Зенкович решил, что ему можно представить Ив. Это будет компромиссом. Приятель-фантаст немножко знал английский, и присутствие новой блондинки его возбуждало: он-то приготовился к связи со скучной провинциалкой, а тут вдруг — иностранка. «Дурачок, — думал про себя Зенкович, избавленный от необходимости поддерживать беседу. — Эта ведь тоже провинциалка. Она из провинциального Квинсленда. Все женщины в принципе провинциалки. Все люди. Все пролетарии и все нетрудящиеся зарубежных стран. Это мы здесь — в центре умственного процесса. Это мы их могучий „мозговой трест“, их „брэйн-траст“. Это мы подарили им социализм и пылкого террориста Леву Троцкого… А ты сейчас заведешь речь о своих скудных гонорарах, начнешь разрушать ее Мекку. И ты прогоришь, потому что в их Квинсленде тебе вообще ничего не платили бы за твою муру третьего сорта. С легкой идеологической начинкой…»
Однако фантаст оказался на высоте. Он был оптимист, дела его шли неплохо, а к своему литературному промыслу он относился серьезно. Он вступил с Ив в душевный, хотя и косноязычный разговор о «Солярисе» Тарковского, который произвел такое приятное впечатление на лондонскую киноэлиту («Я мог бы вести рубрику „Вести из провинции“», — думал про себя Зенкович). Обед прошел в дружеской светской атмосфере: разговор по-английски, «андрикот по-пензенски», «какала» по-столовски, да еще два раза по сто — для Ив и фантаста. Произошел небольшой инцидент с «какалой». Ив сказала, что она не против кофе с молоком, но решительно возражает против сахара: сахар бесконечно вредоносен и очень дорог. Зенкович попытался объяснить, что столовский кофе (в просторечье «какала») заваривают в чайнике или котле, куда сразу кладут таинственные ингредиенты этого традиционного напитка новейшей русской кухни. Зенкович указал невесте на интернациональный и новаторский характер общепитовской кухни, которая, оторвавшись от своего русского истока, застряла на полпути к «андрикотам», попутно обогатившись макаронами с подливой. Однако Ив продолжала просить плачущим голосом, чтобы он, Сьоми, достал несладкого кофе, совсем без сахара…
Фантаст спас положение, заказав еще два по сто. Он сказал, что конечно же Ив должна пойти с ними на первое выступление — это страшно интересно, и зачем же ей оставаться одной в незнакомом городе. Зенкович попытался отстаивать их программу самосохранения, однако Ив, уже зардевшаяся от неразбавленной (или слегка разбавленной на кухне) ресторанной водки, проявила бешеное упорство. Фантаст ее поддержал. Он сломя голову мчался в атаку, и Зенкович узнавал его боевой задор: в былые годы, еще до брака Зенковича, они не раз вместе «тешили темечко» (именно так называл это занятие еще не поседевший в ту пору начинающий фантаст).
Пока мужчины расплачивались с официанткой, Ив подсчитала, что в Лондоне такой обед стоил бы целых три фунта, а то и больше. Поскольку они расплатились дешевыми русскими деньгами и сэкономили бесценные три фунта, настроение у них было вполне жизнерадостное. Лихо изловив такси, они отправились в клуб, на первое выступление.
Здесь Зенковичу пришлось представить Ив и остальным членам группы. Все, кроме руководителя, были приятно удивлены этим прибавлением. Руководитель был удивлен неприятно, и Зенкович объяснил ему, что у них с его невестой все о\'кей, вполне официально, что вообще он все берет на себя, а кроме того, она будет жить в городе, на квартире, так что о ней не надо беспокоиться.
После этого началось их первое выступление. Зенкович вместе со всеми остальными сидел за столом президиума, на сцене, и видел свою Ив в конце зала. Он видел, с каким интересом она слушала вступительное слово их руководителя о том, что «у них стало доброй традицией…». Заметил, когда она устала слушать незнакомую речь и стала томиться. Потом он начал томиться и сам. Ив слегка оживилась, когда начал выступать фантаст, но через минуту или две на лице ее проступило то же выражение муки, с которым она слушала его домашние разговоры с друзьями. «А так как язык выучить она неспособна, — думал Зенкович, — то…» Он видел, как она вдруг встала и пошла к выходу, через весь зал. Вечер только начался, и поведение ее было верхом неприличия. Так позволяли себе поступать только те пьяные, которым не удавалось заснуть под писательский говор… Зенкович выступал последним. Он говорил о проблемах перевода иностранной литературы. Он знал, что присутствующим удавалось достать и прочесть только худшие образцы переводной прозы: лучшие было трудно получить, потому что они издавались малыми тиражами или не издавались вообще. Количество изданий сокращалось из года в год, так что надежды на то, что эти люди прочтут что-нибудь в будущем, тоже не было. Эти соображения, в сочетании с неотвязной мыслью о том, что делает сейчас Ив на улицах незнакомого города, никак не могли подогреть ораторский энтузиазм Зенковича. Он постарался закончить побыстрее, однако тотчас же посыпались вопросы. Их содержание он мог предсказать наперед, однако все равно пришлось отвечать: «Сколько языков вы знаете?» — «Когда вы решили стать писателем?» — «Платят ли писателям зарплату?» — «Были ли вы в Америке?» — «Знаете ли вы Евтушенко?» — «Знакомы ли вы с артистом Тихоновым?» — «Нравятся ли вам стихи Асадова? Прочтите нам наизусть». — «Почему так редко бывают хорошие фильмы?» — «Женаты ли вы?» — «Зачем издают такую дрянь, как писателя Фолкнера и еще одного китайского, не помню его фамилие?» Обычно вопросы мало-помалу оживляли, распаляли его, несмотря на чувство безнадежности. Они разжигали его угасающий просветительский пыл и остатки тщеславия. Но сегодня в душе была одна безнадежность. Безнадежность и мысль об Ив, которая там, на улице, будоражит провинциальные органы надзора своей непомерно длинной юбкой, своей манерой садиться на пол, если поблизости нет скамейки, своим желанием вступать в контакты, быть непосредственной и непредсказуемой — о, мать твою, помоги же мне, Господи, скорей бы все это кончилось…
После выступления руководство клуба повело товарищей писателей на товарищеский ужин, но Зенковичу было не до ужина. Он бросился искать Ив на этой заводской окраине, среди бетонных заборов и панельных домов, и отыскал ее в конце концов неподалеку от железнодорожных путей и пакгаузов, возле уже начавших рассыпаться панельных домов-коробочек…
— Посмотри, — сказала она, — это я нашла. Это мой собственный уголок. Красотища? Э риэл бьют? Бесподобно…
Зенкович признал, что место было действительно на редкость безобразное, просто ужасающее. Он не ругал ее за побег и даже благодарен был за то, что она все же отыскалась в конце концов, что она не сидела в кутузке и не лежала ни с кем на рельсах и что даже военного объекта не видно было поблизости от того места, где он ее нашел. «Вот и прекрасно, — повторял он, уводя ее на освещенную магистраль микрорайона, где им предстояло искать автобус или такси. — Все прекрасно… Ужасающе прекрасно… И как ты там говоришь? Бесподобно».
— Прекрасно! Тебе прекрасно! — неожиданно взорвалась Ив. — Бесподобно, да? Ах ты, грязный х..!
(Тут Зенкович призвал на помощь все свои литературно-лингвистические воззрения, чтобы несколько смягчить шоковое состояние, снять стресс и не съездить своей невесте по шее: он напомнил себе, забывчивому, что в английской литературе давно уже нет никаких табу, никаких ограничений, а следовательно, в живой народной речи их нет и подавно… Он напомнил себе, что русский язык остановлен пуристами, ханжами и консерваторами на определенной стадии развития, что делало невозможным адекватный перевод современной западной литературы. Он объяснил себе, наконец, что вследствие всех этих причин «дерти прик» вовсе не равнозначно буквально соответствующему ему в русской речи выражению «грязный х..». Что, с известными потерями, конечно, можно перевести его скорее как, ну, скажем, «Ах ты падло!» Или так: «Ах ты сука!» Зенкович благосклонно выслушал свои собственные объяснения, но желание съездить ей по шее или начистить е….ник — как это, кстати, будет по-английски? — не пропало.)
Между тем Ив, далекая от его успокаивающих лингвистических затей, продолжала взвизгивать:
— Им прекрасно! Бла-бла-бла… И болтают себе с довольными рожами, и болтают, и болтают… А я сиди там слушай… Вот себя расхваливают перед толстенькими девочками… С толстенькими ляжками… А те слушают, рот разинули — и резинки у них на трусах лопаются…
Описание это показалось Зенковичу забавным, однако Ив вовсе не расположена была к веселью. Прежде чем они добрались до квартиры, которую Зенкович снял для нее, они успели дважды поругаться в автобусе, разыграв для пассажиров любительское представление на иностранном языке.
Дома Ив высказала Зенковичу несколько новых претензий, и, надо сказать, некоторые из них показались ему неожиданными. Заговорив о его приятеле-фантасте, Ив вдруг обвинила Зенковича в том, что он держал ее в Москве под искусственным колпаком, что он намеренно сузил круг ее знакомых.
— Что ж, это, пожалуй, верно, — сказал Зенкович, — поскольку еще не все формальности закончены, я не считал себя вправе знакомить всех моих друзей с тобой… Короче говоря, я знакомил тебя с самыми близкими друзьями, а этот человек… Мы были с ним близки когда-то, но потом…
Ив вовсе не желала слушать эти его глупости. Для нее совершенно ясно, что он искусственно ограничил этот круг, движимый ревностью. Просто он не хотел, чтобы она встречалась с молодежью, посещала студии молодых художников, компании здешних хиппи…
«Что ж, наверно, и это правда… — усмехнулся про себя Зенкович. — А почему я должен таскать любимую женщину по всем этим бардакам? Почему я должен вводить ее в искушение?»
Ему вдруг вспомнилась одна вечеринка в мастерской друга-художника… Его бывшая жена считалась тогда будущей женой — сколько же это было тому назад — девять, десять, о Боже, целых десять лет… Там был и этот самый писатель-фантаст — тогда он еще писал детективы. Когда садились за стол, влюбленный Зенкович ни за что не позволил ему сесть рядом со своей будущей женой, показывая, что здесь не былое спортивное соперничество, что это для него серьезно и он вовсе не хочет, чтобы все кончилось завтра… Ну а к чему это привело? К тому, что еще через семь-восемь лет, когда его не было рядом, чтобы помешать ей, она получила свое, угодила в постель такого же засранца, такого же шарлатана и делателя денег, наилучшим образом приспособленного ко всеобщей неприспособленности… Возвращаясь в мыслях к этому вечеру, Зенкович не раз думал в последнее время, что лучше, наверное, было бы предоставить ей тогда свободу выбора, узнать ее истинную цену и сберечь эти годы… Целых десять лет… Впрочем, для кого сберечь? Для других, похожих на нее? Ведь он выбирает таких. И что такое истинная цена? Что такое объективная цена женщины? Скорей всего, та цена, которую мы ей сами назначаем. Та высота, на которую мы ее возносим, чтобы потом всеми силами удерживать на этой высоте, пока еще теплится любовь. Когда есть любовь, это всегда завышение цены, преувеличение, гипербола. Во всех остальных случаях это может быть как принижением, так и здравой оценкой…
Когда Зенкович не вслушивался, он переставал понимать английскую речь. Сейчас он вслушался снова и обнаружил, что Ив еще толкует про то, что он искусственно ограничил круг ее знакомств. Он думает, если его жена была такая, то и все другие тоже, так вот нет: у них на Западе все совершенно по-другому, там вовсе не обязательно изменять мужу. И вообще, она не видит, почему бы ей не встречаться с молодыми людьми ее возраста, не проводить время в их компании. Какие у них здесь странные, азиатские обычаи… Вот там, на Западе…
— Везде одно и то же, — сказал Зенкович. — Заткнись. И раздевайся… А я, пожалуй, пойду в гостиницу… С утра нам на выступления.
— Я ухожу с тобой, — сказала Ив. — Я здесь не останусь. Ты нарочно привел меня сюда. Чтобы запереть в этой унылой комнате, с этим омерзительным модерном…
Она надела пальто и еще говорила, говорила что-то — о его эгоизме, о том, что она не какая-нибудь там, что никогда в жизни…
— У тебя нет документов. Нет разрешения. Ты не прописана в гостинице. Кроме того, там наше начальство… — Зенкович говорил все автоматически, безнадежно, понимая, что ему ни в чем ее не убедить, а главное — не победить…
Ив сказала, что она тайком проберется к нему в номер. Они всегда так делали с Томом. Том снимал себе номер, а она незаметно перебиралась к нему, и все было прекрасно…
— Это где было-то… — вяло возражал Зенкович, но они уже шли в эту самую его гостиницу, где была вся их группа вместе с руководителем, которому он обещал… — У вас там все по-другому. У нас здесь на шермака не проедешь. Тут у нас порядок…
Впрочем, Зенкович и сам чувствовал, что преувеличивает безупречный порядок, царящий в его возлюбленной России.
К полуночи Ив все-таки прорвалась к нему в номер, и они улеглись на узкую койку, где им не оставалось ничего другого, как заняться любовью. Занятие это с неизменностью повергало Зенковича в сон, от которого его пробуждала на рассвете сердечная боль, сопровождаемая бессонницей. Однако в эту ночь он проснулся задолго до рассвета. В комнате горел свет. Ив в его белой сорочке, едва прикрывавшей ей пупок, босиком направлялась к двери.
— Ты куда?! — очумело крикнул Зенкович.
— Пи-пи… — сказала она жалобно.
— Оденься.
— Зачем?
— Я сказал — оденься!
— Почему?
— Потому что у тебя пиписька торчит. Потому что увидят.
— Ну и пусть видят.
— И я не хочу, чтобы ты там по общей уборной босиком бродила, а потом — в постель…
— Подумаешь, какой чистый… У вас здесь вовсе не так уж чисто…
— Я сказал: оденься! Немедленно! Я не могу тебе все объяснять…
Он не мог начинать все сначала. Объяснять ей, что она находится у него в номере нелегально. Что будет скандал, если это выяснится. Выяснится, что у него в номере женщина. Что у него в номере иностранка. Что она разгуливает голой по коридору. Что они скандалят ночью. Ему вдруг припомнились рассказы о разгульном сыне того самого несчастного режиссера, на чьей даче они зимовали с Ив. Самый ужасный рассказ о его проступках состоял из одной фразы: «У него голые иностранки ночью из дачи выскакивали». Зенковичу вспомнилось, как однажды в Крыму, когда они с приятелем привели на чай страшненькую очкастую англичанку, хозяйка отказала им от дома (то бишь от сарая).
— Вы уже совсем распустились, — сказала она. — Русских девок тискали, шум-визг, я все терпела. Теперь еще эту привели, лопочет не пойми-разбери…
— Если пойдешь босиком, в постель больше не пущу, — решительно сказал Зенкович.
У него было, наверно, совсем отчаянное лицо, потому что она уступила, стала одеваться. Но в уборную не пошла, сидела одетая, скорчившись, и ныла:
— Я хочу пи-пи! Я умру…
— Поссы в раковину, — отозвался Зенкович мирно.
— Да! — Ив взвилась снова. — Да я в ней лицо мою…
— Вот и напрасно, — сказал Зенкович, совсем успокаиваясь. — А командированные в нее мочатся. До уборной шагать полмили, а тут рядом.
Зенкович принял седуксен и наконец уснул. Утром он вспомнил, что она дважды пыталась растолкать его ночью, теребя за причинное место. При этом она повторяла с ненавистью:
— Храпишь в своем химическом, синтетическом сне…
За завтраком воспоминания о прошедшей ночи повергли его в ужас. Он понимал, что страхи его преувеличенны, но все больше погружался в свой параноидальный ужас. Голубоглазое дитя идиллического Квинсленда вырастало в его воображении до размеров сказочного дракона. Он обрек себя на жизнь в одной клетке с драконом… Метафору эту отчасти подсказала ему сама Ив. Она кричала вчера, что он собирается запереть ее в золотой клетке. Это была, конечно, довольно смешная метафора. «Золотая клетка», вероятно, льстила ее самоуважению. Впрочем, она всегда склонна была преувеличивать материальную обеспеченность Зенковича и его друзей. Это впечатление сложилось у нее давно, когда они засыпали ее подарками. Зенкович побаивался, что в один прекрасный момент она осознает их истинное весьма скромное положение…
В тот день у Зенковича было только одно выступление, вечером, так что весь день они провели с Ив — почти весь день бродили по городу… Зенковичу этот город древних церквей и недавней ссылки навевал много воспоминаний и печальных ассоциаций. Наученный уже горьким опытом их прежних экскурсий, он ничего не рассказывал Ив. Он знал, что ей все это не нужно. Она не только забудет через полчаса и название города, и его историю, она еще будет упрекать Зенковича в том, что история так печальна. «Солженицын неправ! — воскликнула она однажды в споре с его друзьями. — То, что он изображает, — это всего-навсего столкновение с жизнью. Откуда же люди знают, что их столкновение с жизнью должно носить не такой характер, а какой-нибудь другой?» Кажется, никто из его друзей не смог ей тогда растолковать, отчего им хотелось других, а не таких столкновений с жизнью…
Помня о вчерашнем скандале, Зенкович попытался отправить Ив на время выступления в кино, но она вдруг решила пойти с ними. Приятель-фантаст пообещал переводить ей все выступления, чтобы она не скучала. И она действительно не скучала. Глядя, как они оживленно беседуют, как его приятель словно бы непроизвольно хватает Ив за руку, Зенкович проникался сознанием надвигавшейся катастрофы. Позднее он часто спрашивал себя, мог ли он догадываться, что там, вдали, за обломками грядущей катастрофы, должен забрезжить для него кровавый просвет надежды? Надежды на освобождение? Наверное, мог. А мог ли он предотвратить катастрофу? Наверное, нет. Разве только отсрочить ее до нового случая…
После выступления они ужинали всей группой. Ив выпила вместе с другими, а потом они пошли гулять втроем, и было уже около десяти, когда фантаст предложил поехать к его здешним друзьям, молодым художникам, которые звали его, да что там — звали их всех. Можно взять с собой выпивку и поехать — там огромный подвал, авангардная мастерская, такая одна в этом городе, отличные ребята и выпить не дураки — будет много шума; кстати, там и остаться ночевать можно — конечно, вы с Ив можете остаться ночевать, добавил фантаст благородно и жертвенно, а я поеду к себе в гостиницу…
«Да, да… — подумал Зенкович. — Что-то в этом духе еще нужно перетерпеть, что-то тягостное, утомительное и невыносимое, на пути к другому, еще более тягостному…»
Ровным голосом Зенкович сказал, что он давно уже разлюбил пьяные и бессмысленные сборища нашей авангардной, половозрелой, но умственно незрелой братвы, этих мальчиков и девочек, тетечек и дядечек, их пустопорожнюю говорильню и полутрезвые выкрики… Ив сказала, что это он назло им не хочет, что надо ехать, что ей очень хочется поехать, что это, наконец, необходимо и полезно для дальнейшего изучения страны, для расширения кругозора.
— Ну что же, езжайте, — сказал Зенкович со спокойствием отчаянья. — Я буду в гостинице. Постарайся вернуться до полуночи, Ив, потом уже не пройдешь в номер…
Он вдруг понял то, что сказал… Понял, что это значило. Для него. Для нее. И она, вероятно, поняла что-то, потому что вдруг притихла и посерьезнела. Она схватила его за руку, но тут же отпустила и стала с преувеличенной вежливостью благодарить фантаста за то, что он понимает, как это важно для нее — все видеть, и берет на себя заботу, и подвергает себя неудобствам. Зенкович думал о том, что еще не поздно пойти с ними, выдержать всю эту нуду и унижение, но зато привести ее домой, хотя бы до следующего раза… Но он не хотел идти туда и считал, что прав; и он не верил больше в то, что можно кого-нибудь спасти от искушения. А может, ему еще и виделось вдали, за обломками их крушения, то самое, красное от крови сердца зарево надежды… Она еще тоже могла все поправить — вдруг взять его за руку, проститься с фантастом и пойти домой, в ту же постель, что и вчера… Однако искушение было новым, а постель была старой, той же, что вчера, и она считала, что правда на ее стороне, что ж тут такого, если она побывает в гостях, даже и без него — в конце концов на карту была поставлена ее свобода европейской женщины из тихоокеанского Квинсленда… Они притихли оба, и Зенкович предложил купить бутылку вина, чтобы она могла внести свой вклад во всеобщее веселье, однако фантаст воспротивился, он сказал, что ничего не нужно, он сделает все, и будет коньяк, и все что надо: он словно говорил этим Зенковичу, что, мол, если решил уступить, то не мешкай, уходи с дороги, все сделаем, все будут довольны, и все будет как в лучших домах, не маленькие… И был еще один момент, когда фантаст выбежал на дорогу ловить такси, Зенкович поднял на нее взгляд, уже отравленный болью, и увидел вдруг, как слезинка сбегает по ее застывшей розовой щеке… Можно было все перерешить, изменить еще, можно было обнять ее, он видел, что она страдает… Но он видел также, что она не откажет себе в новом развлечении, в новом опыте… Тогда он резко повернулся и пошел, не оглядываясь, прочь, побежал прямым ходом в гостиницу, словно боясь передумать, однако уже предчувствуя, уже ощущая больным сердцем и всей кожей, на что обрекает себя. Но, только очутившись в своей комнате, он почувствовал по-настоящему, что она уже началась, эта знакомая мука ревности и отчаяния, доводящая до головокружения, до тошноты. Он еще дорогой успел подсчитать, сколько она может продлиться — скажем, до полуночи, то есть два с половиной часа, сто пятьдесят минут, ну а если до часу, то двести десять тягостных, нестерпимых минут… Зенкович понимал также, что он обманывает себя, знал уже, знал наперед, что она не придет до двенадцати, не сможет и не захочет прийти, а придет, может быть, под утро — то есть будет полтысячи или больше минут этой вот муки, и никакого избавления, он достаточно стар, чтобы не поверить ни в какие случайности, ни в какие утешительные рассказы, — он стар, он сам битый, и он хорошо знает своего писателя-фантаста, видел его именно в таких ситуациях, так что это все, это конец, во всяком случае, начало конца… Она виновата во всем, она хотела этого, он ведь чувствовал, как сильно она этого хочет, а раз хочет, значит, осуществит раньше или позже, не сегодня, так завтра, да, она хотела, но ведь это он толкнул ее туда, почти подстроил все, и это испытание для нее, и эту муку для себя, а она маячила на горизонте — надежда на постылую свободу, на освобождение — в пламени сжигаемых мостов, горящих обломков…
Да, Ив виновата, но больше виноват он, Боже, прости, если можешь, он был несправедлив к ней, он, пуганый, старый, слабый, не имеющий внутренней свободы и не умеющий дорожить ею; он упрекал ее в том, к чему сам всю жизнь стремился, и самую ее любовь, самое стремление быть с ним всегда и всюду не умел ценить по-настоящему, что ж удивительного, если она в конце концов… если она сейчас…
Может быть, он верно угадал, верно предсказал, что будет, но он не стал ждать, он прокрутил всю ленту до срока, торопя время, желая видеть конец и тем самым лишая себя того, что должно быть в промежутке, лишая себя главного… Что ж из того, что он мог предугадать конец, всегда можно его предугадать, все могут, значит ли это… Это значит только, что у него нет сил и нет терпения… Ах нет? Так, значит, терпи сейчас, стисни зубы и терпи, не мечись по комнате, не стенай…
Ив и фантаст появились за завтраком, когда все уже сидели в ресторане за столиками, — достаточно неприятно было то, что все видели, но что уж тут мелочиться, снявши голову… Зенкович вполуха слушал их дружные объяснения: все было великолепно, они проговорили всю ночь, хотели уехать раньше, но не было транспорта, никаких машин, а там были такие ребята…
В тот день состоялось их последнее выступление. Ив встала и вышла через весь зал во время выступления фантаста, так что Зенкович мог бы счесть это еще одним подтверждением, если бы у него еще были сомнения и он нуждался в подтверждениях. Но он не нуждался в них, он и так знал все наверняка. Это было привилегией и несчастьем его возраста и опыта. К тому же он знал, что для нее такой уход не был демонстрацией, она могла встать потому, что ей просто захотелось писать или у нее вспотела спина, — она была непосредственное дитя из Страны Великой Непосредственности и Большого Опрощения. Впрочем, все, решительно все было не важно теперь, потому что они вдвоем, они оба, подрубили последнюю опору того хрупкого здания, которому и без них угрожало столько опасностей, но окончательно погубить которое могли только они сами…
В ту же ночь Зенкович вместе с Ив возвратились в Москву, отказавшись от увеселительной прогулки, устроенной обкомом для группы писателей.
Глава 6
Они ни о чем не говорили в Москве. Впрочем, однажды, когда Зенкович предложил Ив познакомить ее с одним киношником, большим ходоком по дамской части, она разразилась длинным монологом о том, что у русских странные представления о роли жены, о ее поведении в обществе, что они хотели бы запереть женщину в золотую клетку (Зенкович едва удержался от улыбки при этом, представив себе русских, обладающих таким количеством золота), что им кажется, будто всякая женщина, которая пришла домой поздно…
Зенкович молчал. На него навалилось бедствие, которого он успешно избегал лет десять, — ремонт квартиры. Отец и мачеха осмотрели квартиру в его отсутствие и, придя в ужас, пригласили рабочих из бюро ремонта. А пока, желая помочь Зенковичу, они сами ободрали обои. По возвращении Зенковичу ничего не оставалось, как предоставить себя судьбе. На второй день пришла женщина-маляр из бюро ремонта. Зенкович предъявил ей квитанцию об уплате. Она улыбнулась снисходительно и сказала, что если он сейчас выложит еще полсотни, то она, может быть, начнет красить на той неделе и тогда еще через неделю… Только он должен собрать вещи, накрыть пол газетами… В общем, наступила трудная пора жизни. Обнаружилось (впрочем, это не было для него полной неожиданностью), что Ив не намерена принимать участия в его хлопотах. Работа быстро утомляла ее, и всю жизнь она более или менее успешно уклонялась от нее. Конечно, ей приходилось работать, и не раз, такова была бесчеловечная действительность западного мира. Это почти всегда был черный труд — уборщицы, судомойки, официантки. Однако она шла на это в случаях крайней нужды — в студенческие годы, во время путешествий, на чужбине… Чаще все-таки на помощь ей приходил какой-нибудь из поклонников, который помогал вылезти из нужды. Зенкович, возможно, казался ей самой надежной защитой от подобных неприятностей. Он был по-русски щедр, и, вероятно, поэтому ей казалось, что он богаче всех ее прежних поклонников. И вдруг такая подлость: квартира, ремонт. Ив заявила, что ей вообще не нравится эта квартира. Она всегда говорила, что ему следует купить квартиру где-нибудь в старинном доме, в центре. Эти жуткие современные окраины вызывают у нее отвращение. Она уехала вечером к подруге Дженни, потом позвонила оттуда и сказала, что у Дженни будет прием и что она должна помочь ей испечь пирог. А завтра они пойдут в театр.
— Понятно… — сказал Зенкович. — Ты можешь побыть там и дольше. А можешь… остаться насовсем.
Он не мог сказать наверняка, что хочет этого. Однако в минуту их разговора он был в этом почти уверен. Тянуть дальше было ни к чему. Он знал, что в трудную минуту она всегда покинет его, в час болезни будет попрекать немощью, а может, не дождется ни того, ни другого… Она была предсказуемо ненадежна. А он жаждал надежности: кошмар предательства преследовал его теперь в отношениях с женщинами, которых он начинал предавать таким образом с первой минуты знакомства.
Он бродил по квартире, покорно выполняя указания женщины-маляра: двигал мебель, переносил вещи, перебирал тряпье. Однажды среди тряпья ему попалась записка, написанная рукой Ив. Она начиналась по-русски, с обращения: «Сиоми мили!» Прочитав это, он вдруг пришел в ярость — за столько времени она так и не научилась правильно писать его имя. Его захлестнула непонятная, ни с чем не соразмерная злоба на нее, обида на нее, обида на себя за то, что они не смогли… Он. В первую очередь он — не смог ничего. Все могло быть, и вот — ничего не будет уже…
Ремонт в конце концов все же пришел к концу. Зенкович уже завершил уборку, когда вдруг позвонила Ив. Она сказала, что ей нужны кое-какие вещи. Зенкович ответил, что приехать к нему нельзя: у него живет девочка, которая помогает ему по хозяйству. (У Зенковича и правда был соблазн позвонить Василисе, которая выпила бы два стакана вина и помогла убрать квартиру.) Он сам привезет вещи к Дженни. Записать какие вещи? Не надо записывать. Он привезет ей все вещи. Весь чемодан.
При сборах у него возникли трудности. Он быстро упаковал чемодан, но оказалось, что в углу сложены ее русские подарки: они заняли еще два чемодана. Зенкович пригнал машину и поднял вещи в квартиру Дженни. Ив открыла ему дверь. Дженни и ее мужа не было дома.
— Они счастливы, что я живу с ними, — сказала Ив, — им так скучно без меня…
— Легко представить себе, — сдержанно сказал Зенкович.
Она была в красивой серой кофточке, принадлежавшей Дженни. Зенкович понял, что ситуация создалась идеальная для бедняжки-хиппи: ее собственные вещи были в руках у русских дикарей.
— Мои друзья на дипломатическом приеме, — сказала Ив. — Они ведут пустой и рассеянный образ жизни, как все западные бездельники…
Потом, вспомнив о необходимости быть к ним сейчас снисходительной, Ив рассказала, что вчера они напились все вместе и Дженни с мужем были великолепны. Было так весело! Кончилось это веселье четырехчасовой дискуссией о тоталитаризме и свободе воли.
— Напряженная умственная жизнь… — сказал Зенкович, стоя на пороге.
Она была одна в квартире, синие глаза смотрели грустно и рассеянно. Губы были полураскрыты. Зенкович знал, что, подойди он ближе, она коснется его щеки…
Он простился и вышел. Долго стоял на площадке, ожидая лифта: панельная роскошь дипломатического дома уже распадалась на куски. Зенкович добрался в обшарпанном лифте до первого этажа, вышел на улицу, оглушенный побрел к метро. Руки его были свободны от чемоданов, сам он был свободен. Он мог позвонить Василисе в общежитие, мог заехать за ней (она вылезет к нему через мужскую комнату на первом этаже). Он может поехать к сестре, а может завтра улететь в Крым. Может улететь в горы, в Приэльбрусье, встать на лыжи. Все можно… Все печально. Но все уладится…
— Сьоми! Сьоми!
Он обернулся. Ив бежала за ним. На ней была роскошная меховая накидка Дженни, тапочки на босу ногу. Вот она остановилась, взяла тапочки в руку, побежала босиком по тротуару, через вокзальную толпу. Сейчас милиционер остановит ее, босую…
— Сьоми!
Она прижалась к его щеке полураскрытым ртом, прижалась к нему вся, вернее, вжалась, втекла в каждый уступ его тела, приняв в себя каждый его выступ.
— Сьоми! Я не хочу без тебя! Я хочу тебя… Мне так хочется…
— Хочется, можется… Перехочется, переможется… — повторял Зенкович, печально гладя ее спину. — Перемелется, будет мука. Пойдет на удобрение полей…
Они пошли в метро. Она забегала вперед, смотрела ему в глаза.
— Сьоми!
— Надень тапки, — сказал он, и она повиновалась с радостью: это значило, что он обратил на нее внимание, не возражает, чтобы она ехала с ним, хотя вот, пожалуйста, настаивает на тапках, глупости и предрассудок, как всегда…
Она была нежной, и все у нее было прекрасно, так прекрасно в тот вечер, что он думал, засыпая, сквозь блаженную дремоту: «Чего от нее требовать? Чего ждать? Женщина и есть женщина. Очень глупая, очень молодая. В переводе по курсу валюты ей не больше наших пятнадцати… Надо только помнить, что она не весь человек. Часть человека. Парс хомини. Дать ей соответствующее имя и помнить. Как же, значит, окрестить ее? Ах, ну ясно как. П..денка. Как это будет по-английски? Никак. Разве я мог такое перевести? Разве я вообще могу переводить? Просто п. денка… П. дьонка…»
Назавтра с утра он убежал по делам, «бегал в метро, точно крот», повидался с сыном, зашел в один магазин, второй, а когда вернулся после обеда, увидел, что в прихожей и в кухне чисто вымыт пол. Ив, нарядившись в его свитер и джинсы, убирала в комнате.
— Умница… — сказал он.
Она обернулась, отерла со лба пот, и он увидел, что она глубоко несчастна.
— О, конечно, ты обрадовался… Я тут надрываюсь с утра до ночи, и ты обрадовался. Бесплатная прислуга. О, ты так обрадовался! Твои маленькие еврейские глазки так и загорелись…
Зенкович даже не сразу понял, что произошло. Правая рука ныла. Вероятно, он все же сильно съездил ей по физиономии. Ну да, что ж такого, он ударил ее. То есть как что такое? Он, который никогда, никогда в жизни не бил никого… Правда, это не первый случай, когда она доводит его до такого состояния, что ему хочется ее ударить, именно ударить…
Она лежала на диване и горько плакала. Бедное дитя. Бедное дитя горько плачет на чужбине, обливая слезами несвежую наволочку…
«Как все мерзко, — думал Зенкович. — Какая я стал гадина… Но ведь это она…»
— Сьоми! — прошептала она. — Ты не хочешь меня поцеловать? Ты не хочешь обнять меня?
Она что-то шептала, всхлипывая, торопливо стаскивая джинсы с молочно-белых ног.
«Боже! — думал он, кляня себя и раздеваясь. — Она еще, кажется, и мазохистка. Ну да, конечно, как я не догадался раньше? Значит, надо бить? Но я не могу этого, не могу… Что же будет? Что будет со мной? С ней?»
— Скорей, Сьоми… — сказала она, повернув к нему зареванное лицо. — Ты ведь любишь меня… Правда?
Нет, нет, ничего не стало ясней, будущее все так же нависало над ним, тягостное, чреватое неведомой угрозой и вполне реальными муками, и просто все отступило на мгновение, оставив им какие-то глупости, минуту самоуспокоения, Сьоми, возьми меня скорее, о, Ив, п. дьонка, Боже, да что я так много думаю о том, что будет, зачем придавать себе и своему будущему столь огромное значение…
Приближался срок, назначенный им непостижимо благожелательными властями, и было утро, и был четверг, и Зенкович сел за перевод с утра — нужно было снять вопросы редактора, а Ив уехала куда-то в посольство продлевать визу и завершать еще какие-то формальности.
Зенковичу позвонила Василиса. Ей нужна была книжка. Впрочем, можно обойтись. Нужна или не нужна? Голос ее опускался до самых низких регистров. Вероятно, по представлениям, царившим у них в училище, это было особенно сексуальным тоном. Василиса сообщила, что девочка, которая украла жень-шень — он ведь не забыл? она рассказывала, нет, нет, не забыл, — эта девочка восстановлена в училище и теперь живет в одной комнате с Василисой… Зенкович не знал, радоваться он должен или негодовать, поэтому воздержался от комментариев.
— Ну что же… раз так, пока… — сказала Василиса.
Зенкович снял почти все вопросы редактора: шесть вполне толковых и сорок два идиотских. Некоторые карандашные заметки он просто стер резиночкой и оставил без внимания, против других изобразил муки слова.
Щелкнул замок, вошла Ив. Не раздеваясь, она села на стул, внимательно взглянула на Зенковича, отерла слезу со щеки.
— Опять оштрафовали? — весело спросил Зенкович.
— Мне не продлили визу, — сказала она. — Послезавтра я должна уехать…
Все остановилось. Все начало раскручиваться в обратную сторону, со страшной и неожиданной силой. Зенкович встал, почему-то не смог заговорить сразу, потом спросил почти спокойно:
— Ты не звонила Дженни? Может, они смогут…
— Звонила. Она сказала, что не могут… Она даже не стала ничего выяснять.
— Не надо было жить у них так долго… — сказал Зенкович.
— При чем тут это? Они были очень рады, что я живу!.. — крикнула Ив. — Ты нарочно так говоришь. Ты хочешь меня рассердить… — Она вдруг осеклась. — Что же делать? — сказала она тихо, беспомощно. — Ты не можешь оформить мне приглашение?..
— Кто мне позволит?
— Тогда нужно покупать билет… — сказала она тихо и мелодично, будто пропела, и больше уже не повышала голоса, жалобно и тихо говорила-пела, словно вознамерившись еще больше растравить ему душу, словно мало ему было тех терзаний, которые выпали на эти дни и которые останутся ему до конца жизни, — нужно покупать билет… Билет очень дорогой…
— Чепуха, — сказал он. — Какая чепуха. Что делать?
— Нужно покупать билет…
Они перешли на старый диван, прибежище, которое спасало их друг от друга, а теперь должно было спасти друг для друга…
— Знаешь, — сказала она, вдруг повеселев. — У меня есть студенческая карточка на этот год. Я уже купила по ней в Афинах авиабилет за полцены.
— Откуда карточка? Ты ведь уже давно не учишься.
— Я купила ее в Лондоне за восемнадцать пенсов. Там есть компания студентов, которая подделывает карточки и продает…
— Здесь не проскочит, — сказал Зенкович. — Здесь не выгорит… Ив… Дуреха… Мошенница… Шаромыжница… Лягушка-путешественница…
— Как ты говоришь? — прошептала она. — Скажи. П..дьонка? Ой, больно, Сьоми! Еще, Сьоми, еще…
— Чтоб ей, конечно, угодить… — шептал Зенкович, мучая ее, обмирая от страха…
Утром они купили билет. А потом был еще один, вовсе сумасшедший вечер, когда она собирала вещи, деловито и сноровисто перекладывала из чемодана в чемодан, утрамбовывала, перетаскивала, а потом вдруг замирала в неподвижности…
— Ив! Тебе нравилась эта ступка, возьми…
— Зачем? Это очень дорогая. Ты ее любишь.
— Возьми. А то выброшу в мусоропровод. А это возьми для твоей мамы. Вот это тоже…
— Я оставлю тебе это мыло. Это очень дорогое мыло.
— Этот альбом возьми тоже… И этот…
Была отчаянная потребность сорвать все со стены, с полок, запихнуть к ней в чемодан. И она, из страны в страну перевозившая в сохранности свой нетронутый багаж девочки-хиппи, тоже вдруг захотела оставить ему — и то и это… Все эти непропадающие предметы, эти неумирающие тряпки утратили вдруг всякую цену и всякий смысл. Они хотели бесстыдно пережить тебя, пережить мгновения твоего счастья и горя, самую твою жизнь.
Потом Зенкович лежал на диване в спальне и смотрел в коридор. Большое зеркало на стене коридора отражало трогательную фигурку Ив, склонившуюся над чемоданом. Вот она распрямилась, подняла взгляд своих огромных и голубых, своих отрешенных глаз к полкам. И вдруг вскочила с неожиданной резвостью, оглянулась на дверь, сняла что-то с полки и сунула в чемодан. Зенкович без труда вспомнил, что стояло у него на этой полке — деревянный складень то ли прошлого, то ли позапрошлого века. Ей нравился этот складень, и она не раз держала его в руках… «Бедняжечка-хиппи, — подумал Зенкович. — Бедная заморская хиппесница. Если бы я и раньше мог смотреть на тебя вот так же. Снисходя ко всему, все прощая. Вот так любя и жалея…»
А потом была эта последняя ночь, когда он засыпал и тут же просыпался в ужасе от того, что пропустил что-то. Что он проснется и вот уже все кончено, надо ехать на аэродром, или просто проснется — а ее нет…
На рассвете он увидел, что она уснула у него на руке, прекрасная, юная, зареванная и несчастная, и он задохнулся от жалости к ней и к себе, снова пережил эту ненависть к себе и к ней за то, что они не смогли все сделать, все уладить, а главное — не смогли ужиться, не смогли быть счастливы, не смогли и уже не смогут никогда.
Потом было утро в суматохе сборов, были поиски машины, грустное утро полуфраз и слез, и — вот они уже едут обнявшись в такси по улице Горького, по Ленинградскому шоссе…
— Здесь живет Гриша. Помнишь?
— Привет Грише…
Потом было Шереметьево, эфемерная деревянная перегородка, вертушка, а дальше какой-то коридорчик и дверь — на Запад, в туда, в никуда… За этот час в аэропорту Зенкович трижды сталкивался с какими-то парнями, кажется студентами, кажется, они провожали какую-то не нашу заплаканную девочку, долговязую и очкастую. А может, и не провожали никого. Эти парни помогли ему донести вещи. И вот сейчас, когда Ив обняла его в последний раз, лихорадочно, до боли сжала ему шею — «Сьоми! Сьоми!» — ее поношенная рыжая дубленка мелькнула за одной дверью, за второй, когда у Зенковича сжало в горле, он судорожно глотнул и оглянулся, ища опоры, ища выхода, он увидел снова этих парней. Они ждали его. Один из них сказал:
— Так-то, пошли, друг…
Другой завопил дурашливо:
— А я остаюся с тобою… И Африка мне не нужна…
— Пошли, — сказал Зенкович безразлично. — Пошли.
«Бахорфильм»
Когда Зенкович начинал рассказывать историю своего прихода в восточный кинематограф, и в частности своего долгого и плодотворного сотрудничества с киностудией «Бахорфильм», получался полный абсурд и гротеск, в общем черт знает что, вещь совершенно неправдоподобная и недостоверная. Между тем все, что он рассказывал, происходило на самом деле, и если взглянуть внимательно и непредвзято, то происходившее вовсе не было таким уж абсурдным. Да кто мы такие, в конце концов, чтобы окончательно установить, что естественно, а что абсурдно? С какой такой морально-этической, художественно-эстетической и производственно-экономической высоты можем мы вынести все эти уничижающие суждения о такой вполне уважаемой отрасли индустрии и художественного воспитания масс, как всеми нами любимое кино, и об участии моего друга Зенковича в творческом процессе кинематографа? Автор, во всяком случае, не берется выносить эти суждения. Однако он берется попросту рассказать обо всем, что он, как человек, близкий к Семену Зенковичу, знает достоверно и что он, как человек с железной логикой и тонким проникновением в противоречивые чувствования своего друга, смог распутать и поставить по местам. Автор считает это своим долгом как перед другом, неспособным к такой исповеди, так и перед многочисленными заинтересованными лицами, перед родственниками Зенковича, а также перед высоким и холодным оружием искусства кино, которое, оставаясь национальным по форме и реалистическим по содержанию, ждет еще своих Нестеровых, Флавиев, Белинских, Гоголей и Салтыковых-Щедриных.
Итак, начнем с начала.
* * *
Сам С. Зенкович считает, что рассказ этот следует начинать с его драматической карьеры, без которой не началась бы его кинематографическая карьера. Не считая драматургическую карьеру своего друга заслуживающей специального внимания историков театра, автор все же согласен упомянуть о том, что несколько лет назад его друг С. Зенкович (ныне уже член групкома драматургов) написал довольно еще ученическую и весьма среднюю пьесу «Горячее дыхание жизни», которая была поставлена одним из худших московских театров, а вслед за этим упомянута (в смысле отрицательном) в нескольких центральных газетах и сделала, таким образом, имя моего друга известным среди людей, близких к театру и драматургии. Действительно, может быть, именно этим объясняется то, что выбор студии «Бахорфильм» пал в критическую минуту именно на С. Зенковича. Хотя, на наш взгляд, к этому могли привести и многие гораздо более случайные факторы.
По мнению автора, начинать следует все-таки от истоков, с востока, откуда встает солнце и откуда поступило приглашение для сотрудничества, ибо не будь приглашения, не было бы и сотрудничества. А с этой, восточной, стороны голая правда (если отбросить восточные орнаменты подробностей) выглядела примерно так.
Вполне известный у себя в республике поэт Мураз Муртаз, очутившись однажды в совершенно безвыходном положении (в командировке, на Севере, в нелетную погоду, при полном отсутствии денег и спиртного, в окружении одних только мужчин), оказался прикованным к письменному столу на двое суток и в результате (вместо обычного получасового стихотворения о привольных хлопковых полях, о разбитых басмачах и газельих глазах) написал лирическую поэму «Девушка из чайханы». Это был настоящий продукт невольной и плодотворной сублимации — поэт с большой теплотой и нежностью вспоминал дороги своей ласковой и сытой республики, а также узкие серебряные щиколотки и расписные шальвары некоей девушки из придорожной чайханы. По этой дороге день и ночь шли могучие МАЗы и КрАЗы с передовой автобазы, везли какие-то тяжелые штуковины для прославленной стройки. Шоферы заходили в чайхану выпить чаю, и все как есть влюблялись в девушку с газельими глазами, со щеками, нежными, как пушистый персик. И поэт был и вздыхал там вместе со всеми. И обращался к ней с пламенной речью, призывая девушку предпочесть его всем красавцам, сколько их есть на свете, потому что они, по мнению поэта, были бедней его духом, хотя порой и лучше телосложеньем. Поэт грозился подарить девушке весь богатейший ассортимент продукции, выпускаемой ныне его республикой (стихотворный перечень вводил нас в самую гущу экономических успехов этой некогда отсталой окраины России), а также все ее природные данные, леса, реки, горы, недра, включая и некоторые предметы международной и даже космической компетенции (луну, звезды, облака, рассветы, магнитные колебания и земные притяжения)… Шли часы и минуты, поэт вынужден был вместе с другими тружениками автотранспорта двинуться дальше, ревнуя к счастливцам или счастливцу, который останется там дольше, намекая, что вряд ли этот человек (или эти люди) будут достойны своего счастья. Маленький эпилог давал нам намек, что поэт не без основания испытывал все эти опасения. Однажды через определенный отрезок времени (у всех народов одинаковый) поэт увидел у ног девушки ребенка и понял, что нежеланное свершилось — кто-то надругался над чистотой этой девушки, сделав ее женщиной. Вероятно, сделано это было не так, как положено, или не так, как сделал бы это поэт, потому что в эпилоге чувствуется сожаление и даже грусть. Однако в самом конце этот минорный мотив как бы покрывается гулом мощных КрАЗов и МАЗов, увозящих свои промышленные грузы на кипучие стройки Бахорской республики (в просторечье просто Бахористана). Таково вкратце содержание этой поэмы, которая в оригинале, видимо, обладает большим набором аллитераций, ассонансов, анафор, метафор и прочих тропов, однако в русском переводе просто излагает достаточно складно именно то, что было пересказано выше, и тем самым переносит нас в атмосферу расширенного строительства и цветущих девушек.
Поэму эту тепло встретили в республике. Она даже была упомянута в центральной печати как доказательство того, что национальная культура развивается на местах раз от разу, несмотря на происки тех, кто говорит обратное и не хочет замечать очевидных фактов. Раздались трезвые голоса, требующие перевести эту поэму на русский язык с привлечением специальных поэтических кадров, владеющих рифмой и прочим оружием стихосложения. Поэма и была переведена одним из соответствующих специалистов, заинтересованных в развитии братских литератур и дополнительном заработке, на чем история, может, и заглохла бы, не получив никакой связи с моим другом Семеном Зенковичем, если бы не целый ряд разнородных обстоятельств, собранных воедино волей случая и суровой закономерностью природы. Во-первых, бахорский поэт Мураз Муртаз был сильно многодетным, любил женщин и дорогостоящие (как раз в этот момент еще сильнее вздорожавшие) напитки, получал маленький гонорар и совсем небольшое жалованье, то есть, говоря короче, испытывал потребность в деньгах (хотя принципиально, как поэт, он наличные деньги, а также и все эти золото, кораллы и прочие драгоценности — отвергал). Эта его потребность не являлась, впрочем, совершенно оригинальной чертой его творческой индивидуальности и могла бы ни к чему интересному не привести, если бы не два других обстоятельства. Одно из них было опять-таки не вполне оригинальным или необычным. В республиканской печати в тот год (так же, как в прошлом, позапрошлом и в другие годы) во весь голос заговорили о сценарном голоде, который испытывает национальный кинематограф, и о необходимости все шире опираться на местные литературные кадры, поскольку национальная литература давно уже встала на ноги и стала явлением, с которым не могут не считаться даже наши враги (в качестве доказательства последнего тезиса обычно приводился факт перевода на французский язык одного восточного автора, к Бахористану, впрочем, прямого отношения не имеющего). Второе обстоятельство было более существенным. На студию «Бахорфильм» пришел новый директор, родившийся в той же самой горной долине, что и Мураз Муртаз, то есть приходившийся этому поэту в известной степени земляком, а также товарищем его игр (не детских, правда, а уже более зрелых и мужественных игр, вероятно, можно было бы назвать их внебрачными играми, поскольку они происходили уже в женатые годы). Именно директор и подал идею о немедленном заключении с известным поэтом договора на сценарий под тем же названием, под которым прославилась его поэма, то есть «Девушка из чайханы». С приходом нового директора на студию пришел новый деловой дух, поэтому все формальности были закончены быстро и беспрепятственно. Как стало известно, в разговоре со своим влиятельным другом-директором поэт признался, что он еще не писал сценариев, хотя тут же согласился, что не боги обжигают горшки и когда-то начинать надо. Слабая наша осведомленность побуждает нас с сожалением пропустить очень важный и привлекательный период, последовавший за получением аванса, но можно предположить, что он включал и поездку в знаменитый загородный ресторан, где в большом котле на берегу прохладной речки варится плов и дымится шашлык, где режутся упоительно пахнущие дыни и блестит стеклянным боком спелый виноград. Где мужские тосты горячит звонкий женский смех (этот смех стоит у нас в ушах, и мы готовы биться об заклад, что так смеяться могут лишь русские женщины, на худой конец татарки, настоящая бахорка так и в таких местах смеяться не станет). Где укрепляется мужская дружба, даются обеты и прорастают ростки идей и вдохновения…
Подошел срок сдачи сценария, и поэт сел за работу. Он понимал, что сценарий — это должна быть, в сущности, просто хорошо написанная повесть, учитывающая, по возможности, требования кинематографичности (вероятно, им требуется, чтоб было чего видеть, а не только слышать). Трудность заключалась в том, что поэт повестей тоже никогда не писал, а начав, занятие это нашел тягостным. Мучаясь над первой в своей жизни повестью, он узнал о себе много приятных истин. Он понял, что он, по существу, лирик и оратор. Немножко философ. Чуть-чуть пессимист. И еще чуть-чуть больше — оптимист. Что судьба его схожа с судьбой всех крупных поэтов Востока, которых томила истома. Что он ненавидит байство, презирает богатство и хотел бы всего-навсего «с милой пить». Что день, проведенный с чашей над ручьем, а также над кудрями легконогой и луноликой, для него дороже царств и вообще всякого монархизма. Все эти истины приятно кружили голову, однако никак не отменяли тягомотину сценарного дела…
В конце концов поэт все же сценарий написал. Он был размером с небольшой роман, и в нем даже был сюжет, точнее, много сюжетов. Еще точнее, в нем были все сюжеты, какие поэт встречал раньше в кино. Бедную девушку из чайханы сватали, увозили, привозили, похищали, увольняли, повышали, бросали вниз с высокого берега, вылавливали из воды, сушили, одевали в дорогие одежды, увозили снова. Шоферы при этом состязались в ловкости, соревновались в шоферском искусстве, в выполнении плана и в козлодрании, они срывались в пропасть на горных дорогах, осваивали новую технику и в итоге совершали трудовые и общественно полезные подвиги, давая отпор хулиганам в рамках дружин охраны порядка. Из поэмы в сценарий перешли лирические отступления, жалобы поэта на безлюбовное существование, обращения к силам родной природы и финальный монолог строителя нового общества. Любитель пейзажей и символов (чего еще желать режиссеру?) мог здесь найти и белую пену, и круговороты звезд, и черные деревья, живописно проступающие на белом фоне.
Художественный совет студии, почти все члены которого были близкие друзья и сослуживцы поэта и уж все поголовно знали о нежной дружбе поэта с директором, отметили богатейший материал, содержащийся в сценарии, а также огромные художественные возможности, которые вся эта история таит для любого стоящего режиссера. А режиссеры (они тоже непременно входят в художественный совет) наперебой говорили о том, как они «видят эту вещь» и как они бы ее «решили», если бы им выпало счастье… В общем, все прошло блестяще, первый вариант был принят, поэт получил еще десять процентов гонорара. Надо было теперь сделать кое-какие поправки, прояснить сюжет, более выпукло наметить образцы, укрепить канву, сократить диалог и вообще довести сценарий до мало-мальски приемлемого (желательно даже договорного) объема.
Между тем поэту, дважды перечитавшему свое любимое (и заслужившее столько похвал!) детище, сценарий нравился все больше, и было совершенно непонятно, что же делать с ним дальше. Прочитав сценарий в третий раз, Муртаз вставил в него образ старика басмача, дожившего до наших дней среди опасных трудов вредительства, а также стихи из своего последнего сборника. Новое обсуждение еще раз подчеркнуло выдающиеся достоинства сценария и постановило выдать поэту недостающие до половины суммы пятнадцать процентов. В то же время было сказано, что сценарий все же нуждается во всех упомянутых выше доделках — в прояснении сюжета, укреплении канвы и так далее. Прошел год, пора уже было переводить сценарий в план постановки, и поэту, его редакторам и даже директору студии, уже отчасти введенному к тому времени в курс дела, становилось ясно, что автор больше ничего не сможет сделать со своим прекрасным, но непригодным к постановке детищем. Положение создавалось трудное. Студией уже была выплачена за сценарий довольно большая сумма. Бухгалтер, приглашенный директором для консультации, смутно намекнул, что вследствие благосклонности директора к товарищу зрелых игр сумма эта даже превысила ту, что обычно выдают автору за два варианта сценария. Если же учесть, что оба эти варианта никуда не годились, то, значит, и превышенная сумма была выплачена зазря, так что ее предстояло как-нибудь списывать. При расторжении договора могли возникнуть всякие неприятные для автора (в плане моральном и материальном) осложнения. Да и сам факт, что студии приходится губить так всем поначалу понравившуюся художественную идею и расставаться с любезным ей автором, был достаточно неприятным. Ведь речь шла не о какой-нибудь там безликой кинопленке, не о пиломатериалах или старых костюмах. Речь шла о живом человеке, о поэте, существе талантливом, трепетном и многодетном. К тому же о товарище игр… И товарищ он был не занудному старику бухгалтеру, а молодому и любимому всеми директору. В общем, положение создавалось сложное, и директор уже несколько раз повторил: «Думайте, товарищи, думайте!», а участники узкого совещания все еще не подавали голоса. Потом старый бухгалтер сказал, что, собственно говоря, прецеденты были и что подобные случаи случались сплошь и рядом при всех директорах (он их пережил уже шесть). Выход есть. Конечно, не такой уж замечательный, но к которому уже прибегали, а именно: можно за оставшуюся сумму пригласить из Москвы какого-нибудь сценариста-драматурга (только не поэта), которой доработает сценарий на правах соавторства или даже еще более птичьих.
Выход, что и говорить, был не такой уж замечательный. Менее всего замечательным он был для поэта, для Мураза Муртаза, который при осуществлении этого плана мало того что лишался остававшейся до ста процентов половины гонорара, но и лишался еще половины своего авторского, отцовского права на прелестную девушку из чайханы, не говоря уже о том, что впоследствии, по выходе фильма, должен был лишиться и половины потиражных денег. С другой стороны, в настоящем виде сценарий Муртаза и вовсе не имел перспектив на будущее, на какую бы то ни было известность, на какие бы то ни было потиражные, что было уж и вовсе обидно, тем более что такое увенчание его усилий никак не могло помочь поэту растить свое огромное семейство, а также вести образ жизни, способствующий вдохновению. Поэтому не вполне замечательный выход, предложенный бухгалтером, был принят как единственно реальный. Теперь оставалось еще найти специалиста-соавтора, который не только смог, но и согласился бы завершить начатую поэтом работу. На поиски такого специалиста был отправлен в Москву молодой редактор-профессионал, недавно окончивший московский институт. После теплых встреч с бывшими однокашниками этот редактор, стесненный бюджетом времени, энергично обзвонил всех видных и маститых мастеров кинодраматургического дела, фамилии которых он выяснил в соответствующей инстанции. Некоторые из них отсутствовали, другие болели, третьи чинили машину, четвертые были заняты, пятых, кажется, не вдохновила идея сотрудничества на птичьих правах с каким-то Муразом Муртазом и с его опозоренной девушкой из чайханы. Продлив командировку на два дня, редактор достал дополнительный список, в который какими-то судьбами попал и Зенкович, Семен Давыдович, 141 № 94–18. Куратор из главка сказал, что это уже довольно известный молодой драматург и что о нем писали недавно в газетах. Кажется, в положительном смысле, хорошо писали. Редактор припомнил, что и правда писали — то ли хорошо, то ли плохо. На самом деле и действительно трудно было сказать, хорошо или плохо писала про первую пьесу С. Зенковича центральная газета. Там было сказано, что он талантливый молодой драматург и жаль только, что он пишет так плохо…
В общем, бахорский редактор обзвонил авторов из дополнительного списка, никого не застал на месте, но чудом застал Зенковича, который, кажется, совсем не заинтересовался ни девушкой из чайханы, ни творчеством Мураза Муртаза, не спросил даже, сколько это — пятьдесят процентов гонорара, но зато долго и дотошно выспрашивал, тепло ли сейчас в Бахористане, большие ли там горы и сильна ли мусульманская религия в этих горах. Как будто он хотел принять мусульманство или поехать на экскурсию в горы. Последнее предположение, впрочем, в значительной степени уточняет образ жизни моего друга С.Зенковича, который жил так, словно он ненадолго (да и то в порядке исключения, с трудом выбив себе путевку) попал экскурсантом на эту любопытнейшую планету и теперь вот ловит на ней свой туристский кайф. Редактор обрадовался, не услышав никаких серьезных медицинских, творческих или автомобильных возражений, и сказал, что у них в Бахористане еще очень тепло, а местами даже жарко, что горы там огромные, а мусульманская религия существует в качестве пережитка, который умирает очень стремительно и потому еще жив кое-где повсеместно, и что вообще товарищ Зенкович будет немедленно вызван в столицу Бахорской республики Орджоникирв для ознакомления с самим Муртазом и его произведением, а также для заключения с ним договора на киносценарий.
Вот так все началось.
И надо признать, все началось прекрасно. Мой друг С. Зенкович, совершив за счет киностудии четырехчасовой перелет, попал в поистине райский уголок земли, в атмосферу братской любви и нежного понимания всех его творческих и просто человеческих нужд. Начать с того, что ночью его встречал в аэропорту редактор с машиной, что его поместили в гостиницу, устланную толстыми китайскими коврами, что сосед по коридору тотчас же, среди ночи, угостил его дыней, а другой сосед напоил зеленым чаем, что утром за ним пришел поэт Мураз Муртаз и повел домой, где накормил пловом и еще какими-то очень вкусными кушаньями, названия которых мой друг, к сожалению, не смог запомнить сразу, а также познакомил со своими десятью сыновьями и двумя дочками. Поэт был очень маленький, очень лысый и очень подвижный. По-русски он говорил быстро, нечленораздельно и был сексуально озабочен. Редактор же был молодой, красивый, он встретил Зенковича, крепко и честно пожал ему руку и стал его другом навек.
Гостиница, в которой поместили Зенковича, была расположена рядом с базаром. Это было почти забытое в России чудо — базар. Здесь грудами лежали ярко-красные и нежно-желтые помидоры, виноград, большая сладкая редька, красный перец, яблоки, груши, огурцы, капуста, айва, ароматные травы и еще Бог знает что. Здесь продавали также какие-то загадочные предметы мусульманского обихода: деревянную курительную трубку, которую вовсе даже не берут в рот, а, напротив, надевают на пипиську младенцу, чтобы моча стекала в специальный горшочек, оставляя подстилку сухой; безобидный табачный наркотик, который кладут под язык, и, что еще более важно, узорчатые тыквочки-табакерки для этого наркотика; куски какой-то прозрачной гадости, которая служит здесь жвачкой и заменяет дорогостоящую заграничную; странную железную щетку, которой дырявят лепешку, прежде чем прилепить ее к стенке очага… А главное — здесь нельзя было остаться голодным. В одном углу базара дымился шашлык, в другом вкусно пахло пловом. В больших котлах рыба кипела в масле. Женщины продавали горячий горох стаканами. Бахорцы ели большие пельмени-манты, посыпая их красным перцем. Продавец кидал на газету сумбусу, горячие пирожки, похожие на беляши…
Все было вкусное, все подавали сразу, с пылу, с жару, и, присев на стол чайханы среди доброжелательных и красивых людей, Зенкович перепробовал всю эту вкусную еду, запивая ее терпким зеленым чаем. Это был ласковый Восток…
А на студии Зенковичу без сопротивленья выдали аванс. Потом ему вручили папку со сценарием Мураза Муртаза. Поздней его еще угощали в ресторане, на очень высоком уровне, с участием директора и бухгалтера. Участники пира рассказывали ему про здешние горы, которые ему еще предстоит увидеть, а также почему-то про Францию и Грецию, которые он увидеть уже не надеялся. Они просили его как можно скорее завершить работу, приехать снова, приезжать часто, и при этом Зенковичу было очевидно, что эти люди — и молодой директор, земляк Муртаза, и поседевший в боях бухгалтер, и будущий его режиссер Махмуд Кубасов, и нежный друг-редактор — все без исключения рады ему, рады их новому знакомству и хотят, чтобы дружба эта продолжалась вечно.
А потом Зенковича всей компанией так же ласково проводили в аэропорт. Он полетел домой придавать творению Мураза Муртаза литературную и даже, по возможности, кинематографическую форму.
* * *
Первое знакомство со сценарием «Девушка из чайханы» привело Зенковича в шоковое состояние. Он позвонил мне как-то поздним вечером, почти ночью, зачитывал по телефону перлы абсурдизма и слабоумия, усугубленного подстрочником, негодовал, смеялся, клялся отказаться от этой работы и начать честную жизнь. Даже вернуть аванс, если на то пошло. Потом он успокоился и решил, что не стоит нервничать: раз сценарий Муртаза признан неудачным даже на студии, надо его по возможности забыть. Зенкович прочел одноименную поэму и решил, что позаимствует оттуда два факта: тот, что у дороги стоит чайхана, и тот, что в чайхане работает девушка. Еще он решил оставить неизменным название фильма.
Зенкович придумал свой собственный, совсем новый сценарий — грустную и нежную историю про молодую женщину с ребенком, которая любит женатого шофера, а потом влюбляется в юношу и, запутавшись в своих любовных делах, погибает. Там, конечно, были и чайхана при дороге, и суровые работяги-шоферы, и Восток, который Зенкович уже успел полюбить. Среди героев выделялся один джек-лондонский шофер-бродяга; был там также розоватый, донкихотствующий мальчик и еще было суровое мужское братство; были трагические приключения в дороге, элемент детектива и элемент мелодрамы. Зенкович сам не ожидал, что все так ловко сладится у него в конце концов.
Когда он зачитывал мне этот свой первый вариант сценария, голос его звенел от волнения. Кончив, Зенкович напился воды, попытался улыбнуться небрежно и сказал:
— Надеюсь, это как раз то дерьмо, которое им нужно.
Однако я видел, что он так не думает и что он надеется, что это все-таки не совсем дерьмо. Мне, как человеку, не связанному с кинематографом, трудно было сказать по этому поводу что-либо определенное. Мне ясно было, с одной стороны, что написано все с чувством и вполне профессионально и отличается от опытов М. Муртаза, как Фолкнер отличается от Кожевникова; однако ощутимо было и то, что это все-таки какой-то особый, несколько облегченный вид прозы, некий субпродукт, приспособленный к идейным и производственным требованиям текущей (то есть прошлой) пятилетки (нынешняя пятилетка качества была объявлена позже).
Еще неделю Зенкович работал над стилем и диалогом, а потом отправил свое детище по почте и стал с нетерпением ждать ответа. Примерно через месяц он был телеграммой вызван в Орджоникирв для обсуждения его варианта сценария. Доброжелательный редактор позвонил Зенковичу и, успокоив его, сказал, что впечатление от его работы на студии в общем вполне положительное.
Я провожал моего друга в аэропорту. Он был чем-то встревожен. Казалось, он ожидал более восторженной, более праздничной телеграммы. Он сказал мне, что, по всей вероятности, задержится в Бахористане, там сейчас тепло и прекрасно, а в Москве — как всегда. Что хорошего может быть в Москве, да еще поздней осенью?
Итак, Зенкович вторично прибыл в Бахористан, на сей раз для обсуждения плодов своих усилий над злополучным творением Муртаза; точнее сказать, сценария, сочиненного им по поводу, или по мотивам, творения Муртаза.
Орджоникирв был, как и в первый раз, ласковым, теплым, изобильным. В гостиничном буфете все казалось ему вкусным, а на базаре — просто сладостным. На улицах стоял тот особый запах тепла и уходящего лета, который обычен для этого благословенного края в ту пору, когда во всех прочих местах уже льют холодные дожди или даже падает снег.
Редактор был с ним дружественно-нежен, сказал, что все о\'кей и что сценарий прямым путем идет к цели, то есть к производству. Даже есть режиссер, один из самых талантливых режиссеров на студии, — душа, рубаха-парень, весельчак Махмуд Кубасов. Конечно, сейчас будет худсовет, дадут кое-какие поправки, но…
И началось обсуждение. Все выступающие отметили, что сценарий изменился к лучшему, стал несколько более стройным и профессиональным, что выдающиеся художественные идеи М. Муртаза обрели теперь литературный и кинематографический эквивалент, однако…
Зенкович оторопел. Они всучили ему бесформенную кучу дерьма, он им написал вещь — с литературой, драматургией, да они ведь, кажется, довольны, так о чем в конце-то концов речь?..
Однако речей было много. Ораторы говорили, что сценарий все же отчасти утратил национальную самобытность, которой и вообще и в частности отмечено творчество М. Муртаза. (Боже, да что там у него за творчество?) И вот теперь нужно будет эту самобытность мало-помалу восстановить.
Всем членам худсовета понравился розовый шофер. Он был в розовых традициях Розова, и это было очень хорошо. Что же касается джек-лондоновского бродяги, то Зенковичу напомнили, что шоферы — это все-таки передовой отряд рабочего класса, и это нужно подчеркнуть в первую очередь. Исчез, оказывается, гул большой стройки, который был слышен у Муртаза. Его тоже надо восстановить.
Но главное — сама девушка из чайханы. О ней говорили много и заинтересованно. В поэме это, оказывается, был очень чистый и светлый образ. Вообще, бахорский народ любит только чистые и светлые женские образы. А в сценарии у девушки ребенок. Как тут быть?
Один из членов худсовета предложил сделать девушку татаркой. Татарке можно многое, почти все. Изумленный Зенкович крикнул, что эту операцию он произведет в два счета. Большинство членов худсовета сказало, что все-таки не нужно (хотя бы она и была татарка), чтобы она любила женатого шофера. Пусть она любит только молодого, розового, тогда это будет по-нашему, по-бахорски, и по-нашему, по-татарски. Зенкович вякнул, что тогда не будет драмы, но тут выступил самый главный редактор. Он сказал, что драме и не должно быть места на большой дороге, которая ведет ко всесоюзной стройке. Там должно быть место для пролетарского интернационализма…
Теперь говорили все. Говорили об отце бедной девушки из чайханы. Очень плохо, что у нее нет отца. У всех бахорских (и даже татарских) девушек есть отцы. Это очень важно для девушек. Это помогает им жить. Или пускай этот отец был раньше, но погиб на войне. Пусть он погибнет, освобождая белорусский народ, тогда тема пролетарского интернационализма обретет конкретное звучание. Режиссер Кубасов просил авторов написать эпизод героической схватки, в которой погибает отец девушки, унося за собой в могилу десятки черных фашистских жизней.
Зенкович сказал, что подумает.
Всем понравился в сценарии элемент мелодрамы, а также суровой мужской дружбы. Нужно только сделать, чтобы это была производственная дружба, чтоб она помогала этим шоферам выполнять свои обязательства, иначе совершенно исчезнут приметы нашего времени. Что касается детектива, то он может остаться как любимый народом жанр. Зенкович буркнул, что, поскольку из двух мужчин остается один, детектив ему не понадобится. Девушка, впрочем, тоже.
Его просили все же оставить девушку, ссылаясь на специфику жанра, на название поэмы, любимой народом, и на производственные планы студии. Упомянули почему-то даже уборку хлопка в республике и борьбу с хулиганством.
Пожилой режиссер, стосковавшийся по публичным выступлениям, говорил целых полчаса.
— Этот девушка, — воскликнул он с болью, — он же советский человек. Я вспоминаю тяжелый время Гражданский война, когда был голод. Вспоминаю время Отечественный война, когда во всем был недостаток. Я вспоминаю время реконструкций…
Покончив с воспоминаниями, режиссер перешел к художественной теории:
— Я вспоминаю великий бахорский режиссер Рахметов, который сказал, что кино должен быть интересный.
— Что снял этот Рахметов? — шепнул скучающий Зенкович своему черноусому соседу-оператору.
— Два картина, — ответил сосед шепотом. — Очень плохой. Тогда пленка был мало. Один картина он кончил. Другой — из Москвы режиссер кончил. Рахметов уже кончился. Он слабый был. Очень больной.
— Что должен быть в современный картина?! — воскликнул старый режиссер и долго молчал. Аудитория приняла паузу за конец выступления и оживилась. Но пожилой режиссер не дал сбить себя с толку. — В современный картина должен быть много примет советской власти. Без этого картина может быть слабый… Я не понял, был ли этот девушка комсомолка.
— Товарищи, — призвал молодой режиссер, явно намекая на безграмотность старого. — Побольше художественного анализа…
Выступавшие стали давить на эрудицию. Был даже упомянут Джеймс Олдридж, трижды Чингиз Айтматов и четыре раза чеховское ружье, которое должно все время стрелять. Режиссер Кубасов сказал, что ему в этом сценарии действительно не хватает выстрелов. Говорили о необходимости пластики, ритмики и параллельного монтажа. Когда цитаты стали повторяться по третьему разу, Зенкович впал в полный ступор.
Заметив отеческим оком депрессивное состояние автора, директор обратился к нему с ободряющей и даже ласковой речью.
— Почему бы уважаемому автору, — сказал он, — не поехать в нашу родную долину? Лучше этого места нет в мире. Чтобы там на месте увидеть простых тружеников горного кишлака. И даже, может быть, познакомиться с девушкой, пленившей сердце нашего поэта Муртаза.
Муртаз горячо поддержал эту идею, однако уточнил, что свою девушку он писал в буфете, в аэропорту, в общем, в другом месте…
Все заулыбались и сказали, что они понимают сложные пути творчества.
Зенкович подал голос. Он сказал, что сегодня же вечером он отбывает в горную долину.
Худсовет воспринял это как здоровую и оптимистическую реакцию на принципиальную, конструктивную критику и постановил выдать Зенковичу еще пятнадцать процентов гонорара. Поэт Муртаз выехать сейчас в долину не мог. Он должен был искать деньги и ходить на работу. Кроме того, настоятельные сексуальные поиски прочно привязывали его к республиканскому центру. Однако Муртаз снабдил Зенковича отличными рекомендациями. Он сказал, что в райцентре третий секретарь райкома Гопузов, один из его родственников, найдет для Зенковича лучшее место на земле, где ему жить. Скорей всего, это и будет родной кишлак Муртаза. Или родной кишлак директора студии.
Вместе с Муртазом Зенкович побывал на приеме у молодого директора.
— Увидите нашу долину, — лирично сказал директор. — Не забудьте описать в сценарии желтые маки…
Потом он напомнил Зенковичу, что у друга его Муртаза так много, так много детей… Может, это означало, что Зенкович, получив пятнадцать процентов, должен был оказать поэту материальную поддержку. Зенкович предпочел не задумываться над смыслом этого намека.
Вместе с редактором Зенкович побывал на приеме у председателя Комитета кинематографии республики. В ведении комитета находилась все та же небольшая студия «Бахорфильм», так что председателю не оставалось никаких других занятий, кроме упорной борьбы за власть с непосредственным руководством студии. Редактор информировал Зенковича, что в этой борьбе за последние пять лет погибло уже три директора студии и два председателя комитета.
Председатель комитета сказал, что он в общем и целом удовлетворен сценарием. Он только просит вставить туда, как иностранцы восхищаются успехами Бахористана в строительстве социализма.
— Один очень знаменитый американский писатель… — задумчиво сказал председатель. — Как же его? Манн? Нет, не Манн…
— Фолкнер? — подсказал редактор.
— Нет, — покачал головой председатель. — Примерно так… Альфред Шмальц…
— Альберт Мальц?
— Может быть… А может, и нет. Он сказал, что сколько он проехал в мире, а лучше Бахористан не видел… Хорошо было бы туда вставить сотрудничество в рамках СЭВ. Остальное совсем не очень плохо…
Выйдя от председателя, Зенкович двинулся в гостиницу собирать вещи.
Через час попутная машина, уходившая в горы, подобрала Зенковича на шоссе. Путешествие началось. Зенкович улыбался, глядя на прекрасные снежные горы, и мало-помалу забывал кромешный мрак обсуждения.
Ах, дорога! Новые места, новые люди, и времена, и нравы, а чаще просто волнение, просто ожидание — вот оно, откроется за поворотом нечто невиданное, незнакомое. А когда так ждешь, и правда начинает казаться, что все здесь немножко другое в этих местах, все тобой еще не виданное — и горы не те, и люди другие. А может, они и правда чуть-чуть другие. А еще чуток разницы сам уж дотянешь, за счет своего ожидания и радостного настроения. Дорога, кто не любит тебя, дорога? Недаром ведь родился в нашей стране известный анекдот — про человека, который все мечтал, все добивался уехать в другую страну, где молочные реки, а едва уехав, добивался разрешения возвратиться назад, потом снова маялся, добивался, чтобы разрешили уехать (по этой вот трудности передвижения и заключаем мы, что анекдот наш, отечественный), и так до тех пор, пока власти, ведающие затруднением передвижений, наскучив всей этой маетой и обозлившись вконец, не прикрикнули:
— Да что вам не сидится на месте, Иванов (или его звали Рабинович, этого человека, уже и не вспомню)?
На что он ответил одной фразой (из-за фразы ведь чаще всего и рассказывают анекдоты, чтобы по старости, забыв самый анекдот, сохранить эту самую фразу, в которой собрана вся соль и вся мудрость):
— Там говно, здесь говно, но дорога…
Ах, дорога. Как нас всех тянет в дорогу, и старых и малых! И стоит ли удивляться, что друг мой Сеня Зенкович, великий странник, пришел в такой необычайный восторг от бахорской дороги? Они ведь и впрямь удивительны, дороги Бахористана, — узкие коридоры ущелий, где реки рычат в белой пене, где вздымаются к небу горы и на них — гнездами — кишлачки, вечные снега, изумрудная зелень садов.
А когда устанет глаз и притомится тело, шофер тормозит: вылезай, друг, закусим. У горной речки вмазан в землю котел, под ним огонь — варится шурпа. И самовар кипит у чайханщика, и лепешка только что из очага, хрустит и тает во рту и упоительно пахнет. Блестят мытые бока арбуза, вот он хрюкнул под ножом и распался, обнажив ярко-красную, прохладную плоть. Шофер режет арбуз на множество мелких долек — все наедятся, всем хватит, и своим и чужим.
Зенкович не устает удивляться здешней щедрости, гостеприимству бахорцев и какой-то изысканной культуре пиршества. Как они разливают чай, как угощают стариков и незнакомцев, как неторопливо, с достоинством пьют! А ласковое солнце все греет, растопляет сердце, и кажется — так будет всегда: дорога без конца, ласковая, щедрая, гостеприимная дорога под облаками.
Снова — подъем, подоблачный перевал в снегу, спуск в теплую долину, маленький базар у чайханы, где рдеет перец и золотятся дыни… А вон малюсенький, будто гнездо, весь из камешков, прилепился кишлак — каменные коридоры его улиц, таинственные его дворики: уж там непременно происходит что-то другое и неведомое, непохожее на нашу жизнь. (Зенкович уверяет, что эти сокрытые от глаз дворики не обманывают самые пылкие ожидания, но тут, конечно, надо делать скидку на неутолимое этнографическое любопытство моего друга Зенковича.)
На исходе того же дня Зенкович прибыл в маленький городок, служивший райцентром, и даже успел пообщаться там с весьма приятным молодым мужчиной, секретарем райкома товарищем Гопузовым, который обещал завтра спозаранку отвезти Зенковича в самый что ни на есть прекрасный и глухой кишлак, на свою родину.
Утром они на газике тронулись в путь от дома Гопузова. Их провожала пожилая бахорка, которая словно не замечала присутствия Зенковича, протягивая секретарю узелок с провизией.
— Ваша матушка? — спросил Зенкович, изо всех сил стараясь быть любезным и почтительным.
— Зачем матушка? — обиделся секретарь. — Жена. Старая, что ли? Она не старая, она на три года меня младше.
Зенкович решил загладить неловкость, переключив внимание секретаря Гопузова на красоту пейзажа, который и в самом деле был прекрасен. И все же вовсе уйти от семейных разговоров в Бахористане нельзя, так что в конце концов секретарь стал выспрашивать у Зенковича, сколько у него детей, в каком возрасте он женился и в каком развелся. С неизбежностью сравнивая их достижения (сравнение было, конечно, всякий раз не в пользу Зенковича), секретарь завершил беседу победоносной фразой:
— Я сам в восемнадцать лет женился!
Потом он огорченно взглянул на Зенковича, потому что они почти одновременно проделали в уме нехитрое арифметическое действие: восемнадцать минус три. В результате они получили то, что и должны (или не должны) были получить, — возраст невесты.
— Это я ошибся, — сказал секретарь, не отрывая глаз от Зенковича и стараясь уследить за ходом его мысли. — Мне уже двадцать три был.
Зенкович впервые с неловкостью осознал, что, хотя он как будто бы неплохой человек и ему можно кое-что рассказать, все-таки он человек оттуда, из России, и рассказывать ему следует не все. Это было и обидно, и неприятно. С одной стороны, ему было все равно, когда женился секретарь: когда созрел, тогда и женился. С другой — ему это было все же весьма любопытно — и то, что невесте было тогда пятнадцать, и то, что сейчас, в свои сорок, она выглядит как хорошо сохранившаяся старуха семидесяти лет. Хотелось также спросить, какой калым платили в те годы, но теперь спрашивать было уже неловко.
— У меня семь детей, — сказал секретарь с вызовом.
— У меня один, — сказал Зенкович. — Притом один раз в неделю.
Оба замолчали, производя в уме арифметические действия. Секретарь сосчитал, что у него детей в сорок девять раз больше, чем у Зенковича (семижды семь), а Зенкович получил таким образом объяснение, почему его бывшая жена (вид которой был ему давно отвратителен) выглядит в девять раз моложе, чем жена секретаря. В выигрыше опять остался секретарь…
Преодолев головокружительный подъем, машина въехала на улочки кишлака Вашан, стесненные глинобитными стенами и сверкающие горными потоками. Улицы эти карабкались в гору столь же стремительно, как и дорога, ведущая к кишлаку. На вершине улицы машина остановилась, и Гопузов представил Зенковичу своего отца, почтенного восьмидесятилетнего старца. Секретарь сообщил, что его почтенный отец совсем недавно женился на тридцатилетней женщине. После этого секретарь Гопузов, Зенкович, шофер Гопузова и старик Гопуз уселись на айване, где уже начали мало-помалу собираться родственники. Каждый из них приносил с собой пеструю скатерть-достархан, в которую были завернуты лепешки, конфеты, гранаты, урюк. Гости неторопливо беседовали в ожидании чая. Вновь приходящие снимали при входе калоши или ботинки, оставаясь в носках или мягких чувяках, с удобством усаживались на длинных стеганых одеялах, а Зенковичу, как европейскому гостю, подоткнули под спину подушку. Разговор шел преимущественно на бахорском языке, так что Зенковичу оставалось разглядывать гостей и размышлять о вечном.
Откуда-то появилась бутылка водки. Секретарь неторопливо налил себе и Зенковичу. Зенкович от водки отказался, так что секретарь остался со своим стаканом в одиночестве. Но он, вероятно, уже привык к этому своему секретарскому одиночеству и даже находил в нем горькое удовольствие. Он долго держал стакан на весу, высоко поднимал его перед собой, смотрел на свет.
И Зенкович вдруг понял, что это не просто обеденное возлияние. Что эта игра со спиртным имеет еще и символический, ритуальный смысл. Здесь, в присутствии своих близких, односельчан и старейшин своего рода, секретарь совершал привычно-неизбежное и все же требующее отваги богохульство. Он совершал его как современный, цивилизованный человек, как коммунист, которому приходится демонстративно порывать с предрассудками. В то же время он совершал его как человек, сознающий жертвенный смысл своего поступка: он, Гопузов, выдвинутый народом на большой пост, должен был совершить это святотатственное самопожертвование ради благополучия сородичей. Не просто ради того, чтоб он, Гопузов, мог свободно передвигаться на высоком уровне, куда вознесла его счастливая звезда, а ради благополучия всех Гопузовых, к их вящей славе рисковал он сейчас своим будущим, своим здоровьем, своей окончательной карьерой перед лицом Аллаха.
Секретарь начал пить. Гости и непьющий Зенкович с ужасом и омерзением наблюдали эту процедуру.
Зенкович утолил голод лепешкой, курагой и чаем. Но через час принесли шурпу. Похоже было, что пир только начинается и что Зенкович совершенно напрасно насытился лепешкой.
Внимание сытого Зенковича привлек обтрепанный старик в чалме, которому один из гостей протянул недоеденную шурпу. Старик, сидевший с краю, молниеносно сожрал остатки чьей-то шурпы и до блеска вылизал миску.
Зенкович заметил, что старик этот не принес, как все прочие, угощение, завернутое в достархан. Он вообще ничего не принес. Секретарь, наклонившись к Зенковичу, объяснил:
— Это бывают у нас такой люди. Жадный люди. Ходит, сам ничего не приносит, никому не дает. У всех просит. Остатки доедает…
Итак, старик этот был знаменитый восточный скупец. Он был как опустившийся пьянчужка, который больше не стыдится своей низкой слабости и своего падения. Он не был беден, он был не беднее других, этот старик, может, даже богаче, но он не мог преодолеть своей жадности, он примирился с ней и больше не скрывал ее от людей… Теперь он мерзко вылизывал второе блюдо из-под шурпы.
За достарханом подшучивали над почтенным старцем Гопузом, который засыпал то и дело. Гости будили старца и спрашивали его о чем-то. Старик отвечал, и все дружно смеялись. Гордый своей ролью переводчика и гида, секретарь объяснил Зенковичу:
— Они спрашивают, он еще может? Старик говорит, что он еще может… Вот смотри. Умный старик…
Старик улыбнулся беззубо, в сотый раз подтвердил, что он еще может, и снова уснул. Гости стали будить его и спрашивать, сколько раз он может. Однако так и не добудились.
Секретарь, посмеявшись от души, с теплотой осмотрел собравшихся и сказал Зенковичу, что это все родственники, это все Гопузовы. Зенкович уже и сам понял, что находится на родовом квартале Гопузовых, на сборище самых почтенных представителей рода. Секретарь горделиво сообщал:
— Это вот сидит завсклад. Это директор школа. Это бригадир. Это завмаг.
Окончательно разомлевший от выпитого, ощущая к Зенковичу нежную симпатию благодетеля и хозяина, щедро увеселяющего иноземного гостя, а может, алкая нового признания и новой славы, тщеславный секретарь наклонился к москвичу и сказал проникновенно:
— Ни один Гопузов в поле не выходит!
Примитивный европеец и прогрессист, немедля шевельнувшийся в Зенковиче, был шокирован этим сообщением и не знал, как следует на него реагировать. Только потом, гораздо позднее, понял Зенкович цену и смысл такого признания. Это была похвальба хорошего человека, человека высокой морали, который любит своего ближнего, рискует не ради себя, а ради ближнего, ради своего родственника, пусть даже и не близкого родственника, а просто представителя своего рода. Нет, не для себя пил он эту омерзительную (уже, впрочем, ставшую приятной) водку; не для себя дрожал на пленумах обкома и трепал себе нервы; не для себя подвергался начальственным разносам, просиживал штаны на бюро, заседаниях, говорил плохие слова про Аллаха и Мохаммада — ради них, ради ближних, ради всех Гопузовых села Вашан, ибо принцип братства еще не распространялся для него на всех братьев во Христе или в Магомете, не поднимался даже до уровня класса или нации. Но принцип существовал, и пусть он действовал лишь в рамках родового квартала, своего махалля, все равно Гопузов был человек, обладающий этическим принципом, он не был человек беспринципный, человек аморальный, человек безнравственный…
Во дворе кончали разделывать барана. Осоловевший от еды Зенкович с трудом одолел кашу и теперь медленно попивал чай, ожидая, когда будет шашлык. Или плов? Или что?
Стало темнеть. Барана вдруг погрузили в машину, секретарь простился со всеми и уехал. Гости разошлись, айван опустел.
Зенковичу постелили тут же, на айване. Засыпая, он слышал, как лепечет крошечный водопад.
* * *
Зенкович открыл глаза и увидел склон горы, уже освещенный солнцем; вспомнил о том, что он в далеком кишлаке, в самом сердце гор, обрадовался, подумал, что теперь хорошо было бы отыскать туалет. И вдруг поднялся в изумлении, отбросив теплое одеяло: вниз по склону горы катился человек в красном платье. За ним второй. Зенкович вскочил на ноги… Вглядевшись внимательней, он успокоился. То, что катилось, было похоже на человека, но являлось все же неодушевленным предметом. Зенкович разглядел наконец, что чучела эти пускал маленький человек, который карабкался по уступам горы высоко-высоко, у самого гребня. Человек косил траву, осторожно передвигаясь по склону, потом заворачивал скошенную траву в красную тряпку и пускал красный узел вниз. Сделав ленивое умственное усилие, Зенкович пришел к выводу, что человек, столь тяжким трудом добывавший пропитание для скота, был, скорей всего, не Гопузов. Утомленный умственной работой, Зенкович уже отправился было на поиски туалета, когда к айвану приблизился мальчик. Зенкович жестами обозначил неотложную нужду, мальчик сказал что-то по-бахорски, потом, взяв Зенковича за рукав, повел его за собой. Вопреки ожиданиям Зенковича они пришли не в туалет, а в соседний двор. Здесь, между уличной калиткой и вторыми, глухими воротами, стояла такая же гостевая мазанка с айваном, как в доме старика Гопуза. На айване уже расстелен был достархан, а на нем лежали конфеты, лепешки, урюк и гранаты. Вскоре появился хозяин и объяснил Зенковичу, что он тоже родственник Гопузова и что он хочет, чтобы Зенкович у него завтракал. Потому что все родственники хотят, чтобы он у них завтракал. Чтобы он завтракал, обедал и ужинал у родственников. Немножко чай, потом немножко кислое молоко, потом немножко шурпа, потом немножко плов, потом снова чай и лепешка, потом… Зенкович благодарил, прижимая левую руку к сердцу. Он объяснил хозяину, что вообще-то он собирался также работать, писать — переделывать сценарий, хотя он, конечно, не горит желанием срочно приступать к переделкам. И тогда его хозяин, с таким трудом объяснявшийся по-русски, вдруг спросил легко и небрежно, с неподражаемым студийным шиком:
— Какая вариант синарий? Канчательный вариант? Запуск производство била? Подготовительный период била?
Зенковч уже раскрыл рот, чтобы спросить, откуда здесь, в самом сердце гор, приобрел этот человек столь тонкое знание кинопроизводства, когда прибежал мальчик и что-то сказал хозяину по-бахорски.
— Завсклад такой работа, понимаешь? — сказал хозяин. — Товар немножко отпускать надо. Сиди, лепешка кушай, приду.
Зенкович остался наедине с таинственной загадкой. Он долго развлекал себя лепешкой и чаем, потом прикрыл глаза и стал блаженно дремать на просторном айване, в виду поднебесных гор. Сквозь дремоту он видел, как приоткрылись створки внутренних ворот и как из них стали выползать дети всех возрастов. Остановившись у ворот, они с опаской смотрели на Зенковича. Он не шевелился. Дети стали подходить все ближе и ближе. Их было много, и все они были похожи на хозяина-завскладом, как промтовары отечественного производства на просторах полупустого универмага. Вслед за детьми стали выходить женщины. Их было три, они тоже были разных возрастов, однако ни одна из них не была похожа на завскладом.
И тут Зенковича осенила догадка. Это были жены завскладом. Именитый завсклад мог себе, наверно, позволить такую роскошь, как три жены. И непохожие жены рожали ему детей, как две капли воды похожих на породистого завскладом… Зенкович разглядывал их сквозь полуприкрытые ресницы, а между тем дети и жены приблизились к Зенковичу совсем близко, чтобы рассмотреть его подробнее. Осмелев, они стали щупать одежду Зенковича и, наконец, щекотать его пятки. Не выдержав, он вдруг прыснул, потом тявкнул по-собачьи. Дети и жены со счастливым смехом бросились врассыпную. Зенкович больше не тявкал. Он сделал вид, что снова уснул, и даже захрапел. Тогда они стали подкрадываться к нему снова. Усыпив их бдительность, он тявкнул еще громче. Они снова разбежались с визгом и хохотом. Они были совершенно счастливы. Он, впрочем, тоже…
За этой игрой они провели час, и Зенкович вдруг с настоятельностью вспомнил про туалет. На его счастье, вернулся завскладом, и, завидя его еще издали, семейство скрылось за глухими воротами. За этими воротами скрывалось теперь для Зенковича так много тайн, что он совершенно забыл о тайне кинематографических познаний хозяина. Правда, он не смог больше забыть о туалете, и завскладом гостеприимно всплеснул руками, давая понять, что это дело простое и общедоступное. Он вывел Зенковича за калитку, на крошечную площадь, на которую выходили калитки еще трех хозяев. По краю площади стекал с горы поток.
— Здесь лучший место, — сказал завскладом. — Давай, давай, не стесняйся…
Зенкович расстегнул брюки, мучительно размышляя о том, почему это место лучшее, если в любую минуту любая из трех калиток может отвориться и прекрасная девушка с газельими глазами… О, стыдоба!.. Застегнув брюки, Зенкович стал оценивать обстановку более здраво: в конце концов, им не пришлось идти далеко от дома, это раз. Аккуратный мусульманин сразу может здесь подмыться, а церемонный европеец — помыть руки. Это два…
— Мыло бы мне только… — сказал Зенкович, но завскладом покачал головой:
— Мыло тут нельзя… Химический вода вниз пойдет. Там внизу люди этот вода берут, чай пьют…
«И ведь правда, — подумал Зенкович умиленно. — Мы-то, брезгливые европейцы, готовы пить любую щелочь, а тут только чистый продукт…»
Теперь, когда исполнение всех желаний принесло ему облегчение, Зенковичу захотелось проверить свою этнографическую догадку, и он пошел на маленькую (уже почти восточную) хитрость. Он сказал, что хочет сфотографировать детей завскладом и вообще его домашних.
— О-о-о, у меня много-много людей кормить надо… — вздохнул завскладом и, приоткрыв ворота, бросил клич. За глухими воротами сразу началась суета, и вскоре Зенкович смог наконец из своего гостевого карантина проникнуть за сокровенные ворота. Приступая к съемкам, он мысленно разделил детей по матерям. Сделать это было нетрудно: они жались к матерям в присутствии постороннего. Кроме того, возле старшей жены и дети были постарше. Потом Зенкович собрал детей в обособленную кучу. Маленькие продолжали копошиться в дальнем углу двора, и Зенкович небрежно спросил у завскладом:
— А эти что, не ваши?
— Почему не мои?! — воскликнул завскладом с обидой. — И эти мои. И те мои.
— А эти?
— И эти… И эти… И вот там… — Похоже, он уже готов был произнести знаменитую ноздревскую фразу, когда вспомнил вдруг о строгом единобрачии, предусмотренном УПК республики, и об органах надзора. Его отцовское чувство подверглось суровому испытанию, и хитроумный Зенкович ощутил себя мудрым Соломоном на знаменитой выездной сессии библейского суда. — Тут есть родного брата жена… — сказал наконец завскладом. — Брат далеко горы уходил. И двоюродного брата есть жена, он уходил далеко горы. Их дети все равно как родные дети растут.
— Что там в горах?
— Там баран ходит…
Зенкович отдал должное мудрости завскладом. Там, в родных горах, бродили лишние мужья и лишние бараны. Последние были совершенно необходимы людям для производства свадебных пиров и для продолжения рода, чего, однако, не хотело принимать в расчет европейское законодательство. К счастью, никто не мог пересчитать этих заоблачных баранов: горы помогали людям жить по-своему, по-горному, то есть по-человечески…
После завершения съемок в гостевую пожаловал еще один родственник — молодой и красивый директор школы Арслан. Он сказал, что уже пора Зенковичу с ним тоже почайпить, к тому же он хотел бы показать гостю школу, прежде чем пригласить его домой. Зенкович, обладавший, как уже было отмечено, поразительной для его возраста любознательностью, сказал, что школа его тоже очень интересует. Вместе с директором он и отправился туда по узкой горной дороге. Навстречу им попадались младшеклассники, только что закончившие смену. Они несли на голове книги и тетрадки, завернутые в цветные платки и тряпки. При встрече с Зенковичем все они радостно улыбались, однако девочки при этом отворачивались, закрывая нижнюю часть лица краем платка. Так же поступали и взрослые женщины. Одна из них кормила грудью ребенка. При виде Зенковича она закрыла нижнюю часть лица, зато свою изобильную, смуглую грудь даже позволила сфотографировать на память. Вид этой прекрасной груди навел Зенковича на размышление об относительном характере всякого этикета и безотносительной красоте женского тела. Как уже успел отметить читатель, наш скромный герой был по натуре своей мыслитель и созерцатель, что само по себе не так уж хорошо. Лучше бы он был деятель…
Во дворе школы Зенковича и директора приветствовали учителя, наблюдавшие за общественно полезным трудом старшеклассниц, которые были заняты уборкой двора. Зенкович присоединился к этой группе, понимая, что наблюдать за старшеклассницами ему следует не впрямую, а как бы искоса. Директор напомнил Зенковичу, что в Бахористане вообще не принято глазеть на чужую женщину — следует делать вид, что ты ее не замечаешь, тогда и она будет делать вид, что не замечает тебя, — тогда все, может быть, обойдется. Зенкович подумал, что это, в сущности, неплохое правило, которое при неукоснительном его соблюдении избавило бы человечество от стольких брачных недоразумений. Остается только уточнить, какие женщины являются чужими. Директор объяснил, что старшеклассницы его школы смело могут рассматриваться как чужие женщины, потому что почти за каждую из них внесен (частично или полностью) так называемый калым. Женихи, которые внесли этот калым, да и сами невесты с нетерпением ждут окончания курса наук, чтобы приступить к главному делу жизни. Не ощущая острой потребности в законченном среднем образовании и считая свое женское созревание завершенным, эти девушки, может, и пренебрегли бы опостылевшей школой, однако за посещаемостью строго следит районный прокурор. Зенкович с умилением констатировал, что сбылась мечта самых передовых просветителей — образование стало заботой не только всего народа, но и его карательных органов.
Раскрывая Зенковичу хитросплетения бахорской жизни, молодой директор время от времени с чувством повторял фразу, которая очень ему нравилась:
— Сам я человек современный.
Фраза эта глубоко интриговала Зенковича, который в своих бесконечных странствиях давно уже тщился выяснить, что же такое современный и что такое несовременный, что такое провинциальный, а что такое столичный, что такое интеллигентный, а что такое неинтеллигентный человек.
— Видите, какой я современный человек.
Вспомнив о необходимости пополнять свой книжный фонд, Зенкович выказал желание осмотреть школьную библиотеку, но в ней он обнаружил только школьные учебники на бахорском языке, старые постановления по вопросам сельского хозяйства, стихи местных поэтов, а также четыре русские книги. Одна из них оказалась «Книгой допризывника», вторая «Руководством по организации военно-полевых складов», третья переводом на русский язык венгерского пролетарского прозаика Каринти, а четвертая одиннадцатым томом собрания сочинений Л. Толстого и была, вероятно, так же малопонятна простому бахорцу, как тибетская рукопись «Ганджура». Поначалу Зенкович оптимистически предположил, что книгу эту зачитывает до дыр местный учитель русского языка, но ее страницы оказались неразрезанными. Сам же учитель вскоре объявился в библиотеке и приветствовал Зенковича развязным: «Как деле?» Больше ни одной русской фразы он не смог припомнить, так что романтическое предположение Зенковича отпало само собой.
Директор напомнил гостю, что пришло время почай-пить, и они двинулись в обратный путь. Перед воротами своего дома директор в последний раз, с угрожающим пафосом прославленного радиодиктора военной поры, воскликнул:
— Я человек современный!
И распахнул двери маленькой гостевой комнаты-мехмонхоны (только врожденное чувство языка мешает нам называть эти комнаты бахорского дома гостиными). Зенкович вошел и остановился, рассеянно глазея по сторонам. В комнатке с земляным полом стояли стол и два стула, в углу красовалась тумбочка. Стену украшали, по обычаю, вышитое покрывало, какие-то картинки, полотенца и портрет товарища Суслова.
— Ну? — с торжеством спросил директор. Зенкович вежливо зацокал языком, все еще не понимая, чего от него ждут. — Садитесь, — сказал директор и пододвинул Зенковичу стул. — Я человек современный!
Только усевшись, Зенкович понял, что имел в виду директор. Стулья! Два казенных стула. И канцелярский стол. Может быть, также и тумбочку из общежития. И правда, это было в кишлаке единственное жилье со стулом. Да еще с этим ненужным столом. И с сиротской тумбочкой.
— Да-а-а! — протянул Зенкович, имитируя крайнюю степень изумления.
— А это? — спросил директор, отпирая тумбочку. Он вытащил оттуда бутылку водки и с гордостью повертел ее в руках.
— Не будем, — сказал Зенкович. — Сейчас не будем. Рано. Жарко. И вообще.
— Чай будем, — охотно согласился директор. В конце концов, он уже продемонстрировал свой нрав современного человека.
Они уселись на полу, мальчик принес им зеленый чай, и директор простодушно рассказал Зенковичу всю правду о своих родственниках. Кто из них сколько заплатил калыму. У кого сколько жен. И сколько неучтенных баранов у каждого из них пасется в горах. О самом себе он говорил все так же уважительно и кратко:
— Я человек современный!
Впрочем, прогрессивность его не выходила за рамки приличий: жена и другие женщины его дома так и не показались гостю. Директор признал, что жена у него есть, но заявил, что, женившись по любви, он не платил калым. Зенкович не настаивал на исповеди. Он уже понял, что на следующем чаепитии в другом родственном доме он и без расспросов услышит все подробности из жизни директора.
За чаем «современный человек» сообщил Зенковичу приятную новость. Он сказал, что Зенкович приглашен в соседний кишлак на пир, посвященный обрезанию ребенка, так что он сможет увидеть на этом празднике много всяких прекрасных вещей. При этом известии любознательный Зенкович еще раз благословил судьбу, директора студии и взыскательный худсовет, совместно забросивших его в этот райский уголок нашего государства.
* * *
Весь следующий день Зенкович, как человек истинно творческий, провел в благочестивом творческом размышлении. Глядя на склон горы, он размышлял о том, кому (кроме самих работников творческого труда) и на кой черт нужно еще какое-то там творчество, если земля такой прекрасной и совершенной вышла уже из рук Творца, так полна чудес и неожиданностей…
Размышления Зенковича изредка прерывал престарелый Гопуз, отец секретаря Гопузова. Он приходил и садился у стены. Это каждый раз означало, что скоро появится его молодая супруга и принесет еду. Красное, свободно ниспадавшее платье супруги обозначало ее тугие груди нерожавшей женщины и ее соски, торчавшие, точно кнопки на пульте управления современной теплоцентралью. Зенкович уже знал от родственников, что эта молодая женщина два раза выходила замуж, но, оказавшись бесплодной, оба раза была изгнана из дому. Что заботливый сын-секретарь сосватал ее для овдовевшего родителя и что калым за нее потребовали небольшой, то ли из-за того, что она бесплодна (трудно было предположить, что старик Гопуз еще собирался плодиться в свои восемьдесят лет), то ли из-за того, что за нее уже дважды было уплачено. Когда Зенкович попытался однажды в доверительной беседе с кем-то высказать сожаление по поводу судьбы этой женщины, собеседник возразил с живостью:
— Что ему, со старичком плохо? Тепло ему. Накормлен.
Поскольку женский и мужской род не различаются в бахорском языке, Зенкович не сразу понял, кто кем накормлен. В конце концов он пришел к выводу, что оба, вероятно, накормлены, так что оба довольны. Любознательный Зенкович решил, что путем визуального наблюдения и методов дедукции ему, может, удастся выяснить, как разрешает юная супруга Гопуза половую проблему, а может, не только выяснить, но и внести свой посильный вклад в решение этой проблемы. Здесь автор должен заметить, что его друг Зенкович был сторонником активного вмешательства в жизнь, и если по мягкости характера он не придерживался знаменитого тезиса о том, что Добро должно быть с кулаками, то считал, что каким-нибудь полезным органом Добро все же должно обладать.
Размышления Зенковича о совершенстве природы и необязательном характере творчества дало ему силы отложить исправление сценария на неопределенно долгий срок. Освободив себя таким образом от трудовых обязательств, Зенкович отправился бродить вдоль сада, протянувшегося над горной рекой. И здесь ему вдруг представилось зрелище столь же таинственное, сколь и прекрасное. Вдоль речной террасы, точно птицы на жердочке, обратив лица к востоку и замерев в благочестивой неподвижности, сидели старики в нарядных халатах и чалмах. Они совершали коллективное богослужение. От просвещенного директора школы Зенкович уже слышал, что во времена мракобесия в этом кишлаке, как и во всех прочих кишлаках бахорской земли, была своя мечеть, даже две мечети, но в наше время, в связи со стремительным ростом просвещения, во всем Бахористане оставлена была только одна небольшая мечеть в городе Орджоникирв, вполне, впрочем, удовлетворяющая нужды международного мусульманского сотрудничества и борьбы за мир. В результате такого аскетического культобслуживания отдельным гражданам, выросшим еще при старом режиме, приходилось отправлять свои религиозные потребности без мечети, а иногда вот так — в саду над рекой. Оптимисту Зенковичу подумалось, что молитва, совершаемая на воздухе, в местности, располагающей к благочестию, не может не быть угодной Господу. Вид молящихся старцев пребывал в живописной гармонии с пейзажем и со всей атмосферой вечера на берегу горной реки, с прекрасным садом, напоминающим сады Аллаха.
Внезапно гармоническая картина была испоганена. Зенкович даже не сразу понял, что произошло. Он понял только, что трогательная гармония нарушена, и стал с отвращением приглядываться к подробностям этого святотатства. Он отметил, что старики повскакивали со своих мест, а некоторые даже обратились в бегство (неловкое и непристойное, ввиду их почтенного возраста и одежды, созданной для поз спокойного достоинства). Он заметил, что это началось как раз в тот момент, когда в поле зрения появился мужчина в черном пиджаке, размахивавший палкой. Острый ум Зенковича, сопоставив эти два явления, установил их причинно-следственную связь, которая, однако, не прояснила тайну странного происшествия. Зенкович услышал, что мужчина что-то кричит по-бахорски резким и неприятным голосом. Когда же Зенкович подошел ближе к речной террасе, ни стариков, ни мужчины с палкой там уже не было.
Теряясь в догадках, Зенкович вернулся в кишлак. Здесь он решил посетить сельмаг и купить там каких-нибудь конфет, чтобы порадовать старого Гопуза и его молодую супругу. Увы, конфеты продавались только одного сорта, того самого, который Зенкович уже видел на достарханах и на подносах в каждом доме. Они вряд ли могли потешить старого Гопуза. Однако сам магазин не оставил равнодушным воображение Зенковича. Здесь были предметы старые, предметы устаревшие и даже предметы старинные. Самым старым было рассыпное печенье. Оно лежало тут, вероятно, еще со времен ханско-байского мракобесия, и вид у него был такой почтенный, точно оно было сделано из серого мрамора. Были тут также старые сапоги, калоши, куски масла (тоже, судя по всему, старинного), широкие дохрущевской моды ичиги и керосиновая лампа времен победоносно выполненной третьей пятилетки. Наибольший интерес представляли, однако, сами полки магазина. Продавец сверху донизу увешал их черно-белыми грубо раскрашенными фотографиями, воспроизводившими кадры из индийских и арабских фильмов (главным образом были представлены дамы с пышной грудью и с родинкой на лбу). Кроме дам здесь были разнообразные, трогательно-знакомые фотографии генералиссимуса Сталина и его сподвижников (при орденах и без орденов, у телеграфного аппарата или на лыжах, с узбекской девочкой Мамлакат, с безымянной калмыцкой девочкой и с какими-то не по-нашему причесанными детьми, явно переснятыми с довоенных немецких открыток). Трогательные фотографии вождя, как ни странно, гармонировали с декольтированными арабскими дамами: судя по выражению его гениального лица, доброго генералиссимуса как будто даже радовало столь сладостное соседство…
Зенкович справился о цене ичигов. На самом деле ему хотелось спросить о замысле этой красочной экспозиции, объединившей вождя и арабских женщин, но он решил, что раньше или позже торговец, наверняка один из Гопузовых, позовет его в дом на чай и тогда он узнает о его замыслах. Пока он видел только, что завмаг был ленивый вор. Скромный сельский магазин все же давал ему, вероятно, возможность кормить детей от одной, двух, а может, и трех жен, поддерживая могучий клан Гопузовых. А может, позволял оказывать поддержку и самому главному Гопузову…
Зенкович вышел на площадь. Радио пело что-то протяжное по-бахорски. Может быть, это была песня о безнадежной любви. Или песня о высоком урожае, о великом друге, о вожде. О великих друзьях и вождях. Может даже, это была песня из кинофильма Махмуда Кубасова…
«Так запоет однажды наша девушка из чайханы», — подумал Зенкович. Он нашел, что мысль эта может оказаться небесплодной для его доработанного сценария. В самом деле, почему бы счастливой крошке не петь чаще?
Какой-то старик в военных брюках, с орденскими колодками на сером пиджаке подошел к Зенковичу и остановился, вглядываясь в него слезящимися глазами. Зенкович почтительно протянул старику правую руку, прижав левую к сердцу.
— Ты меня не знаешь? — сказал старик, заранее обижаясь. — А поэт Мураз Муртаз знаешь? Я его дядя по отцу, родной брат его отца… Меня тут все знают. И там все знают. — Старик горделиво повел рукой за горные хребты. — Мы с тобой завтра в другой кишлак на пир ходить будем. Праздник будет. Борцы бороться будут. Артисты будут. Надо сейчас парторг Кусманов идти, машина просить. Вместе идем.
Войдя в дом и увидев парторга Кусманова, Зенкович лишился дара речи. Это был тот самый человек в черном пиджаке, который час назад разгонял стариков в саду. Вон и палка стоит в углу. Видя, что Зенкович не решается начать разговор, дядя поэта, которого тоже звали Мураз (а может, еще и Муртаз), взял на себя представление.
— Этот человек Москвы. Будет сценарий делать про наш колхоз. Вместе мой племянник Мураз Муртаз. «Бахорфильм».
Парторг Кусманов глянул зорким глазом, спросил:
— Какой конкретно материал из наш колхоз берете свой сценарий?
Зенкович, еще глядя на суковатую палку в углу, ответил уклончиво:
— Это художественный фильм… Он еще, так сказать, не родился… Трудно сказать, что будет… Вот как ваша жена — пока она беременна, еще неясно, что она родит…
Неуместное сравнение с его женой Кусманов пропустил мимо ушей. Спросил деловито и просто:
— Какой фильм? Полнометражный? План этого года? Переходящий план? Какой вариант? Режиссерский? Ах, второй вариант. До запуска доживать надо…
Зенкович онемел от удивления. Между кишлаком и кинематографом определенно существовала загадочная связь…
Оклемавшись, Зенкович кивнул на палку, стоящую в углу.
— Я видел… — сказал он, запинаясь. — В саду. Старики…
Парторг отозвался печально:
— Вот так. Сам видел, какой предрассудки. Сколько им новый жизнь завозят, телевизор завозят, машина завозят… Все равно предрассудки. Атеистический борьба у нас отстает. Один разве все можно успеть?
Дядя поэта Муртаза подал голос:
— Для борьба предрассудок обрезание пир будет завтра ходить. Давай завтра машина.
— Машина испорчен, запчасти нет, — сказал парторг. — Очень трудно предрассудка бороться.
— Раз так, пошли. Пешком будем ходить, — сказал Зенковичу дядя Муртаза и добавил, обращаясь к Кусманову: — Слабый ты парторг. Рахметов сильный был парторг. Пошли, Семен!
Перед сном Зенкович пошел за ближайший сарайчик и там, справив меньшую из своих нужд, услышал вдруг полузабытые уже, волнующие звуки любовной битвы. Скрытая ветхими стенами сарайчика неведомая пара трудилась восторженно и самозабвенно. У Зенковича не было сомнений в том, что женская сторона в этом побоище представлена его молодой хозяйкой. Что касается второго участника турнира (мысль о проникновении группового секса в бахорские горы не потревожила душу Зенковича), то его кандидатура вызывала у Зенковича большое любопытство. Во-первых, при всем уважении к бахорским долгожителям Зенкович не мог представить себе, что засыпающий на ходу Гопуз-ака учинит такую возню в собственном сарае. Во-вторых, неизменные калоши старого Гопуза мирно стояли на айване: значит, старик был дома и, скорей всего, спал.
Зенкович вернулся в мехмонхону и решил, что будет наблюдать за сараем с упорством настоящего исследователя. Впрочем, сексологическое открытие не потребовало от пытливого Зенковича ни долгих усилий, ни душевных мук. Через четверть часа дверь сарайчика отворилась, и из нее с чувством выполненного долга вышел соседский мальчик Сурхат, пионер, второгодник и добрый друг Зенковича. Как исследователь чужеземных нравов Зенкович мог торжествовать победу, однако, засыпая, он отчего-то чувствовал себя обойденным…
* * *
Ранним утром Зенкович и Мураз-ака пешком двинулись в кишлак Сары-Чинар, где должен был происходить пир в честь обрезания. Старенький Мураз-ака бодро шагал впереди, и Зенкович едва поспевал за ним, особенно сильно отставая на подъемах. Солнце уже поднялось из-за гор и начало сильно припекать, а они все еще не вышли за пределы своего кишлака.
Иногда, замедляя шаг, Мураз-ака развлекал Зенковича рассказами. Он очень гордился своим прошлым, потому что был одним из самых передовых людей своего кишлака и еще в довоенное время был то ли членом партии, то ли просто беспартийным большевиком. Во всяком случае, он гордо называл себя коммунистом. Он был грамотным в те времена неполной грамотности и работал секретарем в сельсовете. Бахорская республика пользовалась тогда арабским алфавитом, так что сегодня Мураз-ака был одним из немногих жителей этих мест, который разбирал арабскую грамоту. Бремя этой редкой учености он делил с бывшими священнослужителями. Как и они, он мог прочесть молитву, написанную по-арабски. В то же время он умел разговаривать с председателем колхоза или парторгом на их современном языке, мог вспомнить при случае о своих заслугах в деле наведения порядка в этом глухом углу республики. В общем, он был человек с прошлым. Однако жил он настоящим, пожиная плоды, которые приносили ему возраст (а возраст в бахорском селении приносит не одни только болезни), революционные заслуги и знание арабского алфавита. К тому же, пробыв так долго на государственной службе в должности секретаря сельсовета, Мураз-ака в тот или иной период своей деятельности успел облагодетельствовать тем или иным способом чуть не всех своих односельчан и оттого мог требовать от каждого из них, а на худой конец от их потомства, смутно слышавшего об этих старинных заслугах, знаков уважения и благодарности. И поскольку он ждал от них благодарности, ожидание его немедленно передавалось гостеприимным жителям кишлаков, и под котлами с пловом вспыхивали приветственные огни… Другими словами, лучшего проводника, чем Мураз-ака, вряд ли можно было бы найти в округе.
Как достойному собеседнику, способному к тому же увековечить его прошлое, Мураз-ака время от времени раскрывал Зенковичу славные страницы этого прошлого…
— Вот здесь!.. — воскликнул он, остановившись под огромным чинаром близ кладбища. — Вот здесь мы учили вашанскую молодежь и комсомольцев пить красное самаркандское вино…
Глаза Мураза-аки затуманились воспоминанием. А может, еще и предвкушением выпивки. Он бодро двинулся в путь, а когда обернулся, увидел, что Зенкович не поспевает за ним.
— Устал? — посочувствовал Мураз-ака. — Давай сюда зайдем в гости. Чаю попьем. Тут один мой родственник живет. Мулла.
Мулла был высокий, кривой и такой противный, точно желал одной только внешностью своей узаконить традиционный образ муллы в бахорском кинематографе. Гостевая комната его дома не имела никаких специфических признаков его профессии, если не считать двух плакатов над дверью, написанных арабской вязью. Если бы Зенкович не знал, что здесь живет мулла, плакаты эти долго мучили бы его неразгаданностью. Он уже пережил эти муки в расписанной сверху донизу чайхане райцентра, где среди узоров и орнаментов были также две надписи по-арабски. В чайхане Зенкович проявил находчивость и усердие лингвиста, бьющегося над клинописью майя. Внимательно разглядев всю роспись, он обнаружил прежде всего, что подписи эти расположены симметрично на противоположных стенах чайханы. Далее он заметил в уголке надпись на кириллице. В результате хитроумного анализа любознательный Зенкович установил, что арабская надпись означала: «Слава КПСС». Продолжая свои поиски, Зенкович припомнил, что арабские надписи, замеченные им в ханском дворце в Крыму, были гораздо более длинными, и выдвинул рабочую гипотезу, предположив, что крымская надпись означала: «Да здравствует наше родное ханское правительство!»
В жилище муллы, тем более в гостевой комнате, надписи должны были, без сомнения, носить культовый, научно говоря, мракобесный характер. Догадку эту подтвердил и Мураз-ака, расшифровавший первые слова надписи: «Аллах акбар…» — «Слава Аллаху».
Тем временем мальчик расстелил достархан. Мулла провел ладонями по лицу, сказав «Аллах акбар…». Мураз-ака и Зенкович повторили его жест и молитву, впрочем, с разной степенью умения. Потом все трое стали пить чай и закусывать лепешкой, макая ее в каймак.
— Кусманов машину не давал, — пожаловался Мураз-ака. — Слабый парторг.
— Вчера ко мне приходил… — сказал мулла. — Обрезание его сына делать надо.
— Больше с него деньги бери, больше, — сказал Мураз-ака. — Совсем слабый работник. Район был, не справлялся. Студия не справлялся. Тут совсем не справляется: машина не давал.
— Значит, он работал на студии… — начал прозревать Зенкович.
— Тут каждый человек работал на студия, — сказал Мураз-ака. — Директор наш земляк, много себе брал работник. Кусманов картина работал — тоже не справлялся. Гопузов стал в район секретарь, кто кино не справлялся, обратно себе брал…
— Зачем он стариков палкой разгоняет? — спросил Зенкович.
— Плохой человек. Больше с него будем деньги брать, — сказал мулла. — Сиди немножко. Сейчас у него машина просить будем.
Мулла сдернул узорчатый платок с телефона, снял трубку, покрутил ручку. Неторопливо, величественно, вполголоса поговорил с блудным секретарем. Повесил трубку, покачал головой.
— Машина ремонт. Запчасти нет, — сказал он. — Плохой человек.
— Слабый работник, — подтвердил Мураз-ака. — Мы пошли. Тихонько ходить будем.
Мулла проводил их до калитки, простился с достоинством, с сознанием своей силы. Зенкович подумал при этом, что, может, и впрямь его мерзкая физиономия угодна Аллаху, раз он так спокоен за свое будущее в этом беспокойном мире.
— Тоже плохой человек, — сказал Мураз-ака, как только калитка за муллой закрылась. — Очень жадный. Деньги много имеет.
Дойдя до конца улицы, они остановились в тени кладбищенской ограды. Это было мусульманское кладбище. Бахорское кладбище. Пустыня за глинобитным дувалом. Ни травники, ни бугорка, ни надгробья. Сухая земля да глина. Из глины создан, в глину ушел, что тебе, человек? В углу одиноко стоял шест с белыми тряпками — флагами поминовения: это была свежая могила. За оградой пестрело дерево, обвязанное тряпочками.
— Святой могила, мазар, — сказал Мураз-ака. — Там как будто чудо был. Какой такой чудо? Сам знаешь, чудо не бывает…
Зенкович подумал, что самое большое чудо — это то, что мусульманская религия еще жива здесь, несмотря на порушенные мечети, на самаркандское вино, на просветительские усилия Мураза-аки и оплаченную деятельность парторга…
Они карабкались в гору. На первом же повороте стало прохладней. С далекого снежника дул ветер. Мураз-ака уверенно выбирал тропу.
— Э-э-э, — сказал он. — Я эти дороги как своя рука знаю. Бывало, район звонит — давай цифра, давай сводка. Каждый кишлак сводка давай! Каждый кишлак телефон нет. Вставай, пошел. Холод, зима, пошел. Этот цифра зачем нужен? Этот цифра все равно сам придумать надо. Им тоже надо область свой цифра давать. Тоже свой работа. Пешком ходи, ходи… До это место дойдешь — снег, лед, руки отморозил, слезы текут, идти надо. Стоял, плакал немного, дальше пошел. Все же давал цифра, сводка давал, помогал свой страна трудный время…
— Из головы давал? — спросил неугомонный Зенкович.
— Конечно! Откуда еще давал, — торжествующе отвечал Мураз-ака. — Эх, если кто понимает, большой сделан работа: трудный год, голод, басмач, Отечественная война, хлопок, табак, опять голодный время, современный время все время тяжелый… Наш работник все выдержал — кругом шпион, враг, американский разведка, каждый кишлак сводка надо давать, сколько шпион…
Зенкович слушал то трогательный, то страшный сумбур воспоминаний, где мешались картинки минувшего, газетные лозунги, реминисценции из бессмертных творений «Бахорфильма», создавшего за четыре десятилетия неторопливой, вальяжной деятельности убедительное полотно классовой борьбы в Бахористане, некую басмачиаду или даже басмачиану. В этих сладких воспоминаниях старенького Мураза-аку не могло волновать несъедобное зерно истины (так интриговавшее беспокойного полуеврея Зенковича): его интересовало признание собственных заслуг современниками, оправдание своей долгой, на пользу общества прожитой жизни, и потому все, что грозило принижением и умалением его заслуг, не могло быть им принято, отторгалось его памятью. Он был здоровый человек из горного кишлака, не психопат какой-нибудь, не мазохист, не русский писатель-интеллигент с его вечно недужащей совестью. Совесть Мураза-аки была чистой всегда. Вот и сейчас он с чистой совестью начал длинный рассказ о том, как ему удалось передать органам одного председателя, который отчего-то знал полдюжины немецких слов… Рассказ был длинный, очень важный для старика рассказ. Однако еще важней рассказа был живой человек, и, когда Мураз-ака заметил, что Зенкович выбился из сил, он прервал повествование, сел у края дороги и сказал:
— Садись, мирза! Отдыхай немного. Сейчас маленький крюк будем делать. Еще один кишлак зайдем. Там война работал. Немного кушать будем, немного чай пить, потом дальше идем.
Зенкович, блаженно растянувшись на теплой земле, смотрел вниз — на неслышную сверху реку, застывшую в прыжке; на раздолье зеленой долины; на стадо баранов, пестревшее на недоступной скале; на кишлак, прилепившийся к склону в изумрудном обрамленье садов; на каменную стену, смело изукрашенную великим Мастером, — черные узоры и красные потоки живописи, серо-зеленые коллажи мхов, фриз тончайшей чеканки…
— Еще мало-мало ходить будем, — сказал Мураз-ака. — Сто метров…
Зенкович уже знал эту маленькую хитрость. Сто метров. Еще сто метров. Значит, километр, два, а может, и все три. Вон как бодро шагает Мураз-ака, не знающий лекарств, сделавший последнего ребенка в пятьдесят восемь, в возрасте, когда Зенкович и его сверстники уже, вероятно, откинут копыта… Боже, сколько таблеток проглотили они, сверстники Зенковича, едва разменявшие свой пятый десяток…
— Кишлак Фанг! — воскликнул Мураз-ака. — Сюда тоже сводка брать ходил. Война работал. Много добра делал. Сейчас будем отдыхать, немножко чай пить будем, немножко плов кушать…
Мураз-ака озабоченно смотрел на живописный кишлак, крутыми террасами поднимавшийся от реки вверх по склону. У Мураза-аки были свои проблемы. Эти люди, которые хотели почтить его угощением, могли забыть о его маленькой современной слабости — о любви к водке. Водка хранилась здесь в закромах сельмагов (вечно закрытых), и требовали ее очень редко, только в таких вот исключительных случаях. Впрочем, благодарные и гостеприимные жители дальних кишлаков ни разу не обманули ожиданий почтенного Мураза-аки: они из-под земли доставали завмага, отпирали склад, добывали мерзкую, теплую зеленоватую бутылку, дурно пахнущую вестницу прогресса, и платили без колебаний, сознавая культуртрегерскую миссию мерзкого напитка в их лишенном истинной культуры идиллическом уголке земли.
Кишлак Фанг, увидевший их издали, на склоне, был взволнован появлением гостей. Мураз-ака и Зенкович то и дело останавливались, правой рукой пожимали руки туземцам, прижимая при этом левую к сердцу. Первым, кто пригласил их в дом, был завуч местной школы. Переглянувшись со своими учителями и благосклонно взглянув на детвору, которой небо послало сегодня такой подарок, завуч сказал сторожу:
— Звони! Пусть идут по домам. Уроков больше не будет.
А сам он повел гостей к себе в дом, сопровождаемый учителями и виднейшими представителями сельской интеллигенции. Пьющий учитель физкультуры, как наиболее опытный в этом деле, был послан на поиски водки.
В ожидании плова гости сидели вдоль стен просторной гостевой комнаты, отличавшейся очень пестрым расписным потолком. Мастер, делавший потолочную роспись, испытал на себе могучее влияние войсковой эстетики, так что мехмонхона сильно смахивала на красный уголок воинской части, именуемый также ленинской комнатой. Здесь были нарисованы пушки, пятиконечные звезды, серпы, молоты, знамена боевой славы и даже значок классного специалиста какого-то из родов войск. Для довершения сходства к стене был пришпилен фотопортрет генералиссимуса, от руки раскрашенный небескорыстным умельцем.
За достарханом кроме учителей и завуча находились также бывший районный судья, отдыхавший на пенсии, и молодой шофер, недавно отслуживший срочную службу, так что Зенкович счел случай вполне удобным для того, чтобы услышать достаточно представительное народное мнение.
— И за что только мы любим нашего вождя?! — патетически воскликнул Зенкович, поднимая пиалу с чаем и кивая на раскрашенное фото генералиссимуса.
Вопрос его поверг в волнение мирное восточное застолье.
— Очень был храбрый! — пылко сказал молодой шофер. — Первый на амбразур кидался!
— Мудрый человек, — сказал бывший судья с чувством. — Народ очень любил. Я народный судья был, хорошо знаю.
Зенкович кивнул с серьезностью — кому же, как не народному судье, знать о любви к народу.
— Очень был ученый, — сказал пожилой учитель. — Сам придумал языкознание, дипломатика и всякий другой наука. Теперь больше нет такой ученый люди.
— Что самый важный… — вспомнил судья. — При нем всякий народы нас очень боялся. Америка боялся. Голландия боялся. Греция боялся. Африка тоже боялся.
— Он все вместе с Ленин строил, — сказал завуч. — Когда он был живой, Америка нас слушался. Потому что у Америка хлеб нет. У другие страны тоже хлеб нет… — Завуч грустно замолчал, удрученный обширностью своих познаний.
Все посмотрели на Мураза-аку, и он сказал, отирая слезы со своих старых, вечно слезящихся глаз:
— Какой вопрос может? Ты мне скажи: родной отец можно не любить?
Зенкович отчаянно замотал головой, потому что он очень любил родного отца.
— То-то, — сказал Мураз-ака. — Даже такой вопрос нельзя делать.
Тема была исчерпана, и разговор перешел на другие отрасли человеческого знания. Говорили об огромной учености Зенковича, который проходил обучение в Москве. Искушаемый ложной скромностью, Зенкович признался, что он никогда не читал Коран.
— Такой человек, — вступился за гостя Мураз-ака, — такой человек все прочитает… — И, обращаясь к Зенковичу, предупредил: — Больше всех люди будешь знать, когда прочитаешь… Другой такой нет книга.
В самый разгар беседы Зенковичу пришлось выйти на двор. Молодой шофер проводил его в низенькое, трогательное заведение с небольшой дыркой в земле, скромной занавеской и горсткой сухой земли в углу (вероятно, земля была для просушки зада — нечто вроде старинной канцелярской песочницы). Молодой шофер тоже воспользовался заведением, за ним потянулись и другие гости. Зенкович спросил, где умывальник, но шофер потянул его за стол.
— Не беспокойся. Сейчас сюда руки мыть принесут, — сказал шофер, и Зенкович подумал, что он ведет поистине ханскую жизнь. Или падишахскую жизнь.
Запахло пловом. В комнату принесли кувшин, полотенце и тазик. Гостям полили на руки над тазиком. Ревниво следя за черными руками молодого шофера, Зенкович со спокойным академизмом размышлял о том, что процедура эта скорей ритуальная, чем гигиеническая, но настроение у него упало поздней, когда гости потянулись к плову руками.
Прокопав со своей стороны небольшую дыру в плове, Зенкович быстро насытился этой ароматной, жирной едой и блаженно откинулся на подушку. Гости сосредоточенно уничтожали гору плова, оставляя в неприкосновенности норку Зенковича, вырытую в рисовом островке. Подойдя к концу, они в один голос стали уговаривать Зенковича, что так мало есть нельзя, что он этим обижает хозяев, и если он сам не хочет, то его, как уважаемого гостя, надо покормить. Пылкий молодой шофер, набрав плов в огромную черную ладонь, стал запихивать еду в рот Зенковичу… По позднейшему признанию Зенковича, этот случай помог ему понять абсолютно относительный характер всякой брезгливости и всякой гигиены.
Учитель физкультуры принес еще одну бутылку водки. Бывший судья, Мураз-ака, физкультурник и молодой шофер отважно выпили. Склонившись к Зенковичу, молодой шофер стал шептать, что в годы армейской службы он проделывал штуки и почище. Например, у него была одна девушка… Потом он чуть не попал в тюрьму… Зенкович смотрел в красные глаза захмелевшего шофера и думал о том, что как только родные горы перестают оберегать своих сыновей от соблазнов долины…
Впрочем, два пожилых пьяницы вместе с молодым физкультурником и молодым шофером так и не смогли одолеть второй бутылки. Зенкович с удовлетворением отметил, что прогресс пока еще довольно медленно карабкается в бахорские горы.
Пора было двигаться дальше. Хозяева проводили их до околицы и долго махали им руками. Вдохновленный выпивкой старенький Мураз-ака бодро пошел в гору. За ним, с подозрительностью щупая свой левый бок, тащился отяжелевший от плова Зенкович.
* * *
Добравшись до перевала, они сели отдохнуть. Ишачок стоял у дороги, опустив голову, и покорно жевал. Ему на голову был до самых ушей надвинут мешок с кормом. Внизу сколько хватал глаз расстилалась горная долина. Дымы курились над ней, переливаясь оттенками белого, серого, серебряного, палевого… Лучи солнца пробились, точно стальные копья, сквозь облака, выхватили изумрудные клочки поля. А еще выше, выше облаков, выше гор, небо было синее, безбрежное, бесконечно ласковое…
Зенковичу вдруг стало очень жаль уходящего дня, уходящей жизни и себя, уходящего отсюда. Он был как этот бедный ишак — его кормили, нежили, на нем иногда ездили, и все, чтобы потом убить его, чуть раньше, чуть позже… Он хотел взвыть, по-ишачьи, по-волчьи, по-человечьи, хотел упасть на колени, просить о помиловании, об отсрочке…
— Немножко отдыхали, идти надо, — сказал неутомимый Мураз-ака.
И Зенкович устыдился своего порыва, своей постыдной трусости. Он еще не поблагодарил небо за дарованный ему чудесный день жизни, а уже скулит по-собачьи. Он был недостоин милостей неба, дарованных ему.
— Прости мне, Господи Боже, Иисусе Христе… — сказал Зенкович. — Аллах акбар…
Пир разгорался неторопливо и степенно, как все шло от века на этой вздыбленной к небу земле. Подходили все новые гости. Поговорив о чем-то с хозяином, они с достоинством садились на курпачу. В саду кипели котлы с бараниной. На айване, занавешенном коврами, прятались от нескромных взглядов женщины и девушки, а внизу, в уголке двора, под мерный стук барабана кружились в танце совсем маленькие девчушки. Зенкович засмотрелся на их танец. Как только они заметили, что он смотрит, танец немедленно прекратился: они твердо знали, что мужчине нельзя смотреть в их сторону. Отвернувшись от девочек, Зенкович увидел в просвете между коврами взрослых женщин. Туда ему тоже нельзя было смотреть, но почему-то хотелось смотреть именно туда: женщины были одеты с изысканной красотой и богатством, ладони у них были красны от какой-то краски, брови насурмлены…
Мураз-ака позвал Зенковича есть шурпу, но Зенкович больше не испытывал интереса к еде. Он с любопытством разглядывал странного вида женщину, пренебрегавшую женским загоном. Она была, как и все здесь, одета в национальный бахорский костюм, более того, одежда ее была еще более национальной, чем у других, и заметно было, что она уже ношенная. Женщина эта была накрашена более щедро, чем другие, и, если бы Зенкович мог с уверенностью сказать, что в кишлаке есть шлюхи, он считал бы загадку решенной. Мало того что женщина не сидела в женском закутке на айване, она еще и сговаривалась о чем-то с двумя мужчинами полугородского-полукишлачного типа. Лишь когда один из этих мужчин принес с улицы большой студийный микрофон и стал устанавливать его перед достарханом, Зенкович вспомнил, что на пир приглашены артисты. Эта женщина и была артистка, как же он сразу не догадался?
Видя интерес Зенковича к артистам, один из гостей, симпатичный молодой мужчина в ослепительно белой рубашке, сказал ему:
— Из филармонии. Тыщу рублей хозяин дома платил.
— Тыщу рублей! — воскликнул Зенкович в изумлении. — Но зачем? Здесь все и так прекрасно танцуют!
— Чтоб было богато, — сказал симпатичный молодой гость. — У соседа был пир — борцы выступали. Победителю — ковер давали, баран давали, мотоцикл давали.
— Во сколько же им сегодняшний пир обойдется? — в страхе спросил Зенкович.
— Два тысяча рублей обойдется. Обрезать мальчика — дорогое дело. Женить мальчика — тоже дорогое дело. Я прошлый год женился — отец девять тысяч давал.
— Хорошая жена? — спросил Зенкович.
— Жена неплохой, — сказал симпатичный гость. — Я сперва не видел. Хотел поехать его смотреть, отец говорит: «Пускай, сынок, мама едет. Неужели ты не уважаешь своему матери, не доверяешь ему…»
— Хорошо живете с женой?
— Сначала плохо жили. Я город работал. Он сердился, его отец увозил. Я его привозил. Мой мать обиделся, с ним не разговаривал. Теперь ребенка родил, лучше стал… А ты свой жена хорошо живешь? — спросил симпатичный гость.
— Я с ним совсем не живу, — сказал Зенкович, с готовностью отбросив изыски грамматики. — Расходился.
У Зенковича появилось приятное ощущение, что он говорит не по-русски, а значит, почти по-бахорски.
Артистка отчаянно закричала в микрофон что-то очень печальное. А может, наоборот, очень веселое. Во всяком случае, что-то очень громкое.
— Если есть больше не хочешь, можем немножко гулять, — сказал Зенкович симпатичному гостю, которого звали Ибрагим.
Они покинули пиршество, прошли через толпу глазеющих зевак и оказались на тихой улочке кишлака. Кишлак размещался под огромной красной скалой, на берегу реки. Дома и дувалы кишлака были вылеплены из красной глины, вдоль его красных улиц пролегли красные арыки, близ которых темнела изумрудная зелень.
— Вот ты когда в Орджоникирве работал, у тебя не было девушки? — спросил Зенкович.
— Не был, — сказал Ибрагим и честно взглянул на Зенковича. — Мне отец сказал — не надо, сынок. Девушка испортишь. Здоровье свой испортишь. Он сказал: «Вино тоже не пей».
— И не пил?
Ибрагим с отвращением помотал головой.
— Жена родит тебе десять детей, — с завистью сказал Зенкович. — Папа твой был прав.
— Мой папа очень хороший. Братишки очень хороший. Восемь братишки. Папа сейчас больной. Завтра буду больница возить. Хочешь, к нам в гости будем ходить?
— Пошли.
Они взобрались вверх по крутой улочке и через гранатовый сад вошли на галерею второго этажа двухэтажного мазаного дома. Внутренний двор был виден с галереи. Посреди двора под виноградными лозами стоял большой помост, как в чайхане. На помосте лежал худой старик в чалме. На том же помосте два других старика стояли перед ним на коленях и часто кланялись.
— Мулла пришел, — объяснил Ибрагим. — Завтра отец больница едет, я просил мулла приходить. Сорок раз молитва читать будет.
— Не надо им мешать.
— Идем сюда. Это для гостей комната. Стены я сам рисовал…
— А вышивал кто?
— Жена вышивал…
— Вот видишь, какая хорошая жена, — сказал Зенкович и вдруг сладко зевнул.
— Ложись тут спать, — предложил Ибрагим. — Я тебе чай принесу.
— Не надо чай, — сказал Зенкович. Он лег на одно стеганое одеяло, накрылся вторым и сказал сонно: — Скажи Муразу-аке, что я уснул, будь другом.
— Я буду твой друг, — сказал Ибрагим. — Я тебе в Москва посылка делать буду. Урюк, гранат. У вас в Москве есть кремплин?
— У нас как в Греции… — сказал Зенкович. — У нас все есть. Впрочем, я не знаю, что это…
Он уснул.
Ему снилась родная Москва, прекрасный город у моря, в котором не было ни одной панельной коробочки — одни только Парфеноны, пропилеи, Пергамоны, оливковые и березовые рощи на солнечном берегу.
* * *
Честно говоря, при работе над новым вариантом сценария больше всего Зенковичу помогло напутствие его доброго друга-редактора:
— Много замечаний слушать не надо. Где захочешь — поправишь, все равно новое наговорят.
Сев за работу, Зенкович почувствовал, что ему уже все равно, что исправлять. Татарка так татарка; операция эта прошла безболезненно. Девушка так девушка; и Зенкович восстановил утраченную невинность (впоследствии, трудясь для «Бахорфильма», Зенкович проделывал эту щепетильную операцию систематически). Женатого шофера Зенкович превратил в хапугу; он восстановил и усилил шум стройки, а розового мальчика сделал еще более розовым и симпатичным. Суровая мужская дружба должна была сохраниться, но Зенкович вплел в нее свои кишлачные впечатления. С элементом детектива, конечно, пришлось расстаться, но зато Зенкович усилил элемент мелодрамы. Он рассказал, как гибнет отец девушки в заснеженных лесах Белоруссии, так непохожих на теплые долины Бахора, добавил сцену щемяще грустную и пронзительно нежную. Кроме того, он ввел в сценарий заключительный мажорный аккорд — свадьбу розоватого розовского шофера с чистой невинной девушкой из чайханы. Это дало ему возможность усилить национальный колорит сценария (подробное описание свадьбы Зенкович почерпнул из отчета этнографической экспедиции, посетившей Бахористан в послевоенные годы).
Сценарий удался. Зенковичу трудно было сказать, хорош ли он, но ясно было, что он сложился, хотя, честно сказать, он не доставлял уже Зенковичу такой радости, как по окончании первого варианта. Это было не его детище. Это был дом, сложенный по чужому заказу из чужих кирпичей и панелей. Это был костюм, сшитый по заказу десяти клиентов разной комплекции и разных вкусов, и притом сшитый из лоскутков. Перепечатав его, Зенкович отослал сценарий на студию. Он попытался обсудить все эти перемены с Муразом Муртазом, проездом посетившим Москву, но обнаружил, что во время чтения поэт слишком быстро утомляется, не успев дослушать до конца всего, что от него требуется. К тому же поэту не терпелось расспросить о тонкостях сексуальной жизни Варшавы, которую Зенкович посетил недавно. Вдобавок пылкий поэт непременно хотел рассказать Зенковичу, какая грудь была у девушки из подмосковного пансионата «Березки»… В общем, Зенковичу пришлось обойтись без помощи Муртаза. Как позднее выяснил Зенкович, Муртаз не стал читать и готовый сценарий — темперамент поэта не способствовал усидчивости.
Через два месяца Зенкович получил телеграмму со студии и прилетел в Бахористан. Снова был теплый южный вечер, и нежный друг-редактор встречал Зенковича в аэропорту. Снова шелестела китайскими коврами и пахла дыней гостиница в центре города. Снова раскрепощенные бахорки и некогда ссыльные, а ныне свободные немки, татарки, польки, кореянки, осетинки, еврейки, украинки, армянки (не говоря уже о русских) поминутно звонили в номер гостиницы, притворно сокрушались по поводу того, что здесь больше не живет мастер спорта Рустам, однако охотно соглашались утешиться с Семой, если только он будет не очень старым, а также обходительным и щедрым.
Как и обещал Зенковичу друг-редактор, обсуждение было не только поощряюще-нежным, но и победоносным, можно сказать, триумфальным. Редактор раскрыл Зенковичу некоторые тайны кинопроизводства. Он объяснил, что во время прошлого обсуждения сценарий и не мог быть принят, так как режиссер Махмуд Кубасов тогда еще не был свободен, а принятый сценарий надо немедля запускать в производство. Зато теперь Кубасов свободен, студия должна немедленно запустить картину, так что пришло время принять сценарий. Объяснение это казалось до обидного простым, более того, в нем содержалась разгадка многих претензий, предъявленных в прошлый раз малограмотным худсоветом, так что Зенкович еще до начала нового обсуждения дал себе торжественную клятву никогда не принимать близко к сердцу ничего связанного с кинематографом. С этой новой позиции любое обсуждение по времени могло даже представиться и забавным, и занимательным, и поучительным. Все выступавшие отмечали, что сценарий сложился, получился, прояснился и отстоялся. Главной его удачей был, конечно, чистый образ невинной бахорской девушки (нет, нет, она не должна быть татаркой — она бахорка, и отец ее чистый бахорец). Когда бахорка невинна и чиста, говорили участники обсуждения, когда она еще любит, то это нечто такое, с чем ничто на свете не может сравниться, так что данный образ — большая заслуга сценаристов (все намекали, что уж кто-кто, а Мураз Муртаз в этом толк понимает, хотя все знали, что сценарные усилия любвеобильного поэта давно прекратились). Второй заслугой сценаристов был образ отца девушки. Выяснилось, что это будет, по существу, первый фильм о герое-бахорце и вообще об участии бахорского народа в минувшей войне. Конечно, нехорошо, что отец девушки так прозаично погибает. Надо показать, что при этом он уносит с собой в могилу десятки и даже сотни черных немецко-фашистских жизней. Бахорцы умирают, как былинные богатыри, освобождая при этом братский белорусский народ… Вспыхнула оживленная дискуссия, в какой части Белоруссии лучше снимать эти эпизоды, и режиссер, сидевший рядом с Зенковичем, сказал вполголоса:
— Хорошо бы в Эстонии снимать. Там и гостиницы лучше, и питание…
— Разве это от сценария зависит? — наивно спросил Зенкович и ужаснулся: — Если б знал, я бы ввел туда Индию!
Режиссер задумчиво покачал головой и сказал, что в Индию могут не пустить: в Индию нужна валюта, а вот в Эстонию не нужна.
Участники обсуждения единодушно отметили, что число примет советской власти в сценарии возросло, что герои его стали активнее в плане общественном, что свадьба привнесла в сценарий национальный колорит и это, конечно, большая заслуга поэта Мураза Муртаза, так хорошо знающего народные обычаи (о заслугах послевоенной этнографической экспедиции, конечно, не было сказано ни слова).
Всем очень понравилось оптимистическое звучание сценария, и вообще было очевидно, что студия готова принять сценарий окончательно, потому-то среди присутствующих и царило такое либерально-разнеженное настроение, усугубляемое зеленым чаем, который разносила красивая секретарша. Один из участников обсуждения вспомнил вдруг отчего-то о свадьбе своего младшего брата. Другой предложил использовать в фильме эпизоды из его собственной свадьбы. Третий без всякой связи со сценарием заговорил вдруг о романе японского писателя, опубликованном в «Иностранной литературе». Подводя итоги, главный редактор очень кстати напомнил слова незабвенного бахорского режиссера о том, что кино должно быть интересным…
В ответном слове Зенкович поблагодарил худсовет за внимание и критику, которые так помогли ему в работе. Потом сказал очень медленно, точно он придумывал на ходу, «по бреду» (он уже знал, что киношник должен кое-что придумывать «по бреду»):
— Я вот тут подумал, что можно было бы также отразить роль бахорских воинов в освобождении братского эстонского народа…
Все согласились с тем, что это можно решить в процессе работы над режиссерским сценарием.
В общем, сценарий был принят, и фильм запущен в производство. Зенкович, Муртаз, режиссер, редактор и еще несколько друзей отмечали это событие в новом ресторане над горной рекой. Пахло шашлыком, сочились дыни, благородный коньяк темнел в стаканах, виноград отражал на своих янтарных боках достижения сплошной электрификации Бахористана…
А еще через месяц Зенкович прилетел в Орджоникирв, чтобы принять участие в доработке режиссерского сценария. Первый вариант режиссерского сценария уже соорудил сам режиссер, попросту разбив литературный сценарий на эпизоды и указав при этом место съемок, метраж, музыкальный фон, реквизит…
Впоследствии Зенкович имел возможность убедиться, что всякий режиссер имеет тягу к сочинительству. Махмуд Кубасов не составлял исключения из этого правила, так что Зенковичу пришлось познакомиться с типичным образцом режиссерской прозы. Почти в любом режиссерском сценарии (не исключая и махмуд-кубасовский) «большое красное солнце медленно встает над горизонтом» в финале, а город предстает «белый» и «точно омытый дождем» (солнце в этих случаях отражается в больших стеклах домов, а также «играет на полированной поверхности машин»). Зенкович чувствовал некоторую неловкость от того, что сценарий обогатился этими обязательными красотами режиссерской прозы. При более внимательном чтении он заметил и кое-что другое. Дело в том, что Махмуд Кубасов, прежде чем собирать сценарий, разрезал его по режиссерской привычке на множество кусков. Кусков у него, вероятно, оказалось слишком много, или он в них запутался, так что часть из них просто пропала, оставшиеся же, скрепленные заново, придали сценарию незапланированную загадочность, а местами и просто лишили его смысла. Целыми днями плутал Зенкович в лабиринте режиссерского сценария, по крупице восстанавливая утерянный смысл. Работал он в номере гостиницы, время от времени отвечая на зазывные телефонные звонки и совершая прогулки на базар, где ел шашлык, виноград или сладкую среднеазиатскую редьку, пил зеленый чай… Иногда в номер к нему наведывался режиссер, а еще чаще — темнолицый помощник режиссера, который всякий раз, уходя, произносил одну и ту же загадочную фразу:
— Пожалуйста, Сеня, побольше исходящий реквизит.
На третий день Зенкович, не выдержав, специально позвонил на студию и спросил, что такое исходящий реквизит.
— Это который кушают, — раздраженно ответили ему.
Только дойдя до эпизода скромного шоферского чаепития в горах, Зенкович понял, чего хотел от него маленький темнолицый помреж. В графе, где перечислен был реквизит, потребный для съемок этого эпизода, значились котлы для плова, котлы для шурпы, десять килограммов мяса, два мешка риса, пять килограммов моркови, пять пачек чаю, помидоры, лепешки, мука и еще Бог знает какие продукты. Все это должны были съесть во время съемок сцены актеры и другие члены творческого коллектива, которым совершенно необязательно страдать из-за аскетической лаконичности сценария.
Кроме некоторых смысловых несообразностей, Зенкович не обнаружил в режиссерском сценарии никаких черт особого режиссерского прочтения. И ему впервые стало понятно, почему сценаристам, прочитавшим два-три режиссерских сценария, хочется самим ставить свои сценарии, то есть стать режиссерами. Тот широко известный факт, что режиссерам хочется писать сценарии, и раньше не вызывал у него недоумения.
Важные этапы подготовительного периода, носящие поэтичные названия «выбор натуры» и «актерские пробы», протекали вдали от Зенковича.
Подкралось лето, время, когда непоседливый Зенкович испытывал особенно острое беспокойство. Каждую минуту он готов был сорваться с места и вылететь в какую-нибудь из отдаленных частей нашей поистине необъятной страны: то ли на Север, где становилось уже довольно тепло и по этой причине жалко было упускать столь благоприятное для путешествий время (однажды Зенкович с неподдельным трагизмом признался мне, что плохо знает места по Пинеге и Кокшеньге, и заявил, что ему это, как истинно русскому человеку, стыдно); то ли на Юг, где уже утвердилась жара, появились фрукты и вообще было еще столько неизученного и прекрасного, хотя бы, например, Северная Кахетия или Южная Хевсуретия. Когда же при Зенковиче заводили речь о Бурятии, он чуть не плакал от досады, потому что еще не бывал в этом краю кумыса и ламаизма. И тут подоспели вести от режиссера Кубасова, который со съемочной группой уже выехал в Эстонию, чтобы снять там жестокие бои за свободу эстонского народа, а также сцену героической гибели отца девушки из чайханы. Эпизоды этой гибели в режиссерском сценарии сильно потеснили дорожно-чайханные сцены вместе с их психологической драмой и любовной идиллией. Дело в том, что формирование эстетических вкусов режиссера Кубасова протекало в то суровое время, когда в темных залах кинотеатров пулеметные очереди звучали не менее громко, чем на фронтах великой войны. Попытки института кинематографии расширить вкусы будущего режиссера были столь же тщетны, как попытки молодожена заново воспитать свою молодую жену (ибо, как бы молода ни была жена, она все-таки вступает в брак человеком сложившимся). О каком бы новом замысле ни рассказывал в кругу друзей режиссер Кубасов, он, ощутив особенно сильный наплыв эмоций (или особенно острый недостаток словесных средств), обычно вскакивал, прижимал к животу воображаемый парабеллум и давал по присутствующим две-три очереди: «Тэ-дэ-дэ, тэ-дэ-дэ… Пых-х-х. Пх-х-х!» Последнее означало зловещий взрыв, завершавший сцену.
Естественно, что и сейчас режиссер стремился использовать все возможности, которые может дать мирный сценарий о девушке из чайханы, для того чтоб по большому счету разыграть боевые действия в лесах братской Эстонии. С этой большой и ответственной задачей экспедиция «Бахорфильма» выехала в Таллин.
Из всех земных благ, которые способен предоставить своим служителям кинематограф, мой друг Зенкович особенно высоко ценил возможность безбедного (то есть бесплатного) передвижения по просторам нашей обширной Родины.
— Подумай! — возбужденно говорил он мне, бывало. — У них там триста тысяч ассигновано на картину. Что для них значит мой авиабилет? К тому же я действительно могу быть им полезен. В конце концов я просто имею право находиться при съемочной группе, да еще и получать там оклад. Но мне не нужно, черт с ним, с окладом, однако я хотел бы прилетать и улетать, когда мне вздумается…
И он действительно пользовался этой возможностью. Позвонив режиссеру или директору картины, он назавтра же получал косноязычную, но благосклонную телеграмму: «Срочно вылетает переработком диалог». Именно такую телеграмму получил Зенкович из Таллина, куда и вылетел назавтра.
Всякий советский человек знает, что поездка в Таллин приятна. Попадая в Таллин, житель Москвы и Ленинграда (не говоря уже о жителе Кирова или Орджоникирва) чувствует себя так, словно он попал за границу (причем не в Болгарию или Румынию, а еще западней, скажем, в ГДР). Между тем для поездки в Таллин не требуется ни характеристики с места работы, ни общения с выездной комиссией райкома, ни иностранной валюты, ни чрезмерных затрат.
Что касается моего друга Зенковича, то от него вообще потребовался один разговор с режиссером по телефону — и вот он уже мчится в Таллин на казенный счет.
А что там хорошего за границей? — спросите вы. То же самое хорошо, что и в Таллине. В Таллине сохранились старинные узкие улочки. В магазинах Таллина можно брать разный товар, которого нет в Орджоникирве, а может быть, нет и в Москве (правда, в Москве Зенкович никогда не ходил в промтоварные магазины). В Таллине говорят не по-русски. В Таллине, наконец, много кафе. Честно говоря, Зенковича не слишком интересовали кафе, так как был он непьющий, однако все-таки приятнее, когда много кафе, чем когда их мало. Приятно, что эти кафе работают ночью и что гражданам показывают в них всякие «шоу», чуть ли не стриптиз. Понятно, мой друг Зенкович, который и днем-то редко заглядывал в кафе, ни за что не потащился бы туда ночью, тем более за стриптизом. Уж если ему не удавалось застриптизить никого из представительниц местного населения, то он предпочитал прямым путем отправиться в постель. Но все же и ему тоже было приятно, что в Таллине есть ночные кафе и есть этот чуть ли не стриптиз. Ведь если в городе нет ничего специфически восточного (как, скажем, в Орджоникирве), то пусть в нем будет хотя бы что-нибудь специфически западное…
В Таллине Зенкович был встречен на перроне администратором съемочной группы, потому что оказался там не как бродячая единица, а «приехал на картину», причем, согласно киношной субординации, он был не последняя спица в колеснице кинопроизводства (позднее он, конечно, убедился, что авторитет автора на съемках ничуть не более реален, чем авторитет английской королевы в этой странной стране, где вся власть отдана низкородным профсоюзам и парламенту).
Администратор был очень ласков и обходителен с Зенковичем: видно было, что ему льстит знакомство с великим человеком, с настоящим писателем (хотя трудно предположить, чтобы администратор ни разу никогда не слышал на площадке про то, что «сценарий-то говно», он все же ухитрялся каким-то образом сохранить пиетет к сценаристу, может, по причине выплачиваемого ему солидного гонорара). Администратора звали Изя, и Зенкович был так растроган его обходительностью, что они еще в машине признались друг другу во взаимной симпатии и наметили кое-какие совместные планы.
Старенькая гостиница на очаровательной узкой улочке таллинского центра была целиком занята бахорской съемочной группой. Зенковичу отвели отдельный номер, где стояли умывальник, столик и узкая железная койка. Балконная дверь была открыта, а на балконе голуби свили себе гнездо. Ветка старой липы пробралась на балкон сквозь чугунные перила… Зенкович был в восторге от комнаты, и администратор заверил его, что этот номер будет всегда сохраняться за ним.
Режиссер приехал со съемочной площадки и обнял Зенковича по-братски, по-бахорски, а потом повез его на местную студию, в одном из павильонов которой была сооружена просторная, парадная бахорская чайхана с росписями на стенах, выполненными лучшими мастерами Бахористана. Режиссер с гордостью сообщил, что чайхана стоила кучу денег, да это и так было видно. Зенкович робко заметил, что он думал о простенькой, дорожной, шоферской чайхане, так что, может, и не стоило… Впрочем, он не слишком настаивал на своем, потому что боялся обидеть режиссера. Режиссер, правда, нисколько не обиделся и толково объяснил, что если что-то делать, то делать надо по большому счету и денег жалеть не следует, потому что настоящему кино нужна настоящая и стоящая фактура, и пластика, и еще этот интерьер. Вот, например, Дрейер, когда снимал «Жанну д\'Арк», то построил замок, который ему был вовсе не нужен… Ассистенты сперва благоговейно слушали все эти нерусские и небахорские слова, дрейер-шмейер, а потом вдруг стали вводить в павильон каких-то размалеванных девиц, фамильярно их при этом поглаживая. Зенкович заподозрил, что в павильоне будет проходить республиканское совещание рядовых работниц панели, однако режиссер объяснил, что всего-навсего отбирает массовку для чайханы и для военного эпизода… «Конечно, — согласился он, — это дает возможность ребятам немножко того-сего… У меня-то самого совершенно нет времени». Режиссер вздохнул, и Зенкович понимающе похлопал его по спине. Они вышли во двор. Подбежал помреж и сказал, что он привез в автобусе двадцать мальчиков для эпизода спасения эстонского ребенка бахорским воином. Мальчики приехали после школы и ждут уже два часа, нельзя ли поскорей… Матери ждут с ними, они надеются…
— Пусть все сегодня идут по домам. Сегодня смотреть не буду, — сказал Махмуд Кубасов. — Может, мы вообще этот эпизод выкинем. Правда, Сеня?
Зенкович охотно согласился, но в душе отметил эту истинно кинематографическую небрежность в обращении с живыми существами. Что ни говори, Кубасов был настоящий кинематогафист. Может, он все-таки и снимать может?
Мальчиков разогнали, и режиссер повез Зенковича обедать. Кормили в этом городе хорошо, можно даже сказать, замечательно. Зенкович хотел поговорить с режиссером о съемках, но, видя его усталость и отвращение к кинематографу, не решился портить ему обед.
— Такая жизнь… — грустно сказал Кубасов, и Зенкович сочувственно поморщился. — Сейчас вот сниму стресс… — Режиссер опрокинул стакан коньяку. — И попробую уснуть. А ночью посидим, побеседуем.
Возле гостиницы им встретился Изя, предложивший Зенковичу прогуляться по прекрасному городу. Изе все-таки льстило внимание немолодого, тем более пишущего человека, и он стал рассказывать Зенковичу о своей жизни. Заметив, что Зенкович не слишком заинтересовался знаменитыми актерами и режиссерами, с которыми он, Изя, некогда встречался, но зато изучает внимательным взглядом молодое поколение эстонской столицы, Изя охотно перевел разговор в сферу своей сексуальной жизни. Зенковичу его рассказ показался весьма интересным, и не только потому, что тема эта не оставляла его вполне равнодушным, но еще и потому, что именно здесь он обнаружил в администраторе истинного профессионала. Может, даже не профессионала любви или секса, а скорей мастера того, что на Изином языке называлось «клеем». Если верить Изиным рассказам, выходило, что он может «поклеить» (или «закадрить») кого угодно и где угодно и может обеспечить себе на вечер в несколько раз больше «кадров», чем в состоянии (несмотря на молодость и алчность) обслужить сам («Глаза жаднее брюха…»). Именно поэтому Изя обеспечивал кадрами всех своих друзей, всю съемочную группу, всю студию, всю Москву, наконец. Если он не обеспечивал кадрами Таллин, то только потому, что это был сонный город, равнодушный к половой проблеме. («Неудивительно, что они так слабо размножаются!» — воскликнул Изя, проявляя поразительное демографическое прозрение.) Истоки этой филантропии заключались не только в Изиной доброте и широте его характера (в чем ему, конечно, нельзя было отказать), но и в том, что этот процесс вербовки («клея») стал его привычкой, его второй (а может, и первой) натурой. Он занимался этим везде, в самое, казалось бы, неподходящее (с точки зрения непрофессионала) время и при самых, казалось бы, неподходящих обстоятельствах. По Изиным рассказам выходило, что закадрить можно почти любую женщину, хотя методика будет, конечно, всякий раз новая, а окончательный результат будет чаще всего зависеть от твоей последовательности и упорства. Изя долго перечислял имена своих наиболее памятных жертв, и вдруг в этой веренице актрис, спортсменок и манекенщиц Зенкович услышал имя и фамилию своей бывшей жены. Зенкович не только не разозлился на веселого шалопая при этом откровении (что непременно сделал бы человек, еще не разведенный), а, напротив, братски пожал руку замечательному профессионалу Изе Малаховскому, истинному корифею кадровой работы («кадры решают все»).
— И как она? — с притворным безразличием спросил Зенкович. — Как началось?
— Уже не помню. Кажется, я ей сказал, что подбираем героиню для «Войны и мира». Показал удостоверение «Мосфильма». Обычно я начинаю так: «Не сочтите меня нахалом, но я работаю в искусстве. Мы ищем актрису на роль Наташи Ростовой…» Тут у них, конечно, у всех голова кругом. А эта? Ну что эта? Вечером она пришла в ресторан. Я их в тот день пригласил штук пятнадцать, и ребята сказали — перебор… Стали свинячить. И конечно, упустили девочку. Но телефон у меня остался. Я могу найти, если хочешь. Только не советую. По старым телефонам лучше не звонить. Во-первых, они быстро стареют — не узнать. (При этих словах Зенкович усмехнулся невольно.) Во-вторых, дети-шмети, брак, развод… Высокие идеалы пропадают, им лишь бы замуж.
Изя достал старую и очень затрепанную книжку с бисерно мелкими записями. По богатству информации она могла бы соперничать со сводным досье разведуправления среднего по размерам государства. Изя долго листал книжку, бормоча:
— У меня тут система. По пунктам: место встречи. Год. Описание внешности. Особые приметы… Нашел — Кинотеатр повторного фильма. Круглолицая. Не высший сорт. Первый.
— И на том спасибо, — сказал Зенкович.
— Полноватая.
— Потом еще растолстела.
— Вот еще про нее: выпендреж. Филфак МГУ. Очень хочет, но стесняется.
— Я понял… — сказал Зенкович глухо. — Это уже психология. А какая же все-таки методика? Мне, как писателю, интересно.
— У меня ведь машина… — томно сказал Изя, и Зенкович впервые посмотрел на него внимательно. Да, конечно, он был смазлив. Хорошо одет. Точнее, знал, как должен быть одет человек оттуда. Чуть небрежно. Сразу было видно, что это небрежность человека, который знает. Знает, какой должен быть блейзер. Какой должен быть батник. И брюки, главное, брюки — сыщи их поди, такие брюки, хоть бы и в валютном…
— Машина у меня стоит где-нибудь на Маяковке. Но я про это не говорю. Мы просто идем, гуляем, от Дома кино… Там меня все знают — это тоже действует. У Маяковки я кручу в руках ключик, у меня такой брелок — знаете, две женщины… Говорю: уже поздно, может, подъедем? Если я в норме, у меня там фляжка, в машине…
— Более или менее ясно, — сказал Зенкович, размышляя, нельзя ли задним числом переоформить свой позапрошлогодний развод на еще более раннюю дату. Просто так, ради душевного равновесия.
Изя раскрутился. Он смотрел на Зенковича с обожанием.
— Идет, — сказал Изя. — Наш кадр.
И Зенкович с уважением подумал об Изиной наблюдательности. Он заметил эту девочку, еще когда они вышли из кафе с Кубасовым, — тоненькая, длинноволосая, совсем юная. На ней были почти модные, но очень уж заношенные, убогие джинсы (пережившие, вероятно, полную реставрацию), очень поношенный, латаный мужской свитер, который был ей велик. Вечером это все, вероятно, глядится лучше, если не слишком придираться к заношенности этого тряпья, которая здесь, в Таллине, где нет милиционеров, выглядит, пожалуй, чрезмерной. Впрочем, девочка всем своим видом подчеркивала, что она нездешняя, не отсюда, она из другого, из лучшего, из не нашего мира, где хиппи, Трентиньян, гоночные машины, силиконовые бюсты и психоделический джаз. Может, она и не смогла бы даже сформулировать все приметы этого не нашего мира, однако всем своим видом подчеркивала, что о его существовании ей известно и потому она только формально, только временно здесь, с этими эстонцами, с этими русскими, с этой эстонской провинцией…
— Привет! — сказал Изя. — Мы с «Мосфильма». Вон там наш отель, в переулке… А ты чего не заходишь? Нам люди нужны для массовки…
Она молчала. Она сразу, конечно, поняла, что Изя из того мира (или хотя бы из преддверия того мира), но она должна была сохранить самостоятельность, свое право непосредственно, а не через какой-то там «Мосфильм» сноситься с нездешним Олимпом. Поэтому она не спешила с ответом. Помедлив, ответила, стараясь быть небрежной:
— Времени совсем нет.
Изя не фыркнул. Он не сказал ей, что она слоняется целый день по бульвару, мечтая именно о такой вот встрече. Он просто приподнял вдруг спереди ее длинный свитер, критически ощупал широкий ремень на впалом, нежном девчачьем животе и сказал:
— Завтра два вагона штатских пряжек получим. Знаешь — большие такие, с орлом? Приходи, дам пару. Тебе и подруге. Вдвоем и приходите. — Он кивнул на Зенковича.
— Во сколько прийти? — сказала она, и голос ее дрогнул.
— Сейчас, сейчас… Завтра у меня так — выбор натуры, раз, актерские пробы, установка света, первый дубль, второй дубль… В пять часов, у гостиницы. Я выйду.
Когда она ушла, Изя сказал со смехом:
— Елки… Я же на четыре другим назначил. Потом мне еще на товарную ехать за грузом… Ну а в общем как?
— Блистательно! — очень грустно сказал Зенкович.
* * *
Вечер режиссера Кубасова был полон хлопот и огорчений. Как один из виновников затеянного, а отчасти и уже содеянного, Зенкович пытался разделить эти хлопоты и огорчения, вникнуть в них, сидеть и сопереживать, не перебивая и ничему не удивляясь.
Перед режиссером стояли две серьезных проблемы — стены и эшелона. Эпизод, в котором отец девушки идет на свой последний героический подвиг, было решено снимать в тесном таллинском дворике, близ темной кирпичной стены. Представляешь, старик, отец выходит во двор, видит ясное небо, двор, залитый солнцем, и — по контрасту, старик, по контрасту — черную, совершенно черную, как ночь, как у негра, — стену этого дома. Собственно, стена в этом дворе была не черная, а серо-пятнистая, непохожая на ночь, и режиссер приказал выкрасить стену. Ему никогда не приходилось красить такие высокие стены, и теперь, когда стена была выкрашена, директор Кочетков посчитал, что это им обошлось в копеечку. Но оказалось еще, что солнце в этом дворе бывает только до половины десятого, так что выезжать на съемку надо ни свет ни заря. Проблема. Вторая проблема касалась эшелона. Известно, что фашисты угоняли в рабство советских девушек. Когда видишь эшелон с девушками, угоняемый в рабство, становится ясно, о какой войне идет речь. Очень наглядно. Очевидным становится и характер этой войны: с одной стороны, поработительно-угнетательный, с другой — национально-освободительный. Режиссер уже как-то привык видеть этот эшелон в советских фильмах и сам давно мечтал его снять. Проблема была, конечно, не в девушках. Энергичные ассистенты утверждали, что в Таллине можно набрать три эшелона девушек. Изя наберет за один день. Остановка была за эшелоном, за Министерством транспорта и за местными железнодорожными властями, которые должны были выделить вагоны, место, шлагбаум… Наблюдая эту возню, Зенкович понял, что ему никогда не захочется быть режиссером. Его голова просто неспособна была бы вместить такое количество забот: а) не дают эшелон; б) солнце уходит в половине десятого, когда все еще спят; в) осветители напились, и один из них пропал вовсе; г) звуковая аппаратура шалит, и надо просить диг у эстонцев (у них легче выпросить МиГ); д) массовка требует денег; е) фотограф принес работу и требует деньги; ж) чайхана уже готова, и павильон простаивает; з) народная артистка Галия Мухабуддова, назначенная играть неизвестную бахорскую девушку, которая вдруг взяла и запела за столиком чайханы, чтобы подчерк-нуть лирическое настроение героев, прибыть на съемки не может, так как ее театр уехал на гастроли в Народную Болгарию; и) московский художник, который приглашен в помощь бахорскому художнику, чтобы правдиво воссоздать интерьер немецкой комендатуры, опаздывает; к) московский режиссер, который вызван в помощь Кубасову, чтобы помочь ему спланировать съемки, желает, чтобы все совещания происходили у него в номере, и на этом основании требует, чтобы ему сняли два люкса; л) национальный ансамбль, который должен сопровождать пение неизвестной бахорской девушки, прибыл досрочно и теперь очень интенсивно спивается; м) шлагбаум не дают… Такого количества забот никогда бы не смогла вместить голова Зенковича, человека камерного и узкоголового. Впрочем, этого количества забот не вмещала и голова Махмуда Кубасова, вольного сына гор и городской чайханы. Он грустнел и пил с каждым днем все больше. В этой атмосфере увядали тайные планы Зенковича поговорить с Кубасовым о сложностях девичьей психологии (Зенкович еще надеялся в ходе съемок вернуть девушке из чайханы какие-нибудь ее драмы).
Вечером Кубасов быстро захмелел, и друзья стали вспоминать вечерний Орджоникирв, чайхану над горной рекой, хруст лепешки, только что отлипшей от глиняной стенки танура, запах хрустящей на зубах свежей зелени…
Наутро, в час, назначенный для выезда на площадку, Зенкович в полном одиночестве долго томился на тротуаре перед гостиницей. Иногда выбегал кто-нибудь из администраторов и помрежей, спрашивал, не видел ли Зенкович такого-то или такого-то, потом убегал, обнадежив:
— Скоро уже поедем. Все соберутся, и поедем. Шофера нет. Машины еще нет.
Вышел заспанный Изя, сказал утомленно, томно:
— Старик, вчера прямо на бульваре — такой французский минет. Еврейская девочка, — добавил он со значением. — Представляешь? Из хорошей семьи. Отец — завмаг.
Зенкович икнул. Он понимал, что этим сообщением Изя хотел сделать ему приятное, и не пожелал остаться неблагодарным.
Около девяти на тротуар вышли наименее влиятельные члены съемочной группы. Из их отрывочных, сонных разговоров Зенкович понял, что для выезда на съемочную площадку не хватает еще одного осветителя, двух шоферов, одной машины, бензина, гримерши. В половине десятого Зенкович ушел завтракать. Расхлябанность, беспомощность и всеобщее ничтожество приводили его в ярость.
Он вернулся из кафе в четверть одиннадцатого. В половине одиннадцатого вышел сам режиссер. Автобус тронулся. Зенкович ехал в машине режиссера.
Во дворе, где красили стену, было темно. Солнце уже ушло. Стена была, конечно, черноватая, но и двор был черен. Может быть, он всегда был черным.
— Завтра попробуем, а сейчас — на загородную площадку.
— Осветителей нет, — сказал помреж. — Полная лажа… Режиссер затравленно оглянулся.
— Пойду-ка я в гостиницу, — сказал Зенкович. — Отдам директору проездные документы.
— Я тебя провожу. — Режиссер Кубасов вышел из машины, крикнув шоферу: — Тут подожди, мы скоро.
На улице он прошептал Зенковичу:
— Надо хоть сто грамм срочно — снять стресс.
В комнате директора было два директора. Один из них был русский, очень опытный и дважды судимый, за это лишенный права подписывать какие бы то ни было финансовые документы. Второй был совсем неопытный, уроженец кишлака Вашан, совсем недавно переведенный сюда из конторы заготскота. Русского звали Кочетков, а бахорца Долдон Рахматович. За глаза группа звала его почему-то Долбон. Считалось, что это может лучше передать его невежество и тупость. Кочетков постоянно маячил перед глазами Долдона как напоминание о рисковости директорского ремесла. Глядя на Кочеткова, Долдон Рахматович отказывался подписывать какие бы то ни было документы. Сам он не имел никакого представления о том, что можно и чего нельзя подписывать.
Зенкович протянул Кочеткову проездные документы.
— Оплатите, пожалуйста, проезд, — сказал Зенкович скромно.
— Я бы в секунду, — сказал Кочетков. — Лишен прав, однако.
Долдон Рахматович долго читал чернильные буквы на билете.
— Куда летал? — спросил он подозрительно.
— Сюда…
— Откуда летал?
— Из дома.
— Где видно?
— Здесь. Внуково.
— Откуда видно?
После долгой и бессодержательной беседы полномочный директор предложил составить бумагу за подписью режиссера и отправить ее на студию в Орджоникирв. Кочетков снисходительно объяснил начинающему коллеге, что на съемках среди множества бесполезных людей часто присутствуют также авторы, художники и прочий ненужный люди. Объяснения прервал фотограф-эстонец, который опять принес счета за работу и просил их оплатить.
— Тут сколько? — подозрительно спросил Долдон Рахматович.
— Сто пятьдесят.
— Сколько ты дней работал?
— Восемь дней.
— Сколько это выходит в месяц? — лукаво спросил Долдон Рахматович. — Шестьсот рублей выходит. Ты кто такой? Ты, может, министр республиканский значение?
— Сколько заработал, столько выходит, — упрямо сказал эстонец.
— Ты кто такой? — настаивал Долдон Рахматович. — Председатель комитета меньше. Директор студии меньше. Я меньше.
— Делиться ни с кем не буду, — сказал эстонец.
— Не в этом дело. Зачем нахал — в этом дело. Где живешь? Какой страна живешь?
Вопрос попал в цель.
— Замминистра сколько получает? — наступал директор. — Директор совхоза сколько получает? Секретарь райкома сколько получает? Дом атеиста директор сколько получает?..
Зенкович вспомнил, что его ждет режиссер, и вышел на улицу. Машина стояла у входа. Режиссер вышел из-за угла. Он горестно морщился, вытирал рот.
— Итак, на съемки! — сказал он с печальной решимостью.
* * *
Большую часть своей бессознательной жизни Зенкович прожил в убеждении, что самой трудной задачей режиссера является работа с актером. Первое же столкновение с кинематографом развеяло в прах эту иллюзию его зрелых лет. Что касается Кубасова, то для него это занятие явилось бы вообще непозволительной роскошью. Ему столько предстояло сделать, столько расползавшихся концов собрать в единый кулак, прежде чем с воинственным криком «Мотор!» стукнуть этим кулаком по спине друга-оператора! Добиться, чтобы осветители дали свет. Чтобы вечно пьяные звукооператоры не забыли подключить звук. Чтобы был грим, чтоб был реквизит. Чтоб актеры попадали в кадр — не только в начале движения, но и в конце… Естественно, что в удрученной голове режиссера уже не держались все эти химеры Станиславского, Бергмана или Брехта… Момент, когда можно было наконец крикнуть «Мотор!», — уже сам по себе был победой. Однако это была пиррова победа, и Кубасов приходил к ней вконец измочаленный. Ему хотелось немедленно снять стресс, забыться, перенестись в родные горы, не видеть этих опостылевших лиц. Зенкович, находившийся на съемках только второй день, вполне понимал режиссера. Его собственное лицо еще не успело стать ненавистным, и он высоко ценил эту привилегию, используя ее для того, чтобы хоть отчасти снять с друга-режиссера бремя уныния, безверия и отвращения к жизни. К такой жизни. К режиссерской жизни…
Закончив съемку эпизода, в котором отец героини спасает жизнь эстонскому ребенку, убивает бесчисленное множество немцев и погибает смертью храбрых, Зенкович с режиссером поехали ужинать. В ресторане они отвлеклись от неприятных мыслей, поговорили о Куросаве, вспомнили трофейные фильмы своего детства и отправили телеграмму друзьям в Орджоникирв. Вернувшись в гостиницу, они еще долго сидели в просторном режиссерском номере. Пришли помрежи и ассистенты, заварили зеленый чай, закурили папиросу, начиненную индийской коноплей, зельем родных полей… Все потешались над некурящим Зенковичем, который не умел втягивать в себя дым. В конце концов это удалось и Зенковичу, потому что глаза его покраснели, «поплыли», и он поймал «торч». Над ним добродушно смеялись, из-за того что он так по-черному «заторчал», но больше всех в тот вечер смеялся он сам…
Улегшись на подоконник, Зенкович стал глядеть вниз, на опустевший бульвар не нашего города, и думать о том, что где-то там далеко-далеко от дома, в какой-то тридесятой стране, где тоже не наши бульвары и не наши дома, бульвары вот так же пустеют вечерами и люди вот так же, как мы, ловят свой кайф и свой «торч» и «плывут», плывут куда-то, куда им хочется, может, сюда, к нам, и плывут… Им ведь тоже хочется уплыть подальше от того места, где они находятся, потому что им кажется, что там, в другой стороне, должны быть другие бульвары, другая тоска и другой «торч»…
В разгар этого нестройного веселья пришел молодой усатый осветитель и, снисходительно поглядывая на нерасторопных бахорцев, сообщил, что Изя притащил к нему в номер двух чудачек, а сам сто грамм выпил и вырубился. Пришлось ему, усатому, обеих обслуживать, да еще и выводить из гостиницы.
С сожалением догуливавший остатки непривычного кайфа, Зенкович сказал, глядя вниз, на пустынный бульвар:
— Темнотища, тощища… Сейчас никакой Изя уже никого не поклеит…
— Изя кого хошь поклеит, — сказал усатый выкормыш орджоникирвской улицы. — Ты еще Изю не знаешь.
— Разбуди его! — капризно приказал режиссер.
Изя пришел, потирая свои младенчески невинные глаза и простодушно удивляясь:
— Поверите, привел двух кадров и уснул. Где они, черт их знает? Деньги вроде на месте.
— Были деньги? — удивился замдиректора.
— Было. Два рубля. Вот они.
Режиссер объяснил задачу: надо поклеить кого-нибудь на бульваре, прямо сейчас, под этим вот окном, чтоб всем было видно.
— Только поближе, чтоб было еще и слышно, — добавил Зенкович.
Изя послушно кивнул и вышел на темную улицу.
— Ни души, безнадега, — сказал Зенкович, глядя вниз.
— Получится, — сказал режиссер. — Надо только выпить.
Все выпили, а к Зенковичу в тепле номера сам собой вернулся устойчивый «торч» индийской конопли.
— Идет, — сказал Зенкович, и все прислушались. Вдалеке раздался стук женских каблуков по асфальту.
— В Бахоре уже четыре часа, — сказал ассистент.
Теперь была видна женщина, полная, статная эстонка. А может, она была русская — и с близкого расстояния не разберешь, а тут… Нет, все же, наверно, эстонка! В руках она несла тяжелую авоську с продуктами. Наверное, какая-нибудь официантка из позднего кафе. Или повариха. Спешит домой к мужу и ребенку, тащит им в клюве украденные с кухни продукты. Дохлое дело. Бедный Изя.
Изя налетел на нее из-за угла, как разбойник, заговорил очень быстро и напористо. Зенковичу видно было, что Изя время от времени вынимает из кармана мосфильмовское удостоверение. Сперва он, кажется, хотел забрать у нее авоську, вроде как джентльмен, но женщина этому воспротивилась и опасливо спрятала авоську за спину.
— Сейчас она ему врежет, — сказал Зенкович.
Изя бормотал все быстрее. До окон второго этажа долетали лишь обрывки его отчаянного монолога:
— Киноискусство… Кинозвезды… Творчество… Москва… Ленинград… Рига… Белград… «Мосфильм»… «Алло, мы ищем таланты!»… «Музыкальный киоск»… Кеосаян…
Зенкович видел, как женщина подошла к скамейке, к которой вел ее Изя, села, поставила рядом сумку. Изя стал говорить еще быстрее, но тише.
— Про нас, гад, забыл, — шепнул режиссер.
— Увлекся! — сказал Зенкович. Он увидел, как Изя поднял авоську, взял женщину под руку и повел в гостиницу. — Гениально! — сказал Зенкович уныло.
— В Орджоникирве уже утро… — отозвался режиссер полусонно и как будто бессвязно.
— Да, да, в Вашане тоже утро, — сказал Зенкович. Ему вдруг вспомнилось, как он вставал мочиться на рассвете, когда солнце едва касалось дальней горы, и это яркое пятно на склоне обещало, что снова будет синее небо и безоблачный день труда. И где-то на краю кишлака обездоленно и настырно, с горькой примесью автоиронии кричал безобидный ишак, любимый зверь Зенковича.
— Вот в Орджоникирве в эту пору не поклеишь, — сказал режиссер.
— А в Вашане никто не поклеит, даже Изя, — подхватил Зенкович. И тут все они повторили полутрезво, что да, в Вашане уж, да еще в такую рань, пожалуй, никто, даже Изя… Все они упорно, на разные лады повторяли эту фразу, все, даже усатый подонок-осветитель, так, будто в ней была какая-то надежда, в этой фразе, — и про Вашан на рассвете, и про Изю, и про эту глухую сексуальную безнадежность…
А наутро Зенкович покинул прекрасный Таллин. Он решил с недельку покружить по Эстонии, посетить разные уголки нашей отечественной заграницы, раз уж он попал сюда в эту дивную летнюю пору. Он пожил немного в Тарту, и в маленьком Выру, и в прелестном Отепя на берегу озера Пухаярве, где купался, лежал ничком на деревянном настиле над озером, беседовал с приблудным московским интеллигентом, пытался забыть про кино и думать об одном только прекрасном. И все же не мог не признать в душе, что, как ни крути, он все же причастен к тому, что делают сейчас в Таллине и затевают в Орджоникирве. Ночью, гуляя в сладостно-горьком одиночестве под холодными прибалтийскими звездами, он давал себе торжественное обещание, наездившись вволю и заработав пару копеек, навсегда забросить кинематограф и начать честную жизнь.
* * *
Через десять дней Зенкович вернулся в Таллин, загоревший и окрепший духом. Он узнал, что военные действия уже сняты и с героем-отцом более или менее покончено. Теперь так же мучительно и сумбурно снимали чайхану. Зенкович опять стал суетиться и беспокоиться о главных героях: им ведь не нужно было бегать с автоматом — они должны были изображать чувства. У Кубасова на них по-прежнему не оставалось времени. Зенкович решил разгрузить режиссера, взяв на себя часть работы. О работе с героиней, конечно, и речи быть не могло: это была немолодая и некрасивая бахорка, жена кого-то шибко ответственного. Но Зенковичу показалось, что он смог бы с пользой для дела порепетировать или просто побеседовать с розовским мальчиком. Поскольку оба были свободны, они засели с утра в уютном таллинском кафе, где, попивая кофе, беседовали о роли. Проникнувшись доверием к Зенковичу, мальчик рассказал, что здесь, в Эстонии, у него уже было шесть жен.
— Конечно, не настоящий жена, — объяснил он. — Но все было, как настоящий.
— Обожди, ты не сбивай меня, Фархад, — сказал Зенкович. — Попробуй лучше понять, что ты за человек.
— Что я за человек? Плохой я человек?
— Я имею в виду роль. По роли ты хороший человек. Ты не подлый человек.
— Это хорошо, что не подлый, — охотно согласился Фархад. — Один у меня, правда, был совсем уличный, я ему платок давал…
— Нет, я не о том… Понимаешь, ты чистый мальчик. Открытый… И брось ты про это, заладил одно и то же. Зачем тебе шесть жен? Тебе что, лучше от этого? Сам подумай: какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит?
— Это записать? — спросил Фархад.
— Запиши. Потом выучи. — Зенковичу было лестно, что евангельский текст произвел впечатление на его подопечного. — И еще учти — ты образованней, чем она. Она к тебе и тянется, потому что ты умней. Ты умный мальчик. Ты вообще книжки читал?
— Конечно, читал. В школе особенно много читал. Военный приключений читал. Уголовный розыск читал. В училище тоже нам много книжки задавал. Учебный… Посмотри, вон у тот длинный какой ноги…
— А художественную литературу? Мировую литературу?
— А как же. У меня даже дома есть. Чингиз Айтматов написал. «Тополек в красной косынке». Самый мировой литература. Во всем мире переводят.
— Рассказать тебе немножко об искусстве? Если интересно…
— Посмотри, вон у того какой длинный ноги…
Зенкович рассказывал Фархаду об архитектуре Москвы. Дня начала он взял знакомый любому приезжему кусок города: от «Детского мира» до ГУМа.
— Интересно, — сказал Фархад. — Сколько там ходил, никогда такой вещи не видел… Посмотри, вон у тот какой длинный ноги…
Зенкович решил, что если рассказать актеру что-нибудь такое, чего не знают его коллеги, то в результате он, может, обретет хотя бы снобизм, станет снисходительно, чуть свысока относиться к партнерше. А это привнесет кое-что в картину…
По утрам, перед выездом группы на площадку, Зенкович, как правило, заглядывал в номер режиссера, у которого дел с утра было невпроворот. Зенковичу сообщили, что эшелон, к примеру, уже снят — жалкий получился эшелон, в открытые двери его видны были три тощие девушки, для остальных не нашли костюмов, что со стеной дело обстоит все хуже (группе так ни разу и не удалось выехать на площадку раньше половины десятого — и Зенкович был бы немало удивлен, если б это мероприятие удалось, — так что стену не снимали вовсе). Однажды утром Кочетков принес режиссеру на подпись счет, из которого Зенкович узнал, что окраска стены стоила тысячу рублей. Режиссеру это, кажется, даже понравилось, и он еще раз напомнил Зенковичу о Дрейере, о его знаменитой «Жанне д\'Арк» и знаменитом замке, построенном лишь для того, чтоб на съемках была замковая атмосфера. Это подбодрило Зенковича. «Может, и наш фильм будет иметь атмосферу — крашенной понапрасну стены», — думал он вдохновенно.
В дневное время Зенкович чаще всего оставался в гостинице. Он пытался писать. Однажды, подходя к своей комнате, он увидел у двери девочку, мучимую страхом перед коридорной. Она сказала Зенковичу, что к ним в пошивочное ателье заходил днем высокий человек, который сказал, что он снимает кино и чтоб она приходила в его номер. Человека этого в номере еще нет, а дежурная не знает, когда он будет. Зенкович пригласил гостью к себе. Она тихо села в уголке, выпила предложенный стакан вина, а потом мирно уснула на девственном ложе Зенковича… Вечером она проснулась, выбежала в коридор и через минуту вернулась сияющая: замечательный человек, который снимает кино, нашелся. Пожелав ей успеха, Зенкович снова склонился над постылой страницей. Он писал про Пасху в доме дедушки с бабушкой в селе Алексеевском. Его юные родители и их сверстники снисходительно поедали тогда местечковую стряпню и с энтузиазмом пели новые песни: «На Дону и в Замостье тлеют белые кости…» Где теперь их белые косточки, Боже мой, где?
Вечером к режиссеру, у которого засиделся Зенкович, зашел усатый осветитель и предложил им побаловаться. Он сказал, что у него сейчас малышка из ателье, что она спит и что она совсем пьяненькая. Этот случай пробудил в душе Зенковича острое, болезненное чувство ответственности за съемки чайханного фильма и за отечественный кинематограф вообще. Зенкович вытащил обкуренного режиссера на прогулку и принялся растолковывать ему свои собственные взгляды на искусство и жизнь. Когда Зенкович чуть-чуть успокоился, он пришел к пониманию, что воспитывать режиссера надо было раньше, еще в средней школе, может, даже в детском саду. Они замолчали надолго. Проходя по узкой улочке, ведущей к ратуше, Зенкович вспомнил вдруг, что здесь живет его давнишний приятель — переводчик русской литературы на эстонский язык. Зенкович зашел на почту, разыскал в телефонной книге телефон приятеля, позвонил ему и, услышав радостные возгласы и настоятельные, но неопределенные призывы заходить в гости, решился зайти сейчас же, вдвоем с Кубасовым.
Семья переводчика ужинала, и Зенкович с Кубасовым прошли в гостиную, где сели дожидаться хозяина, листая нерусские журналы.
— Они ведь не знали, что мы придем, — отчего-то объяснил Зенкович.
Пережевывая котлету, к ним вышел симпатичный приятель Зенковича.
— Мы ведь не знали, что ты придешь, — сказал он. — Сейчас мы кончим. Сколько лет, сколько зим…
Он убежал кончать с ужином, но еще через минуту вышел к ним снова.
— Кто из вас голоден? Осталась одна котлета.
— Спасибо. Мы только что из ресторана, — сказал Зенкович. Кубасов тягостно молчал.
Приятель вышел еще минут через пять, и они с Зенковичем затеяли оживленный разговор. Им было о чем поговорить, однако, заметив, что Кубасов томится, Зенкович все же поспешил откланяться.
Возбужденный разговором, он весело спросил на улице:
— Ну как тебе мой приятель? Славный парень? Настоящий эстонец. Вырос на крестьянском хуторе. Интеллигент в первом поколении…
— Расстреливать таких! — сказал Кубасов и сделал любимый жест: парабеллум прижат к животу: т-т-т-та, пх-х-х-х…
И тогда Зенкович вдруг увидел все происшедшее глазами Кубасова. Вернее, он проиграл ту же ситуацию, те же события где-нибудь в городе Орджоникирве или кишлаке Вашан. Вот они с приятелем-эстонцем (то есть с приезжим! с гостем!) заходят в дом, где обедают (пируют, пьют чай, опохмеляются — все равно). Хозяева сидят на коврах и одеялах, когда входят гости. Все вскакивают с места, расступаются, тащат чистые тарелки, стаканы. Присутствующие сядут только после того, как усадят гостей (званых, незваных — все равно). Они начнут есть снова только после того, как убедятся, что гости начали есть…
— Хочется в Вашан, — сказал Зенкович.
— Ты все понял? — обрадовался Кубасов. — Пойдем выпьем.
Зенковича это, однако, не обрадовало. Ну да, он увидел кое-что глазами Кубасова. Но Кубасов никогда уже не увидит ничего их глазами, его глазами. Он был другой человек. Он позже родился и учился очень мало. Вообще, существует тысяча причин, каждая из которых делает его, Зенковича, самовыражение через Кубасова (а значит, и вообще его самовыражение в кино) невозможным. И все же, подводя итоги своим безысходным, совершенно пессимистическим размышлениям о кино, Зенкович произнес фразу, начисто лишенную безысходности:
— Скорей бы в Вашан!
— Скоро поедем, — отозвался Кубасов.
* * *
Ранней осенью Зенкович прилетел в Орджоникирв. Он был нежно встречен другом-редактором, другом-режиссером, всей дружеской съемочной группой, а позднее и знакомым шашлычником на ближнем к гостинице базаре. Ему предстояла здесь совсем небольшая работа, надо было по возможности подогнать сценарий к реально отснятому материалу и помочь тем самым завершению работы над фильмом. Кроме этого Зенковичу предстояло поистине немалое — увидеть наконец снятый материал. Увидеть литературный сценарий реализованным в пленке. Увидеть свои мысли, переосмысленные Махмудом Кубасовым, свое представление о герое, реализованное Фархадом. Это было, без преувеличенья, тяжкое испытание. Вероятно, при любом режиссере и любых исполнителях это тоже не прошло бы для литератора безнаказанным, однако при этих условиях… Фархад в роли розоватого мальчика напоминал педераста-неудачника, от которого отвернулись и мужчины и женщины. Некогда прелестная и даже загадочная девушка из чайханы, чья чистота так искренне взволновала членов худсовета, похожа была скорее на мать бедного педераста, чем на его возлюбленную. Похожа на его грешную мать, влачащую дни вдалеке от сына и, без сомнения, на панели. В конце концов, отверженный педераст, любящий собственную мать, в конце концов, даже инцест, вкупе с шариатом, — из всего этого можно было бы наскрести достаточно материала для великого Висконти. Бахорский Висконти сделал все слишком топорно, чтобы заинтересовать или даже испугать Комитет республики. Остальные герои фильма были напрочь лишены опознавательных черт. В темноте просмотрового зала Зенкович вдруг вспомнил про женатого негодяя, одного из самых ярких своих персонажей. Негодяя в фильме не было вовсе. Оказалось, что взятый Кубасовым на эту роль сын директора автобазы (к началу съемок директор уже был снят со своего поста и переброшен во Дворец культуры) выглядел на экране так мерзко, что даже снисходительный худсовет, который хошь не хошь смотрит каждый метр снятой пленки, потребовал его убрать (конечно, после падения самого директора, а не до). Пришлось вырезать все сцены с участием директорского отпрыска, и в результате этого в сюжете могло бы возникнуть весьма заметное зияние — заметное, не будь в фильме еще более серьезных провалов. Дело в том, что снято было вообще не больше половины эпизодов, хотя съемочный период благополучно подошел к концу. Из снятого добрая половина приходилась теперь на долю героя-отца, трехвагонного эшелона с девушками и длинного концерта в роскошной чайхане. Из этого ублюдочного материала Зенкович и должен был теперь сляпать что-нибудь вроде нового фильма. Убитый своим смехотворным горем, он снова и снова просматривал за монтажным столом мерзкие куски пленки, пытаясь вместе с Кубасовым угадать, что же тут все-таки может получиться. Скажем, так: история про то, как светлый образ отца помогает опытной шлюхе охомутать бывшего педераста, который вдобавок трудится шофером на трассе, ведущей к великой стройке коммунизма. Нечто вроде этого. Давай, Сема, давай! Выделить кое-что в диалоге, дать в тексте хоть какую-нибудь трактовку образов. Скажем, так: история о том, как образ отца-героя, бахорца, который спас братский-трудолюбивый-талантливый эстонский народ, а заодно уж и всю цивилизацию Европы, помогает светлой девушке-чайханщице полюбить юного парня-передовика-производственника в непосредственной близости от великой стройки, шум которой все время вторгается в развитие личной жизни. Сюжет стал ровным, как доска, и все свои надежды Кубасов (славословивший раньше немое кино) возлагал теперь на диалоги, которые можно было давать за кадром и в мгновения, когда герои стояли спиной к камере.
Зенкович окопался в любимой гостинице и сел писать диалоги. Кишлак Вашан уже брезжил на горизонте…
В первый вечер, под впечатлением увиденного материала, Зенкович позвонил мне в Москву и полчаса (за студийный счет, конечно) ругал кино. О продолжении этой беседы я узнал позднее.
Я узнал, что, когда, выпустив пар, Зенкович положил наконец трубку, раздался звонок. Междугородная сообщила, что заказанные им три минуты истекли.
— Истекли так истекли, — сказал Зенкович, удивленный столь яркой демонстрацией относительности времени. — В конце концов, я успел сказать.
— А вы работаете в кино? — тоненьким голосом спросила телефонистка. — Как интересно… Я тоже, между прочим, хочу стать артисткой.
— Все девушки мечтают стать артистками, — неодобрительно буркнул Зенкович, однако тут же упрекнул себя в недостатке юмора. Что-то он стал слишком всерьез принимать и себя самого, и эту забаву с пленкой, а быстротекущая жизнь — вот она, рядом, попискивает себе в трубку… — Как вас зовут? — поправился Зенкович.
— Наташа Фишер.
— Еврейка?
— Немка.
Зенковичу стало стыдно за столь непрофессиональное ведение разговора. На том конце провода томилась в служебные часы писклявая дочь великого народа, подарившего миру Канта, Ульбрихта, Марлен Дитрих, братьев Манн и братьев Гримм, а он, профессиональный литератор…
— Я лично хотела бы стать артисткой театра. На худой конец кино, — сказала Наташа с вызовом и стала ждать согласия Зенковича.
— Хорошо, — согласился Зенкович. — Завтра мне надо на киностудию, подходите в три часа к воротам.
— Я вас издали узнаю по голосу, — сказала Наташа. — Я всегда людей угадываю. Вот угадайте, я какая?
— Высокая, тоненькая, светловолосая… Сколько вам лет?
— Шестнадцать. Но только вы не очень правильно гадаете. Такой голос чаще у толстых…
— Расскажите немножко о себе, о семье…
Они говорили еще с полчаса. Наташа приехала из маленького поселка на краю Бахористана. Папа Фишер, как и другие представители сосланного народа, занимал невысокую, но вполне почетную должность. Он был ночной сторож на хлопковом складе. В свободное время он занимался тем же, чем и его соседи-бахорцы, — делал детей. У него что-то подряд шли одни девицы, и папа Фишер завидовал соседям-бахорцам, которым такой поворот судьбы сулил бы хоть калымное утешение. Фишер же с каждой дочкой становился беднее и был только рад, когда, едва набрав возрастной минимум, они уходили из дому и разбредались по свету. Наташа ушла шестой, оставив дома еще четверых сестер и стареющего отца с матерью. В Орджоникирве Наташа посетила однажды смешной спектакль «Тетушка Салам» (вот где был юмор!) и поняла, что она рождена для театра (журнальные обложки с актрисами, конечно, попадались ей на глаза и раньше). Выслушав от начала до конца разговор Зенковича с Москвой, Наташа поняла, что она на верном пути. Этот человек был послан ей самою судьбой.
Наутро, наткнувшись в мужском туалете на уборщицу, Зенкович, верный своим демократическим принципам и врожденной общительности, осведомился у женщины, моющей унитаз, как ее звать. Женщина, которая была, вероятно, не намного старше Зенковича, однако более не притязала уже на завидные привилегии молодости, а, напротив, тяготела к скромным преференциям старости, ответила певуче и просто:
— Теодоровна.
Зенкович осведомился, как зовут в таком случае вчерашнюю уборщицу.
— Сменщицу-то мою? — уточнила женщина. — Ее — Фридриховна.
Так Зенкович открыл еще один слой в слоеном пироге бахорского народонаселения, который испек генералиссимус в неостывающей топке своего гнева.
После сытного завтрака на базаре Зенкович несколько отдалился от немецких проблем, будучи поглощен постыдными муками нового диалога, который сегодня ему предстояло вручить Кубасову. Это было очень важно не столько для производственного успеха той белиберды, которую сейчас монтировал Кубасов, сколько для его собственного своевременного бегства в Вашан. Поэтому, приближаясь печальным шагом к студии, Зенкович был так глубоко погружен в свои полутворческие мысли, что не сразу вспомнил, чего от него может хотеть девочка, преградившая ему дорогу у самых ворот. Она была совсем маленькая, просто крошечная, однако она вполне толково ввела Зенковича в курс дела.
— Я Наташа Фишер, — сказала она.
— А-а-а… В самом деле? Что ж, пошли! — Приглядываясь к ней дорогой, Зенкович лихорадочно соображал. — Может, вам, скажем, пойти в детский театр… Там есть эти, как их, — травести. Еще зверюшек можно играть. Зайцев. Нет, мышек. Или в кукольном…
— А я читала в «Огоньке», что из маленьких мужчин в кино очень легко делают больших. Тогда ведь и женщины этим мужчинам нужны совсем маленькие, правда?
Увидев издали Кубасова, кайфующего в окружении своих подручных, Зенкович сказал:
— Вы тут постойте, Наташа… А я поговорю с режиссером.
Для начала Зенкович вручил Кубасову диалог.
— Пойдет! — сказал оптимистично Кубасов. — Еще доснимем, отмонтируем — увидишь, как будет. Другое будет. А ты можешь хоть завтра лететь.
— А сегодня можно?
— Надо бы выпить… в честь, так сказать… Но можешь, конечно, сегодня. А разве есть самолет?
— Эх, — сказал Зенкович, вожделенно глядя на белую кромку гор. — На черта мне Москва? Мне в Вашан…
Отвернувшись от гор, Зенкович увидел Наташу и рассказал режиссеру про ее голубую мечту. Он объяснил, что Наташа из бедной, многодетной семьи, так что Кубасов, как хороший человек и член месткома, должен как-то подумать о ее творческой судьбе.
— Подумаю, — сказал Кубасов. — Как раз у меня ассистентка уходит. Обсудим с ребятами…
Отзывчивые члены творческого коллектива, окружавшие их, уже начали обсуждать творческую судьбу маленькой немки, и обсуждали ее тепло и заинтересованно.
— Маленькая не маленькая, тянуть можно, — мудро сказал замдиректора.
— Вы что? — всполошился Зенкович. — Как можно? В ней трех пудов нет. У нас, у русских, говорят: если трех пудов нет….
— У нас так по-другому говорят, — авторитетно вмешался пьяный звукооператор. — Если шапкой не собьешь… ее разве собьешь?
— Это какой шапкой, — заржал директор. — Если большой шапка. Если меховой шапка. У стариков такой шапка бывает.
— Я вам вот чего объясню… — сказал усатый эксперт-осветитель. — Она уже вполне харится.
— С чего ты взял, кретин? — взвился Зенкович.
— А я вам сейчас объясню… — Усатый говорил надменным профессорским тоном. — Видели — ноги тонкие. Это первый знак…
— Ладно, Сема, — сказал Кубасов. — Ты, если хочешь в горы попасть дотемна, ты езжай, мы уж тут все обсудим.
Зенкович повернул к выходу, потом с тревогой обернулся к спорящим, спросил:
— Вы тут, собственно, отчего?..
— Шофера нет. Потом еще, кажется, бензина нет…
— Ясно, — сказал Зенкович. — Всех благ.
* * *
И снова было путешествие через могучие горы, устроенные Величайшим из скульпторов и Его же гением разрисованные, было путешествие над провалами, над горными реками — мимо диких, мирных кишлаков, скорей, скорей, дальше: вот наконец и знакомое ущелье, террасы, зелень садов, кишлак Вашан, Боже, когда ж это он успел стать таким близким, точно давно забытая (может, еще до рождения забытая) родина, выплывающая теперь из темных глубин памяти.
И если Зенкович был растроган, был рад возвращению в Вашан, то и кишлак был рад Зенковичу, потому что приезжие люди здесь еще не обрыдли, не примелькались, как на грязной городской улице, и всякий приезжий человек еще был в особину, всякому были рады, да и то сказать, хороших ведь людей тоже, как известно, не десяток на дюжину, а Сеню Зенковича тут считали хорошим человеком. Он, как мог, старался поддерживать это лестное для себя мнение (которое сам в душе не вполне разделял), он писал сюда письма и даже слал посылки, зимой, когда выдавалось время…
Вот он снова пьет зеленый чай под развесистым чинаром, близ разоренной мечети. Его узнают, его приветствуют, ему жмут руку — правой рукой, поддерживая ее левой. Чаще даже обнимают, трижды прижимаясь к нему грудью, — это все мужчины, конечно, женщины его просто не замечают, да и он не какой-нибудь пришлый невежа, он тоже не замечает женщин.
Осенний день так щедро жарок, будто и не спала еще нисколько летняя жара, но, ведь только пройдя по раскаленной этой дороге, а потом присев в тени, поймешь, что такое истинное блаженство отдыха, что такое истома жаркого дня, что такое прохлада и прикосновение ледяной воды из потока. Только намаявшись здешней жаждой, оценишь пиалу зеленого чая, рубиновое зерно граната, раздавленное в губах, оценишь особую сладость здешнего винограда и сочную плоть яблока… Со двора уже потянуло дымком, хозяйка готовит зирбах, в котором и лук, и морковь, и рис… Плов! Сегодня будет плов, соберутся неторопливые соседи, польется тихий и скупой разговор («Сегодня ты у меня ночуешь, — говорит завмаг. — Моя очередь. Ты не забыл?» — «Нет, нет, я не забыл»).
Гуляя по таинственным кривым закоулкам близ речки, он встретил толстого, осанистого гончара Ахмата. Мастер величавым жестом пригласил Зенковича к себе во двор, где было множество таинственных закутков и закоулков, где стояли новые очаги-кувшины, тануры, в которых односельчане будут скоро выпекать лепешки, стояли сосуды для воды, кугачи, кузы и кумчаны и блюда для плова, сохнущие, или уже обожженные, или даже расписанные. Шестидесятилетний мастер показал Зенковичу детей, особенно гордясь малышом, которому было всего два года. Хозяин и Зенкович сели в прохладной гостевой комнате и стали неторопливо пить чай с конфетами, с печеньем, урюком. Этот урюк — чудо искусства: косточка из него вынута и расколота, а ядрышко вставлено обратно, и мягкая плоть плода будто срослась снова. Они грызли эту сладкую урючную плоть вместе с ядром, раскалывали испеченные в золе фисташки и говорили обо всем, о чем было интересно. Впрочем, могли и посидеть, помолчать, ибо дружеское молчание тоже ценится дорого.
— Встретил одну девочку, — неожиданно для себя сообщил вдруг Зенкович.
— Хорошая? — спросил мастер.
— Хорошая… Но очень молодая.
— Хорошая… может дети рожать… — сказал мастер. — Лучше, чем старая.
Простившись, Зенкович пошел над берегом реки. Внизу маячили красные в сумерках костры. Женщины спускались к реке, неся на головах тазы с бельем и с мылом, дрова под мышкой. На берегу они разожгут костер и будут стирать белье.
Все темнее… Пора к завмагу.
Завмаг недавно пришел с работы, он разулся, он сидит, поджав ноги. Дети приносят ему чай. Пятому сыну помогает младший, Шестой, который зовет его уважительно, как старшего: «Ака», так же, как сам Пятый обращается ко Второму и к Первому, а все вместе к отцу: «Ака»!
Четвертая сегодня нянчит Седьмую и еще успевает помогать матери — в доме гости. Третья тоже не сидит без дела, так что мать все успевает, а Вторая управляется со своим собственным Первым, ей не до гостей.
— Хорошо дети воспитаны, — говорит Зенкович. — Кто же их так воспитывает?
— Как кто? — говорит завмаг добродушно. — Жена.
— И лепешки вкусные кто печет?
— Как кто? Жена. Если бы невкусно пекла, выгнал бы, — храбрится завмаг. — Вот эти картинки тоже все вышивает жена. И эти наволочки. И это…
Зенкович смотрит на далекую цепь гор, думает: «Боже милосердный! Чем мы так прогневали Тебя, что Ты посылаешь нам таких жен? Что наши малочисленные дети так непочтительны к нам, так мало нас любят?»
Зенкович смотрит на вора-завмага и думает, что, в сущности, это достойный человек, который сумел осчастливить женщину, растит достойных детей, помогает всем своим ближним… Что с того, что источник его дохода… Да, какая разница в конце концов? На то они и существуют, эти источники, чтобы достойные, нравственные люди пили из них.
Собираются гости, уже пахнет пловом. Зенковичу положили плов в отдельную миску, чтобы он не стеснял себя, и ложку ему дали, что ж, вот и молитва, начали… Хозяин разжимает ладонь над миской Зенковича, и поверхность плова зацветает изумрудной пахучей зеленью, зернами граната. Кто научил их этой красоте?
Хозяин исчез в темном чулане и выносит старый медный кумган…
— Помнишь, обещал, Семен-ака? Я не забыл.
Все улыбаются.
— Ешь, Семен-ака! Зачем мало ешь?
Зенкович откинулся на подушки, заботливо подоткнутые ему под спину, обводит неторопливым взглядом окрестные горы. Господь, глядя сверху на сотворенный Им Вашан, наверное, думает, что это хорошо.
* * *
В начале весны Зенковичу вдруг позвонила дама со студии имени Горького:
— Мы вас ищем-ищем! Где вы были?
— Я был дома, — сказал Зенкович.
— Вот видите, а мы вас ищем-ищем…
— Зачем вы меня ищете?
— Мы дублируем фильм «Девушка из чайханы». Вы автор? Что же вы молчите? Вы Зенкович?
— Ну-у-у… Собственно говоря… Я писал сценарий.
— Ясно. А я пишу русский текст, будем знакомы. Я Рахиль Ивановна Волкова.
— Очень приятно. Сеня… Какой же текст?
— Какой может быть текст? Диалог. В фильме говорят по-бахорски, мы его дублируем на русский.
— Я писал его по-русски.
— Э-э-э, это когда было, голубчик…
— Но снимали по-русски.
— Понятно. Но ведь тонировали его по-бахорски, так что теперь мы его будем дублировать на русский. Часть текста я уже уложила.
— Куда?
— Не куда, а под что. Вы можете приехать на студию. Хотя это и не обязательно.
Одолеваемый дурными предчувствиями, Зенкович потащился за семь верст на студию имени Горького, охраняемую от праведного гнева зрителей могучей статуей производства Мухиной. А может, Мухина вместе с Горьким защищала студию и от творческих неудач.
Энергичная дама, успешно хранившая черты былой красоты, называлась Рахиль Ивановна Волкова.
— Садитесь. — Она обворожительно улыбнулась. — Сейчас мы соберем группу.
«Какую группу она соберет? — испуганно думал Зенкович. — Съемочная группа уже распущена. Может, она соберет партгруппу?»
Зенкович рассеянно перебирал листы бумаги на столе. Какой-то диалог. Смешная фраза: «Это, черт побери, чертовски интересное занятие — следить за своим автомобилем!» Похоже на дурной перевод. Кажется, это и есть перевод.
И вдруг свет страшной правды забрезжил перед близоруким Зенковичем. Это был перевод с бахорского. Перевод бахорской фразы, бравшей начало в каком-то неведомом, вполне кретинском источнике. Не в его же! Зенкович готов был поклясться, что в его русском оригинале такой фразы никогда не было. Именно это он и сказал Рахили Ивановне, когда та вернулась. Голос его дрожал от обиды и гнева.
— Не важно, — ответила эта незаурядная женщина. — Не было в русском, появилась в бахорском. Теперь надо все это перевести на приличный русский, что я, кстати, и сделала. Потом надо еще уложить. Если хотите знать, там может вообще не поместится этот «автомобиль», будет просто «авто» или «мото», главное — чтоб были смычные согласные или открытые гласные, зависит от губ. А что, собственно, вы нашли такого в этой фразе, фраза как фраза, она, конечно, не отшлифована…
— Это чудовищно! — закричал Зенкович. — Это черт знает что! Кто вас учил переводить? Кто вас учил писать?
— Меня учил сам Смушкевич! — воскликнула Рахиль Ивановна так звонко и пронзительно, что Зенкович сразу понял: ее не переспорить. Звуки у нее были все уложены как надо, а голос поставлен, и дела его были плохи. — Я, если хотите знать, дублировала Куросаву! Самого Антониони!
— Они были довольны?
— Вы оскорбили меня дважды! — сказала Рахиль Ивановна. — Нет, вы оскорбили меня трижды. Теперь, даже если весь мир встанет на колени…
— Не встанет, — сказал Зенкович. — Ему тоже бывает предел.
Это была, конечно, опрометчивая фраза. Это было суждение максималиста, суждение, недостойное зрелого человека. Предела нет, предел нам только снится. Так, кажется, писал классик. Предел бывает только нашему земному существованию, так зачем же ненужными волнениями приближать эту роковую черту? Зенкович, который так стойко, можно даже сказать, стоически пережил все перевоплощения злополучной девушки из чайханы, на сей раз, скажем прямо, сплоховал. Ему на миг показалось, что он подошел к черте, к пределу; такие мысли от себя надо гнать. Надо выпить что-нибудь безобидное: какой-нибудь коньяк или валокордин. Покурить индийской конопли. Однако под рукой у него была только коробка от киноленты, до краев заполненная окурками. Зенкович не отважился надеть ее на голову незаурядной женщине, и стресс не был снят. Жаль, жаль…
Собралась группа, и стройная, строгая, профсоюзного вида женщина, чья усохшая былая красота была словно нарочно засушена для гербария, сказала, что надо все начинать сначала. Раз он обидел эту укладчицу, они найдут другую. Но прежде всего они все вместе посмотрят его фильм.
Это была хитро задуманная месть. До сих пор Зенкович счастливо избегал подобных просмотров. Однако теперь группа расселась в маленьком просмотровом зале, а Зенковича посадили в первый ряд, одного. Погас свет, вспыхнули титры, и Зенкович с удовлетворением и стыдом отметил, что на бахорском языке его фамилия не претерпела никаких изменений. Дальше была нудная и вполне постыдная ахинея, снятая ленивым бахорским человеком Махмудом Кубасовым, а потом слепленная его неумелой рукой. Все было пошло, абсурдно, бессвязно, скучно, и каждую часть приходилось одолевать, как пятикилометровый подъем в безводной местности.
В темноте зала за спиной Зенковича время от времени слышался искренний возглас какого-нибудь из членов дубляжной группы:
— И какой дурак все это понаписал?
Не снял, нет, они знали, что в зале сидит только сценарист, поэтому не снял, а написал. Понаписал.
Зенкович тягостно молчал, растравливая раны и повторяя про себя пижонскую фразу одного литературного долгожителя, строчившего сценарии для кинофабрик еще в двадцатые годы: «Писателю платят в кино за унижение!» Понял, Сеня? За унижение тебе платят. Вот тебе твой Таллин. Твой Вашан…
Но даже в таком зале нашелся добрый человек: не стоит кино без праведника. Человек этот был совсем молод, во всяком случае, очки его блестели задорно. Может, это был практикант, студент ВГИКа. Может, это был просто юноша, начинающий жить (тот самый, который должен во всем брать пример с товарища Дзержинского). Может, он уже слегка разочаровался в кинематографе, как знать? Так или иначе, это был добрый человек (может, все-таки на него уже подействовал пример товарища Дзержинского), и он пожалел распинаемого автора. В темноте он пересел к Зенковичу и стал шептать ему, не боясь навлечь на себя гнев группы:
— Вы их не слушайте. Это же вообще варварство, этот ихний дубляж. Субтитры должны быть в кино. Им же всем работа нужна, этим бывшим актерам, неудачникам-режиссерам. А дама-режиссерша, она, знаете, кого-то там сыграла, то ли Зою Космодемьянскую, то ли Матросова, тридцать лет назад, с тех пор все дублирует… Укладчица! Да весь дубляжный цех на укладчицах держится. А на цехе вся студия…
Зажегся свет. Зрители пересели за стол заседаний.
— Ну что, товарищи, — сказала бывшая героическая актриса. — Начнем. Что нам делать с фильмом?
Человек, похожий на кастрата, которому вместе со всем остальным по ошибке вырезали и голос, пропищал едва слышно:
— Та-акое нельзя дублировать.
Остальные были того же мнения. Режиссерша с засушенными следами красоты торжествующе смотрела на сценариста.
— Ну что же, — сказал Зенкович. — Работа вам нужна, не мне… Что вы там последнее дублировали? — спросил он у засушенной.
— М-м-м… — Она пожевала бледными губами. — Корейский фильм. «Девушка-патриотка».
— Ясно. А теперь «Девушку из чайханы» будете курочить. Работа вам как раз по плечу. Но укладчицу эту, как ее… Матрену Исаковну…
— Рахиль Ивановну.
— Да, Рахиль Ивановну — прошу убрать. Пусть она Антониони уродует, он все же по-русски не понимает, ему все одно, нерусскому человеку…
Так, хотя и под занавес, с большим опозданием, в час полной безнадеги, а Зенкович все же втянулся в кинопроизводственную склоку. Ему дали укладчицу Фиму. Она была хорошая, добрая девушка. Она сказала:
— Вам есть куда уехать?
— Куда-нибудь можно, конечно, — сказал Зенкович. — Можно в Коктебель… в Ялту… в Бахористан…
— Ничего себе куда-нибудь, — сказала Фима. — Так вот, езжайте. Вы ничем не поможете, ничего уже нельзя сделать… Я вам обещаю не очень…
Зенкович купил билет до Симферополя и уже собирал вещи, когда ему позвонили из Орджоникирва. Он был рад услышать голос своего друга-редактора.
— Сейчас тебе будет звонить директор… Нет, новый, того уже сняли. Этот? Ничего. С хлопка. Крепкий хозяйственник. Предложит тебе новый сценарий, с одним парнем напополам. Он ничего, хороший парень, член Союза… но он не смог… Он ничего не смог.
— О чем? О басмачах?
— Нет. Об охоте на тигров… Ты же любишь охрану природы.
— У вас уже тепло? — спросил наконец Зенкович, намолчав рубля на три.
— Жарынь… Редиска.
— А в Вашане?
— Там тюльпаны… И трава зеленая-зеленая… Ты понял? Остальное он тебе сам скажет… Пять тысяч пополам…
— Остальное я помню, — сказал Зенкович.
Он подумал, что нельзя соглашаться. Ни за что, надо ехать в Крым. Надо садиться за вечное. За прозу… И все-таки он ждал этого звонка. Над рекой уже трава и тюльпаны. А вечерами костры. Стирают белье… Пахнет пылью, горелым кизяком. Очумело кричит ишак, забравшись в горы. Бормочет искусственный водопад возле помоста у чайханы…
Коктебель
Утром Сапожников вышел из хибарки и увидел большую серую медведицу. «Смотрите! — закричал он. — Смотрите!» Первой его услышала медведица. Потом пошла прочь через кустарник — будто бы нехотя, неторопливо, а на самом деле очень быстро и толково, сперва куда-то за свалку, а потом по лесу за перевал, по своей привычной тропе, размазанной туристскими кедами. Это была настоящая медведица в настоящем лесу, среди сопок. И это было прекрасно.
Протирая глаза, из хибары выходили инструктора, из палаток выскакивали промерзшие за ночь, покусанные комарами туристы. Выяснилось, что медведица уже приходила ночью, распорола бок палатки, утащила ящик с галетами. Инструктора и туристы сходились во мнении, что медведицу нужно «отстрелять». Просто пристрелить ее в заповеднике они не имели права, нужно было «разрешение на отстрел». Медведица ходила в открытую по своей тропе, по своему шеломайнику, и Сапожников подумал, что судьба ее решена. И еще он с тоской подумал, что ему надо улетать. Он посмотрел на небо. Из-за вулкана Кихпиныч тянулась серая мгла. Никто не знал, будет ли сегодня вертолет. Уже три дня Сапожников ходил с приюта на приют в погоне за вертолетом. Вертолет «еще не пришел» или «только что ушел». Он издевательски жужжал где-то совсем рядом, за горами. Отчаянье охватывало Сапожникова. Ему начинало казаться, что он должен немедленно попасть в Жупаново, в Петропавловск, в Москву… По спокойном размышлении он понимал, что ему нечего делать в Москве: никто не ждал его там, а здесь была так давно обещанная ему Камчатка. Однако он все реже был способен к спокойному размышлению. Современная техника могла вырвать его из самой глухой тундры, в одночасье перенести за десять тысяч километров, калеча сердце, изнашивая нервы. И вот он рвался в Москву, в которой ему сейчас было нечего делать. Он знал, что все равно не сможет сесть за работу в Москве, потому что Марина уже месяц была на юге. Он старался не оставлять ее одну надолго, просто так, вероятно, чтобы «не вводить во искушение». Сейчас она была с Глебкой, и ей, вероятно, приходилось нелегко… Бедная девочка. Сапожников подумал о ней с теплотой, впервые после многомесячных распрей. Вспомнил, что она у него «красавица и умница» (так она любила говорить о себе). Из хибары вышла Таня, инструкторша, провожавшая Сапожникова с соседнего приюта. Они ночевали сегодня рядом, на полу, одетые, в холоде и многолюдье, без толку разжигая друг в друге желание. Вид у Тани был довольно помятый, и Сапожников в первое мгновенье рассматривал ее, словно не узнавая. Потому он спрятал взгляд, но она успела перехватить его и, кажется, все поняла.
— Как бы тебе улететь… — сказала она соболезнующе.
Туристы принесли им в ведре остатки манной каши.
— Дяденька художник, поешь, — сказала маленькая девочка.
— Как надо говорить? — строго спросила Таня.
— Оставь, — сказал Сапожников. — Спасибо, моя славная.
Таня была довольна, что не придется готовить. Они ушли в хибару и доели кашу. Вторая группа принесла от костра пшено.
— С голоду у вас не пропадешь, — сказал Сапожников.
— Сегодня все уйдут дальше, — сказал начальник приюта. — Останусь один.
— А как же мне? — с тоской сказал Сапожников.
Ему стали наперебой давать советы. Одни советовали выходить к океану — всего сорок километров, и тропа сейчас неплохо видна. Другие рекомендовали спуститься в Долину гейзеров. Туда иногда прилетают экскурсанты. Один инструктор стал со смехом рассказывать, как съемочная группа «Земли Санникова» прилетела сюда на один день, а застряла на полмесяца из-за непогоды — ночевали вот так же, на голом полу, то-то была потеха…
Очумевший от этих разговоров Сапожников вышел на поляну и стал напряженно вслушиваться в рокот вертолета за перевалом. Ушел! Опять ушел! Надо немедленно выбираться в Жупаново, в Петропавловск, в Москву. И еще дальше, наверное, на юг, где Марина с Глебкой. Господи, какой же он был счастливый утром, когда увидел медведицу! Не думал ни о чем, кроме серой медведицы с белой мордой.
* * *
Проснувшись после дневного сна, Марина вспомнила, что она здесь только второй день, и удивилась. Только второй, Господи, да в Москве иногда за месяц столько не произойдет с тобой. Сегодня днем проходила мимо теннисного корта, Евстафенко что-то сказал маленькому критику из Ленинграда, и оба посмотрели ей вслед. Она биться об заклад была готова, что он сказал что-то очень лестное. Ей даже показалось, что она может прочесть по губам. Кажется, он сказал: «Вот это зад». Или еще что-нибудь такое же хорошее. А может, еще более поэтичное. Может быть, он сказал: «Я хочу эту женщину. Я хочу ее немедленно». Если говорить честно, то он все же был видный мужчина. Видный, завидный. Вот и стишок. Стихи сами слагаются здесь. Здесь хорошо, здесь красота, тра-та-та… Мужчины здесь, кажется, не слепые и не замученные, как в городе, солнце сияет с утра до заката, как ему и положено. Вот так надо жить — полнокровно, и легко, и весело. Без этого взаимного мучительства, без выжимания творчества из себя и из других — как у них в последнее время с Сапожниковым.
За перилами террасы проплыла почтенная седая голова Субоцкого. Он обернулся и встретился взглядом с Мариной.
— О, так вы здесь живете, — сказал он галантно и внушительно. — Я не знал. Здесь у вас очень мило. Туберозы, розы, глицинии, и все же здесь немного тесновато…
— Меня тошнит, — сказал Глебка.
— Заткнись, — сказала Марина тихо, а потом бросила за перила Субоцкому: — Что же поделать? Я не знаменита. И даже не член союза.
— О, при чем тут это, — сказал Субоцкий полыценно. — Я познакомлю вас с директором. Милейший человек…
— Сейчас я оденусь, — сказала Марина. — О, Боже мой, что за ребенок, отчего я такая несчастная… — Она застегнула юбку и всплеснула руками. — Отчего мне столько мучений с ребенком. Вот дать тебе раз по затылку, сразу перестанешь.
Глебка ушел в туалет.
— Только над раковиной! — крикнула Марина и легко сбежала с крыльца.
— Какая на вас кофточка… — сказал Субоцкий.
— А что… Мне тоже нравится, — сказала Марина. — И всего три рубля. Никто не верит.
— Вам она идет… — сказал Субоцкий.
— Подлецу все к лицу, — сказала Марина.
Директор встретился им у конторы. Он почтительно приветствовал Субоцкого и протянул Марине руку для личного знакомства. Директор был тоже видный и высокий мужчина, довольно плотный и вполне солидный. Марина подумала, что он, наверное, бывший полковник, потому что во всех домах отдыха и творчества всегда бывшие полковники. Наверное, потому, что они обходительные люди.
Директор сказал, что даже и речи не может быть о том, чтобы ей всегда не пойти навстречу, тем более что она такой молодой и растущий поэтический кадр и тем более что сам Абрам Евсеич за нее просит.
Субоцкий сообщил Марине, что вечером они пойдут смотреть вернисаж на дому одного очень талантливого и авангардного местного художника, так что хорошо бы и ей тоже пойти. Он добавил, что у них тут все время чтения и вернисажи, так что и она могла бы что-нибудь почитать. Марина согласилась немедленно и насчет вернисажа, хотя при этом нос ее слегка заметно поморщился, потому что она сразу поняла, что это будет какой-нибудь очень провинциальный и отсталый авангард. Однако она не выразила этого сомнения, а только сообщила скромно Субоцкому, что у нее муж довольно известный художник и он также пишет многие вещи, которые полный авангард и поэтому — для себя.
— Надеюсь, и для нас тоже, — сказал Субоцкий, и Марина подумала, что он все же душка, какой у него добротный и неторопливый юмор. Жалко, конечно, что он пишет так много про войну, но ему это простительно, потому что он был на войне, не то что другие, молодые, которые тоже все время пишут про войну, но совсем не знакомы с этим тяжелым временем, когда, говорят, была карточная система, какавелла, суфле, тушенка, сгущенка и недоедание.
Марина и Субоцкий пошли прогуляться по набережной, и дорогой он рассказывал ей о долге художника, а она глядела на море, над которым дрожала легкая серебристая фольга, состоящая непонятно из чего. Она сказала, что ей иногда кажется, будто небо — это море, а море — это небо и сама она живет в этом странном перевернутом мире со своими тонкими ощущениями, доведенными до большого абсурда нежности и страдания. И тогда ему стало ясно, какой необычный из нее должен получиться поэт и как все-таки хорошо, что мы видим подрастающую молодежь, хотя бы и тридцатилетнюю с лишком, и какая большая ответственность ложится на них, на старшее, может быть, еще полу старшее поколение, за то, чтобы мерзавцы не затоптали поросль из своих чисто корыстных целей, прикрываясь идеями монопольного патриотизма. И еще Субоцкий поглядел на синюю гору с профилем поэта Волошина в своем естественном очертании и подумал о том, что жизнь хороша. И тогда он заспешил к себе, за письменный стол, потому что это была ускользающая идея, которая обладала тем большей ценностью, что была приемлема для напечатания и не содержала в данный момент никакой очевидной лжи. А Субоцкий был честный и в своем роде даже порядочный человек.
Марина одна возвращалась домой от набережной и заметила, что на нее глядит сбоку очень маленький левый критик. И ей показалось, что он думает при этом что-то очень хорошее. Может быть, он подумал, что у нее большая грудь или, скажем, печать таланта. Нет, что ни говори, здесь все-таки было очень весело, в этом благоухающем Коктебеле, и столько людей, и такие все яркие, красиво одетые, своеобразные и знаменитые, что каждый выпуск «Литгазеты» упоминает, наверное, полпляжа если уж не в рецензиях, то где-нибудь в передовой или между строк…
Возле самого дома она увидела человека с ребенком. Она заметила, что человек с ребенком тоже смотрит на нее, только непонятно, какой у него взгляд и что он думает при этом. Марина решила, что он, может быть, реакционный критик и славянофил, который завидует ее красоте и таланту. И она с горечью подумала о тех людях, которые не наслаждаются жизнью и не хотят дать другим жить свободно и счастливо, развивать искусство в недосягаемые сферы, — может быть, этот мрачный тип с ребенком был как раз из таких.
* * *
Однако человек с ребенком, чья фамилия была Холодков, думал совсем не про это. Сперва он действительно бегло отметил, какая она все-таки неумытая, неряшливая и нечесаная кобыла, эта Марина, а потом погрузился в свои бессмысленные мысли, которые все время ходили по кругу вокруг его несчастья и несчастий целого света. Он давно уже был известен здесь как человек с ребенком, потому что он много лет приезжал сюда с очаровательным мальчиком без жены (мужчины говорили, что она была очень молодая красотка, но женщины дружно отрицали это и говорили, что она просто ничего себе и к тому же себе на уме). Холодков любил ездить вдвоем с ребенком, кроме того, жена и не хотела с ним ездить. В результате наблюдений за окружающим миром он уже давно ждал от нее худшего, но дождался только совсем недавно, когда вернулся с ребенком домой из очередной поездки и обнаружил, что жена его не только живет с очень бритым киношным администратором, но даже и собирается свить себе новое гнездо, которое, как и всякая ячейка, невозможно без скрепляющего ее ребенка. А так как рожать она больше не собиралась, то для скрепления ей как раз и понадобился до той поры излишний для нее холодковский нежно любимый Аркаша (это странное и совершенно немодное имя она дала ребенку в связи с торжественным отъездом в Израиль группы художников-полуевреев. Холодков, который был стопроцентным русским евреем, предпочел бы что-нибудь более, на его взгляд, благозвучное или нейтральное). После того как холодковская жена (он еще только приучал себя к выражению «бывшая жена») принялась за устройство нового гнезда, Холодков из области своего привычного, почти что, можно сказать, беспричинного меланхолического страдания перешел в сферу острых, очень болезненных переживаний и унижений, которые завершились тремя неделями полного сумасшествия, когда бывшая жена, в осуществление своей программы, вдруг сняла комнатку в самом центре города и забрала туда мальчика, вместе с администратором, конечно. Холодков потерял всякий контакт с сыном и, прорыскав по городу три недели, нашел его наконец среди мусорных ящиков и автомобилей в старом дворе на Маросейке. Мальчик добывал кусок проволоки из мусорного ящика, и полузабытый ребенком Холодков чуть не испортил с ним отношения, попытавшись оттащить его от помойки. Тогда Холодков смирился, преодолел брезгливость и, забравшись в ящик, вытащил оттуда целый моток проволоки. На этом они помирились и даже условились с мальчиком о поездке к морю, в Коктебель. Жена неожиданно согласилась на это. Может быть, потому, что она всегда считала пребывание в писательском Коктебеле очень комильфотным, а может, и потому, что задачи устроения ячейки требовали сейчас не присутствия ребенка, а более решительных мероприятий.
И вот Холодков снова остался один на один со своим нежным и нервным мальчиком и все еще не мог поверить в это, в то, что это надолго, старался оградить это свое монопольное общение с ребенком. Именно поэтому сразу после завтрака он старался увести ребенка на прогулку, чаще всего в горы. Мальчик, очень чутко определив нетерпение и страх Холодкова, капризничал в эти дни больше обычного. Кроме того, он постоянно упоминал в разговорах «дядю Сеню», того самого бритого администратора, и Холодков с удивлением обнаружил, что мальчик отлично чувствует, как действует на него самое упоминание этого имени, и оттого упоминает его при всяком удобном случае. По этим упоминаниям можно было установить, что дядя Сеня был большой знаток жизни, науки и, главное, искусства, потому что он и сам был причастен к искусству — делал настоящее кино, большое кино, по большому счету.
Вот и сегодня, едва Холодков начал рассказывать Аркаше про генуэзцев, владевших некогда этим берегом, сын вдруг сказал ему с вызовом:
— Итальянцы очень изнеженный народ и любят макароны. Поэтому они очень плохие вояки.
— Откуда дровишки? — изумился Холодков, и мальчик сказал с вызовом:
— Когда дядя Сеня работал на картине «Знамя кузнеца Мультитутиса», рядом снимали итальянцы, и дядя Сеня даже подружился с одним итальянцем, который продал ему джинсы и подарил много хороших блокнотов. Дядя Сеня так изучил за это время Италию, что за две поездки не изучишь… А ты вовсе и не был в Италии.
Холодков даже зажмурился от неожиданного удара, а когда открыл глаза, увидел варварски обстриженный Аркашкин затылок и его замурзанные шорты, подобранные на итальянской или еще какой-нибудь помойке. Можно было, конечно, дать ему под зад или влепить по шее, но Холодков подавил в себе это желание. На протяжении их прогулки он еще несколько раз пытался рассказать ребенку то о временах Средневековья, то о повадках моря, но каждый раз Аркаша радостно и напористо уличал его в невежестве, потому что он, Холодков, никогда не держал в руках настоящей Средневековой реторты, а дядя Сеня сам заказывал ее на фабрике для картины «Знамя кузнеца Мультитутиса»; он не спускался на дно морское в подводной лодке, которая участвовала в съемках фильма «Верить нашему человеку», и не знал, какие трудности возникали при съемках этого фильма.
— Вообще, делать настоящее искусство очень трудно, — со вздохом сказал Аркаша, и Холодков поспешил с ним согласиться.
По ходу прогулки выяснилось также, что дядя Сеня был близко знаком с самим Тихоновым, с самим Санаевым, с самим Кузнецовым, с самим Озеровым, с самим Курляндским и Хайтом, который сочинил «Ну, заяц, погоди!». Холодков опускался все ниже в собственных глазах и наконец окончательно сник, потому что он не видел фильм «Верить нашему человеку», не был знаком почти ни с кем из знаменитых людей. И даже не был знаком с дядей Сеней, который делал искусство, не щадя своих сил.
— А все-таки труднее всего было снимать «По велению совести», — доверительно сообщил Аркаша, и тогда Холодков вдруг почему-то повеселел. Он посмотрел на древний, неколебимый Карадаг, на синее море внизу, на белый пароходик, с которого полуграмотный голос бывшего литфондовского культурника рассказывал о потухшем вулкане и о хозяйственном подвиге Максимилиана Волошина, построившего для советских писателей дом творчества. Потом он улыбнулся сыну и сказал заговорщически:
— Да, старик, вот это был фильм! По большому счету!
— «По велению совести» — настоящее кино, — сказал Аркаша серьезно. — Золотой фонд.
Левый критик с женой подходили к столовой. Жена была большая, очень русская и такая образованная, что, глядя на нее, он каждый раз удивлялся — неужели все это досталось ему одному, за что, за какие такие заслуги. Иногда, впрочем, он приходил к мысли, что не могло же все это, так много всяких достоинств, достаться ему совсем уж незаслуженно. И тогда он начинал видеть и свои заслуги тоже: все-таки он был очень талантливый критик, хлесткий и стойкий в борьбе, и он был порядочный человек. В свои тридцать с небольшим он уже успел немало, у него была твердая репутация левого критика, и его слово стоило много. Он все время печатался, хотя не раз выходил за рамки и позволял себе черт-те что. Это было чудо. Так ему казалось, во всяком случае, так казалось и многим его сторонникам. Единственный человек, который не был правым и при этом все же хулил его, был Элик. Но Элик был озлобленный неудачник. Элик был недолеченный псих-шизофреник. Элик говорил, что секрет в том, что он все-таки никогда не выходил за рамки. А если когда-нибудь и вышел, то в очень частной беседе, может быть, в спальной. И так тихо, что не слышала даже жена. Так он вещал на всех перекрестках, этот Элик, но он все-таки был псих, шизофреник. У шизофреников теряется здоровое чувство самосохранения, притупляются нормальные инстинкты. Им хочется вопить. А вопли их неприятны. Неприятны простым, нормальным людям, которым все давно понятно и известно. Зачем кричать? Человек должен не кричать, а писать. Он должен хорошо писать. И печататься, потому что люди ждут левого слова. Ждут хлесткой насмешки и сатиры. Ждут намека — тысячи и тысячи интеллигентных читателей этого ждут. Именно для них приходится отстаивать каждый намек, доказывать, что здесь нет ничего, ни на копейку никаких намеков. Но они же обладают огромной общественной силой, эти намеки. Хорошо, что люди талантливые это ценят и понимают. Тот же Леня Евстафенко. У него бывают колебания и компромиссы, но он человек, несомненно, очень талантливый. И он человек прогрессивный по природе. По требованиям таланта…
— Смотри, — сказала жена.
У самого входа в столовую, в двух шагах от навеса стояла большая группа славянофилов.
— Я не поздороваюсь, — сказал левый критик.
— Это будет уже слишком, — сказала жена.
— Нет, нет, я не поздороваюсь… — сказал маленький левый критик. — Пусть знают, что есть на свете принципиальные люди.
Это было, как прыжок с парашютом. Как рывок с гранатой через бруствер окопа («Хорошее сравнение, надо запомнить», — подумал маленький критик). В последнюю минуту, уже хватаясь за ручку двери, левый критик поймал взгляд Мити Двоерукова, и ему стало не по себе. Этот Митя был приятный парень, и к тому же талантливый парень, единственный из них, кто писал. Кто мог писать. Остальные были неудачники и подельщики, для которых славянофильство было палочкой-выручалочкой, спасительным братством бездарей. Но Митя хорошо писал. К этим правым он примкнул только из-за своих деревенских симпатий. А может, из-за своих издательских трудностей тоже. Ко всему прочему это их упущение, упущение со стороны порядочных людей. Правильно говорит Субоцкий — за каждого человека надо бороться… Интересно, что подумал Митя, когда с ним вот так не поздоровался порядочный человек. Это ведь как плюнуть в человека — не поздороваться. Или как положить камень в его протянутую руку. А мама говорила, что нельзя не подать нищему, даже если девять нищих из десяти пропойцы. Десятый может оказаться голодным, а ты откажешь в гривеннике голодному. Так вот, вместо того, чтобы устраивать дорогостоящие тесты на голод, ты должен просто раздать рубль мелочью. Так говорила мама.
— Ну, ты им врезал, — сказала жена. (Удивительно хлесткий и точный у нее язык!) — Ну, ты им врезал… Будут знать, что думают о них порядочные люди.
— Да, но там был Митя Двоеруков… — Левый критик рассеянно ковырял вилкой салат.
— Ну и что Митя? — сказала жена. — Будет знать, с кем водиться. Так ему и надо.
Все-таки женщины принципиальнее нас. Они умеют драться. Мы должны учиться этому у женщин.
Левый критик повеселел и стал энергично очищать картофелину. Все-таки что-что, а картошку в мундирах еще не разучились печь в Коктебеле!
* * *
А Мите Двоерукову и правда вдруг стало обидно. Он долго себя уговаривал, что ему начхать на этого пигмея из Ленинграда с его убогими откровениями на уровне «молодежной прозы», с критиканскими фразочками и шуточками. В высшей степени наплевать… а все же почему-то обидно. Это, наверно, все из-за Валерки. Говорят, что он сущий бандит, торгаш, выжига. И полная бездарность. Как он примазался к движению? Впрочем, они ведь пока всех берут. Вот Хрулев, тот не бездарность. Интересный мужик. Лентяй, конечно, так ничего и не написал после литинститута, пошел по должностям, теперь и вовсе ничего не напишет, но с ним хоть не скучно…
Когда этот плюгавый из Ленинграда проходил, они как раз говорили про этих, вроде него.
— Все произошло из-за отсутствия поля деятельности, — сказал Хрулев. — Представляете, закрылась сфера торговли, нет частной инициативы. И вот огромная масса грузин, армян, евреев, особенно евреев, идут в искусство. Естественно, что там они тоже занимаются торговлей, захватывают рынок, чутко реагируя на спрос. А грузины, армяне — Боже, куда только не обращается их взор… Вместо того чтобы своевременно обеспечить столицу свежими фруктами и цветами… Так вот, пока наш неповоротливый, хотя и талантливый, русский лежебок сочинит первые четыре строчки о весне, какую-нибудь там грозу в начале мая, они уже своевременно, загодя сдали ее в набор под знаком Первомая: «Люблю я праздник Первомая, аплодисментов первый гром…»
— Не пускать, да и только, — сказал Валерка. — А можно еще и отпиздить…
Он так выразительно постучал кулачищем по своей бычьей шее, что все невольно рассмеялись. Вот в это самое время и протопал этот маленький левачок из Ленинграда со своей, и так что-то стало Мите тошно…
— Пошли, что ли, до палатки дойдем… — сказал он. — Сухого по стакану…
На набережной, у палатки, расставив стаканы вдоль барьера, громко рассуждали местные, по обычаю нетрезвые, — коктебельские мужики. Митя с удивлением услышал, что речь идет о поэтах.
— У поэтов у их тоже. Думаешь легко… — говорил смуглый мужик с лодочной станции, бывший Валеркин хозяин. — Вон у Петровны жил поэт. Он говорит, пока книжка не выйдет, ничего тебе не заплотют. А ее другой раз по году ждут. И по два. И по три.
— Ну уж, по три.
— И по четыре. Он же говорил. За книжку, конечно, могут ему дать две тыщи.
— Большие деньги.
— Как же, большие. На три-то года. По семьдесят рублей в месяц и то не выйдет. А у их же расходы.
— Ну да, «Столичная», они же в столице.
— Конечно. Еще и с надбавкой… В два раза по-ресторанному.
Митя был растроган таким народным вниманием к трудностям литературы, растроган вторым стаканом кислого сухого вина, послеполуденным теплом и светом, ветерком с моря.
— Эва, — сказал Хрулев, тоже внимательно слушавший разговор у барьера. — Как пишет пресса, народ любит свою литературу, внимательно следит за ее успехами…
— А все же толку мало от кислятины, — сказал смуглый мужик. — Давай-ка, Васек, сгоняй в «новый» за «чернилами». Две «гнилушки» и раздавим…
— Народ-языкотворец, — сказал Хрулев. — Чудо-народ. «Чернила» — это, надо понимать, крепленое, которое руль бутылка…
— Вздрогнем, братцы, — сказал Валерка и вдруг заспешил разлить вино.
Пронзительный голос жены застиг его на половине стакана. Он допил, побежал к ней, пошел рядом с коляской, торопливо уводя жену прочь от компании, но и оттуда, издалека, доносились ее причитания:
— С утра скорей набраться. А я коляску катай, как каторжная. Нет, ты сам скажи, на хрена мне такой отдых? Завтра уеду к матери, и живи как хочешь. Бла-бла-бла со своими коблами весь день, каждый вечер нажрутся, а теперь уж и утром, совсем обнаглели… Писатели, одно слово…
— Критика снизу, — сказал Хрулев. — А в чем же, скажите, братцы, ее сила? Может, в ее слабости?
Они посмотрели вслед Валерке. Он, съежившись, шел рядом с колясочкой, огромный и покорный.
— Вот, по тому самому я и не женюсь, — сказал Хрулев.
— Успеете, — сказал Митя. — Вы еще молодой.
— Нет, Митя, я уже подстарок, мышиный жеребчик, — сказал Хрулев. — Я когда сильно чихаю, все опасаюсь, чтобы вставная челюсть не выпала… Давай-ка еще по стакану. Может, чуть-чуть отпустит. Памяти ушедшего, господа офицеры!
* * *
Холодков ждал возле столовой, пока Аркаша расправится с котлеткой. Первые полчаса Холодков обычно высиживал за столом, помогая сыну; потом, убеждаясь, что он не может ускорить процесс, выходил на улицу, садился на скамейке у столовой и смотрел на море.
Море в Коктебеле было особое. Говорили, что такого нет нигде, и в это нетрудно было поверить. Море здесь бессовестно и неуловимо меняло свою окраску по пять раз за вечер — становилось то палевым, то фиолетовым, то серебристо-зеленым, то невинно-голубым, то хмуро-серым. Однако это было еще не все. Над поверхностью воды все время дрожала то почти осязаемо плотная, то вдруг тончеющая до полной прозрачности чешуйчатая фольга. Словно морю было недостаточно его цветовых метаморфоз и ему потребна была еще и мантия из дорогостоящей, тончайшей ткани…
На скамейку присела молодая женщина с ребенком. Она дружелюбно улыбнулась Холодкову и сказала, интеллигентно усмехаясь:
— Любуемся явлением природы?
— А что, нельзя? — спросил Холодков, внимательно оглядывая мамочку.
Она была сдобная, округлая, аппетитная, чисто вымытая, почти съедобная.
— Работникам литературы это просто необходимо, — сказала она с легкостью. — Я вот по ночам любуюсь луной на своем балконе… Все дрыхнут, а я любуюсь…
— Не знал. Пел бы серенады, — сказал Холодков. — Какой по счету?
— Третий слева. Да что там, разве современный мужчина отважится влезть на балкон к даме?
— Об этом не смел и мечтать, — сказал Холодков. — Речь шла только о скромной серенаде, неспособной даже скомпрометировать…
— Способной, способной, — сказала женщина. — Чем весь корпус будить, уж лучше залезть, — закончила она невинно и закричала, перегибаясь через пляжные перила: — Андрюшка! Сейчас же отойди от воды!
Подошел Субоцкий, степенно поздоровался с Холодковым.
— Ну, чем мы теперь заняты? Чем перебиваемся?
— Сценарий просили переписать, — покривился Холодков. — Для одной виноградной республики…
— Да, да, — кивнул Субоцкий. — Ося Брик — вы знали его? — он часто это делал. Он называл это «лечить сценарий». Недурно, а?
Субоцкий поднялся и пошел к столовой. Он уже пообщался с Холодковым, теперь спешил навстречу Евстафенке. Он исправно нес светскую и литературную службу.
А Холодков размышлял о метафоре Брика. Наверное, это в ту пору считалось ужас каким остроумным и циничным, это нежное и слюнявое выражение, да еще сказанное о чем — о сценарии. О том дерьме, которое должно помочь студии пробить через инстанции, а потом и выпустить сверхдерьмовый фильм. Откуда же такая мягкость? Может, просто изменился способ выражения, и все эти циники двадцатых и тридцатых годов переходят в сферу диетпитания. Ведь даже о редактировании перевода (а книга не кино) друзья Холодкова чаще всего говорят теперь: «Сижу переваливаю говно лопатой». Все со временем становится манной кашей — и Хаксли и Во. От Генри Миллера еще шибает с непривычки под дых, но и то потому, может быть, что у нас почти нет группового секса, «чейнджа», или кероуаковских «ябиум». Вероятно, скоро и Миллер (в основе своей достаточно сентиментальный) покажется нежно-слюнявым. Впрочем, в метафоре Брика Холодкова поразила не форма даже, а эта потребность самоуважения, степень самоуважения. Если сценарий «лечат», значит, это весьма достойное занятие — и писать, и «лечить», и ставить. Может, самоуважение это появляется с возрастом. Приходит время, когда признаваться в чем-либо поздно. И страшно. Не хочется признаваться, что занят Бог знает каким дерьмом. Те, кто помоложе, все-таки чаще сознают цену тому, что они делают. Даже если они и завышают цену, то хотя бы ограничивают уровнем кинематографа (а кто почестнее — уровнем отечественного кинопроизводства). Это вовсе не значит, что они бо́льшие халтурщики, чем Брик или кто-либо из старших, нет, они могут быть даже большими профессионалами. Просто они трезво оценивают свои свершения на ниве отечественного адмасса…
— Я поел, — сказал Аркаша, выходя из столовой.
— Все поел?
— Я оставил две четвертых котлетки и одну треть макарон, — честно сказал Аркаша.
— Ладно, — сказал Холодков.
Аркаша вдруг обхватил его за шею руками, и Холодков почувствовал, что он слабеет, тает, расползается при этом прикосновении тоненьких рук.
— Понесешь, — сказал Аркаша.
— Ты ведь тяжелый, — сказал Холодков.
— Ничего, — сказал Аркаша.
— Ну ладно. Ничего так ничего, — согласился Холодков и поволок свою драгоценную ношу в коттедж.
* * *
Сапожников проснулся с чувством страха. Он понял, откуда этот страх — от звуков дождя. Значит, небо закрыто и погода снова нелетная. Он уже три дня назад перебрался в общежитие вертолетчиков и знал наверняка, что без него теперь не улетят. Но никто никуда и не собирался лететь — погода была нелетная. И Сапожников вдруг успокоился. Он лег на койку, заставил себя расслабиться: вот так нужно лежать — и день, и два, и три, тогда, может, распогодится, а пока у него вынужденный передых, который тоже должен стать частью его камчатского опыта, здесь люди сидят так неделями, и если не испытаешь это, то можешь пропустить что-то очень существенное. Сапожников валялся на койке, смотрел в потолок, перебирал в уме последние дни на Камчатке. Особенно запомнился ему остров Беринга, где с гребня Северо-Западного мыса он разглядывал лежбище котиков. Это было ошеломляюще. Еще не подойдя к берегу, едва перевалив за гору, Сапожников услышал страшное, неистовое блеянье, похожее на крики испуганной овечьей отары, только еще более упорное, отчаянное, исступленное. Это кричали котики, и вскоре они стали видны — огромное скопление черных точек на берегу и на камнях в океане. Сапожников подошел ближе, спустился с горы на дозволенное расстояние и, с трудом унимая непонятное чувство испуга, под непрестанные, исступленные крики животных стал разглядывать лежбище, приходя во все большее смятение. Сперва он разглядел «гарем» — скопление самок, посреди которого лежал изможденный, отощалый секач, измученный своей неумеренной половой деятельностью, ревниво и яростно оберегающий весь свой гарем и пресекающий всякую попытку самочки выйти из этого постылого для обеих сторон круга. Оскаленной пастью он тыкал в нарушительницу обета, гнал ее обратно в гарем, не принимая никаких отговорок (купание, охота, общение с друзьями — какие там еще могли быть отговорки у жирных самок котика). Среди секачей и самок в поразительном небрежении лежали «черненькие», их дети, трогательные новорожденные котики. Дав им жизнь, секачи и самочки словно забывали об их существовании, зачастую и сами давили их по небрежности, а потом с большим равнодушием наблюдали, как задавленных гложут голодные, обшарпанные песцы. В самой гуще гарема Сапожников увидел чайку. Приспособившись под боком у секача, она неторопливо и словно бы даже брезгливо выклевывала мозг у «черненького». Чуть поодаль, по сторонам лайды и до самой воды лежали «полусекачи» и «холостяки» помоложе, самцы, не обретшие еще гарема. Это было стадо, толпа, обиженная половой несправедливостью и половым гнетом, унылые пасынки Гименея и Эроса. Горе было самочке или «черненькому», попавшим в слишком тесную территориальную близость к этому сексуально озабоченному кодлу. Холостяки бросались на неосторожную жертву, насиловали ее в остервенении и, расползаясь, оставляли на песке полудохлое, а то и вовсе дохлое, истекающее кровью тело. И над всем алчным, жаждущим наслаждений или измученным наслаждениями, страдающим и отстрадавшим уже скопищем стоял немолчный, жалобный, исступленный крик…
Назавтра после посещения лежбища Сапожников ходил подавленный, прибитый всем виденным. Он был возмущен тем, что он видел, и переживал унижение бессилия. Он смутно сознавал, что где-то в тайниках его души зрелище это связано было теперь с его собственной жизнью, с собственной неудачей, неспособностью настоять на чем-то, положить конец абсурду человеческого лежбища или стать победителем, победоносным самцом и патриархом. Все утро он бродил по пустынному океанскому берегу, замусоренному лесом, рыбацкими сетями и яркими поплавками с японских судов, японскими разноцветными фляжками от саке и шампуня, японскими ящиками от пивных бутылок. Он часами сидел, любуясь птичьими базарами, застывшими, точно кегли, бакланами, огромными чайками, бродил, шарахаясь от гниющих туш рыжих сивучей, собирал морских ежей и морские желуди. Океан не успокоил его, и тогда Сапожников вдруг отправился пешком на противоположный берег острова — за тридцать с лишним километров, один, без мешка и палатки, чтобы доказать, что он дойдет живым, и еще что-то доказать кому-то, неизвестно кому и неизвестно зачем…
Он вернулся в Никольское только на третий день, под утро, измученный, мокрый, уверенный, что пограничники, всю ночь светившие прожекторами, гонятся за ним. Но успокоенный. Он сказал себе, что это была идиотическая форма самоутверждения, однако соображение это его не уязвило. Он терпеливо дождался прихода корабля. И вот сейчас он снова ждал погоды.
Пилоты после обеда с выпивкой, после вчерашних изнурительных ночных приключений дружно храпели в комнате, а он смотрел на небо, обложенное тучами, и слушал перестук дождя. Камчатка была неуютной, унылой, холодной, неблагоустроенной. Ученые умели извлекать из здешней работы припек романтической лихости, обретая некий налет авантюризма, или, как тут говорили, романтики; военные смирялись с небольшими удобствам и редкими радостями — что им еще оставалось? Работяги складывали в кучу тройные оклады всего семейства и строили планы на отъезд — временный или окончательный. А что здесь было нужно ему?
* * *
Евгения и Аделаида уговаривали остаться, но Волошин торопливо простился и ушел, почти сбежал из Судака. Он больше не мог ждать утешения от людей, от дружеской, сочувственной — еще и хуже, что сочувственной, — беседы. Он ждал спасения от дороги — сорок километров горной дороги, он одолеет ее под вечер, он будет идти среди скал, выжженной земли и горных зарослей. И давно знакомая дорога будет вдруг прерывать его путешествие, ошеломляя неожиданной красотой, тревожа, томя, напоминая о вечном, о неподвижном, о поколениях, давно ушедших вместе со своими горестями и преходящими болями, оставивших после себя вот эту вечную землю, горький аромат своего неугасшего сознания, священную тишину…
Здесь был священный лес. Божественный гонец Ногой крылатою касался сих прогалин, На месте городов ни камней. Ни развалин. По склонам бронзовым ползут стада овец…Тропка стала едва заметной, исчезла в траве, он не боялся потерять дорогу, он рад был бы сейчас бродить без дороги, выбирая путь на ощупь. И хотя дорога была знакомой, ему удалось на миг заплутать в лабиринте между Стузами и Коктебелем. В горах еще цвела черемуха, еще благоухали фиалки… Он вдруг вышел на перевал и увидел Щебетовскую долину в золотых закатных лучах, покрытую золотистым бархатом леса… Тишина и святость царили здесь. Да, именно это — святость лежала на всем. Древние камни хотели передать ему нечто очень важное и в то же время интимное, что мог услышать от них он один. Может, для этого он и был избран богами, заброшен сюда в метаниях своей тоски, обделен людской удачей, покоем и довольством суеты.
Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален? Кто знает путь богов — начало и конец?Смеркалось, когда он выбрался на тропу и начал спускаться с Кок-Кая. Моря уже не было видно. Поселок открылся ему россыпью огней, словно там был целый город, а не малюсенький Коктебель. Он присел на камни, и ему показалось, что камни здесь тоже пахнут горькими травами пустыни. Звездное небо щедро раскрыло ему себя, но оно было необъятно, непостижимо, звезды были недоступны и бессчетны. И тогда он заплакал. Слезы принесли облегчение. Он двинулся в дорогу — теперь уже совсем близкую. Стало видно, как море разворачивает по пустынному берегу белесые, таинственные свитки волн.
И ночи звездные в слезах проходят мимо, И лики темные отвергнутых богов Глядят и требуют, зовут неотвратимо…Он торопился в свой кабинет. Он не знал, напишет ли он что-нибудь сегодня или просто будет сидеть за столом, листать бумаги, прислушиваясь к смутному гулу, нарастающему в душе, изнемогая в оковах немоты, как изнемогала в этой неволе мать-земля. Он был сродни ей, как пахнущий травами камень, как древние скалы Карадага. Он тоже был застывший камень слов и мыслей…
— Ты знаешь анекдот, как один еврей пришел к раввину? — спросил Аркаша.
— Знал, но забыл… — отозвался Холодков. Он и правда тут же забывал анекдоты и, слушая во второй, в третий, в сотый раз, вспоминал все где-нибудь в середине рассказа и потому не получал удовольствия даже от совсем старых и полузабытых анекдотов. Он и сейчас несвоевременно припомнил, что случилось, когда еврей пришел к раввину, и, не желая прерывать Аркашу, лениво размышлял о том, как все-таки много местечковых анекдотов вынес его сынуля из столь краткого сожительства с дядей Сеней. Юмор самого дяди Сени казался Холодкову убогим. И он с неуместным привкусом горечи думал о том, что бывшая жена его, поглотившая такое количество вполне доброкачественной литературы, в конце концов все же пришла к тещиному уровню. Начав с решительного размежевания с родительским домом, она вообще с каждым годом становилась все больше и больше похожа на тешу, прошедшую по пути от местечка к склерозу славную дорогу идейного руководства, которая дала ей точное знание главных истин на все случаи жизни. Теща не только знала, что положено культурному человеку делать и что не положено, что порядочно, «санитарно» (это было ее любимое слово) и что «антисанитарно» и непорядочно, — она считала своим долгом добиться от всех окружающих неукоснительного проведения в жизнь своих драгоценных установок. Бывшая жена, усвоив тещину категоричность, подкрепила ее удручающе академическим тоном, обильным употреблением варваризмов или просто французских, латинских и польских слов, взятых без перевода, — так, словно, прозвучав на чужом языке, эти слова обретали силу заклинания и научную основательность.
— Ты знаешь, что все русские церкви построены без одного гвоздя? — вдруг спросил Аркаша.
— Без единого. Да. Некоторые. Рассказать как?
— Не какие-нибудь некоторые, а все, — твердо сказал Аркаша. — Дядя Сеня приглашал консультанта по русской старине, и они создавали церковь для картины «Черный дурман»… У нас в пристройке даже есть фотография.
— Я не помешаю? — спросила высокая блондинка с книгой.
— Нет, — сказал Холодков и с благодарностью подумал, что эта грамотная курочка помешала ему ввязаться в безнадежный спор с сыном, снова поссориться с ним и нажить сердечную боль на весь вечер. — Нет-нет, напротив…
— Вода холодная? — спросила она.
О, это был уже целый диалог. Такой вопрос требовал подробного ответа. Или ответа совсем краткого и грубого, чтоб она отвязалась. Но он вовсе не хотел, чтоб она отвязалась, а столь длинный разговор на юге, где все зреет так быстро, давал им права давнего знакомства. Дальше уже от них зависело, воспользоваться ли этим знакомством…
Перед обедом, сворачивая подстилку, она спросила, где он проводит вечера и не хочет ли он пойти послушать стихи в одном доме. Холодков покачал головой, кивнул на Аркашу.
— Ну и что же, — сказала блондинка с книгой. — Там многие приходят с детьми, куда же их деть? А у вас такой мальчик…
«Такой мальчик, да, такой удивительный мальчик, — подумал Холодков. — Значит, не один я это замечаю».
* * *
Дарья Павловна Инсарова проживала в Коктебеле круглый год и потому знала очень многих из коктебельских завсегдатаев-писателей. Кроме того, она почти не пускала на постой посторонних дикарей-коечников: у нее, как некогда в доме Волошина, жили все гости. Эти две черты, взятые вместе с ее именем-отчеством и фамилией, придавали дому Инсаровой несомненный налет аристократизма, и принято было говорить, а также и думать, что она из бывших, то ли из бывших дворян, то ли из бывших интеллигентов. И те и другие стали очень редкостны и модны в последнее десятилетие, так что каждый мог в наше время, идя навстречу спросу, взять на себя это сладкое бремя вырождения и быть уверенным, что никто не станет проверять родословных.
На даче у Инсаровой и происходили время от времени поэтические, музыкальные и спиритические суаре. Марина обнаружила здесь привычную, почти что московскую компанию — здесь были авангардные поэты, два-три авангардных художника из неизвестных, молоденькая блондинка-поэтесса из начинающих, а также известный московский психоневролог. Здесь почему-то сидел Холодков, и Марине это не понравилось, хотя сразу стало ясно, что он здесь случайно и погоды не делает. И еще здесь был сам Евстафенко. Это и обрадовало Марину, и удивило. Удивило, потому что в Москве все ее друзья — авангардные поэты шумно презирали Евстафенко и его стихи. Впрочем, никто из них не знал его близко, не вхож был в его компанию, не удостоен его дружбы. И вот теперь он пришел к ним и был с ними заодно. От такого визита как-то само собой забылись все претензии к нему — точнее, были отложены до более однородных сборищ. А пока они глядели во все глаза и поддакивали. И как-то само собой получилось, что они помалкивали, а он говорил. Он повидал свет, беседовал с Пикассо, и с Хемингуэем, и с Максом Эрнстом, и с Фиделем Кастро, и с американскими президентами. Он говорил размашисто, видел перспективно, и они сникли.
— Я знаю молодежь Запада, — говорил он. — Мне понятны ее чаянья и надежды. Мое поколение верило в Сталина. Мы потеряли эту веру. Главное — любить Россию. Если будет Россия, то и мое имя будет жить в веках.
Евстафенко рассказывал им о своем долге перед народом, а также и о том, что поэту необходимо быть порядочным. Об этом он говорил очень запальчиво и долго, и видно было, что это тяжелая повинность.
Потом он прочел стихи о правительстве. Он любил правительство и во многом был с ним согласен. Но он также был кое в чем не согласен с ним. Ему не хватало большего, абсолютного доверия правительства, чтобы полюбить его еще больше. И ему было обидно, что между ними не получается полного единства, как с народом, с которым он всегда заодно.
Все слушали, затаив дыхание. Это были очень смелые стихи. Ясно было, что правительство не может их не знать, когда такой человек один на один говорит с правительством… Присутствующие поняли, что они все, шушера, никогда не получавшая больше ста рублей за свои стихи, поднялись вдруг в очень высокие сферы политического звучания. Холодков не понял этого, но и то лишь потому, что все его внимание было приковано к веранде, возле которой играл его Аркаша. Аркаша играл с Глебкой, и они там чуть-чуть не подрались. Холодков был как спринтер на старте, однако его вмешательства не потребовалось: пацаны помирились сами.
— Нет, Аркаша, ты неправ, — сказал Глебка спокойно и рассудительно, — Дантес был не такой плохой человек, как Сталин или Гитлер. Ведь он рисковал жизнью. Если бы у него не было таких железных пуговиц, Пушкин мог бы его убить…
Аркаша не признавал логики, но спокойный Глебкин голос не провоцировал его на драку.
— А ты видел фильм про Дантеса? — спросил Аркаша. — Не видел? Вот и не говори. А дядя Сеня знаком с артистом, который играл Дантеса.
— Может быть, твой дядя Сеня и есть Дантес? Или он просто свинтес? — сказал Глебка.
Аркаша возликовал и сдался, а Холодков подумал, что за каламбур он продаст родную мать. Хорошенькая наследственность, подумал Холодков, и гордясь и пугаясь. Он предоставил мальчишек их состязаниям и внимательно осмотрел собравшихся. Он заметил, что Марина настойчиво выпячивает грудь, и подумал, что это правильный ход. Он подумал также, что ей бы следовало пересесть в тень, чтобы не видно было, как давно она не мылась. Впрочем, авангардисты всегда относились к вопросам гигиены с безразличием. Блондинке очень хотелось, чтобы Евстафенко заметил ее, и Холодков подумал, что это ей по-настоящему нужно: она нигде не печаталась, жила в провинции и накопила уже, наверное, не одну тонну стихов, требующих сбыта. Потом Холодков отметил, что грязный художник-авангардист поглаживает Марину по заду и она при этом вздрагивает. Холодков с академическим спокойствием подумал, что он предпочел бы погладить блондинку. Потом он подытожил, что ему тут совершенно нечего делать, и стал пробираться к выходу.
На терраске его окликнули. Он обернулся и с удивлением увидел, что это Марина.
— Наши дети, — сказала она, улыбаясь сладко. — Они так славно играют…
— Они вообще славные, — сухо сказал Холодков и взглянул на нее вопросительно и деловито: что дальше?
Она сникла и сказала без особой надежды:
— Может, вы возьмете и моего мальчика? Они поиграют вместе, а потом вы их уложите…
— У себя?
— Да, да, понимаете… — Она улыбнулась обворожительно и вдруг засюсюкала: — Я вчера его чуть не убила. У меня плохой сон и у меня мигрени… А он стал кашлять и меня разбудил, а я только-только уснула, ну вот столечко проспала. У меня так головка болит…
— Есть народное средство…
Марина нетерпеливо всплеснула руками.
— Ну да. — Холодков кивнул понимающе. — Ребенок мешает вам испробовать народное средство… Нет, к сожалению, я с одним еле справляюсь. И мне уже пора… Честь имею.
У выхода из садика Холодкова догнала блондинка.
— У вас успех, — сказала она.
— Чисто деловой разговор…
— Вы уже уходите?
— Аркашу надо класть, — сказал он, извиняясь.
— А потом?
— Потом работать…
— Когда же для себя жить? — спросила она жалобно.
— С часу до трех, — ответил Холодков и подивился в душе, какой он стал неостроумный.
Потом он успокоил себя тем, что сезон только начинается. Сжав в руке теплую Аркашину ладошку, он заспешил к себе в коттедж.
* * *
Висела полная луна. Может, именно поэтому на набережной собралось сегодня так много народу в этот неурочный час. Море было спокойным, и лунная дорога уходила от писательской столовой через залив, в неведомые дали.
Денисов беседовал у ограждения с Субоцким — солидный разговор двух солидных поседевших мужчин, главного редактора журнала и члена редколлегии журнала, двух ответственных людей, находящихся на отдыхе…
— Какая дорожка, — сказал Денисов. — До самой Варны, до Золотых песков. Вы не отдыхали в Болгарии? Вот где удалось по-настоящему наладить сервис. Да, надо сказать, весьма и весьма благоустроенное местечко. Вообще, у болгарских товарищей немалые успехи в строительстве социализма. А ведь отсталая была страна…
Субоцкий кивнул. Ему хотелось поговорить по существу, хотелось услышать, как Денисов, этот весьма темный, но влиятельный человек, оценивает обстановку на литературном фронте. И вовсе не потому, что Субоцкий сам не знал эту обстановку, нет. Просто от того, как Денисов оценивает эту обстановку, зависит и сама эта обстановка. Денисов был частью обстановки, и Субоцкому было важно знать, какова эта обстановка сегодня, на 23.00 сегодняшнего числа… Субоцкий подозрительно оглядел группу славянофилов у соседней скамейки, прислушался. Он услышал долетавший от корпуса стук машинки и порадовался в душе, что процессы творчества не затухают и ночью.
— Ишь ты, начальство-то о Болгарии говорит, — сказал Валерка. — Болгары наши братья. Они умеют по-настоящему помнить подвиг Александра Второго Освободителя… Нет, ты только посмотри на Субоцкого. Как они умеют выглядеть зубрами. Столпами…
— Чего ему не выглядеть, — сказал Митя. — Член редколлегии, член приемной комиссии, член худсовета. И еще чего-то член.
Хрулев поморщился из-за Валеркиной никчемной реплики. Валерка невежливо прервал переводчика, который последние полчаса добросовестно перечислял чины старой армии, а также чины гражданские… Нудный переводчик знал их в совершенстве, и была в этом перечислении некая странная, успокаивающая музыка…
— Да-а… Градаций должно быть много, — сказал Хрулев. — Они как бы фиксируют, закрепляют неравенство. Этим и армия хороша. Ибо какое же к черту может быть равенство…
— Дети в одной семье и то неравны, — с неуверенной улыбкой сказал молоденький туркменский поэт.
— Неплохо сказано. — Хрулев повернулся к молодому туркмену. — Вам надо почитать Бердяева. Там все очень просто, черным по белому.
От корпуса донесся стрекот пишущей машинки. Хрулев посмотрел на часы, покачал головой. И подумал про себя, что звук этот больше его не волнует. Валерка тоже услышал звук машинки.
— Это они могут — строчить день и ночь, — сказал он с обидой.
— И что характерно — очень быстро пишут. Не лезут в карман за словом.
— Ну что ты, очень Даля пользуют, — сказал переводчик.
— А что еще делать человеку, если не строчить, — сказал вдруг Митя с тоской. Ему давно уже надоел отдых, и эта набережная, и пляж, и все разговоры.
— Пошли, что ли, добавим, — сказал Митя. — В «Элладе» небось дадут, на вынос-то.
— Пошли, — сказал Хрулев. — Там дед свой в доску. За рупчик принесет.
Валеркина жена поймала их у второй калитки, близ волошинского дома.
— А то я не знаю, что ты туда намылишься, ирод? — сказала она. — Девка целый час орет, живот у ней. Я все руки оборвала таскаючи. Как же, дождешься от тебя помощи…
Валерка уныло поплелся за ней по аллее, к четвертому корпусу. Остальные молчали, глядя им вслед. Мите показалось даже, что Валеркины огромные плечи вздрагивают.
— Нет, правильно Толстой говорил… — начал Митя, и голос его дрожал от жалости и бессильного нетерпения.
— Руки-ноги обломать вашему Толстому, — сказал вдруг нудный переводчик.
— Почему? Толстой был все-таки зеркало… — неуверенно вставил туркменский поэт.
Они смотрели на Хрулева, и он неохотно объяснил:
— Он много наломал дров, Лев Николаич, мать его так.
* * *
Лунный свет падал через верхнее окно мастерской прямо на загадочный и прекрасный лик египетской царевны. Волошин очень точно выбрал место для царевны, специально выбирал его в полнолуние. Такие ночи были полны для него волшебства и превращений. Мистическая связь устанавливалась в природе, уничтожалось время, уничтожались расстояния, и эта лунная дорожка на воде, как кровеносный сосуд, соединяла города и континенты, нации и культуры. Вот и сейчас — дорожка уходила через море — в Константинополь.
— Знаешь, Аморя… — Волошин обратился в угол, где сидела Маргарита, потом повернулся к освещенному лику царевны Таиах. Он ощутил растерянность. Лицо Маргариты было скрыто тенью, оно не жило сейчас, а губы Таиах словно бы дрогнули в ответ на его обращение, — знаешь… В такую же ночь я сидел однажды в Константинополе, на Пантелеймоновском подворье…
Царевна Таиах слушала его, затаив дыхание: она была прекрасна. Обе они были прекрасны, и они были сходны между собой. Иногда, в знойный полдень, становилась очевидной нежизненная природа египтянки, она была продукт искусства или продукт художественного ремесла. Но в такие ночи, как нынешняя, она оживала, и тогда они могли бы состязаться в красоте, если бы Аморя вышла на свет, но она тихо сидит в углу, не выходит…
— Продолжайте… Пожалуйста. Я слушаю… — послышался из угла ее шепот.
— Внизу, прямо под ногами лунная дорожка уходила по глади залива, и берега Золотого Рога были в огнях, а там, еще дальше, истинная сказка Шахерезады — минареты, дворцы, ханаки, медресе, купола и полумесяцы над призрачною лунной дымкой…
И такая же ночь на вилле Ланте, на Яникуле, в Риме… Тоже огоньки, огоньки, и вдали видны были горы… О, в такую же ночь на леднике, возле Гох-Аоха — снега и горы, фантастически сверкающие при луне…
Сколько их, этих ночей, — в Неаполе, в Бриндизи, Генуе. И в Берлине, да, как ни странно, там — возле Шпрее; если идти по берегу к Шарлоттенбургу, там одно глухое место, разбойное место, густо заросшая дорожка спускается к берегу… Это за Тиргартеном…
Судьба дала мне в жизни слишком много, Я ж расточал, что было мне дано…Волошин прислушался. Сдавленный, прерывистый шепот доносился из угла.
— Есть чувства и слова, которые мне чужды и страшны. Я знаю только, что с вами мне было очень хорошо, без вас очень плохо… Но нет, я не хочу быть с вами и быть без вас…
— Я тоже чувствую это, Аморя. Романтическая нежность, которую я чувствовал раньше, и бесконечное грустное счастье прошлой весны сменились невыразимой душевной смутой… И все же. Я и теперь люблю вас, еще больше, острее… Хотите жить вместе: быть спутником на всю жизнь, быть одним духом, одной волей, одним телом?
— Мне кажется, что мы оба во власти какой-то большой силы, которая закружила нас в медленном водовороте и то сталкивает, то разделяет снова, — шептала Маргарита. — И я думаю, что сейчас это не конец, это только мгновенье… Нас снова будет сталкивать и уносить друг от друга… Мы как два зеркала, стоящие друг перед другом, отражаем друг друга и какие-то призраки, витающие между нами. И мы живем словом… Макс, милый Макс…
— Я так вам благодарен за ваши слова, — сказал Волошин растроганно. — Во мне сейчас такое спокойствие. И точно звезды подступают к глазам… Но как же… как Вячеслав?
— Он мой учитель. И он требует именем своей страсти. Я пойду за ним всюду, куда он прикажет. Сделаю все, что он скажет. Милый Макс! Неужели я теряю вас насовсем?
Волошин выбежал из мастерской, оставив дверь широко распахнутой. На деревянных ступеньках он остановился, тяжело переводя дух. Луна стала кроваво-красной, и лунная дорожка на море была, как запекшаяся кровь. А вечер казался так тих. Но свершилось заклание. Вечер был принесен в жертву, и жертвенная кровь залила дорожку. Вот он, миг трагедии. Однако страдание не может длиться бесконечно. Тогда оно становится просто неврастенией. Скорей бы утро….
* * *
Аркаша спал, картинно раскинув ручки. Он был очень хорош и очень ласков во сне. Холодков вышел на веранду, засветил лампу. Через заросли тамариска доносился стрекот чьей-то машинки. Холодкову захотелось вытащить свою машинку и написать что-то очень тихое и щемяще нежное, какие-нибудь слова, которые не столько в смысле своем, сколько в сочетании звуков выражали бы его разнеженную любовь к сыну, неровный стук его сердца, открытого навстречу ночным запахам, шелестам, вскрикам. Выражали его любовь к этому темному миру с инкрустацией звезд и моря. Его страх перед будущим… Но Холодков боялся стучать на машинке. Мог проснуться пожилой сосед на той стороне коттеджа — он предупредил Холодкова, что страдает бессонницей. Могли проснуться другие люди, и у Холодкова не было уверенности, что кто-либо должен страдать во имя творчества, во имя его творчества. «Может, поэтому я и не напишу никогда ничего стоящего, — подумал он. — Ну а так я написал бы что-либо стоящее? Что-либо, стоящее чужого сна?..»
Хрустнула ветка в зарослях роз у тропинки, послышались осторожные, неуверенные шаги. Кто там мог быть? Никто. И кто угодно. Холодков не ждал никого. И ничего не мог разглядеть со светлой террасы во мраке, за чертой света. Пришелец остановился. Холодков молча ждал. Ему пришло в голову, что так он ждал и будет ждать всю жизнь. Могут обругать. Могут выстрелить. Могут плюнуть. А могут… Может случиться что-нибудь очень хорошее. С каждым годом воображение будет подсказывать ему все меньше этих негаданных подношений судьбы.
Блондинка с книгой наступила на первую освещенную ступеньку его крыльца.
— Я пришла… Уже час ночи… — сказала она. Видя, что Холодков уже забыл свою дурацкую шутку, она добавила: — Можно больше не работать.
— Да, с часу до трех, — вспомнил Холодков. — Проходите. У меня есть вино и черешня.
— Я не за этим, — сказала она, входя на веранду и присаживаясь на край постели.
— Я понимаю, — сказал Холодков. — И все же… Есть обычай.
— Я хотела почитать стихи… — сказала она.
— Это будет кстати, — сказал Холодков. — А там еще заседают? И он все говорит?
— Да, он очень интересно рассказывает про Америку.
— Понятно, — сказал Холодков. — В Америке хиппи.
— Да. И там ширится протест молодежи. В университетах очень меняется настроение масс. Хиппи покупают специальные джинсы, очень дорогие…
— Понятно, — сказал Холодков. — Ешьте черешню.
— Это черешня вашего мальчика? — спросила она строго.
— Упаси Боже, это моя…
Она долго не соглашалась снять брюки, убеждая его, что она не затем пришла. В конце концов она попросила его отвернуться и торопливо разделась. Она была довольно крупная, и Холодков отметил, что она прекрасно сложена. Ему показалось также, что она думает не о том, о чем положено. Предчувствуя неудачу, он решил держаться до конца, но заранее извинил себя двухдневным воздержанием.
Он угадал ее рассеянность. Они вступили в наименее интересную для нее фазу отношений, и она, забыв на время о своем долге быть темпераментной, позволила себе просто полежать спокойно и помечтать. Она думала с том, что она еще совсем молода и когда-нибудь у нее будет вот такой муж. Они приедут сюда и займут четвертую часть коттеджа. Она будет надевать разные красивые тряпки, ходить в столовую и выдрючиваться. Стихи ее тем временем будут печататься помаленечку. Она будет выступать на вечерах и ездить на семинары. И всем будет видно, что она не только молода и хороша собой, но и талантлива. А в стихах ее будет появляться непонятный надрыв. Это будет болезнь роста. У нее начнется роковой роман с Евстафенкой. Тетя Зина говорит, что выйти замуж совсем нетрудно. Нужно только продержаться некоторое время, довести их до кондиции — это, кстати, вовсе не так просто, как тетя Зина говорит: сейчас не то время, она сама тоже не железная, никто не собирается ждать вечность, и не все же такие вахлаки, как ее дядя Вася… К тому же это приятно, право, очень приятно, а этот, он милый. Вон какая у него гладкая кожа на спине. А волосы мягкие, очень мягкие, значит, мягкий характер, и вообще, он милый, милый, милый, она будет любить его и так, без всякой надежды, приезжать к нему в Москву, он же одинокий, ох, необстиранный, необштопанный, неухоженный, бедный, отчего жена ушла от него, Боже, какой он сладкий, милый, вот так, еще, еще, еще, ох, я сошла с ума, тише, здесь же люди, сладкий, милый, ну, ну, не сходи с ума, будет тебе, там же люди, за стеной, противный старик в очках, днем так и сверкнул очками, когда я хотела зайти сорвать розу, ну, ну, успокойся, о Боже, и как ему не надоест, да нет, он просто сошел с ума, ну что это, нет, все они такие, им бы только дорваться до женщины, забывают, что она тоже человек, что у нее интересы, хотела почитать стихи, чего он так сопит, Боже, слышно небось на самой набережной, интересно, ребенок слышит, ну да, он закрыл дверь, а все равно, вдруг кто-нибудь пройдет по дорожке и захочет посмотреть, вон тетя Зина рассказывала, один раз, когда они с дядей Васей были в Сочах…
Он тяжело отвалился на спину и теперь гладил ее руку, не переставая.
— Ты милый, — сказала она. — Эта ночь прекрасна.
— Да, — сказал он. — Все хорошо. Да. Да.
Он проводил ее до дому, и она нежно поцеловала его на прощанье.
— Стихи мы так и не почитали, — вспомнила она грустно.
Холодков возвращался через парк. Луна стала красной. Поднимался ветер, и в шелесте листвы чудилось что-то тревожное. Из двухэтажного корпуса донеслось сопение спящих, чей-то легкий стон, чей-то храп. Холодков вдруг остановился, припоминая. Что-то он должен был вспомнить, что-то очень важное. Он вспомнил и усмехнулся: ничего особенно важного, третий балкон слева, первый этаж, вот и все. Не задумываясь, он перемахнул через балкон и остановился в дверях комнаты, прислушиваясь к дыханию спящих, привыкая к темноте. Его толкнули на это не страсть, не голод тела, не любопытство первооткрывателя, не расчет или интрига. Просто было в нем настроение охальной лихости, навеянное сегодняшним вечером. Ему вдруг почудилось, что вот он идет легкой походкой ушкуйника, посвистывая, помахивая кистенем, и ему сопутствует в дороге лихая удача. Он был не он, а другой человек, и человек этот шел по земле без сомнений, без мучительного самоедства: перемахнув через забор, спал под деревом; позавтракав его плодами, отправился дальше, и земля была ему домом. Он был бродяга-хиппи в поселении осторожных буржуев. Он не был вором-стяжателем, нисколько, но добыча-приключение сама шла в руки, и он с небрежностью набивал заплечную суму странника бесценными крупицам телесного и душевного опыта.
Когда глаза его привыкли к полумраку, он разглядел большую белую руку, выброшенную из-под простыни. Мальчик спал у противоположной стены, направо.
Холодков присел на корточки и стал осторожно поглаживать ее хорошо промытые, длинные волосы. Она рванулась в испуге, схватила его за руку и тут же успокоилась.
— А-а-а… — сказала она сонно. — Решился все-таки…
Рука Холодкова уже забралась под простыню и гладила теперь ее мягкое и сытое тело. В ней не было юной жесткости поэтессы-блондинки. В ней были зрелость и мягкость рожалой женщины, ранний жирок и шелковистая, неправдоподобная нежность кожи. Холодков вспомнил, как светилась, отливала розовым и золотым ее кожа там, на скамейке, в послеполуденном сиянии солнца, и это воспоминание было для него так же действенно и волнующе, как прикосновение этой самой кожи под простыней. Холодков почувствовал, что сила возвращается к нему, рука его стала грубее. Она задышала чаще и сказала прерывисто:
— Хорошо, что сегодня…
— Тс-с-с… — прошептал он, — разбудим Андрюшу.
— Он никогда не просыпается.
Она потянула его к себе, стала нетерпеливо сдирать с него рубашку, потом вдруг выскочила из-под простыни и встала молочно-белая в проеме балконной двери.
— Обожди, матрац на пол… Все на пол.
Она мгновенно вошла в игру, и Холодков, разогретый новизной ее близости, только спустя некоторое время заметил, что она вся сосредоточилась где-то в одной-единственной точке своего удовольствия и напряженно, нетерпеливо ждет разрешения от бремени желания, точно служит алчному, голодному идолу, принося на его алтарь и себя, и своего партнера. В этом нетерпении была такая холодная истеричная отчужденность, что Холодков тоже мгновенно почувствовал отчуждение; в движениях его появился автоматизм, однако она даже не заметила этого — она ждала с болезненным нетерпением, что вот-вот оно придет, свершится и голодное чудище будет наконец сыто. Только тогда она сможет отвлечься от своего служения, от одного-единственного центра удовольствия — только тогда она заметит, кто с ней, зачем, сможет удостоить его или себя вниманием… Холодков не счел ситуацию оскорбительной для себя, он только пожалел белотелую мамочку, пожалел себя, труженика, и, вздохнув, добросовестно продолжил свой труд, имитируя крайнюю степень одушевления. В какой-то момент ему показалось, что они производят слишком много шума. У него было впечатление, что они сотрясают не только тесную комнатку, но и весь двухэтажный корпус. Потом он услышал, как заскрипела почти над ним Андрюшина кровать, и замер.
— Что? Что? Что? — зашептала она умоляюще. — Все? Ты уже все?
— Андрюша, — шепнул он ей в пылающее ухо.
— Ничего… Он никогда… никогда не просыпается… Слышишь? Ты все испортил. Еще три секунды… Три секунды до счастья…
«Хорошее название для детектива», — подумал Холодков.
Он лежал неподвижно, натянув простыню на голову.
— Да перестань же… Он спит… — сказала она сердито и громко.
И тут Холодков услышал голос мальчика прямо над собой:
— Мам, кто там?
— Никого, моя рыбонька. — Она вскочила, шагнула через Холодкова, пребольно наступив ему на колено. — Я лягу с тобой, зайчик. Спи. Спи. Никого нет. Спи! Я тебе что сказала!
— Не ругай меня! Родила себе мальчика, чтобы ругать…
— Ладно, не буду. Спи.
— Если будешь ругаться, я превращусь в лягушку и как прыгну тебе в рот. А если не будешь ругаться, я превращусь в козлика. И буду рогами телефонную трубку снимать.
— Ну, спи. Мама тебя любит…
— Кто меня не любит, того я считаю омерзительным…
— Спи, мой хороший, повернись…
— Ой, смотри, какая у тебя пиписька на груди…
— Спи, мой маленький, баю-бай, баю-бай…
Холодков стыл под простыней в неподвижности стыда и страха. Он нестерпимо боялся, что ребенок увидит его, необъяснимо боялся этого. Он не должен был приходить — какая нужда гнала его сюда? Непристойность этого визита уязвляла сейчас его душу, доводя до отчаяния, усугубленного сознанием полной безнадежности: это повторится не раз, он придет еще и еще, и сюда, и на другой балкон, так же бессмысленно, так же нелепо и неприлично, так же недостойно джентльмена, взрослого человека, мыслящего существа, человека, считавшего себя в общем-то чистоплотным и порядочным, а временами и моралистом… Если бы он не боялся привлечь внимание мальчика, он уполз бы сейчас змеей, как есть, голый, по траве, среди кустов, до самого дома, где мирно спит его собственный мальчик — о Боже, да если б Аркаша видел сейчас отца, Боже, Боже…
— Ну, вот он и уснул… — Она нырнула к Холодкову под простыню, стала настойчиво гладить его ноги.
— Надо уходить, — повторял он уныло. — Надо уходить…
Произошло привычное для него раздвоение: он слушал, не шевелится ли над ним Андрюша, думал о том, какая он дрянь, какая он размазня; и он понуро выполнял свой джентльменский, свой позорный долг, плохо, но выполнял, выполнил…
— Да-а-а… — с сожалением протянула она. — Еще бы чуть-чуть…
Он пожал плечами, стал одеваться.
— Ну ничего, — сказала она. — Недолго терпеть. Завтра утром муж приезжает.
Ему снова захотелось превратиться в змею, уползти прочь — по траве, среди кустов — до самого дома…
* * *
Высокий голос Иванова далеко разносился по пляжу. Как ни странно, два украинских писателя, простертые на деревянных лежаках у воды, не слышали этого голоса. Его слышал только Волошин. Более того, гуляя по кромке плотно убитого песка, у самой воды, Иванов и Волошин беспрепятственно пересекали то место, где лежали письменники. Таким образом, эти две пары собеседующих литераторов совершенно не мешали друг другу, не перебивали друг друга и не стесняли друг друга, а потому украинские писатели позволили себе роскошь говорить по-русски: при посторонних они с неизменностью переходили на очень чистую и очень литературную украинскую мову.
— Да, я признаю обезьяну, — заявил Иванов. — Обезьяна сошла с ума и стала человеком — неожиданная заря, рай, божественность человека. Возникает высшее — трагедия. А впереди опять золотой век — заря вечерняя… Мы должны жить между зорями, иначе нельзя… Но человек тоже может сделать когда-нибудь скачок. Стать сверхчеловеком…
Волошин покачал огромной курчавой головой:
— А если это будет не человек? Если другое существо сойдет с ума и будет избрано владыкой? Ну, скажем, змея, паук, крокодил, одно из тех мистических животных, к которым человек всегда питал благоговейное почтение, смешанное с ужасом…
— О, тогда это будет дьявол! — возбужденно воскликнул Иванов. — Апостол Павел, если вы помните, и ангелов называл демонами. Да, да он говорил, что человек все-таки выше ангела… Необычайное прозрение! В христианстве, заметьте, есть и такие… Потому что христианство — это религия любви, а не жалости. Безжалостной любви, истребляющей, покоряющей…
— В истекшем году украинская лениниана пополнилась новыми произведениями, — сказал старший из украинских писателей. — Все-таки это тема, которую нельзя исчерпать.
— Так же как и тема партизанского движения, — подтвердил младший. — Отрадные новые черты в партизанской прозе. Человек занимает все большее место. Описание боевых операций становится все профессиональнее…
— Вы хотите воздействовать на природу, пересоздать ее? — требовательно спросил Иванов.
— Нет, — задумчиво отвечал Волошин. — Я впитываю ее в себя, спешу познать ее в той форме, в которой она существует, радуюсь всему, что она посылает мне, без различия, без исключения… Все сразу завладевает моим вниманием…
— Современная тематика должна занимать свое почетное место в планировании литературного процесса, — сказал старший из письменников. — Я так им и сказал на совещании, в открытую.
— То-то, — взъярился Вячеслав Иванов. — Мы не хотим пересоздать природу! Для меня перевоплощение — в дионисическом безумии…
Елена Оттобальдовна видела, как сын и «светлокудрый маг» Иванов, о котором она столько слышала, подходили к дому. Сердце ее томили смутные предчувствия беды. Она видела Маргариту утром, и поняла, что Макса ждали новые страдания. Если бы она могла смягчить их. Нет, она ничего не могла поделать. Но она могла стоять рядом с ним все время, подставить плечо, когда надо, удовлетворить его каприз, быть строгой для того, чтобы утешить в самый тяжкий момент, быть жестокой, чтобы подкрепить его колеблющегося, быть сдержанной, когда хочется закричать… Она была матерью, это она дала ему жизнь, выпустила в свет на бесконечную муку, которую он так часто называет радостью, и оттого, кроме бесконечной ее любви, была еще ее ответственность за все, что происходит с ним, а может, еще и вина…
Она услышала шаги где-то совсем рядом, на дороге, скрытой тамариском, напустила на себя гордый и неприступный вид, сделала затяжку, вынула трубку изо рта. Она была «праматерь», «пра», и, если она позволит себе расслабиться, все пойдет кувырком в этом нормальнейшем из сумасшедших домов. Она прислушалась к голосу сына. Он говорил с увлечением и, вероятно, был счастлив в этот миг:
— Вам наверняка известна статуя Аполлона работы Скопаса. Солнечный бог наступает ногой на мышь…
— Так, слежу за вами, — буркнул Иванов.
— В некоторых городах Триады жили под алтарем прирученные белые мыши. На Крите изображение мыши стояло рядом с жертвенником бога… Любопытно, что у Ницше, у Плиния, у Верлена, у Клоделя, наконец, у нашего Пушкина…
— Подумываю написать; большой роман о буднях продотряда, — сказал старший из письменников. — Все-таки мало отражают у нас героическое время коллективизации на Украине. Его суровые боевые будни…
— Работы непочатый край, — сказал младший.
— Итак, мышь — олицетворение убегающего времени, — сказал Иванов. — Любопытно. Не презренный зверек, которого бог попирает победительной пятой, а пьедестал, на который опирается бог.
— Вот именно. И Аполлон не только вождь Муз и Мойр, он вождь времени — Горомедон. В свете этого становится понятна эта легкая нота грусти, пронизывающая радостное, аполлиническое искусство. Она связана с сознанием преходящести, мгновенности этой радости… Аполлон связан с мышью вечным союзом борьбы, может быть, прочнейшим из союзов…
— Пора на ужин, — сказал старший из украинских писателей. — Помогите мне, братец, донести лежак…
* * *
Аркаша визжал на весь пляж, отчаянно цеплялся за Холодкова: он боялся плыть. Холодков сердился на него, уговаривал, грозился, а потом вдруг успокаивался. Тогда Аркаша, вцепившись в него, умолкал, и они стояли, обнявшись в воде, вдвоем, в теплом море, у синих гор — у Холодкова было в эти мгновения острое ощущение счастья, он знал, как оно выглядит, счастье, мог узнать его, безошибочно выделить в пестрой веренице бед. Холодков долго и любовно растирал полотенцем тощее загорелое тельце сына. Потом Аркаша побежал в павильончик занимать ему очередь к массажистке. В Коктебеле, где царили табель о рангах и неукоснительная, хотя и мягкая, коррупция, только у массажистки сохранялась еще архаическая «живая очередь».
Массажистка Ася Гавриловна массировала Евстафенке шею и спину. В головах у него преданно сидел маленький критик из Ленинграда. Когда Холодков подошел, чтобы сменить Евстафенку, они говорили о Марине.
— Когда я вижу ее, — сказал Евстафенко растроганно, — мне вспоминаются строчки Гумилева: «Ты ждешь любви, как влаги ждут поля. Ты ждешь любви, как воли кобылица…»
«Пожалуй, — подумал Холодков. — Больше всего она напоминает кобылу. Но именно поэтому ему и не следовало вспоминать эти строчки Гумилева. Там ведь шла речь о щупленькой Лиле Дмитриевой… Впрочем, он может и не знать этого. Или не понимать перебора».
Евстафенко встал, заправил австралийскую майку в американские шорты и решительно сказал маленькому критику:
— Народ ждет от нас острого ответа на вылазку мерзавцев. Я напишу стихи об интернациональной дружбе народов. И пусть попробуют придраться.
— Это будет как взрыв бомбы, — сказал маленький критик и зажмурился, не от страха, от предвкушения.
Холодков блаженно растянулся на топчане, спрятал записную книжку в карман джинсов.
— Вот у меня тоже один писатель массировался, — сказала Ася Гавриловна. — Может, знаете — Октябрев? Октябрев-Говорухо?
— Не знаю, — признался Холодков. — Так ведь и он меня не знает.
— Тоже с книжечкой был. Такой нервный. Только спину ему начнешь массировать, как вскочит. «Обождите, — говорит, — минуточку, Ася Гавриловна, надо записать мысль, очень важная мысль». Ляжет, только начнешь поясницу, опять вскочит, что-нибудь запишет… Он потом мне и произведение подарил. Хорошая книга — «Граница на замке». Очерки о службе пограничников. Очень правдивая, очень жизненная книжка.
— Как шпион к ногам копыта привязывал? — спросил Холодков.
— Да. Вот и вы читали.
— Нет, не читал, — угрюмо сказал Холодков.
— Так вы просто его, может, видели. Вы из Харькова?
— Нет, из Москвы…
— Я в Москву уже который год собираюсь. Дочку туда хочу повезти. Во втором классе дочка у меня и так, поверите, любит Ленина. Мама, говорит, хочу повидать его в гробике. А я так решила: зимой возьму отпуск и поеду, повезу дочку в Мавзолей…
В открытую дверь павильончика Холодков увидел, что Аркаша пошел к воде. Он поспешил расплатиться. Однако еще до его прихода Аркашу успела остановить томная молодая мамочка. Она была полненькая, большеглазая, со вздернутым носиком, и Холодков удивился, что он не видел ее раньше — это был его секс-тип; впрочем, Холодков успокоил себя тем, что она, судя по красным ожогам на плечах, всего второй или третий день на пляже, так что не все еще было потеряно.
До обеда оставалось полтора часа. За эти полтора часа разнеженной пляжной откровенности Холодков успел узнать о ней даже больше, чем хотел бы знать. Она не верила в любовь. Был у нее в прошлом году один из Москвы, после этого она окончательно разочаровалась. Мужа она вообще не любила. Нет, он, конечно, старался, все для нее делал, он неплохой муж, чего зря говорить. К тому же он молодой и очень высокий. А ему — что ему плохо? Она, кажется, не уродка, работает, сама зарабатывает, родила ему прекрасную дочку. Вот он и старается, создает ей какие-то удобства жизни. А любовь? Какая может быть любовь, когда даже тот, который у нее был в Москве в прошлом году, уж кажется, любовь-разлюбовь, даже название такое, хотя ей и не нравилось это название — любовник, а тоже оказалось — ничего надежного… Собираясь на обед, Холодков приглашал Тонечку заходить в гости. «Приду, конечно, если делать нечего, — сказала она. — А только я больше никому ничего не верю».
* * *
Сапожников уже начал жалеть, что не улетел раньше, что на пути в Петропавловск пожадничал, остановился на еще одном забытом Богом приюте, наконец, даже о том, что прилетел вообще. Он рвался назад и ставил под сомнение самый фокус с пространством и временем, который тешил его так долго, всю сознательную жизнь. Фокус заключался в том, что он переносил себя, того же самого себя, за сотни километров, из одного края земли в другой, из одной обстановки в другую, и на новом месте начинал впитывать эту новую обстановку, сам подвергаясь при этом заметной метаморфозе, играя в эту другую жизнь, которой он мысленно становился участником. Высшим наслаждением для него бывало сидеть где-нибудь на айване в горном кишлаке за одной скатертью с мужчинами, пить зеленый чай, замечать, что они забыли о его присутствии, так что он слился с окружением, стал почти одним из них. Он держал пиалу почти так же, как они, с такой же легкостью поджимая под себя ноги, или прижимал к сердцу руку, протягивая пустую пиалу. Они говорили о своем, не стесняясь его присутствия, — и время возвращалось вспять, туда, где оно застыло в неподвижности: он думал о том, что вот точно так же они сидели (и сидят) за скатертью-достарханом в Афганистане или в Индии, сейчас и в Средние века… Потом он выбирался на дорогу и швырял себя через тысячу верст в пустыню, в тайгу, шел, разбрызгивая сапогами лужи, вспугивая дикую птицу, — обросший, в тулупе или телогрейке, но тот же он, тот самый, который еще три дня тому назад так мило беседовал по-английски с утонченной канадкой в аэропорту… Эта игра в жизнь и была в последнее время его жизнью, она утешала его в домашних неудачах, возвращала попранное достоинство, как то самое путешествие пешком через остров Беринга. Однако приходила минута, когда и это не помогало, и тогда он, как сегодня, ставил под сомнение самый этот трюк с пространством и все свои путешествия заодно, пытался разоблачить, разъять магию этих превращений… Вот он, этот остров Беринга, где под проливным дождем живут в непрестанной тоске несколько сот надоевших друг другу людей. Чего он, человек из открытого, огромного мира, ждет от них, каких откровений, чего ищет? Он видит, как они в тоске по разнообразию, по новому лицу собираются на пристани, когда подходит его теплоход. И он сам жадно вглядывается с борта в их лица: вот они стоят — камчадалы, даже алеуты… Но ведь он взрослый человек, художник, он может наперед угадать их желания, описать их жесты, движения их души, их довольно убогий и скудный мир. Чего он ждет от женщины-алеутки, которой так редко приходится раздеваться и еще реже мыться?
Нет же, он с упорством идет и идет по дорогам, потом возвращается домой, покрытый пылью, отправляется в мастерскую к другу и видит, что здесь ничего не изменилось, все на месте; друг по-прежнему приходит поутру в тесную мастерскую, по-прежнему пишет полотна, складывает их в угол, на свои скудные средства делает репродукции с многочисленных еще не проданных работ. И может быть, нет никакой разницы в том, вбираешь ли ты в себя целый огромный мир или спокойно разглядываешь грязный угол мастерской, испытываешь душу в потрясениях любви и лицедейства или приучаешь ее к однообразной пище одних и тех же малых радостей и пристрастий… Зачем же тогда утруждать себя повторением этого испытанного фокуса — зачем бросать свое уже утомленное тело из одного конца континента в другой? Зачем придумывать все бесчисленные ухищрения, позволяющие наилучшим образом осуществлять этот фокус, — всякие там командировки от журналов, циклы лекций об искусстве, выступления, встречи…
Вечером он ужинал в компании местных геологов, вулканологов, туристов, альпинистов… Там была ленинградская девушка-геолог, лихо рассказывавшая о медведях, ночевках в тайге, об охоте, о браконьерстве, о лошадях. Она давно оставила суету Ленинграда и поселилась тут, на краю света. Она читала на память Киплинга и Гумилева, люто презирала мещан… Утром она стала делиться с Сапожниковым своими невзгодами, и перед ним предстала воистину величественная картина местных дрязг, возни, интриг, убогих достижений и нищеты. То, от чего она сбежала из Ленинграда, было предоставлено ей здесь в полной мере, но в измельченном, смехотворном масштабе, поглощало ее силы, оставляя лишь вот такие редкие вечера для утверждения своей правоты. Сапожников убеждался, что вольные сыны тайги и тундры не знали беспечности, жили склокой…
Разговор с девицей доконал Сапожникова, довел до крайней степени его раздражение, недовольство собой и нетерпение. Где-то в тайниках души он понимал, что все объясняется непринципиально и просто: он хочет на юг, туда, где Глебка и Марина, в первую очередь Марина. Он тоскует без Глебки, но главные его опасения — о ней, он должен прилететь, убедиться, что она ждет его, что она соскучилась, что «ничего не было»… Из-за этого он и штурмует кассы «Аэрофлота» по всей стране, из-за этого с яростным нетерпением ждет летной погоды, потом покрывает за день многие тысячи километров…
Он дождался вертолета. На петропавловском аэродроме его осенила счастливая мысль: он даже не будет залетать в Москву, что ему в Москве, сразу на юг. Настроение у него сразу поправилось. Какие-нибудь сутки — и он от берегов Тихого океана попадет на берег Черного моря, в теплый и благостный Коктебель. Доставая билеты, он проявил чудеса настойчивости, хватку путешественника, имеющего в кармане командировку и удостоверения. Он перевел дух и обернулся на трапе, в последний раз увидел пронзительно зеленую камчатскую траву в промозглой пелене бесконечного дождя. Он улетал на юг…
* * *
Психоневролога звали Владимир Лурье. Это был крохотный субтильный человечек с дьявольским носом и дьявольскими глазами. Недавно он отпустил еще мефистофельскую бородку, и теперь для довершения сходства ему не хватало только рогов, хвоста и копыт. Впрочем, нетрудно было понять, что они служили бы помехой на пляже, — и примириться с их отсутствием. Психиатрия и врачебная служба давно прискучили Владимиру Лурье. Его всегда привлекали полулитературные трюки и всяческая магия, так что в последние годы он по большей части писал научно-популярные книжки и гипнотизировал жаждущие массы. Он проводил множество экспериментов над самим собой и своими близкими, пробовал всякие восточные системы общения с потусторонним миром и находился в постоянном ожидании, что подастся наконец какая-нибудь дверь, ведущая в кладовки, в подземелья и сокрытые от нас пространства, заросшие чертополохом неведомого. Он не боялся, что оттуда пахнет могильным холодом: этого можно было и следовало ждать. Всю эту неделю, лежа на коктебельском пляже, он неотвязно думал о двухэтажном волошинском доме, населенном призраками и душами. Нет, он, конечно, имел в виду не эту изобильно-вещественную узбекскую критикессу и не двух миловидных мамочек, которые проживали в нем по литфондовской путевке. Он имел в виду тех, кто жили здесь в начале века и чей след так бережно и трогательно хранили в этом доме. Не могли же все эти загадочные предметы, разбросанные по дому, повидавшие так много на своем веку, оставаться бездушными и безгласными. К тому же в этом доме некогда жили не столько жизнью тела, сколько жизнью духа — так что эти люди, их поиски, их страдания, наконец, все эти магические фокусы, производимые здесь на протяжении целого тридцатилетия, — не могли же они не дать какого-либо свечения, эманации, не создать магнетического поля. Лурье был, впрочем, не столько теоретиком, сколько практиком всяческой телепатической магии и в постоянном размышлении о волошинском объекте (так он называл про себя этот дом и его ушедших обитателей) вовсе не стремился установить закономерности или найти уязвимое место в теоретическом барьере, отделявшем его от прошлого. Он просто старался перекинуть незримый мостик между собой и этими людьми. Иногда в жаркий полдень, в мареве, дрожащем над камнями, он ощущал вдруг плотную среду, которая не была связана с материальным миром и в то же время была достаточно плотной и осязаемой, чтобы в ней можно было разместить требуемый объект. И тогда, благоразумно отказываясь постичь природу происходящего или найти ему определение, Владимир Лурье напрягал силы для того, чтобы распространить эту среду в сфере своих интересов, населить ее своей волей. Раз или два ему почти удавалась его мучительная операция, он понял это каким-то ему самому неведомым образом, сумел понять, однако оба раза, как ему казалось, посторонние помехи разрушали его достижения. Он не мог бы сказать наверняка, что именно ему помешало. Может быть, ребенок, попавший мокрым мячом ему в спину. Может быть, его тонконогая, похожая на серну любовница, кликнувшая его на обед. Так или иначе, он списывал свою неудачу на счет этих помех и продолжал упорно и напряженно наводить переправы. Это эфемерное занятие требовало от него довольно значительного напряжения сил, и к исходу первой недели так называемого отдыха он заметил, что теряет в весе. Это было обидно, потому что он был один из немногих мужчин на пляже, которым вовсе не нужно было сгонять вес, скорее, напротив. Мирный и невкусный обед в писательской столовой призван был восстановить его силы, однако вместо этого приводил к легкому головокружению, похожему на алкогольное!
Именно в этом состоянии Лурье присел сейчас на скамейку столовой и привычно обратил взгляд к волошинскому дому. Почти тотчас же он услышал писательские голоса по соседству.
— Что в них отвратительно, — сказал немолодой голос, — это их реалистический практицизм. Ничто похожее на Соловьева им просто в голову не придет. Зато вот экономические выкладки на еврейский манер…
— Тише. Сидит вон.
— А мне черт с ним…
Лурье понял, что он был замечен, и резко повернулся к говорившим.
Та-ак… Кучерявый растерян, видимо, не совсем пропащий человек, даже любопытно такое смущение. А вон тот немолодой, сухощавый, подслеповатый, с гнилыми зубами, он, видимо, и выступал — это тяжелый случай, очень закомплексован, страшная переоценка своих возможностей при полном бездействии. Самый любопытный случай — вон тот, громила, просто невероятно, как он задавлен, это уже пациент. Тут начинать, вероятно, можно было бы с лечения импотенции…
Наблюдения эти не принесли сегодня Лурье утешения, он отвернулся — и с каким-то отчаянным призывом снова посмотрел на деревянную лестницу волошинского дома, сделал попытку сосредоточиться. Он услышал, как кто-то тяжело опустился на его скамью, но это, как ни странно, не отвлекло психоневролога от его занятий. Напротив, он почувствовал необычайное воодушевление. Что-то удавалось ему сегодня. Он не мог бы наверняка сказать что и как, он просто знал, что сдвинулось что-то, и ему захотелось даже поделиться своей радостью с тонконогой возлюбленной. Однако ее не было рядом. Она стояла в очереди за черешней в овощном магазине возле кафе «Ландыш». Лурье поерзал в нетерпении.
— Вы сейчас думаете о женщине, — сказал человек, присевший на его скамейку, и Лурье показалось, что он уже слышал где-то этот голос. Лурье недовольно обернулся и увидел благодушную физиономию в пенсне. Кудрявая темно-русая борода была выдвинута навстречу психоневрологу, кудрявая голова перевязана то ли веночком, то ли просто жгутом из полыни. Лицо соседа оказалось незнакомым, во всяком случае, в Коктебеле они не виделись. Очень здоровый человек, и в то же время не мешало бы ему… Ба, коротенькие ноги обуты в старомодные сандалии, но главное даже не это, главное — рубаха, длинная рубаха из домотканого холста, с таким же поясом.
Так здесь, пожалуй, никто не ходил. Красивые дамы появлялись по вечерам у столовой в очень экстравагантных платьях и брючных костюмах, однако, как правило, костюмы эти носили на себе несомненную печать богатства или заграницы, что, в сущности, было синонимично. Наряды эти возвещали сегодняшний, а иногда и завтрашний день моды. Здесь же было явное пренебрежение к моде, а для этого нужно или очень стремиться к ней, или просто иметь что-либо за душой.
— Да, я думал о женщине, — сказал Лурье. — О своей женщине — это вам нетрудно было угадать, потребовались только внимательность и чуть-чуть телепатического опыта. Может, опыта гипнотического…
— Это правда… — улыбнулся кудрявый незнакомец.
— Но я думал также о вашей женщине, — сказал Лурье. — О том, как она относится к вашей одежде. Если она любит…
— Даже если она любит! — с горячностью сказал собеседник. — Любовь всегда хочет воспитывать, осуществлять в человеке свой идеал. А влюбленному человеку хочется приспособиться под этот идеал. Однако ведь мужчине нельзя от себя отказаться…
— Нет, ни в коем случае, — сказал Лурье, внимательно глядя на собеседника. — Да почему вы должны так доверять ей?
— Она тонко чувствующий человек. Каждый раз, когда я прикасаюсь к ее духу, я чувствую в себе упругую крепость весенней завязи… И все-таки я не хочу трагедий. Никаких плясок между кинжалами…
— Вы совершенно правы.
— Да? Вы согласны? Она требует ото всех безусловности, определенной цели, считает, что можно любить в человеке только хорошее. Она не понимает, что такие требования можно ставить самому себе, но никак не другим, что понятия добра и зла глубоко различны в каждом…
— Знаете… — сказал Лурье тихо. — Вы уже не будете так страдать. Ваша любовь проходит. Или прошла.
— Почему вы так думаете?
— Вы подвергаете сомнению ее взгляды, ее прямые суждения о вас и людях. Мне ясно, что здесь имела место перверсия, переход за анатомические границы объекта… Вам известно, что оценка объекта влечения редко ограничивается его гениталиями, она переходит на весь объект, а в области психической проявляется как слабость суждения, переоценка душевных совершенств…
— Мне доводилось слышать такого рода рассуждения, в той же терминологии. Хотя я также считаю пол, секс основой жизни…
— Так вот, поскольку вы не проявляете более готовности поверить всем суждениям вашего сексуального объекта, я и делаю вывод о постепенном освобождении…
— Это должно меня радовать, неправда ли? Но может также и огорчать. Я долго ждал страданья, желал его всей душой. Но ведь и освобождения я давно жажду…
— Будут еще женщины. — Лурье заговорщицки улыбнулся, но его кудрявый собеседник с серьезностью покачал головой, уронив при этом пенсне:
— Всем известно, что хороших женщин не так много… Помните? Это Монтень. Вы читаете по-французски?
— Ни бум-бум, — сказал Лурье.
— Да, как там у него… не так много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить неизменной свою привязанность…
— Это очень верно. Как и все, что берет предмет очень общо, — усмехнулся Лурье. — Но вам это французское суждение очень… к лицу… Хотя… ведь и оно, и лицо ваше, тоже делалось к этому… к французскому? А одежда — к античному? Я неправ?
— И да и нет. И то и другое мне удобны. И то и другое наилучшим образом, с одной стороны, скрывают, а с другой — выражают мою сущность… Маска. Это французское изобретение, но без него нельзя в наш век, где тебя хотят вывернуть наизнанку в первые полчаса…
— Разве это так трудно сделать? И разве многие противятся этому выворачиванию?
— Видите ли, французы дико стыдливы во всем, что касается их переживаний. И вот они надевают маску: или это светская любезность, или насмешка, что нам, людям экспансивным, более по душе… Маска — это не только лицо. Это одежда, манера речи…
— Мы, русские, беззащитнее, — сказал Лурье.
— Однако и мы имеем право на это, ибо маска — священное завоевание индивидуального духа. Это наша «хабеас корпус», право неприкосновенности нашего интимного чувства, скрытого за общепринятой формулой…
— Да. Пожалуй. Систематизация масок только облегчила бы мою профессиональную деятельность.
— Вы романист?
— Я психиатр, психоневролог, гипнотизер и курсовочник.
— Последнее звучит всего загадочней. Скажите, а отчего вы никогда к нам не приходите? Нынче же вечером и приходите.
— Куда?
— Вот это наш дом. — Кудрявый собеседник указывал прямо на деревянную лестницу волошинского дома. — А матушкин там, в глубине парка…
Лурье долго молчал, прежде чем отважиться на вопрос:
— И как вас спросить?
— Максимилиана Александровича. Боже, какой я чурбан и какие церемонии. — Кудрявый человечек неожиданно протянул руку Лурье и сказал с подкупающим добродушием: — Макс…
— Я Владимир, — сказал Лурье, — Владимир Моисеевич.
Оставшись один, Лурье долго размышлял над пустячным вопросом — отчего он сразу не догадался, кто был его собеседник? Он подумал также, что его подруга, похожая на серну, будет рада приглашению в волошинский дом. Тут он вдруг вспомнил о своем обещании подойти к овощному магазину, где его тонконогая подруга стояла за черешней.
Он вздохнул и радостно поспешил к воротам.
* * *
Принимая широкие бедра Марины и ее развитую грудь за признаки сексуальности, Евстафенко впадал в весьма распространенную и оттого тем более простительную ошибку. Строго говоря, Марина была фригидной. Беда в том, что даже об этом нельзя говорить строго. Сегодня фригидна, завтра — не фригидна; фригидна с одним, вовсе не фригидна с другим. Вот этого-то другого она, как всякая фригидная (а по-русски простее было бы сказать — холодная) женщина, все еще надеялась встретить. И потому хотя принцип выбора партнера у нее был, как и у большинства фригидных женщин, — по степени полезности, по степени знаменитости, талантливости, развлекательности, она время от времени делала исключения из этих правил. В эти исключения и посчастливилось (а скорее, просто угораздило) попасть грязному художнику, творившему провинциальный авангард, сильно уступавший по степени профессионализма тому столичному авангарду, который творил Маринин муж Сапожников. У грязного художника был острый мужской взгляд и еще кое-какая хватка. Пользуясь этими преимуществами, он прихватил детскую поэтессу в ее коттедже в тот тихий благословенный час, когда ребенок сидел в кино. Однако, на ее беду, румынские кинематографисты, чьей продукцией развлекал в тот вечер коктебельскую публику местный киномеханик, на сей раз не выполнили свой долг перед народом целиком и полностью. Фильм содержал всего-навсего пять частей, и потому Глебка вернулся из кино задолго до того, как Марина успела разочароваться в очередной попытке стать сексуальной, а провинциальный художник — истощить свои силы. С другой стороны, Глебка вернулся домой слишком поздно для того, чтобы принять участие в дружеском чаепитии, при котором можно и даже полезно, с общеобразовательной точки зрения, присутствовать детям. Потому он оказался перед запертой дверью. Столкнувшись с этим, он не придумал ничего лучшего, как толкаться в закрытую дверь и голосом малолетнего скулить: «Мама открой». Что значит «открой»? У него даже не могло быть уверенности, что мама находится внутри. Нельзя не признать, что поведение это было с его стороны бестактным, нелояльным, а может, даже и непорядочным. И Марина вполголоса пожаловалась грязному художнику на ребенка: видит Бог, ей выпал очень неудачный ребенок. Художник тем временем молча одевался, думая о том, что кайф безнадежно испорчен.
А Глебка все стучал в запертую дверь, делая отступление невозможным, все скулил, и ныл, и звал маму, будто маленький. За этим занятием застали его проходившие мимо Холодков и Аркаша. У Марины в глазах потемнело, когда она услышала голос Холодкова:
— Ну что, помочь тебе дверь открыть?
— Мама заперлась и меня не пускает, — сказал Глебка.
— Идиот, — зашипела Марина. — Откуда же он может знать, что я внутри? Может, я просто ушла погулять…
— Значит, у нее есть на это свои уважительные взрослые причины, — сказал Холодков за дверью. — А ты можешь пойти с нами и поиграть с Аркашей в древнюю индийскую игру.
— Я хочу в индийскую игру, — сказал Глебка.
— Он просто не знает, что это такое, — надменно сказал Аркаша.
— Нахал, весь в отца, — сказала Марина.
— Я хочу в индийскую игру, — сказал Глебка.
— Ну, повтори еще раз, идиот, — прошипела Марина.
После этого за дверью стихло. Они ушли. Марина отважилась выглянуть, приоткрыв занавеску, и увидела, что Глебка и Аркаша идут обнявшись. Холодков вдруг обернулся неожиданно, и Марине показалось, что он подмигнул ее окну.
— Какой подлец, — сказала Марина. — Теперь выметаемся, живо.
Глебка был сильно разочарован. Вместо обещанной древней индийской игры этот воображала Аркаша предложил ему обыкновенные пластмассовые шахматы на картонной доске.
— А давай сами будем рисовать индийскую игру, — предложил Глебка. — Чтоб были слоны и тигры.
— Тигров рисовать очень трудно, — сказал Аркаша. — Я лучше нарисую их буквы…
— Ты что, знаешь их буквы? — спросил Глебка. — Хвастун ты и больше никто…
— Я один раз видел их буквы, — сказал Аркаша. — Так что все-таки нельзя сказать, что я не знаю их буквы.
Холодков грелся на солнышке и слушал их разговоры. Он мог слушать их разговоры до бесконечности. Он подумал, что у них не бывает скучных разговоров. В конце концов, даже вот эти сучьи разговоры про дядю Сеню, которые опять завел его Аркаша…
— Знаешь, была хохма в Мичуринске. Дядя Сеня говорит: «Товарищ, вы очень похожи на артиста Никулина». А тот гражданин, который был не слишком трезвой внешности, говорит: «Я и есть артист Никулин». — «Вас-то мне и надо», — сказал дядя Сеня.
— А мой папа делает настоящее искусство, — сказал Глебка. — Настоящее искусство будет жить тысячу лет.
— Так… — сказал Аркаша запинаясь. — Так. Что же, по-твоему, фильм «Верить нашему человеку» не настоящее искусство? Да будет тебе известно, милый Глебочка, что этот фильм посмотрело шестнадцать миллионов зрителей…
— Ну, Аркаша… — не выдержал Холодков и был тут же наказан.
— А ты… — сказал ему Аркаша в ярости. — А ты помолчи, пожалуйста. Ты не работаешь в кино и не знаешь…
Проглотив упрек, Холодков сразу поумнел.
— Зато я знаю, как одним камешком сбить бутылку от сока, стоящую на банке от сгущенки, — сказал он.
— Как? — в один голос спросили Аркаша и Глебка.
И хотя, честно говоря, Холодков не знал, как сбить бутылку, и хотя у него даже не было банки от сгущенки, про дядю Сеню и холодное оружие киноискусства было забыто до следующей склоки.
Они пошли на дорожку искать подходящий камень. Здесь им и встретился Субоцкий.
— Вы слышали? — спросил он у Холодкова. — Иртышев уехал.
— В Израиль?
— Ну, может, еще и не в Израиль, но, во всяком случае, в том направлении… Что вы об этом думаете?
— Еще не думал… — сказал Холодков.
— А я думаю, что мужчина не должен покидать родину, вместе с которой перенес столько испытаний, — солидно сказал Субоцкий.
— Может статься, вы окажетесь правы, — сказал Холодков.
— Во время войны мужчина должен был выполнять свой мужской долг. Он должен был воевать. И я не уважаю тех, кто уклонился от выполнения мужского долга. Сейчас мужчина и поэт должен разделять с народом все страдания и неудобства.
— Может, вы и здесь правы, — сказал Холодков, с тоской глядя на бутылку, уже установленную в кустах. — Только ведь народ больше не страдает. К тому же Иртышев и был народ. Он страдал. У него была язва. У него был геморрой. Он думал, что он трагический поэт, и не смог напечатать ни одной трагедии. Печатал веселые частушки…
— И все-таки он не должен был так поступать, — сказал Субоцкий.
— Может быть, он уже пожалел о том, что уехал, — сказал Холодков примирительно.
— Вероятно, — сказал Субоцкий, и в голосе его прозвучала печаль старого человека. — В наши годы надо думать уже не о том, где жить, а о том, где умирать и быть похороненным…
Созерцая благородную печаль Субоцкого, Холодков развеселился:
— Тут все будет зависеть от запросов. Где вы хотите — на Новодевичьем или на Востряковском, рядом с писателем Файвелем Сито?
Это был коварный вопрос. Однако Аркашин яростный крик вывел разговор из тупика.
— Ты идешь кидать камень или это опять обман? — кричал Аркаша Холодкову.
— Начальство зовет. — Холодков с лицемерным сожалением пожал плечами. — Надо идти.
— Да, да, идите, — сказал Субоцкий и понес дальше свою почтенную голову патриарха.
* * *
Во время ужина набережная перед писательской столовой бывала особенно живописной. Здесь прогуливалось все временное население Коктебеля. Шли с ужина и на ужин красивые нарядные писательские жены, мчались, шаркая по асфальту, еще более красивые и нарядные писательские дети. Порой замшевые пиджаки, пестрые рубахи и феерические кофты скрывали от поверхностного наблюдателя изъяны тела и душевные муки. И море в эти часы с особенным сознанием своего долга перед ценителями прекрасного демонстрировало поистине уникальные, фирменные коктебельские полутона и краски — от белесого до фиолетового, от ультрафиолетового до инфракрасного. В призрачных сиреневых сумерках никто не догадывался пожалеть еще об одном ушедшем дне, потому что все еще надеялись получить удовольствие от наступившего вечера. Это был час беспечной суеты и разнообразных, всяческих сует. В этот час можно было встретить у столовой всякого, кого ты хотел встретить. Труднее было избежать того, кого ты встречать не хотел.
Со своей привычной скамьи у парапета Холодков наблюдал, как встречались дружественные и враждебные пары, вполуха слушал восклицания удовольствия, восторга, искреннего счастья и заинтересованности, а более — смотрел на губы, на лица, на ужимки вежливости, сочувствия, симпатии, на весь светский ритуал мирного сосуществования, и не переставал удивляться, узнавая нечто до ужаса знакомое и привычное — светский арсенал своей «бывшей», то, что он всю свою холостую жизнь почитал нелепым комедиантством, потом вдруг стал извинять в одном-единственном человеке, считая невинным ребячеством, забавой, а потом перестал замечать вообще. Но вот сейчас он снова замечал все: знакомые интонации, ужимки, возгласы, приходя из памяти, накладывались на те, что он слышал и видел сейчас, полностью, один к одному — и его собственная, недавно пережитая драма выглядела на фоне этих воспоминаний ублюдочной и смехотворной.
Евстафенко специально сделал крюк по набережной, чтобы столкнуться нос к носу с Мариной. Он порадовался своей удаче, не подозревая, что она уже с полчаса его здесь караулила и с большим трудом придала сейчас своей походке нечто напоминающее небрежность.
— Прекрасные мамы ведут на ужин детей-ангелов, — сказал Евстафенко. — А что потом? А что потом?
— Суп с котом, — сказал Глебка.
— Недурная рифма, — сказал Евстафенко. — Совсем не худо.
— Потом? Читать стихи, — сказала Марина. — Считать грехи. Смотреть на море… — И, кивнув ему, удовлетворенная разговором пошла дальше.
А Евстафенко заметался по берегу. Он видел, что она обрадовалась, встретив его, так что, с одной стороны, это было вполне возможное, даже, можно сказать, надежное дело, верняк. С другой стороны… Каждый раз перед тем, как с ним в пятый, в пятидесятый, в сотый или даже в пятисотый раз должно было произойти все то же нехитрое событие, — он начинал волноваться, метаться в тоске, опасаясь, что на этот раз не получится, на этот раз не удастся. Начинало казаться, что именно в этот раз особенно хотелось бы, нет, не так, особенно важно было бы, жизненно важно и существенно для всего его творчества… Вот и сейчас… Ему пришла в голову отличная строчка про детей-ангелов и гордых, недоступных мам. Он решил, что обязательно придет вечером сюда, на пляж и набережную, — откуда же еще она может любоваться морем? И тогда он поговорит с ней всерьез: они будут говорить о поэзии, о ее делах, о творчестве, о будущем, о любви…
Холодков прервал свои мазохические наблюдения и посмотрел вдоль набережной. Он увидел нехитрые петли, которые описывал Евстафенко, а приглядевшись внимательнее, разглядел и Маринины маневры. «Всюду жизнь, — подумал он. — Всюду жизнь». И долго вспоминал, как звали художника, создавшего это пророческое произведение. Его невинные и даже благочестивые размышления были прерваны приветственным возгласом, и Холодков увидел ту самую мамочку, со вздернутым носиком и большими влажными глазками, свою мечту, свой секс-тип, и он не удержался от упрека. В тот вечер он как-то совершенно забыл, что она должна была прийти, но сегодня он вспомнил все и горько упрекнул ее в коварстве, а она сочла нужным оправдываться.
— Я была приглашена в ресторан, — сказала она. — Тоже один такой — писатель. Из Молдавии. Вежливый человек, не как вы — сразу домой… Только у нас ничего не может быть — старый…
— Семьдесят?
— Нет, сорок. Ну, подумайте, зачем это мне нужно? У меня муж старый. Ему уже тридцать два, а тут… Зато он внимательный, этот писатель. Вчера прибежал, пропуск принес на пляж, на рынок ходил, тоже вспомнил… Лежак мне с утра берет на писательском пляже.
— Удобно, — сказал Холодков.
— А что же. Конечно. Всякой хочется.
— Я приду ночью, — сказал Холодков.
— Только попробуйте…
— Да. Только попробовать… — вздохнул он.
Она ушла, гордо подняв вздернутый носик, а он думал о пучинах женской души: муж, по ее рассказам, существовал у нее для удобств. Здесь, отдыхая от мужа, она нашла человека, который был согласен создавать ей удобства. Он был так же малоинтересен, как муж, но все же…
Потом он вспомнил свое недавнее прошлое, длинную вереницу услуг, подарков, мелких удобств, создаваемых им для жены. Его тоже любили за удобства. Или терпели за удобства. Теперь его иногда любили просто так, а то и не любили вовсе. Так лучше. Неужели он еще станет для кого-то удобным? Зачем?
— Съел всю тефтелину, четыре пятых гарнира, один сырник… — сказал Аркаша, выбегая из столовой и вытирая руки об шорты. — Сколько я заработал?
— Да, сколько ты заработал? — спросил Холодков покорно.
— Две партии в древнюю индийскую игру перед сном. Одну блатную колыбельную. Одну карамель «Счастье». И — чур, засыпать при свете.
— Ладно уж. Две карамели… — сказал Холодков. — Две песни…
Так приятно было чувствовать себя богом, рассыпать благодеяния, сыпать пригоршнями неразумное, невечное, даже, может быть, и недоброе, но зато приятное кому-то и оттого бесконечно приятное для тебя. А что он, собственно, имеет против удобств? Это так приятно — создавать кому-то удобства.
* * *
Лурье сидел в тихом уголке литфондовского парка, позади старинного двухэтажного дома. Вчерашние послеобеденные встречи прогнали его сюда с набережной. Эти вчерашние лейб-гусары, которых он не хотел бы встречать еще раз, во-первых. И человек в длинной рубахе, во-вторых: его Лурье хотел бы встретить хоть раз, а он ведь прямо указал на этот дом… Дом моей матушки, так, кажется. Лурье вспоминал их странный вчерашний разговор, он был недоволен собой. Он оказался не на высоте. В то же время у него было смутное ощущение, что разговора этого как будто бы не было. Он жалел, что не попросил чего-нибудь на память, хоть автографа. Во всех сказках герой при подобной встрече пытается оторвать хоть клочок от платья призрачной принцессы, стибрить платок или подобрать туфельку — закрепить свой мимолетный сон в реальном мире каким-нибудь вещественным подтверждением. Ибо упрямый скептицизм, а скорее даже, бессилие человеческого мышления, скудость воображения и узость горизонтов человека упрямо переводят даже собственный его необычный, не повседневный опыт в сферу вымысла. Во все времена это недоверие находило убогую, но столь желанную поддержку в существовании мошенников и болтунов, которым ничего не стоит (как вот здешнему грязному художнику, например) рассказать о послеобеденном общении с призраком какой-либо дамы, подсказавшим ему пути сближения. И все-таки… Что же было вчера и чего не было? Отчего он, Владимир Лурье, человек с незаурядно устойчивой психикой, не верит сегодня собственным вчерашним ощущениям? Отчего он, человек, так упрямо зовущий пришельца из прошлого, человек, не доверяющий ничтожной хронологии, становится вдруг таким маловером и придает столь удручающее значение смехотворной информационной справке, прибитой к стене первого корпуса и говорящей о том, что Максимилиан Волошин-Кириенко умер в 1932 году (кстати, надо спросить, отчего он умер так рано в условиях столь благоприятствовавшего ему микроклимата)?
Шаги на дорожке привлекли внимание Лурье: кто-то шел от дома. Лурье отметил стройность и военную выправку незнакомца и ощутил неприятный укол. Он почти машинально исследовал причины ощущения и точно связал его со вчерашними лейб-гусарами, этими полуобразованными интеллектуал-юдофобами, галдящими в компании огромного человека, прикованного к детской коляске и нещадно попираемого женой… «Этот, должно быть, тоже из лейб-гусаров», — подумал Лурье и ощутил облегченье, найдя корни неприятного ощущения. Однако незнакомый лейб-гусар очень приветливо поклонился Лурье, пожалуй, даже с некоторой аффектацией. «Странно, — подумал Лурье. — Он смущается. Сейчас, вероятно, последует напускная развязность. Ну, давай, давай…»
— Они здесь не проходили? — спросил незнакомец. — Господин в длинной рубахе, кудрявый, круторогий… Менелай… Минос… («Макс», — подумал Лурье.) И дама… Серенькая такая… Невидная… Хроменькая…
— И все же в ней что-то есть, — возразил Лурье, внимательно глядя на незнакомца.
— Да, пожалуй… Затаенное что-то… Даже слышен шум. Знаете, когда стоишь возле топки… Значит, они прошли…
— Нет, не проходили.
Незнакомец тоскливо и пристально посмотрел на зеленый склон Карадага.
— Они ходят в горы? — спросил Лурье.
— Да, — кивнул незнакомец. — Во всяком случае, вчера… Он оказался ходок…
— И что было? — с любопытством спросил Лурье.
Незнакомец взглянул на него свысока, с легкой надменностью:
— У нас с ней? В Париже?
— Нет, нет, — поспешно сказал Лурье. — Вчера. У вас одного.
— А-а-а… — Незнакомец махнул рукой на дом, укрытый в зелени. — Пошел к себе в мансарду. Смотрел на море.
— Что-нибудь видели?
Незнакомец усмехнулся:
— Конечно… Опять то же… Пятипалубный пароход… Услышал, как тяжелая цепь ползет по клюзу… Написал кое-что. Кое-что даже получилось.
И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминают оставленный порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорт…— Неплохо, — сказал Лурье.
— Неплохо? — Незнакомец надменно скривился. — Да это блестяще, мой друг:
Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвут пистолет, Так что сыпется золото с кружев Розоватых брабантских манжет…— Я, кажется, это уже слышал, — сказал Владимир Лурье.
— Вы этого нигде не могли слышать, — сказал незнакомец. — И такого не могли слышать.
— Так это очень хорошо, — сказал Лурье.
— Что хорошо?
— То, что они ушли. Вы пошли домой. И вот написали. Чистейший случай сублимации. Шопеновские две мазурки, помните? Это прекрасно.
— Вы полагаете?
— Уверен. Ну подумайте, что такое женщина. Даже самая лучшая. Она смертна…
— Я тоже.
— Но стихи. Но бессмертная душа. Бессмертные стихи. Они нас переживут.
— Это меня и беспокоит. Мое бренное тело. Оно уйдет. Мы не змеи. Мы меняем души, не тела… И если бы от меня зависело, неужели я стал бы получать взамен любви какую-то там убогую су-бли-ма-ци-ю.
— Но это от вас не зависит. И потому, пожалуйста… Идите в мансарду. Смотрите в море. Я хочу еще. Я хочу про Африку, про жирафа, про волшебное озеро Чад… Чад… Чад… Ну подумайте о других. О грядущих поколениях, которым это достанется. О вечном. О тех, кто придет…
— А почему эти грядущие поколения должны обладать для меня большей весомостью, чем мы с вами… Чем те, кто ушел… Нас больше. Разве вы не ощущаете, что есть нечто безобразное в этом торжестве временного над вечным… Оно не приведет вас к добру. — Незнакомец вдруг сник и добавил тихо: — Надо идти.
— Тише! Что это? — сказал Лурье. — Что-то скребется…
Незнакомец прислушался.
— А-а-а… — Он извлек из кармана спичечный коробок, за ним другой. — Тарантулы. Я их выпускаю, и они дерутся. Хотите посмотреть? Великолепное зрелище, когда они сходятся. Один на один. И бьются, как подобает мужчинам. Насмерть. В тот момент, как один из них вонзает другому в затылок…
— Выход агрессивным эмоциям… Вам это нужно… — сказал Лурье и с тревогой подумал о добродушном человеке в длинной рубахе.
— Слушайте, — гневно сказал незнакомец. — Вы что, в сумасшедшем доме?
— Вы считаете себя вполне нормальным? — полюбопытствовал Лурье.
— А вы не считаете? — спросил незнакомец с опасением.
— Как вам сказать… У вас притуплен инстинкт самосохранения… Это не приведет вас к добру…
Лурье прислушивался к удаляющейся походке. Как он мог так ошибиться? Этот был из других гусаров, и он плохо кончит. Впрочем, кончить — разве можно кончить хорошо? Ох, как это страшно — когда все кончится. Неужели и он, современный человек Владимир Лурье, преодолевающий преграду времени, все же боится его неумолимого хода?
* * *
Марина была одна на пляже. Она знала, что Евстафенко может прийти. Она сказала ему достаточно ясно. А что, если он не понял? Или не захочет прийти? Или кто-нибудь отвлечет его? Может, она была слишком тонкой?
Поверху прошел пограничный патруль. Один из солдат рассказывал другому с ностальгической тоской:
— Каждый раз она мне пол-литра. Или вина хорошего, не то что здешняя кислятина. А закусить у них свое. Я сперва поем как следует, выпью…
Море вдруг зашевелилось, залепетало, всплеснуло. Само по себе — без ветра, без катеров…
* * *
Волошин остановился, отступил на шаг. Лиля сказала:
— Если уйдете или пройдете — будет горько. Только все же проходите или уходите, если это нужно… В вас для меня скрыты многие слова. Не знаю, что в вас такое, во что я верую, чего жду от вас… Но мне тихо и радостно, когда думаю о вас…
— Лиля…
— Да, да. Я все время прислушиваюсь к голосам внутри меня: точно огонь. Происходит какая-то великая тайна, но я не знаю что. Иногда хочется думать, что я прекрасна, и плакать…
— Вы прекрасны. — Он с трудом обрел дыхание, сказал: — Хотите идти одной дорогой?.. Мы пойдем вместе сквозь боль, сквозь страдание, сквозь искусство, сквозь жизнь — к вечному познанию, к вечной силе…
Марина увидела, что Евстафенко спускается к пляжу, и вышла из-под навеса боком, словно бы не замечая его, а глядя на море, за темный горизонт. Он подошел, тронул ее за плечо.
— Это я, — сказал он.
Марина понимала взрывную силу этой фразы. Но сумела не обернуться, сказала:
— В детстве я думала, что небо это и есть море. И я сказала папе: «Посмотри, какое высокое море!»
«Как она поэтична», — подумал Евстафенко и спросил нежно:
— Как звали вашего папу?
— Аркадий, в семье его звали Хосе-Аркади, — сказала она и подумала: «Неужели он узнал, что папу звали Арон? Какая мерзость, уже сказали. И неужели это не безразлично ему?»
— Мне это безразлично, — сказал он.
— Что-то есть хочется, — сказала она, и он подумал, что она мило ребячлива. — Мне все время есть хочется, — сказала она, и он подумал, что в ней много прекрасной откровенности.
Она стала рассказывать о голодном послевоенном детстве, после которого ей все время хочется есть. «Только истинно одаренные натуры, — подумал он, — могут так хорошо помнить свое детство».
— О, в мире еще столько голодных! — сказала она и поняла вдруг, что ей удалось произвести впечатление. На сегодня достаточно. Она вдруг повернулась и побежала к лестнице. — До свиданья! — крикнула она. — Так хорошо…
Евстафенко был раздосадован, взволнован, он понял, что не сможет сейчас уснуть. От четвертого корпуса донесся до него стук пишущей машинки. Евстафенко прислушался: звук этот не мог его не волновать, кто-то работал сейчас, в эту разнеженную южную ночь. Евстафенко присел на скамейку и стал слушать стремительный перестук. Степенно подошел Субоцкий с Холодковым, поздоровался, присел рядом. Субоцкий не мог не знать, кто это стучит. Он не выжил бы и недели, если бы не узнал этого.
— Это печатает женщина, — сказал Субоцкий. — Она перепечатывает произведения своего мужа. Он харьковчанин. Только на четвертый день мне удалось с ней разговориться.
— Мне на третий, — сказал Холодков.
— Это удивительная любовь к мужу, вера в его талант, — сказал Субоцкий.
— Исчезающие ценности… — сказал Холодков.
— Это прекрасно, — сказал Евстафенко. — Это дает веру. Помогает жить.
— И напрасно, — сказал Холодков. — Муж ее пишет муровые очерки о пограничниках. «Граница на замке». А она с таким упорством цепляется здесь за свою исключительность, что приходит на ум…
— Вы хотели сказать пошлость, остановитесь! — угрожающе предупредил Евстафенко.
— Да, вы правы. Это ни к чему, — сказал Холодков. — Однако не мешало бы проверить цену стойкости. Это не было бы уж так неприятно, она мила…
— Она очаровательна, — сказал Субоцкий.
— И кто будет проверять? — напряженно спросил Евстафенко.
— Могли бы вы, — сказал Холодков. — Запомните: ее зовут Валентина… А мог бы и я…
— Я знал, что вы не удержитесь от пошлости, — сказал Евстафенко.
— В наше время мужчины и женщины были немножко иными, — сказал Субоцкий. — Мне вспоминается ИФЛИ.
— ИФЛИ, ИМЛИ, ИМЭЛ, — сказал Холодков, вставая. — ВХУТЕМАС, ВИНИТИ, ВУОАП…
— Он все-таки нахал, — сказал Субоцкий, глядя вслед Холодкову. — Его тетка была из ИМЛИ.
— Не люблю таких, — сказал Евстафенко. — Долг поэта перед народом сейчас слишком велик, чтобы мы могли позволить себе…
* * *
Евстафенко и Холодков сидели на скамеечке у столовой. Марина вышла, сжимая в руках телеграмму, зажмурилась от яркого солнца, растерянно развела руками.
— Он приезжает, — сказала она и попыталась улыбнуться.
— Кто он? — спросил Евстафенко галантно.
— Ясно кто, — сказал Холодков. — Муж.
— А вас не спрашивают, — сказал Евстафенко и подумал: «Бедная девочка, как она взволнована. Она любит мужа. И она любит меня. Нет, нет, я же знал, что у меня ничего не выйдет, ни за что, никогда ничего с ней не получится, а я так хотел, так хотел, это, наконец, так важно, для нее, для меня, для моей работы, для качества русской поэзии вообще…»
«Ну и сука, — подумал Холодков. — В прошлую пятницу она до самого обеда скулила о том, как она любит мужа. Люби мужа или не люби мужа, но зачем же морочить голову отдыхающему населению этими рассказами. И при этом еще бить ребенка… Тьфу!»
— Наверное, надо его встретить, — сказал Евстафенко, вставая. — Я вам помогу.
Они пошли прочь, а Холодков перегнулся через перила и увидел своего Аркашу. Аркаша и Глебка строили песчаный замок, а маленький Максим рассказывал им с огромной убежденностью:
— Но там же не бывает взрослых. Там не бывает проклятых взрослых законов. Дети там самые главные. И еще там есть магазин, в котором продаются разные руки, ноги…
— И головы, — сказал Аркаша.
— Да, и головы тоже… И каждый может купить себе, если он потеряет…
«Еще одна утопия, — подумал Холодков. — Наверное, видел когда-нибудь безногого и здорово испугался. И правда, какой страшный мир — мир, в котором можно потерять руку, ногу, голову… Насовсем. Безвозвратно…»
— Тебя еще тогда не было, когда мы с Аркашей жили в Москве, — сказал Глебка.
— Был.
— Как же ты был, любезный Максимочка, если тебе только четыре года, — сказал Аркаша, — а нам уже восемь?
— Был, был… — со слезами в голосе повторял Максимка. — Я всегда был. Я был всегда, только… Только вы меня не видели. Потому что я был маленькая собачка, а не мальчик.
«Ого. Вот вам и теория реинкарнации. Позже с этим можно будет попасть на учет в психдиспансер…»
— Это он нам знаешь что? Он нам натирает очки, — сказал Глебка.
— Не натирает, а втирает… Дядя Сеня говорит, что у нас есть очень много втирателей очков. А в Америке очень мало втирателей очков. — Аркаша задумался вдруг, стал серьезным. — Ничего особенного… Он не втирает. Я тоже когда-нибудь был маленькая собачка.
«Ты и сейчас песик, — подумал Холодков. — Маленький, бедный щеночек. Такой милый щеночек от такой суки…»
Блондинка с книгой улыбалась ему победной улыбкой. Солнце золотило ее волосы. Солнце ей было нипочем. Оно ей было к лицу.
— Завтра у нас будет спиритический сеанс, — сказала она Холодкову. — У ребят в мастерской. Вы тоже приглашены.
— Я там, наверно, никого не знаю.
— Вот и хорошо. Там никто никого не знает, — сказала она. — Я просила, чтоб я пришла с вами… Знаменитый психиатр Владимир Лурье…
— Спасибо, — сказал Холодков. — Я постараюсь прийти. Это с вашей стороны очень мило — заботиться о моем веселье…
«Это и правда мило с ее стороны, — подумал Холодков. — Она делает все, что может, дает все, что имеет. Почти бескорыстна. А насколько я сам могу предвидеть, вовсе бескорыстна. И находятся же негодяи, которые хулят женщин».
Холодков перегнулся через барьер и стал звать Аркашу домой.
* * *
После омерзительной камчатской измороси и холодов, после сумасшедшей смены ночи, утра, после самолетных салонов, пахнущих пластиком и качкой, Сапожников очутился вдруг на сухой и устойчиво южной земле, на берегу теплого моря. Был вечер, жара уже спала, но по временам ее теплые волны вдруг поднимались из зарослей белой акации, тамариска и дрока, смешанные с цветочным ароматом и сухой пылью, за которые Сапожников так нежно любил юг.
Он без труда разыскал Маринин коттедж, с волнением увидел через окно Глебкину рубашечку на стуле, Маринин халат на полу. Их не было дома, соседка посоветовала искать их у художников или в секретарском корпусе.
— Мальчика она обычно отдает, — сказала соседка и с демонстративной нежностью отвернулась к своему ребенку.
У Сапожникова сжалось сердце — до того это все было знакомо, и тягостно, и мило: и вечное ее стремление сбыть Глебку (ну что с ней поделаешь, сколько у них уже было скандалов на этой почве), и нелюбовь к ней женщин (это понятно, Марина ведь красива и талантлива, как же эта грымза может ей не завидовать?).
Сапожников вышел на набережную. Легкая досада, вызванная тем, что он не застал Марину и Глебку, сменилась блаженной усталостью и радостью предвкушения, ощущением молодого тревожного счастья. К тому же он снова был на юге. (Боже, сколько еще раз это повторится в моей жизни? Продли дни наши, пусть будет еще, и еще, и еще, «дай мне напиться воды ключевой», пусть я живу, пока не переполнилась чаша терпения Твоего, я ведь никогда не был неблагодарным, Мой Боже, каждый Твой дар принимаю как великую милость…)
Набережная цвела женскими нарядами (с какой непринужденностью они несут на себе эти яркие одеяния, так, словно купили их без трудов, где-то здесь за углом, в сельмаге), красивыми женскими и детскими лицами. Мужчин было совсем немного, некоторые из них здоровались с ним, вероятно, знакомые (у Сапожникова была память на лица, но он все-таки никогда не мог припомнить, где и когда видел этого человека, просто помнил лицо и выражение этого лица в последний раз, когда он видел его, и еще иногда — эмоции, которые вызвало у него в прошлый раз это лицо). Ему удалось вспомнить фамилию одного из литераторов — Холодков (где они берут эти красивые фамилии, в валютном, что ли?), ну да, с ним был тогда тот же нервный прелестный мальчик, как же его зовут — Илюша? Абраша? — был тот же самый взгляд затаенной нежности у этого долговязого смуглого мужчины. Сапожников вспомнил, что однажды он видел Холодкова без мальчика и тогда он был совсем другой — раскованный, веселый и даже охальный. Это было свойство, которому Сапожников в душе завидовал и потому всегда отмечал его в людях. Сапожников вспомнил, что он видел где-то раньше и грязного красивого человека с бородой, — вероятно, это был художник, может, даже он когда-нибудь учился чему-нибудь у Сапожникова, сколько их уже было. Сапожников прошелся по набережной, поглядел на море: оно прекрасно, таким он и помнил его, только, пожалуй, он вообще не нуждался в длительном созерцании моря, ему важнее было ощущение, которое море, а еще больше горы давали ему, тот настрой, который вызывал этот контакт, ощущение нового себя, того же самого и все же другого… От ресторана «Эллада» тянуло шашлыком. Шашлычник орудовал тут же, на набережной, возле него не было никакой очереди, и Сапожников подумал о жителях Камчатки: отчего люди должны жить там, где так сумрачно, неуютно, скудно, — разве не хватает места всем на благодатном юге, в обжитых долинах Днепра, Волги, Дуная, Дона? Разве не пустуют там пахотные земли, «заросшие» камнем, древние террасы виноградников? Впрочем, это была не его забота. Пусть этими проблемами занимаются хозяйственники, социологи, наконец, «социальные» поэты, вроде Евстафенки или Субоцкого с их рифмованной публицистикой, у него и своих забот немало… Сапожников постоял перед рестораном, за стеклянными, завуаленными окнами которого шел наивный южный разгул, мелькали танцующие пары, надрывался оркестрик и певец лихо выкрикивал в микрофон:
Эх, Одесса, ты город мой у моря! Эх, Одесса, ты знала много горя!Если бы Сапожников зашел сегодня в ресторан, даже если бы он вгляделся попристальнее в полупрозрачные окна, он увидел бы за столиком Марину и Евстафенко. Они сидели опьяневшие, нежно взявшись за руки, и он говорил ей о трепетной и горькой судьбе поэта, о своих скитаниях по материкам и странам, о тяжелой ответственности за судьбу народа и свободу поэтического слова. Однако судьба хранила Марину и Сапожникова от всего горького и безобразного, оставляя ему сладкую истому предвкушения и беспочвенные опасения, ей — запретные радости и чувство исключительности своей судьбы. Храня их обоих, судьба подсунула Сапожникову еще одного полузнакомого — из тех, кто почти никому и не знаком как следует, но кого всегда можно увидеть на вернисажах в Доме художника, на субботах в Доме литераторов или на просмотрах в Доме кино. Вряд ли кто-нибудь толком знал, чем занимается этот человек — то ли он был физик, то ли знаменитый доктор, то ли сын кого-то знаменитого, — но зато очень многим было известно, что зовут его Роберт, что он всегда при деньгах, что в Москве у него холостяцкая квартира, а в Коктебеле дача, свободная от постоя. Ко всем упомянутым выше достоинствам Роберт обладал доброжелательностью, общительностью и тем поверхностным обаянием, которое некрасивым мужчинам с лихвой возмещает сомнительные достоинства мужской красоты. Роберт окликнул Сапожникова, который в этот момент, начиная уже тяготиться одиночеством, стал вдруг мучительно размышлять, отчего так странно посмотрел на него сегодня грязный художник.
— Привет, старик, — сказал Роберт с несколько большей развязностью, чем позволяла степень их знакомства, однако с теплотой и серьезностью, которые искупали эту развязность. — Давно? Вижу по бледноликости, что недавно. Где бродил? О, Камчатка! Понравилось? Заветная мечта. Беринг-шмеринг, алеуты, вулканы, котики, рукой подать до Америки, впрочем, в ваше время ближе не оттуда, откуда ближе… А приятно, старик, оказаться после дальних странствий в нашем старом добром Коктебеле, где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят пиво и так далее… О, привет, Марь Пална!
Разговаривая с Сапожниковым таким образом, задавая ему вопросы и тут же отвечая на них, рассылая попутно приветствия, поздравления и приглашения, Роберт проводил Сапожникова до самой писательской столовки и здесь сердечно с ним простился, настоятельно повторяя приглашение заходить в гости, запросто, когда вздумается, потому что у него бывают поэты, художники, дамы в соболях, лакеи носят вина и так далее, все по-простецки, по-дачному, без церемоний, все свои, Марсель Марсо и Николь Курсель…
И здесь Сапожников вдруг увидел Глебку. Он был не один: с маленьким синеглазым мальчиком и чужой мамой — знакомая ситуация — и одет, как всегда, с ужасающей бедностью, неряшливостью… Однако он был загорелый, трогательно экспансивный и задумчиво-рассудительный, его мальчик, его и больше ничей, его жизнь. И Сапожников поспешил, почти побежал к нему, ругая себя ругательски на ходу за то, что так давно не видел ребенка, что он уезжает черт-те куда и черт-те на сколько, когда вот оно, рядом, главное впечатление его жизни.
И Глебка увидел его тоже, яростно дернул за рукав чужую тетю, чтобы сказать только:
— Мой папа! Я же говорил!
Потом он бросился навстречу Сапожникову, визжа по-поросячьи:
— Па-а-па! Па-а…
— Да, тут хорошо, — сказала толстая женщина своему мужу, с завистью взглянув на могилу.
Муж снял соломенную шляпу и отер платком лоб. Потом стал пристраиваться для фотографирования.
— А камешков-то сколько! — сказала толстая женщина. — Вот эти два я возьму.
— Это ему приносят, — сказал муж.
— У него тут вон сколько, — сказала женщина. — Хватит с него.
Муж пожал плечами.
«Решил не связываться, — подумал Холодков. — Им не приходит в голову, что ему это может быть уже безразличным — камешки, удобное место захоронения, пейзаж, Коктебель… А может, и впрямь небезразлично…»
Холодков выждал, пока толстая женщина и ее муж отснимутся и начнут спуск. Потом он подозвал Аркашу, и они подошли к могиле.
— А-а-а… Максимилиан Александрович, — сказал Аркаша. — Тот самый, из первого корпуса… Знаю. Я видел его жену. И его профиль видел на горе. А вон, — сказал Аркаша, — гляди, наша столовая…
Холодков посмотрел вниз и увидел набережную у писательской столовой. Он мог разглядеть даже крошечные фигурки людей. Вероятно, люди эти разговаривали, здоровались, передавали друг другу последние новости из жизни таких же, как они сами, крошечных пигмеев, не помнящих вчерашнего дня, не ведающих, что с ними будет завтра, — куча мошкары над теплым морем. Сейчас пробьет неслышный колокол, и они потянутся в столовую насыщаться, не переставая при этом что-то говорить, перемигиваться, интриговать, переживать свои мошкариные драмы. Все это близ огромного, еще не до конца изгаженного ими моря, близ не разобранных еще на хозяйственные нужды тысячелетних гор. Боже, какая ничтожность! Какое ничтожество! Холодков вспомнил, что кто-то из мыслителей это вот самое сознание ничтожности также приписывал величию человека, силе его нетленного разума. Философам было недостаточно горьких откровений Экклезиаста, они множили ламентации, ища лазейки для испорченной обезьяны, для хрупкого (но зато мыслящего) тростника.
На обратном пути Холодков и Аркаша увидели поблекшие фанерные стены испанского монастыря, оставленного в Коктебеле очередной съемочной группой, обживавшей крымский берег. В зрелище этом было что-то тошнотворное и оскорбительное: фальшивые страсти разыгрывались в соответствии с заданиями пропагандистской дидактики в стенах фальшивого монастыря, наспех размалеванного киношными малярами.
— Это строили для кино, — сказал Аркаша. — Наверно, это построено без единого гвоздя… Дядя Сеня однажды строил замок…
— Без гвоздей?
— Во всяком случае, без единого гвоздя, — решительно сказал Аркаша.
* * *
Спиритический сеанс проходил в огромном гараже-сарае, где размещалась мастерская местного художника. Холодков с удивлением обнаружил, что здесь собралось много самого разного народу. Здесь были Марина с мужем-художником, которого Холодков знал еще по Москве, два или три славянофила, Субоцкий, худенький туркменский поэт, малорослый левый критик из Ленинграда, сам Евстафенко и даже многоуважаемый шкаф товарищ Денисов, главный редактор журнала из Москвы. Все уселись полукругом, на чем придется, а крошечный носатый человечек, тот самый психоневролог, о котором говорила блондинка, стал посредине и, сбиваясь от смущения в присутствии столь знатной публики, объяснил, что он хотел бы вызвать духи кое-кого из умерших лиц, обитавших здесь раньше. Потом он стал уговаривать присутствующих, что они засыпают. Как ни странно, Холодков и впрямь почувствовал, что он как будто засыпает. Он уже много лет, как начал тяготиться таким вот сидячим сном, который иногда настигал его в самолете или дальнорейсовом автобусе: у него при этом сводило левую руку, ломило ноги. То же самое произошло с ним и сейчас. Он пытался избавиться от неприятного ощущения, дергался, как лягушка, через которую в высоких научных целях пропускают электрический ток, однако не мог сбросить с себя сонливость и проснуться окончательно. «Неужели я действительно сплю? — думал он. — Нет, тогда бы я не думал о том, сплю я или нет…»
— Вы засыпаете… — повторил носатый психоневролог настойчиво. — Вы чувствуете, как к вам подходит человек. Вот он коснулся вашего плеча… Вы засыпаете… Вы уже уснули. Он вошел. Подошел к вам…
А Евстафенко, засыпая, видел нежную, уже увядающую, мягкую шею Марины, ее дряблую ногу, складочки кожи, пятна… Его трогали женщины, которых коснулось мягкое увядание, они волновали его намеком на пережитые страсти, обещанием особой нежности. Потом он увидел мужа Марины, оглядел его с ленивым удивлением — за что его любить? Впрочем, он не испытал к нему вражды, он просто понял, что Марине нужен не такой мужчина. Потом Евстафенко увидел, как рядом с Марининым мужем и молоденькой блондинкой корчится Холодков. «Вот еще мерзкий тип, — подумал Евстафенко. — Циник. Бездарь. Просто сука по части порядочности… Беспринципный слизняк. Откуда в нашем обществе эти иудушки? Эти гробы повапленные? Люди, которые не могут и не хотят бороться… бороться… Бараться… Откуда взялось это слово? Наверно, тоже древнерусское слово. Были же Боратынский, Барятинский… Тогда тоже умели бороться… бараться…»
Маленький носатый психоневролог вдруг захлопал в ладоши:
— Конец! Конец! Ничего не вышло.
— Но я уже почти ощутила… — сказала юная блондинка. — Он был здесь.
— Кто?
— Не знаю. Но это был он. Кудрявый такой. Толстенький.
Владимир Лурье просиял:
— Да. Правильно… Я знаю — это должно произойти. Здесь очень благоприятная обстановка. Здесь как раз подходящее место: все полно воспоминанием об этих людях. Сама атмосфера наэлектризована медиумизмом, спиритическими сеансами, их поисками в области магии, теософскими рассуждениями… Они вызывали нас, они желали нас видеть. И вот мы зовем их, свое недавнее прошлое…
— Ну а с какой, так сказать, целью? — спросил Денисов.
— Чтобы лучше понять будущее, — быстро ответил Евстафенко. — И постигнуть прошлое.
— Это понятно, — сказал Денисов. — Это правильно. Однако для изучения прошлого у нас в руках есть другой метод. Могучий рычаг познания…
Хрулев хмыкнул презрительно.
— Что вы? — быстро обернулся к нему Денисов.
— Я ничего, — потупился Хрулев. — Я хотел сказать, что не только познать будущее, но и настоящее…
— Ну что мы все о познании! — воскликнула Марина детским голоском, который, по мнению мужа, ей очень шел. — Давайте поговорим о чувствах…
Все засмеялись, инцидент был исчерпан.
«Ей нельзя отказать в ловкости, — подумал Холодков и поглядел с сожалением на непечатавшуюся блондинку, которая упустила столько шансов за сегодняшний вечер. — Конечно, писк, исходящий от кобылы… Впрочем, это, может быть, один из тех голубиных стонов, которые для сексуального возбуждения рекомендует испускать „Камасутра“… Любопытно, что по наблюдениям этнологов брачащиеся самочки животных начинают попискивать как детеныши и всей повадкой подражать сосункам. Так что это древняя, исконная хитрость…»
Холодков с любопытством взглянул на Евстафенко и заметил, что Маринин писк и пришепетывание не показались великому поэту излишними или безвкусными.
— Можете быть уверены, что я не прекращу своих попыток, — сказал психоневролог, и Холодков, стоявший рядом с ним, заметил, что он очень утомлен сеансом.
Они вышли на улицу. Тополя шелестели едва слышно за оградой старого волошинского парка. Кто-то всхлипнул на балконе четвертого корпуса, и Холодкову показалось, что это был мужской плач.
— Неужели мужчина? — Блондинка прислушалась.
— Мужчинам, вероятно, тоже хочется иногда… — сказал Холодков.
— Нет, нет, — сказала блондинка. — Мужчина должен по-мужски переносить горе. — Она вдруг размякла у него под рукой, шепнула: — Можно мы пойдем к тебе?
Холодков крепче сжал ее плечи, подумал: «Можно. Нужно. Куда же еще? И что мы умеем, кроме этого?»
* * *
После ужина Сапожников с семейством собирался поехать на теплоходе. Съев один голубец, он встал из-за стола.
— Доешь за меня, — сказал он Марине. Ему надо было худеть. Кроме того, он знал, что ей всегда не хватает порции, она ведь рослая, большая. Может, даже она растет еще. Он думал о ней с нежностью, сидя на скамеечке у столовой. Вот она вышла, поморщилась. Потерла лоб. Что с ней?
— Так болит голова, — сказала она. — Пойду лягу… Езжайте без меня…
«Бедная девочка, — думал Сапожников. — Она так устала тут с Глебкой. Это недосыпание, эти вечные ее головные боли…»
Он поехал на прогулку вдвоем с сыном. Они сидели, обнявшись, на корме теплоходика, слушая нудный голос, рекламировавший красоты застывшего вулкана.
— Жалко, что он застыл, — сказал Глебка.
— Да, жалко, — согласился Сапожников и вдруг представил себе, как огненная лава стекает по склону Карадага, льется по узкой полосе пляжа, по обнаженным телам, вдоль столовой… — Ну его… — сказал Сапожников. — Что бы там ни было — ну его…
* * *
Марина вышла из парка и увидела, как терпеливо и послушно Евстафенко ждет ее на скамеечке, у самого парапета.
«Понимают ли они тут все, что он ждет меня, только меня? — думала она, озираясь по сторонам. — Человек, свидания с которым ждали министры, киноактрисы, редакторши самых больших издательств мира, не то что какого-нибудь „Детгиза“. Посмотрели бы они сейчас. Они, которые помыкали мною, выкидывали строчки из самых любимых моих стихов, даже из „Собаки-абаки“, которую хвалил сам Либергалов. А вот он здесь, сидит и ждет меня, большой и неуклюжий, смешной мальчик. У нас все так хорошо, так красиво, так нежно…» Она подумала, не сказать ли ей обо всем Сапожникову — уж он бы смог оценить красоту их отношений, этот напряженный умственный, психический и творческий контакт… Нет, он мог бы не понять — мужья о таких вещах не могут судить объективно. Сапожников вряд ли понял бы, что они ничего не отнимают у него… Конечно, если бы Евстафенко решился… О, тогда она бросилась бы, как в омут, как в семнадцать, нет, рано, как в восемнадцать лет — бросилась в эту значительную, содержательную жизнь, где переплетутся любовь и труд… Это было бы хорошо и для Глебки — разве мало дал бы мальчику контакт с таким человеком, с человеком, который видел свет и которого знает свет…
— Ты пришла, — сказал Евстафенко. — Наконец-то… Душа моя была расколота надвое. Теперь половинки ее слились воедино. Я хочу тебя всей силой своего гения.
— Теплоход уже возвращается… — сказала Марина. — Хорошо. Я подумаю, как нам быть… Попробую отправить его в Москву.
— Я больше не могу ждать, — сказал Евстафенко, и Марина улыбнулась в темноте: какой напор желания, он, право, еще мальчик, смешной, взрослый мальчик. — Завтра, — прошептал Евстафенко. — Только завтра…
С моря долетела надрывная жалоба Сальваторе Адамо.
— Падает снег… — перевел Евстафенко. — Ты не придешь ко мне сегодня. Се суар. Отсюда русское суаре.
— Так вы и французский знаете… — прошептала Марина.
— Не в совершенстве, — скромно сказал Евстафенко.
— Нет, Сапожников должен все понять, — шептала она. — Мы будем дружить… Это так прекрасно — дружить всем. Ты тоже полюбишь его. Он очень добр. И очень талантлив…
— Я умею ценить талант художника, — сказал Евстафенко великодушно. — Тот, кто сам талантлив, тот не завистлив.
Теплоход подходил к пирсу. Адамо пел, что она не придет сегодня вечером, пел с таким надрывом, как будто завтра уже будет поздно. И Евстафенко вдруг со страхом подумал, что она может не прийти завтра. Что ему не удастся это — то, что уже почти удалось… Каждый раз, даже в самых верных случаях, его вдруг охватывал этот страх перед неудачей. «Раз есть этот страх, значит, еще живы чувства, — успокоил он себя. — Вот когда не будет и страха — это апатия, смерть. Я стану как этот слизняк, этот холодный циник Холодков». Строка ложилась сама, старомодная, крепкая, почти пушкинская строка: «Холодный циник Холодков… Холодный циник Холодков…»
* * *
Проходя мимо группы своих вчерашних пациентов, Владимир Лурье раскланялся с подчеркнутой церемонностью. Это были те самые лейб-гусары, что смеялись над ним у столовой. Они и сейчас хохотали над чем-то — он готов был об заклад биться, что это был юмор не самого высокого пошиба, отнюдь не добрая насмешка — слишком уж они все закомплексованы, ущербны, озлобленны. Вчера он аж задохнулся, увидев их вдруг у себя на сеансе. Может, именно поэтому его постигла вчера неудача. Впрочем, не полная неудача, это было ясно всем, а эти, антисемиты, они, вопреки ожиданиям, были послушны как дети, очень, очень внушаемы. Вероятно, они не такие уж реалисты и души их пребывают в смятении. «Это, впрочем, не извиняет их гнусных средневековых предрассудков…» — подумал Лурье и в эту минуту снова услышал взрыв смеха за спиной. Он не сомневался, что они опять смеялись по его поводу — над его гордой и ничтожной фигуркой, над его широкими, потертыми болгарскими джинсами, над его обнаженной волосатой спиной. «Нет, ни в коем случае не извиняет», — подумал он и в это мгновение увидел того самого круторогого, кудрявого незнакомца в странной рубахе до пят. Макс вежливо поклонился ему, а потом, доверительно склонившись к самому его уху, прошептал:
— Извиняет, почему же не извиняет… Ну, скажите, у вас у самого нет никаких предубеждений? А если честно? Скажем, по отношению к неграм? К грузинам? К наркоманам или абстракционистам? К профсоюзным функционерам? К гомосексуалистам, к милиционерам или кинорежиссерам? Ах, все-таки есть… Ну, так простите и этим, хотя бы отчасти, хотя бы немногое… Насколько позволит вам инстинкт самосохранения. Просто объективности ради. И человечности ради. Они всего-навсего люди, у которых вот такой предрассудок. Может, этот род ненависти помогает им оправдаться в собственных глазах, вводит их беды в какую-то удобоваримую систему, в общем, помогает вырваться из хаоса и отчаянья…
— Национальной ненависти извинить не могу, — гордо сказал Владимир Лурье.
— Да. Это мерзко, — сказал Макс соболезнующе. — Но это ведь нынче главное блюдо идеализма. Не только здесь и не только по отношению к евреям. О Боже, французы в этом замешаны, кто б мог ожидать! Национальное, национализм, нация… Только и слышно!
— Вот! Слышно! — сказал Лурье и поднял палец.
Они прислушались. От парапета донесся голос Хрулева:
— Нация не имеет ничего общего с классами! Нация — это мистический организм, и его таинственную жизнь может постигнуть только тот, кто проникает в самую глубину…
— Вот! — сказал Лурье, оборачиваясь к Максу, но Макса уже не было рядом. Он мог ускользнуть в калитку, пока Лурье смотрел на Хрулева. Мог также… Впрочем… Тут только Лурье понял, какая это нелепость — то, что он ищет более или менее реального, правдоподобного объяснения тому, куда исчез Макс; как будто явление такого рода нуждалось в его плоских пространственно-временных обоснованиях. Как будто все остальное, то, что он говорил… То, что он появлялся… Лурье с облегчением рассмеялся, презрительно взглянул через плечо на спорящих лейб-гусаров и углубился в аллею волошинского парка.
— Вот именно что нация… — горячо сказал Валерка. — А тогда как же они могут русскую литературу делать, если они не русской нации. Если для них нация вообще — тьфу…
— Более того, — продолжал Хрулев. — Не всякий писатель русской национальности мог быть истинным выразителем национального духа. Важно, насколько он понимал национальные задачи. Тот же Толстой…
— Какая за ним вина? — невинно спросил Митя Двоеруков. Митя знал, как благоволит к нему Хрулев, как пресмыкаются перед ним Валерка и остальные — он мог задать любой самый нелепый или бестактный вопрос. Этот вопрос, пожалуй, относился именно к таким нелепым и бестактным вопросам, ибо вина Толстого была несомненной и непростительной, что Мите тотчас объяснили хором: Толстой не уважал правительство, империю, подрывал мировой авторитет России и ее могущество (в этом смысле даже Сталин был лучше Толстого, да что там лучше, Сталин вообще немало потрудился для империи). Толстой нападал на церковь, а на что и опереться великой стране, как не на великую, сильную, единую церковь — ох и много понавредил граф Левушка Толстой, великий путаник.
— Фигура, конечно, противоречивая… — неуверенно начал Митя, и тут неизвестно откуда взявшийся незнакомый бородатый человек в пенсне поддержал его мягко и решительно:
— Несомненно. И в чем главная трагедия? В противоречии его неукротимой жажды жертвы и его житейского благополучия.
Хрулев поморщился, разговор уходил в сторону, да и сам человек в длинной до пят рубахе не внушал ему почтения. Впрочем, незнакомец не обратил внимания на оказанный ему прием. Он продолжал учтиво, однако напористо:
— И главный просчет его в одностороннем понимании слов: «Не противься злому». Конечно, если я перестаю противиться злому вне себя, то я создаю только для себя безопасность от внешнего зла. Вместе с тем я как бы замыкаюсь в эгоистическом самосовершенствовании, лишаю себя опыта земной жизни, возможности необходимых слабостей и падений, которые только одни и учат нас прощению, пониманию и принятию мира. Вы ведь помните: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради Меня, сбережет ее…»
— Простите, — сказал Валерка. — Меня жена зовет.
— Так вот, — продолжал незнакомец, — не противясь злу, я как бы хирургически отделяю зло от себя и этим нарушаю глубочайшую истину, разоблаченную Христом: что мы здесь на земле вовсе не для того, чтобы отвергнуть, а для того, чтобы преобразить, просветить, спасти зло.
— Спасти зло? — спросил Митя, мучительно наморщившись.
— Да. А спасти зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив…
— Это уже, простите, что-то от Достоевского, — сказал неуверенно переводчик.
— Достоевский нам нужен, — сказал Хрулев. — Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Лесков. А всех этих Толстых, этих доморощенных реформаторов и всех этих гениев начала века — за борт, за борт!
Странный человек в пенсне внимательно посмотрел на Хрулева и сказал:
— При такой узкой убежденности много крови может пролиться.
— Ну что же, — сказал Хрулев возбужденно. — Если для строительства нации это нужно, то может и пролиться — для торжества великой идеи.
— Да, да… — пробормотал бородатый человек в пенсне. — У Достоевского это тоже есть. В одном совершенно вещем сне.
— Где же это? — с вызовом спросил Хрулев.
— Сон Раскольникова в Сибири. Не помните? Снится ему, что какие-то микроскопические трихины вселяются в людей… И эти люди, ставшие бесноватыми, больше, чем когда-либо, считают себя умными и непоколебимыми в своих решениях. Не знают, кого как судить, не знают, кого обвинять и кого оправдывать, что считать добром, а что злом… Убивают друг друга в какой-то бессмысленной злобе. В городах целый день бьют в набат… Оставляют самые обыкновенные ремесла…
— Любопытно. Что-то я этого не припомню, — задумчиво проговорил Хрулев.
— Это апокалиптическое видение, — проговорил незнакомец в пенсне. — Предвестие безумия и крови. Ангела мщенья… Мы всегда предчувствовали неизбежность этого…
— И накаркали, черт бы вас драл… — сказал Хрулев сердито. — Ладно, я пошел… Общий поклон…
Хрулев еще раз смерил взглядом незнакомца и повернул прочь. «Нынче с этими русскими бородами и еврея не сразу отличишь, — подумал он с раздражением на этого ферта, да и на себя тоже. — Русые пошли, новая порода. Скоро еще пойдут православные…»
Митя виновато взглянул на добродушного незнакомца, потом посмотрел вслед Хрулеву и сказал:
— Вы на него не сердитесь. Он мужик острый. Злой только очень. Это оттого, что они писать хорошо не могут. А про Толстого вы интересно сказали. Претензии у наших к нему очень политические. И претензий этих так много, так много ненависти… Мне иногда кажется, что великая национальная идея за этими претензиями…
— Идея? — воскликнул бородатый незнакомец. — Да ведь вы, насколько я понял, представляете здесь целую группу, настоящую партию…
— Можно сказать и так, — согласился Митя.
— Но, друг вы мой, идея только до тех пор велика и сильна, пока она не сделалась достоянием партии, это ведь так понятно, голубчик. Политическое развитие каждой партии — это история постепенного дискредитирования идеи, низведение ее с ледяных вершин абсолютного познания в помойную яму… да, да, до тех пор, пока она не станет пригодной для домашнего употребления толпы, мещанина, вечного, всечеловеческого мещанства…
— Но ведь наша-то идея была не всеобщая, — сказал Митя. — Она тоже родилась из протеста. Однако эта нынешняя нетерпимость… И я предвижу…
— Верно предвидите… — кивнул человек в пенсне. — Нетерпимость так же характерна для любого протестантизма, как и для защитников порядка…
— А тогда как быть человеку честному? — в отчаянии спросил Митя. — Если каждый раз попадаешь в чью-то упряжку, в чуждые рамки?
— Человек честный и мыслящий держится за свой умственный анархизм! — воскликнул бородатый. — Как, скажем, Толстой держался. Как любой интеллигент держится. Ведь в каждой групповой упряжке тебе тотчас навяжут и чуждые мысли, и линию поведения, твоему характеру несвойственную. И заметьте, что и левые и правые все понятия о свободе так или иначе сводят к свободе собственной. Так было, так будет.
Митя поежился. Незнакомец протянул руку.
— Да. Да… — сказал он растроганно. — Очень зябко стоять одному. Стоять на ветру. В толпе или на голой вершине. И в болоте тоже…
Митя внимательно посмотрел на бородатого симпатягу в пенсне и подумал, что у них, наверно, разные ассоциации, потому что ему, Мите, сразу вспомнилась картина приятеля-эстонца. В годы юности Мите очень нравился этот неунывающий эстонец, отбывавший немалый срок в лагерях, но по виду все еще крепкий, как дубок, с хитрыми щелочками глаз за очками, очень похожий в своей кожаной куртке на рыбацкого капитана с Балтики. Из всех картин друга-эстонца Мите больше всего нравилась одна: унылый, долговязый человек одиноко стоит на ветру и сушит носовой платок. Эстонец рассказывал, что это было традиционное воскресное занятие у них в лагере, где было до черта его земляков-эстонцев. Вот еще эстонцы, пожалуйста… Трагическая судьба маленького народа. Странное раздражение против Валеркиной злобы ко всем нерусским, против хрулевской ненависти, против хождения кодлой и энтузиазма единомыслия поднималось в Митиной душе… «Стоять одному… Стоять на ветру…» — сказал этот чудак. Кстати, когда он исчез? И куда?
* * *
— Процесс творчества мучителен, — сказала Валентина. — Прежде чем начать очерк Октябрев-Говорухо мучит меня и всю нашу семью по крайней мере неделю…
— Я это знаю. Муки начала ужасны, — сказал Евстафенко. — Ведь ты должен написать первую строку, которая потянет за собой остальное, создаст настрой и может погубить все творение.
— Вам-то что, — сказал Холодков. — Ваше дело нетрудное — сто — двести строк. А в очерке небось две тыщи.
— Да, да, — сказала Валентина с благодарностью, а Евстафенко подозрительно скосил глаза на Холодкова. — Да, да… От волнения он очень много ест, ходит по дому и ест…
— А я начинаю курить. Курю без конца, — сказал Евстафенко.
— Вам то что, — уныло повторил Холодков. — У вас тематика легкая. Два мира — две идеологии. Адмасс, хиппи, чейндж, стриптиз, поп-арт, психоделическое искусство. Кеннеди, Киссинджер, Братск, Камаз, Вьетнам, БАМ, трам-тарарам… А у товарища Говорухо трудная, исчезающая тематика: шпионы, ползущие через границу на коровьих копытах, пограничник Карацупа и его верная собака Индус. Это все было описано сто раз, и теперь это все надо переплюнуть. Или хотя бы доплюнуть. А шпионы больше не хотят ползать на пузе, они в самолетах прилетают, сидят в казенных учреждениях, создают видимость работы, обманывают каждый свою разведку, значит, все из пальчика надо, из пальчика. Пальчик обсосешь…
Холодков вдруг вскочил и побежал за своим Аркашей, который ушел в сторону моря, Валентина растерянно посмотрела ему вслед. Слезы стояли у нее в глазах.
— Не обращайте на него внимания, — сказал Евстафенко. — Он холодный циничный человек. Такие люди нам не нужны. Все, что он говорил…
— Нет, это, наверное, даже правда, то, что он говорил, — прошептала Валентина. — Я сама часто думала…
— Вы удивительная, — сказал Евстафенко. — Вы единственная… Не терзайте себя…
«Какой он добрый, — подумала Валентина. — Он великий и добрый. И еще ему, наверно, трудно живется. Он все курит, курит… Весь мир знает о его славе. Но я одна знаю о его страданиях».
Она взглянула на Евстафенко, смешалась, встала.
— Вы добрый, — сказала она. — Вы не такой, как все…
Она убежала, а Евстафенко, вскочив со скамейки, стал мерить дорожку огромными шагами.
«Нет, это невозможно, — думал он, — невозможно, чтобы такая женщина, такая чистая, верная женщина… Это было бы удивительное, невозможное счастье. И это было бы чудесно для моей работы, для творчества — какой прилив сил, какой чистый родник, какое счастье…»
* * *
С утра Сапожников поехал с Глебкой на экскурсию в Старый Крым. Марина осталась дома. У нее опять болела голова, она так устала с Глебкой за этот месяц.
В автобусе было много прелестных юных мам и еще больше очаровательных детей. Здесь был кругломордый, глазастый Максимка, рыженькая веснушчатая Анька, большеголовый Костик с огромными, просящими глазами и еще какие-то совсем незнакомые, очень разные, но все уже загорелые, по большей части ухоженные и крупные дети-акселераты семидесятых годов нашего столетия, первыми в этой части света достигшие рубежа изобилия. Был здесь еще нервный, худенький холодковский Аркаша, конечно, в сопровождении отца. Если не считать самого Сапожникова, Холодков был здесь единственный папа, причем холостой папа, долговязый папа, романтически одинокий папа. Сапожников с досадой отметил, что каждая из мамочек, к которой обращался Холодков, казалось, была польщена его вниманием, и только спасительная мысль о том, что на Марину Холодков не произвел бы впечатления, позволила Сапожникову избавиться от враждебного чувства по отношению к нему. Что касается детей, то они были совершенно счастливы, возбуждены компанией сверстников и предстоящей экскурсией. Они заключали и расторгали союзы, они враждовали, интриговали, ссорились, мирились, визжали, смеялись, иногда даже дрались. Взрослые не были допущены в эту жизнь, и взрослые легко примирились с этим, найдя себе в автобусе союзников по надзору за правящим детским классом.
Автобус высадил всех на опушке прекрасного леса за Старым Крымом, и группа растянулась вдоль лесной дорожки. Холодков с Сапожниковым шли сзади, и Сапожников вдруг заметил, что он, почти против своей воли, говорит с этим человеком о Марине: она ведет трудную жизнь, у нее такое слабое здоровье, у нее мигрени, а тут еще ребенок, который непосильным грузом лег ей на плечи, вот и сейчас — целый месяц ни сна ни отдыха, ни днем ни ночью, и надо отдать ей должное, Глебка выглядит совсем неплохо, конечно, он у них Гаврош, оборванец, но что тут поделаешь, если у них такая хиппесная, хипповая семья, наши русские хиппи.
Сапожников отчего-то говорил об этом с вызовом, но, однако, взглянув на Холодкова, он успокоился: Холодков слушал заинтересованно и внимательно. Лицо его выражало сострадание, даже страдание, и Сапожников подумал, что он, возможно, не такой уж плохой человек… Конечно, если бы мужья всех этих мамочек сидели сегодня в автобусе…
А Холодков думал о том, что реальность для человека влюбленного не имеет никакого значения. Он смотрел на Сапожникова и вспоминал свои десять лет брака, свое собственное ослепление любви, злосчастное ослепление, благословенное любовное ослепление — если ты еще можешь после этого благословлять любовь. Он слушал Сапожникова и вспоминал Марину, грязного художника, ее карьерно-сексуальные поиски, ее блуждания по набережной, ее кошачью походку, ее кобыльи прыжки, ее давно не мытые волосы — именно поэтому лицо его выражало брезгливое страдание. Первое матерное слово, пришедшее сейчас на ум, облегчило бы его немые страдания… А может, открыть, нет, хотя бы чуть-чуть приоткрыть глаза этому поцу, сказать слово, полслова… Потом Холодков увидел Глебку и Аркашу: они опять спорили, щедро вываливая друг на друга словарный запас своих интеллектуально и сексуально озабоченных матерей. И тогда Холодков одернул себя, промычал что-то невразумительное и сочувственно-одобрительное, с облегчением вмешался в детский разговор, освобождая Глебку из-под негабаритного груза дяди Сениного киношного опыта, обрушенного на него Аркашей.
Они остановились возле фантастического дерева, все ветви которого были украшены тряпочками. Экскурсовод промямлил какую-то легенду, связанную со святым деревом, и Сапожников без труда представил себе, как кто-то из экскурсантов-азиатов привязал на дерево первую тряпочку, и вот — пошло, пошло… Людям так нужны мелкие верования, приметы, предрассудки… лотерейные билеты, счастливые сны… Когда же начала умирать в их душах истинная вера, да и жила ли когда-нибудь?
Древний армянский монастырь стоял в праздничном светлом лесу среди птичьего щебета. Журчали ручьи, падая на древние каменные плиты, гомонили дети, гундосил экскурсовод, сообщая на своем смешанном одесско-яхромском наречии все, что положено сообщать о монахах современному экскурсанту: монахи не верили в Бога, они объедались, бездельничали и прорывали необычайной длины, многокилометровые подземные ходы, чтобы ходить к монашкам. Сапожников заметил, что отсутствие таких подземелий, отсутствие женских монастырей по соседству или наличие огромных полей и виноградников, возделанных монахами, никогда не вносили разночтений в эти монотонные рассказы: монах — это было смешное занятие и смешное слово… Сапожников подумал также, что люди, отыскавшие в огромном лесу это подобие земного рая и благоустроившие его с таким вкусом и тактом, вряд ли могли ожидать, что когда-нибудь самое упоминание их имени будет приводить потомков в столь фривольное веселье…
Ребятня с аппетитом закусывала бутербродами, запивая их родниковой водой и чаем из термосов; Холодков умиленно наблюдал, как жует его малоежка Аркаша; Сапожников показывал обществу, как нужно пить чай по-таджикски; мамочки резали хлеб, готовили бутерброды и соревновались в домовитости, элегантности, свойской простоте и доброте. Холодков подумал, что, будь он на десять брачных лет моложе, он бы смог позавидовать сейчас любому из их мужей. Но он был независтлив по природе, и ему некуда было деться от этих десяти лет, его десяти лет, благословенных десяти, блаженных десяти, трижды проклятых десяти лет — поэтому он просто лежал в тени под деревом, и жевал бутерброд, и слушал ребячий щебет.
— Я уже объелась до белого каления…
— Ешь, как папа, мой маленький, помнишь, как папа ест.
— Папа уже устарел, папа у меня взрослец, он старый немножко… Он так длинно помнит…
— А я тоже был писателем. Как мой папа. Еще давно, когда вас не было. Только все мои книги на другой квартире остались. Я написал энциклопедию…
— Пока ты бутерброд мажешь, я пойду попикаю вперед, чтобы потом время не тратить. — И вдруг отчаянный крик из кустов: — Ой, мама, иди сюда! Я перепутал пикать на какать.
— О, проклятье! О, парижская богоматерь! — закричал Максимка. — Кто взял мой бутерброд?
— Тише ты! Еще наступишь мне на голову, и мне придется голову мыть.
— Ой, шмель, шмель! Мама, а что тебе шмель нашептал?
— «Лишь бы день начинался…» Аркаша меня эту песню научил, он ее в детском саду пел, а теперь он уже выпал из детства… Я спою вдвоем… «Лишь бы день начинался и кончался тобой…»
Холодков снова увидел, как выглядит счастье. Монастырь в лесу. Журчанье холодного родника. И пение птиц. И благожелательство людей. И женский лепет. И детский щебет… И Аркашина теплая рука на шее.
— Обними меня, папа, а то мне жарко… Нет. Не помогло… А ты сегодня не будешь писать пьесу? Не пиши ничего грустного. Напиши одно веселое.
Потом они двинулись в обратный путь. В автобусе утомленный Глебка прикорнул на плече у Сапожникова, и тут Сапожниковым вдруг овладела тревога. Как там Марина, что с ней, как она чувствует себя? Так странно получилось, что он спешил к ней, мчал за тысячи километров, приехал, и они так мало времени проводят вместе, мало видятся, мало разговаривают. У нее своя жизнь, своя компания, свои заботы, свои интересы — Субоцкий, Евстафенко, ленинградский критик, левые, правые, славянофилы, чтения… Он сам виноват, он не должен был так легко отстраняться, нужно больше жить ее жизнью. Все равно он не работает здесь, так чем же он занят, кроме Глебки, что за странное погружение в свои тягостные мысли, в тихое созерцание гор и моря, подобное сну… «Так ты проспишь все на свете», — сказала ему как-то Марина год или два назад. Это была неправда, потому что он работал в тот год еще больше, чем обычно, он выпустил полдюжины книг, заработал кучу денег и вырезал серию гравюр «для себя», а как позднее выяснилось, и не только для себя — их на корню купили захожие американцы. И все же это, наверное, была правда, потому что он не жил ее напряженной жизнью, в которой были журналы, критики, новости, чтения (только тогда московские, а не коктебельские) и бесчисленные встречи, которые он называл «встречи с интересными людьми» (как хорошо все-таки, что он всегда мог при столь минимальном контроле с его стороны положиться на ее верность). Он не уставал поражаться ее неослабевающему интересу к самым разнообразным, главным образом новым, явлениям культуры, раскаленной духовности атмосферы, которая необходима была ей для дыхания… Его умиляла, трогала ее непреходящая взволнованность: новая звезда поэзии или музыки, новый кружок знатоков чего бы то ни было, модное направление в медицине или эстетике — все это задевало ее лично, она не могла пропустить этих новинок, не обогатив ими свой духовный мир. А он, Сапожников, уже не успевает за ней. Может, он устает: все-таки он старше ее на целых семь лет…
…Холодков, держа на коленях своего утихомиренного Аркашу, интимно беседовал в углу автобуса с прехорошенькой мамочкой. Он познакомился с ней только сегодня, а сейчас они так склоняются друг к другу, как будто уже век знакомы. По дороге в монастырь эта мамочка несколько раз подходила к ним с какими-то пустяшными просьбами, и однажды, когда Холодков заговорщицки улыбнулся ему при этом, Сапожников спросил:
— Ну и что же теперь будет?
Холодков взглянул на него как-то странно, будто бы даже с сочувствием к его неведенью, и ответил:
— Будет. Не теперь. Вечером. Придет сама или скажет, как забраться к ней в комнату…
И тогда все заметалось в Сапожникове, восстало против этих слов. Позднее он подумал, что этот Холодков никогда не узнает настоящей любви, не встретит женщину, подобную его Марине, и, подумав так, успокоился, взглянул на Холодкова с сожалением, даже с сочувствием к его неведенью — вот где несчастный человек, который достоин истинного сожаления, настоящей жалости, бедный, ущербный, обобранный, нищий…
Однако сейчас, в полумраке автобуса, Сапожников вдруг испытал тревогу. Он видел профиль хорошенькой мамочки и думал о том, что она производит очень приличное впечатление, что она совсем молода и, вероятно, недавно замужем, что муж ее молодой писатель, довольно симпатичный и, говорят, вполне порядочный человек… Сапожников жалел уже, что откровенничал с Холодковым, ему хотелось поскорее вернуться в Коктебель, поскорее увидеть Марину. Он взглянул на часы: в Доме творчества начался ужин.
— Как они жили? — вздохнула вдруг какая-то мамочка в углу автобуса. — У них ведь даже радио не было, у монахов!
В словах ее звучал неподдельный ужас. Голос Холодкова донесся из другого угла, спокойный, надменный и насмешливый:
— Зато у них каждый вечер был концерт самодеятельности. Они пели хором.
— Дядя Сеня говорит, что, когда они снимали «Черный дурман», он нашел очень древнюю икону. Может, даже восемнадцатый век, — сказал холодковский Аркаша. — И тоже построенную без единого гвоздя…
— Ты что, восемнадцатого, — сказала Анька. — Сам ты восемнадцатого. У нас есть дома прялка, на ней уже все стерлось, и то она не восемнадцатого… Папа говорит, она девятнадцатого.
— А девятнадцатый старше, — сказал Аркаша.
Искусствоведческий спор был в разгаре, когда они въехали в массивные ворота Дома творчества и затормозили у секретарского корпуса, не доезжая столовой.
Столовая была уже почти пуста, однако Маринина порция стояла нетронутой на столе. Это было странно: ей ведь всегда с трудом удавалось дотерпеть до ужина. Оставив Глебку за столом, Сапожников побежал в коттедж. Дома Марины не было. Никто не видел ее и во время ужина. Сапожников забрал Глебку, и они пошли искать Марину. Глебка воспринял это как веселую игру, и выяснилось, что у него уже есть некоторый опыт в этом занятии. Они обошли все известные мальчику явки, но Марину не нашли.
Переломив себя, Сапожников заглянул к Холодкову.
— Да вы не беспокойтесь, — сказал Холодков. — Она жива-здорова, найдется… Вы же знаете женщин… Сидит где-нибудь, ведет умную беседу…
— Где? — хрипло спросил Сапожников. Он смотрел на Холодкова, требуя от него прямого ответа, почти уверенный, что такой человек должен догадываться, должен знать — может, поэтому у него был давеча такой сострадающий вид. — Где?
— В мастерских здешних гениев вы были?
— При чем тут мастерские? — начал Сапожников надменно, потом добавил совсем тихо: — Был…
— Спросите еще у Евстафенки…
Сапожников ушел, не поблагодарив за совет. В морду бы ему дать за такой совет. При чем тут Евстафенко? Однако ему самому уже приходило в голову…
У Евстафенко было темно. Сапожников вспомнил, что ужин Евстафенко тоже стоял нетронутым на столе. Но у него ведь часто банкеты… Сапожников уложил Глебку и упорно продолжал искать ее, убеждая себя, что ничего не могло случиться, ну сидит, ну разговаривает, да что, она ребенок, что ли…
Потом он вдруг вспомнил снисходительно-жалостливый взгляд Холодкова, его терпеливые советы, вспомнил эти последние дни, день за днем, час за часом: подозрения выстраивались в стройную систему, в законченную картину, и Сапожников начал метаться по опостылевшему вдруг Коктебелю. Он готов был кричать, звать на помощь, потому что сейчас, в эту самую минуту что-то происходило здесь, поблизости, или только еще должно было произойти, а он не мог остановить этого, хотя был рядом, не мог ничему помешать… И тут он в первый раз пожалел, что прилетел с Камчатки, что вообще прилетал «убедиться». Ему стало невыносимо тяжко на людной набережной, показалось, что все знают о его подозрениях, о его несчастье и смеются над ним. Он ушел в глубину волошинского сада, опустился на скамейку и лишь спустя долгое время заметил, что сидит не один. Сапожников не мог бы сказать наверняка, сидел ли здесь раньше этот полный, бородатый, добродушный человек, или он появился только что, бесшумно присел на скамейку рядом с Сапожниковым и тактично молчал. Было в нем что-то располагавшее к себе, и Сапожников почувствовал, что вот этому человеку, настоящему собрату по искусству и по несчастью, он может рассказать все. А может и ничего не говорить, просто сидеть с ним рядом, на одной скамье… Сапожников не смог бы сейчас объяснить, откуда он знает этого человека и знает ли его вообще. Не смог бы даже объяснить, откуда он узнал, что это собрат по искусству, да еще к тому же собрат по несчастью, — как не умел объяснить, например, как и когда научился он говорить по-русски: ему казалось, что он «всегда умел». И вот теперь, когда человек этот вдруг заговорил — что за приятный у него был выговор, самый выговор свидетельствовал о школе, об окружении, о долгой учебе, о странствиях, — теперь, когда он вдруг заговорил, Сапожникова вовсе не удивило, что он словно бы отвечает на мысли самого Сапожникова.
— Путешествия. Путешествия. Бег по свету, бегство от себя… Когда-то я тоже не мыслил жизни без этого. Вероятно, это период накопления — тебе нужны перепутья Срединной Азии, тропы Тамерлана, пути Лойолы… Нужны так же, как динамит библиотек и пыльца культуры, приносимой в эти библиотечные соты…
— Нужны впечатления, — сказал Сапожников, отвлекаясь мало-помалу от беды, сверлившей одну и ту же точку его мозга. — Нужен факт, документ.
— Вы человек с объективным умом, — сказал собеседник в пенсне. — Помните, как писал Ницше о людях, подобных нам с вами…
Сапожников покачал головой.
— Он писал, что человек этот не более, как зеркало. Он только тогда чувствует себя самим собой, когда анализирует посторонние образы. По обыкновению, он сам охотно идет навстречу каждому опыту и случаю, с гостеприимством принимая все, что касается его лично…
— Может, это просто разновидность наслаждения, не более того… — сказал Сапожников. — Как хождение по выставкам и театрам… Не знаю…
— Севилья, Толедо, Кордова, Ла-Манча… — задумчиво проговорил незнакомец. — Мне вспоминаются Андорра, Пиринеи… И еще Вальдемоза, глухая деревушка на Майорке. Я стоял на горе — маслины, дубовая поросль, пинии, кактусы… И старинный монастырь картезианцев, где Шопен и Жорж Санд провели зиму…
— Говорят, Майорка теперь заплевана туристами… — уныло сказал Сапожников. — Я, впрочем, не был там и не буду. Так же, как и в Париже…
— А я бывал, много. И так часто тосковал вот по этому… — Он повел рукой в сторону Карадага, снял пенсне, прочел негромко и отчетливо:
Мне, Париж, желанна и знакома Власть забвенья, хмель твоей отравы… А в душе — пустыня Меганома, Зной и камни, и сухие травы…Смешался, потом сказал смущенно:
— Нет, нет, вы правы: надо побывать там. Непременно.
— Я не говорил этого, — отозвался Сапожников. — Хотя, может быть, и неплохо бы… Так вы, значит, поэт? А я думал, вы…
— Поэт по преимуществу. Впрочем, я и художник. А также художественный критик. Вот почему ваши слова о факте и документе не могли оставить меня равнодушным. Я так же, как вы, уверен, что документ или факт — основа искусства. Однако документ должен быть не только найден и воспринят (что составляет большую заслугу художника, вы правы), он еще должен быть забыт. Да, да, он должен быть забыт, должен стать частью художника в такой степени, чтобы не достигать больше его сознания. Только тогда, приходя из подсознания, он способен будет приносить пользу.
— Это элементарно… Не знаю, почему вы говорите об этом? Если речь идет о предметах в моем творчестве…
— Да, о предметах и символах. Освобождение от документа — в символе. Символ рождается из материала картины, но он почти всегда бессознателен для творца…
— Ну, более или менее, — согласился Сапожников.
— Ведь то, что художник хотел сказать своей картиной, и то, что в ней можно прочесть, редко совпадает. Окончательную словесную формулировку живописный символ получает только в восприятии зрителя… А у вас…
— Что у меня? — удивленно спросил Сапожников.
— Не у вас… Может быть, не у вас, вернее, не только у вас… Большим уроном последнего времени вообще является тот факт, что живопись, которая всегда была, по существу, искусством символическим, заразили литературными символами, символизм форм стали подменять символизмом слова…
— И все же… — проговорил Сапожников, распаляясь. — Откуда вы можете знать мои вещи… Не те, что я продаю в детское издательство, а те, что я делаю по-настоящему, делаю для себя. Те, что лишь изредка продаются по случаю. Те, что не выставляются. Те, что могли бы сделать мне имя, но не делают…
— О, имя… — Незнакомец отмахнулся с досадой. — Когда-то, скажем в Средние века, художник вообще был безымянным. Он творил вещи. А потом, когда вещи стала творить машина, он отгородился от нее, из пересоздателя жизни превратился в портретиста… Однако, чтобы достичь высших, крайних точек индивидуализма в искусстве, художники должны отказаться от своего имени и от своего земного лица — чтобы вся личность целиком перелилась в произведение и угасла в нем, как дух угасает в безднах материи… Недостаточно отражать эпоху, надо ее преображать, просветлять, творить. И участники этого процесса не только художники, но и зрители. Это очень важный пункт…
Сапожников почувствовал, что гнев его угасает мало-помалу. Он смотрел за деревья, на море, прислушиваясь к журчанию приятного говора.
— Послушайте… — проговорил он наконец с доброжелательством и горечью. — Послушайте… У вас что, на всякий случай жизни есть вот такая… ласковая, вполне утешительная, очень интеллигентная… ахинея… А вот на мой сегодняшний случай? Что вы на это скажете?
Незнакомец молчал. Сапожников резко обернулся и убедился, что он снова один. И тогда тяжесть сегодняшней беды, все безумие этого вечера навалились, нахлынули на него, сорвали его с места, погнали в лихорадочное странствие по дорожкам, коттеджам, по набережной, танцплощадкам и немногочисленным ресторанам затихающего Коктебеля. Марины нигде не было, и он был в отчаянье. Измученный бегом, он присел на скамейку в укромном уголке набережной и вскоре понял, что мешает влюбленной паре. Следующая скамейка была занята, молодые люди глядели на него с вызовом, вовсе не собираясь менять из-за него фривольной позы. На следующей скамейке средних лет шахтер из писательского Дома творчества тискал хохочущую санитарку. Со скамейки, скрытой кустами, Сапожников услышал столь возбужденное сопение, что даже не посмел обернуться. Ему не было сейчас места в жарком ночном Коктебеле, а может, и не было места на земле. Он хотел пойти к Холодкову, но побоялся, что и впрямь увидит там молоденькую мамочку с экскурсии, а значит, должен будет принять все, на что намекал этот человек… Развязное приветствие Роберта принесло Сапожникову освобождение, и он ухватился за это приветствие, за это пускай даже совсем поверхностное проявление интереса к себе, проявление сочувствия.
— Всегда без спутников, одна… — гуторил Роберт. — Скучаем, старик? А вот это уже нехорошо. Разве можно скучать в Эльдорадо? Пошли ко мне, пошли, ну что ты будешь ошиваться здесь один в этот час любви…
Сапожников дал увести себя, потому что дальнейшее дежурство у коттеджа и набережной становилось мучительным.
Дорогой Роберт то и дело отскакивал в сторону, заговаривал с какими-то девчушками, озабоченно глядя на Сапожникова:
— Сейчас мы тебе достанем…
— Не надо. Никого не надо. Пожалуйста, — решительно сказал Сапожников.
— Ну что ж. Так тоже хорошо, — сказал Роберт. — А то некоторые слюнтяи не любят. Я-то считаю, что лучше нет…
Роберт и впрямь занимал один целую дачу. Время от времени в каких-то времянках в дальнем углу сада жили его друзья, но дом оставался целиком в его распоряжении, что было по коктебельским масштабам верхом роскоши.
Они присели на терраске, густо увитой туберозами, в полусвете лампочки, накрытой берестяным лукошком.
— Да ты выпей… — уговаривал Роберт, и Сапожников отважно выпил рюмку водки, а потом еще полстакана какой-то бурды. На терраске появилась откуда-то крупная девица, заспанная, ленивая, курносая и симпатичная. Она легко вошла в их пустяшный разговор и проявила отличное знание зарубежных марок машин. Потом вскользь, без особой гордости или неудовольствия, упомянула мужа, работавшего за границей. Сапожников предложил польский тост за здрове пенькных пань и галантно поцеловал ручку даме. При этом она слегка потрепала его по затылку, но тут же отстранилась: все-таки она была светская дама и он не должен был забываться. Роберт счастливо хохотал: компания удалась и он был в своей стихии. Сапожников рассказывал про Камчатку, и все трое быстро пьянели. Потом Сапожников вышел «посмотреть двор и усадьбу». Калитка была не заперта, и его неудержимо потянуло к своему коттеджу. Был уже час ночи. В конце концов, должен же он был убедиться, что Глебка спит спокойно. В коттедже было темно. Судя по креслу, поставленному им поперек двери, Марина еще не появлялась. Сапожников постарался не думать об этом, вернуть себе еще не растраченное опьянение. Глебка спал. Сапожников тщательно накрыл его и вышел. Почти бегом вернулся он на дачу Роберта, где его встретили радостными возгласами, и Сапожников подумал при этом, что, право же, это было очень гуманно с их стороны: все-таки существовали в мире какие-то люди, пусть даже совсем незнакомые, которые ждали его.
— Мы тебя обогнали, — сказал Роберт, протягивая Сапожникову стакан бурды. — Догоняй, старик!
Он, конечно, не мог их догнать. Он даже не был теперь по-настоящему пьяным, просто горестно-хмельным. Он сидел и думал, отчего ж это никогда он не может толком «загудеть», «пойти вразнос», не может увлечься ни карточной игрой, ни вином, ни охальным прелюбодейством, какой же он, к чертям, художник: чиновник он, аккуратист, немец проклятый…
Девица походя оперлась на его плечо, и Роберт заржал радостно при этом, но девица тут же выпрямилась церемонно, и Сапожников подосадовал на Роберта за его грубые манеры, за бестактную торопливость; ему вдруг очень захотелось эту девицу, он, и не прикасаясь, почти ощущал вальяжную мягкость ее зрелого тела, ему нравились ее задорно вздернутый носик, нежная миловидность лица. Роберт мерзко подмигнул Сапожникову, встал и, похлопывая девицу по крупу, увел ее в соседнюю комнату. Сапожников горестно подумал, что он обрек себя на еще большие терзания: сейчас он услышит их любовные усилия, совсем рядом, в полуоткрытую дверь. Он завидовал Роберту, злился на него. Любопытство разбирало его. Он хотел бы увидеть их сейчас, причинить себе новую боль…
Он поставил на поднос их бокалы, разложил закуску, зажег свечу и распахнул дверь в комнату. Он решил, что он войдет, он будет веселым, светским, забавным, он предложит им завтрак в постель. Он остановился на пороге, почти ничего не различая во мраке, а Роберт сразу увидел его, входящего со свечой, и сказал весело и дружелюбно:
— Где же ты пропадаешь, старик? А мы уже заждались тебя… Нам без тебя скучно. Нам скучно без него, верно, Валюта?
Девица ничего не ответила, и теперь Сапожников уже разглядел, что она и не могла ответить. В углу, в полумраке, на огромной тахте белели ее ноги и голый вальяжный зад. Юбка ее была высоко задрана, а голова спрятана в ногах у Роберта. Сапожников понял, что она не ответит, так как рот ее занят, но вся поза ее не выразила при этом никакого несогласия со словами Роберта, который добавил гостеприимно:
— Пристраивайся, старичок… Не оставляй нас…
Сапожников поставил на пол свечу, поднос с завтраком и стал неуклюже, робко и взволнованно пристраиваться снизу, думая о том, не является ли его, столь привычная и единственно знакомая ему позиция унизительной или вспомогательной по сравнению с позицией Роберта и слишком удаленной от милого курносого лица… Странность, непривычность всей этой ситуации и шок, пережитый им вначале, долго не давали ему войти в раж, однако он уже разобрал, что девица его почувствовала, поняла, приняла — вот она гладит его по ногам теплой рукой, не упуская в то же время и Роберта, ухитряясь еще издавать при этом стоны изнеможения и удовольствия… И Сапожников перестал смотреть на полноватое тело Роберта, а безоглядно отдался своему занятию, впился в нее яростно, безрассудно, разгоняясь без удержу, и вот он уже откинулся на спину, а Роберт все шел и шел вперед к какой-то непостижимо далекой вершине удовольствия, тяжело дыша и методично раскачиваясь, по временам меняя положение и позу, и девица, которая, казалось, давно уже перешла все возможные пределы, снова и снова побуждала его к любви. Сапожников с удивлением обнаружил, что сам он ревниво прислушивается к их стонам, что его собственная сила возрождается тоже с еще не испытанной доселе быстротой. Он вернулся к ним, и, почувствовав это, девица застонала, заметалась, и он ощутил гордость, ибо достиг того, чего не удавалось, кажется, достичь даже этому неутомимому здоровяку Роберту. И он обнял ее, полный благодарности за то, что она помогла ему впервые за сегодняшний вечер поверить в себя, в то, что он не последний, о, еще и как не последний, человек на земле. Ее стоны, а также сопение Роберта подогревали, а не отталкивали Сапожникова, он чувствовал, как раскаляется атмосфера в этом полутемном углу, и он не хотел ни на минуту уступить женщину Роберту, а сознание того, как много он, как много они оба дают своей стонущей партнерше, возвышало его в собственных глазах, приближало к ней… Полноватое, обнаженное тело Роберта все еще слегка смущало его, может быть, потому, что он раньше не знал этого человека, никогда не любил его, ни с того ни с сего пожелавшего вдруг стать ему таким близким. А потом, в минуту блаженной усталости, страшное откровение вдруг пронзило Сапожникова: он подумал о том, другом, разделявшем с ним, наверное, семейное ложе; о том, с кем они вот так же трудились над одним и тем же знакомым ему, им обоим хорошо знакомым телом. Конечно же, никогда не достигая поврозь столь блистательных результатов, никогда не сближаясь так в пространстве и времени, как сегодня, как здесь, а все же трудясь на одном поле, в одной постели… Мысль была ошеломляюще реальной, трезвой и простой. Она переполнила его горечью, он сник, съежился, готов был уползти с ложа, на котором, распятая в радости, снова стонала женщина и, отдавая последние силы, задыхался Роберт. Сапожников видел, как Роберт встал, грустно, через силу усмехнулся, выпил стакан вина, поставил пластинку на проигрыватель, повернулся к ним спиной. И тогда Сапожников грубо повернул к себе женщину и стал снова разогревать ее и себя, и она застонала, забормотала что-то удивленное и благодарное, то ли искреннее и сейчас найденное, то ли заученное и проверенное на многих сборищах такого рода.
— Ой, сладко! Ой, вкусно! — вскрикивала она. — Ты делаешь больно! Ты делаешь хорошо! Еще. Еще. Разорви меня. Возьми меня. Ох, какой ты! Какой ты, какой, какой…
Она в изнеможении откинула голову, и синие тени легли у нее под глазами, а Сапожников, в великодушии своего конечного торжества, снова повернул ее к себе, снова навалился на нее и подумал, что он ничего не имеет против нее, против Роберта, против того незнакомого партнера по семейной жизни — только пусть все будет вот так, в открытую, без фарисейства и обмана — вон бедный, толстоватый Роберт слушает Гарднера, и глупое его лицо выражает такую безотчетную грусть, ах, как облагородило его многочасовое упражнение, «омниа бестиа триста эст», как грустны эти твари Божии, но только потом, только «пост коитум», господа хорошие, после совокупления, говоря просто, после ебли, пост ябиум, где же он встречал это удобное слово? — ну да, у Кероуака, там тоже были эти групповые свальные радости греха…
Роберт вернулся к ним и сказал:
— Ну и ну, старик, ты даешь!
— А ты… Ты просто вепрь какой-то…
Диалог закончился, потому что она протянула к ним нетерпеливые руки, безошибочно попадая в промежность мягкими пальцами, не давая им бездельничать и тратить на разговоры драгоценное время жизни, — и снова ее мягкие губы, ее теплое нутро приняло их, дразня и лаская, и все, что недавно казалось вершиной наслаждения и концом радости, оказывалось еще не концом, и силы приходили откуда-то — от ревности, от жара, от гордости собой, от зависти к ней, чувствовавшей так много и получавшей так много от них, — и Сапожников, уплывавший по временам в дремоту, вдруг просыпался, услышав во сне тишину, будил ее, поворачивал в себе, и тогда все начиналось сначала, и Роберт, пробуждаясь с веселым возгласом, догонял их сверху или снизу, спереди или сзади — и так без конца, в бесконечность, пока наконец, в рассветной тиши, Роберт не сказал, наклоняясь к Сапожникову через ее бездыханное тело:
— Ну, мы дали, старик… Шесть часов без перерыва. И по новой можно, как ни в чем не бывало…
Сапожников встал, поспешно оделся и побежал домой. Марина еще не спала. Увидев его, она зажмурилась и сказала:
— Только, пожалуйста, не будите меня. Так болит голова. Я попала на банкет. Не могла отказаться… А предупредить вас я не могла… Завтракайте без меня…
— Конечно, — сказал Сапожников. — Я отведу Глебку на завтрак. Тебе принести поесть?
— Ничего не надо, — страдальчески сказала Марина. Потом добавила, уже засыпая: — Может, булочку с маслом. И закуску… Я потом съем… Так голова болит… Боже, какая я несчастная…
— Прежде чем идти к нему, почитайте его «Усмишки та зирки», — сказал старший из письменников. — Их наизусть можно выучить, там страниц двадцать…
— А что, больше он ничего не написал? — спросил удивленно младший.
— Нет, он в основном по общественной линии и в аппарате. Сильный работник…
— Так, прочитаю «Зирки», и что дальше?
— Это еще не все, — сказал старший. — Конечно, это прекрасный ход — процитировать его книжку, поговорить как писатель с писателем, по большому счету, но нужно и товар тоже иметь… О чем у вас роман?
— Середнячка любит кулака. Идет раскулачивание…
— Не с этого надо начинать — кто кого любит. Надо сказать, что это роман на актуальнейшую тему — коллективизация: о том, как украинские крестьяне созрели для новой жизни и провели у себя коллективизацию. В то время как некоторые на Западе мутят воду, вы в своем романе, и так далее… Пусть кто-нибудь из союза ввернет ему между прочим о вас словечко. Какую вы там общественную работу выполняете? Он, кстати, очень не любит всяких вольных художников от литературы… Да, батенька. А как вы думали? Сложное это дело — обработать редактора. Вы что думаете, мне мои двенадцать романов…
— Между прочим, вы совершенно правы, — сказал, оборачиваясь, полный, курчавый и бородатый человек, сидевший у них в ногах у самой воды. Оба писателя взглянули на него и подивились, отчего они не замечали его раньше и почему он уселся вот так странно между их пятками и морем.
— О чем вы, собственно говоря? — начал с надменностью старший из украинских писателей.
— О неисповедимых путях, которыми можно прийти к сердцу издателя… Ну и о том, что пути эти можно все-таки предсказать. В этом отношении Лилина история представляется мне просто образцовой. Да вы неужто не слышали? Очень известная история…
Старший из украинских писателей брезгливо пожевал губами, оглядывая странную фигуру, сидящую у них в ногах, но младший отозвался с большой живостью:
— Нет, нет! Расскажите, пожалуйста, будьте ласковы. Мы не имеем ни малейшего представления.
— Дело в том, что она до этого уже приносила свои стихи Маковскому, года полтора или два назад, но ведь это такой фат: пришла какая-то там серенькая учительница, откуда ей сочинить что-нибудь этакое, из ряда вон выходящее… Представьте себе ситуацию — он редактор модного журнала, светский лев, эстет…
— Да, да, представляю… — улыбнулся младший из писателей, хотя, честно говоря, подобная фигура главного показалась ему фантастической. — Что же дальше?
— Мы стали думать, как это сделать. Я решил, что нужно ей придумать историю, как говорят англичане, лайф-стори. Вы видели у меня на полке корешки, габриаты? Не видели? Не важно. Мы придумали ей псевдоним. Де Габриак. А позднее еще имя — Черубина. Красиво, верно?
— Очень красиво, — сказал младший из писателей, а старший только скривился.
— Но имя еще полдела или даже меньше. Мы сделали Черубину страстной католичкой…
— Кем? — фыркнул старший из писателей.
— Католичкой! — с энтузиазмом подтвердил кудрявый человек. — Дело в том, что католицизм как тема еще не был тогда использован в Петербурге…
— Это и самому Гончару с рук не сойдет, — буркнул старший из украинцев, а младший сказал:
— Так, так, что дальше?
— Мы решили внести в стихи побольше Испании. Нужна была преступно-католическая любовь к Христу… И вот Маковский получил первое письмо со стихами. Вокруг письма витал аромат тайны и дорогих духов. Это было письмо аристократки… Вы бы видели, что творилось с Маковским. Я-то видел.
— Подействовало? — спросил молодой, улыбаясь мечтательно.
— Еще как!
— Здорово! — воскликнул молодой.
— У ворот Егоровых… — сказал старший с досадой. — А вы, собственно, о каком издании рассказываете? — обратился он к кудрявому, но, странное дело, кудрявого уже не было на берегу.
Тогда старший из письменников с неудовольствием взглянул на младшего и сказал:
— А вам, молодой друг, бдительности надо побольше. Бдительность нигде не мешает…
* * *
В сущности, подумала Марина, это не так плохо, что они оказались сейчас не одни на «их скамейке», стоявшей у самого ограждения, лицом к морю. Во всяком случае, Марина была рада этому — пусть видят все, кому не положено знать больше, что у них с Евстафенкой дружба, просто хорошая дружба, содружество поэтов. А кому положено, и так поймут, что к чему, — и задохнутся от зависти. И еще другие кое-кто поймут, что с ней больше нельзя как с девчонкой, которая должна кланяться из-за каждого паршивого стишка, всего-то десять строчек, делов на десятку, а разговоров, разговоров: там поправь, здесь поправь, тут не по-русски, там некрепко сделано, а тут еще и не по большому счету — какой они хотят счет на десятку… Марина с достоинством осмотрела соседей по скамейке: какие-то дикари-отдыхающие, тоже мне богема, много теперь толчется полуинтеллигенции в Коктебеле, примазываются к писательской славе. Этот дикарь был типичный образчик: рубаху какую-то нацепил до пят, — босой, тоже мне мальчик-хиппи, так и сам Евстафенко небось не решится выйти, а уж ему все можно. Бабешка у него серенькая, невидная — Марина глазами указала на нее Евстафенко, чтобы он посмотрел (странно, что он смотрит так долго, дольше, чем требует чувство юмора или приличие, что уж он там углядел, интересно — серенькая такая мышка, пройдешь — не заметишь, будто и нет человека…). Сосед их вдруг заговорил (боже, какой прононс, какой выпендреж, черт-те что, можно подумать: сливки общества).
— Я думаю, вы можете прочесть, Лиля. Раз стихи написаны, они существуют уже не только для вас или для меня… К тому же, — он сделал довольно элегантный реверанс в сторону Евстафенки и Марины, — здесь ведь живут писатели.
(«Что за идиот… — Марина прикусила губу. — Ну хорошо, меня он не знает, но Евстафенку-то должен. Откуда их набежало всяких, о Господи…»)
— Да, мы поэты, — сказал Евстафенко с достоинством. («Боже, как просто он держится, такой человек, ведь мог бы…»)
— И вы тоже? — Серенькая мышка с нескрываемым любопытством разглядывала Марину.
(«Ну да, баба она и есть баба, никогда другой женщине красоты не простит».)
— Непохоже? — Марина криво усмехнулась. — По-вашему, мы должны быть какие-то особые люди, похожие на монахов…
— Нет, — сказала та, кого звали Лилей. — Просто путь искусства — путь избранных людей, умеющих претворять воду в вино… — Глубокий голос ее дрожал, и Марина заметила, что Евстафенко смотрит на нее неотрывно.
— Хорошо сказано, — кивнул Евстафенко.
— Я всегда преклонялась перед этими людьми, — продолжала Лиля робко, словно извиняясь, и вдруг обернулась к Марине. — Прочтите вы что-нибудь… Я так робею. Сначала вы…
Евстафенко тоже обернулся к Марине («Наконец-то соизволил…»), сказал серьезно и просто:
— Почитай. У тебя прелестные стихи.
Марина не решилась читать взрослое и экспериментальное, черт его знает, кто эти плебеи и что они поймут. Она решила прочесть самое надежное, апробированное, детскую «Собаку-абаку». В этом был еще и чисто женский расчет: она знала, как нравится Евстафенке, когда она становится этаким огромным грудастым ребенком.
— «Собака-абака», — сказала она громко и убедительно, как тысячу раз говорила с эстрады дворцов пионеров и детских садов.
Жила была собака, огромная абака, И поднимался в небо ее огромный хвост. Он поднимался в небо и даже выше неба, А дать бы бедной хлеба, Он вырос бы до звезд…Марина кончила и удрученно посмотрела на соседей. На черта она читала им? Как это могут понять люди, которые так далеки от поэтического подвала на Каланчевке, от блистательных эротических абсурдов Алены Гвоздиловой, от пародий Шапировского, от матерных импровизаций Мылина, наконец, от ее собственного голодного послевоенного детства? Для таких людей пропадают все нюансы, тонкий и абсурдный юмор, пусть бегут Доризо читают и Юлию Друнину, туда им дорога. Вон, гляди, как они растерялись оба…
— Да-а… — сказал толстенький сосед и снял запотевшее пенсне («Боже, еще и пенсне нацепил, с таким рылом — и пенсне, чего только плебеи не придумают, чтоб поближе к нам, к интеллигенции»). — Женская лирика… она всегда была… менее обременена идеями… («Боже, а язык-то какой канцелярский, профорг, наверное…»), но более глубока…
Серенькая мышка в упор посмотрела на своего друга, и он стушевался еще больше. Потом нагнул голову, словно собираясь бодаться, надел пенсне и сказал:
— Что ж… для меня всегда было идеалом («Господи, да кто ты такой, чтоб судить…») и в неценном найти ценное, и в неудачном открыть тайну неудачи… чтобы помочь… — Он закончил совсем тихо, так тихо и виновато, что Евстафенко пришлось подбодрить его.
— Ничего, ничего, валяйте, — сказал Евстафенко, но тут Марина крепко сжала его колено, и он понял, что ему пора выручать ее. — Ну а что, собственно, вы? — сказал он с молодым задором, за который так любили его на больших комсомольских стройках. — Вот вы! Может, вы почитаете свое… — Он обращался к серенькой мышке, и она вся сжалась, затрепетала, собралась в комочек, и оттуда, из комочка, донесся едва слышный, трепещущий голос, который после первой же строки стал слышнее, и глубже, и еще трепетней:
С моею царственной мечтой одна брожу по всей Вселенной, с моим презреньем к жизни тленной, с моею горькой красотой…(«Боже, какая наглость, чья бы корова мычала, и эта, доска — два соска, ни сиси, ни писи, тоже о своей красоте, — вот уж Богом обиженная, занималась бы арифметикой в начальной школе, и ведь уверена, что найдутся мужики, которые — куда вообще мужики смотрят, верно говорят, что только захотеть, всегда их может убедить та, которая в себе уверена…»)
Но спят в угаснувших веках все те, кто были бы любимы, как я, печалию томимы, как я, одна в своих мечтах.(«Ишь как Евстафенко на нее уставился, сейчас оставь их одних — и понеслась. И стихи какие-то бесконечные, она думает, что Марина, мол, встанет и уйдет, черта с два. Сапожников теперь еще часа два с Глебкой по Карадагу прошляется, так что никуда я не пойду, не для тебя столько труда загублено, не думай, голубушка».)
И я умру в степях чужбины, не разомкнув заклятый круг.Голос Лили дрогнул, перешел в едва слышный шепот:
К чему так нежны кисти рук, так тонко имя Черубины!Марина повернулась к ним спиной, она знала, что не двинется с места, однако произошло что-то нехорошее. Нет, она никогда не сдавалась, и она не уступит сегодня, потому что это просто абсурд, какой-то театр абсурда, как говорит Шапировский, а-ху-ху-не-хо-хо, спрашивает в таких случаях Мылин, или как у Алены Гвоздиловой в стихах: не угодно ли вам цыпленка в шоколаде… А эта все читала, читала, теперь уже шепотом, дистрофичка несчастная, что она там бормочет:
В слепые ночи новолунья Глухой тревогою полна, Завороженная колдунья, Стою у темного окна… Стеклом удвоенные свечи…(«Ну да, теперь все при свечах, научились, теперь у всех поп-арт из подворотни и свечи, поднатаскались, никто и не вспомнит, что у них в подвале на Каланчевской у первых были свечи и швейная машина „Зингер“ с помойки…»)
В темно-зеленых зеркалах Обледенелых ветхих окон Не мой, а чей-то бледный локон…(«А жалко все же, что вот так складывается, не по-человечески, и Сапожникова тоже жалко, чего-то он чувствует, мается, но уж он-то ладно, должен платить за свое счастье, сколько лет ничего, ни гугу, а годы идут, и кто это оценит…»)
Кого так сладко ненавижу…(«Это про кого же она так? Про какую-то женщину. Да, уж чего-чего, а ненавидеть, это наш брат женщина очень даже умеет… А что же мне, любить тебя, что ли, придет вот такая после всех трудов, и когда все у них так хорошо, так по-человечески, настоящая любовь, действительно ведь пара они с Евстафенко, редкий случай — и вот придет такая, доска два соска, а ты изволь, нет уж, не будет этого, скорее ты сама уйдешь, все вы уйдете, чем я с места двинусь…»)
— Они ушли, — сказал удивленно Евстафенко.
— Куда? — спросила Марина, стараясь проявить интерес.
— Не знаю… — Евстафенко был растерян. — Я даже не заметил, когда они ушли… Жалко. Я хотел пригласить их, чтоб они почитали… Чтоб она…
— Уж конечно, она… — сказала Марина, и голос ее дрогнул.
— Ну, ну… — Евстафенко улыбнулся, протянул руку за спинкой скамьи, погладил ее по заду.
«Давно бы так, — подумала Марина. — Нет, все-таки с ними, с мужчинами, нельзя как с равными, обязательно сорвутся».
* * *
Маленький критик из Ленинграда с гордостью носил убедительную фамилию Кремнев. На многолюдном пляже он часто с грустным и снисходительным юмором отмечал, какой он, в сущности, маленький, и толстоватенький, и мало спортивный. Однако дома, садясь за стол, он с серьезностью примерял к себе эту грозную фамилию. Он был левый критик, он ненавидел мерзавцев и черносотенцев, однако ему все же удавалось при помощи незаурядного оптимизма и веры в незыблемые ценности прогресса как-то укладывать свои сочинения в жесткие рамки печатной полосы. Он гордился цензурными купюрами и таскал их за собой, как наиболее тщеславные из инвалидов войны носят орденские колодки и ленточки ранений. Купюр этих было не так уж много, и, грубо говоря, он всегда процветал. Когда редакции требовалось уравновесить слишком правое выступление чем-нибудь умеренно левым, Кремнев неизменно оказывался на этом симметричном фланге. Помогала еще и дружба с Евстафенко, которого он поддерживал еще в юности, на подъеме (о, славное было время — оттепель, эстрадные выступления, брожение умов). Кремнев уже тогда владел искусством разумной дозировки и журнальной борьбы: «Если вчера положил налево, сегодня дай им вправо, и завтра ты сможешь снова дерзать». Он до сих пор был увлечен этим балансированием и верил, что игра стоит свеч. Она давала возможность писать и печататься, быть в самой гуще борьбы, другими словами, делать литературу, а что может быть интереснее этого? И если какие-нибудь экстремисты, вроде Элика, говорили мерзости, то что такое Элик в конце концов, недолеченный псих-шизофреник, загубивший свой талант неверным подходом к миру…
В Коктебеле Кремнев бывал часто, и это каждый раз было славно: море, и досуг, и немножко работы, и солнце, и друзья, и враги, и новые знакомства, и новые союзники из разных городов страны. Заплатив деньги и приехав отдыхать, Кремнев отдыхал. Он не занимался самоедством, да ему и не в чем было себя упрекнуть.
На этот раз обстоятельства сложились поначалу довольно щекотливо. Поселившись в своем любимом семнадцатом коттедже, Кремнев со стеснением обнаружил, что его соседом по коттеджу является известный Денисов, тот самый ископаемый ортодокс, главный редактор журнала, говорят, довольно неглупый политик, но совершенный лапоть, точнее, даже валенок во всем, что касается литературы, человек со вкусом, который не сделал бы чести даже Всеволоду Соловьеву или Бог знает кому. Кремневу не раз приходилось резко полемизировать с авторами этого журнала, и вот теперь он оказался в соседстве с этим человеком, и надо было, вероятно, поддерживать с ним добрососедские отношения. Кремнев утешил себя тем, что в быту этот Денисов, кажется, человек терпимый, не склочный и тихий. Кремнев вовсе не склонен был к излишней подозрительности в отношении начальства, а, напротив, пытался найти положительные черты в этих людях, веря, что не зря, вероятно, они выдвинулись, значит, что-то в них есть такое ценное и общеполезное, что позволило им выдвинуться. Эта широта воззрений помогала ему уживаться с самыми разными издателями и редакторами: более того, не являясь человеком совершенно безупречным в анкетном отношении (фамилия Кремнев не уходила в глубь времен дальше второго поколения и являлась псевдонимом его отца), он ухитрился даже съездить однажды на экскурсию во Францию, что дало ему ощущение спокойной уверенности, сильно помогавшее в работе. И вот теперь, волею судеб очутившись под одной крышей с Денисовым, Кремнев стал отыскивать в нем достойные уважения черты. Денисов отнесся к соседу отечески любовно, и это было приятно: все-таки Денисов был большой человек в мире литературы. Кремнев часто думал о том, что много еще среди наших молодых литераторов неизжитого сектантства. Почему бы, например, им с Евстафенко не выступить однажды в журнале Денисова, подорвав тем самым изнутри позиции черносотенцев и мерзавцев? Почему отдавать журнал на откуп ретроградным идеям и бездарным писакам, вроде Валерки? Или записным хулителям и недоброжелателям, вроде Хрулева. Кремнев ни с кем не делился этой мыслью, он ждал, что Денисов раньше или позже придет к ней сам. Однако он понемногу наталкивал Денисова на эту мысль в их идиллических коктебельских беседах, по дороге из столовой или в столовую. Кремнев нащупывал общие пристрастия, общие предубеждения, и, поскольку Денисов все-таки был человек порядочный, они находились без особого труда. В случае же, когда Денисов нес уж что-нибудь из ряда вон допотопное, вроде, скажем, преимуществ романа, написанного бригадиром ударной стройки, перед романом, написанным человеком, чье социальное происхождение сомнительно, а образ жизни небезупречен, Кремнев лишь слегка пожимал плечами, как бы говоря: «Ну, воля ваша, Ермолай Тихонович, позвольте мне сохранить здесь свою, пусть даже несколько смешную и эстетскую, но свою собственную интеллигентскую позицию, раз уж ее подкрепляют примеры Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Чехова, Алексея Толстого и даже Михалкова». Если же Кремнев способен был поддержать хотя бы частично позицию Денисова, он делал это с убежденной искренностью и блеском. В особенности его патриотическую позицию: тут уж что скажешь, все мы патриоты и больше всего на свете любим именно ее, свою родину, со всеми ее бескрайними полями, пригорками, косогорами и рододендронами. Поэтому, пропустив, к примеру, первую часть филиппики Денисова, направленной против мерзавцев, которые печатают свою низкопробную продукцию за границей или находят прок в разнузданных писаниях какого-нибудь Генри Миллера и прочих Набоковых, Кремнев воодушевлялся вдруг второй, позитивной частью его выступления и заявлял:
— Что касается патриотической верности, то здесь уж мы с вами до последнего, так сказать, вздоха, Ермолай Тихоныч: лес, да поле, да плат узорный до бровей. И не просто родина кроткая, а, как было сказано позднее, и я не боюсь повторить это, кипучая, могучая и никем, буквально никем непобедимая…
Как раз сегодня у них произошел подобный разговор, который начался весьма неприятно еще на набережной с упоминания слабой патриотической приверженности некоего национального меньшинства, однако затем перешел на конкретную личность некоего литератора Иртышева, который на днях совершил неблаговидный поступок и покинул страну, вместе с которой голодал и мерз, ради какой-то другой, вместе с которой он не голодал и не мерз, но в которой он, без сомнения, еще узнает, почем фунт лиха, оставшись без помощи союза и Литфонда, без услужливой кассы киностудии, так щедро оплачивавшей его бездарные сценарии, без поддержки товарищей, чутко откликавшихся на его нужды, наконец, даже без поликлиники Литфонда, где он совершенно бесплатно лечил свой геморрой. Вот здесь Кремнев мог очень квалифицированно поддержать Денисова, и даже Субоцкий, присоединившийся к ним возле секретарского корпуса, даже осведомленный Субоцкий слушал его с большим интересом. Кремнев отважно процитировал на этот счет Анненкова, Набокова и Георгия Иванова (отважно, потому что это все-таки были парижские издания, то есть почти самиздат), доказывая, что судьба русского писателя за рубежом будет унизительна и печальна, ибо его читатель остается здесь, на родине, и вообще, это непорядок — уезжать, покидать, бросать, когда все порядочные люди напрягают свои усилия… На каком-то этапе этой длинной и очень убедительной речи, в которую Субоцкому удалось вставить лишь несколько определений, вроде «малодушно» и «не по-мужски», к их группе присоединился еще и четвертый собеседник, которого они вовсе не приглашали, не ждали и вообще видели впервые — небольшой, толстый, бородатый человечек в пенсне и кустарного полотна рубахе до пят, не то шут, не то сумасшедший — в каком-то еще веночке из полыни. Самая речь его была смесью образованности, неведения и крайней наглости, она прозвучала таким диссонансом к их разговору, что они от изумления дали опасную возможность высказаться этому самозваному собеседнику, который черт его знает откуда взялся близ цветущих роз напротив «секретарского» корпуса.
— Да, да, да… — сказал незнакомец звучно и полновесно. — Вспоминаю, как я грезил Коктебелем, находясь в Париже.
(«Это уже что-то похожее на наши путевые очерки, — подумал Кремнев. — Едва отъехали от Бреста, как начали петь „Катюшу“ и нестерпимо тосковать по Родине. И так все десять дней турпоездки…»)
— В первый год еще ничего… — продолжал незнакомец. — Но потом… Все больше и больше… И я понимаю Георгия Иванова. Я знал его лично… И все же мне показалось, господа, что слишком много страсти и нетерпимости высказано было сейчас в связи со столь индивидуальным решением литератора… Помнится, как потом мне хотелось поскорее вырваться из Петербурга — обратно в Париж. Именно для того, чтобы, выехав из России, продолжать служить ей…
«Тоже мне Герцен… С его-то славянофильской внешностью», — неприязненно подумал Кремнев и сказал:
— Служить кому? Где? Как? Слыша вокруг французскую речь? Созерцая Нотр-Дам вместо Кремля и Покрова на Нерли!
Денисов одобрительно хмыкнул: этот Кремнев был острый парнишка, у Валерки ушло бы полдня на сочинение такой фразы, и в результате он бы непременно попутал Покров с Вознесением (сам Денисов был атеист и считал, что все эти Покрова и Богородицы — модная мистическая белиберда).
— Помилуйте… — сказал толстенький незнакомец. — Но ведь это еще у Достоевского было…
При имени Достоевского все они кивнули, а Денисов подумал, что совсем затаскали теперь Достоевского и мало говорят во весь голос о его непростительных идейных ошибках.
— Помните, это в «Подростке», слова Версилова о том, что даже в наше время один лишь русский получил уже способность становиться наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец…
Это уже попахивало чем-то похуже Достоевского, и Денисов ждал, что эти двое сразу ответят начетчику, но они почему-то молчали, вероятно, обкатывали в мозгу столь приятные для них слова Достоевского. И тогда Денисов вступил сам, потому что его-то не могли сбить никакие фразы и фразочки, будь это Достоевский, Пушкин или сам Белинский с Чернышевским.
— По-вашему, значит, такой вот мерзавец Иртышев имеет право на свои поиски, — сказал Денисов. — А то, что революция, можно сказать, вырвала его из черты оседлости, из грязи, дала ему образование, право на труд и на отдых, дала ему счастье, наконец, счастливое детство… Дала ему свободу творчества и свободу печати…
— Да, да, революция… — задумчиво сказал незнакомец, и его задумчивость показала всю шаткость его дилетантских рассуждений на фоне денисовской убежденности. — Мне думается, всему виной был кризис идеи справедливости… Безумие революции было в том, что она хотела восстановить добродетель на земле. А когда хотят насильно сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех…
— И что же, по-вашему, следует делать? — спросил Субоцкий заинтересованно.
— Если уж браться управлять людьми, то не надо терять из виду, что они просто испорченные обезьяны…
«Сам ты обезьяна, — подумал Денисов, брезгливо оглядывая длинную рубаху незнакомца. — Представляю себе, как они распутничают в этих рубахах…»
— Ну а все-таки… Если отвлечься от дешевой мизантропии и вернуться к великому делу революции, — сказал Субоцкий. — Движимой, между прочим, любовью к людям…
«Что значит человек нашего поколения, человек, прошедший войну, — подумал Денисов. — Несмотря на все срывы и шатания мелкого либерализма, он наш, Абрам Евсеич, наш, в одном ряду…»
— Это, может быть, и так, — мягко сказал незнакомец. — Однако из идеальной любви к людям родились инквизиция и религиозные войны… Именно порыв человеколюбия во Франции создал гильотину и террор.
— Ну уж, положим, насчет гильотины — это неуместная шутка, игра в парадоксы, — сказал Субоцкий.
— Нисколько! — сказал незнакомец горячо и даже весело. — Вы сами знаете, сколько страданий испытывали в старину люди, приговоренные к смертной казни, именно из-за неловкости палача или несовершенства орудия казни. Движимый состраданием, доктор Гильотен изобрел свою знаменитую машину казни, введя, таким образом, машинное производство в сферу смерти. Гильотина сделала товар и доступным и дешевым. Без нее было бы не управиться с потоком, так что именно она развязала руки революционному террору…
— Забавно… — начал Кремнев, но тут же поймал на себе презрительный взгляд Денисова и осекся.
— И вы уж поверьте, — продолжал незнакомец добродушно. — От идеальных порывов к зверству — это путь всех революций. Вспомните хотя бы Киприана или Лактанция, предсказывавших еще в третьем веке падение Римской империи, вспомните Казотта и Мирабо-отца…
«Старику Денисову трудновато будет все это вспомнить с его курсами ударников в литературе», — смелея, подумал Кремнев.
— Поверить мы вам погодим, — сурово сказал Денисов. — А ваши Лукреций или Констанций нам не указ… Вы бы поближе держали к нашим нуждам, к России. Вот вы же сами сказали сперва, что революция хотела добиться справедливости, накормить голодных. А следовательно, все, что делалось, так сказать, в этом направлении, было справедливым или правильным, а значит, по вашей устаревшей терминологии, добродетельным. Но истинная добродетель будет достигнута только после окончательной победы. Правильно я говорю?..
— Не только правильно, но и весьма точно, в соответствии с вашими правилами, — сказал охальный незнакомец с неожиданной грустью. — Вот, послушайте… «человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть только голодные. „Накорми, тогда спрашивай с них добродетели!“ — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой…».
— Типичное мракобесие. Ну а дальше-то, дальше? — настаивал Денисов.
— Дальше… — Незнакомец смотрел на Денисова с любопытством. — Есть и дальше… «люди поймут наконец, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собой!». Есть и еще дальше, о том, что вместо свободы люди впали в рабство, а вместо служения братолюбию — в отъединение…
— Некоммуникабельность… — сказал Кремнев.
— Самая мысль о служении человечеству, о братстве все более встречается с насмешкой, ибо куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал?
— Вы что же, отвергаете лозунг «каждому по потребности»? — вяло спросил Денисов, уже утомленный спором.
— И достигли того, — сказал незнакомец, — что вещей накопили больше, а радости стало меньше.
— Это кто же так пророчил? — спросил Субоцкий, мрачнея.
— Некая смесь из Эльзы Триоле и Ортега-и-Гассета, — вставил Кремнев.
— Все тот же Достоевский… — сказал незнакомец.
Они повернули за угол «секретарского» корпуса, услышали близкий шум прибоя, вдохнули полной грудью.
— Много было в мире пессимистических прогнозов, — сказал Субоцкий. — Мало истинных борцов за освобождение народов Европы от коричневой чумы фашизма.
— Вот именно! Это общеизвестные прогнозы современной буржуазной футурологии, которые даже за рубежом… — Кремнев чувствовал, что он оказался не на высоте в этом споре, и спешил восстановить свое с таким трудом созданное реноме. — Ведь этим пророчествам тысячи лет… А между тем необратимые процессы показывают…
— Вот именно, — сказал Денисов. — Вот вам, товарищ паникер, наши молодые люди, теоретически подкованные кадры, с ними вы и поспорьте… Что вы скажете?
— А где же он? — растерянно сказал Субоцкий.
— Нет его…
Кремнев засеменил назад, заглянул за угол, но толстяка в длинной рубахе не было и там.
— Исчез, — растерянно сказал Кремнев. — Я чувствовал, что тут что-то неладное…
— В голове неладное у некоторых молодых людей, — сказал Денисов. — Начитаются черт-те чего… Много мы еще выпускаем такого, чего не нужно.
«А того, чего надобно, нет…» — подумал Кремнев, но строка Северянина его не развеселила.
— Ладно. Пойду вздремну после обеда, — сказал Денисов. — Утомили меня споры-разговоры. А тут все же отпуск, отдых, передых… Общий привет!
— Вы думаете… — сказал Субоцкий, когда они остались вдвоем.
— Да у меня просто сомнения в этом нет, — сказал Кремнев. — Провокатор. Это совершенно ясно. Вот у нас в Ленинграде…
— Отойдем от корпуса, — предложил Субоцкий. — Да. Так что в Ленинграде?
Они помолчали, потому что уже раз пять обсуждали все, что произошло в Ленинграде. И вообще по части информации вряд ли кто мог переплюнуть Субоцкого.
— Значит, вы его тоже не знаете, — упавшим голосом сказал Кремнев.
— Лицо мне как будто знакомо, — сказал Субоцкий. — Попробую до обеда навести справки. Так вы думаете, что это…
Кремнев костяшками пальцев постучал по стволу дерева, так, словно они находились в пределах слышимости, но вне пределов видимости.
— Более того, провокатор, — сказал Кремнев. — Как-нибудь уж мы, ленинградцы…
— Да-а-а… — вздохнул Субоцкий. — Попробую выяснить что-либо. Не прощаюсь.
* * *
Море стало сиреневым, оно темнело все больше и больше. Дети на берегу мирно строили замок. Как назло, и мальчишки на соседней скамье не орали сегодня Высоцкого, а пели что-то очень тихое, про глаза, про какую-то хорошую девочку. И все вместе: нестерпимо нежное коктебельское море, детский лепет на пляже и этот гитарный лепет подростков — надрывало душу Сапожникову. Марина ушла слушать стихи к Евстафенке, она жила очень напряженной интеллектуальной жизнью, а он… Он не писал пейзажей, не делал заказанных ему издательством набросков к Метерлинку, он был скотина, которая только могла терзаться низкими подозрениями, идя при этом навстречу каждой гадости.
Мальчики перестали играть. Они поставили гитару у скамейки, дружелюбно попросили у Сапожникова покурить. Он протянул им сигареты: хотят курить — пусть курят, кто он такой, чтобы их поучать. Знакомый голос вызвал у него дрожь.
— Всегда без спутников, одна….
Он с трудом заставил себя ответить на приветствие Роберта (в конце концов, этот человек не виноват. Сапожников сам виноват, только сам), а Роберт сразу усек его настроение и пошел дальше. «Пошел дальше со своим Блоком… — подумал Сапожников. — А почему, собственно, Блок?»
Он попросил у мальчишек гитару, потрогал струны, тихонечко запел, растравляя себя понемногу:
Я не только не имею права, Я тебя не в силах упрекнуть За мучительный твой, за лукавый, Многим женщинам сужденный путь…— Клевые стихи, — сказал один из мальчишек.
— С размером у него чего-то… хромает размер… — сказал второй.
— Вообще, сопли, — сказал третий.
Вместе ведь по краю, было время, —пел Сапожников, —
Нас водила пагубная страсть, Мы хотели вместе сбросить бремя И лететь, чтобы потом упасть…— У Клячкина лучше, — сказал первый пацан. — Помнишь?
— Время, бремя, стремя… — сказал второй.
— По этой части лучше нет Окуджавы, — сказал третий, но девочка оборвала их:
— Помолчите вы, не мешайте.
Эта прядь — такая золотая, —пел Сапожников, —
Разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, Незабвенная, прости меня!— А ничего, — сказал первый. — Со слезой…
— Есть кое-что, — сказал второй. — Малый не без способностей…
— Нельзя мужчине так унижаться, — сказал третий.
— Так он же ее любит! — воскликнула девочка. — Неужели вы не понимаете?
* * *
С тех пор как он познакомился на пляже с курносой Тонечкой из Ленинграда, день писателя Работяну был заполнен до предела. И это была счастливая заполненность, она не тяготила его. Напротив, впервые за последние годы он почувствовал себя удачливым, сильным, почти здоровым и почти молодым.
Конечно, купание, отдых, массаж, зарядка играли свою роль, но главное было ощущение успеха, умиленность, вероятно, даже любовь, во всяком случае, он готов был — и делал это неоднократно в течение их совместного дня и ночи — поклясться ей в любви. Собственно, Работяну и был молодым, ему недавно перевалило за сорок, однако в последние годы он все чаще чувствовал себя усталым, зато теперь… Каждый день сулил новые радости. Работяну был неистощим на выдумки — они фотографировались, ездили на экскурсии, стреляли в тире, жарили шашлык в горах на костре, без конца отмечали какие-то забытые Богом и людьми празднества в местной «Элладе». И Работяну рассказывал ей занимательные истории о военных приключениях, которые он почерпнул из вполне закрытого архива, работая над новым романом; он рассказывал ей о разных смешных случаях из жизни кишиневского и даже московского литературно-художественного бомонда, иногда также о своих неудачных браках (он был добрый человек, обреченный на семейные неудачи). А Тонечка грела на солнце свою очаровательную курносую мордашку или полную спинку, приглядывала за ребеночком (ребеночек был всегда при них), слушала (или не слушала) его и по-настоящему отдыхала, без всяких этих страстей-мордастей.
Конечно, между ними была неизбежная близость, и она даже подумывала о том, какой он ненавязчивый и приятный мужчина, но никаких сильных потрясений эта связь в ней не вызывала. Несмотря на это, ей приходила иногда в голову очень сумасшедшая мысль о том, что можно было бы даже выйти за него замуж: так он влюбленно и преданно смотрит на нее, так радуется, когда удается ей угодить, так готов на большее, на еще большее, и еще, и еще. Мысль, конечно, вполне сумасшедшая — ни с того ни с сего бросить мужа, развод, ребенок, родители, суд, и все такое, и при этом еще никакого безумства любви, просто так — взять да и сделать, а что, может, как раз в этом и будет ее счастье — вот он говорит, поедем туда, поедем сюда, ребенка отдадим в лучшую что ни на есть школу, буду растить девчонку высоко грамотной и сознательной, а уж винища там у них, в этом Кишиневе, фруктов и винограду, солнышко, не в этом, конечно, счастье, хотя черт его знает, в чем оно, вон с тем, в Москве, любовником, уж такое, казалось, счастье, а все, пых и нету, поминай как звали, муж, конечно, грех жаловаться, он и любит ее, и все, а тоже иногда попросишь о какой-нибудь малости, пускай даже немножко роскошь, пускай перед получкой, не может же молодая женщина все только, что разумно, и никаких, никаких особенных радостей, пока еще она молода и хороша собой, хоть что-нибудь такое, этакое, что-нибудь, нет, только знай — дом, работа и один раз в году отпуск, только и погулять…
Работяну рассказывал, как немцы проводили карательную экспедицию на Днестре, когда она вдруг спросила:
— А если б я вдруг вас какую-нибудь безумную вещь попросила, ну не сейчас, а потом, через много лет, когда бы мы уже пять лет вместе прожили, ну, скажем, чтоб ужаться до получки, перезанять у кого-нибудь и купить дорогое кольцо, например, ну, раз нравится — что бы вы сделали?
Он не сразу справился с недоумением, но ответил убежденно:
— Я бы посмотрел на часы и поспешил…
— На вокзал, подальше…
— Ну что вы, Тонечка, как можно? Я бы поспешил, чтобы успеть в сберкассу и в магазин до закрытия…
Она отчего-то сникла, закрыла глаза.
«Ну да, у них другая жизнь, все по-другому, деньги в сберкассе, можно и не ужимая зарплату, однако у них тоже, наверно, попадаются разные люди, он, видать, мужик добрый, хотя тоже ведь небось — сегодня одно говорит, а что через пять-то лет будет, еще неизвестно, поживем — увидим. Хотя похоже, что и тут с ним приедается, а там-то уж, в Молдавии, чего нового ждать, только что уже будет, а уж лучшее все было, все прошло. Зато тут сразу — гранд-дама, переезжаем в Литфонд, а вообще-то, что она им всем дурного сделала, мужикам, почему же ее не любить, кажется, и собой недурна, и все, и много ли женщине нужно, отнесись ты ко мне по-человечески, и я к тебе буду по-человечески, и любить, и все что надо…»
После обеда они катались на пароходике, а на ужин не пошли, потому что решили прямо тут у причала закусить шашлыком, а потом все трое взялись за руки и бегом к нему в коттедж, чтобы положить девочку спать и в кино успеть, а после кино еще так хорошо, так по-человечески посидели в ресторане, выпили, он что-то там бурчал-журчал про ихние литературно-издательские дела, тоже им, беднягам, несладко приходится, всегда почему-то нельзя писать, чего хотят, а чего можно, они не очень хотят, хотя за такие деньги, да если еще дома сидишь, да все услуги тебе и почет, можно бы уж постараться, писать что положено, она ему это сказала один раз на пляже, и он погладил ее по голове, сказал, что она умница, он и сам часто так думает, однако сердцу не прикажешь. На это она ему сказала, что для сердца есть посерьезнее занятия, чем какие-то партизаны, которых он сроду не видел, и он с ней согласился, странное дело, что мужчины, даже вот, казалось бы, человек умный, начитанный, всегда они нуждаются, чтоб им подсказали простые вещи — как им жить, они словно бы это ждут от тебя…
А он подумал, что вот, его случай, его шанс в жизни, так ему хорошо и легко, так хочется жить и работать, разрубить все узлы, взвалить на себя все тяжести, радовать ее, одеть, как куколку, повезти на совещание в Алма-Ату к братским казахским писателям, показать горный каток «Медео», потом Ялту весной, ялтинский дом на зеленом Дарсане, на Днестровском лимане пожить, на Дунае… Так заполнится его дом и залечатся все раны… И его второй, третий романы о войне выстроятся в стройную трилогию, где будет много, ой как много правды о горьком времени, всего не вычеркнут, кое-что проскочит такого, что может подсказать внимательному читателю, что не одни литавры на войне, а также горечь поражений и неурядицы, связанные со злоупотреблениями времен культа, потому что он, Работяну, по-настоящему честный и прогрессивный писатель, он делает хорошие, добротные книги, которые не только в современной молдавской прозе, но и во всей многонациональной советской литературе…
* * *
— Я выяснил, — сказал Субоцкий, — никто не знает его лично. Между тем он уже появлялся среди наших. И вел, надо сказать, довольно странные разговоры…
— У меня нет сомнений, — сказал Кремнев. — Поверьте чутью ленинградца…
— Да, многострадальный город… — кивнул Субоцкий. Подошел Работяну, и они с чувством пожали ему руку.
Это был порядочный человек. Может быть, романы его были лишены блеска, но он был человек неторопливый, обстоятельный, по-своему честный — не обидно, когда успех выпадает на долю такого труженика и такого порядочного человека, как Работяну. Кремнев подумал, что вот — еще одна фигура, о которой можно писать, не теряя самоуважения, писать подробно, писать с чувством и блеском (писать и при этом печатать, потому что любой журнал возьмет, им это нужно).
— Мы тут делились мнениями об одном негодяе, — сказал Субоцкий. — Весьма скользкий тип… Трется среди писателей, подбивает на разговоры.
Работяну понимающе кивнул, и все четверо ощутили теплое чувство солидарности.
— Набить морду, и все дела, — сказал Евстафенко. Субоцкий и Кремнев любовно посмотрели на Евстафенку: с него станется, и ему это сойдет с рук — бездна в нем, что ни говори, обаяния.
— Все-таки надо его проверить, — сказал Субоцкий.
— Это проще простого, — сказал Евстафенко. — Заговорите с ним о литературе, и вы сразу увидите, чего он хочет. Никогда еще литература не была так близка к передовой линии борьбы, как сегодня.
— Да это нам проще простого, — сказал Субоцкий. — О чем мы еще здесь говорим? Как, кстати, ваш последний роман, Спиридон Ионыч?
Работяну заговорил с такой обстоятельной серьезностью, как будто он выступал с творческим отчетом перед большой и терпеливой аудиторией.
— Вторая и третья часть трилогии должны отразить развертывание Гражданской войны, перерастание войны в поистине общенародную. Подвиг народа, подвиг простого человека будет по-прежнему на первом плане, описания военных операций вытесняются здесь описанием взаимоотношений среднего командного и старшего командного звена…
— Очень интересно, — сказал Субоцкий. — Не забудьте отразить роль института комиссаров…
— Абрам Евсеич у нас знаменитый боевой комиссар, — вставил покровительственно Кремнев (честно говоря, он считал, что дело писателя творить, а что уж там на каком плане оказалось — разберет критика — она все же и образованней и умнее).
— Спад этого института, отмена славного имени, а потом офицеры, погоны… — это все тоже будет? — спросил Евстафенко.
— Без сомнения, будет прочитываться в контексте… Впрочем, в контексте, вполне понятном посвященному, — сказал Работяну. — Реализм и правда жизни прежде всего. Если этого нет, я не знаю, зачем бы я стал писать? Реализм — надежда и основа…
— Вот уж и напрасно вы так полагаетесь на реализм!
Кремнев и Субоцкий обернулись одновременно.
Конечно же это был он, тот самый, толстенький, мерзкий, в пенсне. Да кто, кроме него, отважился бы городить здесь подобную чушь? Или отважился разгуливать в рубахе до пят?
— А что же, простите, вы хотели бы предложить нашей литературе взамен? — спросил Кремнев и взглянул на Субоцкого многозначительно.
Работяну перехватил этот взгляд, улыбнулся уголками рта, показывая, что он тоже все понял.
— Реализм, реализм и реализм! — воскликнул незнакомец в пенсне, явно уклоняясь от прямого вопроса, предложенного Кремневым. — Я думаю, что именно реализму минувшего века в русской литературе мы были обязаны тем, что ужасы японской войны осуществились.
— Что? Что? — У Кремнева дух захватило от этой наглой абракадабры.
— А как вы думаете? За насилие над мечтой всегда приходится расплачиваться. В течение минувшего столетия только Гоголь и Достоевский входили в область мечты — и кто знает, какие ужасы в начале восьмидесятых годов остались благодаря им неосуществленными!
— Любопытно! — сказал Евстафенко.
— А вы не перемудрили, голубчик? — спросил Работяну. Кремнев сделал ему страшные глаза, но Работяну был человек добрый. Он смотрел на этого кудрявого толстяка в пенсне, и ему казалось, что это просто путаник-неудачник, вернее всего, переводчик какой-нибудь или поэт, у которого за всю жизнь пошло три стиха в журнале «Семья и школа». И, как всегда с ним случалось, Работяну был наказан за свою доброту.
— Что же тут сложного! — снисходительно усмехнулся толстяк. — Эпохи ужасов и зверств всегда следуют за эпохами упадка фантазии и бессилия мечты. Возможные ужасы революции тысяча восемьсот сорок восьмого года были предотвращены романтизмом и политическими утопиями. И если вы помните, жестокая французская революция последовала за восемнадцатым веком, а коммуна за Флобером и Гонкурами…
Кремнев слушал с любопытством, перебирая в уме контраргументы, которые были бы приемлемыми для публикации и в то же время убедительными и эффектными. Именно поэтому он не обратил внимания на знаки, которые подавал ему Субоцкий. Эти знаки заметил Работяну и, сделав вид, что он утомлен стоячей беседой, присел на скамью в отдалении. Впрочем, незнакомца совсем не смутило столь странное отступление его главного оппонента, и он продолжал с задором:
— Если же были виновные в Первой русской войне, то это, конечно, Лев Толстой, не одно поколение заморозивший своей рациональной моралью, и марксизм, оскопивший фантазию многих и многих русских…
При этом ошеломляющем сообщении Кремнев взглянул наконец на Субоцкого и понял знаки, которые тот ему посылал всеми наличными средствами. Они значили, что слушать всю эту белиберду и небезопасно и неприлично. В конце концов, они были здесь не одни, иди потом доказывай, что ты слушал все это с неодобрением… Кремнев сделал вид, что у него срочное дело к Субоцкому, и они стали отходить боком, а потом, прихватив по дороге Работяну, почти побежали к столовой.
Евстафенко остался один на один с кудрявым толстяком.
— Понимаешь, старик, — сказал Евстафенко. — Ты интересно говорил. И пойми меня, я тоже со многим не согласен. Много еще у нас недостатков. Столько бюрократов. Волком хочется выгрызать бюрократизм. Много волокиты. И если я вижу неполадки, я, поэт, в ответе за многое… Ты же видишь, я не боюсь говорить открыто… Сейчас другие времена. И я говорю…
— Нет, нет… — Кудрявый толстяк растерянно потер лоб. — Я, конечно, благодарен вам, что вы не сбежали…
— Ты на них не обижайся, старик. — Евстафенко добродушно потрепал Волошина по толстому загривку. — Они просто-напросто решили, что ты провокатор… Тебе этого не понять…
— Нет, отчего же, — сказал Волошин. — Можно себе представить… Распаленное воображение истинного художника…
— Но ты же видишь, старик, я не удрал… Я все понял… Я как-никак тоже поэт… И не последний у нас поэт, если ты интересовался… — Это была блистательная демонстрация истинной простоты и величия. Но странный толстячок был озабочен чем-то другим:
— Нет, я все-таки не могу понять… Того, что вы сказали о несогласии. О бюрократах. Какие-то мелочи, вы простите, пустяки какие-то… Да вы же поэт, вы пророк… Где пророчества? Где глагол?.. Где жало змеи? Какие-то счеты с чиновниками. С какими-то бюрократами?
— Да вы-то сами, можно подумать… — начал Евстафенко обиженно.
— О, нас мало сечь, вы правы. И все же… Все же мы пророчили. Мы предупреждали. Вот это хотя бы: «Уж занавес дрожит перед началом драмы…» А теперь ваше время, голубчик… Нет, нет, ваш упрек правомерен отчасти, и все же… Я вспоминаю. Вот это, например…
— Ну почитай, старик, почитай, — сказал Евстафенко добродушно и даже нежно трогая Волошина за плечо. — Я ведь вижу, старый, хочется тебе почитать. Всем хочется. Все хотят мне читать — такой уж у меня здесь проклятый отдых…
И Волошин не совладал с собой, не смог уйти гордо.
Он обтянул рубаху, как тогу, поправил веночек из полыни и стал читать, нарушая послеобеденный кайф набережной близ писательской столовки:
Народу русскому — я скорбный ангел мщенья! Я в раны черные — в распаханную новь Кидаю семена. Прошли века терпенья, И голос мой — набат. Хоругвь моя как кровь. Я камни закляну заклятьем вечной жажды, И кровь за кровь без меры потечет.— Папа! — кричал Аркаша. — Папа! Смотри, вулканическая бомба! Вулканический пепел…
Накануне Сапожников целый вечер рассказывал детям про кальдеру Узона, про камчатские вулканы и их остывшие кратеры, про древний вулкан Карадага, и вот теперь Аркаша повсюду искал следы вулкана. Он больше не вспоминал про ведущую роль кинематографа в обществе. Он придумал себе игру: он был олененок, он обгладывал ветки, он терся лбом о землю, потому что у него прорезались рожки.
— Да, конечно, ты олененок, ты мой милый олешек, мой глупый, мой худенький, мой легкий, мой стройный…
Аркаша побежал, смешно подпрыгивая, у него была дедова походка — как у отца Холодкова.
«А я старый олень, — подумал Холодков. — И голова моя была много лет украшена ветвистыми рогами. Теперь я пытаюсь сбросить рога…»
Он усмехнулся. Мысль эта не вызвала у него былой горечи. Он пошел по тропке в ту сторону, где прятался Аркаша, и заметил вдруг, что и сам он как-то странно держит голову — то откидывая назад, то пригибая совсем низко, то чуть набок, — свою старую голову, отягощенную рогами. И тогда он понял, что он и есть олень, старый олень в горном лесу. И звери, и птицы, и мошки давно видят, что он олень, только он не замечал этого, но вот, слава Богу, заметил, ощутил и почувствовал, как сильно и подвижно его огромное тело. Он вдруг ринулся через кусты, ища своего олененка. Сейчас он найдет его и лизнет в голову, и они побегут рядом, и пусть будет ночь, будет день, и ничего не должно меняться, ничего не может измениться…
Рядом послышался треск, и он вскинул голову, явственно ощутив при этом, как тяжелые рога потянули ее назад. Он увидел человека в длинной рубахе, кудрявого, бородатого, приземистого. Человек этот шел, низко пригнув голову, весомо, но без напряжения ступая по земле толстыми босыми ногами. И тогда Холодков понял, что человек этот тоже ощущает себя наедине и воедино с горами: может, он был горный баран или круторогий бык. Во всяком случае, так воспринимал его Холодков-олень и так воспринимали его горы. Все в Холодкове переполнилось ликованием из-за этого открытия, а может быть, пускай — это была игра, но игра эта принесла ему сейчас огромное облегчение. Собственная человеческая судьба становилась безразличной, время облетало, как мартовская шелуха березы, как дорожная пыль, как прошлогодние листья; жизнь и смерть становились естественными, больше не нависали над сегодняшним днем, и сегодняшний день сам растворялся в череде дней…
Человек-бык остановился, стряхивая с себя наваждение бычьей грации, и поздоровался с Холодковым, все еще сбычившись, глядя исподлобья.
— Я видел, как вы шли по склону через кусты… — сказал незнакомец. — У вас было чувство… первого воплощения, первого рождения… Неправда ли, это дает радость?
— Да, пожалуй… — сказал Холодков осторожно и обвел взглядом сияющий горизонт, рыбацкие поплавки на море, густую синеву бухты. — И все же… несмотря на этот радостный разгул красок.
— Что ж, — сказал незнакомец смиренно. — Коктебель всегда был для меня горек и печален. Когда я сюда приезжал, будущее казалось непроницаемым. Однако каждый раз в этой горькой купели рождались новые ростки, новая жизнь. Для меня жизнь — радость. Я и страдание включаю в понятие радости.
— Я думаю, что это скорей — море страдания, в котором нам выпадают радости, — сказал Холодков. — Радость труда, радость отцовства. И другие радости, помельче…
Незнакомец взглянул на Холодкова так искренне и открыто, что Холодков не смог промолчать, несмотря на желание подольше оставаться в дружеских отношениях с этим вот круторогим чудаком.
— Да, женщины… — сказал он. — Разные женщины…
— У меня с этим трудно… — сказал незнакомец. Он снова сбычился, наклонил голову, и пенсне свалилось в траву. — У меня трудно… Я все делаю невпопад. У них со мной опускаются руки… А у меня трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда я духом близок к ней — то я не могу ее коснуться… мне это кажется кощунством… И вот наступает сближение — тогда конец всему… Тем не менее я считаю пол, секс основой жизни…
— Вы тоже? Почему?
— Как почему? Это живой осязательный нерв, связывающей нас с вечным источником жизни. Это мост между нами и тайной. Это та сила, которая, скопленная, дает нам возможность взвиться…
— Значит, расходуя ее, мы наносим ущерб своему творчеству? — сказал Холодков. — Это вот и смущает меня, мучит. Я знал многих, кто ушел в сферу чистого пола и пустопорожних разговоров.
— Несомненно, есть два выхода, — сказал круторогий, — создание человека или создание произведения искусства. Конечно, художник должен быть воздержным… Ведь пол — замыкание духа в веществе, угасание, дробление в потомстве. Эрос — преодоление земной страсти, просветление материи. Великий животный ритм, находящий выход в деторождении, художник должен перевести в более высокую область — в сознательное творчество…
Заметив кривую усмешку Холодкова, незнакомец продолжал с еще большей страстью:
— Ну конечно. Конечно… Пути Эроса были указаны Платоном, вернее, они те же: от красоты женского тела — к красоте человеческого тела вообще, от прекрасных тел — к прекрасным деяниям, от деяний к знаниям — к созерцанию Вечной Красоты…
— Я ведь и не пытался отстаивать порок, — сказал Холодков. — Напротив, я понимаю…
— А что такое порок? — с горячностью возразил незнакомец. — В конце концов, Порок и Добродетель лишь два вида человеческого огня, в котором сгорает физическая природа человека. А перед лицом Эроса пламя аскетизма и пламя сладострастия одинаково святы… Да, да, не усмехайтесь так горько. Более того, путь порока — более мучительный и трудный — он прямее и быстрее приводит к освобождению от похоти, к слиянию с Божеством…
— Дилетантское суждение, — сказал Холодков. — Порок рождает желание грешить еще больше… А ваш набор парадоксов — это еще не литература. Это журналистика. Вот когда вы тут же, у них на глазах делаете им шашлык из собственного мяса, паштет из собственной печени, подаете свое бедное сердце, маринованное в тоске, и злобе, и горечи, крошите на селедочницу свои нервы — это и есть искусство.
— Да, да. Может быть. Если это без посредников, сразу перед толпой — это театр. А в слове — это литература. Но только это будет все же не высший род искусства, нет… Вот потом, когда все устоится, страстность ваша преломится в идею, уйдет в подсознание… когда родится чистый кристалл мысли и чувства, кристалл, выращенный в душе, вот тогда… Тогда можно будет говорить об уровне…
— Уровень, качество… — сказал Холодков. — Вам хорошо было говорить об уровне и качестве. Среди ваших журналов, среди ваших издателей, ваших ценителей-эстетов… Кому нужно мое качество? С кем я должен соревноваться? Кто покупает качество? Кто его требует? Я не против. Я тоже за кристалл, выращенный в душе. За уровень мысли. За уровень слова…
— Да, да, да! — вскричал незнакомец. — Тогда это будет истинное дитя искусства!
— Дитя? — сказал Холодков и посмотрел на часы. — Дитя… Сколько мы разговариваем? Час? Год? Полчаса?
Он повернулся и побежал дальше по тропке, тревожно трубя:
— Аркаша! Ар-ка-ша…
Страх объял его душу. А где же Аркаша? Куда он мог уйти? Кругом был Карадаг, коварные уступы, обрывы, щели. Может быть, и змеи тоже…
— Ар-ка-а-ша… Ар-ка-ша! О-ле-не-нок? Зай-чонок!
Может, он прячется где-то совсем рядом, это ведь такая прекрасная игра — спрятаться рядом и видеть, как папа ищет, слышать, как он кричит. И не понимать, отчего он хрипит, отчего прерывается папин голос…
А если он потерялся, пропал, пропал насовсем… Впервые в жизни Холодков познал настоящий страх, истинный страх, ощутил дыхание настоящей трагедии. Он не мог допустить этого, не мог смириться с этим, он побежал, задохнулся, сел на каменистый склон — маленький, бунтующий человек в ослеплении горя… Все, что он переживал когда-либо до сих пор, о чем говорил долгие годы жизни, что делал при свете солнца и в ночи, — все было несущественным и ничтожным перед этой вот страшной угрозой… Холодков прижался щекой к острому, холодному камню и тут вдруг увидел Аркашу. Мальчик стоял на тропке за уступом и глядел на баранов, сбившихся в кучу у озерка.
Холодков не тронулся с места, не крикнул — он смотрел и смотрел на мальчика, слушал неровный, разнузданный ход своего сердца. Красный закат озарил край неба, поднимался ветер. Холодков вспомнил незнакомца, которого бросил посреди разговора, припомнил вдруг его торжественный патетический стих, придуманный, вероятно, здесь, на этом склоне, во всяком случае, в этих горах:
Над горестной землей — пустынною и стройной — Больной прерывистым дыханием ветров, Безумной полднями, облитой кровью темной — Закланных вечеров…Холодков с сыном молча спускались с пологого склона Кок-Кая. Мальчик устал, и Холодков взял его на руки. Стихи еще звучали в его душе, когда внизу, на набережной, у писательской столовки и на туристской танцверанде вспыхнули электрические лампочки…
И стали видимы средь сумеречной сини Все знаки скрытые, лежащие окрест: И письмена дорог, начертанных в пустыне, И в небе числа звезд.Марина выступала в зимнем клубе Дома творчества. Она имела успех. Сам Евстафенко представил ее вначале как молодую и очень талантливую поэтессу. Поэтому все пошло как надо: публика не придиралась к свободной рифме, а понимала, что ей дают то, что теперь положено и в чем она сама вряд ли сможет когда-нибудь разобраться. Зато детские стихи по контрасту воспринимались легко и свободно. «Очень мило», — говорили все, даже самые занудные старики, попробовали бы они сказать, что им это немило после того, как сам Евстафенко…
Сапожников сидел в первом ряду и вспоминал самое первое ее выступление, которое он организовал в клубе домоуправления в Москве, еще в старом доме, когда у них не было своей квартиры: Боже, сколько было тогда волнений, сколько он носился по этажам, собирая свободных стариков и старух, непослушных детей, дружественных соседей и друзей-художников. И вот теперь: весь поэтический бомонд, весь Коктебель — это все равно что московский ЦДЛ… Она была очень хороша сегодня, краснела, смущалась, как девочка, говорила тихо и мило пришепетывала. И это, конечно, очень благородно со стороны Евстафенко, правду говорит Марина: зачем ему быть завистливым, если он сам талантлив.
После вечера, цветов, триумфа и скромной выпивки на терраске, после того, как разошлись гости, они объяснились наконец. Она рассказала ему, какое это было для нее испытание — первый раз в Коктебеле, первый раз среди профессиональных литераторов: она выдержала экзамен, но видит Бог, скольких сил это ей стоило, ведь Глебка был с ней, Глебка и Глебка, ни одной полноценной ночи, бессонница, ребенок, мигрени… Если бы он (она знает его благородство) дал ей сейчас хоть неделю побыть одной, отдохнуть где-нибудь, где угодно, хотя бы в этом самом Коктебеле, хотя, признаться, ей уже стало здесь надоедать, впрочем, может, все-таки лучше здесь, потому что Инга Денисова и Наташа Вершинина уже договорились с директором, что ей предоставят комнатку и питание. Она произносила все эти знаменитые имена запросто, это были ее подружки, и это должно было произвести впечатление: если уж Сапожников не считается с ее мнением, он не может не прислушаться к тому, что говорят они. Нет, почему же он не считается, он считается, он все понимает, он ей сочувствует, и он жалеет ее, потому что он… Она подошла к нему, обняла его за шею и сказала, что она знает, как он любит ее, и никогда не сомневалась ни в его любви, ни в его доброте, ни в том, что он разрешит ей неделю, хотя бы неделю в году побыть одной, отдохнуть по-настоящему, посочинять, наконец, в этой по-настоящему творческой атмосфере. Он прижался губами к ее руке и не сказал ничего из всего, что он готовил так долго, что собирался сказать — что Глебка вовсе не такой тяжелый мальчик, что она отдыхает здесь уже второй месяц, что ему неприятно совпадение, в результате которого она останется с Евстафенко, ровно неделю, до конца его срока… Он ничего не сказал, но она поняла, что ей придется поговорить с ним еще раз, более решительно.
— Ну что ж, — сказала она. — Ну что ж… Воля ваша.
Она, впрочем, не сомневалась в успехе предстоящих переговоров.
Когда же наконец все решилось окончательно, Сапожникову и самому стало легче. Они поехали с Мариной в Феодосию, чтобы обменять билеты, и теперь все было ясно для него. Да, он уедет с Глебкой, а она отдохнет немного, потому что она устала и много перенесла, бедная девочка, и он добавил ей своими подозрениями, метаниями. Она еще не знает про ту страшную ночь, про дачу Роберта… Нет, этого не узнает никто, такое невозможно рассказать женщине, да, пожалуй, и мужчине тоже…
Обменяв билет, они погуляли немного по феодосийским улочкам. Сапожников вспомнил рассказ бородатого толстяка Волошина о том, что здесь в его школьные годы еще было много генуэзских, или, как тут говорили тогда на итальянский манер, «женовесских», фамилий, были итальянские вывески, слышалась итальянская речь, а закончив школу, многие соученики Волошина ехали за дальнейшей ученостью не в Петербург, а в Падую или Геную. Сейчас, глядя на еще уцелевшие кое-где греческие и татарские дома, Сапожников вдруг переставал замечать на них новые вывески «ЖЭК», «Агитпункт», «Снайперская» и «Профсоюзная», с легкостью перемещаясь на старинную портовую улицу… Ощущение этой портовой легкости и праздничности усилилось после того, как они с Мариной съели на улице шашлык; а потом сели в открытом кафе, откуда видны были синяя чаша залива и порт… Корабли уходили в далекий путь. Где-то были Марсель, Константинополь, Багдад.
— Багдад, — сказал Сапожников. — Багдад. Халиф. Базар.
— Бремберг был в Багдаде в командировке, — сказала Марина. — Это было замечательно. Его два приятеля из посольства предоставили ему машину, и он целый день гонял на машине… Даже на двух машинах. На синем «фиате» и голубом «фиате»…
Сапожников не слушал, что говорит Марина, он глядел на нее. Она была хороша в этом стареньком белом платьице, все так же хороша, лучше всех женщин… Багдад, думал он, Константинополь, целый свет без конца и края, без границ и берегов… И вдруг он почувствовал, впервые почувствовал, что свет ему не по плечу, не по силам — все эти хлопоты, унижения, тяжесть перемен и ответственности. Он почувствовал, что он недостаточно молод для этого, недостаточно подвижен. Да и что там будет нового? Он уже видел Хиву. Видел Бухару. Ну, Багдад… Он увидит еще одну пустыню и еще одно море. А городов он не любит. Нет, нет, не по вам и не по вкусу. Сапожников глотнул холодной газированной воды из стакана, набрал мороженого в ложечку и пожалел, что так быстро в этой сладости потонул горелый привкус шашлыка, исчез горький привкус его беды. Потом он вспомнил чьи-то стихи:
Здесь можно плыть до Смирны и Багдада, Но трудно плыть… А звезды всюду те же.У него не возникло никаких ассоциаций. С тех пор как маленький психоневролог вовлек их в эту дьявольскую игру со временем, они здесь словно перестали смотреть на часы и календари. Они перестали вспоминать. Может, поэтому его не потревожила мысль о том, что ровно полвека назад в этой самой кофейне (вероятно, не имевшей тогда гордой вывески «Отдых») сидел маленький, горбоносый, тщедушный и самоуверенно сильный человечек. Он сочинил эти слова о том, что звезды всюду те же. Он думал о равнодушии неба, которое над нами. И правда ведь, должен был пройти еще добрый десяток лет, а то и полтора десятка, чтобы он раскаялся в этих словах, когда звезды посыпались градом и небо показалось ему с овчинку. Но что нам чужой опыт и чужие страдания?
— Представляешь: день на синем «фиате», а день на голубом? — сказала Марина.
— Да, да, синий, голубой… Кок — это синий. Или голубой. Коктебель. У синих скал…
В садике возле кактусов Денисов читал «Новое время». Кремнев, наблюдая за ним из глубины своей террасы, глодал черешню.
«Что он там вычитывает? — думал Кремнев лениво и отважно. — Все-таки он кретин, что ни говори…»
— Нет, что ни говори… — громко сказал Денисов. — Капиталисты наглеют с каждым днем. Акции нефтяной компании «Шелл» выросли на полтора процента. В то же время жизненный уровень в Америке опять упал.
«Кого он это просвещает?» — подумал Кремнев, и почти тотчас за стенкой, на денисовской веранде, раздался гнусавый и бойкий голос жены Денисова:
— Тебе бы их уровень, идиот! Мне бы не пришлось перед спекулянткой из-за курточки увиваться. И одалживать бы не бегала…
«Довольно разумные возражения, — подумал Кремнев. — Только отчего ж она его так… Все-таки главный редактор, член редколлегии, кажется, даже член коллегии…»
Денисов не ответил. Вероятно, он привык к такому ведению дискуссии. Он спрятался за «Новое время» — там были приятные ему откровения, там была привычная информация, там были авторы, выступавшие вместе с ним в одной шеренге борцов за лучшее распределение благ на земле. Их, как и его, возмущали новые происки, новые сговоры, чужие сверхприбыли и чужая монополия, они выступали за свободу слова для Греции, за свободу собраний для Португалии, за легальное существование многопартийной системы в Чили, против повышения цен на масло в Южно-Африканском Союзе… Суровые домашние невзгоды не могли заставить Денисова предать дело, которому он так честно служил всю свою жизнь. Тем более что дело это продолжало свое победоносное шествие по земле — вот уже и кубинский негр, и китайский кули, и палестинский партизан… С кули, впрочем, дело обстояло сейчас сложно, а партизаны, пожалуй, иногда хватали за край, совершая подвиги столь страшные, что при общей их правильной линии это не могло не встревожить мировую общественность, которая, впрочем, понимает, что иначе эти бедные люди, и так далее…
«Да, тяжкая у него жизнь», — подумал Кремнев и поднял взгляд на свою большую, умную и красивую русскую жену. Она улыбнулась ему понимающе и сказала:
— Устала твоя зайка. Ты ведь напишешь за меня главочку, пупсик?
Кремнев подумал, какое это все-таки счастье, иметь жену-единомышленницу, жену-друга. Конечно, он напишет за нее эту несчастную главу для научного сборника, только придется отложить Работяну. Он уже придумал, как будет начинаться статья о Работяну, он придумал для себя образ этого скромного, порядочного, работящего писателя, который так близок к своему народу и животрепещущим задачам современности, жаль, что романы его оказались еще нуднее и примитивнее, чем ожидал Кремнев. Боже, они пишут там у себя, как будто не было до них литературы, не было Толстого, Достоевского или Гоголя (впрочем, у молдаван, наверно, и не было), не было изощренных англичан, сумасшедших американцев, фантастических скандинавов, великих, средних и малых французов, не было всех этих томов, целых полок великолепных романов. Неужели маленькие литературы должны все начинать сначала? И как перекинуть мостик от этого Работяну к уровню мировой литературы? «Мое дело было писать, — скажет такой Работяну. — Ваше дело перекидывать мостик…» А ты сиди и перекидывай.
— Ты считаешь, что, если ты не ответил, значит, ты победил в споре. — Гнусавый голос денисовской жены раздался совсем рядом, за стенкой: Боже, чего она хочет от старика и что у нее за голос, кто она? Вероятно, парикмахерша, и отчего он не запустит в нее чем-нибудь тяжелым?
— Тебе просто сказать нечего… Потому что они там все на «роллс-ройсах», да и эти, гляди, на машинах, а ты за свои триста жопу рвешь.
— Я верен своим убеждениям. — Голос Денисова дрогнул от унижения.
— Что это за убеждения такие? — Жена брала его за горло, и голос у нее становился все наглее и гнусавее. — И если это такие хорошие убеждения, то отчего же ты мне ничего не можешь доказать? Еще берется на Америку нападать. Да вам до Америки…
«Лучше всего уйти потихоньку, — подумал Кремнев. — Я закрою дверь и опушу шторы как будто нас нет дома, он подумает, что нас нет дома и что это очень тактично с нашей стороны. Впрочем, если он по-настоящему подумает, что нас нет дома, то как же он поймет, что это тактично…»
— Вот тебе последний номер журнала «Америка», на, взгляни, сам же мне достал… — гнусавила жена Денисова. — Теперь давай посчитаем — твои триста и их триста…
«Господи, как разнообразна человеческая неудача, — подумал Кремнев. — Ведь никогда не подумаешь, глядя на него… И какой я все-таки счастливый человек, что я женат на моей жене…»
— Это наконец произошло? — спросил Холодков. Он даже не повернулся к Волошину. Просто почувствовал его присутствие рядом с собой на пляжной скамье под навесом. Днем здесь грудились, громоздились тела, сейчас было одиноко и отчего-то жутко. Лунная дорожка протянулась по морю до самой скамьи.
— Да, это произошло, — сказал Волошин грустно. — И это было, как всегда… ужасно… Вот. Я написал стихи. «И был наш день одна сплошная рана. И вечер стал запекшаяся кровь…»
— Да. Страшно… — сказал Холодков. — Однако пока я мало что понял.
— Я написал целый венок сонетов, — сказал Волошин.
— О-о-о… — Холодков улыбнулся в темноте. — Тогда наши дела неплохи. Раз еще пишется… Почитайте, пожалуйста. Мне нравятся ваши стихи…
В нас тлеет боль внежизненных обид. Изгнанники, скитальцы и поэты!Голос Волошина то утопал в аккомпанементе прибоя, то покрывал его… «О Боже, как все красиво, — подумал Холодков. — И как жалко себя. И как хочется пожалеть себя, оправдать свою неловкость. Или наоборот, свою ловкость».
Кому земля — священный край изгнанья, Кто видит сны и помнит имена, Тому в любви не радость встреч дана, А темные восторги расставанья!Потом голос Волошина смолк, и Холодков почувствовал, что его больше нет рядом. «Надо идти — посмотреть, как там Аркашка спит, лапа моя… Кто видит сны и помнит имена… Аркашка — вот кто видит сны и помнит все имена, а я уже, наверное, нет. Вот лет двадцать тому назад, даже пятнадцать…»
* * *
— Давно пора воспеть Скобелева, — сказал Хрулев. — Негоже нам забывать национальных героев. Так ведь можно все самое ценное, самое национальное растерять по дороге. И останемся с одними выродками, формалистами, космополитами, фиглярами, дутыми гениями, разными Мейерхольдами, Эйзенштейнами, с этими перепевами западной цивилизации. Да что там за культура такая, что она выше восточной себя ставит?
— Что да, то да! — сказал туркменский поэт.
— Подобная мысль приходила мне в Средней Азии… — сказал Волошин.
— В Средней? — оживился туркменский поэт.
— Я тогда еще подумал — вот оно, варварская цивилизация, направленная на увеличение потребностей, ставит себя выше той, которая хочет эти потребности ограничить до минимума. Так почему она, эта новая цивилизация стяжания, ставит себя выше древней цивилизации, которая…
— Так-то оно так, — перебил Хрулев. — Но почему, извините, это пришло вам в голову в Средней Азии? Очень средняя Азия.
— Это было в Туркмении. В Геок-Тепе. Я увидел жалкие глинобитные стены этой столь прославленной крепости. Я вспомнил жалкие кремневые ружья, которыми были вооружены туркмены. И я подумал о «славе Скобелева», захватившего крепость и перебившего туркмен. Какая ирония в этих усилиях прогресса…
Хрулев сердито хмыкнул, повернулся и пошел прочь.
— Ладно, мне спать пора… — сказал он, уходя. — А с вашей ахинеи я долго не усну…
— Я тоже часто людям говорю, — сказал туркменский поэт. — Все есть на Востоке, все, что мне надо. Ведь не случайно какой сейчас самый крупный в мире писатель прозы?
— Какой? — спросил Волошин.
— Чингиз Айтматов! — восторженно сказал туркменский поэт. — Его перевели на французский, на английский язык, даже на колумбийский язык…
— Не читал… — Волошин смущенно пожал плечами. — Боюсь, я сильно отстал. И я вовсе не хотел бы навязывать вам свой вкус и свой опыт…
— Ну что вы, — сказал молодой туркменский поэт. — Вы человек интересный. Про вас даже сам Денисов с Субоцким вчера поспорили на пляже. Денисов сказал, что у вас много заблуждений, однако нам нужны такие грамотные работники литературы…
— А этот, как его, Субоцкий, он что сказал? — вяло поинтересовался Волошин.
— Черт-те что… — Туркменский поэт потупился.
Волошин понял, что разговор зашел в тупик, и попробовал начать все сначала.
— Понимаете… Я пришел к тому, что стал искать истину других цивилизаций. Однако начинать можно в Европе. Мы начинали именно так — динамит библиотек, сумасшедшие тромбы идей и учений, золотые ковчеги религий, отстоянный яд книг и музеев… А уже потом, познав европейскую культуру в первом источнике, отбросив все европейское и оставив одно человеческое, мы отправлялись искать истину в Индии, в Китае…
Туркменский поэт потеребил курчавую шевелюру.
— Знаете, как наш старшина в армии говорил?
— Нет, — сказал Волошин заинтересованно.
— Где уж нам уж выходить замуж, — сказал поэт с сильным туркменско-украинским акцентом.
— Вам? — сказал Волошин растерянно. — Замуж?
* * *
Холодков сидел на терраске, увитой глициниями и туберозами, при свете маленькой лампочки. В открытую дверь комнаты было слышно, как мирно посапывал Аркаша. Перед сном он требовал новую песню, и Холодков, давно истощивший свой песенный репертуар, вдруг вспомнил есенинскую «желтую крапиву». Аркаша был совершенно счастлив и засыпал, мурлыча: «Все они убийцы или воры…» Засветив лампу на терраске, Холодков в пятый раз переделывал сценарий в соответствии с новыми замечаниями. Герой должен был теперь меняться не в результате физических страданий в пустыне, а в результате благотворного давления коллектива — так, во всяком случае, требовало заключение, присланное сценарной коллегией одной благожелательной среднеазиатской студии. К неприятному заключению студия прилагала очередные десять процентов гонорара (пополам с неизбежным соавтором) и обещание запустить картину (это еще пятьдесят процентов пополам с соавтором, которого Холодков ни разу не видел, а потом еще будут тиражные — гуляй, душа). Однако в самом заключении содержалось столько глупостей — просили почему-то перевести пустыню в город, сделать молодого героя постарше, а дядю его помоложе, женщину (этого-то он, впрочем, ожидал) невинной, а девочку совсем маленькой (и к тому же еще русской), — что даже неизбежность получения гонорара не могла развеселить сейчас Холодкова. Он уныло смотрел на дорожку, прислушиваясь к ночным шорохам: чей-то приглушенный смех, чьи-то нетвердые шаги. В просвете розовых кустов под фонарем появились миловидная курносая мамочка и молдавский прозаик Работяну. Они были навеселе и шли к воротам от коттеджа, в котором жил Работяну. «Бал окончен», — подумал Холодков. Он отметил про себя, что история эта его злит. Конечно, он был небрежен до крайности, к тому же он был при ребенке, не имел времени, и все-таки факт оставался фактом — курносенькая, полненькая мамочка, его секс-тип и его законная утеха хотя бы на два-три вечера, предпочла ему унылого провинциального прозаика Работяну. Как назло, Холодков никого не пригласил на сегодня: сиди теперь мучай опостылевший сценарий. Холодков решил отложить работу: воображение подсказало ему множество спасительных возможностей. За этот месяц, который еще остается до срока, руководство на студии могут опять полностью сменить. Новое руководство притащит собственных авторов, и тогда они только рады будут отвязаться от Холодкова. Может смениться также среднее или низшее звено в комитете, в Москве или на месте, и тогда появятся совершенно иные замечания: город попросят перенести в степь, молодого героя сделать еще моложе, дядю его постарше, а девочку пересадить в выпускной класс школы и сделать татаркой. Вот тогда он, Холодков, и будет (или не будет) переваливать дерьмо лопатой, а в эту чудесную ночь он лучше почитает Розанова. К черту Розанова! Холодков уже поверил ему в результате вчерашнего чтения, что обрезание благотворно, и согласен был на запоздалую операцию. Нет, нет. Он не будет сегодня читать Розанова. Он просто прогуляется по набережной — может, там… Впрочем, там уже не найдешь никого. Вот если бы мамочка с курносым носиком… Точно. Работяну уже, наверно, проводил ее и ушел описывать карательную экспедицию против ни в чем не повинных партизан (кошмарное время, кто спорит, однако при чем тут все-таки Работяну и его нынешние заботы), так что разморенная вином и несытая любовью мамочка (разве они бывают когда-нибудь сыты?), вероятно, будет даже рада — если только он сможет отыскать ее хибарку и так далее, — впрочем, попытка не пытка, отчего не попробовать. Холодков накрыл Аркашу, поцеловал его в лобик и пошел искать двор, где его пассия снимала одну из полсотни клетушек, сдаваемых предприимчивым коктебельским населением («Рубль койко-ночь, все так, но учтите, что в эту комнату я могла бы поставить и четыре койки — так что четыре рубля». — «Бог с вами, куда же?» — «А вон туда, вынесла бы тумбочку, у других ведь нет тумбочки, и, пожалуйста, влезет еще целая койка, а посреди можно еще…» — «Тут же проход…» — «Ну и что? Мы не за проход, а за койко-место деньги берем, а то не нравится — ищите». — «Нет, нет, что вы, очень нравится»). Двор, густо населенный койками, поделенный занавесками и перегородками, разномастно дышал, сопел, всхлипывал во сне. Холодков заглянул в распахнутую дверь клетушки, где ярко горел свет, и увидел там свой предмет. Она читала при ярком свете лампочки без абажура. Простыня накрывала ее только до пояса, и Холодков убедился, что она спит голая. Он встал в дверях и церемонно поклонился.
— А, это вы? — сказала она без удивления и враждебности, так, словно это был не ночной разбойный налет, а обычный визит вежливости.
— Что читаем? — спросил Холодков. Она покривилась. Холодков подошел ближе, отогнул переплет. Это была повесть Работяну «Партизанская доблесть».
— Ничего, — сказала она без энтузиазма. — Я узнала много нового…
Холодков запустил руку под простыню, погладил с внутренней стороны ее ногу.
— На меня эти штучки не действуют, — сказала она обиженно.
Поцелуй ее был мягким, прохладным, попахивал коньяком и цыпленком табака: все было, как ожидал Холодков, еще тогда, на пляже. Грудь была мягкой и полной — сосок затрепетал, напрягся под его рукой. Она тяжело задышала, однако вынула его руку из-под одеяла.
— На сегодня достаточно, — сказала она мягко.
— Адвентистка второго дня, — сказал Холодков и покосился на ребенка. Девочка спала на спине, под самой лампочкой, она могла в любую минуту открыть глаза.
— Ох уж эти писатели, всегда скажут что-нибудь непонятное, — сказала она.
Он гладил ее и думал о том, что вот оно, ощущение привычного, ожиданного, узнаваемого. И желание пробуждается вместе с этим опознанием, но вот пройдет, вероятно, еще несколько лет, и останется только это вот узнавание, постылый опыт, а желание уйдет, угаснет навсегда — как подготовить себя к этому, как встретить угасание без горечи?
— Хорошо, приду завтра. Проводи меня, казачка, до плетня…
— Нет, до двери.
У двери она поцеловала его и сказала:
— А все-таки ты не такой нахал… Я думала…
Он обнял ее крепче и кивнул на ребенка:
— Дитя… Проснется…
— Ой, дитя у меня так крепко спит, так спит… — сказала она невинно.
Тогда он стал продвигаться назад, в комнату, к ее постели, а она приговаривала что-то, то ли упрекая, то ли подбадривая: «Ну, ну, ну, вот, только стоит похвалить… Ладно, давай я сама, все сама, только не шуми, пожалуйста, Боже, какие страсти, ай, все порвешь, тише, тише, дитя проснется, и там ведь соседи, что подумают соседи, хозяйка и так уже говорит…» Она не сказала ему, что говорит хозяйка, и Холодков догадался, что хозяйка выговаривала ей за молдавского писателя, так что она вспомнила некстати и замолчала, спохватившись. И еще Холодков подумал, уже вступив в свою любимую игру и утеху, что вот сообразил же он, отчего она замолчала, а стало быть, есть еще много вещей, о которых он способен думать сейчас, и потому, наверное, не годится он для любви, а годится непонятно для чего — может, для своего сочинительского дела и для Аркашиной потребы. Об этом он беседовал только вчера на пляже с начинающей поэтессой, у которой был роман с африканским студентом — вот уж кто, по ее словам, отдается своему занятию целиком, без задних мыслей… «С одними передними, — подумал Холодков. — Неплохо, может, встану и запишу… Как писатель Октябрев-Говорухо на ложе у массажистки».
— Да, да, да… Так, так… — приговаривала она. — Ты милый, очень милый… И конечно, ты нахал… Все вы нахалы… Но приятный. Очень милый…
Потом речь ее стала нечленораздельной, он потерял нить, и последняя фраза ее повисла в пустоте. Тело его напряглось и вдруг ослабло, потеряло стержень, пружину движения, стало бесформенной грудой усталой материи, и только где-то в боку глухо болело сердце. А может, и не сердце. В общем, болело что-то, и это было новым, неприятным дополнением ко всем прочим счетам за пережитое удовольствие, так что Холодков пытался не замечать его.
— Итак, все нахалы, — сказал он, отдышавшись. — И Работяну тоже нахал?
— Он нет… Он предлагает замуж…
— Что ж, — сказал Холодков. — Стоит подумать. Будешь часто приезжать в Москву. Он пойдет в «Дружбу народов» крутить мозги редакторше, а ты — в мое логово…
— Очень мило с твоей стороны, — сказала она обиженно. — Я подумаю.
А он вдруг заторопился:
— Пора. Как бы там Аркашка не проснулся…
Она снова проводила его до двери, поцеловала.
— Отдыхай, мой ангел, — сказал он. — Ты заслужила отдых.
Холодков раздвинул кусты акации, оперся о столбик, перелез через забор, спрыгнул и побежал вниз по улице, насвистывая что-то грустно-охальное. Он, конечно, не заметил Работяну, сидевшего в густой тени акации под самым забором, и потому настроение его было слегка омрачено лишь мыслью о том, что он оставил Аркашу без присмотра.
Дела Работяну были много хуже. Он только недавно простился с Тонечкой у забора и в умиленно-похмельном состоянии бродил по набережной, вспугивая парочки и отважно заслоняя глаза в лучах пограничного прожектора. Потом он вернулся к Тониному забору и присел под ним, глядя на распахнутую дверь ее клетушки. Он думал о Тоне, и сердце его таяло в сладкой тоске. Она читает его роман. Он снова увидит ее утром — и у них будет целый день. А потом… Он готов на любые трудности, чтобы она решилась, чтобы она стала свободной и приехала к нему. Он шел к этому безоглядно, и все же страх сидел в глубине его души, потому что с ним уже случалось такое, раз или два, а может, три или четыре, жизнь так длинна — случалось, что он шел вот так же открыто и безоглядно, отдавал все и бывал обманут, оказывалось, что он поспешил, что он еще нелюбим, да и что вообще он слишком прекраснодушен, что он не понимает женской души…
Работяну, предаваясь своим мыслям, смотрел на открытую дверь, а потом он вдруг услышал шепот, и произошло нечто страшное, совершенно невообразимое — на ступеньке ее сарайчика появился Холодков, он ловко перебрался через забор и ушел, насвистывая про то, что он, Холодков, дежурный по апрелю, что он напропалую кружит с самой ветреной из женщин и что его, Холодкова, за это ругает мама, одна у него, бедняги, неприятность… Это было так нелепо, так тяжело, так страшно… Работяну скорчился, замер. Он хотел бы исчезнуть вообще, растаять, раствориться в земле или в воздухе. Может, ему даже удалось это, потому что вот — Холодков его не заметил, да и сам он наблюдает за всем, что находится вне его, с какой-то странной отчужденностью, словно это происходит совсем далеко. Из этой дали своего небытия он видел, как Тонечка вышла во двор в халатике, наброшенном на голое тело, как она сладко потянулась, почесала головку, пошла через кусты в угол двора — по малой нужде. Он увидел, что, возвращаясь, она вдруг остановилась напротив него, подошла к нему совсем близко, вглядываясь в него, — замерла в неподвижности и наконец сказала весело и насмешливо:
— О Боже, это ты! Я испугалась. Носит же тебя, полуночника! Чего не спишь?
— Я бродил… — сказал Работяну. — Сидел тут…
Тоня с тоской взглянула на свою дверь: ей очень хотелось спать.
— Я давно здесь… — сказал Работяну.
Она не ответила, снова потянулась, сладко зевнула, запахнула халатик.
— Холодков… — сказал он и тут же замолчал испуганно. Не нужно, нельзя, страшно говорить…
— А-а-а… Видел, как он отсюда вылетел? Пулей. Ишь нахалюга. Думает, дверь открыта, одинокая, беззащитная женщина, без мужа, значит, можно. У меня просто: где сядешь, там и слезешь. Пулей вылетел…
— Да, да, да… — счастливо кивал Работяну, слушая ее небрежную сонную речь. — Да, да, да…
— Думает, все такие, как у них среди писателей… Да уж, насмотрелась я тут, ничего не скажешь… Ладно. Пойду, котик. И ты тоже иди спать. Хватит шататься. Брысь!
— Да, да, да… — повторял Работяну дорогой. — Не все такие. Пулей… Нахалюга… Пулей…
Нежность душила его в теплой коктебельской ночи.
— Да, да, да… Не все такие… Не все…
* * *
Машинка стучала на балконе — тревожный, отчетливый перестук в ненадежной тишине, полной неясных ночных шорохов и всхлипов. Евстафенко в четвертый раз проходил мимо корпуса, но только сейчас услышал этот стук машинки, понял его смысл. Он был раздосадован, взволнован: Марина не пришла сегодня на скамейку. Она прощалась с мужем и при нынешней ситуации не могла рисковать. Под вечер он видел, как они, все трое, пошли прогуляться по набережной. Она висла на плече своего бегемота-художника, изображая горечь разлуки. Она могла бы и не переигрывать: Евстафенко не терпел безвкусицы. Вспоминая сейчас эту сцену, он скрежетал зубами — обман, Боже, сколько обмана, какой обман, сегодня его, завтра меня, а моя собственная Рита тоже, верно, где-нибудь сейчас… Сердце Евстафенко томилось по чистоте и верности в тот момент, когда он услышал стук машинки. Может, именно потому он и услышал этот стук. Это был сигнал верности. Верность еще существует в мире, она, как мертвый трубач на Мариацком костеле в Кракове, возвещает об этом миру — стуком вот этой машинки под нежною рукой женщины: поэзия и проза ведут извечный бой на земле, обман и правда, истинное и лживое чувство. Это прекрасно — это ложится в стихи: об этом можно писать без конца. Евстафенко присел на скамью в белесом кругу лампы, вынул карандаш, нацарапал первую строку: «Не погибла верность…» Он отложил карандаш. Чувство было чистым и щемящим, слова казались слишком грубыми, слишком конкретными для его выражения… Стук машинки вдруг смолк. Евстафенко посмотрел в сторону корпуса. Он различил стройный женский силуэт в балконной двери, замер в ожидании. Машинка молчала. Теперь все молчало вокруг. Эта тревожная тишина должна была разрешиться звуком особой чистоты, особой нежности. Евстафенко верил в это, стоял на этом. Иначе он не был бы поэт. Примерно об этом он спорил с Холодковым два дня назад. Евстафенко рассказывал ему о своем недавнем романе с голландкой. Он рассказывал Холодкову о том, как он создал образ этой женщины еще до того, как встретил ее. Как он поселил ее в этот образ и заставил ее жить в нем. И как потом он расстался с ней, когда она стала выходить из образа. Холодков сказал, что это все чушь собачья, и, если бы он, Евстафенко, знал язык получше, все кончилось бы гораздо раньше, до поселения, после первой ночи.
— Подытожим так: незнание языка плюс любопытство…
Холодков произнес это как учитель физики из шестого класса, тоном, не терпящим возражений, и тогда в разговор их вмешался Волошин (черт его знает, когда он подсел?). Волошин не оставил камня на камне от холодковской теории. Он взывал к Эросу, Аполлону, высшим проявлениям эротического огня. Он говорил о животворном, живительном нерве секса, о наготе как высшей роскоши самых торжественных моментов человеческой жизни, в которые театральность и жест являются необходимой и естественной потребностью духа… Он говорил еще долго после того, как Холодков убежал искать своего вечно пропадающего Аркашу, и он успокоился только тогда, когда Евстафенко поддакнул ему утомленно:
— Что говорить, он вообще порядочная сука по части порядочности, этот Холодков.
Только здесь Волошин замолчал, точнее, исчез, как он умел исчезать в самый неподходящий момент, вернее, не подходящий для собеседника, но подходящий для его каких-то нездешних целей…
А сейчас была эта самая, особая, нежная тишина ожидания, и Евстафенко знал, что она должна разразиться каким-то особенным звуком, он не мог ошибиться, он был поэт. И он не ошибся… Зашаркали туфли по асфальту дорожки возле корпуса — торопливо, однако неуверенно, даже смущенно. Женщина остановилась в двух шагах от скамейки, за его спиной, но Евстафенко уже знал, кто она. Сердце его остановилось, стукнуло два раза и остановилось снова: это было то, что в литфондовской поликлинике называли аритмией. Они говорили еще научней, что это экстрасистола. Они прописывали таблетки. Они считали, что это болезнь или симптом болезни. Но тогда и любовь тоже болезнь, и ожидание, и тишина…
— Вам одиноко, вам плохо… — сказала Валентина волнуясь. — Вы слишком близко принимаете к сердцу все, что происходит в мире. Ваше бедное сердце не выдержит…
Она взяла его за руку, и он задрожал от вдруг привалившего счастья, от небывалой, неслыханной, нежданной удачи. И, как всегда с ним бывало в такой момент, он ощутил страх, что это не случится, сейчас она погладит его по руке и уйдет — стучать на машинке…
— Я скажу вам все, — начал он запинаясь. — Я расскажу вам правду о муках… Вам одной…
Голос его окреп. Он рассказал ей об одиночестве гения. Это была старая история, но он рассказывал ее вдохновенно, будто впервые. Он продолжал рассказывать на темной аллее, и потом на скамейке у моря, и шепотом в ее комнате, и еще потом, хриплым шепотом, в постели, когда они возвратились из забытья…
А потом, после отчаянно нежного прощания, он спустился по лестнице, вышел на цыпочках из подъезда, оказался на асфальтированной дорожке и в белесом круге света под фонарем вдруг снова увидал эту скамью. Прошло всего три или четыре часа с тех пор, как он встал с этой скамьи, однако все переменилось вокруг. Маленький трубач не возносился больше над миром, возвещая торжество идеи, машинка не стучала на балконе, и он, Евстафенко, был тоже, верно, порядочная сука по части порядочности. Он опустился на скамью и заплакал, неожиданно для себя самого, — он, большой, мужественный и знаменитый, не видимый сейчас никем и преданный всеми…
* * *
Шумел и сверкал пляж, всплески волны, поднятой любвеобильным катером спасателей, лепет и визг детей, дальние вскрики транзистора на диком пляже, бурчание литераторов, простертых в тени навеса, истошные заклинания певицы на прогулочном теплоходике: «Любите Россию, любите Россию». Холодков попытался представить себе поколение патриотов, воспитанных эстрадными шлягерами, и успокоенно вспомнил, что его собственным патриотическим воспитанием занимались периодическая печать и советская литература сороковых годов. Ничего. Воспитали.
Он взглядом отыскал Аркашину головку среди других рыженьких, русых, темных, сбившихся в кучу: интересно, что они там делают — строят замок, пасут недобитого краба, поливают морскую капусту, роют канал, используя свободный труд дошкольников, заключают мирные договоры или сочиняют пристойно-героические биографии своих бывалых мам и пап? «Так или иначе, — подумал с горечью Холодков, — что бы они ни делали, это будет в тысячу раз грациознее, осмысленней, благородней всего, что делаю я… Однако они слишком часто ходят в воду с резиновой шапочкой, вода сегодня не больно теплая, надо будет крикнуть. Крикнуть-прикрикнуть…»
Подошел маленький психоневролог.
— Завтра мы все уезжаем… Так вот, я хотел сказать… — Он помялся. — Я наблюдаю за вами давно. У вас ярко выраженный комплекс вины при пониженной самокритичности, что неизменно создает поле напряжения…
— Да, — сказал Холодков. — Вероятно, все это чистая правда… — Он подумал, что нужно все же подойти и сказать мальчику насчет холодной воды. — Все это чистая правда, единственное, что смущает меня… — «Надо подойти и взглянуть, что там у них…» — подумал он.
— Конечно, большое значение имеет для нас мнение окружающих. Это мнение создает некий субстрат нашего собственного представления, мистифицируя нас, вытесняя здоровое равновесие самоопределений… но самое главное…
— Да, да, — сказал Холодков напряженно. Ему не видно было, что там делает Аркаша, это и было самое главное. — Самое главное, — сказал он почти машинально, — что я не вижу, каким образом это может повлиять на мои состояния, изменить их.
— Вот тут-то мы вас и поправим, — сказал маленький психоневролог. — На минуту представьте себе себя самого, освобожденного от вины и обязательств…
— Да, да. Одну минуточку… — сказал Холодков встревоженно. — Что-то я не вижу его…
Он побежал к берегу, с размаху врезался в группу малышей, окружавших мутный искусственный водоем собственного изготовления, и спросил нетерпеливо:
— Где Аркаша?
— Он был здесь, — сказал рыженький мальчик.
— Он пошел за водой, — сказал Костик.
— Да, пошел за водой, — сказал рыженький мальчик.
— Где Аркаша?
— Вот он всегда такой, я говорила ему — не ходи… — затараторила девочка.
— Может быть, он оступился и утонул, — сказал Глебка.
Холодков бегал по берегу в кругу, замкнутом навесами, метался по мелководью, уже не замечая ничего и замечая все. Какие-то люди бегали вместе с ним, так же деловито и бестолково. На берегу истошно кричала женщина. Кто-то приставал к нему с расспросами, и кто-то, рядом с ним, уже в десятый раз на них отвечал. Холодков дрожал, бормотал какие-то молитвы и заклинания, бежал, падал, вставал снова, бродил по берегу, по воде и ждал, ждал, что сердце его наконец не выдержит, разорвется от тоски и ужаса, однако оно продолжало стучать, сохраняя его живым для бесконечной муки…
Потом он долго, бесконечно долго, лежал под навесом, прижавшись щекой к деревянному столбу. Стало прохладно, кто-то прикрыл ему спину его собственной рубашкой. Он слышал разговоры вокруг, они доходили до его сознания, однако не вызывали никакой реакции ни в мозгу, ни в теле. Он чувствовал теперь облегчение. Ему, кажется, удалось отстраниться и от этого разума, и от тела, так что ничто больше не имело значения, не могло иметь начала или конца, не могло вовлечь его в бессмыслицу действий.
— Вон люди уже выпили и гуляют.
— Что вы. Это тот самый папа.
— Не трогайте его, пусть лежит…
— Подумайте, какое несчастье, он ведь ни на шаг не отходил от ребенка. Я помню.
— Так бывает. Другой пьяница и подлец, а ничего…
— Что вы мне рассказываете, все они такие. Разве может мужчина…
— Вы едете сегодня на поезде?
— Конечно, мы все уезжаем сегодня…
— Вы летите? А у вас заказана машина?
— Нет, я опоздала.
— Ну так зайдите в «секретарский» корпус. Я видела объявление в столовой. Есть одно место в такси до Симферополя…
— Как это я пойду к чужим людям…
— Почему? Это тоже наши, кто-нибудь из наших… Знаете, как я познакомилась со своим мужем? Вот так же. По объявлению…
Стало пусто. Песок стал холодным. Вероятно, наступил вечер. А потом стало утро. И прошел целый день. Подходил кто-то в белом халате. Может, интересовались его здоровьем. А может, приходили снять с питания. На пляже стало совсем пустынно. Моросил дождь… По всей вероятности, кончалась осень. Однажды Холодков услышал тяжелые шаги на песке. Он скосил глаза и увидел Волошина. Волошин был в длинной рубахе до пят, с палкой в руке. Он уходил в горы. Волошин остановился у столба под навесом, повязал сандалии поудобней… Он смотрел на то место, где лежал Холодков, но не видел Холодкова. Может, его там уже не было…
Поднимаясь на Кок-Кая, Волошин обернулся. Коктебель лежал распятый в серых сумерках, казался торжественным и тихим. Волошин вдохнул полной грудью и направился в Судак. Впереди была долгая дорога через Карадаг — трудная, прекрасная дорога, и конец ее был известен…
Я не просил иной судьбы у неба, Чем путь певца: бродить среди людей И растирать в руках колосья хлеба Чужих полей.В прошлый раз на этом вот самом месте он видел маленького мальчика. Он видел мальчика и баранов, пивших воду у озерка. Видел красный закат, подобного которому еще не видал никогда. Мальчик, замерший, как лисенок в засаде, пьющие бараны, взрослый человек, который так странно нес свою голову, точно старый олень. Настоящий олень. Вот почти так же было в Буа-де-Булонь, где старая дама на его глазах превратилась в наседку. Старая француженка в кружевах. Он и Аморя в тот день собирались в Лувр, а потом вдруг поехали в лес. Рука ее дрожала, она знала, что он должен сказать ей в тот день все… А он не сумел сказать ни тогда, ни потом. Не сумел удержать ее. Не сумел сделать счастливой. И даже не сумел написать — про этот день, про старую француженку в кружевах…
Судьба дала мне в жизни слишком много. Я ж расточал, что было мне дано; Я только гроб, в котором тело Бога Погребено…Востряково
Живые теснят мертвых. Потому что наш прекрасный мир, как известно, создан для живых, а не для мертвых. Потому что это ради нас, живых, разрастается до огромных размеров эта лучшая в мире столица счастья, мой родной город. А грустные обиталища мертвых уменьшаются, исчезают в асфальтово-панельном океане столицы, отступают на дальние окраины города, к последнему рубежу, кольцевой автодороге, за двадцать километров от центра. Сюда не долетает рокот города, но зато здесь стоит немолчный гул автодороги. Мертвые как бы охраняют рубежи города от вторжения тех, кто пока еще не живут в нем и не прописаны, но, без сомнения, стремятся в него, обетованную столицу, где не переводятся насущные блага жизни.
Живые теснят мертвых, торжествуя победу в гуще расцветающей жизни. Мертвые спокойны, потому что время работает на них. И окончательная победа на их стороне.
На южных подступах к городу, за кольцевой, то есть в черте Москвы, раскинулось по обе стороны асфальтовой дороги Востряковское кладбище, в просторечье — Востряково. Если говорить строго научно, то Востряково — это поселок Московской области, на худой конец станция Киевской железной дороги. Однако в этой небольшой повести никаких научных сообщений не содержится, так что у нас Востряково — это просто кладбище, лежащее по обе стороны асфальтового шоссе: направо смешанное, русско-еврейское, а если влево от дороги, и к тому же еще по правую руку от ворот, — то одно только еврейское. О нем, главным образом, и пойдет речь.
До Вострякова теперь доехать совсем просто — от станции метро «Юго-Западная». Можно, конечно, ехать от метро «Вернадская» или от станции Востряково Киевской железной дороги. Не менее удобно ехать от следующей станции, от Солнечной: автобус от Солнечной на юго-запад отходит каждые пять минут, а то и чаще. Однако быстрее, наверное, все же от «Юго-Западной», хоть и не намного, но все же быстрее. А кто же из горожан откажется сэкономить лишние четыре-пять минут? Впрочем, в праздничные и всякие там поминальные дни все равно и на «Юго-Западной» бывает очередь. Но Черняк чаще всего ездил в будни: пять минут автобусом. У ворот он покупал цветы. Торгующие граждане его уже знали, баба Лиза выбегала навстречу из ямы, аж на самое шоссе. Граждане давно поняли, что он и есть самый стоящий покупатель. С одной стороны, он понимал, что все это тщета, суета сует и никто этих цветов не увидит, не все ли равно, какие поставить, к тому же их все равно через полчаса украдут. С другой стороны, без цветов он никогда не ходил, считал, что неудобно, два-три рубля все же надо истратить у ворот, а может, и больше. Иногда на кладбище приходили сестры. Они были семейные, хозяйственные, и если чего покупали, то всегда получше. Он же покупал, что попадалось, иногда просто оттого, что жаль торгующего, хотя бы и эту вот бабу Лизу, которая стоит тут под забором и ждет покупателя за свои несколько рублей в день, тем более что цветы эти по большей части украдены ею с могилки, может, даже с его могилки, то есть с маминой, принесенные его же сестрами, конечно, уже не та свежесть, что была…
В воротах с Черняком часто здоровалась румяная и цветущая женщина Вера, спрашивала, не надо ли прибрать могилку, хотя уже давно знала, что ему не надо. Не то чтоб жаль было денег, но он и правда не видел проку в том, чтобы какая-нибудь женщина наводила порядок на маминой могилке, как будто она лучше ихнего знает, какой должен быть порядок на могилке, как она должна выглядеть, Ее могилка.
У ворот близ конторы царило оживление, кого-то привезли новенького на вечное поселение, какие-то люди стоят в очереди за лейкой, за ведром и лопатой, у кого-то дела в контору, и кто-то возмущен чем-то. Черняк здесь всегда спешил свернуть вправо, по тихой аллее, ведущей к Первому новоеврейскому. Здесь еще попадались два-три нищих (Черняк давно заметил, что еврейские нищие кажутся ему как бы ненастоящими), потом старик в ермолке с красными, склеротическими щеками и слуховым аппаратом за ухом, а дальше — никого: аллеи, березы, могилы… Старика этого Черняк помнил еще по самым первым своим востряковским похоронам. Хоронили дедушку, а Черняк был тогда совсем юный студент-первокурсник, и старик этот, ему уже тогда было тыщу лет, вдруг прокричал над зимней могилой что-то пронзительное и непонятное, из которого Черняк разобрал одно слово — «мишпоха», что означает род или семья, как раз проходили это слово по всеобщей истории. Черняк отвернулся тогда и пошел прочь один, среди сугробов, проваливаясь в снег по пояс, лелея свою отчужденность, свою непричастность и к этому непонятному крику, и к этому разделению мертвых по анкетному признаку, свой протест против жалкой участи человека, который только что был живой, насмешливый, деятельный и подвижный, был такой, как все, а потом в смерти оказался вдруг докучливым предметом, который надо зарыть в мерзлую землю и грязь, и притом почему-то непременно вместе с евреями, который оказался вдруг клиентом краснощекого старика, может быть, и правда творящего здесь за небольшую плату молитву, а может, просто морочащего голову родным покойного, потому что никто из этих родных не может ни слова понять, что он там кричит. С тех давних похорон много воды утекло, многое переменилось в жизни Черняка, однако он и сейчас не мог понять, отчего все эти люди, при жизни рьяно боровшиеся с несправедливым разделением на беленьких и черненьких, вдруг соглашаются принять как должное это разделение, которое навязывали покойному при жизни. Благо были бы среди них верующие, те, кто верят в воскресение из мертвых, кто хотел бы в Судный день оказаться среди единоверцев, так ведь нет, это были все как есть абсурдные атеисты новейшего времени… И если Черняк даже сейчас не мог понять и принять этого разделения умерших по национальному признаку, то уж тогда, в свои восемнадцать (о, тогда он был самый русский из русских, хотя, собственно говоря, ничего не изменилось и сегодня, просто сегодня он знал, что говорить об этом нехорошо, так же, как неприлично об этом писать, потому что за это хорошо платят, а получать за это деньги неприлично, пристойно только расплачиваться, хотя бы и кровью), тогда он отвернулся и демонстративно пошел в сторону, через сугробы, выбрался на дорогу к машине и стоял там, обсуждая с русским шофером виды на урожай и погоду…
Было тихо, по-осеннему задумчиво и тепло. Черняк узнавал знакомые камни и фамилии (понабрав их по всему свету, евреи привезли их сюда, в Востряково, эти фамилии, специально чтобы утешить его, путешественника и лингвиста: Бердичевский, Коломыйский, Тунис, Палант, Орлов (ясно, бывший Адлер), Сапожников (это ясно), Ломоносов (это еще кто? бывший Тредьяковский?), «писатель Ф.Сито», «раввин московской синагоги», «безутешной Манечке Брук», «универсальное травести», «честный коммунист…».
Вот, наконец, и поворот, пересохшая колонка и непросыхающая лужа возле нее, мерзость свалки — пластмассовые цветы, банки с присохшей изнутри казенно-голубой краской…
Ого, что-то новое. Как они ухитрились всунуть сюда могилу, прямо на повороте, среди осин, на ничьей земле — огромный портрет вполне молодого мужчины, с не облезшими еще кудрями (впрочем, фотография может быть старая), интересно, где заказывают такие огромные фотографии? Ну да, все ясно, режиссер Хайнацкий, значит, фотографию делали на студии. 1932–1976, то есть всего 44 года жил и творил режиссер Хайнацкий, короткий век у работников киноискусства, портрет, вероятно, здесь временно, потом поставят что-нибудь каменное и вечное, если не забудут вовсе. Может, и не забудут, наверное, режиссер оставил семью, может, даже две или три семьи…
…Черняк мысленно извинился, наступив на уголок чужой могилы, давно уже безымянной — ни камня, ни надписи, протиснулся между решетками и очутился в своем уголке. С удовлетворением отметил, что новую скамейку (шестую по счету) еще не сперли, опустился на нее, прочитал знакомое имя, такое интимное, их, семейное, почему-то преданное здесь гласности. Сказал: «Здравствуй, мамочка!»
Как всегда, Она рада его приходу. Рада и не рада: у него много своих дел, а он опять едет Бог знает в какую даль, он зря беспокоится, и вот — он опять немножко похудел (если б Она только знала, что за этот год выпало на его долю, слава Богу, все произошло уже без Нее, если бы при Ней… А может, Она знает. Если уж Она могла все угадывать про него на таком расстоянии, что Ей эти перемены, эти переезды, это Востряково?). Конечно, Она рада его приходу, должна быть рада, потому что он был для Нее самым близким человеком, он для Нее, Она для него, был и есть, а если Она не может сказать об этом, что с того? Она и тогда, в последний год, после инсульта, почти ничего не говорила, просто они сидели рядом, сидели, и все, но он ощущал, как ему передается Ее воля, Ее тепло, как тяжесть спадает с души и приходит очищение…
Она все понимала, все могла понять — и самые интимные его переживания, и даже сложности авторства, как всегда настаивая при этом, что Она необразованная, что Она ничего не может дать им, образованным, и только получает от них, от своих детей, так много, так много. Однако Ее оценки и Ее советы опускались к ним с какой-то ошеломляюще высокой позиции, до которой они, барахтаясь в теориях и кодексах своего полуобразования, все еще не могли добраться, вероятно, никогда уже не доберутся. Она обладала врожденной интеллигентностью, врожденным этическим кодексом и бесконечной добротой…
В его воспоминаниях она всегда была старше его, и только теперь он понял, что Она была много моложе, чем он теперь, была и осталась моложе.
Однажды Она написала ему в армию, как скучала, когда им приходилось расстаться:
«Бывало, маленького отвезу тебя на неделю к бабушке, а через два дня приезжаю забрать, и дедушка говорит: „Эта коза не доверяет нам ребенка“, он не мог понять, что хотя мне 19, я скучаю по мальчику…»
Прошлое становилось все менее реальным, но реальными оставались их сегодняшние отношения, они не прервались, они не могли прерваться…
Так что я тебе хотел сказать, ма? Про театр. Это такое все оказалось дерьмо, такая лажа, ты, ма, просто не можешь себе представить. Пока пишешь, еще ничего, но потом, когда они эту пьесу поставят… Они так все измордуют, ма… А когда они измордуют и тебе уже ничего будет не нужно, они заплатят тебе деньги и скажут, чтоб ты вышел кланяться публике. И ты еще должен радоваться, потому что это редкая удача, чтобы поставили, а то, что это не имеет ничего общего с тем, чего ты хотел, о чем писал, — про это как будто забыли. Что делать, ма, вернуться к своей старой работе? Конечно, надо вернуться… Но самое мерзкое, что писать-то я не перестану и, вероятно, буду писать все те же драмы… Сейчас они предлагают мне ехать в какой-то там дом творчества — за их счет, все условия, ничего не надо делать, — гулять, слушать лекции — вдруг напишу еще что-нибудь в этом роде. Ну да, я понимаю, ты за то, чтобы я поехал, потому что там будут кормить и потому что учиться всегда хорошо и полезно, и пригодится, я мог бы не спрашивать, ма, я знаю, что ты скажешь… Ты всегда говорила: учись, пока есть возможность, учись… И я учился. Да что там за возможность была такая: от получки до получки всегда не хватало, ты бегала одалживать, а я учился, идиот, учился, продленное детство…
Острой, непроходящей болью защемило под сердцем чувство вины. Как ни обзывай его, как ни объясняй — комплекс или не комплекс, заслуженной или незаслуженной вины, а только болит, ощутимо болит, реально мучает… Или вот тогда, когда я бросил работу, когда оставил вас без помощи, оставил Тебя без помощи — искал свой путь. Ну да, я искал, я нашел. Но ведь главное заключалось в Тебе, любви к Тебе, в помощи Тебе… Вот и все… Теперь кусай локти, бейся головой о железную ограду. О Боже, всемогущий, всемилостивый… Отпусти мне эту боль, этот грех, эту вину…
Черняк поднял голову — перед ним стояли двое. Кто-то из здешних бандитов, кладбищенских работяг, худой, небритый доходяга-старик и толстый, краснолицый юноша, оба навеселе, в общем, уже в норме, однако еще хочется перевыполнить норму, извечное, неукротимое стремление труженика.
— Хозяин! — сказал краснолицый. — Тебе никакую работу сделать не нужно? Глянь — решетка у тебя совсем никуда… Заменить надо. Теперь и узор другой ставят…
— Не надо, — сказал Черняк, страдая от собственной несговорчивости. — Кажется, ничего не надо… Все здесь прекрасно, все как надо, и нечего огораживать…
И тут ему в голову пришла здравая мысль, мудрая и дальновидная и пристойная мысль, выручавшая его к тому же в неловкой ситуации. Он поднял стыдливо опущенные глаза и сказал:
— А что, если удлинить чуть-чуть решетку, вот здесь. Тогда этот промежуток до следующей могилы, пропадающий зазря, войдет в нашу ограду…
— А чего ж, — сразу воспрянув духом, сказал небритый. — Это можно. Тогда у тебя участок будет поболе, ты сможешь цветов насадить или еще чего…
— Да нет… Просто…
— А можешь и просто, — сказал краснолицый. — За свои деньги можешь, за три бумаги мы тебе все сделаем. Можешь и просто…
— Просто — я там лягу, — сказал Черняк убежденно. — Это будет для меня.
— А можешь и лечь. За три-то бумаги…
— Сколько это, три бумаги? — спросил Черняк.
— Три четвертных.
— Семьдесят пять рублей. Хорошо.
Черняк не дал обнять себя, и тогда они дружно попросили аванс — три рубля. Всего три рубля, которые им нужны позарез. Найти их будет нетрудно — Николай Гаврилыч и Валера, Валерий Григорьич.
«Николай Гаврилыч, Виссарион Григорьич…» — повторял Черняк, собираясь уходить. Свидание было вконец испорчено. Он снял с березы пиджак и пошел к выходу на аллею.
У режиссерской могилы Черняк увидел женщину. Она сидела на скамеечке, растерянно опустив руки. Еще совсем молодая. И очень красивая. Она подняла взгляд на Черняка. Потом резко отвернулась. Может, смутилась своего неуместного внимания. Черняк подумал, что он, наверно, чуток похож на этого Ш.Хайнацкого, во всяком случае, на того, какой он здесь на портрете. И еще Черняк подумал, что ему рано умирать, потому что на могилу его приходить будет некому…
У ворот Черняк отметил, что он озабоченно смотрит на часы. Число, месяц, час… И смотрит не потому, что решил высчитать, сколько ему еще осталось суетиться и бегать. А потому, что уже вспомнил о делах. Он усмехнулся. Какие же у тебя дела, у сердечного? Разве ты не купил себе место сегодня? И разве в отпущенные тебе несколько часов, несколько дней, пусть несколько лет у тебя останется не одно-единственное дело — осмыслить и прочувствовать то, что с тобой происходит, ощутить каждый миг происходящего? Черняк увидел зеленый огонек и махнул таксисту.
* * *
Валя отвернулась от прохожего, постаралась думать о другом, о своем. О Сене. Сеня. Какой был Сеня… Она вдруг подумала, что этот человек, который прошел, очень похож на покойного Сеню. Такого, какой Сеня был раньше. Правда, не совсем. Сеня был и раньше другой. Он был решительный. Он был энергичный. И его все слушались. Он тебя видел насквозь. И он говорил тебе очень точные слова — и про тебя, и про твою жизнь, и про твое искусство. Он был обаятельный. Море обаяния. Бездна обаяния. Особенно когда он хотел тебя обаять. Особенно вначале — на «Большой любви». А потом уж ему не нужно было. И подлец он был, конечно, как все мужики. Все им мало. Всегда мало. Они не понимают, что ли, что у них у самих мало. Не хватает. Вместо того чтоб подумать о женщине, как с ней сполна расплатиться, они прыгают с места на место, с одной на другую… И что хорошего? Вместо того чтобы сберечь чувство…
Нет, конечно, он был добрый, Сеня. Не злой. И так его было жалко, когда его эта штука скрутила, аж почернел. Уж тогда-то он понял, что такое жена, чтоб туда каждое утро, каждый божий день с бульончиком, в эту его палату, где такой спертый воздух и пахнет смертью.
Гришка на него будет похож. Гришка его уже забыл. Он и раньше-то отца не часто видел, экспедиции, выбор натуры, съемки, то-се… Она теперь вдова. Слово какое страшное, старорежимное, молодая вдова. Повыть, что ли, по-вдовьи? Как в «Большой любви» выла. Вот совпадение. А тогда не думала, не гадала… Надо домой ехать, а то Гришка придет из школы и смоется, потом не отыщешь. Надо еще зайти спросить, когда будет памятник.
Чудное все же место… Сколько евреев на «Мосфильме» — никогда таких чудных фамилий не слышала. Какие-то здесь, наверно, не те евреи. Или они после смерти такие становятся? Имена тоже такие допотопные: Аре-Лейб-Нисон, Хая-Рэйзл… Вот и Сеня тоже. Оказалось, что он Шимон. Как странно.
Интересно, как этого звали, который прошел. Наверно, все же как-нибудь по-нормальному. Он, пожалуй, Сениных лет. Может, даже помладше.
Валя вышла на аллею, обернулась, хотела взглянуть на Сенину фотографию, но ее уже не видно было из-за кустов.
* * *
Когда Северцев похоронил Любу, он сразу понял, что это полный крах. Только он еще не думал об этом тогда. Это было тогда как горячка. Горячка слез и горя. Настоящая горячка, даже слезы у него были горячие, щеки горели, а в голове был туман.
Он плакал один, плакал вместе с Любиной сестрой, Раей. И они утешали друг друга:
— Ванечка, не плачь!
— Рая… Рая… Как она… Помнишь… Не надо плакать… И я не буду…
Когда боль утихла немного, он понял, что ее смерть была полным крахом для него. Он давно разучился жить сам, своей волей и разумом. Люба была не только красивая и умная, она была сильная, она знала его и всегда знала, что ему делать. Он был как демобилизованный офицер, прослуживший двадцать пять лет в армии, за порогом которой ему чудится неустройство, хаос, катастрофа. Северцев уже ощущал первые признаки катастрофы. Например, он начал больше пить. Он пил до Любы. И только чуть-чуть выпивал при ней, она не допускала его гибели. Теперь некому было его спасти, и у него было оправдание для самого настоящего пьянства. Спасала его пока еще все та же Люба. Он часто приходил на кладбище. И он не мог, просто не решался приносить с собой сюда больше четвертинки. Четвертинку он мог выпить здесь, с нею, за упокой ее души. Она могла бы только одобрить это, но никак не больше четвертинки, это он твердо помнил и никогда не нанес бы ей этого оскорбления. В конце концов, он был тонкий, интеллигентный человек — это ему тоже внушила Люба, и он придерживался этого заданного ею уровня. У ее могилки он потихонечку распивал свою маленькую и читал. У него было ощущение вечера, проводимого в семье. Жизнь его шла по-человечески, не пропадала зря, когда была жива Люба, и сейчас, подле нее, он оставался этим лучшим Северцевым. Это Люба не давала ему пасть.
В ограде Любиной могилки Северцев чувствовал себя как дома. Он читал, выпивал чуть-чуть, размеренно и неторопливо, вид у него был при этом задумчивый, спокойный и добрый. Таким увидела его однажды Вера, прибиравшая соседнюю могилку («Аркадию Семеновичу Писенсон от родных и близких»). Когда Северцев ушел и от аллеи еще махнул рукой на прощанье своей Любе, Вера даже прослезилась: вот, гляди, бывает же, а говорят, все мужики одним миром мазаны. С тех пор Вера зачастую специально делала крюк, чтобы поглядеть, как он там сидит, этот вежливый, тихий блондин на своем Первом новоеврейском, рядом с Писенсоном. Один раз Вера хотела вступиться за него и постеснялась — это когда Гаврилыч и Валера к нему пристали насчет решетки. У него была решетка совсем новая, и он, конечно, отказался. Но Гаврилыч уже разглядел маленькую и попросил их угостить. Вот тогда-то Вера и не стерпела, чуть не выскочила из своего укрытия, чтобы прогнать нахалов, — что им эта чекушка, слону дробина, а человеку испортят весь вечер… Однако она все же постеснялась — могут еще Бог весть что подумать, потом будут языки чесать, тут на кладбище народ такой, сразу понесут, а про нее им пока сказать нечего, потому что она этих коблов ни на шаг не подпускает, очень надо, слава Богу, от своего такого же только-только избавилась. Так что она удержалась, не выскочила, и они, конечно, чекушку у этого человека выцыганили, разве ему против них устоять. Раз, два, выжрали и ушли, а человек этот, он тоже стал собираться — испортили ему вечер. Когда он проходил мимо Писенсона, Вера вышла из своей ограды и сказала жалеючи:
— Потревожили они вас. Эх, люди… А может, вам принести бутылочку… Тут продмаг близко… Вы только скажите…
— Нет, нет, не надо, — сказал он. — Так оно и лучше. Жена бы мне тоже не позволила. Это дело плохое.
— Отчего же плохое? — сказала Вера. — Если под настроение, да если немножко, и в компании к тому же. Только мне кажется, что от компаний этих одна беда, ни во что хорошее не втянут, так что и без компании хорошо… Одному…
— Вы так думаете? — спросил Северцев серьезно. — Вы считаете, что в этом ничего такого, слишком уж…
— Конечно, ничего! — воскликнула Вера и взглянула на Северцева с такой добротой и так ласково, что он не вытерпел, отвернулся и, торопливо простившись, заспешил прочь.
Вера долго смотрела ему в спину. Потом повернулась к его ограде и увидела, что Северцев забыл что-то разноцветное на скамеечке. Вера подошла. Это был журнал «Советский экран». Она села и стала читать. На фотографиях здесь были красивые мужчины и женщины, иногда, может, даже и не очень красивые (вон этот совсем на одно лицо с Толей-пьяницей из гранильного цеха), а все равно какие-то не такие, модные и особенные, ни на кого не похожие, хотя на некоторых карточках они и делали вид, как будто они простые работяги или колхозники. А только простые рабочие и колхозники для фотографии себя бы не так держали, понимали, что это все может выйти на люди. Этим же как будто все нипочем, потому-то они и были совсем непохожи на работяг. Но на многих фотографиях было очень красиво, и Вера их долго разглядывала. Истории тоже были описаны настоящие, жизненные, как в индийском кино. Вера дочитала журнал и стала разглядывать карточку на памятнике, под которой было написано, что это Любовь Марковна Северцева, тридцатого года рождения: черненькая и очень серьезная женщина, наверно, образованная, судя по всему, жена — вот таких любят, даже и умрут они, а их все любят, таким почет и почтение, и другая у них, совершенно другая жизнь, как будто на другой земле живут, не как мы небо коптим. Вера заметила, что она завидует покойнице и думает о ней с недобрым чувством. Она подобрала журнал — может, приведется отдать потом — и пошла к своему Писенсону, надо еще было подправить кое-чего…
* * *
Бородатый и горбоносый человек трудился в ограде. Он привязывал проволочками к прутьям ограды какое-то изображение в четырехугольной рамке и по временам, отойдя на несколько шагов от ограды, им любовался.
«Портрет, наверно. Еще один фетишист…» — меланхолически подумал Северцев, проходя мимо, и обернулся. Обернувшись, он задержал свой взгляд на изображении несколько дольше, чем это позволяли приличия и осторожность, потому что бородатый человек уже заметил его любопытство, уже закивал ему ободряюще и вопросительно, иронично и торжественно в одно и то же время: вот, видите, дружок, чем я, взрослый человек, здесь занимаюсь. Это с одной стороны. А с другой: ну и как? Правда ведь неплохо получилось?
«А что получилось-то? Что там у него намалевано?» — в смятении думал Северцев, разглядывая необычную композицию. В рамке была различима крошечная фотография на фоне какого-то пейзажа, а по бокам еще две птички, намалеванные безнадежным любителем, а посередке — ноты.
— Вы, навегно, сгазу узнали эти ноты, — сказал горбоносый человек, сильно и приятно грассируя.
— Нет, простите, пока нет, — сказал Северцев, уже подозревая, что он будет сурово наказан за свою неумеренную любознательность.
— Ну как же, как же! Это замечательная песня. Популярная песня. Пгосто пгекгасная песня, и всякий должен ее знать… — Бородатый запел без слов, все же ухитряясь при этом грассировать: — Лял-ля-ля та-га-гам, та-га-гам… Узнаете?
— Что-то мне… Еще не совсем… — мямлил Северцев.
— С чего начинается Година… Та-га-гам, та-гагам…
— А-а-а, ну конечно. Конечно. — Северцев улыбнулся восторженно, благодарно и уже попятился, откланиваясь, когда человек вдруг спросил:
— А это что, скажите мне, за птица? Узнаете?
— М-м-м… Не совсем.
— Ну, как же, голубчик! Это сигин. Мифическая птица сигин. Сейчас объясню почему. Мою свояченицу звали Циля. Это сестга жены, вы уже, навегно, поняли, потому что сам я исконно русский… Владимир Иваныч Пгошин, будем знакомы, доцент института Кгупской, завкафедрой атеизма. Нет, нет, пусть вас это не смущает — то, что свояченицу звали Циля. В тангутском языке пегегласовки «ц» и «с» совершенно обычны. Так что Циля и сигин…
— Она была тангутка?
— Кто? Циля? Нет, она была евгейка, как и моя супгуга, но в то вгемя, когда она умигала в муках, стгашная смегть от миомы, я габотал над диссегтацией о тангутах, в доме твогчества, жена пгиезжала ко мне по втогникам, и вот, когда она умегла…
— Жена?
— Нет, свояченица… Как газ в это вгемя пгекгасная птица-сигин…
Северцеву нестерпимо захотелось выпить.
— Мы еще увидимся, — сказал он доценту. — Я что-то… того…
— Я сгазу это увидел… — сказал доцент. — Вы должны бегать. Бегать не как Гилмог. Не бег гади жизни. А жизнь гади движения… Помните, как это у Магкса?
— Хогошо, — сказал Северцев, начиная грассировать против воли. — В дгугой газ. Мне на автобус… Пгощайте, пгофессор…
— Мы еще увидимся, — спокойно сказал доцент и засучил рукава, подступая к могиле свояченицы.
Уже выбравшись на аллею, Северцев услышал его бодрое пение:
— С чего начин-нается Г-година…
Впрочем, Северцеву не сразу удалось добраться до ворот, потому что главная аллея оказалась запружена людьми. В стороне, неподалеку от аллеи, шли похороны, но провожающие не уместились в тесных промежутках между могилами. Они стояли кучками в разных местах и толпились на аллее. Северцеву неудобно было проталкиваться через толпу, и он решил переждать. От могилы доносились женские вскрики и бормотание, однако здесь, в стороне, все было спокойно и чинно. Ровными рядами стояли венки с надписями. «Честному коммунисту, активному общественнику», «Члену партийного бюро», «Начальнику лаборатории диффузных соединений», «Активисту БРИЗ», «Председателю КВЗ». Видно было, что люди, провожавшие в последний путь своего сослуживца, понимали, что в том новом месте, куда он сейчас отправился, ему могут пригодиться все его земные должности и труды (особенно неоплачиваемые, так называемые общественные), весь его земной стаж и все заслуги… Сами эти люди, его сослуживцы, подчиненные и товарищи по разным организациям, испытывали некоторую неловкость по поводу происходящего здесь и потому старались держаться подальше от могилы, от мертвеца и неумеренных надгробных плачей. Эти люди словно бы считали самую смерть и все с ней связанное неким пережитком прошлого, доставшимся нам от царского режима и от темного буржуазного строя, когда медицина была развита слабо, в умах царила религия и на каждом шагу околачивались все эти присяжные поверенные, частные приставы, околоточные, акцизные и другие призраки минувшего. Человек нового общества был создан для счастья, как птица для полета, он молодел с каждым днем (недаром на служебных торжествах он со всей серьезностью пел известную песню: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым») и умирал лишь в порядке недоразумения. Потому самое лучшее, что мог сделать образованный, поистине современный и передовой человек в этой ситуации, — это не замечать происшедший факт смерти и как можно меньше заострять на нем внимание. Потому-то люди, старавшиеся держаться подальше от могилы, говорили между собой о насущных проблемах быстротекущей, но не иссякающей жизни. Северцев, не решавшийся потревожить двух солидных граждан, наглухо загородивших ему проход, стал свидетелем такого диалога, который хотя и не имел внешне отношения к нынешним похоронам, однако самой безотносительностью своей наносил достойный удар как смертельному пережитку, так и ретроградному ритуалу захоронения тела.
— Партбюро у них крепкое, — сказал пожилой мужчина в плаще. — Заворг крепкий. Культсектор сильный. И наглядная агитация поставлена.
— Однако партучеба хромает, — сказал совсем еще молодой, задорный и румяный мужчина в таком же, как старший, длинном плаще. — Четыре кружка по Двадцать пятому съезду — это курам на смех.
— Да, курам на смех, — подтвердил старший. — Но наглядную со счетов сбрасывать нельзя. Для масс она где-то, по большому счету, важней. Ну а с кружками где-то недоглядели…
— Да, да. И где-то недоглядели! — воскликнул молодой.
— Я вот вас соберу, не сейчас еще, в обозримом будущем, — сказал старший, и Северцеву вдруг показалось, что человек этот бессмертен. Он был не просто старший и даже, пожалуй, старый, он был по-настоящему бессмертен. Он еще соберет их в обозримом и необозримом будущем, он наладит им партучебу, поставит наглядную, выберет крепких, изыщет сильных, отсеет слабых, повернет их всех лицом к задачам… Северцеву стало обидно за себя, завидно, и снова нестерпимо захотелось напиться. Однако он твердо знал, что Люба этого бы не одобрила. Конечно, если б она была жива, не грех было бы ее даже и обмануть разок, с видом на предстоящее раскаяние, восстать против этой жестокости, против ее всевидящего ока, но теперь, когда она была, в сущности, усопшей, во всяком случае в глазах окружающих, нельзя было поступать с ней подобным образом. Этого она не одобрила бы и не одобрит. Северцев знал это наверняка…
* * *
Многолюдные похороны активного партийца задержали в тот день не одного Северцева, но и седеющего человека, чья фамилия была Дробышев. Человек этот, несмотря на фамилию, имел кровную заинтересованность в Первом новоеврейском участке кладбища, ибо здесь были похоронены его отец и друг его детства. В прежние времена он посещал и того и другого очень редко, не чаще чем раз в год, иногда и реже, однако в последние два-три месяца, мучимый своими сомнениями, Дробышев вдруг зачастил на кладбище, словно он искал здесь, как и во многих других знакомых ему местах, ответа на мучившие его вопросы. Дело в том, что Дробышев надумал уехать из Москвы и вообще из этой страны, уехать на Запад, эмигрировать, то есть уехать надолго, а при существующем условии безвозвратности, вероятно, даже навсегда. Это вот «навсегда», а также прочие мысли и сомнения делали исполнение задуманного мучительным для Дробышева, жизнь которого с той самой минуты, как он начал всерьез обсуждать свое решение, стала почти что невыносимой. Он уже больше не мог ни работать, ни путешествовать, ни любить женщин, ни ходить на футбол, а мог только обсуждать и решать без конца эту проблему — уезжать ему или не уезжать, потому что без решения этой проблемы он не мог решиться ни на какое действие, да и всякое действие совершенно лишалось смысла в случае, если он поступит так, а не иначе. За эти месяцы размышления и колебаний Дробышев измотался вконец, а жизнь словно нарочно подсовывала ему ситуации, в которых его психика подвергалась все новым испытаниям. Вот, например, совсем недавно в Монголии…
Но здесь надо отвлечься и сказать то, без чего все прочее, и даже монгольская история, будет непонятно: то, что Дробышев, хотя и имевший какой-то, пусть даже весьма значительный процент еврейской крови, был, по его собственному мнению и по мнению многих окружающих, человек совершенно русский и даже истинно русский [1]. Профессией Дробышева являлся русский фольклор, и он сделал еще в совсем юные годы большие успехи в собирании русских песен, сказок и пословиц. Он продолжал заниматься этим во время войны, когда, будучи солдатом, защищал от врагов свою родину, а после войны он избрал очень продуктивную и очень интересную линию работы. Всем известно, что обособленные, оторванные от родной земли сообщества лучше хранят старину, и вот, попробовав однажды собирать русский фольклор среди русских старообрядцев, заброшенных судьбой за рубеж, Дробышев получил неожиданно обильные и желанные результаты. В ходе этой работы он, полуеврейский человек, стал совершенно своим среди русских старообрядцев, щедро открывавших ему запасы своей памяти. Дробышев любил этих людей, любил русскую деревню и, что главное, — беззаветно любил русское слово, русскую речь. У него было накоплено много материала, который ему трудно было печатать по причинам, от него мало зависящим, и вот когда, совсем недавно, зарубежный университет предложил ему вдруг льготные условия, предложил кафедру, жалованье, перспективы скорейшего издания собранных им материалов и еще Бог знает что, о чем здесь, в Москве, Дробышев не мог и мечтать, он встал перед необходимостью принять решение, потому что деловые и нравственные выгоды такого отъезда были несомненны. В конце концов, он жил в первую очередь для дела, для науки, для родной литературы, а научная работа его здесь зашла в последнее время в тупик. Там же… Именно для русской науки, для русского слова намеревался он предпринять столь решительные действия… С другой стороны, как же было ему, всю жизнь считавшему и продолжающему считать себя патриотом, покинуть вдруг все эти пригорки, огорки, косогоры, березки и рябины. Все эти вымирающие деревни, где его принимали с такой лаской. Покинуть многочисленных друзей, русских, еврейских и грузинских (надо сказать, что Дробышев был изрядный знаток грузинской поэзии, которую он одно время усердно переводил), друзей, которых он, правда, видел в последнее время не часто, но мог увидеть, когда только захочет. Покинуть, наконец, это мирное кладбище, где лежат его отец, дед и бабка, где лежит друг детства Мишка, человек, с которым столько было связано, — правда, Мишка скурвился под конец жизни, вконец обнищал духом с этой своей дипломатической карьерой, однако теперь он уже мертв, и Дробышеву вовсе не обязательно из всей их долгой жизни вспоминать именно эти последние десять лет. А отец — о, отец — это и вина, и боль, и кровь от крови… Подрастая, Дробышев, как многие подростки, начал переоценку родителей, и больше всего досталось отцу, который сразу оказался и недостаточно умен, и недостаточно образован, небезупречен нравственно и главное — несовременен. Бедняга отец немало пережил унижений за эти пятнадцать — двадцать лет, отделявшие созревание Дробышева от его женитьбы и рождения сына. Вот тут, став мужем, а потом и отцом, Дробышев понял кое-что о взаимоотношениях мужчины и женщины, детей и родителей, нечто такое, что в других цивилизациях (надменно почитаемых нами отсталыми) дается ребенку как абсолютное знание, категорический императив… С годами Дробышев все острее ощущал свою вину перед отцом, увы, запоздалую… Как уехать теперь, сделать такой шаг, когда, может быть, совсем уже недалеко до последнего упокоения на этом вот самом кладбище под щедро золотящими землю осенними березами (как человек, подходящий к пятидесяти, Дробышев предпочитал не определять свой срок средней продолжительностью жизни, а твердо и разумно придерживаться того факта, что сроки наши определены Всевышним).
Приходя на кладбище, Дробышев вспоминал обычно не только то, что его связывало с отцом или с Мишкой, но и всю свою жизнь, так тесно и сложно связанную с родиной, с этими вот березками, с невзгодами и радостями страны, с ее песнями, прибаутками, сказками, идиоматическими выражениями, с ее словами, словами, словами… Ну да, слова, слова, слова — потому что слова — это и была на девяносто процентов его жизнь, слова-копья, слова-уроды, слова меткие, ублюдочные, прекрасные, слова матерные… А вдруг он затоскует невыносимо (что значит — вдруг, наверняка же он затоскует) по этим словам, по вагону электрички, переполненному людьми, которые незаметно для себя и грациозно (как дышат люди или животные) говорят на этом столь досконально знакомом ему языке, что тогда? Да как вообще люди, особенно уже немолодые, могут вдруг покинуть насиженное, знакомое до боли гнездо? Вот хотя бы в той же Монголии…
Совсем недавно Дробышев побывал у русских старообрядцев, больше полувека тому назад осевших в Монголии. Это была обычная экспедиция; привычная работа, когда он входил в среду, знакомился, дружился, а потом, войдя с хозяевами в отношения дружеской доверительности, включал магнитофон… И вот в одной доверительной беседе, после старых припевок, заговоров и частушек, он услышал вдруг разговор о том, что деревня эта скоро опустеет, потому что все русские уезжают из нее на свою малознакомую или вовсе им не знакомую родину — в Россию, в Союз. Осталось тут всего два десятка семей, самые упорные, они знают, что надо ехать, все продавать и ехать, потому что дети уже разъехались, устроились, но они вот все не могут решиться, — посидеть, подождать, еще раз, может, в последний, собрать урожай огурцов, еще раз половить форелей в щедрой здешней реке, знакомой с детства, еще раз сходить на охоту в родные горы, еще разок поработать в своей кузне, прежде чем продать ее или развалить, еще раз… Подвыпивший мужик вдруг перестал петь и, прослезившись, заговорил о лошадях, о кузнице, даже о соседях-монголах и о соседях-китайцах: прожитые здесь полвека казались ему идиллически безмятежными, а заманчивая городская жизнь в Союзе, в Ангарске, куда уехали дети, пугала неизвестностью… Дробышев выключил микрофон, они забыли на время о песнях, потому что оба пытались понять, как же это вот так бывает, хорошо ли это и как можно…
Дробышев встал, медленно пошел среди могил. Земля и листья пахли осенью, прелью, роскошный ковер листьев разостлан был под ногами — это была она, его сладостная родина, — вдруг там, где-то там они будут пахнуть по-иному, эти листья, земля, осень, и он затоскует нестерпимо, но не сможет приехать сюда, даже на время, как турист, а будет ходить где-нибудь близ границы, выглядывая родные березы…
Маленький человек в шляпе внимательно посмотрел на Дробышева, покачал головой, сказал:
— Это ваш папа там лежит?
— Да. Отец.
— Это хорошо, что вы любите так своего папу. Редко уже кто так навещает папу, как будто сами они никогда не собираются быть папой и не собираются умирать… У вас какие-нибудь еще большие неприятности? Если это, конечно, не секрет…
Дробышев сказал, неожиданно для себя самого:
— Я собираюсь отсюда уехать. В общем, надумал уезжать… Совсем.
— Туда? — Человек странно качнул головой вверх и вбок.
— Может, не совсем туда, но…
— Да, да, я вас понял. Сейчас многие едут туда. И многие не совсем туда. Я так думаю, что это замечательно, уехать туда. Представляете — все кругом будут свои, все евреи. Когда я прихожу сюда, и то мне уже легче — тоже все кругом свои, хотя по большей части и не живые, а там… Вы представляете?
— Нет, — сказал Дробышев надменно. — Не представляю. И честно сказать, меня это мало трогает.
— Вас это мало трогает! — Человечек всплеснул руками. Потом пожал плечами, очень выразительно, и еще покрутил пальцем у виска. — Тогда вы сами не знаете, что вам нужно.
— Может быть… — сказал Дробышев и махнул рукой прощально. — Может быть…
Он шагал прочь все быстрее и быстрее. О чем ему говорить с этим человечком? У них разные проблемы и разные трудности. У каждого из них свои радости. Так сказать, свой кайф. Его кайф на непролазных дорогах Архангельской области, в пустеющих деревнях за самоваром, в заброшенных церквах… Его голгофа в издательском коридоре, в собственной комнате, забитой книгами, после полуночи, в бессонницу.
А кто вообще согнал нас на одно кладбище? Кто хочет навязать нам субкультуру национальной неполноценности и национальной гордости, все эти национально-освободительные страсти, идеи национального объединения? Нет, он, Дробышев, не пойдет у них на поводу, кто бы они ни были, эти люди. Для него существует другое национальное — сокрытые россыпи культуры, золото народного сердца, народной речи… В конце-то концов, сколько веков назад выступил апостол Павел, для которого не было ни иудея, ни эллина…
По пути к воротам Дробышев повторял это смешное «не совсем туда». Когда он летел в Улан-Батор, в самолете было много американских туристов, и он пристально их разглядывал. В его нынешнем раздерганном состоянии каждый из них, казалось, представал кандидатом в его будущие родственники. Мысль эта его пугала. Они казались ему людьми не только совсем иной, но словно бы еще и низшей породы. Хотя они были всего-навсего туристы, состоятельные старухи или дельцы из Калифорнии, он с пристрастием выспрашивал их, на кой черт они летят в Монголию, что они знают о ламаизме или буддизме… Их темнота представлялась ему почему-то еще более непроглядной, чем та, что окружала его дома. На кой черт эти валенки носятся по свету? И что ему в них? О Боже, что за тщета.
На горе Дробышева, один из них оказался филологом-русистом, эмигрантом послевоенных лет. У него было прочное положение в каком-то университете американского Запада, однако до этого он немало потрудился в поисках выгодного занятия. Он перепробовал все.
— Каждое утро, — сказал он, — каждое утро я вставал себе в шесть часов и подметал картонную фабрику… Да, Америка любит, чтобы человек подметал фабрику на совесть.
Теперь он преподавал русский. Дробышев был в ужасе от его русского и от его филологических познаний. Сперва Дробышев был склонен смотреть на этого грамотея сверху вниз, потом с горечью подумал, что этот человек, так долго подметавший фабричку, там будет иметь тысячу преимуществ перед ним, потому что знает конъюнктуру, знает, что продается, какая нужна филология потребителю, и вообще — закален в борьбе…
Измученный Дробышев сел на скамейку перед странным сундуком, скрывавшим останки раввина московской синагоги. Раввин никуда не ехал. Раввин уже был дома. Интересно, жалел ли он о том, что жизнь его сложилась так, а не иначе?
* * *
Ходорец уныло взглянул на кучу мусора, на голубые железные ограды, поставленные к стене, на тележку с гробом, на черные могильные камни со странными надписями (говорят, они пишут справа налево, как арабы, интересно, отчего же они тогда воюют с арабами?), на камни со скрещенными ладонями — странные, дикие надписи и дикие, некультурные камни. Ну и что же, что оно еврейское, это кладбище, — разве евреи обязательно должны быть такими дикими, слава Богу, уж кого-кого, а ихнего брата он навидался, но в других, в культурных видах и проявлениях, например Аркадий Райкин, Вадим Мулерман, а здесь словно средневековое общество — крики, плач, молитвы…
Ходорец ушел в контору и закрылся у себя в кабинете, чтобы забыть хоть на минуту это могильное окружение, и тут невеселые, даже, можно сказать, горестные мысли обступили его со всех сторон. Жизнь не удавалась, не удалась, все пошло прахом, и ясно, что он зашел в тупик, потому что дальше уж просто некуда. Конечно, он отчасти виноват, что говорить, но все же он был не хуже других, и не так уж он много пил, ну, выпивал, ну, было два-три замечания, и, конечно, с поездкой в Данию он сам себе подпортил, так что вообще, кажется, с выездной работой теперь дело гиблое, но ведь он мог бы и тут работать, не хуже людей — в каком-нибудь приличном месте. Под это же самое сокращение, что и он, пожалуйста, трое ушли в комитет по кино, там и работа непыльная, и сценарии можно писать научиться, нетрудное дело, и актрисы, говорят, сами тебе садятся на нос, а главное — обстановка приличная. Трое из их отдела ушли на радио, хуже, но все-таки учреждение, все свои, и потом, это звучит — редактор, обозреватель. А уж он должен был бы получить что-нибудь получше, тем более с Хоботковым вместе не раз выпивали и обещал, что не выдаст. Сказал, такое найду место, будешь доволен: интересно, чему тут радоваться, чему это быть довольным?
Ходорец выглянул в боковое окно, выходившее на задворки гранитной мастерской. Пьяные работяги о чем-то спорили: спорили небось, кому бежать в магазин. Один из них, красноносый, небритый, в драном комбинезоне, аж коленку видно, подошел и отправил всех на свои места. «Вот какой им нужен руководитель», — с горечью подумал Ходорец и почувствовал себя кем-то вроде Маленкова, заброшенного на Усть-Каменогорскую ГЭС, или Троцкого в Алма-Ате…
В дверь постучали. Вежливо и настырно.
— Подождете! — крикнул Ходорец и отвернулся. За окном красноносый работяга складывал рубли кучками: интересно, сколько они собираются выжрать водки за рабочий день? Ну хоть здесь-то он не должен наводить порядок, пусть жрут. И вообще, пропади оно все пропадом…
В дверь снова постучали. Ходорец отпер, поспешно вернулся за стол и взял телефонную трубку. Стал медленно набирать номер, первый, что пришел в голову, — свой домашний.
— Газгешите? Позволю себе отнять у вас тги минуты вашего дгагоценного вгемени и поделиться некотогыми сообгажениями не то чтобы сгочного, а, пгаво, небезынтегесного хагактега…
Горбоносый, бородатый, в старомодном полосатом костюме — до чего ж они все же бывают нелепые…
— Газгешите пгежде всего пгедставиться. Пгофессог Пгошин. А точнее, по нашей тегминологии, доцент института Кгупской. Пгошин Владимиг Иваныч…
Значит, они бывают еще Иванычи, интересно… Ходорец небрежно-снисходительно указал рукой на стул: посидите, сейчас кончу. Этому шикарному жесту он научился у Хоботкова. Этому. И еще закусывать. К телефону подошел его малолетний сын.
— Олег Владимирович, — официально сказал ему Ходорец. — Я обдумал кое-какие рекомендации… Надеюсь, они пойдут выше. Хорошо. Сообщу вам позднее. Где-то после обеда…
Пизденыш ничего не понял и стал бормотать свое — про жвачку. Где ему Ходорец возьмет жвачку, не в «Интуристе». Мертвяков будет жевать.
Доцент играл куском бороды.
— Та-а-к… Я тоже Владимир Иванович… — улыбнулся Ходорец. И добавил со значением: — Настоящий Владимир Иванович.
Доцент понял шутку и всполошился:
— Я тоже исконно гусский. Новгогодский. Из газночинцев…
— Короче говоря… — твердо кивнул Ходорец и поймал себя на желании сказать «Когоче».
— Когоче говогя… — подхватил доцент. — Я пгишел к выводу, что такое замечательное учгеждение, как ваше, находящееся, можно сказать, в центге внимания общественности, могло бы в некотогом годе выступить инициатогом некотогых пгоггессивных мегопгиятий… Я много газмышлял над этим…
— Вам и книги в руки… — Ходорец выдавил из себя кислую улыбку.
— А почему бы нам, дгажайший Владимиг Иванович, не подвести электгичество к каждой могильной точке… Вы, вегоятно, помните, как хогонили Швайцега?
— Что-то не припоминаю, — нахмурился Ходорец.
— Это было в джунглях Экватогиальной Афгики, в Габоне… Почтенный стагец умигал, а его афгиканские сотгудники пгоиггывали для него записи бессмегтного Баха…
— Вы хотите…
— Да! Пгедставьте себе, как это могло быть пгекгасно… Возле надггобия нашей Цили, моей свояченицы, я мог бы в гозетку включить пгоиггыватель, и тогда записи бессмегтного гения-чудотвогца…
— Я это дело записываю на календаре, — сказал Ходорец нетерпеливо. — Как зовут — Циля?
— Если меня, то Пгошин, Владимиг Иваныч…
— Нет, его?
— А, Бах! Иоганн Себастиан… Вы пгипоминаете, что баховский культ в Евгопе начался, собственно, в девятнадцатом веке, однако Швайцег…
— Войдем в вышестоящие организации. У меня уже тут много накопилось предложений. Вот тут — по вопросам лопат, удобрения, оград и культа… Ваше учтем. В целом планы благоустройства предусматривают. И воду проведем, и лопаты, все будет, дайте время, товарищи. Войдем в вышестоящие, будет… До свиданья!
Сладостно улыбаясь, доцент Прошин отступал к двери. Вся эта белиберда из Баха, Цили и Габона постепенно рассеялась в голове у Ходорца, и осталась, как заноза, нелепая фраза насчет «центра внимания». Почему это они в центре внимания? Почему, скажем, Пятницкое не в центре внимания, Преображенское не в центре внимания или Ваганьковское, где Есенин, или даже Новодевичье, где жена Иосифа Виссарионыча и пресловутый памятник Хрущеву, не в центре внимания, а их Востряковское в центре внимания? Тут простая мысль пришла в голову Ходорцу, и ему стало от этой мысли совсем кисло: да потому, что здесь евреи, здесь сионизм может расцвесть махровым цветом, потому что напряженная ситуация, вот что он имел в виду, Прошин. Потому что, вон глянь, никого не выпускают, а евреев выпускают, хотя другим тоже не меньше хочется пожинать плоды конвертируемой валюты… Да, ничего себе, удружил Хоботков местечко бесхлопотное…
В дверь постучали. Громко и робко. Как по крышке гроба.
— Да! Войдите! — крикнул Ходорец в остервенении.
Вошел красноносый гранильщик, как был, небритый, в рваном своем комбинезоне — наглец, хоть бы переоделся, прежде чем в кабинет.
Красноносый встал на почтительном расстоянии, заговорил уклончиво:
— Тут вот такое дело, поскольку сегодня день шахтера, а это у нас считается свой праздник, поскольку мы тоже на подземных работах, хотя, конечно, и по другим причинам, как и другие дни тоже отмечаются… В общем, ребята собрались сегодня отметить, и очень, конечно, им бы хотелось, чтоб вы их почтили и, так сказать, для нового знакомства с вами, как бы с рабочим классом…
Ходорец взглянул на него раздевающе, и красноносый запнулся. Взгляду этому Ходорец научился у самого Хоботкова, так что, если бы у этого красноносого была в прошлом хоть одна судимость, он бы и не так сейчас поперхнулся. Кажется, и так все понял. Отдышался. Заговорил снова:
— Вот и я им тоже сказал, что вам это не с руки… Они мне тогда — вот, мол, передай, попроси, чтоб за наше здоровье, вернее, от нашего лица, поскольку все же неудобно, праздник, из уважения к рабочему человеку…
Красноносый сунул что-то под краснозвездную книгу отзывов и стал быстро пятиться к двери, видно, уже не чаял унести ноги.
«Во гадость, — подумал Ходорец. — С кем приходится дело иметь… Трешку свою грязную сунул и думает — купил на корню. Куда я все же попал, вместо Копенгагена…»
Зазвонил телефон. Ходорец долго, мучительно пытаясь сосредоточиться, слушал старушечий лепет:
— С вами говохит секхетах пахткома ЖЭК-15 Базилевич Доха Исаковна… Наша охганизация насчитывает сохок стахых пахтийцев, усопший товахищ Шпинский был пхедседатель культухной комиссии, член хедколлегии, член пахтбюхо, бессменный дежухный комнаты здоховья и общественной консультации…
— Вот и уморили товарища, — сказал Ходорец. — Рази можно столько?
Старуха замолчала. Видно, она еще не кончила свой перечень и теперь не знала, с какого места начать.
— Ближе к сути вопроса, — сказал Ходорец.
— Семья покойного хотела бы похохонить его на Пехвом новоевхейском…
— Все хотят на Первом, — сказал Ходорец. — А кладбище не резиновое. Надо все же иметь сознательность, тем более старым членам партии. Кому-то надо захороняться и на смешанных участках. Интернационализм надо проявить, товарищи… Тем более сами знаете, что на Первом новоеврейском мест нет… В райком? Это пожалуйста. Можете позвонить, это каждый имеет право, и, если товарищи сочтут возможным, будем изыскивать, тем более есть специальное указание исполкома… Вот так, товарищ, не помню, как вас по отчеству…
«В райком она позвонит, гадина, — подумал Ходорец, вешая трубку. — Самой на кладбище пора, а туда же… До чего все же дикий народ евреи. Пока не вращаешься, видишь только отдельные вполне человеческие экземпляры, не понимаешь… А тут… — Ходорец вспомнил какое-то ближнее к воротам надгробье: — Мирка-Руфь Хасриловна… Действительно правду пишут о сионизме. Они же цепляются за старое — от таких людей чего хочешь можно ждать…»
Ходорец с тоской взглянул на окно. Кладбище пустело. Гранильщики, наверно, давно упились. «А что тут еще делать в таком месте? — подумал Ходорец, честно забывая, что во всех прочих местах города делают то же самое. — Надо вызвать похоронную машину, заехать в универсам и взять бутылку… А на что взять? На кукиш не купишь…»
И тут он вспомнил красноносого. Усмехнулся, брезгливо поднял краснокожую книгу отзывов и предложений. Там и правда лежали деньги. Он угадал — трешки. Но трешек было много. Ходорец считал их весело и небрежно. Насчитал сорок штук.
Это уже было кое-что. Вторая зарплата. Может, Хоботков и правду говорил. А Копенгаген подождет. Копенгаген от нас никуда не денется. С этим делом никто не знает куда и когда. А тут он пока на чистом воздухе прокантуется…
Ходорец вышел на крыльцо, деловито махнул шоферу похоронной машины.
* * *
В воскресенье Северцев поехал на кладбище с сыном. Восьмилетний Аркаша был до удивления похож на Любу, и это было естественно. Иначе и не могло случиться в их браке, где Люба была главная. Сын был похож на мать, больше всех любил мать, говорил, как она, и даже с Северцевым держался панибратски-снисходительно, как Люба. И хотя это было естественно и объяснимо, Северцеву все же иногда становилось обидно. Он так долго мечтал об этом мальчике, своем будущем друге и будущем союзнике, продолжении и новом воплощении себя самого в другом существе.
Как ни странно, но именно теперь, после Любиной смерти, Северцев больше, чем когда бы то ни было, ощущал, как права была платоновская Диотима, ощущал, что это его стремление к чадородию было лишь внутренним, неукротимым исканием вечной памяти, продления себя на земле, а вовсе не творческим порывом к созданию чада по образу своему и подобию. С нежностью отмечая, что мальчик привязывается к нему все больше, Северцев замечал и то, что он все больше забывает мать, и к сердцу его подступала горечь: человеческое памятование было иллюзией, оно было бессильно, ведь и сам человек был так слаб, переменчив, он был смертен. Мудрецы понимали это, смеялись над желанием слабого человека найти опору в близком существе:
«До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете…»
Мудрецы смеялись над слабостью мужчины, над его отцовской гордостью, выбивали из-под его ног шаткую подпорку, чтобы он встал босой на холодную землю и, может быть, устоял:
«„Сыновья — мои, богатство — мое“, — так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?»
Мудрецы учили бежать привязанностей, освобождаться от желаний. Они предупреждали, угрожали: человека, помешавшегося на детях и скоте, исполненного желаний, похищает смерть, как наводнение — спящую деревню…
У Северцева не было ни скота, ни богатств. Но у него был Аркаша, и он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, беззащитным, открытым любому горю…
Аркаша вышагивал позади отца, не ведая обо всех этих сложностях. Нет, он, конечно, сознавал свою роль в жизни отца, однако использовал это знание односторонне, чисто утилитарно. Он уже усвоил откуда-то (и Северцев ломал голову, откуда же — от матери-идеалистки, от бабушки-комиссарши, от соучеников-оболтусов?), что деньги являются мерилом полноты жизни, и во время редких совместных выходов с отцом старался жить как можно полнее. Возможности его (впрочем, как и возможности старшего Северцева) были пока довольно ограниченны — ну, скажем, путешествие до кладбища на такси…
Неподалеку от Любиной ограды они услышали надрывный крик. Это кричал над чьей-то могилой краснолицый старик в ермолке, со слуховым аппаратом за ухом. Считалось, что его, такого старого, опытного и глухого, еврейский Бог должен выслушать в первую очередь.
Мальчик как зачарованный смотрел в рот старику. Глядя на прелестную мордашку сына, его полураскрытые губы и его глаза, расширенные вниманием, Северцев думал о том, что Люба, будь у нее малейший повод, непременно пригласила бы старика покричать над чьей-нибудь могилой на этом малопонятном (для нее тоже) еврейском языке. Дело в том, что в последние годы, следуя, как, впрочем, и всегда, новейшим побуждениям передовой мысли, Люба сменила увлечение брахманизмом и буддизмом на увлечение иудаизмом. Вероятно, она поняла в этом иудаизме так же мало, как в свое время в брахманизме, однако это все же внесло в их дом новые идеи, новые слова и симпатии: она была все-таки неукротимая искательница модных идей и далеко спрятанных истин. Северцев, умиляясь, так и звал ее в письмах — «моя искательница истин». Аркаше это последнее увлечение стоило имени — если бы не новое увлечение, Северцев, конечно, выхлопотал бы ему что-нибудь более благозвучное, а так пришлось выбирать лишь между Ароном и Аркадием. В начальный момент каждого нового увлечения Люба бывала непреклонной, и Северцев, как всегда, сдался: Аркаша так Аркаша, хоть не Ароша, и то ладно.
— Хочешь, чтобы он покричал над мамой? — спросил Северцев, ловя прихоти сына.
— А сколько это будет стоить? — спросил ребенок, и Северцев снова отметил этот возрастной, а может, все же и наследственный меркантилизм.
— Осилим, — сказал Северцев и сделал знак старику, прятавшему гонорар куда-то под пальто и бесчисленные душегрейки.
— Как ее зовут? — спросил старик, кивая на портрет Любы, и добавил: — Ашейне мейделе…
— Люба, — сказал Северцев, и голос его дрогнул.
— Любовь Марковна, — отчетливо поправил Аркаша.
Старик закричал. Северцев думал о том, что, может быть, Люба была права, как всегда права. По-своему права. Откуда-то из пустыни, через тысячелетия, эти бережливые люди донесли свой крик, надрывную жалобу пастухов. Вот так, наверно, кричал Иов на своем гноище.
«Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастие.
Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня.
На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?
Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются как вода.
Опротивела душе моей жизнь моя…»
Старик замолчал. Северцев протянул ему пятерку и сказал: «Спасибо». Аркаша удовлетворенно кивнул, но отметил:
— Тот дядька дал ему два рубля, я видел…
— Присядем, сынок, — сказал Северцев.
Черняк медленно шел по дорожке. Он вспомнил, как однажды позвонил матери из командировки и услышал чужой, странный, хрипло-пискливый голос.
— Это я. Это же я! — настаивала мать. — У меня голос пропал от простуды. Разве ты не узнаешь? Это я…
Черняк ходил обеспокоенный по чужому городу и вечером позвонил снова… Это был не ее голос. Это была не она. Потом, еще через несколько лет, он увидел ее мертвую, в больничном морге. Она лежала недвижная, успокоенная, холодная. Дыхание, дух, душа покинули ее. Тело отталкивало холодностью, резиновой вязкостью и твердостью. Это было не ее тело. Это была не Она…
Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу по образу и подобию созданную нашу красоту, — безобразну и безсловесну, не имущу вида.В последнюю ночь он помогал медсестре обтирать ее тело спиртом — от пролежней — и слезно умилялся красоте этого тела. Она была жива. И вот оно стало чужим, совершенно другим. Тело человека — устроенность его целого, загадочное и прекрасное вместилище его души… Ее души. Ее прекрасной души…
У режиссерской могилы Черняк увидел пестрое сборище не по-нашему одетых людей и обошел стороной. Он не хотел отрываться от матери, Она была с ним здесь сегодня. Значит, все же случается так: удивительная доброта живет после смерти. И живет память. Все его друзья говорят ему об этом при встрече: «Помню твою маму». Не то чтобы это меняло их жизнь, учило чему-нибудь. Это ведь и на его собственную жизнь не накладывает существенного отпечатка: он тот же, что всегда, во всем блеске своих слабостей и пороков. И все же Она живет в его мире, в их мире, а может бьпь, это он, Черняк, переселяется мало-помалу в Ее мир, это большая честь для него — жить в Ее мире, в мире таких, как Она. Конечно, ни одна существующая в мире теория или вера не дозволит, чтобы он последовал за Ней после смерти — слишком по-разному жили они, — но хотя бы теперь, хотя бы отчасти.
Черняк думал о своей нынешней жизни, о своих метаниях, своем беспутстве, и покаянные стихи приходили ему на ум, растравляя печаль:
«Не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя; даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько…
Мати Божия Пречистая, воззри на мя, грешного, и от сети диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько».
Сейчас… Сейчас станет легче… Ради этого облегчения и растравлял он себя в лукавстве своем, в вечном своем цепляний за радость и легкость пути. Но уже недалеко, недолго — вот недавно было тридцать, потом сорок, а тут, совсем близко, пятьдесят.
«Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей…»
«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!»
Черняк тихо плакал, вцепившись в решетку. Пришло облегчение… Он вспомнил материнское письмо. О том, что Она сидела сегодня в гостях и не могла дождаться конца: скорей бы прийти домой и написать ему. Оно было с ним, это письмо. Может, и Она существует где-то рядом, нет, не здесь, не в Вострякове, где железные решетки, и пластмассовый мусор цветов, и камни, и почему-то Ее имя на камне… Нет, где-нибудь еще ближе к нему, на пустых зимних дачах Подмосковья или в теплой долине Фирюзы, где он работает и дремлет на солнце, в кишлаках Таджикистана…
Она была везде с ним, они были рядом, и различие между ними, расстояние между ними стиралось и таяло в этом мире привязанности и воспоминаний…
Черняк краем обошел веселое многолюдье режиссерской могилы, подошел к воротам. Красивая, одетая с изысканной небрежностью женщина обогнала его, махнула таксисту. Она смахнула слезу, погляделась в маленькое зеркальце, умело хлопнула дверью. Потом пристально взглянула на Черняка. Черняк подумал, что он мог бы попроситься в ту же машину до метро или до центра, а такое путешествие — достаточный повод для знакомства. И, поймав себя на этой мысли, он понял, что Обращение опять не состоялось. Он был здесь, в ничтожной суете желаний, Она — там. Черняк обнял железный столб у стоянки и снова заплакал.
* * *
Они славно поработали сегодня, и они заслужили выпивку. Режиссер это признал, а директор это знал заранее, на то он и директор, выделил четвертак, помреж собрал еще по рваному и сгонял в ближайший универсам за горючим. Так что когда режиссер крикнул: «Благодарю вас! На сегодня все!» — у них уже сервирован был походный стол, и все выпили — так дружно и славно, что дорогой захотелось еще, и тут кто-то вспомнил Сеню Хайнацкого, который начинал эту картину, а они ее уже вот-вот кончат, скоро конец, все. Кто вспомнил первый, можно догадаться — Динка вспомнила, костюмерша, и посмотрела со значением на Жанну, главную героиню, и та, конечно, сразу подала голос. «Ой, братцы, как же мы так…» — сказала, как положено, с чувством, с надрывом, по системе Станиславского, и очень по-дружески, так что до последнего осветителя дошло — что надо, мол, ценить свой труд и своих товарищей по работе, всех и каждого, если мы не оценим, то кто ж еще нас ценить будет. Динка вспомнила, потому что она его много лет любила, Хайнацкого, бесконечный у нее был роман, длиннее всех его браков, ну, если и не всех, то последних двух — уж точно, а вспомнила она, как часто его вспоминала, и еще потому, что они выехали на кольцевую дорогу, куда выходит и его еврейское кладбище. И на Жанку она тоже посмотрела не зря: Жанка была последняя пассия Хайнацкого, уже после жены, при последней жене, Жанку он и вытянул на главную роль, уж что она там была за актриса, Бог ей судья, а теперь она, конечно, дай время, перейдет по наследству к нынешнему режиссеру, к которому перешла и картина, раньше-то он выше второго не тянул — все это Динке было понятно и заранее известно, потому что она уже давно работала в кино, она была костюмерша дай Бог, она ни к кому не переходила по наследству, она просто любила этого Сеню Хайнацкого много лет, все знают, как она его любила, как оберегала от всех неприятностей, как бегала в больницу, как убивалась…
Режиссер поддержал женское предложение, еще бы ему не поддержать — за спиной Хайнацкого он держался, его именем картину получил, первую в своей жизни картину, теперь что не получится, свалит на покойного, а получится — и объяснять не надо, все ордена ему… Они еще раз заглянули в универсам, а потом нагрянули всей кодлой на тихое это кладбище в его осеннем золоте — только тут осень заметили, а там была не природа, там натура была, а здесь вот заметили осень, и при этом подумали многие, ощутив опустошающую усталость этого дня, еще усугубленную скромной выпивкой: вот, мол, лежит режиссер спокойно, не надо больше психовать, что осветители пьяные, расход-перерасход пленки, то-се, пятое, десятое, двадцать пятое… У могилы разлили еще по стаканам, выпили быстро, стали говорить речи — сперва коротенькую режиссер, а потом уж длинные и вовсе бесконечные — актеры, про жизнь для искусства, по большому счету и так далее, только слушая…
Говорили также понемногу операторы; ассистенты всех видов про то, как Сеня умел строить кадр, как он чувствовал, что кино, а что не кино, как он умел заставить актера работать, все по большому счету, по бреду и еще по чему-то, что нельзя выразить словами, а только в пластике, в действии и, конечно, в пленке, в черно-белой Шосткинского завода и еще в цветной, которую проявляют месяцами, так что снимаешь вслепую, не видя материала, а потом как на прошлом фильме, на «Большой любви», все же вот подобрали, помонтировали, и получилось кино, не гениальное, конечно, а все же не стыдное, и это уже само по себе гениально…
Директор захмелел, сидел, прощупывал себе печень, думал; что и он может не сегодня-завтра отправиться вслед за этим обормотом Хайнацким, все под Богом ходим, там не разбирают — обормот не обормот. А Динка сидела сбоку на скамеечке и тихо плакала, гримерши ей знай подливали, уж чего-чего, а выпить она могла.
Жанна, всем этим скоро наскучив, побрела между могилами и вдруг увидела издали, как стоит, скрючившись над решеткой, молодой черноволосый мужчина, один среди могил и берез — плечи его вздрагивают, просто так, без видимой причины и системы Станиславского: от этого зрелища ей вдруг стало мучительно страшно, как будто она подошла и заглянула вниз, в бездонную бездну. Хотелось глядеть еще и еще, хотя нужно было повернуться и бежать прочь, но не слушались ноги, и тут кто-то нежно тронул ее за плечо: это был Гарик, режиссер, бывший второй, а ныне полновластный, все же с его стороны было порядочно, что он, когда пришел, не стал пихать свою Наталью на эту роль, не стал ужимать роль, а мог бы, конечно, вообще-то, он был парень ничего, приставал, конечно, помаленьку, но кто же из них не пристает? Жанна его пока держала на расстоянии, а тут вдруг так страшно стало, уткнулась ему в грудь, и он так спокойно, уверенно стал гладить ее по спине, целовать в шею, в уши, и она обмякла совсем, плюнула на все, к тому же день такой выдался, и выпивка, а он уже добрался до трусиков, забрал ее всю куда-то к себе под плащ, прижал к решетке, она еще успела подумать, что тоже, гляди, умеет, большой специалист, киношный профессионал, а потом уж больше ничего не думала, даже про группу не думала, что глядят, вроде бы укрыта под плащом, и нет ее, ничего нет… А только все скоро кончилось, он что-то залепетал, стал заправлять рубаху, отошел мочиться, а она вдруг увидела березы в мелких золотых медальках, красные цветы на могиле, сиротливый кустарник, вспомнила, что это же кладбище и что они приехали навестить Хайнацкого, своего гения, просто как добрые коллеги, собратья по искусству… Она второпях поправила юбочку, трусы и побежала прочь между могилами, цепляя плащом за ограды, натыкая листву на острый каблук, размазывая по щекам слезы и грим. Гарик что-то крикнул ей вслед, а что, она уже не слышала, еще к ней на пустой аллее приставал какой-то краснорожий старик со слуховым аппаратом за ухом, и еще какой-то мужчина посмотрел на нее пронзительно, когда она садилась в такси. Она хлопнула дверцей и вдруг увидела, что мужчина этот отвернулся, обнял столб и плечи у него стали вздрагивать, как у того, что был возле могилы, — да что они все тут, посходили с ума, что ли?
— Скорей! — сказала она шефу. — К метро.
— Тут дело недолгое, — сказал таксист, трогая. — А дальше куда?
— А дальше? — она пошарила в сумочке и добавила спокойно: — А дальше денег нет.
* * *
Скамейку опять сперли. Черняк был уверен, что спер ее тот самый дядя Вася-скамеечник, который ее и врыл. Похоже, что врыть и вырыть старую скамейку дяде Васе было много легче, чем изготовить новую. Вначале Черняк возмущался, а потом смирился с дополнительным расходом — ну и Бог с ним, четыре-пять скамеек в год, лишние полсотни. Когда остыл, он нашел в этом даже утешительную сторону — дядя Вася экономил лес, оберегал его от истребления, вот бы еще газеты на всей земле перестали печатать…
Черняк теперь вообще искал примирения с существующим порядком вещей, с неизбежностью, и воспоминание о трепетной материнской чувствительности приводило его в ужас: Она не выносила чужой боли, Она постоянно боялась за детей, а они боялись за Нее (скорее, конечно, теоретически, не обременяя себя реальными заботами). Они жили при Ней в этой непримиренности с несчастьем и страданием, между тем древняя мудрость гласила, что Человек рожден на муки и страдания, обречен на смерть, от рождения проклят. Откуда же этот Ее трепет, эта открытость чужому несчастью, этот вечный страх, исступленная попытка ликвидировать любую боль в этом царстве боли? Перечитывая Ее письма, Черняк и теперь страдал из-за Ее вечного беспокойства. (Она беспокоилась за кого-нибудь из них, их детей, за их друзей, которые болели, разводились, хандрили, голодали и еще Бог знает что, беспокоилась за чьих-то сослуживцев, за их будущее.) Читая, он почти физически ощущал, как это вечное беспокойство изнашивает Ее сердце, бесконечно доброе и чувствительное… Черняк хотел бы обрести спокойствие, примириться со смертью, с неизбежностью страдания, с неизбежностью от века известных человечеству трагедий — трагедии умирания тела, трагедии умирания любви, трагедии познания… Ему еще предстояло примириться с человеческим несовершенством, прежде всего с собственным несовершенством, потом с убожеством женщины. Может быть, мать поможет ему сейчас, после дрязг недавнего развода, поможет ему вернуться к иллюзиям, как помогала всегда при жизни. Ведь раз жила на свете Она, значит, есть где-то и другие, похожие на Нее женщины. А может, все женщины при определенной системе отношений бывают такими, какой стала год назад его бывшая жена… Или наоборот, каждая может подняться до Ее уровня.
Пробираясь к себе, Черняк загляделся на фотографию молодой женщины. Строгое, но доброе лицо, умное и, без сомнения, красивое. Собственно, ему не нравились такие лица. Он вырос в России, ему (как и Ей, впрочем) нравились женщины курносые, широколицые, чуть простоватые, а эта была какая-то уж очень восточная. Но, без сомнения, умная, добрая, пожалуй, даже снисходительно-мягкая… Любовь Марковна Северцева. Почему Северцева? Точнее, по кому? Вероятно, по мужу.
— Хорошенькая идишке, — сказал маленький человечек в шляпе, подходя к ограде. — Нет лучше, как хорошая идишке. И что характерно, муж у нее гой. И даже, я вам скажу, с водкой. Я часто тут вижу его.
Черняк с неодобрением взглянул на коротышку в шляпе и подумал, что Она не одобрила бы этого человечка. Она сказала бы, что это лавочник и что он, вероятно, из украинских евреев.
— Здесь неплохо себя чувствуешь, — сказал человечек в шляпе. — Здесь все свои и никто тебя не обзовет.
— Они, — Черняк повел рукою вокруг, — уже нечувствительны к обиде.
Он отвернулся и пошел своей дорогой, думая о том, что Она не одобрила бы это знакомство и даже это общество. Он вспомнил, как однажды летом они приехали по рекомендации друзей в дачную местность под Даугавпилсом и увидели белье, развешанное среди сосен, заморенных и перекормленных еврейских детей, примусы, знакомый бедлам тамошней, правда, не подмосковной, а латышской Малаховки… Черняк улыбнулся воспоминанию: Она не захотела оставаться там ни минуты — за три или четыре десятка лет московской жизни Она впитала русские предубеждения: избранный народ не был Ее возлюбленным народом. Это можно было бы назвать антисемитизмом, если бы в своей жизненной практике Она не была так непредвзято и беспредельно добра ко всем — русским, цыганам, украинцам, евреям, армянам…
Черняк остановился у массивного камня над кем-то из клана Ломоносовых и огляделся. Востряковская осень была в разгаре, она ласкала глаз золотом листвы, белизной березовых стволов, обдавала нежным и грустным теплом, запахами прели… Черняк закинул голову, увидел разбавленно-синее небо в просветах золотой березы, хлебнул прохладного осеннего воздуха, густого, как вода, и тут заметил седого, подвижного человека в очках, смотревшего почти в ту же точку неба.
Они долго молчали. Потом седой сказал, не поворачивая головы к Черняку:
— В такие вот дни особенно обидно за них. Особенно грустно…
— Да, — согласился Черняк. — Но жалеем-то мы при этом себя. И думаем о себе, о том, что раньше или позже… А когда мы говорим, что они вот не разделяют с нами этого пиршества осени, то откуда эта уверенность? Откуда мы можем знать, что они видят и что разделяют? Откуда нам знать, что они завидуют нам и должны завидовать? Вообще? Всегда?
— Завидовать нам? — удивленно протянул мужчина в очках. — Это мы можем завидовать им.
Настала очередь Черняка удивляться, и он не замедлил выразить удивление такой странностью или такой степенью отчаяния.
— Ну как же! — сказал мужчина в очках. — Они прошли так или иначе свой путь, они здесь, у них нет выбора. Это не так уж мало. А я должен выбирать. Я должен покинуть все это. Или не покидать. Мое дело, мой долг подсказывают мне необходимость переменить место — вы понимаете меня? Это велит мой научный долг. И в конце концов, мой человеческий долг. Но здесь у меня родные могилы. Здесь, наконец, мое место. К тому же там я могу вдруг оказаться бессильным. Могу утратить интерес к своему предмету. Потому что самый предмет мой здесь. Эта страна. Эта культура. Этот язык, фольклор… Моя родина, место, где я родился… Земля, которая была так ко мне ласкова. Земля, вместе с которой голодал и мерз.
Черняк согласно кивнул:
— Да, это я узнаю… Кажется, что-то школьное.
— Ну что ж, это Маяковский… А что вы можете возразить на это?
— Не знаю… — Черняк пожал плечами. — Я вам не советчик. Я сам не знаю, на каком я свете. Но мне кажется, вы все усложняете. Вы придаете слишком большое значение и себе, и месту вашего существования, и вовсе уж незначительному факту — местонахождению вашего трупа. Вы видели когда-нибудь мусульманское кладбище? Где-нибудь в кишлаке?
— Да, конечно… И монгольские тоже… И многие другие, на которых ничего нет — иногда один забор, иногда еще шест на какой-нибудь из тысячи забытых могил, да, да…
— В ваших речах много фетишизма, — сказал Черняк жестоко. — И много самовнушения. Кто вы такой? Одна из малых тварей Божиих. Проживите честно, разумно, милосердно. И не думайте о пустяках, о могилах, о долге, о месте в ряду или вне ряда…
— Я думаю об ушедших поколениях, — сказал Дробышев. — Ведь мы должны о них думать. Так же, как о поколениях грядущих, а может, и больше. Их много, тех, кто ушел, мы в долгу перед ними…
— Пожалуй… — Черняк покачал головой. — Но если преходящее славно, тем более славно пребывающее…
Дробышев настороженно поднял голову, и Черняк улыбнулся:
— Ну да, Новый Завет. Послание к Коринфянам… Мне жаль вас. Попробуйте проще. Если вы сможете что-то сделать, переменив место, перемените его. Сделать что-то — это немало, на малый наш век… Ну а если вы можете обойтись (мир и наука обойдутся, это я вам гарантирую), — плюньте на все, оставайтесь, но решитесь и живите спокойно. Сама перемена, задуманная вами, поверьте, ничтожна… Всех благ!
Черняк обернулся с дороги и увидел спину человека в очках, согбенную мукой. Может быть, величайшей из мук — мукой нерешительности. Черняк в задумчивости пошел к выходу и, поравнявшись с режиссерской могилой, увидел красивую молодую женщину, которую уже видел однажды на этой скамейке. На сей раз она стояла в нерешительности возле самой аллеи и вопросительно смотрела на Черняка, точно он мог разрешить ее сомнения. Он и вправду мог кое-что рассказать по поводу разора, царившего вокруг, и по поводу остатков огромного и безвкусного букета, уже пересортированного и общипанного бабой Лизой.
— Что это? — спросила женщина у Черняка, остановив его, как старого знакомого.
— Здесь было много людей, — сказал Черняк. — Я не подходил близко, но я видел…
— Что за люди?
Черняк пожал плечами:
— Они были похожи на иностранцев.
— На каких иностранцев?
— Разных. На арабов. На французов. На английских хиппи. На австралийских бродяг. Они были в джинсах. В шубах. В рогоже, тулупах, куртках из болоньи — что еще?
— Это были они… — сказала женщина, брезгливо поджав губы. И вдруг повернулась к Черняку. — Как неприятно! Хотя как будто это должно было быть приятно. Но там была эта женщина…
— Да, женщина, — невольно кивнул Черняк и осекся.
— Что вы видели?
— Нет, нет, — испуганно сказал Черняк. — Я ничего не видел. Я ничего не хотел видеть. Я был в таком состоянии. Вы не обращайте внимания на меня…
Взгляд ее смягчился.
— Кто у вас? — спросила она.
— Мама…
Она сказала ему просто:
— Я буду здесь в воскресенье. Около трех. Не опаздывайте… Я буду ждать. До свидания.
— До свидания, — сказал Черняк и пошел к воротам.
* * *
Как ни странно, предстоящее свидание не окрылило его. Он опустился на скамью против конторы и почувствовал, что у него нет ни сил, ни желания идти дальше. «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались…» Он с надеждой подумал, что его нет вообще. Первый же прохожий не заметит его, сядет на скамью, на то самое место, где он: так начнется его уход в незнаемое, невидимое. «Изнемогла от грехов моих сила моя…»
Бодрый, скользкоглазый человек вышел на крыльцо конторы.
— Вы ко мне, товарищ? — спросил он любезно.
— Нет… — резко ответил Черняк, с неудовольствием отметив, что его все-таки можно заметить. Впрочем, этот человек с неуловимым, скользящим взглядом, наверное, замечает все.
— Что ж… тогда, пожалуй, и я пойду, — сказал бодрый человек и еще раз внимательно огладил Черняка взглядом. Потом он повернулся и пошел прочь, а Черняк испытал вдруг острый приступ тошноты. Он маялся, глядя на казенную клумбу, на малорослые цветы и сорные травы, пытаясь понять, что же было такого в этом бодром человеке, что пробудило в нем недвусмысленный позыв к рвоте.
«Тошная сила, — думал Черняк. — Нечистая сила. Это был нечистый…»
Однако современный человек, неистребимо в нем сидевший, искал варианты. Черняк припомнил вдруг, что такое же чувство испытал он однажды после вынужденной беседы с начкадрами на работе — то же чувство нечистоты от вторжения в область абсурдно-запретного, темного знания…
«Что же он, такой, здесь делает?» — подумал Черняк и вдруг успокоился, махнул рукой.
— Проверяет анкеты мертвых… Готовит на них наградной материал… Представление на тот свет… А я… А я — трахну жену режиссера. Усопшего режиссера — значит, вдову, это не так страшно… Не так страшно… — повторял он.
Но долгое пребывание в Вострякове научило его, что это так же страшно. Что это безразлично, живой человек или мертвый. Безразлично для его души… Черняк с удивлением вспомнил, что такое же вот нравственно-опустошающее раскрепощение пришло к нему после той самой беседы с начкадрами. Тогда он с легкостью, даже с каким-то облегчением совратил жену друга. Общение с тошной силой не проходит безнаказанно…
Черняк встал, пошел к остановке.
«Изнемогла от грехов моих сила моя…»
* * *
Ходорец окликнул Черняка просто так, от избытка служебной энергии — день у него нынче выдался деловой и приятный, он уже чувствовал здесь свою власть, и силу, и желание толково, с пользой работать на новом месте — с пользой для себя и людей, живых и мертвых, с пользой для дела, так чтоб дело приносило тебе пользу, потому что интересы личные и общественные у нас неразделимы, это Хоботков всегда говорил на планерке.
И день выдался Ходорцу интересный, хотя и нелегкий. Можно даже сказать, научный день, потому что с самого утра нагрянул какой-то профессор в мятом костюме, небритый, а может, и немытый тоже. Он мялся все время и сморкался в платок и вдруг с ужасом взглядывал себе на ноги: точно он не мог вспомнить, надел он сегодня штаны или нет, и при этом еще картавил и шепелявил безбожно. Но документы у него были все действительные — профессор в Бауманском училище, МВТУ, куда и сам Ходорец поступал когда-то, но срезался. Да, воспоминаньице… Ходорец уже хотел завернуть его вместе с его Бауманским и с его этим делом (дела у них все те же: любимая двоюродная сестра Фаня отправилась на тот свет, но хочет лежать на Первом новоеврейском рядом с троюродным братом), однако тут вдруг вспомнил, что хоботковский потрох учится в Бауманском (если еще не выгнали — ну а если не выгнали, то, верно, уже выгоняют, тот еще подарок). Тут же при профессоре позвонил Хоботкову, а ему самому, мятому, сказал, что надо будет помогать одному очень своеобразному юноше (слово хорошее, доцент Прошин обронил). Ух, как он заметался, как забился этот мятый профессор, вроде бы он никогда ничем таким, ни за что, иначе пропадешь, столько, знаете, родни, а дело есть дело, однако у Ходорца разговор простой и душевный — любишь свою Фаню, люби и саночки возить, бывают у всех неприятные минуты, нам здесь приятно, что ли, постоянно находиться в атмосфере человеческого горя (это Ходорец услышал в понедельник от одной дамы и специально записал на календаре). В общем, мятый обещал, Хоботков был растроган заботой, просил звонить и заезжать (не пропала еще твоя Дания!), а здесь как раз пришел Культурный Еврей, Ходорец так его и запомнил, хотя у него фамилия была какая-то красивая — Маркшейдер или еще как-то, и бумажки его вполне определенно указывали, что он Семен Давыдыч такой-то из Филармонии, то ли из Госконцерта, но какое это имеет значение, если и так видно — Культурный Человек, хотя и еврей. Культурный Еврей. Одет он был так, как вот сейчас в Копенгагене одеваются, в Бонне, а также в Канберре и Вашингтоне, притом как будто они специально для него моду выдумывают и на него шьют, так все ладно на нем сидит, уверенно и спокойно. И в душу он к тебе не лезет, небрежно так, между делом сказал, мол, понимает, что уже обрыдли, вероятно, все эти могильные вопросы, упомянул, что семья лауреата конкурса Ванявского или Синявского хочет сюда, но так сказал, как будто сам он не еврей и сам никогда не помрет и вообще этого не понимает, просто у старика лауреата допотопное еврейское семейство с их мелкой слабостью, а сам старик известен был всему миру, греб деньги лопатой, вот и все. Потом человек этот сразу перешел на культурные темы, в театрах сейчас, сами знаете, ничего приличного, искусство вырождается, совсем уже почти выродилось, однако если Владимир Иваныч надумает с женой или кем угодно, то он немедля пришлет билеты — можно Таганку, «Современник», Сатиру, «Ромэн», оперетту, но можно еще к Эфросу на Бронную, все рвутся, хотя если говорить между своими, то прав был старик Шекспир, много шуму из ничего, «Вишневый сад» весь происходит на кладбище, вряд ли вам захочется после трудовой недели… — И тонко так улыбнулся. Ходорец подхватил шутку и спросил:
— На еврейском, конечно?
— Нет, нет, — сказал Культурный. — Там другая Раневская. Не Фаина…
Ходорец тоже улыбнулся понимающе — даже если не все поймешь, а все равно приятно поговорить, что мы, ради одних денег, что ли, работаем, важна атмосфера жизни, даже и на диком еврейском кладбище один культурный человек всегда поймет другого. Но этот был не просто приятный и культурный человек, он был просто какой-то всемогущий и всезнающий (бывают же среди них такие, недаром, говорят, даже Гитлер держал одного для себя, или вот еще — Киссинджер), речь зашла о кино, он тут же вытащил пропуск на двоих в Дом кино на что-то новое, положил небрежно на стол, а билеты в театр обещал прислать с машиной в понедельник (кстати, как насчет машины, у них там подходит очередь, и можно сделать машину, очень удобно через Польшу, ГДР и дальше на своей машине, проезд ведь теперь безвизный, вы знаете), тут уж Ходорец не выдержал, признался, что он, собственно, тут временно, по пути в Данию (сказал и тут же сам поверил). В общем, если какие трудности, ради Бога, Владимир Иваныч, вот вам телефон на визитной карточке, а это я напишу специально для вас, сугубо интимный…
Трудности? Какие трудности? Ходорец раскис и вдруг вспомнил, что бывают трудности, до черта трудностей — вон в прошлом году нагрянула из деревни женина родня, а квартирка маленькая, хоть на шкафу их клади, так, поверите, хотел в гостиницу — никуда не ткнешься, говорить не хотят… Сказал и тут же пожалел — сразу тут и родня, и деревня, и жилищные условия, все поперло, другой мир. Но Семен Давыдыч все понял, культурный человек не бонтонничает, просто помогает, сказал, что гостиницу в любое время, а насчет квартиры надо действовать, под лежачий камень вода не течет, это можно сделать, есть у него Серафим Игнатьич, душа-человек, большой босс, с той недели можно начать хлопоты. А потом снова, с тактом, обаяние бесконечное, как будто и не еврей, перешел на искусство, на книги — книг теперь не издают, но бывает — есть свои продавщицы и свой завмаг на Кузнецком — всякая мелочь, «Анжелика» и так далее, пусть Владимир Иваныч только заикнется…
После этого разговора Ходорец сидел разнеженный, как после первой рюмки в хорошей компании, и тут опять стук, но как будто уже знакомый, очень вежливый, но такой — где хочешь тебя достанет, так и есть, когда дверь открылась, Ходорец сразу вспомнил — доцент, у которого Циля свояченица, еще магнитофон заводить хотел на могилке, как у какого-то там в Африке, был такой любитель…
— У меня для вас интегесное сообщение. — Доцент Прошин улыбался Ходорцу из бороды ласково и лукаво. — Я говогил в СОДе, и намечаются интегесные мегопгиятия…
— Присаживайтесь, — сказал Ходорец и поймал себя на том, что ему хочется сказать «пгисаживайтесь».
— Я говогил с товагищем Кгупитько в Союзе обществ дгужбы, и он согласился со мной, что ваше кладбище должно вступить коллективным членом в Союз обществ…
— Как? Всем вместе? — спросил Ходорец, чувствуя, что почва опять уходит у него из-под ног, как и во время первого визита Прошина.
— Конечно. Это обычная пгоцедуга — чисто фогмальная, но хагактер мегопгиятий…
— Это что же, со всеми покойниками?
— Что вы, голубчик, фу, какая макабга… — Прошин светски замахал руками. — Коллектив. Все, так сказать, тгудовые похогонщики, гганилыцики, все, так сказать, тгуженики подземных габот…
— Мы их не приравниваем, — сказал Ходорец. — Иначе много трудностей сразу по профсоюзной линии. Вредность и все такое. Они и так у нас здесь гребут лопатой.
— Нет, нет, я пгосто к тому, что междунагодное значение вашей гуманной деятельности… Я сказал товарищу Кгупитько…
— Это не Валерка ли Крупитько там, у них? — спросил Ходорец, отчаянно пытаясь нащупать какое-нибудь реальное звено в прошинской ахинее.
— Да, возможно, Валегий Митгофанович Кгупитько… — сказал доцент. — Завотделом культугного…
— Он! — возбужденно сказал Ходорец. — Эва его куда кинуло. Он у нас всегда был чудак. «Науку и технику» читал. Вслух разные факты зачитывал. У него и кличка была «Доцент». Как у вас.
— Это пге-кгасно! — сказал доцент Прошин. — Мы могли бы наладить постоянный обмен делегациями. И вы должны ехать, Владимиг Иваныч. Пгежде всего Пгага — стагинное кладбище сгедневекового евгейского гетто. Мы должны быть готовы к любой пговокации, и только кгугозог, только обмен…
— В Прагу я, пожалуй, смогу… — задумчиво сказал Ходорец. — В Прагу это можно. Хотя это, конечно, не Копенгаген.
— Вам было бы интегесно и в Гегманию, стгану Хайне и Гете, в данном случае — Хайне, но и хгистианские фгитхоф тгинадцатого века могли бы вам многое…
— Вот именно, — сказал Ходорец. — Здесь много своей специфики. Это дело надо знать досконально, как мы его знаем, знать и любить, потому что многие еще думают, что это им тяп-ляп, вроде искусства или кино. Нет, это дело большой тонкости, и на нем надо зубы съесть… А вы ко мне что хотели? По своей линии? Кажется, у вас Циля?
— Лично мне ничего не нужно! — со страстью сказал Прошин. — И как истинно гусский человек я вообще лично не заинтегесован… Вы можете подумать, что за стганность, но это именно так… Я стганный, гусский, интеллигентный человек, котогому все нужно и котогому для себя не нужно ничего. Люди удивляются — что нужно Пгошину, отчего он делает так много? Отчего этот пгофессог, так сказать, в каждой бочке затычка? Они не могут понять, что такова натуга гусского газночинца. Тгуд гади добга. Как Швайцег.
Ходорец терпеливо слушал, не веря ни единому слову.
— И все-таки, — сказал Ходорец в заключение. — Просите что угодно, Владимир Иваныч. Вы этого заслужили.
— Ну уж тогда… — доцент Прошин мягко улыбнулся, уступая настоятельности директора. — Уж тогда тачку. Пгостую гусскую тачку…
— Вот это другое дело, — сказал озабоченно Ходорец, нажимая кнопку звонка. — А на что она вам, любопытно, понадобилась, тачка?
Вместо секретарши Ларисы, выбранной Ходорцом однажды на многолюдных русских похоронах, вошел красноносый вождь гранильщиков в своих драных штанах.
— Ты что здесь, Смурнов? — строго спросил Ходорец и обернулся к доценту. — Полюбуйтесь на коллективного члена, можно сказать…
— Лариску мы в магазин командировали, так что я за нее подежурил, Владимир Иваныч.
— Тачка у вас найдется?
— А как же. У нас все найдется. — Смурнов мерзко подмигнул, но тут же попятился к двери под взглядом Ходорца.
— Мне это все годное и близкое, — сказал доцент, тепло глядя вслед Смурнову. — Я сам сильно пгивегжен физическому тгуду, и вот эти гуки пгофессога изготовили все в доме — от бюго до кгышки для, пгостите, унитаза. Вот вы спгосили, зачем тачка, пгавильно?
— Спросил… — согласился Ходорец.
— О-о, это целая тема… Дело в том, что свояченицу моей жены зовут Цецилия-Августа. Дома ее иногда звали Ава. А что такое «овво», или по дгугим источникам «обо»? Это священная насыпь камней у пгивегженцев ламаизма, и ведут ее следы, скогей всего, в гелигию бон… Иногда источники называют эти насыпи, эти туты «обо», но пгавильно, по-монгольски, все же — «овво». Замечаете — Ава, обо, пегегласовка весьма тоже хагагтегная. И я подумал, что насыпать «овво»…
— Хорошо, сыпьте, — сказал Ходорец. — Только на чужие могилы не залезайте. В рамках, так сказать.
— Хагактегно, что нынешние «овво», кгоме камней, содегжат бутылки, пластмассовые иггушки, палки…
— Этого добра на Первом новоеврейском хватит, — сказал Ходорец, вставая с чувством легкого головокружения. — Понятно. Действуйте.
Доцент Прошин долго, с чувством жал ему руку.
— А Валерке Крупитько привет. Скажите, Володя вот на кладбище управляется. Видишь, как разбросало наших. Сильный был отдел. Ну, всех благ.
* * *
Северцев пришел на кладбище усталый, и его быстро разморило от традиционной чекушки. Люба смотрела с портрета строго, неодобрительно.
— Ну что уж ты так, милок? — примирительно говорил Северцев. — С горных высот да в мою бездну? А где же снисхождение к падшим? Христос и грешница. Ты же христианка, Любаш. Ну да, ты была христианка. А потом буддистка. А потом уж иудаистка. А все равно — семижды семь надо прощать, потому что кто ж без греха?
Северцев поднял взгляд к портрету. Любовь Марковна смотрела неумолимо, так сказать, бескомпромиссно.
Северцев отвернулся. Потом снова взглянул на нее украдкой, насупился. Чертовски сегодня разморило. Только поэтому он не может поговорить с ней как с равной. Раз и навсегда. Ему есть что ей сказать. Да, есть. Напрасно они думают, что они угоднее Господу, любому господу, эти праведники, без единого пятнышка, эти безгрешные, много о себе возомнившие… Тьфу, мысль путается, не надо было пить… Нет, напротив, надо было как следует выпить, и тогда поговорить начистоту… Раз и навсегда…
— А вот и мы!
Северцев поднял голову и недоумевающе глядел на двух охломонов. Ну да, те самые, что приставали насчет решетки. А потом они еще вырвали у него из горла маленькую и поломали кайф. Но теперь не выйдет, господа хорошие, уже все, допил, так что добро пожаловать, добро дошли.
— Наше вам! — сказал тот, что помоложе, а старик вытащил из внутреннего кармана бутылку, сверкнувшую металлическим блеском. Северцев вынужден был признать, что это была материализация столь тщательно скрываемой от самого себя и от Любы его так называемой задней мысли.
— Мы давеча у вас маленькую брали… — сказал старик. — Так мы не забыли. А только тут у нас, в востряковском магазине, нету маленьких. Так что мы уж вам принесли бутылочку, не обессудьте…
— Нет, нет! — сказал Северцев. — Ни за что! Ни за что! — И добавил, смягчась: — Только с вами. С вами, пожалуй.
— Оно, конечно, завсегда лучше в компании… — сказал старик, подстилая телогрейку рядом с Северцевым. Молодой, примостившись на соседнем камне («Хася и Миша Брук-Тельновские»), уже нарезал колбасу неровными кусками, напоминающими формой кремневое оружие неандертальца.
— Потому что мы же не для телесного удовольствия пьем, верно? — рассуждал старик. — А пьем для души. Душе, ей нужна душевность. Тоись общение. А которые говорят «нажрался» или даже говорят «накушался», то эти слепцы не понимают, для чего люди пьют и даже можно назвать вкушают…
Молодой очень ловко разлил по стаканам водку, так что старик, ни на минуту не прерывая своей речи, смог произнести тост:
— Со свиданьицем в этом пока еще мире — и за упокой вашей сродственницы, кто бы она вам ни приходилась… Будем здоровы!
— Будем! — сказал Северцев.
Он выпил, оглядел увядающую золотую прелесть вечернего Вострякова. Душа его окончательно смягчилась, готова была слиться с душами других людей, а также со всемирной душой, растворенной в океане Вселенной. Перед лицом этой красоты, доброты и смягченности все теряло свой особый строгий смысл — рождения и смерти, возвышения и падения, успехи и неудачи — все растворялось в этом океане любви и братства. Мысль Северцева больше не слабела, не путалась, не блуждала бесцельно — она была острой как нож, она была всепроникающей, всеобъемлющей и всеприемлющей. Для нее не было границ или ограничений: она могла сейчас понять голод нищего и смертную муку миллионера, исступление аскета и сладкую истому окунающего руку в холодный поток на вершине жаркого полдня… Мысль его охватывала переплетение тропинок и дорог, сплетение путей, скрещение цивилизаций, однако в ней не было смятения и зависти, в его мысли, она различала свой путь на этих перепутьях. И ей смешна была ограниченность правоты, убежденность праведника, неприятье чужой веры и чужой маеты…
После второго стакана раскрепощенный дух Северцева вдруг взметнулся и призвал к бунту. Он прямо взглянул в суженные гневом Любины глаза и сказал, обращаясь к старику:
— Она не одобряет меня. Она не разрешила бы пить.
— Что ты, милок… — Старик разлил им остатки «Кубанской», а молодой проворно извлек из сумки огромную бутыль того самого пойла, которое зовут по России то чернилами, то гнилушкой, то бормотухой, то червивкой, то отчего-то чимергесом, однако пьют неизменно и повсеместно. — Э-эх, что ты, милок… Они все так.
— Нет, нет! — вскричал Северцев. — Она не как все. Она особо. Ей всегда была известна истина в последней инстанции. Каждый раз новая истина, но всегда главная, и притом в монопольном владении. Одна приемлемая истина, которой все должно подчиниться. И я скажу отчего. Моя теща… — Северцев понизил голос, как будто эта страшная теща могла скрываться где-то среди могил, могла вдруг откинуть плиту и выбраться из мирного убежища Брук-Тельновских или Писенсона. — Да, да, моя теща была комиссар. И тесть тоже был комиссар, но главное — теща. Она была из местечка. Она пришла к власти. И вот ей доверили истину. Всю истину, целиком. Это страшно, когда человек из местечка получает истину и может насаждать ее среди лишенцев…
— А она у тебя что, тоже по этой линии работала? — Старик обтер губы и опасливо кивнул на портрет Любы.
— Нет! Нет! — воскликнул Северцев. — Она наоборот. Нет, не наоборот. Как бы это объяснить? Она боролась с их истиной. Но свои она насаждала так же. Тем же способом. Тем же путем. И с тем же темпераментом. Она насаждала добро. И гуманность. И религию. Много религий. Все по очереди. И все тем же способом. Она была дочь комиссаров. Она была даже хуже, чем они. Она была непреклонна, и человек снова ничего не значил перед новой догмой. Живой человек, который был рядом, ничего не значил. В теории человек означал все, все для человека, но живой — он был задавлен…
Старик разлил вино по стаканам и снова с опаской покосился на Любин портрет.
— Бог с ней, — сказал он. — Царствие ей небесное. Чего было, то было…
— Но ведь это дух! Идея! Система! — вскричал Северцев. — Они живы. Они живут. Они давят. И с ними надо бороться!
— Ишь как она тебя… — вздохнул старик, разливая по стаканам остатки бормотухи.
— Да, да! — запальчиво продолжал Северцев. — Так нельзя с человеком, ибо его дух выходит здоровым из рук Творца. Ибо грех — то, что ведет к его духовному искривлению. А это искривление и есть зло. Рожден же человек целостным, нормальным, неповрежденным. Дух его доступен и гостеприимен, готов к благодарности и благоговению. И ничто не зло по природе, а по способу пользования делается злым. Это истинная правда, и этому учил святой Мефодий…
Старик и молодой переглянулись, встали. Молодой швырнул бутылку и угодил в кучу мусора, возвышавшуюся на могиле прошинской свояченицы.
— Мы вот что, — сказал старик. — Попили чуток и пойдем. Оно выпить можно, — добавил он, извиняясь. — Попить можно и даже поломать что ни то. Даже и украсть можно. А эти разные рассуждения, за них не погладют. У нас вон и завклад новый прямо оттель прислан, откуда положено.
— Завсклад? — оторопело спросил Северцев, опускаясь на землю рядом со скамейкой.
— Не завсклад, а завклад, завкладбищем… — бормотал старик, запахиваясь и отходя за могилу Писенсона. — Побузили, и будет. Пошли, Валера…
— Наше вам, — сказал молодой и поспешил рысцой за старшим, но Северцев уже не слушал их. Он смотрел на Любу пылающим взглядом, смотрел с укором и вызовом.
— Так нельзя! — сказал он ей наконец. — Нельзя поломать человека, потому что он дитя Божие. Ведь ты изучала религии — разве Господь топчет так Свою тварь, разве Он топчет душу ее и тело? Напротив. Он хочет возжечь в груди ее свет, смягчить ее сердце. Пусть я изгаженная, грешная тварь, пусть я блудное детище Божие, но раз я удостоен Его любви, способен к очищению, значит, нельзя меня так… Нет, нет, ты была неправа. Ты неправа сейчас.
Голос Северцева дрогнул, слезы навернулись ему на глаза.
— Он не любит человеческого, греховного, но Он любит людей, каждого человека, а не какое-то там человечество…
Вера вышла из-за ограды Писенсона и подошла к Северцеву. Она давно уже была там, а после ухода Валеры с Гаврилычем подошла совсем близко и стояла не таясь. Теперь у нее больше не стало мочи смотреть на его муку. Она подошла и положила большую свою натруженную руку на его воспаленный лоб.
— Я прав? — спросил Северцев. — Скажите мне, я прав?
— А как же… — сказала Вера, помогая ему подняться и сесть на скамейку. — Хоть и русский Бог, хоть и еврейский, хоть и этот, который у татар, Он нешто позволит так живую тварь мучить?
— Вот именно! — вскричал Северцев. — Вы правы. Вы совершенно правы. И это основа для экуменизма… Да ладно, пускай, Бог с ним, со всем, но это основа для человеческих отношений. И не смотри так! — Он обернулся вдруг к Любиному портрету. — Ты не успела меня раздавить, но много было раздавленных, и я видел их. Я видел, как они отрекались, ползали во прахе…
— Ото-то, полегонечку, помаленечку, — говорила Вера, выводя Северцева из ограды.
Дитя он, дитя и есть. Она это поняла еще в тот самый первый раз, когда увидела его на кладбище. Дитя обидеть грех. Она тогда чуть не набросилась на Валеру с Гаврилычем, а у них, вишь, все же есть совесть. Но эта — уу-у, змеюка… Вера с ненавистью обернулась на портрет черненькой женщины: какие все же бывают среди этих образованных, по лицу видно, все бы им верховодить, людей мучить себе на потеху.
— Ну, еще, еще немного… — приговаривала Вера.
Северцев шел сам, его только заносило временами в сторону, и тогда Вера направляла его, придерживая за талию, приговаривая нежно:
— Еще чуток, вот тут, миленький, вот тут, тут посуше…
Северцев устал, но по временам он еще продолжал свой спор с кем-то невидимым и очень упорным.
— Нет! — восклицал он. — Нет! Человек не ангел и не животное… И это несчастье его, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное… И я порицаю тех… Нет, это Он порицает тех, кто взял себе за правило только восхвалять человека и кто только насмехается над ним. Я с теми… Ну да, это Он с ними, страдающий Паскаль… Он с теми, кто, тяжко стеная, пытается обрести истину… А этим… Которым известна вся истина. У них же правильный метод, у них все истины на все времена…
Вера жила недалеко от кладбища, в старом домике, который еще не снесли, но уже не ремонтировали, так что все здесь сладостно пахло запустением, древесной трухой, цветами, хлевом.
— Вот и дом, — сказала она, и Северцев подхватил ее фразу:
— Да, это дом. У него запах дома. Скоро подойдет бульдозер, и дома не будет. Будет бетонная клетка.
— Дадут. Как у всех, с удобствами дадут. Может, еще отдельную…
— Будут удобства. Как у всех, — сказал Северцев. — И вода. И все. Не будет запаха. И не будет дома. А может, и там? — Он вдруг с ужасом обернулся на кладбище. — Может, они и там построят что-нибудь многоэтажное, из стекла и бетона. Там будет говорить радио. Будут стенгазеты. Доска почета у входа. Отличные похоронщики. Могилы образцового содержания. Отличники заупокойной жизни. Дружина общественного заупокойствия…
— Вот сюда, — сказала Вера. — Садись, радиво послушай. А я картошку поставлю, небось не ел ничего сегодня, вот тебя и взяло. А хошь, у меня еще есть маленькая…
Северцев умиленно рассматривал убогую обстановку ее комнатки и говорил что-то свое, временами непонятное, но доброжелательное:
— Ты хорошая. Очень хорошая. Ты не обидишь. И вот это — это все… Может быть, это гарантия… Может быть, мы сбережем частицу души… Но нет, и здесь, и в таком убожестве, кипят страсти… Глянь вокруг…
— Уж чего за день наслушаешься… А все же я так скажу, что вот ваш брат еврей больше по-человечески живет и пьет меньше, не по-скотски…
— Наш брат живет лучше, — сказал Северцев. — Наша сестра живет лучше. Наш небрат живет хуже и та, что нам не сестра. Которая хотя и не пьет, но живет по-скотски. Пасет не свою скотину. Узурпирует пастырские права. Она живет не по-людски, значит, живет по-скотски…
Вера поняла, что ему уже не нужна картошка и что даже маленькая будет сегодня лишней. Она бережно, как ребенка, раздела его, положила на высокую постель с железными пташками.
— А ты где?
— Да обо мне не думай, дом велик, что же я, не устроюсь? И на печи можно, и раскладушка есть, и сундук, ноги подберу, и все, а можно и в повети, еще не холодно…
— Ты здесь, — сказал он, засыпая, и ткнул в узкую полоску перины, остававшуюся незанятой. Раздевшись, она долго и осторожно укладывалась на узкую эту полосу, чтобы не потревожить его сон. И все же, когда она улеглась наконец и постель застонала, прогнулась под тяжестью ее тела, Северцев сполз к ее краю, в теплую вмятину. Столкнувшись с человеческим теплом мягкого, доброго ее тела и огромной груди, он застонал благодарно, обнял ее за шею, соединяясь с ней блаженно и полусонно, и она приняла его с умилением и нежностью. Потом он спал безмятежно, проваливаясь в бездумное, беззаботное тепло ночи, а она гладила его без конца, бесхитростно, неумышленно возвращая ему силу, возвращая его из сна, а когда он пробудился, наблюдала за ним снисходительно-благодарно и умиленно, как за ребенком. Он наконец проснулся окончательно и рассмеялся:
— Боже, как мало тебя это все тешит!
— Ляжь, как тебе удобнее, — сказала она. — Ты гладкий. Ты такой… Такой…
— Как мало тебя это веселит! — сказал он. — Все для меня. Но при этом никаких претензий. Безыскусная фригидность самоотречения. Никаких изобретений и никаких поисков. Лишь бы жалел. Лишь бы любил. Совсем другая система.
— Да уж, она небось другая была… — ревниво шепнула Вера и тут же испугалась: не надо бы про нее вспоминать, сейчас рассердится.
Но он только усмехнулся опять:
— Нет, она тоже ничего не могла. Она слишком много думала. И слишком многого ждала. Она была абсолютно фригидна. И при этом — огромные сексуальные претензии, раздутое самомнение. И конечно, желание повелевать. Верховодить и здесь, как везде. Реализовать теории. Нелепые абстракции, не согретые жизнью тела… Ты лучше, в тысячу раз лучше как женщина, потому что… Потому что…
Слова его стали неразборчивы. Он снова уснул, она слушала его дыхание и говорила вполголоса, скорее себе, чем ему:
— Лучше-то лучше, а вот не любят таких дур… Других любят, которые умные… Которые за себя постоять могут… Которые мучают… За то, видать, и любят… А по мне, кажется, что и лучше, как добрый мужик…
Она разглядывала его усталое лицо, приглаживала его редеющие светлые волосы. Иногда он улыбался во сне, и тогда она улыбалась тоже, не могла сдержать улыбку…
* * *
Черняк вышел из автобуса, перебежал шоссе. Старушки цветочницы шевельнулись у стены, но баба Лиза первой вышла на бровку дороги навстречу покупателю, и они отступились — перед ее проворством и перед ее правом давнего знакомства с Черняком.
— К матушке? — спросила она привычно и так же привычно добавила: — Вот и хорошо делаешь. Охо-хо, а нас кто помянет? Я тебе цветочков припасла. Вот ети…
— А эти вот?
— Ети не надо… — Она торопливо спрятала букет за спину. — А етот задешево отдаю…
Она была ласкова к нему и бескорыстна. Черняк подумал, что букет, который она прячет за спиной, она только сегодня взяла с чьей-нибудь могилы и оттого не хочет продавать ему. Он был растроган, погладил ее по плечу:
— Все одно, баба Лиза. Давайте и тот и этот, матушка ни за что не рассердится…
Уборщица Вера улыбнулась ему у ворот. Востряково щедро осыпало золотую листву — на прелую землю, на холмики, на камни. Земля эта была к нему ласкова, и Черняк вспомнил Уезжающего Человека, понял его и от души пожалел.
— Боже, какая мука может выпасть…
Новая скамейка, врытая дядей Васей, была, конечно, старой и, вероятно, нынче только украденной в другом углу кладбища, но дядя Вася обстрогал ее, как новенькую, и Черняк оценил его старательность.
Он опустился на скамью, положил цветы на то место, где в свое время самолично зарыл чашечку с крематорским пеплом, привычно прочел Ее имя, отчужденное от тела, выбитое на холодном камне чужою рукой.
Тысячи их разговоров, откровений, касание Ее руки, бессловесное взаимное понимание между ними, тысячи Ее забот и нежных услуг, вечная тревога за него, за его друзей — что остается от всего этого? И вообще, зачем все это было? Зачем это бывает? И если уж от Нее… Если даже Она не может… Зачем тогда он? Уж он-то и вовсе… Зачем они все?
Тихо опадали листья, боль его смирялась.
По ветке бузины полз муравей. Черняк подумал о себе, об Уезжающем Человеке. Они были так же малы и ничтожны, как этот муравей, век их был так же краткодневен. Неужели же так важно, по какой ветке бузины ползти муравью?
Он снова прочитал Ее имя. Он не знал и не хотел знать Ее пороков, но прелесть Ее была в том, что она не была святоша. Она радовалась жизни, малым ее подаркам и малым радостям. Непредвиденному обеду в столовой. Случайному сну после обеда. Компании его друзей, так часто собиравшейся у него: Она органически вписывалась в любую компанию, и недостаток образования, о котором Она не уставала твердить в письмах (как будто это не от себя оторвала Она для них это треклятое «образование»), никогда не мешал Ей понимать шутку, разбираться в тонкостях их семейных и производственных отношений. Она любила смеяться, не по-женски кокетливо, а по-мужски осмысленно, подхватывая шутку, передавая ее дальше, развивая. Боже, как он счастлив был, слыша Ее смех, видя минуты Ее беззаботности среди многих Ее забот, усугубленных вечным Долгом, Долгом Любви, Семейным, Материнским Долгом… Отпусти нам Долги Наша…
Ее удивительная, необычайная жизнь, прожитая для других, чему учит она? Чему научила эта жизнь его, самого близкого к Ней человека? Ну а чему учат другие жизни, самая преходящесть жизни и пребывание живых в этой обители ушедших? Человек, приходящий сюда, видит, как коротка жизнь, видит, что ждет его. «Чтобы страсти не ослепляли нас, будем вести себя так, будто нам отпущена неделя жизни», — говорил мудрый. Но как вести себя, не сказал. И вот люди слоняются близ чужих и родных могил, обитают здесь без пользы для души. Он сам, суетный блудник. Добрая баба Лиза, крадущая цветы на могилах. Дядя Вася, по десять раз продающий одни и те же плоды своих (а то и чужих) рук, чтобы напиться и забыть всю неделю жизни, чтобы вовсе ее не иметь…
Намаявшись и наплакавшись вдоволь у родной могилы (теперь уже и своей могилы тоже, потому что участок стал шире), Черняк встал, взглянул на часы. Три часа. Воскресенье. Женщина ждет его на скамейке близ режиссера-мужа. Он пойдет сейчас и утащит ее от могилы в суетный город, на блуд и суету. Он уйдет к ней, покинув Ту, которую всегда, с той самой поры, как почувствовал в себе беспокойство плоти, покидал ради женщин, достойных и недостойных, уличных потаскушек и Ею же для него отысканных, столь пристойных с виду невест…
* * *
Ходорец с каждым днем чувствовал себя все уверенней и вольготней на изрытой могилами востряковской почве. Живые здесь были такие же суматошные, как везде, однако, сравнивая этих людей с теми, с которыми он дружил раньше, хотя бы, например, за границей, Ходорец все же не мог не отметить, что сравнение было в пользу этих. Они были сговорчивей, щедрее и шире, они вспоминали время от времени, что на весь век не напасешься, не накапаешь, да и век-то твой — вот он, до ограды. Они значительно выигрывали в сравнении, скажем, с совслужащими где-нибудь в Нью-Йорке, которые собирались по возвращении на родину жить вечно и потому желали запастись всем необходимым для жизни на этот неопределенный срок…
В погожий день, греясь на солнышке посреди цветника, Ходорец думал о том, как все же много может сделать умный человек для усовершенствования своей жизни, если он постоянно будет думать об этом, не обременяя себя никакими нежизненными понятиями и требованиями. Вот он здесь всего три месяца, но оттого, что ему не нужно тут думать о выполнении плана, что сюда не ездит зря начальство и что здесь даже в ноябрьские праздники можно не вешать флагов (лишь бы не допускать какого-нибудь уж слишком явного бесчинства), он может подумать и о живых или, как выразился один посетитель, о своих ближних. А ближние — это прежде всего он сам, старая мыльница его жена и пизденыш Олег Владимирович, который уже челюсти вывернул от заграничной жвачки (есть она и тут, только поискать надо). Дальше — друзья, благодетель Хоботков и все наши живые соотечественники, которым совсем неплохо живется, во всяком случае на его, ходорцовском, фронте работ. Есть, конечно, отдельные участки отставания и недосмотра, за всем не углядишь. Но ведь не все сразу. Вон, например, бабка идет, вечно она здесь ошивается, а в штате ее нет. Между тем она здесь как бы обитатель кладбища и хотя, конечно, уже знает его в лицо, а все же морду воротит, не здоровается, думает, если не здоровается, значит, ее нет, не видно.
— Вы, гражданка, да, вы… — Ходорец поманил бабку пальцем, а ей уж так хотелось съежиться, растаять, не заметить его знак — может, и правда, не ее зовут, какая же она гражданка… — Вы, да, вы, вам касается, — сказал Ходорец вежливо и неумолимо.
Баба Лиза подошла, встала боком, прижимая к юбке пожухлые астры с обрывком красной ленточки. Ходорец смотрел на нее молча, и этот взгляд стоил большего, чем утомительный допрос. Он ей сразу дал понять, что ему все понятно и все известно, даже больше известно, чем она догадывается и может себе представить.
Потом наконец спросил строго и насмешливо:
— Вы, собственно, что у нас тут делаете? Та-ак… Вы всегда такая молчаливая?
— Я не у вас… — сказала баба Лиза. — Я сама по себе.
— Ясно. Кладбище само по себе, вы сами по себе. А цветы откуда?
— С мово огорода.
— Растут. Прямо с ленточкой. И надписи на них растут… Ясно… Вы сейчас зайдите в гранильный, к товарищу Смурнову, красноносый такой товарищ, в рваных брюках. Он вам все объяснит. И насчет дня шахтера, и насчет прочего, и как вам жить… Сколько у вас в день набегает?
— Когда и ничего.
— А когда чего?
— Рубля три наторгуешь, не больше.
— А когда больше — и все десять?
— Десять редко.
— Ясно. Это, знаете ли, оклад ответственного работника. Или трудящегося ГДР. А тут у нас все же не ГДР. И огород у вас есть? Та-ак. В общем, вы загляните к Смурнову, он человек умный, он вам посоветует… Иначе плохо дело…
— К Хведору, что ли? — спросила для верности баба Лиза, пятясь боком и все еще пряча букет.
— Да, к нему, к Федор Савеличу… И вы, вот вы тоже, товарищ… Да, вы.
Дядя Вася хотел прикинуться совсем пьяненьким, но на Ходорца это не произвело должного впечатления.
— Вы у нас не в штате? — спросил Ходорец и покачал головой. — А жаль. Вы бы и вели обеспечение скамейками. Жалуются товарищи евреи, что скамейки у них кто-то вырывает. А мы бы вам поручили контроль…
— Я был в штате, — сказал дядя Вася. — Под сокращение попал. А я ведь еще в ту войну… Вернее, в коллективизацию…
— Вот видите. Такой человек, а я их жалобы слушаю, верю. Теперь я им скажу, что у нас на этом деле заслуженный человек, герой коллективизации… А то как же я им мог сказать, если вы ко мне даже не заходите. Нехорошо… худо…
Ходорец пожевал губами, и дяде Васе отчего-то вспомнилась белая стена Краснопресненской пересылки, где он отбывал по указу пятнадцать суток…
— Ладно… — сказал Ходорец. — Попробуем на первый раз… Учитывая героическое прошлое. Зайдете сейчас в гранильный к Смурнову, он что-нибудь придумает. В штат, конечно, вряд ли, но так, внештатно… Сколько у вас в день набегает? Рублей сорок?
— Бог с вами! — воскликнул дядя Вася со страстью. — Редко када пятнадцать…
— Ясно, — сказал Ходорец. — Оклад очень ответственного работника. Или даже трудящегося Франции. А там, как известно, квартплата выше, чем у нас. Зайдите сейчас к Смурнову…
Ходорец получал истинное удовольствие, глядя в дяди Васину понурую спину. Смурнов их всех организует… Сколько же их еще бродит тут, неучтенных хозяйственных единиц, настоящих народных талантов, самородков… А им для чего лишние деньги? Они же все равно пропьют. И где пропьют, главное, — здесь же под железной оградой. Без интереса. Без вкуса. Бессодержательно. Ходорец брезгливо дернул плечом и ушел в кабинет: солнце зашло за тучи, и Востряково враз стало неопрятным, серым…
* * *
Уход с кладбища был для Черняка всегда связан с ритуалом прощания — мимо черных семейных глыб клана Ломоносовых; за странную, преступившую все законы русского языка надпись на памятнике супругов Тунис; мимо каменного дерева с обпиленными сучьями и сундука-склепа раввина московской синагоги — прощай, прощай, мамочка, до встречи, пока…
Сегодня прощание закончилось раньше, чем обычно, потому что, едва выйдя на прямую аллею, на которой с недавних пор поселился молодой режиссер Хайнацкий, Черняк перестал думать о Вострякове. Он думал о прекрасной женщине Валентине, жене Хайнацкого, точнее, вдове Хайнацкого, впрочем, если пока приходит к нему, значит, еще жена. Но она пришла сегодня не к нему, не к мужу, и не по долгу жены, это стало ясно, как только на аллее послышались торопливые шаги Черняка, — она сразу встала и торопливо вышла из ограды, хотя знала, как красив будет ее профиль, склоненный над свежими астрами. Она вышла, потому что уже заждалась, потому что ей больше нечего было делать на могиле Сени Хайнацкого, не о чем думать, нечего вспоминать. И потому что ей не хотелось больше вспоминать, а хотелось наживать воспоминания. И хотя она знала, как женщина и актриса, что лучше дождаться в ограде, лучше очнуться из глубокой задумчивости и горя (какой же русский не видел картину Федотова «Вдовушка»?), она встала и пошла ему навстречу, вопреки всем правилам и соображениям. И она ничего не потеряла, потому что это был первый раз, и все, что она сделает в этот первый раз, будет удивительным, необычным, ни на что и ни на кого не похожим — она сама была сегодня не просто прекрасна, она была ни на кого не похожей. Но и этот молодой мужчина, с маниакальным упорством посещающий могилу своей матери, он тоже был ни на кого не похож, такой худой и нервный, волосы растрепаны, и глаза горят, по-настоящему горят, без системы Станиславского, без крика «Мотор!».
Первый раз! И все, как в первый раз, как будто никогда не бывало такого, и не бывало такой встречи, и не бывало таких людей: уже потом, на десятый раз, даже не разлюбив друг друга, они будут удивляться, почему они показались друг другу такими, совсем другими, непохожими на то, что есть, — и рост другой, и голос, и вкус рта, и глаза, и манеры… Потом придет другое (прежде, чем уйдет все), но этого, того, что в первый раз, больше не будет никогда. Он знал это наверняка, и оттого так дорог был для него первый раз, оттого так ценил он первый раз, так трепетал, зная, что во второй раз все будет иначе, чаще всего хуже, даже если будет прекрасно… И оттого жизнь его была бесконечная погоня за этим вот первым разом. И оттого был он неисправимый блудник, знал это и, стыдясь этого, не желал исправиться. И оттого новый роман его, начавшийся там, где он старался забыть о грехе своем, потому что Она конечно же не могла этого одобрить (впрочем, это началось впервые уже на обратном пути с кладбища, на пути к воротам, между могилой и воротами, он упорно подчеркивал в воспоминании этот факт) — новый роман его тоже был обречен на бесплодное завершение, как все предыдущие и все последующие, за исключением одного, навязанного Ею и осуществленного под Ее контролем, романа и брака, принесшего горький плод — дочурку со странным именем Вира (разве можно было позволить, чтобы современная девочка, пионерка, гуляла по свету с бабкиным именем Рива), с которой он жил в мучительной разлуке. Но сейчас — сейчас даже он, знавший наверняка, что это не может кончиться ничем, именно из-за мучительной сладости этого первого раза, — сейчас даже он не думал о будущем, не думал ни о чем, кроме того, что женщина идет ему навстречу, что она сама протянула руку и что рука эта дрожит слегка, что она горяча и легка и словно бескостна…
Он не только не думал о будущем, он не думал больше о настоящем, о времени и о месте, в котором они находятся. В беспредельном эгоизме своей радости миновали они похоронную процессию на главной аллее, обошли по боковой дорожке гроб, досадуя на этих нелепых людей, которые надумали хоронить сегодня, сейчас, в такое время, когда они… Они видели заплаканную старуху, юношу с серым лицом, и ничто не задержало их, не напомнило им ничего…
А может быть, именно они и жили так, как будто жить им осталось всего неделю, может быть, именно их имел в виду мудрец, — во всяком случае, эти двое в нетерпении своем и святотатстве готовы были отстаивать именно такое прочтение знаменитого афоризма…
У ворот отпевали кого-то, но они не задержались у ворот. Более того, между воротами и новоприезжим гробом Черняк увидел застывшее в исступлении нерешительности и горя лицо человека, которого он называл про себя Уезжающий. У Черняка возникло тревожное предчувствие, на мгновение ему захотелось остановиться, но рука Валентины, словно вырываясь, дернулась вперед, к воротам, и тогда, чтобы уничтожить последние препятствия и последние сомнения, он перешел на бег, отметив при этом, что Валентина не отстает, что он не тянет ее за собой, что она бежит вровень с ним. Еще не покинув грустное обиталище своих близких с его собственной, приготовленной недавно могилой, они отчаянно замахали руками зеленому огоньку:
— Такси! Такси!
Будто в этом заключалась конечная цель и оправдание всего, будто в этом сосредоточился для них смысл того, что каждый из них понял за долгое пребывание в ограде Востряковского кладбища.
— Такси! Такси!
* * *
В воскресенье после обеда, оставив Аркашу с родителями жены, Северцев явился на кладбище, не имея в кармане даже обычной своей четвертинки. Он словно бы извинялся перед Любой за шум, учиненный им в прошлый раз, и за свое столь долгое отсутствие. Он извинился бы также перед Верой, потому что и ее он не видел все эти дни, однако Вера, все поняв и верно оценив, не появлялась близ могилы Северцевой…
Остаток прошлой недели Северцев провел в размышлении. Чутко прислушиваясь к себе и анализируя истоки своего бунта, он понял, что никуда ему от Любы не деться. Он был по природе своей не бунтарь, не богема, ему нужны были ограничения, а следовательно, нужна была именно такая вот тоталитарная Люба, продукт любви двух комиссаров сразу. И он понял также, что, продолжайся ее неограниченный гнет дальше, это привело бы к еще более безобразному бунту и, вероятно, к каким-нибудь трагическим последствиям. Однако теперь Люба и ее владычество были ограждены своей несколько метафизической формой существования, и, если говорить начистоту, самый этот гнет был несколько приглушен, смягчен и облагорожен кладбищенской атмосферой их взаимоотношений. В такой форме эти отношения могли продолжаться, и оставалось благословлять судьбу, что кризис не наступил раньше, при жизни его горячо обожаемой Любы: тогда обожание могло перейти в ненависть, а надежды на победу и освобождение не было все равно никакой (разве что Люба сочла бы его в конце концов объектом, недостойным угнетения). Другими словами, Северцев пришел к выводу (который он пока даже боялся открыто сформулировать), что то, что он считал своим величайшим горем, ни с чем не сравнимой трагедией, а именно смерть своей замечательной, горячо любимой жены, было, по существу, редкой удачей, позволившей ему сохранить привязанность и даже подчинение и тем не менее продолжать существование, не впадая в трагические крайности.
Что касается Веры, то его любовь к ней, точнее, к ее доброте могла существовать, сосуществовать с главным его браком, но не могла определять течения жизни, как определяла его зависимость от Любы (живой или мертвой). Если бы сейчас Вера подошла, он приласкал бы ее с той же благодарной доброжелательностью, которая была бы для нее и сладостна и унизительна. Догадываясь обо всем этом и безмерно ревнуя к бесчеловечной покойнице, Вера целое утро кружила неподалеку от Первого новоеврейского и время от времени натыкалась на доцента Прошина, который проводил свой воскресный день за рукоделием, столь полезным для человека умственного труда (если, конечно, считать, что преподавание научного атеизма, которым зарабатывал на хлеб Прошин, является трудом умственным). Прошин в тот день добавил к мусорному «овво» несколько бутылок и банок, сменил батарейки в портативном магнитофоне и поставил кассету с музыкой Чайковского. Потом, побуждаемый обилием подручного материала, он решил соорудить дополнительное «овво» (по-русски «тур» или «куча») на другом краю могилы свояченицы и под танец маленьких лебедей бодро взялся за работу. За этим занятием и застала его Вера, к которой словоохотливый доцент неоднократно обращался со своими малопонятными объяснениями. Вот и сейчас, нисколько не приглушив магнитофон, дабы не лишать покойную Цецилию-Августу радости общения с Чайковским, Прошин стал рассказывать Вере о том, какие преобразования в стиле позднего тангутского царства он намечает провести на этой могиле весной. И здесь Вера, издерганная любовными неудачами, осенним упадком заработка и картавой, невразумительной речью доцента, а также зрелищем двух мусорных куч, оскорблявших ее врожденную чистоплотность и вкус, вдруг разразилась неожиданной для ее мягкого нрава и ее обычной почтительной робости злобной филиппикой против доцента и в защиту его неведомой свояченицы.
— Да что ж это вы над мертвяком изгиляетесь! — истерично крикнула Вера, чем привела доцента в полное изумление. — Что она вам худого-то сделала?
— Пгостите… — дрожащим голосом сказал доцент. — Но наша дгажайшая Циля была мне самым близким человеком после жены… И если хотите знать… — Доцент неожиданно и неуместно уронил слезу в бороду. — Если хотите знать, я любил ее гогаздо больше, чем жену, — это ни для кого не секгет… А если эти кгошечные знаки внимания, как бы сувенигы геминисценций…
— Мне чего это рассказывать, — не унималась Вера. — Я уборщица, я неученая, а только если хочешь помянуть, посиди тихо, выпей-закуси, уберись да цветов посади, а чего же тут буги-вуги устраивать, да мусорную свалку, да эти бумаги разные, как в воинской части, в красном уголке… Делать вам нечего, вот чего, а которые люди умеют это дело, без работы ходят…
— Еще никто не дегзал бгосить мне подобный упгек! — взвился доцент Прошин. — Я труженик! Пгежде всего тгуженик! Я задыхаюсь от габоты! Кафедга, пагтбюго, общество дгужбы, атеистическая пгопаганда, пгосветительная деятельность, наследие Анги Багбюса, общество охганы пгигоды и памятников, гецензигование, гедактигование, пгеподавание и пгочая, пгочая, пгочая…
Доцент вдруг снова уронил слезу на бороду, и Вере стало стыдно.
— Да вы не слушайте меня, — сказала она, прислушавшись к мажорному выходу лебедей, — чего я знаю… Я так. Судьба женская неустроенная, вот и настроение людям портишь. А у каждого свое.
— Доля ты гусская, долюшка женская, — прочел доцент и закончил, с торжеством подняв палец: — Вгяд ли тгуднее сыскать! Пгав был Некгасов!
И как бы в ответ на это восклицание неподалеку, за могилами, что-то резко щелкнуло. Вера вздрогнула.
— Никак выстрел, — сказала она.
— Может, мальчишки безобгазничают… — сказал доцент. — Это пгосто безобгазие…
Но Вера уже бежала туда, где щелкнуло так странно и страшно, а доцент поспешал за ней. Подбежав, она взвизгнула, пронзительно, испуганно, непривычно даже для этого грустного места, привыкшего к женскому визгу.
В ложбинке между оградами лежал прилично одетый человек лет пятидесяти. Кровь запеклась у него на лбу, а возле руки, прижатой к боку, виден был небольшой черный пистолет, предмет, знакомый всякому человеку по кинофильмам и телепередачам.
— Убился… Себя убил, сердешный, — сказала Вера, склоняясь над Дробышевым.
— Не тгогайте! — крикнул доцент. — Не надо тгогать до пгихода огганов.
Он хотел уйти, но стоял и смотрел, как зачарованный. Зрелище новой, свежей и к тому же насильственной смерти в этом обиталище мертвых было завораживающим.
— Я его знаю, — сказала Вера. — Он еще все хотел за границу уехать… Да вот, не могу, говорит, бросить отцовскую могилу. И еще что это он говорил, да — русский лес… матушку Русь, говорит, не могу бросить… Как это Галина Ненашева по радио поет — любите Россию…
— Эмиграция! — подтвердил доцент. — Стгашная вещь! «Покинешь меня — умгешь», — сказал знаменитый чешский писатель Плугагж.
— Да он вить не уехал, — сказала Вера. — Помер, и все. Видать, уж было невмоготу. Работу ему там, видишь, предлагали хорошую. Я, говорит, ради работы и ради своей родины, а все же, видать, невмоготу…
— Постойте здесь, — решительно сказал доцент. — Пгоконтголигуйте. Я сообщу в дигекцию и в огганы…
Сутулая фигура доцента удалялась среди кустов и оград.
— Все… — шептала Вера, заглядывая в открытые глаза Дробышева, которые тщетно пытались отразить осеннее золото востряковских берез. — Все. Отмаялся.
* * *
До Вострякова теперь доехать совсем просто — от станции метро «Юго-Западная». Можно, конечно, ехать от метро «Проспект Вернадского» или от станции Востряково Киевской железной дороги. Не менее удобно ехать от следующей станции — Солнечная, автобус от Солнечной на юго-запад отходит каждые пять минут, а то и чаще. Но быстрее всего, наверное, от «Юго-Западной», хоть и не намного, но быстрее. А кто же из горожан откажется сэкономить лишние четыре-пять минут?
Вот моя деревня
Лесная дорога кончилась, он вышел на опушку и увидел первый дом деревни, чей же это был дом? — ну да, как же, Галькин… Все он помнит, ничего не забыл… И прогалину эту помнит, на которой долго, наверно до самого пятьдесят первого, стоял подбитый немецкий танк. И дорожку помнит, где они с Колькой Лактюхиным ставили капканчики на кротов — девяносто копеек шкурка, это старыми, а новыми выходит девять копеек — в обмен на керосин да на резиновые сапоги, каких-нибудь сто шкурок от ста кротов и глядишь — получил резиновые сапоги, высокие, по самые яйца…
Вон и шпиль старой церкви, Бог ее знает, насколько старой, наверное, все же конец девятнадцатого века, отчего-то не сбили крест, только бочки с соляркой и бензином поставили внутрь. Вон первый пруд, что посреди села, у самой архиповской избы. А вон там была изба… Надо присесть, посидеть, нельзя же так с ходу, сразу войти… К кому идти-то, остался ли кто? Архиповых уж и Кулагиных давно нет, в самый последний приезд, тоже лет двенадцать тому, была жива еще тетя Маня Заозерова, у нее ночевали с бывшей женой, которой экзотика эта мало понравилась, оттого, может, и не ходил так долго, что ей не понравилось, черт его знает, отчего не ходил все годы… Что-то он оробел так вот сразу войти в деревню. Отсиживался на опушке, оглядывался — да, правильно он запомнил, красивая деревушка — спуск идет вниз, до середины улицы, потом круто вверх, а там кусты у церкви, по всей видимости, барский дом был, никто не помнит, ни один человек, дальше второй пруд, а влево, вниз от архиповской избы — и третий, самый красивый и глубокий, а еще дальше — неоглядная даль косогоров, до самого темного леса, за которым уже Харламово. Все же идти надо… Отчего-то и сладко так, и жутко, и грустно, всего-то не был лет двенадцать, а столько воды утекло.
А сколько с первого приезда сюда прошло? — двадцать пять, нет, двадцать семь лет… Вот она, архиповская изба, верней, место, где она стояла, яма, заросшая бурьяном, а рядом — огромная липа; на ней еще была антенна, и как раз в то лето молния ударила в антенну, а за липой — Надькин домик, стоит еще, ей ведь уже тогда было под тридцать, Надьке, но легкомысленная ее репутация волновала юного Зенковича безмерно: ох, эта Надька, говорили в деревне, — оторви и брось, блядовитая очень бабешка — о чем еще было мечтать десятикласснику…
Он миновал пустырь и встал на дороге посреди деревни, не зная, куда идти дальше. Еще там, возле заросшей бурьяном ямы, он заметил, что за ним следят из-за плетня две страхолюдные, затрапезные бабки; теперь они подошли совсем близко, вглядываясь, стараясь понять, кто он, или узнать его… Где там! Если уж он их не узнает…
— Мы смотрим, вроде как чужой… — сказала одна из них, робея. — Вы мимоходом али к кому пришли… Через нас вроде идти некуда…
— Понимаете, я тут жил когда-то, — начал Зенкович. — Вот здесь была изба. У Архиповых. Дядя Николай умер. Тетя Настя переехала…
— Тоже летось померла в Андреевском. А мальчик Манькин жив, Сашенька. Армию отслужил, женился, не пьет, говорят, хороший, говорят, парень…
— Царствие ей небесное… — Зенкович помолчал. Бабки смотрели на него ожидающе.
— В последний раз у тетя Мани я жил, Заозеровой, — сказал Зенкович.
— Уже три года как померла. А вы кого тут еще знаете?
— Колька был Синюхин…
— Он в Сибири. Милиционером работает.
— Валька Громов. Сестра его Нюшка… Кулагины.
— Нюшка в Лишенине замужем. Валька в этой, как ее, в Карельской республике. То ли в Корейской. А Кулагины все разъехались. Верка ихняя хромая замужем. Наташка с девочкой на полигоне живет… А вот Лелька, Вальки Громова сестра, тут, вы небось Лельку хорошо знаете, беленькая была такая с перманетом…
Он отчего-то не знал Лельку, не помнил, может, никогда и не видел, а может, видел мимоходом двадцать семь лет назад, да не запомнил, и то до черта он здесь запомнил имен и событий…
— Нет, Лельку не помню…
— Ну дак она вспомнит. Пойдем к ней, у нее изба большая…
И они пошли на край деревни. Там старухи стали кричать надтреснуто интимными голосами:
— Лелька! Эй, выходи, парень к тебе молодой приехал из города (ну да, конечно, по сравнению с ними он почти парень, и правда, наверно, не выглядит на свои сорок с лишком, опять же городская мода — джинсы и маечка «брут ти-шерт» — молодит, делает фигуру более подтянутой).
— Где она? Может, на огороде?
Вышла Лелька, так, вполне еще баба, лет шестидесяти, и Зенкович объяснил ей все сначала — как он сперва жил у Архиповых, как дружил с ее братом Валькой, как потом у тети Мани Заозеровой… Он еще не успел кончить, а она закричала, в ужасе всплеснув руками:
— Да что же мы тут-то стоим? Давайте скорей в избу, сейчас я самовар поставлю, у меня телевизор…
Зенкович улыбнулся. Ну да, она поставит самовар, и они будут пить чай, много-много чаю утром, днем и на ночь, с сушками, с дешевыми конфетами, с сахаром вприкуску. Для некоторых соседних народов, для поляков например, чай уже давно стал символом русского быта — чай, русский чай, и правда ведь, до черта выпивают здесь чаю, хотя, честно говоря, толку в чае русские не знают, заваривают абы как, пьют напиток, который те же самые поляки называют «сики Вероники»… Конечно же Лелька поставит самовар, потому что ведь это событие — гости, а дядя Николай-покойник непременно побежал бы сейчас ставить бражку (в последнее время они здесь научились гнать самогонку каким-то ускоренным методом — тазик со снегом в сенях, какие-то полуфабрикаты, а в готовую отраву добавляли то кофе, то еще чего-то, для цвета и запаха; дядя Николай звал свою кофейную бурду «какалой», она была в пять раз дешевле казенной водки, но такая же крепкая и, на вкус непьющего Зенковича, такая же противная).
За чаем Зенкович вошел в здешний полузабытый стиль речи. Он вспомнил понемногу, отчего он всегда чувствовал себя здесь так хорошо: у этих людей было близкое ему чувство юмора и очень сходная с его собственной манера речи (а может, просто его собственная речь еще тогда, в семнадцать, испытала сильное влияние здешнего говора, как теперь узнать?).
После чая он вышел на косогор, сразу за церковью, опустился в стожок и надолго застыл в неподвижности: несказанно хороши были гористые склоны и леса по эту сторону деревни. Как же он мог забыть, что здесь так хорошо? Как он мог забыть? А может, и не забывал вовсе, тогда отчего же не ездил он сюда каждый год, по нескольку раз в год, может, даже каждый месяц? И вдруг вспомнил, что это вот самое ощущение все чаще и чаще приходило к нему в последние годы: и на русском Севере, и в Средней Азии, и в Крыму, — отчего он мало бывает здесь, отчего не живет все время, Боже, как тут хорошо, как тут прекрасно. Его чувствительность к красоте русской природы не притуплялась, а, напротив, обострялась с каждым годом, становилась пронзительной до боли, так что слезы наворачивались на глаза и он шептал: «Боже, как хорошо, как хорошо, о Боже, и за что все это мне? Мне, ничтожному… И отчего же я, дурак, не езжу, не хожу сюда чаще, не остаюсь навсегда? Где провожу я свои дни?» Зенковича осенила вдруг горькая мысль о том, что приступы этой чувствительности связаны с возрастом, с потаенной догадкой, что осталось уж так немного всего этого, что каждый такой твой день может оказаться последним… Грустная мысль эта пришла, но не омрачила красоты угасающего дня, не прогнала умиленного покоя из его души. Даже если это было так, сейчас он здесь, на месте, там, где он и должен проводить свои дни, месяцы, годы, — в окружении красоты, с книжкой и работой, вдали от городской суеты, от безобразия и грязи. Так он должен был жить. Так можно умереть…
Золотятся стволы сосен, вечерним золотом отливают изумрудные молодые всходы, на лугу темнеет старый стог сена. Время течет медленней, все вокруг становится достойным внимания — и купы деревьев на кладбище, и стог сена, и желтогрудая птаха на кусте, и человек, даже самый случайный и ненужный, даже самый убогий. И ты сам, ты тоже в этой малолюдной неторопливости становишься интереснее людям. И чудо, и радость — все становится возможным на этом пустынном безлюдье, главное — ждать, не поддаваться суете. Он не мог бы сказать, что возникло раньше — эта мысль о нечаянной радости и чуде, которые могут прийти здесь, или маленькая красная фигурка возле стогов — это была юная девушка, почти девочка, светловолосая, в красной кофточке, а рядом крошечный ребенок — Зенковичу видны издали ее вздернутый носик, веснушки, прядка белых волос на лбу… Она идет к деревне, значит, уже проходила здесь, может, видела его, а он не заметил, когда она прошла, и оттого сейчас она появилась так неожиданно, может, и правда родилась из этой его последней мысли, из его ожидания, из надежды на чудо, которое было бы сродни — нет, уж где там сравняться, только сродни — всему этому, что он видит сейчас, — и зеленым косогорам, и вечернему лесу, и стогам, и пруду, и скромной деревушке среди холмов…
Проходя мимо, девочка взглянула на него украдкой, как же ей было не взглянуть — новый, незнакомый человек, такой странный, бородатый, что-то читает, пишет в книжечку, нездешний, непонятный человек, одинокий и таинственный… А может, ей уже рассказали про него что-нибудь, ведь несколько часов прошло, как он появился на деревенской улице: Варвара глядит, кто-то идет незнакомый, бородатый, я, говорит, у Архиповых жил, Вальку знаю Громова, Кулагиных… Зенкович смотрел на нее в упор, однако заговорить с такого расстояния он не решился, боясь показаться смешным. За руку она вела двухлетнюю малышку, та лепетала что-то, да и девочка сама лепетала ей в тон, он не любил, когда взрослые лепечут, разговаривая с детьми, но одно дело бабки или великовозрастные матери-кобылы, а тут обе они были — девочки, почти дети… Они скрылись за церковью, и Зенкович стал снова смотреть на изумрудный косогор, на позолоченные леса, на луг… Это была незабытая, милая его сердцу красота, его безмятежные края, где все может случиться, любое горе и чудо радости. Но случается все же чаще горе. Веселая, зеленая страна горя. Но может, он преувеличивает? Разве мало у него самого было здесь юных, безудержно счастливых дней, вечеров, ночей? Нет, нет, она предстала ему такой с первого дня, с первого знакомства — зеленая страна горя…
Он вспомнил их первый приезд в деревню, ему семнадцать, и мама еще жива, да что там, все живы — Мое Почтеньице, хозяин дома, и тетя Настя, его жена, и Манька с Натолькой, их дети, и зять Николай, который привез горожан, — полный дом людей. И еда есть в доме, молока много и картошки, на сеновале полно сена, Зенкович спал в повети, на сене, там же, где Николай, и Манька, и старшая старикова дочь, Николаева жена Тоня…
Семнадцатилетняя Манька спала совсем рядом, в белой, грубой ночной рубахе, здоровущая, пахнущая сеном, дурашливая, золотозубая, с огромной грудью. Однажды утром, когда их снизу стала звать на завтрак Николаева жена Тоня, Николай вдруг прихватил Маньку сзади за грудь и стал тискать ее, приговаривая:
— А вот я помнухаю, помнухаю…
Манька визжала, Николаева Тоня грозилась снизу, обзывая мужа кобелем, а семнадцатилетний Зенкович обмирал на своем месте от этого невиданного, такого волнующего, полусерьезного-полушутливого деревенского представления. Через пяток дней, оставшись после обеда с Манькой вдвоем на сеновале, он и сам попробовал ее потискать, а она отбрыкивалась шутливо, не очень грубо, в общем-то считая такую игру пристойной, но больше ни-ни — ему бы хотелось большего, хотелось бы всего, к чему он уже был подготовлен многолетними поллюциями, мастурбацией и неумеренным чтением. То первое деревенское лето, первая девичья грудь (изобильное Манькино сокровище), первое гуляние под гармошку, и запах сена, и вкус парного молока с черной горбушкой, а главное — открытие совершенно нового, такого близкого, но доселе неведомого ему мира…
Деревню описывали и Тургенев, и Толстой, и Чехов, но это была доисторическая, совсем другая деревня. Наша же была тоже неплохо ему известна (проходили, пели, учили наизусть) по лучшим современным писателям — Семену Бабаевскому и Галине Николаевой. И вот теперь, когда он вдруг увидал эту красоту, эти серые избы, когда он подружился с их обитателями, услышал их спокойные неторопливые рассказы про лебеду и крапиву, которую здесь варят до сих пор, про колхозные трудодни, за которые не дают ничего или почти ничего (в своем огороде накопают чего ни то или украдут), услышал их речь, такую близкую его сердцу… Отчего он поверил им сразу, принял их беду? Может, он уже готов был услышать и принять нечто вроде того, что он услышал от них тогда. Они не интересовались политикой. Однако по самому своему положению, по жизни своей они были отчаянные нонконформисты, злостные проводники чуждых идей. Самая их жизнь не укладывалась в идею, в идеал, в единственно допустимую систему счастья: как они могут говорить, что в колхозе им вообще ничего не дают на трудодень? Как не стыдно рассказывать, что они едят крапиву? Что девки их делают сами аборты при помощи мыла? Разве неизвестно, что колхозники процветают? Что крапиву не едят вообще, а у нас в раю тем более? Что аборты запрещены, а мыло — при чем тут мыло? Ну а как можно выскакивать на улицу со сковородкой во время града — мало того что этим не прекратишь град, этим можно подорвать самую веру в культурную революцию, которая уже совершилась раз и навсегда. Как можно…
Получалось, что здесь все было возможно, и нечего было взять, нечего требовать с этих людей, доведенных до самой грани. Что было можно, уже взяли. Оттого, наверно, они и были так бойки на язык. А может, еще и по неуемности своей, по веселому нраву — Боже, до чего отчетливо он все помнит… Он помогал однажды тете Насте крутить ручной сепаратор, установленный в сенях, и она, заговорщицки ему подмигивая, сказала, что соберет сливочек, а потом водички дольет, туда-сюда.
— Эх, Сема, — сказала она, — кто ж теперь не ворует? Сталин и тот небось ворует…
У него жутко и сладостно защемило сердце — это же надо сказать такое, и когда? — в пору величайших побед. В пору, когда надвигались новые ужасы. Когда евреи-отравители уже заносили свою дрожащую, старческую руку над гениальной головой… Тогда, впрочем, Зенкович толком не знал, не сознавал, отчего ему стало так жутко. А тетя Настя, безмятежно произнеся святотатственную фразу, отерла пот и снова взялась за ручку сепаратора. Зенкович смотрел на нее с осуждением: что за вредная болтовня. Однако в душе не осудил ее по-настоящему, значит, уже готов был к приятию святотатственных речей. Впрочем, тете Насте было не до его одобрения или осуждения…
Молоко, которое она собирала с деревни, Зенкович вез с тем же Валькой Громовым и другими ребятишками помоложе сдавать на молзавод. Они выезжали рано утром, в пять или в шесть утра. Быки тащились по заброшенной лесной дороге, где за ночь между колеями успевали вырасти подберезовики. На молокозаводе их угощали холодными сливками (значит, тоже крали). На обратном пути, остановившись в лесу, ребятишки закусили хлебом и яблоками, а потом вдруг устроили состязание, от которого у Зенковича дух захватило. Впрочем, его как новенького от состязания избавили, но остальные с полным усердием и со смехом состязались в мастурбации: кто дальше брызнет семенной жидкостью. Оказалось, что это довольно привычная лесная утеха у здешних ребят (конечно, их сверстники занимались этим в городе, но каждый в своем туалете, тайком, даже говорить друг другу об этом стеснялись, хотя знали наверняка друг про друга).
…Солнце садилось за лес. Зенкович встал, поежился, решил вернуться в деревню с другого конца и обойти весь порядок, до церкви — вдруг попадется опять навстречу та девочка с ребенком. Возле Галькиной избы тарахтел комбайн, а людей не было видно. Надькина изба, похоже, и вовсе была нежилая. Где же, интересно, сама лихая Надька? Где ее беленький мальчик, тот, который родился от немца? Где дочки ее? Где Васька? Ну да, Васька же помер, бедолага Васька, вечный неудачник Васька… Когда Зенкович в первый раз приехал сюда, Васька уже сидел. Дело в том, что за недолгое свое пребывание в деревне немцы все же успели сделать застоявшейся Надьке беленького ребеночка, так что Васька после демобилизации пил особенно лихо и шумно, а однажды в их крошечном колхозном клубе начал даже по пьянке стрелять в потолок из ружья — и попал ненароком дробиной в единственное клубное украшение — портрет родного и усатого, каковое дефицитное преступление было немедленно взято на учет властями и обеспечило Ваське десятку в самых что ни на есть дальних местах. Однако он выжил и там, вернулся, устроился в артель «Детский металлист», но, к сожалению, не осознал вреда пьянства. На день Великой Октябрьской революции вместе с другими энтузиастами выпил он стакан какого-то очень вредоносного спирту, украденного из артели впопыхах, вместо безвредного, и отправился в лучший мир, оставив Надьку управляться с русскими, немецкими и каких там ей еще удастся наплодить детьми. Жаль, нету Надьки, расспросить бы про ее молодые годы, с большим смаком всегда описывал ее подвиги Мое Почтеньице, может, вожделел ее сам, а может, когда и сподобился, все же он был лесник, при должности, не последний человек в деревне…
В Лелькиной избе на столе уже дымилась картошка, самовар уютно гудел на полу у печки, и все, чем угощала его Лелька, по давней привычке и любви, представлялось Зенковичу очень вкусным. Да и Лелькины рассказы не казались ему пустой бабьей болтовней, информация эта была и значительной и существенной, во всяком случае, его развлекала: Тамарку Гужеедову помнишь? — сегодня мать ее приезжала, вещи забрать кое-какие, так ты что, не знаешь, что ли, Михалыч, она сидит, Тамарка-то, мужа своего ножиком зарезала, ну да, пил, конечно, пил здорово, но они и вместе тоже зашибали, он, конечно, не приведи Господь, ну там разберутся в суде, что к чему, а факт такой, что она его на Пасху еще зарезала кухонным ножом, тетя Варя идет, кричит: «Ой, бабы, чтой-то Тамарка из дома выбежала и ножик у нее в руке, пошли поглядим», а я зятю говорю: «Иди, Витя, ты все же мущина, погляди, а он, известное дело, Витя, пьяный: „Пошла ты, говорит…“» Ну я и пошла, а он уже все, кончился, Тамаркин муж, кровищи из него, как из поросенка хорошего…
— Ой, гляди, время! — Лелька вскочила, бросилась в комнату, к телевизору. — Ты уж один тогда доужинай, Михалыч, а то «Евлампия» начинается, — крикнула она из комнаты. — Я ее, правда, уже четыре раза видела, «Евлампию», а все же надо поглядеть, я ничего не пропускаю по телевизору, вот еще не наше было кино, как же оно называлось? Про итальянского попа… Да ты приходи глядеть…
Зенкович допил чай и пошел тоже смотреть «Евлампию». На дворе уже стало темно, спать еще идти не хотелось, да и читать тоже, так что он сподобился увидеть чудо из чудес, современный фильм-боевик, примитивный и сопливый, который и показать-то не стыдно разве что по телевизору, потому что на дому этим людям все равно что смотреть, они все смотрят. Лелька все время подсказывала Зенковичу, что дальше будет, она этот фильм знала наизусть и восклицала в наивном восхищении:
— Она ему сейчас скажет: «Дети — основа семьи!» Она уж как скажет, дак скажет, в самую точку, Евлампия эта, бывают же такие женщины, вот уж правда жизненная история…
Зенкович благодушно подумал, что вот оно, стирается грань между трудом умственным и физическим, между городом и деревней, все, как мечталось лучшим людям эпохи, все они, мореплаватели, плотники, замминистры и кандидаты всяческих наук, а также низкооплачиваемые пенсионеры, работавшие на полеводстве, дворники, шоферы и физики-атомщики — все как один сидят перед телевизором (здесь говорят телевизер, а в прессе его называют ласково-омерзительно: телик) и глядят на экран с малюсенькими, бездарными и лживыми картинками из исторической и современной жизни, не жизни как есть, кому она нужна, а тележизни, киножизни, агитсуществования, такого, как надо или как хочется. Смотрят неотрывно, ругают, хвалят, но смотрят, обкатываются, формируются помаленечку, вырабатывают идеалы, вкусы — и получают по вкусу; вечный кругооборот.
«Евлампия» была, конечно, фильмом поразительным, но не уникальным. Фильм был строго выдержан в традициях кинематографического дна, которое пытается создавать коммерческую мелодраму, да только слабо получается, квалификация мала, а все же продается помаленечку, стало быть, имеет продукция некий коммерческий успех, до гонконгской студии, конечно, далеко, до Голливуда и Индии тоже, не налажено поточное производство, а все же кое-что успеваем, и уровень как раз тот — не киносказка даже, а настоящая жизнь, правда, правдуха, как раз та степень фальши, которую уже можно протащить через худсовет, чтоб ни один самый пуганый начальник, а там на телевидении самые пуганые, не испугался. Впрочем, Зенкович сегодня неплохо погулял и хорошо поужинал, Лелька трогала его своими комментариями, так что он не злился, как обычно, когда случалось ненароком увидеть блевотный телик, он просто смеялся весь вечер, как резаный, а потом ушел спать на сеновал, к сожалению, ушел один, Лелька была непоправимо стара, Манька давно померла (и она была бы сейчас, верно, стара), место общественных собраний на пятачке у церкви пустовало ныне и вряд ли уже когда оживет… Зенкович засыпал, согревая постель собственным теплом, в кои-то веки один, тоже неплохо, очень тихо было в деревне, где-то, на самом краю, брехала собака, знакомые запахи втекали к нему на поветь — запах коровника, ночной земли и влажных трав, трухлявого дерева, пыли и почему-то еще запах женского пота, спермы, женских волос — может, просто отзвуки старых воспоминаний, а может, жил еще кто-то время от времени на этих старых подстилках…
Утром, до завтрака, Зенкович вышел на улицу и огляделся. Ни души. Деревня то ли еще спала, то ли окончательно вымерла. И то и другое вполне устраивало Зенковича. Он решил, что останется здесь надолго, будет бродить по лесам, греться в стогу на солнышке, дремать перед идиотским телевизором, читать, переводить — будет жить, пока не залечатся раны и скука не вытеснит недавнюю боль.
На завтрак Лелька наварила ему картошки, принесла банку молока — о чем еще мечтать? Потом Зенкович спустился по косогору, прошел задами и углубился в лес. Дорога вела на Харламово. По ней только изредка, раза два в день, проходили машины с центральной усадьбы, но пешие, видно, здесь не ходили вовсе, потому что на орешинах у самой дороги он увидел нетронутые, уже зажелтевшие орехи. Дорога вела круто вниз, а потом так же круто взбиралась в гору, по сторонам были мрак и тишина нетронутого леса. Зенковичу вспоминалась отчего-то песня, слышанная здесь еще в тот самый первый его приезд:
Эх, самогоночки не стало, Нам пьяным больше не бывать, В лесу я вырою землянку, В ней самогонку буду гнать, А кто навстречу попадется, Того я буду убивать…Дикие, ни на что не похожие песни пели здесь. Оттого они и запомнились Зенковичу, были частью именно этого воспоминания, принадлежностью этих мест. Он вспомнил, что страхолюдная бабка, которая вчера подобрала его посреди села и отвела к Лельке, звалась Варварою. Зенкович наконец вспомнил ее, даже не ее, а песню, которую про нее пели:
Варвара в люлечке качалась, Варвара маненька была. Варвара выросла большая И на бульвар гулять пошла.Дальше, конечно, матерщинно, все на тот же Московской области примитивный мотив, но со строками неожиданно хлесткими и поэтичными:
Варвара ноги задирала выше крыши, Хотела месяц обосрать…И еще дальше, из диалога Варвары с неким ебарем, подобранным в городе на бульваре:
Ах, что ты, что ты, милый мальчик, Нельзя тебе задаром дать.Ну не прелесть ли эта изящная песенка про Варвару или, к примеру, та песенка про Яшу-пастуха, которую пели по вечерам на пятачке ребята, до тех пор пели, пока девки, осердившись, не уходили прочь:
Девки наши, дайте Яше, Дайте Яше запереть. Если Яше не давать, Яша может умереть…И еще голосили вслед девкам — подумаешь, недотроги:
Пускай ебут военные, хуями здоровенными. Хуяк!А потом с повинной догоняли девок на дороге и заводили им в угоду все на тот же мотив (на него ведь пели и про героев-панфиловцев, и про «поебанный канал»):
Люблю я розу полевую, Люблю фиалку у ручья…Подвывали, подсюсюкивали девкам:
А вы ребята молодые, паразиты, У вас холодные сердца: Вы девок любите словами — Душой и сердцем никогда!Конечно, смирения хватало ненадолго, так что уже после пристойного «словами» кто-нибудь из парней вставлял куда менее пристойное «и хуями» — Зенкович отлично помнил, как ему это нравилось, как этот грубоватый юмор сливался в его душе с местечковым наследием отцов и дедов, закладывал основу, на которую благодатным дождем пролились позднее чувствительный Генри Миллер, утонченный Набоков вместе со всеми американскими Хеллерами и Ротами, — о моя лубяная, берестяная, телевизорная, посконная, кондовая, доныне еще бескондомная русская деревня, моя любовь, моя Хиросима, Нагасаки моя вымирающая!
…Впереди на горке показалась крайняя изба деревушки. Зенкович забыл за эти годы, какое оно, ближнее Харламово, и теперь ждал, пока деревушка станет видна полностью. Она была удивительная. Стояла она в стороне от дороги, метров так за сто — всего один порядок домов, изб восемь, за ними — яблоневый сад, а перед ними — проселочек, плетни, огороды, небольшой кусок поля и снова лес. А посреди дороги — колодец под рябинами, да одна крашеная скамеечка под липой, да безлюдье полное — видать, от сентября до самого июля в трех избах всего и были жихари. Зенкович не удержался, зашел в одну избушечку выпить молока и потолковать. Старенькая хозяйка представилась ему как Татьяна Николаевна Оболенская, впрочем, в этом не было гордыни, потому что, кроме тех, что в Харламове, где все были Оболенские, она никаких других Оболенских не знала и никаких новомодных амбиций с этим родом не связывала, Зенкович же припомнил, что было тут невдалеке при шоссе родовое гнездо князей Оболенских с остатками заплеванного и засранного парка, так что харламовские Оболенские, видно, и происходили из тамошней дворни. Впрочем, Татьяна Николаевна Оболенская при своей нищете была так гостеприимна, что не посрамила бы и самого княжеского дома. Она признала происхождение Зенковича и его наследственное право на эти места, потому что хорошо помнила старика Архипова, Мое Почтеньице, он еще в бытность свою лесником, когда ж это было — кажись, в войну и было, — нанимал ее на работу, угли выжигать в лесу…
— Стало быть, оттель ты, из Карцева, так ты и у нас, должно, бывал, тут совсем недалече, твоя-то деревня…
— Да, моя деревня, — повторял Зенкович, запивая привычные сладкие слова парным молоком.
Он и впрямь уже не один десяток лет говорил так в Москве друзьям:
— На праздники поеду в свою деревню…
В ту пору еще, впрочем, не принято было гордиться ни той деревней, из которой ты родом, ни той, которой якобы твои предки владели, ни той, в которой ты по дешевке, за сотню-полторы, купил выморочную избу, это все пришло позднее, с подъемом национального духа, в разгаре не то пятой, не то девятой пятилетки.
— На праздники поеду в свою деревню…
И они приезжали, вернее, приходили пешком через лес, за пятнадцать километров от станции, а в рюкзаках у них было спиртное, и дешевые конфеты, и сушки-баранки, и сахар, и селедка… Шли вдвоем-втроем, иногда собирали большую компанию, и вел их Зенкович, хотя, честно сказать, проводник он был неважнецкий. Не раз случалось, что они теряли дорогу на каком-нибудь из бесчисленных развилков в лесу. Однажды под ноябрьские они шли чуть не до полуночи и вышли не к себе в деревню, а в Маринино. Там уже все были сильно поддавши по случаю наступавшего праздника, и председатель разместил их в артельном девчачьем общежитии: девки разъехались на праздники по своим деревням. Москвичи затопили печку, развесили носки на сушку, выпили по стакану водки и сильно захмелели с непривычки и усталости. Они все смеялись над маленьким доктором Витей, который смазывал ружье, готовясь к предстоящей охоте.
— Еврей-охотник! — пьяно гоготали они. — Еврей-егерь! Еврей-гусар! Лейб-гусар! Лейба-гусар!
Витя добродушно отмахивался и пил больше дозволенного. А потом произошло нечто безобразное. Окно раскололось со звоном. В квадрате света за разбитым окном они увидели, что какой-то пьяный парень выламывает кол из плетня. Зенкович первый понял, что им грозит, потому что он уже видел однажды на Ильин день в этих местах такую потасовку. Позднее они сообразили, что деревенские парни пришли к своим зазнобам в общежитие и через окно увидели пирующих студентов. Однако еще до того, как они разобрались, в чем дело, до москвичей дошло, что дела их плохи. Положение неожиданно спас маленький охотник Витя (он так и не застрелил за свою жизнь никакой дичи, только смазывал ружье), который был почти так же пьян, как деревенские кавалеры. Он вставил затвор в смазанное ружье, забил заряд и выскочил на крыльцо. В него швырнули палкой, но не попали, а он молча, сосредоточенно целился. После первого выстрела деревенские парни обратились в бегство. Но Витя продолжал стрелять. К счастью, он так ни в кого и не попал. Но деревенские бежали, наверное, еще долго. Потом Витя вернулся в избу и уснул в обнимку со своим ружьем. Назавтра Зенкович все-таки привел их в свою деревню. Мое Почтеньице был счастлив. Он наварил бражки. А Манька с подругами устроили «домовник» — складчину в чьей-то избе; на столе стояло множество бутылок и бутылочек разного цвета: чувствовалось, что самогон в каждом доме гонят свой и подкрашивают чем Бог на душу положит. Выпив и поев, они разбрелись провожать девок, все, кроме Юры, который демонстративно ушел спать. Гвардеец Витя даже ухитрился трахнуть на столе в пустой школе перезрелую местную учительницу. А наутро сокурсник Юра водил Зенковича по осеннему полю и объяснял ему, как отвратительно было их вчерашнее вожделение, их интерес к этим мерзким, этим толстым девкам… Зенкович тер лоб — голова у него просто раскалывалась с похмелья от этих экзотических сортов самогона — и пытался осознать, что это и впрямь было отвратительно, недостойно будущих интеллигентов (он подумал, что и сейчас, в сорок, еще делает на себя ставку как на будущего интеллигента; настоящими интеллигентами они, кажется, так и не стали, ни один из них). Впрочем, тогда Зенкович не смог вспомнить, чтобы это было уж так отвратительно, ну да, учительница была чуток старовата («А как они отвратительно плясали и кричали свои частушки, ожидая совокупления!» — патетически восклицал Юра на просторном косогоре, близ черно-золотого осеннего леса), но остальные… В тот вечер Зенкович впервые провожал Гальку. Он не надеялся ни на что… Она очень смешно целовалась, и она позволила ему, неумелому девственнику, залезть к ней под кофту, Боже, что это была за ночь! Позднее, через много лет, когда Юра, а потом и Зенкович осознали, что собственные Юрины устремления носят характер исключительно гомосексуальный, Зенкович не раз возвращался в мыслях к этому разговору на осеннем косогоре. Он пытался обуздать этим воспоминанием свое собственное отвращение к алкоголикам, к пьянству, к запаху водки. «Бывает ведь такое же непримиримое отношение к бабнику, справедливо ли это?» — спрашивал себя молодой Зенкович. Он хотел быть справедливым. И в душе сознавал, что, скорей всего, да, справедливо. И тот и другой одинаково отвратительны для нормального человека. Но Боже, как их мало вокруг, этих нормальных людей. Сам он так никогда и не сподобился попасть в их число… Праздники в опустевшей послевоенной деревне. «А к Архиповым студенты приехали. Молодые черти, веселые. И с ними две девки в штанах». Это уже было позднее, на майские. Они тогда приехали огромной компанией и никого своих не застали дома. Кто-то был чужой, да, хроменькая Верка Кулагина хозяйничала одна. Она и сказала, что Мое Почтеньице с тетей Настей ушли на Яхрому (отчего же он прижился тут, этот предлог «на», может, из-за реки Яхромы, а может, занесли с Украины). Ушли в больницу — Манька помирает.
— Отчего? — строго спросил Витя-доктор.
Хроменькая Верка, не изображая смущения, толково объяснила, что сделала Манька аборт жидким мылом, да ребеночек остался жив. Она его еще раз, а он, чертенок, устойчив оказался к мылу, вышел на свет Божий, хотя и сильно замученный. А Манька вот отдает концы, сердце у нее оказалось неважное. В тот день они сидели притихшие или испуганно бродили по лугам. Девчонки спрашивали в ужасе:
— Как же это можно — аборт? А кто же отец? Да еще мылом? Разве мыло бывает жидкое?
Ночью, когда студенты улеглись на печке, на полу, на лавках, тетя Настя приволокла из города пьяного мужа и, уложив на постель в горнице, полночи ругала его за то, что он напился и что у него по пьянке украли карманные часы.
Гости притворялись спящими, и только Зенкович встал, спросил, как Манька. Мое Почтеньице икнул и вдруг завыл во весь голос, захлюпал:
— Померла Манька! А етот живет, мальчонка, чего ему! Ой, Михалыч, померла…
Он до середины ночи повторял все те же слова, а они обмирали, притаившись на полу, на печи, на лавках, — как же так, померла дочь и вот — часы, водка, ненужный, нежеланный мальчик… А потом Мое Почтеньице затеял с женой долгий и страшный разговор про зубы: как быть с золотыми зубами, когда лучше вынимать, или не надо вынимать совсем, как же так, другие вынут, лучше разве — у Маньки ведь полный рот золотых зубов…
В Харламове Зенкович зашел на почту и увидел ту самую девочку. Она получала перевод, и ему не хотелось уходить с почты, пока она там. Зенкович листал каталог «Товары — почтой» и даже нашел там кое-что по своему вкусу, что можно было бы купить. Например, грампластинку «Композитор Оскар Строк», на ней были все те высокочувствительные шлягеры послевоенных лет, под которые он научился танцевать немудреное танго: «Я посылаю вам портрет», «Лунная рапсодия» и тому подобная белиберда, от которой до сих пор щемило сердце — вспоминался навощенный паркет школьного зала, старый педераст — учитель танцев, девочки из соседней женской школы, ах, где вы, трясогузки, где вы, по скольку детей нарожали, сколько весите пудов? Каталог был затрепанный, и Зенкович представил себе, как его листают зимними вечерами посетители почты — в пургу или в мороз, когда на улицу страшно нос высунуть… Краем глаза Зенкович разглядывал девочку: у нее была милая, курносая мордашка, веснушки, глаза небольшие и очень синие. Почтальонша сказала ей что-то, и она засмеялась в ответ — точно закудахтала, совсем по-детски. Зубы у нее были крупные, ровные и совсем целые, что всегда поражало Зенковича в людях — бывает же такое. Она вышла. Зенкович положил каталог, простился и вышел следом. Нагнав ее, он спросил почтительно, боясь испугать ее:
— Вам ведь в Карцево?
— Да. — Она взглянула на Зенковича и потупилась, а он вдруг испугался. Ему почудилась в этом взгляде симпатия, нет, больше того, нежность, но он боялся, что он это все придумал — откуда им взяться, с чего бы это вдруг?
Он стал осторожно ее обо всем расспрашивать и узнал, что она жила в городе, в общежитии, работала в столовой, а потом родила. Помогать ей было некому, она приехала сюда, к матери. Ну а теперь мать положили в больницу, и она осталась опять одна, только уже в деревне. Отец ребенка? Был, нету. Да он и не видел дочку.
— А я у Лельки живу… — начал Зенкович, но она сказала, потупившись:
— Я все про вас знаю…
— Откуда?
— Новый человек…
Он вспоминал, что значит это «все». Вероятно, все, что он успел рассказать Лельке: что он жил раньше у Архиповых; что он москвич; что он был женат, а теперь нет; что у него сын…
Они мало разговаривали дорогой. Зенкович рассказал ей, как они ловили кротов с Валькой Лактюхиным и как Валька сам попал в свою кротоловку. Она тихо засмеялась, заквохтала по-детски, обнажая крупные, ровные зубы… Зенкович подосадовал, заметив, что лес расступился и показались крайние дома деревни.
— Вы совсем не гуляете… — начал он.
— Когда же мне гулять? Ребенок. Вечером иногда постою на задах, у разбитой березы, полюбуюсь… А потом опять стирать-готовить… Мне сюда, — сказала она вдруг и юркнула куда-то на боковую тропку. Зенкович понял, что она не хотела идти с ним вместе по деревенской улице, потому что занавески на окнах будут вздрагивать, всюду смотрят… Он сперва огорчился, что не успел спросить, договориться, но потом вдруг догадался, что сможет увидеть ее вечером, у старой березы на задах, не зря она сказала об этом, специально сказала, волнуясь и теребя платок. Ему стало радостно, он поспешил домой, за стол. За обедом они с Лелькой умяли чугун картошки на двоих, запивая картошку молоком, а потом Зенкович завалился спать. Когда он проснулся, солнце было еще высоко в небе, и он сел работать — счастливая у него работа, работа, которую он возит с собой всюду, благословенная работа, которая всегда с тобой, проклятая работа, которая всегда с тобой, даже если ты не захватил ничего, кроме блокнота, работа, от которой нет отдыха и спасения, с ума сойдешь от этой работы, измается сердце, высохнет и сморщится мозг. Куда от нее денешься, нет, он ведь и не хочет от нее никуда деться… Зенкович вдруг вспомнил, что именно здесь он в первый раз услышал о вреде чтения, — сидел в тот самый, в свой первый приезд с книжкой, проходил какой-то мужик, остановился, поглядел через его плечо и сказал:
— Брось ты эти книжки читать, Семен, отдыхай, а то вон у тети Мани Заозеровой Борька начитался книжек да на трансформаторную будку полез…
— Ну и что?
— Как что? Убило на хуй.
Потом Зенковича много раз стращали примером этого самого тети Маниного Борьки, — может, он был единственный, кто в этих краях читал книжки, — и вот тебе, печальный исход… Может, они с Зенковичем в чем-то были похожи, во всяком случае, теперь, через столько лет, Зенкович мог свидетельствовать в пользу этого поверья, что настроение у него иногда такое, что хоть правда на трансформаторную будку лезь. Тогда же он был молодой нигилист, веривший в науку, и он отвечал с дерзостью:
— Не будка, так еще что-нибудь: у вас тут добром никто не кончает…
Это была чистая правда. Редко кто здесь помер в своей постели. Вот хотя бы и Славка… Красавец, лихой парень, года на два Зенковича постарше. В тот самый первый Зенковича приезд он еще гулял с Наташкой. Она была не очень уже и молодая, огромная такая, некрасивая девка, но у Славки первая, и, видать, она нежная к нему была, потому что не забыл… После Наташки он пошел куролесить по всем девкам, и у Гальки был первым, когда ей было лет восемнадцать. А в первый Зенковича приезд — ей было шестнадцать — здоровущая, красивая, она косила возле дома в трусах и в бюстгальтере, а то и в белой ночной рубахе — семнадцатилетний Зенкович украдкой следил за ней со своего сеновала и думал: неужели ей там, на лугу, совсем непонятно, не слышно, как он ее хочет… Тогда, в свои семнадцать, он взять никого не умел толком, а хотеть умел многих (теперь, пожалуй, наоборот). В тот приезд, когда у Зенковича началось с Галькой, Славка был уже в лагере (кажется, за драку), но, еще через три месяца приехав в деревню, Зенкович, едва поужинав, несмотря на Манькины смутные полунамеки, побежал к Галькиной избе и увидел на крыльце Славку. Они сидели с Галькой, обнявшись, и он крикнул Зенковичу что-то враждебное на языке блатарей, так крикнул, словно они и не были знакомы. Впрочем, драться после отсидки ему, наверное, все же не хотелось, а Зенковичу не хотелось драться никогда. Через год или два, перепробовав всех здешних девок, Славка вернулся вдруг к своей стареющей Наташке, даже расписался с ней, но еще через три года угодил в пьяном виде под гусеницу трактора — страшное было месиво из осенней грязи, костей и крови…
Пьянство было здесь не бедствием. Оно было образом жизни, притом единственно возможным. Если от него страдали главным образом женщины, то страдали, понимая его неизбежность, как страдают от старости или от холода зимой. Многие считали, что именно из-за пьянства разваливаются семьи, однако наиболее дальновидные говорили, что это не из-за пьянства, а из-за непрочности нынешней семьи: ну и что же, что пьет, должен пить, а вот что баба этого пьянства не хочет выносить или что по пьянке он каждый раз новую семью заводит — вот это уже баловство, непорядок и разврат. Люди начинают считать, что есть какой-то другой способ прожить, появилась нежеланная свобода выбора, и хотя как будто мало еще ее у нас, но и от этой великий вред…
После завтрака Зенкович лежал на стогу с книжкой, время от времени поднимая голову, оглядывая косогор. Было совсем тихо — ни звука. Шорох раздался в сене, таракашка повозился и умолк. Налетел ветерок, зашелестели на старом кладбище липы… Где там Мое Почтеньице? Уже небось и дощечку его не найти. Лет пятнадцать тому назад Зенкович приехал однажды после долгого перерыва и увидел пустое место там, где была архиповская изба. Он узнал, что Мое Почтеньице умер, а тетя Настя вышла замуж за его свояка и, продав избу на снос, уехала от сраму и пересудов в другую деревню. Зенкович отправился на кладбище, без труда нашел могилу старого лесника, стоял в растерянности… Жалко было старика… А тетя Настя? Почему? Как можно? Потом он услышал за спиной женский голос:
— Ну-у разоспался, вставай, Мое Почтеньице! Сема к тебе из Москвы приехал, вставай, сейчас водочку пить будете!
Это была тетя Маня Заозерова. Она увела к себе Зенковича, напоила чаем, и снова он был тут не чужой. К ней он ездил все последние годы перед женитьбой. Ей он, наверное, напоминал покойного Борьку, того самого, что, начитавшись книг, залез на трансформаторную будку, — такой же этот Сема чокнутый, и еще книжки читает к тому же…
Зашуршали шаги по траве. Зенкович обернулся. Какая-то баба подходила к его стожку, широко улыбаясь. Что-то знакомое. Кто это может быть?
— Не узнаешь, Сема?
— Отчего же? Э-э-э…
— Лариса я…
Господи, Лариска, до чего же старая, сроду бы, конечно, не узнал, да, да, как же, симпатичная была девка, высокая, татарский разрез глаз, широкоскулая, два вечера или три обжимались они тогда у нее на завалинке, а потом кто-то ее увел. То ли он просто уехал, Зенкович, уже и не вспомнишь, что тогда было, помнится только, что ничего не было… Ничего не было, а теперь уж и не будет больше, не может быть, потому что она уже старая бабка, и страшная, Боже, сколько же ей лет, ну уж не больше, чем ему, значит, сорок, значит, все, каюк, с кем хотел и не успел — конец, потерян человек, то есть женщина потеряна, до чего обидно, как же ему не пришло в голову, он их всех вспоминал такими, какими они были, и только вот, когда эта черт-те на что похожая Варвара позвала этак залихватски: «Лелька! А Лелька! К тебе парень!» — только тогда подумалось… Хотя и он, конечно, давно не парень, но уж Лелька-то вышла, Лелька, о Бог мой… «Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен…» Это она, бывшая красотка, написала уже глубокой старухой, пережив все ужасы, все казни египетские, похоронив всех близких и отпев…
— Ты еще чего… Парень! — сказала Лариска завистливо. Очень мило с ее стороны, вполне светски… Зенкович не сумел, просто не смог заставить себя вернуть комплимент, однако, чувствуя, что должен как-то откликнуться на эту доброту и эту вежливость, стал жаловаться на сердце:
— Нет, я тоже ой как чувствую… Вот тут… Годы берут свое… А что у тебя? Дети?
— Сын. Я сюда в отпуск к матери. Одна приехала. Надо же погулять на воле…
Один сын. Детей и здесь становится совсем мало. Мужей еще меньше. Погулять ей хочется. А почему бы ей не хотеть? Ему-то хочется…
Сколько раз он наблюдал эти их отчаянные отпускные гулянки в профсоюзных домах отдыха: женщины без возраста и мужчины без возраста, железные зубы, водка в казенных стаканах, пение и возня до утра… А здесь тебе, пожалуй, не разгуляться, милая сверстница Лариска. Мужиков что-то вообще не видно, и слава Богу…
— Заходи к нам телевизор глядеть… Огурчики у матери соленые удались, рыжики…
— Спасибо. Зайду.
Лариска ушла. Кладбищенские липы мирно прошелестели ей вслед. Наверно, уже не разыщешь могилу — где там Мое Почтеньице? Дощечка потерялась, могила заросла — нет больше Маньки, Натолька в тюрьме, а тетя Настя как сразу вышла за шестидесятилетнего свояка, так продала избу и больше не появлялась… Интересно, что бы он сказал, Мое Почтеньице, если б знал, как после его похорон все повернется. Хорошо, что мы не знаем этого никогда. Еще лучше, когда нас это даже и не заботит. Суета жизни. Тщета бессмертия. Где-то между ними есть, наверное, пространство, есть мгновение. Как мгновение между трезвостью и хмелем, излюбленный миг Хайяма. Как случилось все-таки, что она вышла сразу за старого красноносого вдовца мужниной сестры? Небось они и раньше друг на друга поглядывали. Может, не просто поглядывали, переспали разок по дороге с поля, понравилось. Может, мечтали десятилетиями: вот когда освободимся… Он первый освободился, а она еще только через десять лет. Позднее тетя Настя гордо сообщала Зенковичу, что старик этот еще и сейчас ничего (а ему было уже под семьдесят), что он может — а ей, стало быть, не все равно, может или нет (ей было тогда за шестьдесят).
Страшная все же штука брак, подумал, вспоминая все эти страсти, сегодняшний, сорокалетний Зенкович: живешь с женщиной, которая только и мечтает выйти замуж за твоего соседа или родственника. Или просто ждет, когда же ты наконец, постылый, откинешь копыта — нет, не леди Макбет, а самая обыкновенная супруга, которая ждет терпеливо. Которой просто обрыдло одно и то же — кому ж не надоест?
Зенкович поднялся и пошел домой. У крыльца в блестящих курточках из кожзаменителя красовались два юных мотоциклиста. Один показался Зенковичу смутно знакомым. Да нет, не мог Зенкович его видеть. Ему не больше шестнадцати, значит, в прошлый приезд не было шести… Взревели мотоциклы, мотоциклисты умчались куда-то за село.
— На танцы поехали, — объяснила Лелька. — В Лишенине еще есть девки.
— Раньше мы тоже в Лишенино на танцы ходили… — вспомнил Зенкович.
— Неужто? — Лелька удивилась. — А наши парни бегали в Парамоново.
Так они установили, что Лелькино время было задолго до Зенковича.
— Этот вот кудрявый мальчик на мотоцикле, это Митьки сын, помнишь небось Митьку-гармониста.
А-а-а… Вот отчего так знакомо его лицо. Он же как две капли воды похож на этого гармониста. Счастливый гармонист, создавший сына по образу своему и подобию. Сейчас его сын уговорит какую-нибудь девочку в Лишенине, и они зачнут третье поколение кудрявых гармонистов…
— А второй чей?
— Второго ты тоже должон знать. Петрухина сын. Сам старик Петрухин с весны в тюрьме сидит.
— За что же? — спросил Зенкович, отметив про себя, что карцевский мартиролог неисчерпаем.
— Он весной Леньку Бакина убил. Ребятишки капкан его сняли в лесу. Там среди них и Ленькин был сын. А Петрухин говорит: «Пусть немедля вернут…» Ленька ему сам отнес капкан. А только Варвара глядит, Петрухин под вечер с ружьем идет к лесу, где наши мужики работали. «Ну, говорит, бабы, конец». И правда. Слышим: жах! Потом глядим — идет из лесу. Рука у него в кровище, у Петрухина: «Дайте, говорит, напиться». А мы все разбежались. Он ведь дурной. Он и раньше… Тоже, не дай Бог, раньше…
— Что раньше?
— Вот когда Москва — Волга канал строили, тут у нас заключенные в лесу работали. А Петрухин в охране был, он нездешний, служил тут. Дак он их как из лесу ведет после работы, непременно кого-нибудь стрельнет. А потом нам, девкам, вечером на танцах хвастает, опять, говорит, одного доходягу убил. А потом он на Шурке женился и остался тут жить… И вот видишь, не выдержала душа. Ленька-то Бакин в чем был виноват? Он ведь ему капкан принес, который ребятишки сняли, принес. Дак ведь он и не снимал капкан этот…
Мотоциклы еще стрекотали за лесом. Зенкович представил себе, как юный петрухинский отпрыск едет на танцы в блестящей курточке из кожзаменителя.
— Телевизер будешь смотреть? — спросила Лелька за ужином.
— Нет. Я, пожалуй, пройдусь погуляю…
Зенкович вышел на улицу. Пахло свежестью. Было уже совсем темно. Уютно светились окна, манили внутрь избы, обещая тепло, уют и покой, обман, обман, вечерний людской обман. Потянуло вдруг запахом пыли и сена. Потом влажный запах травы перебил все запахи. Вот так же пахло под утро, когда он, бывало, возвращался с гулянок. Так же пахли свежие Галькины губы…
Зенкович пробирался задами, выглядывая поломанную грозой березу. Где-то она должна быть здесь. Где-то неподалеку от Галькиной избы. Он помнил здешние грозы… Природа еще была здесь всесильной. Она была могучей, какой до сих пор бывала в горах и на море. Но ведь здесь не горы и не море. Здесь неподалеку Москва, проглотившая природу с костями, и все же пока… Москва там, за лесом, а здесь пока деревня, моя деревня.
Вот и разбитая береза. Зенкович присел на бревно. Стояла глухая ночь. Над ним было огромное небо, усыпанное звездами, огромная полупустая земля — под ним. Люди жили здесь не часто, в малюсеньких деревушках, разбросанных по необъятности черной, неосвещенной земли. Но сейчас и эти люди спали, так что он оставался один в черной ночи, совсем один, один на один со своими страхами, вожделением и раскаянием. В городе казалось, что можно спрятаться за соседа, за телефон, музыку, за близкое утро. Здесь ночь казалась огромной, бесконечной. Утро не принесет избавления. Он будет один. А потом опять придет ночь. И надо решать, что делать одному с этой ночью и другими ночами, которые будут сменять друг друга до тех пор, пока не наступит самая последняя, в которую Господь призовет его к себе, а вернее, просто выбросит отсюда, из этого любимого и обжитого им мира, в черную бесконечность. Что же делать, что? Много раз за его долгую жизнь ему казалось, что он уже знает, что делать, понял, узнал: работать, уклоняться от зла, творить добро по мере своих сил. Однако даже тогда, в юную пору самообмана, он не обманывал себя настолько, чтобы не замечать некоторую наигранность своего энтузиазма, неосмысленность своего оптимизма. Работа, работа, работа… Суета сует и всяческая суета. Груда бумаг, в которых едва найдешь десяток настоящих строк, да и они, настоящие, кому нужны, для чего? Уклонение от зла? Но он никогда не умел и не научится избегать греха, не умеет жертвовать собой по-настоящему. И вот прошла жизнь. Отчего не признать на пороге старости, что он не стал лучше, мудрее за столько лет? Не стал добрей, наконец, если панацея в добре. А если он и впрямь верует в добро, то отчего не подтверждает этого суетное, беспорядочное и нечистое течение его жизни?
Послышались неуверенные шаги. Темная фигурка остановилась, замерла возле березы. Это она. Пришла, чтобы спасти его. Спасти от самого себя. Пришла вовремя, точно слушала его мысли… Он поднялся с бревнышка, исполненный благодарности к ней за то, что она пришла вовремя… Так ему, во всяком случае, казалось.
— Не боишься?
— А чего бояться?
И правда. Чего бояться в поле среди безлюдья? Кого бояться в опустелой деревне? Он ведь и сам понимал, что там, где нет людей, бояться нечего. Значит, они одинаково не боялись сверхъестественного. Она не видела нужды, он не сумел научиться.
— Походим?
— Давай, — отозвалась она тихо. — Вот по этой дороге, ладно? Тут ровней.
— А дочка?
— Она никогда не просыпается. Я ей соску оставила. Он обнял ее за плечи, и она прильнула к нему. Его захлестнула теплая волна радости. Потом он напомнил себе, что просто здесь принято так ходить, не под ручку, а вот так, обнявшись за плечи (в Москве начали ходить так, кажется, в году пятьдесят седьмом, в пору молодежного фестиваля, здесь — ходили всегда).
Они прошли мимо кладбища. Птица затрепыхалась в ветвях. Зенкович крепче обнял девочку.
— Боишься?
— Нет.
— Я увидел тебя вон там, возле церкви.
— Я знаю. А я видела, как вы пришли в деревню. Встали на огорке у липы…
— Там Архиповых была изба…
— Знаю. Мама рассказывала. У них кто-то в тюрьме, что ли. Кто-то умер… Я сразу увидела, что вы непохожи на наших. Я дочку взяла и пошла гулять. Вы как раз стояли возле Лелькиной избы с Варварой…
Как странно, что тебя видят, когда ты не знаешь об этом. При этой мысли он испытал чувство неловкости. Опасение, что делал что-то не то. В то же время было и приятно, что кому-то совершенно бескорыстному, не имеющему отношения к службе наружного наблюдения, интересен ты, интересен каждый твой шаг…
Зенкович обнял ее и тихонько поцеловал. Она не удивилась, не воспротивилась. Скорее было похоже, что она ждала этого.
Губы у нее были сухие и жесткие, будто нецелованные. Впрочем, откуда ему знать, какие бывают нецелованные…
Они зашли далеко, повернули назад. Это была странная прогулка, потому что окружающие предметы скрывались во тьме, да им и не нужен был никто и ничто, они были друг с другом, друг для друга в беспросветной ночи. Зенкович оступился, она поддержала его.
— Тут копали…
Тогда он поднял ее на руки, точно желая компенсировать эту помощь.
— Я тяжелая, — сказала она.
— Нет.
— Тяжелая.
Он опустил ее на землю, поцеловал. Она пахла свежестью, детскими платьицами, простым мылом.
Он провел пальцами по контурам ее тела, и она задышала чаще, однако не отняла его руку.
— Пойдем к тебе? — сказал он и сразу же об этом пожалел. Он хотел ее, но в этом свершении был ритуал, в нем была безнадежность неизобретательного желания.
— Давай лучше не сегодня, — сказала она неуверенно, и, наверное, впервые в жизни он не испытал раздражения при этой неизбежной формуле стыдливости или самоутверждения. Пускай будет так. Пускай формула. Даже если она хочет спасти этим свое достоинство, хочет утвердить истинность переживания. В конце концов и то и другое не только для нее — для него тоже, ради него — истинность и достоинство. Он согласился еще и потому, что умиление пересилило в нем сегодня желание. Это был простой расчет к тому же: он ведь не ждал от нее никаких подвигов в постели, зато свидание это дало ему так много.
— Хорошо, — сказал он. — Как хочешь, дружочек.
Он заметил, что она все сильнее сжимает его руку, крепче прижимается к нему. Она ждала, что он начнет уговаривать ее — как же иначе, — и тогда она согласится, она сдастся, потому что ей хочется этого не меньше, чем ему, может, даже больше, и останавливает ее только страх, что он истолкует ее готовность как-нибудь не так, как-нибудь оскорбительно для нее, как-нибудь обидно, даже если правильно, все равно обидно, а может, и еще хуже, еще обиднее (что она какая-нибудь такая, что она со всеми или что она изголодалась и так далее). У нее готова была на этот случай последняя, беспомощная фраза, последнее успокоение, которое он должен был ей дать (пусть даже неискренне, пусть даже машинально, но дать), эта блевотно знакомая фраза, трогательная фраза, похожая на заверение, которым обмениваются пьяные мужики в России («Ты меня уважаешь?»):
— А ты потом не будешь меня презирать?
А может, и еще настойчивей, еще ближе к пьяной формуле:
— А ты потом меня уважать не будешь?
Опасаясь этой фразы, опасаясь типового диалога и своей неизбежной победы, Зенкович стал с отчаянной нежностью целовать ее милую круглую мордашку, ее вздернутый носик, покрытый веснушками и еще капельками солоноватого пота… А может, это были слезы?
Он проводил ее до разбитой березы, нежно простился и ушел медленно, точно боясь расплескать в темноте свое умиленное волнение, расплескать или разменять на мелочи конкретных и острых ощущений.
Деревня была мертвой вокруг него. Тем живее была она в его воспоминаниях, которые еще теснее обступили его в ароматном тепле Лелькиного сеновала, оживленные дневными пейзажами, словами, запахами…
…Семья Архиповых за самоваром. Чай, чай, много чаю — баранки из города, конфеты — подушечки из ольговского магазина, где они томятся и слипаются в картонной коробке рядом с железным умывальником и резиновыми рукавицами, выполняющими функцию промтоваров. Семья в сборе, тетя Настя наливает ему чаю, а Натолька делится последней шуткой, принесенной с работы — из той же бессмертной артели «Детский металлист».
— На Яхроме вчера военный зашел в уборную, ремень на шею — и готов.
— Удавился?
Кто-то непременно должен задать этот вопрос, иначе все пропало, но уж кто-нибудь непременно задаст, не сейчас, так позже, потому что он будет повторять эту историю до победного конца, пока не зададут.
— Удавился?
— Нет. Высрался.
О, это очень специфическая шутка. Дело не только в тонком сортирном аромате, витающем над ней, но и в необходимости знать реалии быта, особенности военной униформы и устройство общественного сортира, будь то на станции Яхрома, на станции Козельск или на Савеловском вокзале в Москве.
А Натольке не терпится выложить все, чем обогатило его нынче в артели общение с коллективом, завтра будет другое, завтра получка, и он придет в дугу пьяный.
— В городе новое кино. Историческое. «Бедная мать, обосранные дети».
Вот и все на сегодня. Завтра — пьянка… В один из этих пьяных дней получки будет драка, и он получит свои первые два года. Еще через пяток лет в том же Ольгове будет драка опять, и сердечник из санатория (Боже, как они пьют, эти сердечники, чудо еще, что им удается выжить до конца срока) откинет копыта, и тогда свалят все на пьяненького Натольку. Вся деревня убеждена, что убил не он, однако убийцы — люди изворотливые, сильные, один из них завмаг, так что Натольке не уйти от десятки, и сидеть ему, бедолаге, от звонка до звонка — избу снесли уже без него, и отец умер без него, и мать вышла замуж, и Манька померла тоже без него, покуда он обживал лагеря. Грубоватый и глуповатый балбес, Натолька, однако, не злой и веселый парень, может, Мое Почтеньице был такой в юности, впрочем, тогда небось отец с матерью дольше держали этих парней в узде.
Еще в ту ночь Зенковичу вспоминалась Галька. С того первого приезда, когда он исподтишка наблюдал с чердака за ней, шестнадцатилетней, а она, заправив в простенький белый бюстгальтер обширное, не по годам бабское хозяйство, косила возле избы на лугу, с той самой поры она часто являлась Зенковичу в его юношеских снах, хотя вряд ли подозревала об этом и вряд ли вспоминала его вообще. Она казалась ему самой прекрасной девушкой в деревне (и не только в деревне), самой желанной и отчего-то самой доступной: Бог его знает отчего, может, из-за этого вот самого бюстгальтера и бюста, он ведь и понятия не имел, как к ней подступиться. (Городские его подружки были, вероятно, доступнее, но он ведь и с ними ничего не умел сделать в затянувшуюся пору своего нескромного целомудрия.) Галька ему казалась столь же прекрасной, как полногрудая звезда тех времен актриса Ларионова, как потом загадочная Таня Самойлова, а позднее Клавдия Кардинале. Налицо было драгоценное преувеличение, переоценка объекта, что, по мнению знатоков, и является предпосылкой любви. «Может, это и была любовь, — думал сейчас в непроглядной деревенской ночи стареющий Зенкович. — Отчего было не попробовать жениться на ней тогда? Она бы реализовала твою мечту о детях — наплодила б тебе полный дом. Она бы тебя обстирывала, кормила, помогала твоей матери. Ну да, она научилась бы полсотне не нужных ей полуинтеллигентных слов, она ругала бы тебя время от времени визгливым голосом, заимела бы кучу претензий, частично основанных на подлинных твоих просчетах, отчасти имеющих назначением компенсировать ночной дефицит, который возник бы с неизбежностью… И разве не получил ты позднее того же в браке с интеллигенткой, того же визга, тех же неуместных пятидесяти слов, тех же претензий, зато без детей, без стирки, без обеда, без помощи, без нежности и даже без благодарности…»
У Гальки была маленькая отдельная комнатка под крышей: лесенка вела в нее из просторного коридора, называемого здесь «мостом». Там было чистенько и пусто, ничего, кроме сундука в углу и огромной кровати; пахло деревом и сеном, и свет под утро едва сочился в маленькое окошко, освещая связку лука и серп на стене, Боже, как здесь было хорошо… А может, просто он был очень молод тогда и все ему было хорошо и внове…
Наверное, потом уже никогда ему не было так хорошо, как в те времена, точнее даже, в то самое первое лето — трагедия этих выморочных мест не омрачала безмятежности жаркого лета: веселый пузатый хозяин Мое Почтеньице, смешливая, добродушная тетя Настя, нежно-снисходительная золотозубая Манька, дружелюбный балбес Натолька, Тоня, по-заговорщицки услужливая, ведь она была теперь городская, ее муж Николай, подобострастный и преданный (он работал у отца). С Николая и началась разруха. Шел сорок восьмой, война кончилась, алтарь божества дымился и пустовал, нужны были новые жертвы — группы антипартийных театральных критиков, интеллигентов, космополитов, недозрелых сионистов, а все же и их казалось маловато, нужна была масса, и решено было, вероятно, по новой загрести тех, которые недосидели до точки, до деревянного бушлата, а теперь уже отошли, оклемались. Тогда и посадили Николая. Оказалось, что он еще до войны был взят за драку. Дралась целая куча пацанов, а когда кучу разгребли, оказалось, что это не просто подралась ремеслуха после танцев, а там, среди них — три комсомольца, стало быть, имело место избиение комсомольцев, на этом уже можно было план выполнить по вредителям. Николай получил тогда немного, трояк, зато теперь кстати обнаружилось, что он политический, так что ему еще сунули четвертак, целых двадцать пять лет за то же избиение, и он уехал на восток за казенный счет, оставив Тоню на сносях. С этого пошло разорение архиповского дома: Николай, Натолька, Манька, Мое Почтеньице… Говорят, Николай недавно вернулся, сделал еще ребенка, живет где-то на сто первом километре. Может, и Натолька вернулся, а только нет больше Архиповых в моей деревне… Но деревня стоит. И опять — моя. В ней девочка Зина с ребеночком, чей-то милый последыш, хорошо хоть она не прибегла ни к мылу, ни к врачам, не было бы сейчас ребенка, не было бы здесь девочки Зины, работала бы где-нибудь в городе, в столовой или на стройке, «дружила» на койках общежития с волосатыми сверстниками под звон гитары, под гул транзистора и милицейские крики дежурной…
Утром он обнаружил с раздражением, что ему не хочется видеть ее сейчас, и он ушел задами в поле, в направлении соседней деревушки. Дорогой он размышлял, что же это, отчего ушел: боится ли он испортить то, что было, или боится разочарования. А может, он цепляется за последние часы свободы, пока еще не втянулся в эту историю, пока остается такой же неприкаянный, свободный, ничей. Дорога вела в деревушку, которую он, вероятно, знал, но давно забыл, так что это было уже настоящее путешествие — незнакомый кусок дороги, пяток старых домов, магазин, а может, даже попадется усадьба, впрочем, вряд ли: он знал здесь все усадьбы — и апраксинскую, и олсуфьевскую, и Оболенских… А все же вдруг попадутся остатки парка или остатки погоста — совсем здорово… А может, какая ни то встреча, случайный, дорожный разговор — с молоденькой девчонкой, с пацаном-школьником, а еще лучше с говоруньей-бабкой… Путешествие. Еще в тот, самый первый, приезд Зенкович отправился как-то на рассвете в свое первое пешее путешествие по России — через Вороново и Волдынское в Дмитров. Вернулся он измученный, открыв для себя одну из самых больших радостей жизни и один из самых ее волшебных обманов — путешествие. Ему и сейчас часто удавалось отогнать гнусную, предательскую мысль о том, что сколько броди — везде одно и то же, что различия ничтожны, а уж люди вовсе одни и те же… Мысль эта была безнадежной, она отнимала у жизни последнюю прелесть, парализовывала воображение. Он гнал эту мысль, и натура его по-прежнему откликалась на дорогу, хотя без прежней экзальтации восторга.
Ему повезло и сегодня. Впрочем, ему не могло не повезти — это было беспроигрышное мероприятие; не одно, так другое. В Торопове он наткнулся на следы заброшенного барского дома: сиреневая куртина, остатки липовой аллеи, каменная конюшня. И старик ему дорогой попался забавный. В воспоминаниях старика прошлое представало устроенным и великолепным: иначе не могло быть, потому что старику в ту пору было двадцать пять и у него ничего не болело по утрам. Служил он тогда стрелком охраны на строительстве канала Москва — Волга. Зенкович выяснил, что хозяйство на канале было богатейшее, снабжение дай Бог какое. (По тем временам? — По всем временам.) А уж весело было, и клуб, и артисты приезжали, и зеки самодеятельные, и девки в зоне, разные. Тогда чего ж было не жить? Барский дом здесь действительно стоял в проклятое доканальское время, дом был замечательный, но в двадцать третьем или двадцать пятом году порушили его мужики, сожгли, а потом развалили. (Почему? — Понятно почему, народ был обозливши на старую власть: в этом доме, говорят, дедов и отцов наших пороли, соберемся и к чертовой матери спалим, а еще такое было дело, что инвалидный дом новая власть тут хотела устроить, дак мужики и говорят: инвалидов этих кормить заставят, а кто будет кормить, мы, известное дело, нам же самим жрать нечего, давай дом палить.)
— Ясно, — сказал Зенкович. — Все правильно.
Но дедова мысль уже потекла в другом направлении.
— Опять же мы, может, его напрасно пожгли, — сказал он. — Потому что в ем можно было клуб открыть. Или, к примеру, столярную мастерскую. Или для ребятишек, например, учреждение.
— Библиотека была? — с тоскою спросил Зенкович.
— А как же. Это я хорошо помню. Потому что я сам с этими книгами натерпелся. Звонок был в контору из волости, чтоб, значит, срочно выделить две подводы и все барские книги свезти в город. Я как раз подвернулся, меня и выделили. Накидали книг, сколько вошло, повезли. Погода весной холодная была, слякотная, а книг етих с верхом, так что кой-чего дорогой растеряли, так ведь они небось и не все нужные…
— Не все, далеко не все, — грустно подтвердил Зенкович. — И как? Довезли?
— А как же. Довез. С трудностью справился и все как есть довез, однако в городе не удалось доподлинно установить, кто звонил. Я, конечно, первым делом привез в совет, а там говорят, мы вам не звонили. В народное образование, говорят, везите. А там тоже — мы не вызывали, возиться нам некогда, в суд везите. Привезли, а там заперто. Дальше — чека. Я не поехал. Не зовут, чего я поеду. Еще я их в школу возил, ети книги, в больницу всюду возил, а все на голодный желудок не емши, уже темно стало, мне еще домой добираться, ну все, думаю, каюк, обратно не повезешь, раз в контору звонили, значит, кому-то нужно, скандал будет… И тут из двора серьезный такой мужчина кричит: «Эй, деревня, сюда давай сваливай! У нас техника простаивает. Снеготаялка. Сюда вали, мы снег будем топить для трудящегося народа…»
— Свалил?
— А как же, с большой радостью — и домой, давай Бог ноги… Книги иные были красивые, ныне таких редко. Хотя, конечно, ненужные, потому что уже устарелые и не нашего языка, белогвардейского. Дореволюционные, одним словом.
Простившись с дедом, Зенкович вышагивал лесною дорогой и думал о том, что новая и новейшая история его родины еще ждет своих историков и летописцев, а их нет, им недосуг, и ему недосуг, и всем…
На обратном пути Зенкович задремал на лугу и проснулся от стрекота мотоциклов. Сын гармониста и сын убийцы промчались куда-то в сверкающих куртках. Зенкович вошел в деревню. Там царил переполох. Незнакомая баба, плача и причитая, гнала по улице корову. За ней с изысканной матерщинной бранью едва поспевал пастух, волоча кнут по земле. Зенковичу сообщили, что коровы объелись молодого клевера. Девочка с ребенком стояла у крайней избы, беседуя с женщинами. Зенкович увидел, как она сразу потянулась к нему, потом сделала предостерегающее движение. Ну да, она хочет, чтобы он подошел, но боится, что получится неловко на людях, что он выдаст ее с головой или, наоборот, слишком уж испугается за себя, за нее… Поколебавшись всего мгновение, Зенкович решил подойти. Он поздоровался со всеми, снова вежливо спросил, что за беда стряслась с коровами, потом улыбнулся ей и поздоровался с ней отдельно. Он увидел, как она осветилась радостью, понял, что поступил правильно. Им никуда не деться от того, что должно с неизбежностью произойти между ними, и он словно бы признал это при всех сейчас, прося о всеобщем признании и всеобщем одобрении их связи. На то, чтобы она осталась незамеченной, надежды не было.
Зенкович пообедал с Лелькой, потом долго и счастливо спал. А когда стемнело, он уселся под разбитой березой, наверняка зная, что Зина его придет, что и она, среди своих домашних забот, ждет не дождется этого часа.
Она появилась и молча, не говоря ни слова, отчаянно обняла его маленькими, крепкими ручками. Поцеловавшись, они пошли по дороге, прочь от деревни, остановились, пошли снова, а потом, непонятно как, может, она все-таки вела его, очутились перед стогом и опустились в прошлогоднее сено. Она помогала ему раздевать себя и при этом гладила его и прижималась, и была в ней такая трогательная готовность, такое ожидание и неловкая нежность, что Зенкович и не заметил — убей его, не смог бы сказать потом, — какая она была женщина и что это было, что он испытал на пахучем прошлогоднем сене под черным пологом неба. А потом, когда он очнулся от забытья и неизбежного короткого сна, он увидел звезды, услышал ее осторожное — чтобы не разбудить его — дыхание и тысячу шорохов в сене: Боже, сколько здесь, наверное, было еще обитателей, кроме них двоих, сколько жуков, таракашек, муравьев. Странно, что они не трогают людей, — Зенкович поежился. Жесткие иголки сена кололи голое тело.
— Колется? — спросила Зина, погладив теплой ладошкой его голую ногу. — Пойдем, миленький…
Наверное, она снова вела его, бережно выбирая путь, потому что очень скоро в непроглядной темноте они подошли к ее дому. Зенкович держал ее за руку и повиновался, он понял уже, что, хотя он намного старше, жизнь приучила ее быть старшей и брать на себя материнскую опеку над взрослыми и детьми. Может, она поняла к тому же, что если кто-нибудь и облегчит бремя ее забот, то не он, не такой, как он, беспомощный, отрешенный, эгоистичный.
Она повела его через темные сени в маленькую комнатку, пахнувшую деревом, сеном, половиками, пылью, и там они повалились на огромную кровать. При этом Зенкович с удивлением почувствовал, что сила его возрождается. И это вовсе не было связано с какими-то ее особенными женскими качествами или с чрезмерными потребностями его темперамента, а скорее с тем умиленным состоянием, в которое его повергала ее беззаветная готовность и нежность. И снова были забытье, полудремота и сладостное полупробуждение…
Она потянула руку к выключателю.
— Не надо, — сказал он.
— Ага, сейчас, — прошептала она.
Она зашуршала по стене, потом чиркнула спичкой и зажгла огарок свечи.
— Когда я была маленькая, мы тут всегда от бабки прятались, сказки рассказывали. Семечки грызли…
«Ты и сейчас маленькая», — подумал он с нежностью.
Свеча высветила кусок противоположной стены, и он увидел старый сундук, связку лука, серп на стене — наверно, то же самое, что и в других избах, но все же он узнал эту комнатку. Ту самую комнатку на мосту — и дом узнал тоже, ведь они пришли от поля. Значит, это был крайний дом, Галькин…
— Я бывал в этой комнатке, — сказал он беспечно, гладя ее по голове, а она прижималась все крепче щекой к его животу. — Здесь жила одна девушка. Галька. Галя.
— Это моя мамка…
Рука его замерла у нее на волосах.
— Это было давно, — сказал он. — Девятнадцать… Нет, двадцать лет тому назад…
— Как раз я родилась…
Внезапный страх пронзил его. Он еще не осознал полностью того, что случилось или могло случиться, но состояние покаянного бреда уже охватило пламенем его голову…
— А если я… Если я твой отец… — Он еще пытался сохранить легкомысленный, шутливый тон, но голос его прозвучал едва слышно.
— Ну и что? — сказала она спокойно. — Ну и что. Все равно я тебя люблю. Хотя я в любовь не верю, никакой любви не бывает, все выдумали, чтоб глупых баб обманывать…
— Это было бы ужасное преступление, — сказал он, с удивлением чувствуя всю неубедительность своих объяснений. — От этого могут родиться уроды.
— Почему это от разных мужиков-алкашей уроды не рождаются, а от тебя может родиться… — Она увидела его смятение и с нежностью погладила его по животу. — Брось… Никакой ты мне не отец. Я отца знаю. Такой, не приведи Господь, алкоголик… Такой жмот…
— У вас было много детей?.. У Гали?
— Трое. Я старшая. Да он от нас ушел, отец. А мамка опять вышла. Опять за алкоголика…
«Кого ж тут еще найдешь…» — подумал Зенкович, а она отозвалась, точно эхо:
— Все они, мужики, алкоголики…
— Я не пью, но я хуже… — прошептал он.
— Что, я не вижу, что не пьешь, — сказала она. — Ты хороший.
Это был, наверное, самый их длинный разговор. Он заметил, что она понимает его с полуслова, во всяком случае в том, что касается их двоих, но не любит говорить. Зенкович так и не услышал от нее подробностей Галькиной жизни. Впрочем, он мог бы реконструировать эту жизнь без труда: вряд ли ее судьба сильно отличалась от других женских судеб в этих местах. Брак, пьянство, ссоры, дети, второй брак, третий. Один алкоголик, второй, случайная смерть, чаще всего по пьянке, третий…
Зина не отпускала его домой до утра, а утром не хотела отпустить без завтрака. Была та же картошка, что у Лельки. Однако не было молока, и она с пристрастием выспрашивала, что он любит, огорчалась, что он равнодушен к соленым огурчикам и маринованным грибам, порадовалась, что он грызет орехи…
Зенкович взялся укачивать ее дочку: у него по этой части был некоторый опыт. Когда-то, в недолгие времена брака, он сам укладывал сына спать, изобретая свои собственные способы. Например, он пел ему песни Окуджавы и, спев две-три, возвращался снова к первой песне, повторяя ее несколько раз, произнося при этом слова все менее разборчиво, делая вид, что он и сам дремлет… На Зинину девочку это пение, впрочем, произвело довольно слабое впечатление, может, потому, что она не понимала и не слушала текста, который так нравился его сыну. Девочка была милая, однако на Зину она было совсем непохожа, и это раздражало Зенковича. В конце концов, малышка все же уснула. Зина принялась за стирку, а Зенкович пошел домой.
Лелька сразу пригласила его к самовару. Она была в меру насмешлива и благожелательна.
— Ну, как погулял, Михалыч? Ну и слава Богу. Дело молодое. У кого был-то, ежели не секрет?
Она отлично знала, у кого он был, и вся деревня знала, а может, уже и все окрестные деревни, включая ту, в которой теперь жила Галька. Оттого, не дожидаясь ответа, она сказала, вероятно желая сделать приятное, но при этом вполне убежденно:
— Она девка хорошая, Зина. А что не везет, дак это редко какой девке повезет на непьющего. Вон и мой сперва хорошо — по праздникам только пил, а потом — они жа в етой артели кажный Божий день — сильно стал, а ему жа нельзя, инфарк у его, а он вот хлещет. Он на два года меня моложе, жил бы еще…
Под вечер Зина усадила его за стол и поставила картошку; глаза ее поглядывали лукаво, искоса. Она выбежала в сени.
— Вот! — сказала она, входя, и выставила на стол трехлитровую банку молока.
— Откуда узнала?
— Варвара сказала. Ты ей говорил, что любишь… Когда на той неделе за молоком приходил.
Она не отпустила его к Лельке на ужин, и он мало-помалу обжился у нее, перетащил машинку и книжки в маленькую комнатку на мосту. Он слышал, как внизу в избе она возится с ребенком, как заходит кто-то, как о чем-то говорят. Он жил в стороне, на отлете, в то же время он с нежностью прислушивался к ее шагам, к топоту детских ножек, к детскому плачу. Она тоже прислушивалась к нему, он понял это, когда она сказала:
— Я люблю, чтобы ты печатал на машинке…
Может быть, она понимала, что, пока он работает, для нее, для них двоих, нет опасности разлуки. Поэтому она выглядела обеспокоенной, когда работа у него не шла и когда он рассказывал ей об этом.
— А ты пойди погуляй, — говорила она. — Сходи вон в Ольгово за сахаром.
Она все чаще теперь придумывала для него дело, повод для прогулки. Он заметил, что она понимает многое, понимает инстинктивно, хотя не всегда может выразить, высказать, вообще, больше молчит. Эта бессловесность иногда, вероятно, тяготила, пугала ее саму. Однажды, после того как Зенкович долго рассказывал ей свой любимый итальянский фильм, она вдруг сказала робко:
— А вот одна шутка была в «Радионяне»… Хочешь расскажу?
Он понял ее движение и вместо ответа стал целовать ее небольшие и ясные голубые глаза, веснушчатый носик, всю ее округлую, милую мордашку, светлые волосы, пахнущие простым мылом.
Иногда он предлагал погулять с ребенком. Девочка быстро привыкла к нему, но она была избалована, и у нее бывали странные, непонятные ему приступы озлобления. Может, она была не более капризной, чем другие дети ее возраста, однако Зенкович в такие минуты невольно начинал думать о том, что вот кто-то неведомый ему передал ребенку свой характер! Он размышлял о лихом гармонисте-забулдыге из городского общежития, который, по словам Зины, и не знал о том, что у него ребенок. Или не хотел знать. «Теперь она лелеет этот букет хромосом…» — раздраженно думал Зенкович, а потом девчонка вдруг успокаивалась, тянулась к нему, гладила его щеку, и он испытывал раскаяние, стыдился своих недавних мыслей. «Можно ведь ее воспитать, и она станет другой, — думал Зенкович. — Кстати, и Зину тоже можно воспитать. Она неглупая девочка».
Однако он все чаще признавался себе в том, что его просветительский энтузиазм на исходе — он не верил больше в воспитание и просвещение женщины. Конечно, можно обогатить ее язык (недостаточно празднословный и лукавый), внушить ей ложное, завышенное понятие о ее умственных способностях. Однако он уже познал на горьком опыте своего брака, что ни к чему доброму это привести не может. Она достаточно хороша такая, как есть, думал Зенкович. С непроизнесенной вслух шуткой из «Радионяни». Еще лучше вообще без «Радионяни» и телевизора… Да, чуток скучно. Но ведь не скучно только в том сумасшедшем доме, который умеют устроить из любого дома настоящие, стопроцентные женщины. Так чтоб стало не скучно, а тошно. Лучше уж так…
Работа его продвигалась. Выпало несколько дождливых дней, когда в комнатке на «мосту» бывало так уютно и работалось особенно хорошо. Зина никогда не мешала ему. Среди собственных забот она выкраивала время, чтобы постирать его вещи, вымыть ему голову, накормить. А потом она приходила к нему поздно вечером, когда он уже начинал ждать ее, не раньше. И каждый раз, когда она смотрела на него, он замечал в ее глазах ровное тепло нежности. Она была так же ровна с ребенком, хотя, на его взгляд, слишком баловала девочку…
Иногда среди дня, лежа на спине в своей комнатке или на стогу в поле, он думал о том, что вот это, вероятно, и есть идеальная женщина, что ему наконец посчастливилось ее найти. Он гнал от себя блудливую мысль о том, что их, наверное, много таких по деревням и кишлакам. Он знал, что это неправда: он ведь немало поездил…
«Оставайся здесь, — говорил он себе. — Что тебе город? Что ты там оставил? Отвези, сдай работу и возвращайся. Денег хватит. Лежи на сене. Думай, пиши, живи неторопливо, ощущая прелесть каждого мига. Город не нужен тебе, нужна тебе деревня. А эта ведь особенная — твоя деревня…»
Но чем убедительнее выстраивал он цепь рассуждений, чем больше аргументов набиралось в колонке «за» и «Зина», тем внимательней прислушивался он к тому темному уголку своей души, в котором зарождалось знакомое ему беспокойство. «Шило в заду», — говорил он снисходительно, зная, однако, что подойдет час и чувство это будет сильнее всех рассуждений, всех аргументов. Он знал наверняка, что потом он будет жалеть, что ушел. Но знал наверняка, что уйдет.
Зина с беспокойством следила за выражением его лица и спросила однажды за ужином:
— Ты скоро уйдешь?
— Наверно, — сказал он. А потом добавил, неожиданно для себя: — Завтра.
— Хорошо, — сказала она. И сразу поскучнела, сникла. — Надо постирать тебе кое-что…
— Когда-нибудь я приду сюда с сыном, — сказал он. — Надо будет оставить ему в наследство эту деревушку.
Она не поняла, о чем он говорит: смятение ее было слишком большим.
— Когда придешь? — повторяла она время от времени. Потом вдруг сказала, поразив его проницательностью: — А если я рожу тебе еще одного сына?
— О, это было бы так… — сказал Зенкович и поймал себя на размышлении о том, по плечу ли ему теперь эта ноша. — Только ведь и я должен смочь родить. Ты, наверное, сможешь…
Утром он сказал ей, что он, пожалуй, останется, и был вознагражден ликующим свечением синих ее глаз. Он и сам не мог нарадоваться на свою выдержку, мудрость, доброту и ее бесконечную нежность. Через несколько дней, уже сложив вещи, он все еще не мог набраться смелости, чтобы сказать ей, что уходит… Она догадалась сама…
— Я приду, — утешал он ее. — Скоро приду опять. Будет дождь, осень… Мы зажжем свечу…
— Будем спать на печке, — сказала она. — Любишь на печке?
— Будем спать голые, — сказал он. — Там ведь тепло…
— Только приезжай быстрее. А то я стану старая… Пропадешь опять на пятнадцать лет, приедешь — и познакомишься на лугу с моей дочкой. Пригласишь ее погулять… Или она тебя. Они теперь быстрые.
— Э-э-э… — сказал он. — Настолько-то меня не хватит.
— Хватит, — сказала она с тоской. — Хватит. Ты еще молодой. Совсем молодой.
— Или совсем старый…
— Нет, нет…
Наутро он шагал по дороге на Торопово с рюкзачком за спиной. Было ему хорошо в дороге, и погода выдалась прекрасная, но в конце путешествия, уже за Подьячевом, он подумал вдруг о том, как ей сегодня тоскливо, подумал, что она, может быть, даже плачет. Подумал, что, если не приезжать долго, она полюбит кого-нибудь еще, хотя бы мотоциклиста в блестящей курточке (они ведь небось почти ровесники) или прикомандированного бульдозериста…
На Рогачевском шоссе показалась машина. Он отчаянно замахал ей. Забравшись в кабину, он вступил в разговор с шофером, потом глянул в окно, увидел гряду холмов, косогоров, незнакомую деревушку у края леса, стадо на лугу, а дальше — опять леса и холмы в предвечерней дымке…
Он махнул рукой в ту сторону и, не удержавшись, сказал шоферу:
— Вон там, за лесом — моя деревня.
Gnädiger Herr Rolf
Осеннее солнце было по-летнему жарким, но с океана дул холодный ветер, что нередко случается в нежной Эссауире. Не только что на пляже, но и на эспланаде крепости близ медных пушек мне было в тот день не усидеть. Ветер сдувал белую пену волны, сдувал бумаги моих черновиков, с которыми полвека уже мыкаюсь по свету в надежде переписать свою жизнь наново, сдувал песчинки с камней — что ему стоило, такому ветру, сдуть и драгоценную песчинку моей жизни? В поисках убежища я углубился в петляющие узкие улочки медины, и по какой-то странной причуде памяти лабиринт этих улочек накладывался на лабиринт дорог моей прожитой жизни, вызывая в воображении за каждым новым перекрестком, поворотом и городским пейзажем какую-нибудь сцену ушедшего, забытое, казалось, ощущение или просто забытое имя. Тем временем мой здравый смысл, во всех этих меланхолических блужданьях никак не задействованный, нацелен был на свою узкую и вполне прозаическую задачу — поиски неподветренного закутка для работы. Так что в самом начале какой-то очередной, еще не вполне осознанной реминисценции (скорей всего, любовной, потому что стал вдруг явно ощутим запах молодой, загорелой кожи) взгляд мой безошибочно отыскал деревянную скамейку, укрытую от ветра, в тени, в углу ограды. Оценив скамейку, я оглядел и все огороженное пространство, посреди которого сверкал вполне скромных размеров плавательный бассейн, окруженный шумными полуголыми людьми. Люди галдели по-немецки, но иноязычный шум мне помешать не мог — скорее, напротив. Вероятность того, что они заговорят по-русски, по-английски или на худой конец по-французски, была небольшая. Дворик и скромный бассейн (я представил себе, как роскошно он выглядит на фотографиях в рекламных буклетах) принадлежали какому-то здешнему пансионату или отелю, а полуголые люди, ослепительно белые или уже сгоревшие докрасна, были, надо понимать, немецкие граждане, густо населяющие ныне все курортные зоны вокруг Европы. На краю бассейна, несмотря на ранний час, уже стояли во множестве бутылки и железные банки с пивом. Какая-никакая вода бассейна, теоретически пригодная для смачивания ног, была тут же, рядом, марокканское солнце щедро, без утайки изливало на иноверцев свой предполуденный жар, в общем, отдых был в полном разгаре, и люди эти веселились, как умеют веселиться на отдыхе одни только благоразумные немцы: приехал отдыхать — отдыхай, viel spass! филь шпасс! И атмосфера была, как любят выражаться французы, bon enfant, на каждую нехитрую шутку компания отвечала дружным, громким хохотом, который начинался и кончался как по команде — вроде того смеха на пленке, что звукорежиссеры «подкладывают» под каждую шутку (чаще всего несмешную или дурацкую) в юмористических телесериалах. Я подумал, что это — идеальная публика для театров и цирков, она будет бурно аплодировать и смеяться даже простому объявлению шталмейстера, даже его кашлю и чиху. Внешний облик отдыхающих не радовал глаз. Было несколько лысеющих румяных блондинов, похожих на моего покойного друга-еврея Сашу Некрича, но по большей части это были бледные горожане, чуть, или даже не чуть, слишком толстые — видно было, что они много ели и мало двигались. Отдых предоставил им возможность предаться обоим порокам… Выделялись, впрочем, в этой компании, две фигуры. Точнее, одна фигура и одно лицо. Фигура стояла спиной ко мне — молодая, светловолосая немочка с мягкой попой. А лицо принадлежало пожилому немцу — темное, точно дубленое лицо, хорошее лицо. Словно бы даже осмысленное. Но и женская спина тоже… Впрочем, я тут же одернул себя, напомнив, что я не чужою попкой пришел сюда любоваться, а пришел работать. Я добрался до скамеечки и присел в тени. Меня заметили, мне кивнули благожелательно. Они вообще народ благожелательный, немцы. Помню, как я был потрясен этим открытием, попав впервые в ГДР, где путешествовал на попутках. Читать газеты я начал еще в пору своего военного детства и оттого твердо знал, что хуже немцев нет на свете людей, а они вот были милы, вежливы, откровенны, благожелательны и щедры. А уж женщины… В общем, я тогда подверг ревизии еще один раздел своего детского образования…
Все-таки их дружный гогот несколько отвлекал меня от творческих, так сказать, мыслей. Даже не сам гогот, а чье-то пронзительное и странное блеянье, наподобие козлиного. Вглядевшись внимательней, я обнаружил, что блеет именно благообразная молодуха, прелестная спина которой… — кто б мог подумать? С другой стороны, что я вообще мог думать и гадать о характере и нравах молодух из малознакомой страны Германии? Ровным счетом ничего. Кто, кроме наглых политологов и страноведов, возьмется судить о чужих нравах и вкусах? Может, именно такой вот козлиный смех считается особо женственным и возбуждающим где-нибудь на склонах Гарца или в притонах Гамбурга?
…Немцы ушли на обед. Водные блики играли на глиняной ограде так, словно этот крошечный бассейн был морем. В тишине я дочитал книжку о первой русской эмиграции, снова удивившись тому, что меня до сих пор волнуют судьбы этих людей. Что было в их судьбах такого, что так бередит меня? Унижение? Горечь? Тоска? Неумение интегрироваться? Неумение забывать о прошлом? Гордыня? Нищенство? Попрошайничество?..
Я пошел на набережную и провел остаток дня в прогулках, дремоте и скромных радостях желудка. Назавтра в поисках знакомой по прежним приездам рыбожарки я пошел в Старый город и без особой цели заглянул в лавку старьевщика-ювелира. Из груды пыльных мусульманских украшений я выудил серебряный кулон — трубку с запаянными концами и арабской надписью. Надпись была, вероятно, молитвенная, да и внутри таких кулонов находится обычно бумажка с молитвой. То, что трубка, как правило, запаяна, придает ее нутру особую таинственность: а вдруг там какие-нибудь особенные, магические слова… В Москве у меня в кабинете висело с полдюжины этих «туморов». Мы покупали их в Душанбе у старика торговца, которого Володька Серебровский нежно называл Басмач. С Басмача начиналась моя московская коллекция, им и кончилась. Басмач исчез первым, теперь больше нет и московского дома…
— Это тумор, — сказал кто-то у меня за спиной по-русски. И нерешительно добавил что-то по-таджикски.
Я оглянулся. Давешний немец с дубленым лицом улыбался мне приветливо.
— Как догадались? — спросил я.
— Книга. Русская книга. Вчера у бассейна… — Он был очень горд своей наблюдательностью.
— Ну а тумор? — спросил я. — Вы немец?
— Немец, немец… — сказал он. — Немец из Ленинабада. Теперь, кажется, Ходжент. Меня туда привезли, когда мне было семь… Ох, давно…
— Из ссыльных? — спросил я, возвращая тумор торговцу. Немец кивнул, и мы вышли вместе в толчею узкой торговой улицы, пропахшей жареной рыбой.
— А вы, конечно, таджик?
Я усмехнулся. Сколько уже лет не задавали мне этот вопрос. Лет шесть, с тех пор, как там началась война и я перестал летать в Душанбе. Я уже открыл рот, чтоб сказать, что я русский, но запнулся. Я вспомнил, что он бывший советский, так что для него я, может, все еще еврей…
— Я москвич. Еврей. Русский. Просто я летал туда при первой возможности. И в Душанбе, и в Исфару, и в Ворух, и в Семиганч… У меня было много возможностей.
— Понял. Говорите по-таджикски?
— Туджики намйдона, — произнес я фразу, которую выучил из кокетства на всех языках своих странствий, — «По-таджикски не секу»… Я ведь на них на всех был похож, на всех «чечмеков», на всех «зверков», на всех «черножопых»… Это теперь я простой парижский «метек», обыкновенный русский. Гордиться нечем. Но я все-таки горжусь чем-то — как все «метеки».
— Я-то по-таджикски хорошо говорю, — сказал немец с достоинством.
— Понятное дело, — сказал я. — В семь-то лет все запоминаешь… Только не говорите. А то я… заплачу.
— Я, может, и сам… — сказал он. — Фильляйхт…
Потом мы с ним ели жареную рыбу в какой-то до смешного дешевой забегаловке. Это напомнило нам обоим рыбу в кипящих котлах на таджикских базарах. В Марокко хоть можно наесться жареной рыбы. Во Франции ее парят и, умучив до безвкусицы, продают на вес золота.
Выбравшись на улицу, мы еще долго бродили по Старому городу и говорили о Таджикистане. Странный был разговор — вроде переклички мертвых. Называли знакомые селения нашей затонувшей Атлантиды.
— А Чорку помнишь? Там чайхана над речкой. И братья-гончары…
— А в Пангазе тоже чайхана расписная, форели в заводи…
— И в Исфаре расписная. А Каратаг, а Дейнау…
— А Кофирнаган? А Сары-Хосор?
— О Сары-Хосор… — сказал он. — Я непременно тебе должен рассказать про Сары-Хосор…
Я не заметил, когда он перешел на «ты», достойнейший Рольф, гнэдиге герр Рольф.
— Сары-Хосор — это чудо… — Я кивнул умиленно. — Но почему именно про Сары-Хосор?
— Сары-Хосор — это было для меня очень важно. Это было в юности, и после Сары-Хосора я стал немножко другой. Я стал не только немец. Я стал немножко таджик. Не знаю, если это понятно… Отчего ты улыбаешься?
— Не обращай внимания. Моя дочка тоже все время говорит это «если». А насчет «немножко таджик» — это как раз понятно. Что за тоска, когда ты только немец, только русский, только еврей. Ну а при чем тут был Сары-Хосор?
— Я немножко волнуюсь, — сказал он. — Давай завтра посидим в кафе на главной площади, где «Бо риваж»…
Я заметил, что под дубленой его кожей проступила нехорошая бледность.
— Отъезд, переезд, бумаги — слишком много на одну жизнь, — сказал он. — Это не всякий может. Вот у этих людей в пансионате… У них была война, потом семья и долго-долго работа. И теперь хорошая пенсия.
— Пенсия побежденных, — сказал я.
— А какая, интересно, теперь пенсия в Ленинабаде? — спросил он.
— О чем речь, — сказал я. — В Москве и то кот наплакал.
— Пенсия победителей, — сказал он.
Я проводил его до пансиона. Его соотечественники уже пили во дворике вечернее пиво, но от пива я отказался и ушел шататься у моря. Таджикистан и меня растревожил…
А утро снова выдалось чудесное — марокканское утро, синее небо и крики чаек за окнами моей чистенькой, дешевой гостинички.
Я ждал его за столиком на площади, прихлебывая любимый свой кофе с молоком. Он пришел, заказал себе зеленый чай с мятой и долго молчал. Видно было, что он не забыл о своем обещании рассказать про Сары-Хосор, и я подумал, что он провел, наверно, бессонную стариковскую ночь, то ли отгоняя, то ли оживляя воспоминания. Что-что, а это я мог понять. Кстати, ведь и в моей памяти белые камешки в пустынной речной долине, что близ Сары-Хосора, нередко светили сквозь беспокойную полудрему ночей.
— А ты когда бывал в Сары-Хосоре? — спросил он.
— В восемьдесят втором… то ли в восемьдесят третьем…
— В те годы я возвращался туда. Искал, где были парк, танцплощадка…
— Это в центре? Где большие деревья?
Он кивнул молча, точно собираясь с духом. Потом сказал:
— В первый раз я туда попал совсем молоденьким. Первокурсником. Такой был счастливый. Меня приняли в институт. Хотя был из ссыльных немцев. Нам полагалось один немецкий учить — в Алма-Ате. А меня приняли на инженера. Без взятки. Я такой гордый был. И такой правильный комсомолец. А еще я старший был в группе, хотя двадцати не было. Меня выбрали комсоргом. И я везде первый был — на хлопок, на стройку… Вот и в Сары-Хосор послали на стройку — помочь кишлачным людям…
Я представил себе, какой он был в ту пору — тощенький загорелый блондин с чубчиком, подстриженным по линейке праздным ленинабадским парикмахером где-нибудь на пыльной, раскаленной окраине среди глиняных дувалов («Сартарошхона» — и смешной фраер с галстуком на детском рисунке вывески)…
— В комитете комсомола сказали только, что нужно собрать бригаду для строительства в горах, помочь колхозникам отобрать надежных парней. И девушек, конечно, но поменьше девушек, работа нелегкая.
Я отобрал парней. И двух девушек. Джемму, конечно. Она хорошо готовила, зарекомендовала себя на хлопке. Но главное — ты уже понял?.. Я в нее был влюблен… Она? Она, пожалуй, предпочитала Гагика Эскузяна. Чудный был парнишка. Из ссыльных армян-«норикох», из новоприезжих: он где-то там родился, чуть не в Париже. Их тоже сослали. Знаешь, сколько было ссыльных народов в Душанбе?
— Знаю. Французы говорят — депортированных. По их сведеньям, это только Гитлер-злодей депортировал…
— Вот и ты знаешь. Спросишь, отчего я был такой глупый — отчего слепой, глухой?
— Не спрошу, — сказал я. — Сам был такой… А до ссылки и нашим оставалось уже недолго, когда рыжий мясник помер.
— Ну а я ничего не хотел знать. Нам, как это на русский переводят? Промывали мозги. Человек хочет верить в Бога. А Бога отобрали, сказали — вот вам усатый бог. Он добрый и всемогущий…
— Два усатых бога, — напомнил я. — Был еще немецкий. Но у того усы были пожиже, и он кончился раньше. А этому и сейчас молятся.
— До сих пор русские молятся? — удивленно спросил герр Рольф.
— И русские, и французские, и небитые итальянцы… Человек слаб… Так что же Сары-Хосор?
— Добрались труда с трудом. Чудесный кишлак в горах — райцентр. Рядом долина реки, вся в белых камешках. Кругом леса, а в них, поверишь, дикие яблони, груши, сливы, Великий шелковый путь, поверишь, лучшее место на земле.
— Поверю, — сказал я. — Балдел в этом лесу…
— Расселили по домам. Нас с еще тремя парнями поселили в мехмонхоне у фельдшера, в гостевом доме…
— Знаю, — сказал я. — Не одну обжил мехмонхону.
— Хороший был мужик, молодой, и жена еще совсем не старая, красивая. И уже восемь детей. Отец с ним жил, старый Абдухилок, вот кто мне сразу понравился. Как я теперь понимаю, он не такой еще был старый, моложе нас, нынешних. Он повел нас с Гагиком в сад, на край виноградника, там под деревом был помост, суфа, — отдыхать, чай пить, сказал — хотите? Тут можете спать, тут ветерок… А оттуда такой был вид — на долину, на речку…
— Знаю… — сказал я, и мы помолчали, точно глядели оба с обрыва в долину.
— Поверишь… — сказал герр Рольф, — когда я туда двадцать лет спустя вернулся, в дом не пошел, пошел в сад. И там увидел его, старика, под деревом. Смотрю — не может быть, он, Ако… Я его звал Ако. Но это был он… Он там жил. Сторожил сад. Выжил… Энкавэдэ ушли с собаками, он вернулся…
— Давай по порядку.
— По порядку. Расселили нас. Потом меня как старшего позвал к себе секретарь райкома. Черный такой, рябой мужик, он меня решил подготовить, чтоб я другим разъяснил, какая задача. Будем строить дорогу от областного центра, вернее, она есть, но она завалена камнями, машины не могут пройти, будем расчищать, техники нет, работа трудная. Дорога нужна народу… Он стал искать какую-то бумагу, нашел и оттуда читал мне куски, читал он с трудом. Вот, будет дорога, будет новое кино… «Уже есть», — сказал я, устав ждать, что он скажет. Еще будет… Артистов привезут. Культура будет. Зимний завоз будет лучше. Современная техника. Соцсоревнование. Повышение труда… Еще много чего, целая газета. Но мне не нужно было столько, чтоб моих парней за культурную жизнь агитировать. А он все читал, читал, какую-то инструкцию читал, вот, думаю, валенок…
Я улыбнулся. Очень было странно — на берегу Атлантики, на краю Марокко, вдруг — валенок. Ну а Сары-Хосор, а советский немец — разве не странно? Большой мир, огромный мир — где, что? А у нас с этим немцем свой уголок в этом мире — Сары-Хосор… Был уголок…
— Потом повезли нас на работу. Много людей согнали — всех жителей. Целый день камни ворочали, под палящим солнцем. Иногда так за день нагорбишься, вечером есть не хочется — только упасть в койку. Бедная Джемма, она готовила, все на стол поставила, а мы уже спим вповалку. У нее слезы на глазах. Джемме, конечно, помогали жена фельдшера и старшие дочки, она с ними дружила. Мы с ними все дружили. Хороший народ горные таджики. И живут как положено, как предки их жили. Мусульмане. Но там как-то им мусульманство не мешало, а помогало, чтоб все шло путем, все главное — любовь к родителям, любовь к детям, брак, гостеприимство ихнее… Конечно, люди и там разные, и счастье не всякому выпадает, а все же больше я там видел счастливых, чем в Европе, да и сирот меньше, и дети лучше воспитаны, как ты думаешь, Борис-ака?
— Раньше думал, как ты. Теперь не знаю, что думать…
— Ну да, Иран, хезболла, шмезболла, Афганистан, Алжир.
— Чего там, в Душанбе режут друг друга. То-то еще будет…
— Я так думаю, — сказал герр Рольф осторожно, — я думаю, в жизни каждой религии бывает страшное время, темное время. Католики вон жгли еретиков, протестанты ведьм жгли, в Испании что творилось при Колумбе… Теперь черная пора у мусульман… Образуется… Я не ученый…
— Храни нас Господь…
— Храни их Господь… У меня там много друзей осталось — в Ленинабаде, в Душанбе. Мои кенты. Не знаю, что с ними…
Мы оба помолчали. Вспоминали тех, кто были там. Вспоминали, где в последний раз видели… Где они сейчас?..
Официант принес нам обоим зеленого чая с мятой. Мы переглянулись, потому что вспомнили, наверно, одно. Навес чайханы в жаркий день. Зеленый чай. Говор ручейка-новардона…
— Ко мне там отчего-то проникся дружбой председатель колхоза. Средних лет мужик. Вот такие ручищи у него были. Торчали из пиджачка… Он нас жалел. Один раз забрал всю мою бригаду к себе на работы. Сказал — сенокос, срочно. Собрались на заре возле правления, с недосыпу и усталости спим на ходу. Он меня позвал в кабинет, дверь закрыл, говорит: «Поезжайте за речку. Там луг за лесом. Собирайте сено. Но только… Только ты не спеши. Дай отдохнуть парням. Никому это сено не пригодится… Не понял? Ну и ладно, тебе безопаснее… Поработайте час-два, поспите в лесу, погуляйте. Можете девушек взять. Что они весь день взаперти… В общем, понял приказ? Отдыхать… И никому ни слова. А возвращайтесь поздно».
Я потом много раз его вспоминал, председателя. Вспомнил, что он меня расспрашивал тогда, как высылали наш народ, немцев. А я что мог помнить? Он слушал и качал головой грустно. Чего-то он знал, наверно. Фельдшер мне рассказывал, что у него племянник был в НКВД…
Ну а в лесу мы тогда здорово отдохнули. Купались в заводи: жара, а вода ледяная — такая свежесть. Собирали орехи и груши в лесу. Мне показалась, что Джемма ко мне… в общем, хорошо относится. Казалось, я летать могу. Бегу, бегу и вот-вот взлечу… Сейчас можешь взлететь?
— Могу только упасть, — сказал я. — Душа и та — камнем.
— Командировку нам продлили, — продолжал Рольф медленно, растроганно. — Нас уже весь кишлак знал, и мы всех… Детишки за нами ходили кучей. Детишки там чудные, помнишь? Отчего я там не женился? Дурак был… В конце концов мы дорогу дочистили. В райцентре был праздник, речи, самодеятельность, кино. Кино старое — а все равно до полуночи. Потом мы еще гуляли по садам, в долине — белые камешки под луной… А потом услышали, будто шум в райцентре, пошли в кишлак. И увидели, что пришли грузовики, целая колонна грузовиков. На них военные, в кишлаке переполох, еще непонятно что. И тут у горпарка я наткнулся на председателя. В том месте у горпарка, где пионер с трубой… Помнишь?
— Помню. Только он без трубы.
— Правда. Давно без трубы пионер херов…
Интересно, что б они поняли, веселые немцы у бассейна, услышав, с какой горечью он это сказал, герр Рольф, — пионер херов? Как нам друг друга понять?
— Он меня тоже увидел, отвел в сторону. Он странный был — как пьяный. Я подумал, как странно, потому что горные таджики не пьют. Хотя начальство партийное пьет, конечно. Объясняет, что это они так собой жертвуют ради семьи и народа… Мол, русские, требуют… Он меня вдруг обнял и говорит: «Давай, малец, обнимемся. Может, не доведется увидеться…» Потом я вспоминал — и правда, больше не видел его. А тогда только спросил, в чем дело, ако, что в грузовиках? Он говорит — НКВД, солдаты, будут выселять кишлак. Завтра увезут. Потом весь район увезут. Куда, к чему?
Я испугался, но в дурацкой башке, набитой газетами, уже ответ был: «К новой жизни».
И тут он мне такое сказал, что мне страшно стало. Он первый мне сказал. Потом уж я сто раз слышал, всегда шепотом. Он тоже, впрочем, почти шепотом бормотал, но такое, что большой можно было ценой поплатиться. Говорили потом, что он и платил…
Хлопок им нужен для Москвы. Чтоб перевыполнить. Чтоб Москва орден дала. А где рабов взять на хлопок? В горах. Теперь наш народ увезут… А уж новая жизнь или новая смерть, им что до этого…
Я бросился домой, к фельдшеру. А там уже все знали, плач, крик. Мужчины и наши парни потуже набивали узлы. Разрешили взять по одному на человека — в грузовиках места нет. А там, в новой жизни, все новое дадут… Фельдшер мне сказал, чтоб я пошел простился с его отцом. Старый Абдухилок меня обнял три раза, сказал, что уходит в горы. «Там бараны, — сказал он. — Там кошары. Там меня не найдут. Пусть ищут. Никуда не поеду. Хочу умереть дома…»
— Не нашли?
— Нет, не нашли. Может, плохо искали. Он и умер дома… Еще через тридцать лет. А из тех, кого угнали, многие умерли — и молодые, и женщины, и дети. Климат там другой, вода другая, проклятый Яван… Которые выжили — живут. Новые дома построили, новых детей завели. План выполняли. Или приписки делали. Про это все газеты писали. А как там народ вымирал, мне Абдухилок рассказал. Я туда вернулся лет через двадцать. Был в областном центре в командировке и увидел в аэропорту в расписании — Сары-Хосор. Купил билет, полетел. Будочка на берегу, полосатый чулок — аэродром под кишлаком. Какие-то даже люди шевелятся. Побежал домой, к фельдшеру. Дом полуразваленный. Пошел в сад, на виноградник, к дереву, под которым мы с Гагиком спали. А там сидит Абдухилок. Ничуть не изменился. Долго меня разглядывал, пошел ставить чайник. «Молодец, что пришел повидаться, — говорит, — молодец. Поживи немного». Я и пожил. Ходил в лес. Потом еще раз туда прилетел… В семидесятые годы люди стали возвращаться. Давали им особые разрешения — как в запретную зону. Они хлопотали о разрешении, и им давали, потому что начальство решило теперь ордена на коровах получать. Завезли туда толстых голландских коров, чтоб они по горам лазили. Под это дело многие разрешение брали, чтоб вернуться на землю предков.
— А коровы?
— Коровы подохли. Коровники развалились. Деньги украли. Все нормально. А я два раза туда приезжал. Хотел там поселиться. Только поздно новую жизнь начинать. И в Германию зря поехал — поздно. Украину, с которой нас вывезли, я не помнил, а вот Таджикистан…
— Но там-то и вовсе нынче…
— Да, говорят, там сейчас режут друг друга. Неужели это правда? Такой народ прекрасный, таджики. Лучший народ.
— Лучше немцев?
— У-у… Какой я немец…
Мы расстались, договорившись снова встретиться вечером, тут же, у столиков «Бо риважа», где ж еще встречаться в Эссауире? Вид у гнэдиге Рольфа был усталый. Я хотел его обнять на прощанье, но вовремя вспомнил, что мы все же не в Душанбе… Хотелось о многом его расспросить, но еще был не вечер.
А вечер выдался, конечно, не мудренее утра. Пополудни я встретил у городской стены молодую марокканку, хорошо говорившую по-французски. Она была одета почти по-европейски, хотя и вполне убого, выдавала себя за художницу — кто может ей запретить? Я еще помню времена, когда все варшавские продавщицы говорили, что они искусствоведки («хисторик штуки» — никакого обмана, потому, что уж одна-то штука у них всегда была). Во всяком случае, от этой я не требовал, чтоб она рисовала пейзажи или была поклонницей Климта. Мы просто с ней гуляли у моря, пили чай на набережной, потом я ее покормил обедом — невелика растрата, когда-то она, бедная, ела в последний раз? Ну а потом, уже под вечер — по старой, неистребимой, наверно, привычке, — привел ее к себе, в скромный номер гостинички. Оказавшись вдали от посторонних глаз, она стала поспешно и безо всякого изящества раздеваться. Изящества не было в ней и в голой, и я даже не знаю, чего я ждал? Но все эти годы странствий, все эти загадочные женщины под джелабой, иногда и под чадрой, а порой и в цветастом платье европейского покроя, все эти тайные взгляды, эти нежные руки египетских продавщиц, которые гладят тебя, пока ты выбираешь покупку, все эти черные нубийские попрошайки, ласкающие твое немолодое плечо, повторяя зачарованно на манер Лайзы Миннелли: «мани, мани, мани, мани»… — наверно, все это и завлекло меня в казенную постель к вполне механической процедуре, осложненной лишь опасением за бумажник, однако и не скрашенной никакими восторгами… Потом она ушла, и я сразу перестал думать о ней. Лежал с закрытым окном дотемна и только тогда вспомнил, что у меня свидание с герром Рольфом.
Я наскоро оделся, прибежал на уже опустевшую площадь — его не было. Вообще почти никого не было, завтра мне нужно было уезжать спозаранку в Марракеш, к парижскому самолету… Я уснул, но проснулся, как обычно, минут через сорок и провалялся почти до утра без сна в мученьях нечистой совести. И дело было не в том, что мое вчерашнее приключение являлось мне убогим, как сумма, уплаченная за обед (это, вероятно, и была цена здешних любовных услуг), а в появившемся мерзком ощущении, что я предал кого-то. Даже не герра Рольфа предал, не придя на свидание (хотя и его тоже), но каким-то образом предал Сары-Хосор. Было ощущение, что я предал его снова, ибо, конечно, я уже предал его однажды — в тот год, когда мой персональный рай так страшно сползал в пропасть войны и ненависти, а я преспокойно сидел в Москве и в Париже — скорбел и охал, конечно, как все, но не бросился им на помощь, не дал им приют, не накормил, не утешил, как поступил бы таджик… Конечно, тогда рушилась империя, горели рукописи, погибали миры, но что мне до всех миров — там был мой мир, тот, что я отыскал после десятилетий поисков, тот, что сделал меня счастливым, и вот я позволял ему гибнуть… Упаси вас Боже от ночей, подобных той, которую я пережил накануне последнего отъезда из нежной Эссауиры. Как, впрочем, и от многих нынешних моих ночей упаси вас Господь…
Крит, 1998
Примечания
1
Автор вынужден здесь некритически отослать вас к мнению Дробышева, потому что, не являясь сам по крови совершенно русским, автор не может с уверенностью сказать, что же есть на самом деле человек истинно русский. (Примеч. авт.)
(обратно)
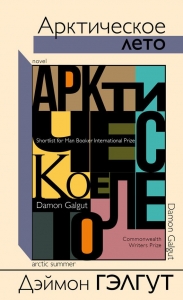




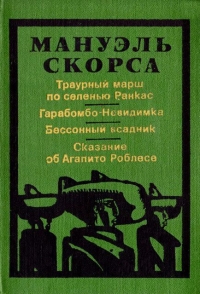

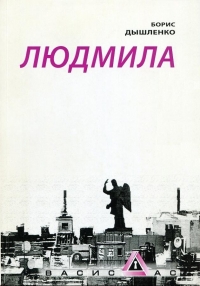


Комментарии к книге «Дорога долгая легка…», Борис Михайлович Носик
Всего 0 комментариев