Кушнер Александр Семенович родился в 1936 году. Поэт, эссеист, лауреат отечественных и зарубежных литературных премий. Постоянный автор “Нового мира”. Живет в Санкт-Петербурге.
Платформа
Промелькнула платформа пустая, старая,
Поезда не подходят к ней, слой земли
Намело на нее, и трава курчавая,
И цветочки лиловые проросли,
Не платформа, а именно символ бренности
И заброшенности, и пленяет взгляд
Больше, чем антикварные драгоценности:
Я ведь не разбираюсь в них, виноват.
Где-нибудь в Нидерландах или Германии
Разобрали б такую, давно снесли,
А у нас запустение, проседание,
Гнилость, ржавчина, кустики, пласт земли
Никого не смущают — цвети, забытая
И ненужная, мокни хоть до конца
Света, сохни, травой, как парчой, покрытая,
Ярче памятника и пышней дворца!
* *
*
Надо было любить революцию,
Надо было ей душу отдать.
Надо было марксизм, как инструкцию,
Не прочесть, но в руках подержать.
Надо было отдать вдохновение
Ей, квартиру, тем более — дом.
И тепло, и любимое чтение
В жертву ей принести, и диплом.
Надо было смириться со злобою
И плевками, пройти через тиф,
Надо было проститься с Европою,
Равнодушия ей не простив.
Хорошо, что успел во Флоренции
Побывать любопытный студент
И послушать немецкие лекции,
И сыграть “Музыкальный момент”.
Надо было смириться с частушками
И, в ЧК угодив как-нибудь,
Встретить давнего друга с веснушками,
Чтобы он отпустил тебя: “Будь!”
Надо было искусство и жречество
Развенчать, как собрат-горлопан,
Надо было спасать человечество —
Этот шанс был историей дан.
Ну а мы… Но из стужи и замяти
Он сказал бы нам в гиблом снегу:
“Ничего-то вы не понимаете,
Празднословы, терпеть не могу!”
Надо было с подругой, с приятелем
Разделить эту корку и тьму.
Это образ — и он собирательный,
Имена подставлять ни к чему.
Надо было бежать через Турцию —
Не бежал: надо верить и “быть”.
Надо было любить революцию —
И любил ее, как не любить?
* *
*
Боже мой, Аденауэр, ужас какой!
Эйзенхауэр, Трумэн и Этли…
Ничего вы не знаете, друг дорогой,
Про копыта их, когти и петли.
Вообще с вами не о чем мне говорить:
Вы журнал “Крокодил” не читали,
Там умели их сущность подать, уловить
То в змее, то в осле, то в шакале.
Вы не слышали радио сороковых
И политинформацию в школе,
Из которой узнали б о происках их
Даже нехотя и поневоле.
Огорчения ваши, по мне, пустяки,
Легкий жар, не скажу, что притворный.
В пятьдесят бы втором вам остыть у доски,
Посидеть бы за партою черной.
А ведь как эти клены нарядны зимой,
Как снежком нагота их прикрыта!
Если б не Аденауэр, ужас какой,
Эйзенхауэр, Трумэн и Тито!
* *
*
Ван Гог перед этой картиной четырнадцать дней
Хотел провести, если б только ему разрешили.
Библейскую парочку Рембрандт пристроил на ней
В своем желто-красном, горячем, пылающем стиле.
Четырнадцать дней — многовато… Быть может, семи
Достаточно? — мне бы хотелось спросить у Ван Гога.
— Четырнадцать! — я же сказал вам уже, черт возьми!
Зачем переспрашивать? — он возразил бы мне строго.
Четырнадцать дней! За четырнадцать дней города
Берут осажденные, их превращая в руины.
И за две недели дойдут из Гааги суда
До Крита, быть может, или приплывают в Афины.
— Вы правы, всё можно успеть, например, умереть
Иль обогатиться, в дворец перейти из подвала.
Но эту любовь, эту нежность нельзя разглядеть
Быстрее, — четырнадцать дней, а тринадцати мало!
* *
*
Смысл жизни надо с ложечки кормить
И баловать, и на руках носить,
Подмигивать ему и улыбаться.
Хорошим человеком надо быть.
Пять-шесть детей — и незачем терзаться.
Большая, многодетная семья
Нуждается ли в смысле бытия?
Фриц кашляет, Ганс плачет, Рут смеется.
И ясно, что Платон им не судья,
И Кант пройдет сквозь них — и обернется.
* *
*
Есть ли власть в Нидерландах? Страною правит
Кто-нибудь? Иль Вермеер свои предъявит
Нам права на Голландию и Рембрандт?
Есть ли в Австрии власть? Или в грош не ставит
Ее Моцарт — и правит страной талант?
Есть ли в Англии власть? Или у Шекспира
И без власти в венозных руках — полмира?
А в Италии памятников не счесть
Данте, лавр ему больше идет, чем лира.
А в России? В России была и есть!
* *
*
Тайны в Офелии нет никакой
И в Дездемоне, по-моему, тоже.
Только цветы, что всегда под рукой,
И рукоделье, и жемчуг, быть может.
Девичья прелесть и женская стать.
Утром так радужно в мире и сыро…
Тайна — зачем она, где ее взять?
Тайну придумали после Шекспира.
Песенка — да! Понимание — да!
Или упрямство и непониманье,
Только не тайна — мужская мечта,
Вымысел праздный, любви оправданье.
Чтоб на вопрос: почему полюбил
Эту Офелию, ту Дездемону,
Нужный ответ у мечтателя был,
Темный по смыслу, высокий по тону.
* *
*
Воробью, залетевшему в церковь, что надо в ней?
Может быть, он хотел в одиночестве помолиться
И не думал, что в церкви так много сейчас людей,
И тем более, что раздражает их в церкви птица.
Вот и кружится, мечется, — выхода не найти:
Где та дверь, то оконце, в которое залетая,
Он надеялся уединение обрести
И защиту, ведь жизнь и ему тяжела земная.
Слишком много людей, украшений, — зачем они?
И слепит его золото, и ужасают свечи.
А еще эти мрачные фрески в густой тени,
А еще этот дым, от него заслониться нечем.
Недоволен священник, с тяжелых подняв страниц
Взгляд на глупого гостя, круженье его, порханье,
А ведь гость-то, быть может, потомок тех чудных птиц —
И блаженный Франциск им Святое читал писанье.
* *
*
Разговор ни о чем в компании за столом
Утомляет, какие-то шутки да прибаутки:
Так в спортзале с ленцой перебрасываются мячом,
Так покрякивают, на пруду собираясь, утки.
Хоть бы кто-нибудь что-нибудь стоящее сказал,
Вразумительное, — возразить ему, согласиться!
Для того ли наполнен и выпит до дна бокал,
Чтобы вздор этот слушать весь вечер, — ведь я не птица.
Я хотел бы еще раз о жизни поговорить,
О любви или Шиллере — как обветшал он, пылкий,
Потому что два века не могут не охладить
Романтический пыл, — и к другой перейти бутылке.
* *
*
Влажных бабочек что-то ни разу
Я не видел и мокрых стрекоз,
А ведь ливень, бывает, по часу
Льет и дольше, сплошной и всерьез.
Где же прячутся милые твари?
Тварь — не лучшее слово для них.
Государыни и государи
В ярких тканях, снастях слюдяных.
Запах сырости сладкой и прели,
Вымок дрок и промок зверобой.
Ни одной нет не залитой щели,
Ямки, выемки, складки сухой.
Не о жизни, пронизанной светом,
Не о смерти, съедающей свет,
У Набокова только об этом
Я спросил бы: он знает ответ.
* *
*
Любимый запах? Я подумаю.
Отвечу: скошенной травы.
Изъяны жизни общей суммою
Он лечит, трещины и швы,
И на большие расстояния
Рассчитан, незачем к нему
Склоняться, затаив дыхание,
И подходить по одному.
Не роза пышная, не лилия,
Не гроздь сирени, чтоб ее
Пригнув к себе, вообразили мы
Иное, райское житьё, —
Нет, не заоблачное, — здешнее,
Земное чудо, — тем оно
Невыразимей и утешнее,
Что как бы обобществлено.
Считай всеобщим достоянием
И запиши на общий счет
Траву со срезанным дыханием,
Ее холодный, острый пот,
Чересполосицу и тление
И странный привкус остроты,
И ждать от лезвия спасения
Она не стала бы, как ты.
Острова в лагуне
Вишневецкий Игорь Георгиевич родился в 1964 году в г. Ростове-на-Дону. Закончил филологический факультет МГУ и докторантуру Браунского университета (США). Поэт, прозаик. Автор десяти книг: “На запад солнца” (М., 2006), “Стихослов” (М., 2008), “Сергей Прокофьев” (М., 2009) и др. Печатался в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь” и др. Лауреат премии НОС (2011) за повесть “Ленинград”, напечатанную в “Новом мире” (2010, № 8).
И день придёт — не будет и следа
от ваших Пестумов, быть может!
Часть первая
ОГНЕННЫЙ ВОЗДУХ
I
Рейс из Москвы приземлился в аэропорту имени Марко Поло в две-надцать с четвертью. В двенадцать сорок пять — русские повествования начинаются с точного указания времени и имени героя: что ж, мы не отступим от традиции — Тимофей Теплов, пройдя пограничный контроль и довольно формальный таможенный досмотр, уже стоял на юго-западном выходе из здания аэровокзала, лицом к лагуне.
Солнце палило нещадно; обычно оно достигало такой интенсивности часам к трём-четырём, да и то не во всякий день.
Зеркало лагуны казалось нацеленным прямо в глаза: немного облаков и меньший накал светила не помешали бы.
Добираться водой до расположенного на острове города — при таком блеске, режущем зренье с любого ракурса, — не доставляло удовольствия. Теплов вернулся в здание аэровокзала и пошёл к выходу в сторону автобусной остановки. Ближайший отходил в 12.56.
Мягкий толчок — и мимо поплыли знакомые улицы городка Местре со стайками безработных сербов, украинцев, тунисцев: всех тех, кому не было места на аристократическом пиру старой истории и культуры; и, вынужденно бездельничая, они наслаждались полуденным жаром.
Он всегда считал Местре только за преддверие, поэтому даже однообразное сочетание коричневого с зелёным — оштукатуренных стен с буйной растительностью — показалось ему праздничным. Не более чем через полчаса он окажется в городе настоящем.
Минуты, когда поезд движется по вытянутой стрелой дамбе, почему-то именуемой Мостом Свободы, всегда наполняли Тимофея восторгом. Австрийцы здесь действительно провели железную дорогу по двумстам двадцати двум аркам, поставленным на десятки тысяч вбитых в лагуну лиственничных свай, но называлось это сооружение в их времена без какого бы то ни было пафоса, просто мостом через лагуну.
Он стал припоминать, описывал ли кто въезд в Серениссиму с материка — единственный в своём стремительном великолепии изо всех известных ему железнодорожных въездов в города, и на ум пришло только: “Я был разбужен спозаранку щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла” . Правильно было бы “вагонного окна”, но тогда и рифма другая.
Если на какое хлебное изделие город похож с птичьего полёта, то на размокший калач.
Ему же самому город всегда виделся гитарой — хорошо, пусть не гитарой, виолончелью — с грифом моста и с бегущими вдоль натянутых струн наперегонки поездом и автомобилями. Их звук, кажется, и есть гудение струн.
За истекший час солнце стало палить сильнее. Огромный шар висел над белой от марева испарений Венецией, словно хотел выкалить всю лишнюю влагу из окружавшей лагуны.
Так осушают глоток за глотком плоскую и поначалу неупиваемую чашу.
II
Гостиница была девятнадцатого столетия с видом из окон на канал св. Марка. Многое казалось избыточным: гигантские канделябры, парадные лестницы, обои в коридорах и номерах с рисунком чуть не времён австрийского управления.
Тимофей вспомнил обои с французскими королевскими лилиями в старых гостиницах Нового Орлеана.
Ничего из этого не добавляло ни грана комфорта.
Гостиницу подобрали организаторы симпозиума “Русские в / о Венеции” (при Институте венецианской цивилизации — одно название чего стоило!). Доклад в московской суматохе был написан только вчерне. Тимофей знал, что его ценят за парадоксальность мышления, и потому наверняка не заметят многих слабых составляющих конструкции. По высшему счёту некрепкими были не только отдельные части, неясен оставался смысл всего построения, что он без труда прикроет ловкой риторикой; в том, что она выйдет у него лучше, артистичней, чем у иных коллег, Тимофей не сомневался, — просто так была устроена его голова.
Лет десять назад он обнаружил в главной библиотеке Северной Америки архив одного позабытого всеми на родине, но прославившегося в 1930-е за Океаном — впрочем, больше своими популярными сочинениями для Бродвея и Голливуда — композитора, острослова и бонвивана. Среди никому не известных его композиций был совершенно не блюзовый “Concerto veneziano” для фортепиано с оркестром.
Тимофей не считал себя музыкантом, ибо забросил музыку ещё в ранней юности. Автор же сочинения привлёк его как художник, осуществившийся полностью, всё про себя и про других понявший и даже с едкостью и с занимательностью описавший в удававшихся ему — как музыка, без труда — стихах и мемуарах собственную счастливую жизнь. Однако и в залитой ровным нью-йоркским и калифорнийским солнцем, прямо-таки образцовой биографии сочинителя “Венецианского концерта” оставалась какая-то не до конца самому композитору ясная — отражательная, лунная? — зона, порыв вспять: нет, не в Россию, а лишь в её сторону — в Европу; что-то, что заставляло без видимых причин создавать смятённые и загадочные партитуры навроде упомянутого “Концерта”. В Северной Америке, где композитор счастливо поселился, такое вызывало удивление, а в Европе было давно не в чести и не в моде.
Тимофей намеревался поделиться соображениями о музыкальном мифе в “Концерте”. Он знал, что чистых музыковедов, этих дистиллированных пифагорейцев звуковысотности и тембра, такое бы покоробило.
Свободные стихии в “Концерте” буквально осаждали спокойнейшую Венецию со всех сторон, словно вымывая из-под неё основание. Партитура состояла из трёх частей-посвящений: первые две — “Воздуху” и “Земле”, причём воздух в “Concerto veneziano” представал словно бы излучающим бестенный зной, как воздух той Венеции, в которой Тимофей оказался сейчас сам, а земля, если продолжать внемузыкальные сопоставления, смахивала на первобытное месиво.
Он глянул на лежавшие слева от ноутбука наручные часы: Тимофей всегда их снимал, когда работал. В этом, как и в самом ношении часов, были избыточность, порядок, минимальный комфорт. Время на них всегда на четыре минуты обгоняло то, что на ноутбуке, и показывали часы сейчас четыре тридцать четыре. Ровно через полчаса он позвонит.
Той, чей номер предстояло набрать, Тимофей был представлен ещё четыре года назад после одного концерта современной музыки в Рахманиновском зале Консерватории. Тимофей не был особенно охоч до малоприятных звукоизвлечений, но — на сцене и в зале — собрались друзья, и он пришёл, чтобы поддержать их усилия. “Марина, — очень просто сказала только что игравшая в ансамбле с духовиками и струнниками. — Я знаю, такое имя бывает у русских, но я итальянка”. Тимофей пожал её цепкую и натренированную руку пианистки: “А фамилия у вас тоже связана с морем?” — “Почти. С водой. Посмотрите афишу”. — “Вы прекрасно говорите по-русски”. — “У меня были отличные учителя”.
После концерта пили коньяк в большой бестолковой компании в увешанной афишами комнате напротив консерваторской библиотеки. “Хорошо, что не водку”, — сказала ему Марина. Без труда соскользнули в “ты”.
“Я бы пригласил на прогулку по бульварам. Ещё тепло, самое любимое время осени...” — “Не надо, ты ведь сейчас не один. Будет возможность ещё погулять”.
Так они потом и виделись — в короткие приезды Марины — после её концертов и в общих компаниях. Надо сказать, что барочный репертуар и модернистская классика удавались ей в разы больше, чем ансамблевое занудство, слышанное тогда в Рахманиновском.
Пару раз пересекались в самой Европе: гуляли осенью в звенящем трамваями, свёрнутом в улитку каналов Амстердаме (“Ну, признай: никакого сходства с моей Венецией!”) , а летом — в лондонских Кенсингтонских садах (“Наполеоновские-то меркнут перед этими!”). Всякий раз, когда он оказывался в Венеции, у Марины был либо гастрольный концерт, либо какие-то дела в другом городе.
У них сложились странные отношения: не дружба, не флирт, но Тимофей чувствовал всё возраставшую потребность делиться внутренне важным. В какой-то момент рассказал об архивной находке. “Скорей присылай, что ж ты молчал: сыграю...”
Узнав, что в очередной раз он окажется в Венеции, Марина написала: “Позвони, буду очень рада, покажу тебе тайные уголки города”. — “Хорошо, — отвечал Тимофей кратко в предотъездной спешке, — в день прилёта в пять”.
Прежде чем успел что-либо произнести, раздалось: “Ты удивительно точен. Здравствуй. Есть на сегодня планы?” — “Никаких, я свободен”. — “Я так и думала. Приглашаю в кино. Вот кино ты у нас не видел. Через два часа: Каннареджо, 4612. Дорогу найдёшь?”
III
Встретились они перед кинотеатром — там лицом на небольшую площадь располагался супермаркет в виде параллелепипеда — вторжение голой функциональности в мягкий и разнообразный архитектурный ландшафт.
Сеанс начинался в семь тридцать. Это был мистико-исторический триллер “Луна в последней четверти”.
Марина была хороша неизбежной средиземноморской жгучестью — будто специально настраивающей зрение на резкость, — что и всякий раз до того.
“Ты тоже изменился мало, — сказала она, словно читая мысли, прикоснувшись губами к его щеке, на том самом чистейшем русском, к которому Тимофей всё никак не мог привыкнуть и эффектом от которого говорившая, по видимости, наслаждалась. — Шедевра не обещаю, но время скоротаем. Если что, сбежим”.
Марина была в приподнятом настроении, и Тимофею сразу передалась счастливая радостность той, с которой были связаны многие мысли, впрочем, скорее возвышенно нематериальные; но теперь она вот осязаемо сидела рядом, искоса посматривая за его реакцией. Потолок кинотеатра был заделан пенопластовыми щитами, напоминая офис или декорацию дешёвого фантастического фильма. Впрочем, это могло быть и китчевым шиком, кто знает.
Во вступительных титрах фильм был обозначен как официальный участник Оттендорфского фестиваля.
Начиналось действие со сцены, в которой две суховатые и седовласые англичанки (внешность в таких сюжетах обманчива) разговаривали на мосту, на фоне бедного и невыразительного сельского пейзажа. Час был вечерний, движение по гравиевой дороге отсутствовало.
Миссис Робартс жаловалась своей товарке миссис Эйхерн: “Автор утверждает, что я давно покинула этот мир, что меня нет. Что ж, я готова принять эту участь”.
Следующая сцена переносила нас в барханы, где миссис Робартс, сильно помолодевшая, в очень идущем ей колониальном одеянии свободного покроя, в пробковом шлеме с прикреплённым к нему газовым шарфом, который должен бы защищать от летучих песков, но на самом деле только дразнил глаз зрителя (оператор и режиссёр явно гордились дешёвым эффектом), в окруженье сверкающих очами бедуинов, рисовавших на барханном песке какие-то конусы, круги и диаграммы, внимала объяснению тайного учения некоего Косты ибн-Луки (если по-русски, Константина Лукича, ехидно отметил про себя Тимофей), багдадского врача — большого знатока греческой и сирийской мудрости, жившего за двенадцать веков до нас с вами и сводившего ритм человеческой жизни к фазам луны.
“Ибо она, — говорил помолодевшей миссис Робартс один из бедуинов, — в отличие от явленного телесным очам дневного светила, — водительница тайных желаний. Всё о них зная, мы победим смерть”.
Собравшиеся вокруг бедуинские дети с жадностью слушали объяснения старшего.
С каждым следующим эпизодом гротеск нарастал.
Действие теперь перенеслось в Вену 1930-х. Совсем юная миссис Робартс была влюблена как кошка в некоего русского танцовщика, по совместительству художника-абстракциониста (сюрреализм отцветал, и теперь уже абстракция была для подлинно продвинутых), добывавшего себе хлеб исполнением цыганских романсов в ресторанах. Звали рокового героя Константин Лукич фон Разумнофф. Тут Тимофей чуть не поперхнулся. Марина с улыбкой в глазах, но деланно строго взглянула на него, прибавив: “По-моему, класс. Не находишь?”
Тимофей начал сползать под кресло, его спутница в шутейном испуге вцепилась ему в руку.
Между тем фон Разумнофф вещал с экрана тем небрежно-утрированным баритоном эмигранта, который можно было бы встретить в старых французских и американских фильмах: “И ещё, душа моя, вот что: луна интересней всего в последней четверти своих превращений. Возникает, как говорят, равновесие между амбицией и созерцанием, человек мудр и всевидящ, тщета его покидает, он опирается лишь на себя, полностью растворяясь в свершённом. Всякий в это время либо святой, либо дурак. И тут мы подходим к началу нового цикла”. Миссис Робартс сидела у ног говорившего и, не понимая ни слова на тарабарском для неё языке, млела от тембра голоса и от выговора.
В заключительной сцене она уже была на кушетке в заставленном книгами приёмном кабинете Великого Доктора, похожего не то на переодетого Деда Мороза, не то на актёра Бена Кингсли. Доктор объяснял ей обсессивно-эротический характер её интереса к луне, связанный с непреодолёнными детскими травмами (луна прикровенно олицетворяла материнскую грудь и, возможно, нечто фаллическое), что в свою очередь было густо замешано на власти танатоса, свойственной сознанию русских, у которых, как говорило Доктору знание, эрос и танатос — тут Великий Терапевт взглянул поверх очков — нерасторжимы.
“Но ведь вы, миссис, англичанка. Вы англичанка?” — “О, да!” — восклицала пациентка и, встав с кушетки, вонзала хирургический скальпель в шею Бородатого Мага, рассекая его сонную артерию.
“Так, — резюмировал сухой и официальный голос за кадром, — мы узнали скрывавшуюся десятилетиями правду о конце Доктора. Он не умер в Лондоне от впрыскиванья морфия. И прах его не был кремирован, увы. Он, как и Наполеон, был человеком третьей, надындивидуалистической четверти лунного цикла и, как сказал бы мудрейший Коста ибн-Лука, слишком верил в себя. Но он не учёл самого простого и главного: пока земля вращается вокруг солнца, а луна вокруг земли, лунные фазы сменяют друг друга”.
Вышли на душную, потемневшую улицу. Тимофей не знал, злиться ему на нагло и аляповато слепленный “артхауз” или всё-таки от души посмеяться. “Явно передрано из первой версии Йейтсова „Видения””, — начал он мрачновато. “Вы, русские, любите мистику”. — “Но Йейтс — ирландец. Точнее, англичанин, осознавший свои кельтские корни”. — “Всё равно. Ты ведь хотел сказать мне что-то другое?” — “Давай, что ли, выпьем за нашу так долго откладывавшуюся встречу в твоём городе!” — “Все места закрыты. Впрочем, я знаю одно”.
Пошли по узким улочкам, пересекая каналы и канальчики. Марина рядом и впереди, Тимофей рядом и следом, любуясь её движениями, что Марина, конечно же, чувствовала спиной. На Марине были белая блузка и юбка до щиколоток, а босые ноги в туристических каких-то шлёпанцах, которые она называла “босоножками”, двигались без тени пляжной расслабленности — воплощая стремительность.
В месте, куда Марина его привела, была в основном публика средних лет, а некоторые пары и сильно в летах — место потому было тихое, но не чинное. Там можно было действительно выпить, а кроме того, съесть тонко нарезанного мяса. Все здесь были своими, местными, но уже навеселе, и приветствовали их, вошедших, радостными возгласами. Уже через две минуты на Тимофея с Мариной никто не обращал внимания. Тимофей заказал им обоим тарелку снеди, а себе граппу. Марина выбрала что-то довольно крепкое, горько-сладкое на вкус. “Видишь, это всё-таки — провинциальный город, даже городок. Одно такое заведение на всю Венецию! Кстати, какое сегодня число?” — “Тридцатое июня, воскресенье”. — “Да, завтра многим на работу. Не мне...”.
Он трогал её за воротник расстёгнутой чуть не до середины блузки, дышал близко в лицо. “Больше здесь делать нечего, — сказала через некоторое время Марина. — Пойдём ко мне, что ли”.
IV
Она снимала квартиру в Кастелло, с окнами на небольшую площадь. На второй этаж дома вела лестница во внутренней части строения, но столетий, прошедших с момента возведения дома, как и всюду в буржуазной части города, не чувствовалось. Изнутри жильё было уютным и прекрасно спланированным, только соседская стена со всегдашними растениями из-за каменного забора казалась не по-современному близкой, и листва деревьев и лепестки декоративных цветков почти проникали в открытое узкое окошко кухни.
Налила из початой бутылки “Grand Marnier”: “Надеюсь, ты мне составишь компанию”. Преимуществом ликёра была крепость. Остатки стены между ними, если она когда-нибудь существовала, теперь окончательно рухнули.
“Можешь пока посмотреть квартиру”.
Стены гостиной, выходившей огромным балконным окном на площадь, украшали странные золотые, коричневые и пурпурные картины в духе Малевича или Ротко, но более нежные по оттенкам цветов и по каким-то женственным (как ему показалось) геометрическим формам, хотя живопись эта всё-таки не вязалась с той хозяйкой, какую он знал прежде. В гостиной стоял приоткрытый рояль, но много места он не занимал. Что было в съёмной квартире определённо девичьего — невероятная пустота, освобождённость от груды утлых предметов и ненужной памяти.
Так, окунаясь в морские волны, ты выходишь из них обновлённым и чистым, обращаясь в поверхность, на которой ещё предстоит что-то записать.
“Всё посмотрел?” — Марина вошла посвежевшей, или он, погрузившись в разглядыванье обстановки, успел за эти несколько минут отвыкнуть от её присутствия. Сама погасила свет, отодвинула штору, распахнула дверь на балкон: в дом подуло жарой, площадь оказалась безлюдной. Лишь слабый вечерний ветер, трепавший растения в окне, когда пили на кухне, теперь шевелил огромные рекламные полотнища, выпростанные из окон и с балкона на расположенном слева (если глядеть на площадь) палаццо — на манер средневековых хоругвей.
Он коснулся губами её верхней губы, Марина ответила. Потом стал освобождать её и себя от ненужной одежды. “Подожди”, — сказала она, отвечая губами, руками, всем телом, но лишь затем, чтобы продлить момент. В гостиной слева от двери в спальню стоял обитый темнеющей кожей диван.
Чёрный зев рояля не так отвлекал, как картины. “Удобнее на простынях”, — тихо сказала она, опередив его мысли. В спальне (“Ты её не смотрел?” — “Успел лишь гостиную”) было свежее.
Поскольку все окна квартиры были распахнуты на соседей, она иногда просила его, словно выныривая из пахнущего адриатической солью пространства обратно в тело и время, — так, как просят о фразировке при исполнении: “Piano, piano…”
V
Оба не понимали, как лучше, и пробовали так и этак. Сон пришёл лишь к утру и длился недолго. Тимофей проснулся от жара и от шума, вползавших в окна. Вид её не прикрытого, меньшего, чем показалось вчера, но удивительно ладного тела вызывал новое желание. “Погоди”, — улыбаясь, но не открывая глаз, по-русски сказала Марина. Значит, не спала, во всяком случае, сознание её бодрствовало.
Тимофей отправился в ванную, где подумал, пока стоял под струёй душа, как же всё-таки быстро горячая вода напитывает губку человеческого тела. Солнце заиграло на кафельных стенах наполненной паром комнаты. Когда он стирал с тела влагу мягким розовым полотенцем Марины (другого не нашёл), будто вминая аромат хозяйки в своё только что от всех запахов отмытое тело, то думал, что стоит один. “Тщательно выбрейся, — сказала Марина, сзади просунув руки ему подмышками, положив обе ладони на грудь, а голову на плечо, вдавив в плечо подбородок: это всё он увидел в зеркале. — Вот смотри: мои щёки ободраны, все пылают”. — “Ничего”. — “Что скажут соседи!” — добавила она с ложной обеспокоенностью. “Соседи смолчат”.
Вид на площадь свидетельствовал о перемене времени суток: один за другим её пересекали пешеходы, стуча каблуками или шаркая подошвами по плитам; несмотря на продолжавшуюся жару, кое-кто сидел под навесом кофейни.
Завтракали: вином, прошутто, дыней.
“Поехали на кладбище”, — сказала, доедая дынную дольку, Марина. “?!” — “Вы, русские, любите кладбища”. — “А вы?” — “Я знаю, что если меня запрут в мраморный ящик на оплаченные вперёд двадцать лет, то потом высохшие кости всё равно куда-нибудь выбросят. Что думать об этом! Считай, что я приглашаю. А вот ваши-то любят великих покойников: Дягилев там, Паунд”. — “Паунд был фашист”. — “Ну да — оды писал в память о Муссолини: растерзали великого Диониса с его менадами. Я их только просматривала. Я, ты знаешь, легче читаю ноты. Потом этот, который воспевал яичную скорлупу куполов. Будто наш город — сковорода”. — “Так припекает, что может быть. Ну, кто из нас двоих о серьёзном?” — “Вот я и говорю: одевайся скорее — поехали”.
VI
Вапоретто отчаливал от остановки “У св. Захарии” в 11.21 и отправлялся дальше к заброшенным мукомольным фабрикам Джудекки, превращённым одна за другой в многоэтажное фешенебельное жильё, — мимо острова Сан-Джорджо Маджоре, на котором светлела Палладиева Церковь св. Георгия и возвышалась эхом большой колокольни — той, что на Площади св. Марка, — колокольня из красного кирпича, а за церковью и колокольней зеленели густые сады. Этот вид завораживал всегда, особенно при ослепительном солнце. Через несколько дней Тимофей будет читать доклад в тени этих самых садов.
Двигаясь дальше на запад, вапоретто проплыл депо железнодорожной станции и, свернув с Большого канала на Канал Каннареджо, идущий в сторону материка, поплыл ещё дальше, мимо северных набережных города, а потом, описывая почти полную петлю, — причалил к Новой набережной. Дальше катер развернулся на северо-восток: для последнего короткого перехода к острову св. Михаила.
Если бы не густые ряды погребальных кипарисов из-за его светло-коричневых стен, то остров мог бы сойти за крепость. Полдневное солнце, удвояясь блеском в лагуне, плавило и без того светлый камень, выбеляло зелень деревьев.
От всепроникающей плавкости не спасали ни чёрные очки, ни американская соломенная шляпа, надетая Тимофеем, ни косынка, которую повязала, отправляясь на кладбище, его спутница. Тимофей помнил, что если глядеть с птичьего полёта, то остров суровых аллей и смиренных кладбищ имеет внутри форму креста, обращённого верхним концом к городу, а “лицом” и “стопами”, словно в ожиданье трубы Страшного суда — на восток.
Не все, кто здесь погребён, одобрили бы такую геометрию. Но ведь и Наполеон, властной рукой революционера и победителя установивший здесь единственное городское кладбище, расчищая путь грядущему царству разума и воли, — он ведь тоже был безбожником.
Скажем, надгробие бывшего заключенного спецпсихбольницы им. св. Елизаветы, чью тень даже за дверью Аида ревниво сторожили погребённые по правую и по левую руку жена и любовница, представляло собой мраморный прямоугольник с гордо-лаконичной надписью на слегка латинизированном английском “EZRA POVND”, — прямоугольник, окаймляемый, как посмертным венком, широкими листьями вьющегося по красноватой земле плюща.
Тимофей, было время, внимательно читал Паунда и потому хорошо запомнил начало “Пизанских песнопений”, сочинённых в ожидании расстрельного приговора в металлической клетке под выжигающим разум италийским солнцем, — слова, произносимые стихотворцем не столько в память о Муссолини, сколько в качестве автоэпитафии:
Эти черви (пусть) жрут тушу тельца:
дважды рождённого, но дважды распятого —
где в истории видано это?
И ещё передайте опоссуму: хлопком, а не всхлипом,
хлопком, а не всхлипом!
Элиот-опоссум, давний его приятель, был уверен, что бедный наш мир окончится, нет, “не хлопком, но всхлипом”. Но карающее и милосердное — обращённое к концу времён — христианство Элиота было чуждо тому, чьи кости спеклись под солнцем Средиземноморья.
Чуть поодаль — белые и простые надгробия автора “Весны священной” и его вдовы, рядом — светлая часовенка на могиле выведшего его в люди импресарио. Могила беспутной жены славного Багратиона. Захоронения русских аристократов и венецианских греков.
А где же поэт-лауреат, сравнивший купола Сан-Марко с будущей яичницей? Тот лежал на протестантском — в сущности, на ничейном — участке, возле Паунда, которого по справедливости недолюбливал.
Марина всё время была рядом, пусть в чёрных очках и платке, но одетая в лёгкое и очень короткое, обнажавшее загорелые руки и ноги платье. Мысль о ней была связана с возбуждением, но располагавшимся как бы за границей ума, тела и места, куда она привела его.
На обратном пути он обнял Марину сзади, словно в повторение её жеста перед зеркалом в ванной, только зеркалом теперь было всё блескучее, жаркое море — просунув под платьем правую руку, касаясь левой груди, где сердце, и услышал в ответ: “Ты приходишь ко мне ужинать?” — “Да, конечно”.
VII
Лишь теперь он заметил, до какой степени гостиничный номер был переполнен всяческим антиквариатом. Кровать, стол, массивные чернильница и пепельница (Тимофей не курил, а любимую перьевую ручку давно заправлял картриджами), лампы в стеклянных абажурах чуть не столетней давности, резные дубовые стулья — всё создавало атмосферу ложной основательности, вероятно, щекотавшую самолюбие какого-нибудь замшелого туриста из медвежьего угла, но Тимофей ехал сюда не за декором девятнадцатого столетия.
Насколько чиста от ненужного прошлого в сравнении с этим была квартира Марины! Всего-то памятного, что стопка из нот переусложнённых и неблагозвучных современников, да второй том “Хорошо темперированного клавира”, да раскрытый на середине, изучаемый к его приезду “Венецианский концерт”. Ну, и поставленные на столике у рояля фотографии с концертов — вот она одна, вот в ансамбле с другими исполнителями. У русских её партнёров были какие-то растительные фамилии: флейтист Дубовской, виолончелист Кленовский, альтист Буковский. Внимание задержал Кленовский: рослый, статный, со светлыми кудрями до плеч. “Ты часто играешь с Кленовским?” — “Да всякий раз в Москве, а ещё в этом году во Флоренции и в Милане”. — “Ну и как?” — “Музыкант хороший. Прекрасный партнёр. Ты ревнуешь?” — “Да”. — “Но у нас ничего не было. Быть не могло. Ему нравятся длинноногие девятнадцатилетние — как вы говорите по-русски, сыкухи? Да, сыкухи”. — “Жалеешь?” — “Прекрати”. — “Ревновать можно к тому, чего не было. То, что было, — прошло”. — “Ужинать будем?”
На ужин были опять не плоды моря, которыми просто кишела Адриатика, а приготовленная Мариной нежная телятина — снова с дыней — и выдержанное в холодильнике прозекко. Игристое вино ударило в голову.
VIII
Будто прорвало шлюзовые заслонки. “И откуда, — спрашивал он сам себя, — в этой крепкой, невысокой, ладной женщине столько энергии, столько свободы? И кто оказывается чьим эхом? Если она, то я себя мало знаю; если же — я, то какие стихии вокруг!”
Иссушающее — прерыв и удар, — обдавая солёным накатом, — снова прерыв, — поставив на мягкую землю, — точнее, сбив с ног, с утопаньем во взвеси волны и возвращеньем к тому, что и, отделяясь, неотделяемо.
“Если мы, наводясь, как зеркала, друг на друга, расщепляем такие энергии...” —
IX
Наутро Марина сказала немного торжественно: “Теперь путь лежит к армянам, прямиком на Сан-Лаццаро”. — “Там-то что?” — “Вот видишь, ты не бывал. Бывший лепрозорий”. — “Неужели пора?” — “Говорю тебе: бывший. Давно уже католический монастырь. Армянский. Поехали — не пожалеешь”.
Добрались только к трём, хотя поездка водой занимала не более четверти часа.
Жаркий ветер и обжигал, и, проходя сквозь спутавшиеся волосы, казался желанным.
На острове действительно был монастырь со встроенной в общий ансамбль церковью девятого века, а в ней отличной работы растительные мозаики — кажется, более раннего времени; Тимофей вспомнил виденные им когда-то роскошные мозаики Северной Африки.
В монастыре жили всего восемь монахов, один из которых, переходя с итальянского на немецкий, английский или армянский, показал им церковь, потом трапезную, потом библиотеку (без посетителей, но полную удивительных книг), потом картины адмирала Ивана Айвазовского — уменьшенного формата и лучше прежде виденных Тимофеем, в основном, как ему показалось, виды Мраморного моря (на Сан-Лаццаро был монахом брат Айвазовского; автора картин монах-экскурсовод именовал “наш знаменитый художник Ованес Айвазян”), потом портрет Байрона, выучившего классический армянский “за шесть месяцев”, потом мумию, привезённую армянским священником из Египта в 1820-е годы, и, наконец, армянскую старопечатную книгу, изданную в Венеции, повторяя при этом со своеобразным юмором: “Настоящие армяне-арии, чьи предки пришли с севера Европы за десять веков до Рождества Христова, были высокими, светловолосыми и голубоглазыми. Ну совсем как ваш покорный слуга”. Сам монах был низкоросл, лыс, с иссиня-чёрными остатками когда-то пышных кудрей над ушами и на затылке, с бесцветными от прожитых лет глазами.
Тимофей почему-то вспомнил Байроновы “Стансы к Августе”, которые заставляли учить ещё в школе: “In the Desert a fountain is springing, in the wide waste there still is a tree, and a bird in the solitude singing, which speaks to my spirit of Thee ”, что в собственном его переложении, по-юношески пижонском и чуть корявом, звучало: “И в пустыне бьёт ключ, ну а древо восстаёт среди пустоши, и в одиночестве посвист — напевы птицы — повесть о нашей любви”. Сейчас-то он понимал, насколько маниакальным был этот текст, и сказал, обращаясь к Марине: “Байрона изгнали за связь с сестрой. Иногда я думаю, что ты мне сестра”.
Палящее солнце опускалось над лагуной, отбрасывая золотую дорожку на воду и становясь — в момент погружения в сизо-серую полосу паров, слева от острова Санта-Мария — отчётливо рыжим.
Ощущение было, что воды убыло. Или это только ему показалось?
Марина смолчала на пирсе в Сан-Лаццаро, но в третью ночь их близости ответила какими-то странными, “сестринскими” ласками, неуверенно проводя ладонью по его груди и спине, положив — щёкой к щеке — голову ему на плечо, долго глядя мимо, в пространство, прижав свои колени к груди, и лишь потом и очень не сразу открылась, внимательно смотря на него, стараясь губами не попадать в губы, в конце концов, произнесла: “Ну, чего же ты медлишь?” Потом быстро заснула под ним, будто выпав совсем из круговращения ночи и дня, ускользнула в невидимое междумирие.
X
На следующий день они отправились в Наполеоновские сады, очень похожие на многое, прежде виденное Тимофеем: на классицистские парки Санкт-Петербурга, на Люксембургский сад в Париже, на мадридский Парке дель Ретиро...
Тут и там стояли, будто оплавленные, скульптуры из песчаника: натягивающий выщербленной правой рукой набедренную ткань на мужеское достоинство курчавый безносый юноша (Эрот?), лишённый правой руки бородатый Геракл-Сократ, словно намеревавшийся этой рукой с зажатой в ней дубиной жахнуть по невидимым противникам. Шелестели выгоравшие листья лип, вечнозелёных лавра и бересклета. По-прежнему ярко блестели устойчивые к иссушавшему жару кроны каркасов — простого и южного, того самого, цветы которого именовались Лотосом у Гомера:
...Лишь только
сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно
всё позабыл и, утратив желанье назад возвратиться,
вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный
лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись отчизны, —
жаловался на своих переменчивых спутников Одиссей. Кое-где цвёл шиповник.
Тимофей, в юности раздумывавший над тем, не стать ли ему биологом, и сохранивший кое-какие познания по части флоры и фауны, с интересом отмечал про себя чешуекрылых, порхавших между густыми кустарниками, деревьями и скульптурами:
сонных листовидных носаток, серых, с розовыми и голубыми
пятнышками,
действительно похожих, когда,
сложив створки, они прикреплялись к высоким веткам каркаса, —
на иссохшие его листья;
потом среди травяных стеблей — пятнистых червонцев,
пламенно-красных и тёмно-коричневых
с тёмными пятнами и тёмным же ободом крохотных крыльев;
и ещё отливавших уже неземною голубизной, яркой и в ослепляющем
солнце,
крошечных голубянок-икаров; наконец, — вровень скульптурам —
целый веер летуний:
шафрановых с чёрной каймой на верхних крыльях желтушек,
жёлто-чёрных, прекрасных размахом крыл и полётом,
только что вылупившихся из куколок молодых махаонов,
пылающе-красных — с коричневатым и бурым отливом — бабочек
павлиний глаз;
коричневых в центре тельца и крыльев, с расходящимся красным
кругом
и чёрно-синими навершьями крыл бабочек-адмиралов;
и, наконец, кирпично-красных и чёрных одновременно,
с крохотными белыми пятнышками в навершиях крыльев —
вездесущих репейниц,
куда уж без них!
У многих народов их считают за души покинувших нас. Сколько душ было в этих садах, у дверей иномирья, обращающих мысли к Марине, вожатой в его бестолковых блужданиях по улицам, островам и паркам! К сестре сердца и средоточью желаний. В одной лингвистической книге он вычитал, что название племени древних венетов, давших имя городу, может происходить от корня *u en-, *u en-, означающего “любить” и “желать”. Что ж, пускай и венеты, и Марина, живущая ныне на их острове, будут тем “желанным”, что одушевляет затопленный жаром окрестный мир.
Внезапно, когда, как ему показалось, наступила счастливейшая, самая осмысленная минута, настроение Марины переменилось: “Никто не должен видеть, какие у нас отношения. Ты сегодня ночуешь в гостинице”. — “Посмотрим”, — сказал Тимофей, не понимая от неожиданности, что ему сейчас ответить. “У меня кости ломит. Я так не привыкла. Ты очень большой. Извини. Я тебе позвоню”. И — после паузы: “Пора уделить внимание sselboi sselboi , как говорили древние венеты, во власть которых над моим сознанием ты так упорно веришь”. — “Ты всегда читаешь чужие мысли?” — Марина смолчала. “Что ж, тогда и мне предстоит засесть за доклад: как бы не ударить лицом в грязь”. — “Да, пора”, — подвела итог Марина.
Так вот они и разошлись: в разные стороны.
Часть вторая
ПЕРВОЗЕМЛЯ
I
Невероятная вонь, и так свойственная некоторым мелким протокам Венеции, с утра наполнила город: высохло большинство каналов.
Обнажилась — ступень за ступенью — подводная, морская жизнь.
Вот ползающие по верхней обшивке каналов среди ещё влажных водорослей в ожидании прилива, который придёт невесть когда, бледные крохотные многоножки и мокрицы. Чуть пониже — стайки морских улиток, которых, как слыхал Тимофей, венецианцы едят, отварив прямо в раковинах, как русские раков.
Ещё ниже — прикреплённые намертво к лежащим в каналах камням и к основанию свай усоногие раки-балянусы, укрывшиеся в свои известковые домики, а по соседству — скопления мидий.
Наконец, мелкая рыба, дохнущая в образовавшихся лужах.
Низко летавшие чайки склёвывали добычу, долбили клювами раковины, рвали на клочья рыбу.
По радио и по телевидению передавали призывы сохранять спокойствие и по возможности насладиться необычайным природным явлением.
Интернет сообщал об экстренном заседании городского совета, намеченном на вечер. Должны были принимать решения по столь неожиданной ситуации.
Солнце между тем жгло и жгло. Если его рассматривать сквозь мощный космический телескоп, то можно было бы увидеть гигантские протуберанцы, отходящие, как длинные локоны, от его тёмного ядра.
Тимофей пошёл вдоль высохших каналов. Остатки влажной жизни убывали с фантастической скоростью, оставляя за собой неподвижные раковины, шершавые мёртвые камни и испаряющееся разложение. Казалось, что взгляду предстали не судоходные прежде каналы, а грубо протоптанные великанские дороги, по которым недавно прошелестел ливень. Нечто первобытное рассекло Венецию горячим ножом на десятки дымящих кусков.
Тимофей уже звонил Марине несколько раз: телефон не отвечал до четырёх дня, пока, наконец, сонный голос с того конца провода не сказал отчуждённо: “Извини, я всю ночь не спала...” — “Стоило ради этого отправлять меня в гостиницу?” — “И всё утро. Послушай, я ведь почти не знаю тебя”. — “После четырёх лет знакомства?” — “Всё происходит для меня слишком быстро. Никто не мог предположить...” — “...Что высохнут каналы”. — “И даже Большой?” — “И он”. — “Ты смеёшься”. — “Встречаемся через час у рыбного рынка”. — “Почему там? Сразу видно, что ты не венецианец”.
II
Больше всего всё-таки его изумляла непроходящая вонь, которую распространяли пересохшие артерии города. Так, вероятно, воняла бы стухшая на берегу в большом количестве рыба. Город и был такой разлагающейся рыбой.
Вот не счищенные до конца чешуи парков, вот голова Сан-Марко, вот жабры Риальто, вот упирающийся в континент хвост моста через лагуну.
Они стояли у пустых рядов, где столетиями шла торговля, и вместе с сотней-другой зевак наблюдали, как над остатками обнажившегося до дна Большого канала кружили оравы чаек. Марина была тиха и странно ласкова. Но мысли его сейчас были заняты увиденным. Чайки словно выклёвывали ещё недавно живую плоть из глазниц и жабр выброшенного на мель города-рыбы.
“Чем ты занят завтра?” — “В полдесятого утра встречаю на станции американского коллегу, прибывающего скоростным поездом из Парижа”. Молчание. “Ты понимаешь, это редкая возможность пообщаться вне конференции”. — “У вас никогда ничего не отменяют?” — “А ты не являешься на концерты?” — “Послушай, я вчера скучала по тебе. Я этого не хотела. Не сердись. Пойми: ты скоро уедешь”. — “Почему я должен уехать, да к тому же ещё скоро?!” — “Это произойдёт”. — “Совсем так не думаю”, — спокойно ответил он, глядя на предзакатный пир чаек. “Ну, пойдём тогда ко мне”. — “А ключ от гостиницы мне выбросить в пересохший канал?” — “Повремени: пригодится”. — “Можно хотя бы взять там бритву и зубную щётку?” — “Пойдём”. — Она потянула его за собой.
Близость в этот раз была высвобождающей какие-то другие уровни его существа, точно действовало теперь только тело, всем протяжением мускулов, в азарте дойти до решающей точки за как можно острее переживаемый отрезок пути. Это был основанный на жажде, с отключением всякой психики, поединок двух соревнующихся, не желающих уступать друг другу.
Было так жарко остаток ночи, что держали распахнутыми все окна, слушая ни на минуту не смолкавшие человеческие голоса, хлопки, громкие и неприятные крики чаек.
III
В девять утра он, весьма помятый и небритый, — в гостиницу зайти времени не оставалось, — встречал на железнодорожном вокзале Уильяма ван Бецелера с женой и великовозрастной дочерью. Сияющий и розовощёкий с коротко подстриженной бородкой гигант (на самом деле барон по рождению, чей герб изображал двух держащих красно-жёлтый щит львов), Билл был увенчан гнутой соломенной шляпой с маленькой кокардой, изображавшей джентльмена в пробковом шлеме, при галстуке и с моноклем. В каждой руке его было по огромному чемодану. Такой вид подходил больше приехавшему на Багамы американскому профессору (каковым он и был), чем голландскому аристократу. Вслед за Биллом не менее крупно сложённая, но какая-то стушевавшаяся спускалась из вагона на перрон его светловолосая жена. Замыкала маленькую процессию загорелая и тоже высокая дочь в тёмной майке с перевязанными чем-то только ей одной ведомым запястьями. Её взгляд изображал растерянность и скуку.
— В прошлый раз, коллега, когда мы виделись, ураган сокрушил Новый Орлеан. Интересно, что будет с Венецией, — громогласно и радостно произнёс ван Бецелер.
Ресторан располагался недалеко от гостиницы. Здесь подавали рыбу — фирменное блюдо, хотя едва ли рыба эта была выловлена в лагуне; доставляли её из чистой от городских сбросов части Адриатического моря. Тимофей осторожно поглядывал на дочь Билла: из-под майки на плечах и на груди выползали какие-то нелепые татуировки.
Сам Билл был увлечён рассказом о своём будущем сообщении про венецианские месяцы князя Вяземского, дополнявшем известные дневники, опубликованные в десятом томе Полного собрания сочинений, и стихи про “город чудный, чресполосный, — суша, море по клочкам, — безлошадный, бесколёсный, город — рознь всем городам” (из одиннадцатого тома того же Собрания). Ван Бецелеру удалось разыскать занимательные новые детали: в личных бумагах друзей и родственников. Оказывается, Вяземский, большой любитель дамского общества, подарил прабабке Билла тетрадку с венецианским циклом, к тому же переведённым им самим на французский; там были разные дополнения к неопубликованному. Так, в стихотворении 1853-го года “К Венеции” перед последними двумя стояли прежде неведомые строки про жар венецианского дня:
Там небо звездное, здесь зеркальное море,
достойные тебя подножие и кров, —
златой царицей дня, царицей светлых снов
и пламенем дневного мирозданья,
преображающим и память, и сознанье, —
ты всё волшебница, “всегда ты чудо света,
и только ты одна прекрасней Каналета!”
То есть Венеция, утверждал умница-Вяземский, полнокровней любых живописующих её, жаркую и влекущую, картин.
Специальностью Уильяма считалась не русская литература — это было бы слишком просто, — а, как легко предположить, европейская и только потому русская аристократия. В иной день Тимофей и сам бы увлёкся разговором, ни с кем другим, кроме ван Бецелера, не возможным, но, увы, день сегодня выдался экстраординарный.
Тимофей даже внутренне пожалел Билла за его увлечённость. Стоило ли? На фоне декораций иссушенного города и лагуны ван Бецелер с семейством смотрелся воплощением возвращающейся жизни, странной и не вполне своей, но всё равно желанной.
Птицы продолжали низко кружить над полумёртвыми каналами, однако запах гниения потерял прежнюю остроту.
IV
“Жаль, что мы с тобой в первые дни не доехали до пляжа”, — сказал Тимофей, когда вернулся на квартиру Марины после ресторана и гостиницы, где он всё-таки разжился бритвой и всем, минимально необходимым. “Я каждое лето абонирую кабинку на Лидо. Но теперь добираться туда не лучшее время. Хотя можно попробовать, но не на „пароходике”. Сегодня — ты слышал? — отменено любое движение по лагуне”.
Солнце по-прежнему жгло: запредельно.
“Вообще я в море как рыба, — продолжала Марина, не дожидавшись ответа. — Если б не музыка, я бы стала профессиональной пловчихой. Сейчас же — хочу, чтобы мы пошли на Славянскую набережную”.
Вот высокая стена “набережной”, а вот и пешеходная дорожка у стены, где они уселись, свесив ноги, и стали смотреть на марево тяжёлых испарений над лагуной.
Странно, он так хотел воды, того, чтобы стихия плескалась и обволакивала, но именно вода уходила из видимого пространства. Всё, чем ему оставалось довольствоваться, было солёное, копошащееся зеленоватое поле с торчащими тут и там шестами, ещё недавно обозначавшими фарватер, и усевшимися на эти шесты птицами. Кое-где в отдельных зеркальных заводях отражалось яркое небо. Толпы людей бродили в высоких сапогах по обмелелой лагуне: в поисках не ушедшей в море рыбы и всего, что море скрывало тысячелетиями от глаз.
“Вероятно, — сказал себе Тимофей, — сейчас обнажится и то, что годы скрывалось внутри: страстное и глубокое, охватывающее всю область видимого и понимаемого...”
“Знаешь, — произнесла вслух Марина, — я не понимаю, что со мной происходит и вообще, но мне хотелось бы, чтобы мы ещё долго, очень долго сидели вот так”.
V
Утром следующего дня муниципалитет издал распоряжение об ограничении использования воды из артезианских скважин под городом и о закрытии островной Венеции для въезда. Все въехавшие до запрещения могли оставаться под собственную ответственность. Было ясно, что симпозиум отменяется. Тимофей первым делом позвонил Биллу.
— Я же говорил вам, коллега, в прошлый раз случилось нечто не менее эпическое. Мы остаёмся: когда ещё такой случай представится! — с каким-то странным возбуждением произнёс ван Бецелер.
Ситуация действительно менялась с каждым часом. В новостях прошло сообщение, что во всей области Венето объявлено чрезвычайное положение.
Марина, сидевшая рядом во время телефонного разговора, была обеспокоена. “Так ты не уезжаешь?” — “Я же сказал: не за тем я приехал”. — “Хорошо, тогда я покажу тебе внутренний город”.
VI
В Венеции уже сутки, и так совпавшие с выходными, никто не работал. Марина повела его по Кастелло. “Откуда такое название?” — “Здесь, говорят, стояла римская крепость”.
Народ, одетый очень просто, сидел на ступенях возле открытых нараспашку, по случаю уже совершенно сверхъестественной жары, дверей. Была видна вся внутренность их жилищ — с деревянными шкафами, огромными глиняными мисками, яркой раскраской стен. Всё это архаическое, полукрестьянское (настоящие крестьяне жили на окраинных островах, где выпасали коров по густым лугам, сейчас звеневшим лишь мёртвым сухостоем) перемежалось с пятнами современного комфорта: с ослепительно белыми раковинами, колонками, кухонными механизмами. Мужчины были молодыми и средних лет: кое у кого — по американской моде, дошедшей и до Италии, которая всегда напоминала Тимофею об уголовном шике пляжей его детства, — плечи украшали наколки; женщины, почти все хорошо сложённые и разбитные, смотрели на Марину свысока ( и чего ей здесь нужно? ), а на Тимофея с нескрываемым неодобрением ( ишь, кого привела ). Повсюду на верёвках было развешано стремительно сохнущее бельё: по случаю введения ограничений на воду венецианцы выстирали всё, что ещё можно было выстирать.
“Мне кажется, нам здесь не рады”. — “Но они так смотрят на всех”. — “Куда ты меня ведёшь? Здесь одни сплошные стены и никаких указателей”. — “Не волнуйся, со мной не потеряешься”. — “Ну, хотя бы мы ехали на велосипедах”. — “У нас даже лошади запрещены: не одно столетие”.
VII
Был полдень, солнце вошло в зенит. Наступила единственная минута, когда люди и предметы не отбрасывают теней. Марина, покружив с ним по Кастелло, вышла на абсолютно безлюдную площадь и задержалась у обшитой светло-коричневыми плитами стены. Медальоны с изображениями евангелистов были окружены горельефами из цветочных гирлянд, рогов изобилия и держащих их, совершенно не шедших к внешнему убранству христианского храма нагих младенцев (“Неужели Эротов?” — подумал Тимофей). Но ни Маринино тело, облачённое, как и прежде, в короткое, значительно выше колен светлое платье, ни условная обувь — как бы сандалии, состоявшие каждая из тонкой подошвы и почти нитяной тонкости кожаных перемычек, — не отбрасывали никакой тени на стены строения и на плиты площади. Волосы, прежде тёмные, а в сумерки почти смоляные, внезапно посветлели. На мгновение ему показалось, что это уже не Марина, что его водит по городу другая, совсем незнакомая спутница. Оливковый загар — без видимого следа от надеваемой на пляж из приличий одежды — покрывал всё тело под платьем; похоже, она и загорала нагишом. Но даже загар показался теперь не таким интенсивным.
“Почему ты меня так пристально разглядываешь?” — “Возможно, я останусь с тобой навсегда”. Марина смолчала и посмотрела ему в глаза немигающим взглядом. Тимофей обнял её затылок обеими ладонями и стал целовать; она в ответ дёрнула головой и, широко расставив обе руки и при этом совершив вращательный жест, словно желая стряхнуть с себя его пыл, сказала: “Погоди! Я ещё не всё показала...”
Он провёл тыльной стороной своей ладони по её подбородку: “Просто пытаюсь удостовериться в твоей реальности”. — “Ну, ты тоже какой-то фантастический случай, не обольщайся”.
VIII
Солнце чуть сместилось на закат. Короткие тени затрепетали между ногами идущих. Строения тоже оплотнели и стали отбрасывать минимальную прохладу, в которой легко было передохнуть от изнурявшего жара. Для этого нужно было почти вжиматься в стены улочек, похожих на улитку коридоров Кносского дворца. Марина вела его обратно, в самое сердце Кастелло. “Наши блуждания не имеют никакого смысла”. — “Ты ведь хотел увидеть другую Венецию? Погоди немного”.
Они прошли через маленькую Площадь двух колодцев, миновали Большой дворец, пересекли мост и, ещё поплутав по переулкам и улочкам, вышли к дому на краю пересохшего канала Рио делла Челестиа. Там, на отполированной временем и прикосновением миллионов рук стене висела медная табличка: “Timoteo Caldi”. Марина вынула из кармана ключ — он только изумился, что у такого короткого, совсем невесомого платья могут быть карманы, — и вставила его в щёлкнувший замок.
Помещение было просторным, и вдоль стен размещались аккуратно расставленные деревянные детали лёгких лодок, тщательно выпиленные и согнутые, словно детали гигантского конструктора. По стенам была протянута проводка, в глубине виден станок, за станком темнело что-то узкое на подпорках. На противоположном конце нарезала воздух квадратами чугунная решётка: это был выход из дома прямо к высохшему каналу, прежде оживлённому, но теперь по нему никто не плавал, и ставни окон противоположного дома были закрыты наглухо. Яркий свет со стороны канала не давал разглядеть, что же ещё было расставлено вдоль стен. Марина щёлкнула выключателем: тёмная узкая лодка на подпорках в глубине покрылась, словно лаком, ровным электрическим блеском.
“Вот мастерская человека, который ремонтирует гондолы. Заходи, не стесняйся”. — “Кто это? Бывший любовник?” — “Ты сам говорил, что к прошлому ревновать невозможно”. — “Ты специально выбираешь — по именам?” — “А ты думал, у тебя одного это имя? Проходи-проходи, его сейчас нет в городе”. — “Ты сказала, что это прошлое”. — “Всё зависит от тебя: проходи же!” Тимофей подошёл к гондоле и провёл обеими ладонями по её крашеной поверхности. Она была гладкой и упругой, союз скользящей лёгкости и силы.
IX
“А сейчас мы поднимемся на чердак. Так сказать, подвал я тебе показала. Впрочем, настоящих подвалов у нас не бывает: вся наша земля под водой — это смесь земного состава, древесины и солёной лагунной влаги, греческое "улэ", ты ведь любишь мудрёные слова. Пойдём же!” Она решительно взяла его за руку, ладонь в ладонь, с переплетением пальцев. Лестницы были с винтовым кручением, выбивающим из-под ног основание: так быстрее добраться до самого верха, где прямо под черепичной крышей располагалось нехарактерное для Венеции круглое слуховое окно. “Вот смотри!” В окне — поверх ближайших к лагуне крыш — неисчислимые полчища чаек всё ещё кружили над умирающей лагуной. “Это ты мне хотела показать?” — “Не только”. — “Знаешь, я ценю твоё желание быть психопомпшей”. — “Кем?” — “Психопомпшей, вожатой души по этому пространству”. — “Я неплохо понимаю русский и английский, гораздо лучше, чем любимый тобой древнегреческий, которого ты сам толком не знаешь. Так вот: слово это представляется мне ужасным, как если бы я вытягивала из тебя все твои страхи... И вообще: ещё неизвестно, кто кого водит. Ну же, смотри в окно”. — “Почему там одни только чайки? Где голуби?” — “Ты знаешь, муниципалитет запретил их кормить на Сан-Марко: голуби ушли”. — “Я долго жил в Новом Свете. Я расскажу тебе историю про странствующего голубя”. — “Разве не все голуби странствуют?” — “Эти перелетали мириадами, поедая жёлуди в дубовых и буковых рощах вокруг Великих озёр. Их лёт затмевал небо. Человеку казалось, что они неистребимы, что это такое бедствие наподобие саранчи, а заодно даровая мишень для стрельбы и прекрасная пища. В Африке саранчу едят. Слушай дальше. Сто тридцать пять лет назад огромная стая — а они, как и люди, жили гигантскими скопищами — расположилась на гнездование в буковых рощах на севере штата Мичигана возле Петоски. Я там бывал: чудесный ландшафт: пруды и озёра, леса, даже летом — прохлада и близость огромного пресного моря. В мелких озёрах и в бурных речушках — форель. В небе — орлы. Такой, вероятно, была наша Европа при немецких романтиках. Так вот охотники и прочая шелупонь собрались, оповещённые по телеграфу, чтобы соревноваться в меткости уничтоженья, и день за днём отстреливали голубей десятками тысяч. Никто не остановил истребления; это был чистый спорт. Съесть такую добычу всё равно невозможно. Те из голубей, кто упорхнул, странствовали ещё несколько десятков лет по рощам Мичигана, Висконсина, Миннесоты — пока все не вымерли. Голубь этой породы, если его не стрелять, жил четверть века. А мог размножаться только в гигантской стае: одному ему не хватало возбуждения, вот как. Последнего прихлопнул из озорства мальчишка возле Собачьей Прерии. Там бук не растёт, зато сплошные дубовые рощи в пойме Миссисипи. Величественная река! Тоже полная вольной природной жизни. Теперь в этом месте установлен памятный знак — в честь того самого выстрела. Сложенная из камней стена, а в ней — металлический барельеф с голубем на дубовой ветке. Я видел его и сидел два часа возле: под дубом, слушая пенье цикад. А птица была красивая, нечто вроде плачущей горлицы — когда-нибудь видела? — только с длинным хвостом, сизыми крыльями и с розовой грудкой. Волшебная птица!” — “И почему я должна была это услышать?” — “Мне кажется, что я из последних европейцев. А то, что в окне, — это уже Новый Свет, Дикий Запад”.
X
“Хватит слов, я хочу тебя”. — “Не сейчас”. Марина задрала его короткую рубашку и стала расстёгивать брюки. “Нет, не сейчас”. — “Тебе мало моего желания? То, чего хочет женщина, — закон. Так ведь?” — “Но я не хочу сейчас, не хочу здесь ”. — “Тебя пугает близость разобранной гондолы? Больше подходит зияющий рояль?” — “Марина, — он почти никогда не называл её по имени, — ты хочешь меня разозлить, чтобы я оттолкнул тебя”. Марина провела тёплой рукой, проникшей в расстёгнутые брюки: “Не лги ни мне, ни себе”. — “Марина! Я только что рассказал тебе что-то до крайности важное...” — “Неужели ты думаешь, что если ты возбуждаешься от одной моей близости, даже от каких-то вещей, важных мне, — ну, вот от нот на рояле (я знаю, ты рылся в нотах), — я не могу возбуждаться от твоего рассказа? Плохо ты меня понимаешь”. — Говоря это, она опустилась на колени: так становятся, словно играя в вассала и сюзерена, в позу подчинения, и продолжила, стянув ненужное вниз, освобождать его от одежды. Он решительно отвёл её руки, а потом заправился и застегнулся. “Я возвращаюсь в гостиницу”. — “Ты просто дурак, гад, козёл вонючий...” — сказала Марина, явно исчерпав первый запас ругательств и желая присовокупить к этому что-нибудь покрепче, но не уверенная, правильно ли это будет по-русски в столь деликатной ситуации. Тимофей улыбнулся. Марина, глядя снизу вверх, осталась стоять на коленях.
Часть третья
ВОДА
I
С утра небо заволокло дымкой. Горела, как он узнал из новостей, нижняя часть букового леса Кансильо, и дым нагнало с приальпийского склона северным ветром. Лес, из которого венецианцы с незапамятного времени делали галеры и лодки, стоял высоко над морем, и поэтому дымка плыла на значительной высоте, прерывая сверкание солнца, палившего теперь словно сквозь фильтр.
В воздухе над лагуной появились вертолёты, и на северо-запад, в сторону леса один за другим пролетали огромные транспортные самолёты с подвешенными снизу цистернами воды. Было также объявлено об эвакуации населения из зоны бедствия, ибо армия и специально экипированные пожарные не справлялись с пламенем. Тимофей представил себе, что трещит и лопается не листва и стволы деревьев, а вековая европейская письменность, всё иссохшее до моментального воспламенения множество букв, тьмы и тьмы которых складываются в books, Bucher и Buchen (в книги и буки одновременно). Он зачем-то пошёл к железнодорожной станции, чтобы посмотреть, как он объяснял себе сам, на происходящее на континенте.
Карабинеры охраняли проход через Мост Свободы, допуская лишь редкие поезда да фуры с продовольствием, — Венеция вот уже несколько дней считалась закрытым городом, — но зеваки с обеих сторон изучали друг друга через бинокли и трубы и с фотоаппаратами в руках. Тимофей заметил с той, континентальной стороны стаи ветвисторогих животных, шедших десятками, не обращая внимания на людей, к солёной воде. Они наклонялись, но не пили её и, войдя в самую кромку лагуны, задирали на дымное солнце головы и гортанно трубили.
Загудел в кармане мобильный телефон. “Ты не звонил больше суток. Нельзя быть таким. Где ты сейчас?” — “У Моста Свободы”. — “Всё-таки собрал вещи, чтобы покинуть нашу ужасную Венецию?” — “Я же сказал: я никуда не уеду”. — “Встречаемся через час в твоей гостинице. Я приду туда”.
II
Персонал был не на шутку встревожен; кажется, они понимали что-то, недоступное иностранцу. “Конечно, если вы пожелаете остаться и дальше, вам никто не сможет воспрепятствовать, но учтите, что сегодня отпустили половину сотрудников по домам”, — сказал портье. — “Что-то серьёзное?” — “Нет-нет. Пока нет”.
В новостях обсуждали последствия необычайно жаркого лета; какой-то профессор гляциологии просил обратить внимание на то, что подтаяло и пришло в движение 97% покрова ледников Гренландии, и ему вторил второй гляциолог, говоря о катастрофическом таянье снега и льда в Альпах.
На фоне высохших каналов и полумёртвой лагуны, жёстко нормированного потребления артезианской воды, заволокшего небо дыма и вышедших из горящих горных лесов оленей это звучало странно. Уровень адриатических вод только падал. Не было и живительного дождя.
III
Первым делом Марина открыла кран в ванной: вода текла тоненькой струйкой. “Ты был вчера очень неправ”. — “Может быть. Честно: не знаю”. — “Будем вздорить? Я пришла к тебе: разве этого мало?” Тимофей взял её за плечи и посмотрел в глаза. “Отпусти, дурак”. Оба они отражались в зеркале ванной на фоне кафеля стен и белых махровых банных халатов и полотенец. Тимофей увидел впервые, насколько они похожи. Тёмные волосы, тот же разрез глаз, похожие нос и очерк лица. “Может быть, я схожу с ума”. — “Может быть. Я ведь пришла, чтобы напомнить тебе, что сегодня ночью — новолуние”. — “И великий кельтский поэт сравнил бы это с надиром эпохи. Где полная тьма — там человеку нет места. Вы же, венецианки, не любите мистики”. — “В новолунье приходит прилив. Высокая вода. Боюсь, что в этот раз очень высокая. Хорошо, что у тебя третий этаж. Надо запастись питьём”. — “Ты думаешь, город затопит?” — “У тебя есть пустые бутылки? Любые продукты, какие не портятся, тоже не помешают”. — “А водка — питьё?” — “Ну, как русский ты можешь наливаться граппой, а мне, дорогой, хватит и вина”.
В магазине выбор был невелик: купили питьевой воды, бутылку граппы, ещё бутылку сухого вина, галет, консервов, яблок и фиников. “У тебя ведь нет сапог. В мастерской стоит пара. Это твой размер”. — “Откуда ты знаешь, что мой?” — “Пойдём: тогда успеем до сумерек. Не думай, я не хотела тебя задеть”.
Небо над городом было всё в рваных коричневато-багровых облаках гари. Странное, взъерошенное напряжение господствовало на улицах.
Открыв всё тем же ключом дверь, Марина показала ему на стоявшую в дальнем углу мастерской резиновую пару. Размер действительно приходился ему впору. “Теперь мы расстанемся. Не надо меня провожать. Я ещё должна успеть позвонить брату и матери”. — “Ты мне никогда не говорила о них”. — “Это не значит, что я им не звоню. Повторяю: не провожай меня. Телефон и адрес тебе известны. Свёрток с едой и вином я донесу сама”. Марина дружески поцеловала его в щёку. Он развернул её лицом прямо к себе: “Не так”. — “Так не так — до свидания”. — “Ладно, увидимся”.
IV
“Я действительно дурак: оттолкнул от себя женщину, о которой столько думал, без которой мне сейчас трудно, — всё это я должен был сказать ей давно. Прошлое ничему не учит, кроме того, что думать о нём, — это как прыгать в бурный поток с камнем на шее. В один Гераклитов поток нельзя войти дважды ещё и потому, что пока ты раздумывал, весь состав его изменился. Солнце, сказал Гераклит, не только новое каждый день, но всегда и вечно новое; оно день — да что там, минуту назад! — уже не равно самому себе: мы и солнце, я и ты относятся друг к другу как голоса в контрапункте, уже в первый момент взаимного наложения образующие нечто третье...”
Этот, как всегда вдохновенный, внутренний разговор с самим собой был прерван звонком:
— Привет, Тим, это Билл. Значит, вы в своём номере? Прекрасно. Приходите ко мне — выпьем виски, поглядим с балкона на чудеса вечерней природы.
Номер ван Бецелеров состоял из нескольких комнат. Фрукты, лёгкие закуски и открытая бутылка стояли на столе у балконной двери. Билл плеснул терпкой жидкости на кубики льда и протянул Тимофею его стакан, а потом указал жестом на балкон.
Они сидели теперь на балконе с видом на непривычно сумрачный канал св. Марка. За истекшие часы направление ветра резко переменилось на противоположное. Теперь он дул с моря, сгоняя весь день висевший над городом дым обратно к континенту. Канал был странным образом почти не освещён. Но самое удивительное, что вода значительно прибыла, и мелей больше было не видно. Редкие огни со стороны острова Джудекка и странно потемневшего храма на Сан-Джорджо Маджоре свидетельствовали о том, что людей там почти не осталось или они затаились в ожидании чего-то величественного, теперь целиком отданного во власть стихий. С каждым новым глотком Тимофей всё больше располагался сердцем к Уильяму, к его странноватой семье, к обстоятельствам этого фантастического дня, начавшегося с альпийских пожаров, а завершавшегося, как если бы ничего особенного не произошло, милой беседой на балконе гостиницы.
— Мне кажется, что сегодня, любезный коллега, мы увидим представление. Наслаждайтесь театром.
Ван Бецелер говорил так, как будто он был богом воды, охватывающей Океаном всю землю и намеревавшейся вернуть себе власть в лагуне; да он и внешне был похож на него.
— Отчего вы грустите? В дело вмешалась женщина? Я могу узнать её имя?
— Её зовут Марина.
— А фамилия не Делль’Аква?
— Почему именно она?
— Слышал о такой пианистке из местных. Согласитесь, что подобное имя и фамилия не могут быть настоящим. Но, Тим, если всё так серьёзно, — они уже много выпили, — идите ищите свой дивный берег, пока его не затопило водами моря. О стихия, заклинаю тебя — повремени! — И ван Бецелер театрально выкинул руки в сторону лагуны.
Жена Билла, входя на балкон, повторила этот жест. Как его — без тени насмешки — повторила и дочь ван Бецелера, глядя на лагуну из комнаты.
Тимофею оставалось только откланяться.
Дочь Билла, странно закусив губу, окинула гостя всего с макушки до ног внимательно-испытующим взглядом, потом довела до двери и, улыбаясь, притворила её. В памяти стоп-кадром замерли: тёмное небо с рассеянными дымными облаками, ван Бецелер со стаканом, полным виски и льда, в компании супруги на балконе и блуждающая улыбка их дочери.
V
Надев на всякий случай полученные от заботливой Марины сапоги, Тимофей отправился на Calle della PietaМ, где она жила. Что за имя для улицы!
Вода вернулась в каналы, большие и маленькие. Улицы были пусты, и редкий свет в окнах домов вызывал чувство, что город этот покинут.
Тимофей вошёл в незапертую дверь дома и поднялся по лестнице на второй этаж. Дверь Марининой квартиры тоже оказалась незапертой. В гостиной, по левую руку от зиявшего струнной пастью рояля, лицом к занавешенному алой шторой окну стояло покрытое сшитым из разноцветных кусков “американским” одеялом кресло-качалка (Тимофей его прежде не видел), а возле него круглый стеклянный чайный столик. На столике — откупоренная и пустая на три четверти бутылка красного сухого вина.
Женщина, сидевшая в кресле лицом к занавешенному окну — тому самому, распахивавшемуся на площадь, — гладила большим, указательным и средним пальцами стеклянную ножку яйцевидного бокала (со срезанным верхом). В бокале ещё оставалось немного вина. Стоявший рядом другой такой же бокал гордо поблёскивал в приглушённом электрическом свете: было видно, что из него не пили. Тимофей подошёл к креслу и положил руки на плечи сидевшей, которая даже не обернулась, не вздрогнула, а продолжила пальцами обнажённой по самое плечо руки гладить ножку бокала.
“Марина, я пришёл сказать, что люблю тебя: давно, наверное, с того дня, как разговаривал с тобой после того концерта в Москве. Я даже уже не помню, с кем я пришёл на тот концерт”. — “Какая разница, с кем. Не останавливайся”. — “Жизнь моя без тебя невозможна. Чтобы я был уверен, что она продлится, я должен твёрдо знать вечером, что увижу тебя наутро”. — “Прекрасно сказано, хоть и цитата”. — “Ты сама, здесь и сейчас, и моя обращённость к тебе охватывают всё, что я вижу и знаю, наполняя его счастьем”. Обе ладони Тимофея опустились на её ключицы. “Извини, я напилась, мне надо в туалет”, — сказала Марина и мягко отвела его ладони. Когда она вставала и, покачиваясь, выходила из комнаты, а через два шага расстегнула платье на спине и выскользнула из него, а потом скатала с бедёр узкую полоску материи, то он подумал: “Всё-таки фигура пловчихи: крепкие икры и бёдра, мускулы на спине”, — и ещё то, что она действительно пьяна.
На рояле лежали раскрытые ноты “Concerto veneziano”. Это была последняя часть: “К водной стихии”. Тимофей, чтобы отогнать тяжёлый хмель, углубился в чтение музыки. Волнообразное, нарастающее движение струнных прорезали то басовые, то высокие выклики медных духовых, на фоне которых вело свою решительную и неуступчивую партию фортепиано. Шум ветра за окнами нарастал. Он отодвинул штору, усиленное течение воздуха нещадно трепало рекламные полотнища, которые так любили вывешивать на этой площади. Дерево на другой её стороне клонилось треща, словно юный нестойкий куст. Что-то блестело внизу, на плитах площади. Вода? Марина долго не возвращалась. Её не было ни в ванной, ни в одной другой из комнат. Наружную дверь он сам позабыл прикрыть. Улизнула из дома в шквальный ветер абсолютно голая? Не прыгнула же она в лагуну?
Тимофей налил полный бокал красного. Но виски мешать с вином всё-таки не стоило. Пространство поплыло.
VI
В конце концов он обнаружил себя стоящим на “Улице Сострадания” с пустой бутылкой в руке среди кромешной тьмы. Похоже, затопило электростанцию. Вокруг плескалась вода. Только ветер продолжал терзать невидимые сквозь мрак растения (их Тимофей узнавал по напряжённо смятённому шелесту), и тут и там хлопал отвязавшимися ставнями. Тимофей выронил бутылку: её понесло потоком. В голове всплыла только что перечитанная музыка заключительной части концерта. Будто струнно-клавишный лебедь — рояль или гондола — рвался выпорхнуть из-под обрушивавшихся на него потоков и свободно взлететь.
Вязко двигаясь, Тимофей перешёл ушедшую под воду вместе с нижней частью обстоявших её домов “Реку Сострадания” — на самом деле ещё один рукотворный канал — по возвышавшемуся выгнутой спиной кита или тюленя мосту и двинулся в сторону гостиницы.
В этот момент запоздало завыли сирены, оповещая о катастрофическом подъёме воды в лагуне. Ветер был очень сильным, и Тимофей никак не мог понять, воздушные ли это потоки нещадно хлопают ставнями или оставшиеся в городе люди реагировали задраиванием не спасающих от стихии иллюминаторов — на последнее предупреждение о начавшемся бедствии.
Двери гостиницы, распахнутые настежь, на треть ушли под воду. На лестнице горел зеленоватый и красный аварийный свет. Портье за столом не было да и быть уже не могло. Приёмная стойка, стулья, вся территория фойе были частично затоплены, и вода всё прибывала.
Тимофей поднялся к себе на третий этаж. Всюду аварийные огоньки: так, вероятно, выглядит коридор получившего пробоину океанского лайнера. Все двери номеров были заперты, но из-за некоторых доносились сдавленные возгласы и возня. Палуба лайнера раскачивалась под его ногами. Он отпер ключом собственный номер — внутри всё оставалось в том же порядке, что и несколько часов назад, только отсутствовал свет. Тимофей упал, как был, ничком — мокрый и грязный, в резиновых сапогах — на белоснежную постель.
VII
Когда над лагуной взошло солнце, стало ясно, что за истекшие часы подъём воды остановился. Большая часть пространства вокруг гостиницы оставалась затопленной. Всюду плавали перевёрнутые чёрные гондолы и просто лёгкие лодки, раскрашенные в синий и в красный, сломанные шквальным ветром ветви с яркой намокшей листвой, вспухшие от влаги книги и доски, на которых когда-то стояли книги, полупустые бутылки с алкоголем и бутылочки — с парфюмерией, обувь из магазинов, даже какие-то картины и гравюры и во множестве — дохлая рыба кверху пузом. Тимофей и не думал, что её столько водится в мелкой и грязноватой лагуне. Иногда пространство рассекал полицейский катер с мигалкой. Их кружило в пределах видимости пять или шесть. Было странно безветренно. В небе висели коричневатые клоки так и не прогнанного до конца вчерашним шквалом дыма.
Может быть, от этого, а может, и по какой иной причине в небе стояли не только ослепительное солнце, но и заметно более тусклые, однако ясно различимые созвездия: извивающийся под Полярной звездой Дракон, замахнувшийся разящей дубиной Геркулес (где-то он видел его несколько дней назад), накренившийся Змееносец — тринадцатый знак зодиака, не ведомый астрономам древности, и почти над самым горизонтом зависший Скорпион с жемчужиной Антареса: на изломе к разящему жалу небесного насекомого. “Остаётся только услышать музыку сфер”, — сказал сам себе Тимофей. Он затворил окно и оборотился лицом к полусумрачной комнате.
На когда-то белоснежной, а теперь в разводах постели, поблескивая голубыми зрачками из-под прядок рыжих волос, которые постоянно приходилось сдувать с губ, лежала Марина. Она была голой. Высохшие водоросли налипли на икры. “Ты добралась сюда вплавь?” — “Ieri hai bevuto molto.
Con la luna piena non е opportuno bere molto, specialmente quando c’е la l’acqua alta (Вчера ты много выпил. В новолуние не рекомендуется много пить, особенно когда высокая вода)”. Тимофей не мог поверить, что действительно это слышит, и закрыл левой ладонью оба глаза. Когда он убрал ладонь, постель была пуста, но вмятина от только что лежавшего здесь тела сохранялась. Знакомый подбородок и мягкая щека легли ему на правое плечо, волосы защекотали ухо, две руки обвили сзади. “Душ, разумеется, не работает, кофе мне никто не обещал. Будем мечтать?” Тимофей освободился от обвивающих рук, обернулся к Марине лицом. Начал сдирать с себя рубашку и прочие бессмысленно налипшие части присохшей к телу за ночь одежды. Светловолосая, покрытая ровным загаром женщина внимательно смотрела ему в глаза: “Думала, что избавлюсь от тебя. Ты тоже на это надеялся. Ничего, дорогой мой, не вышло и не выйдет”.
Внезапно раздался стук — будто клювом о стекло. На подоконнике сидела довольно большая птица, нечто среднее между вороной-альбиносом и чайкой, и внимательно смотрела на них. “А это?” — спросил он, снова глядя в глаза своей второй половине.
Волосы её были распущены прядями на посветлевшие от солнечных бликов плечи; губы, по которым она проводила кончиком языка, приоткрыты.
“С этим мы разберёмся после”.
Он крепко сжал сомкнутые веки, потом снова открыл глаза. Шторы теперь были отдёрнуты. Солнце заливало светом страшный беспорядок внутри комнаты старой венецианской гостиницы, посреди которой — абсолютно нагой, как первочеловек, да притом совершенно один — стоял Тимофей Теплов.
Из цикла «По нашему миру с тетрадью»
Аристов Владимир Владимирович родился в 1950 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт, доктор физико-математических наук. Работает заведующим сектором в Вычис-лительном центре им. А. А. Дородницына РАН. Автор восьми поэтических книг и романа "Предсказа-ния очевидца" (2004). Стихи переводились на иностранные языки, входили в отечественные и зарубеж-ные антологии. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Андрея Белого (2008). Живет в Москве. Постоянный автор "Нового мира".
В подборке сохранена авторская пунктуация.
* * * …но оказалось, что "Трансаэро" собак и кошек не берет на борт Не пронести кота как шапку под наркозом Не запакуешь ведь, средь багажа не затеряешь Сидели с ним мы вечером перед закатом И лакомились теплым молоком Раздумывая, кому бы поручить судьбу свою Но все же, его в карман не спрячешь, мой кот объемистый, хотя и легкий прошу его не есть последний день, чтоб нашу участь облегчить… * * * После дождя на детской площадке нет никого только сизых четыре голубя гуляют примерно в одном направлении пересекаю косо их путь и я Солнце! Волшебное солнце! нарисованное детской рукой замешанное на этом мокром песке шевелится, наверное, здесь под землей * * * В остановившемся лифте где панически моргающий свет звуки все прекратились и свет стал тускл взгляду не на чем остановиться стены светлы видел только двустворки белой ничем не запятнанной двери, без единого пятнышка или нацарапанной надписи вспомнил почему-то надпись на белой колонне часовни семьи Эрлангенов: "Эрланген, помоги мне обрести высокооплачиваемую работу" полчаса скуки, но вот кому-то ты руку уже пожал вовне * * * Залившись пьяными слезами Ты слушал поэтов голоса Тупая, как жизнь, сквозь ладонь к тебе вошла Патефонная игла На той же ноте задержавшись Все повторяла ты себя И не тебя, и не себя любя Соскакивая сквозь уха седину не в память - в ямб По-видимому, сапфировая игла тебя вела туда к повторному все голословнее глоссолалическому голосованию * * * Летящие камни в слюдяное окошко оно сминается но не бьется но трещины прошли по лицу твоему Синее ведро с белой ручкой Синее оно или голубое между ними прозрачная вода неназываемая и в промежуток вошла смерть-эвфемизм Голубовата она вода и назвать ее тяжесть ее несравненную несметную назвать и глубина ее имени именно этой оставшейся нашим лицом воды * * * Цыган спустился с неба с парашютом прыгнув в аварийный люк в аэротакси на всякий случай ему сказали: "Прыгай" когда еще летел, подумал: "Зря" ведь вертолет над ним спокойно улетел всем тамбуром ему собирали средства ему сказали: "Важен первый опыт" теперь вот на берегу рукотворного моря чего-то ждет мобильный остался в кабине к нему прибился белый пудель такой же бездомный как и он закутав колени в коричневый купол, у моря он ждет чего-то лицом * * * из-под земли метро на "Юго-Западной" ты вышел в вечер в воздухе неповторимом взглядом ты смешал чернильный цвет суровый край стеклянных зданий и темную младую зелень в высоте была видна "Звездочка - торговый центр" два желтых хомута "Макдоналдса" и подлинная над ними звезда теперь не сквозь очки, но очи из 30-х годов ты смотрел недоуменным его зреньем смотря на все это вечернее замечая лишь детали поскольку ты был рассеян во времени во всем Короткий разговор (текст, сочиненный ночью в четыре утра дня не помню) Да будь я и негр… В. Маяковский Мир не без умных людей. Неизвестный автор Сквозь темное стекло я видел его черное неподвижное лицо Этот запертый бар в городском аэропорту Он был там охранитель покоя негром его я бы так прямо так сразу не решился назвать лишь афроамериканцем иль кафро-африканцем, допустим Лицо его без изъяна, лишь щербинка на темном стекле Но створки он мне не открыл Я просил отворить - что-нибудь жидкое выпить пусть холоден кофе Но он молчал Это его лицо непонятно мне было цветом и темнотой полуприкрытых век Тут внезапно подошел человек назвавшийся милиционером - Я ему рассмеялся в лицо Даже негр улыбнулся сквозь стекло Мы мысленно сказали ему, что "мили" на "поли" сменили давно (секрет милишинели) Он сказал мне, что я неправильно припарковался на той стороне Садовой Мы с негром сказали "Очнись", какая Садовая, мы в аэропорту Он тогда достал из кармана сине-желтой своей униформы котенка Сказав, что это кладбищенский кот по имени Базилик И что он с утра взял опеку над ним Даже негр замолчал тут Я сказал мили-поли, что тайное знаю желанье его, Что ему надо сейчас сто рублей Он отверг подозренье сказав что я неправильно припаркован на той стороне Садовой Мы ему рассмеялись в лицо еще раз так что бывший мнимый милиционер Не мог не ответить нам тем же Тут раздался карманный звонок - позвонила любовница шефа, сообщив неприятную новость - я уволен по воле жены его И должен срочно - буквально в течение суток Написать заявление по собственному желанию - ее Разговор этот громкий из трубки слышали все, включая Базилика Мне отнекиваться уже не было никакого резона Напоследок мили-поли кощунственно выразился как-то так, что наша страна - губерния Бога Мы сказали ему: "Отойди от дверей" и он отошел наконец посланный мной в направлении к Лобне И тогда дверь раскрылась сама без звонка и стекло не промолвило звука Мы с лицом этим темным оказались один на один Я спросил его откуда он и куда направляется в жизни? Он признался - из Африки южной в Америке никогда не бывал более того, все Западное (так он выразился) полушарие закрашено в его воображении синим цветом морским даже глобус на его столе состоит из одной половинки Он пытался даже шутить: и назвался зулусом из улуса последнего в околотке Но я понял, что в Южной Африке он никогда не бывал потому что я лучше знал географию этого района Земли Я спросил его хотел бы он стать мной он побледнел в вечерней темноте Почему ты не хочешь стать мной хотя б на отчасти, хоть на сутки, ведь несметны богатства моей души вопрос этот негра застал врасплох Он не думал над ним раньше Он признался мне, что последние дни Думал, как бы стать собой хотя бы. Никого за створкой дверей все они здесь все собрались между нами двоими двое нас, но я думаю, много более Неженское дело Ты превращаешь коробки в ничто Ты ломаешь картонные стенки Пустоту оттесняя куда-то Получая за это что-то - хоть что-то В неженской робе своей С неразборчивой надписью на спине Тут подошел один В потертой куртке Хромой седой и пьяный Подошел и мимо прошел * * * Памяти Аркадия Драгомощенко Аркадий, можно ль найти ненужный какой-нибудь в мире предмет но не дается все у нас приспособлено все вокруг сподручно, все под рукой все говорит и о том, и о сем все задает не вопрос, а ответ не обнаружить совсем постороннюю лишнюю вещь - это был бы ковчег для тебя но все они сочтены все подшиты для дела все пущены в ход или в рост нет ни щепочки, что была бы ненужной кому-нибудь но где - для тебя? ты бы создал ее сам в своесильном зрении, ты бы ей удивился но для удивленья теперь - нет-мир без тебя тише и тоньше сейчас словно бы все лезвия слез своих обнажили но все же оставили мир без надреза и некуда закатиться, исчезнуть невинной вещи все они, все они здесь, сочтены вижу, лишь легкая краснота на месте том, где стоял ты но через такой порез не произойдет ничего мы соберем, собираем к себе всех, кто летел над настурцией всех кто по ту сторону ранки * * * Зааплодировав, не смог остановиться Давно уж валы оваций многократные Смолкли вокруг А он все хлопал Ладони давно уж стали деревянными И он на них смотрел Как на чудесные предметы посторонние Давно артисты сняли грим, костюмы распоясали К нему поближе подтянулись из-за кулис далеких В кружок расселись кубки бутафорские достав За его здоровье в горло свое воздух пустой опрокинули А он не мог ни слова вымолвить - лишь его руки были руки их
Хазарат
Волос Андрей Германович родился в 1955 году. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. А. М. Губкина. Лауреат Государственной премии РФ, премии «Антибукер» и «Москва — Пенне». Постоянный автор журнала. Живет в Москве.
Саперы носят кирку и топор.
Лопаты возятся в обозе.
А. Е. Снесарев, «Афганистан»
Было как-то раз Артему искушение — там, в прошлой жизни, в 1-й Градской, на исходе дежурства.
Ночка выдалась непростая. Пациент шел густо, косяком. Под утро маленько стихло.
Присел в дежурке хлебнуть чаю. Тут заявился Касьян, вечный больничный житель. Обычно в приемник он являлся часам к девяти вечера (впрочем, зимой мог и раньше завалиться, а по летней поре вообще не прийти), проводил ночь то подремывая, то окормляя интересующихся рассуждениями о духовном и загадочном, утром же покидал сие утлое пристанище. Артем иногда думал — может, и в самом деле уходит в астрал, чтобы попусту днем не маячить?
В этот раз все вышло на удивление честь по чести и чин чинарем: и бутылка у него, и закуска.
Артем не отказался, махнул сотку для бодрости — ее и впрямь уже не хватало. А Касьян, добавив на старые дрожжи, завел о чудесах, о схождении Благодатного огня, о вере, способной двигать камни, поднимать из гробов...
Но скоро разговор нарушили — нужно было доставить больного в травму.
Это оказалась молодая женщина. Наверное, чуть старше его годами — лет тридцати.
Она сидела на каталке, и когда Артем попросил лечь, поскольку сидя не возят, пошутила, что, мол, чего еще от вас, мужчин, ждать, всем вам одного надо — только бы уложить беззащитную женщину.
Но как-то мило это у нее получилось: не похабно, а весело.
И пока ехали в нужный корпус, Нина (так ее звали) жаловалась, что попала сюда совершенно на ровном месте — запнулась в кухне о трехколесный велосипед, который сынишка зачем-то туда притаранил, и ударилась головой о шкаф. Поначалу и впрямь дурно стало, а теперь все прошло, только шишка осталась — и зачем ее мама привезла, вообще непонятно. Ну полежала бы часок, и вся недолга.
Артем отвечал в том духе, что, дескать, береженого бог бережет, и лучше перебдеть, чем недобдеть, особенно когда дело касается головы.
В общем, оба они не весьма изящно пошучивали, но ведь это бывает: совсем незнакомым людям трудно друг с другом, а тут взяли тон, который оказался помощником, вот и держались его. Тем более что знакомство все равно не обещало быть долгим.
Короче говоря, Артем довез ее, передал дежурному врачу. Неспешно вернулся, растолкал Касьяна и выставил из дежурки: божественное божественным, а дух от скитальца шел все же будь здоров — совершенно антисанитарный. Касьян удалился, ворча, да спросонья забыл свой сосуд, Артем окликнул — вернулся. Они еще по чутку махнули. В конце концов знаток духовного ушел, и тут как раз опять позвонили из травмы и снова, как оказалось, по его душу: он в ту ночь подрядился дежурить за трупачей по привычной схеме: «руп — труп». Или «рупь — трупь», кому как больше нравится.
Чертыхнувшись, снова взял каталку и поехал.
— Забирай, — сказала хмурая дежурная медсестра.
И кивнула туда, где лежало тело.
Господи Исусе, спаси и помилуй!..
Это была она, Нина! — та самая молодая женщина, которую он привез часа два назад.
— Это что ж это?
Но сестра уже смылась, Нина молчала, и ответить ему было совершенно некому.
Он стоял, тупо глядя в знакомое лицо. Оно не переменилось: даже румянец на щеках остался и легкая улыбка на губах. А то, что глаза закрыты, так и живые люди не всегда таращатся.
Два с половиной часа назад он ее вез, и она была разговорчивой и веселой. А теперь не могла ни шутить, ни смеяться, ни любить, ни ласкать сына.
То есть — теперь ее не было на этом свете.
Но ведь только что!.. Совсем недавно!.. Ведь она думала! Могла охватить мыслью весь мир! Всю вселенную!
А сейчас нет вовсе!..
Почему? И зачем? И как это понять?
И может ли вообще такое быть?
И вот тут-то, в ту самую секунду, и случилось.
Понял вдруг — ясно понял, до содрогания, до холода, окатившего грудь, — что все это совершенно неправильно, все это нужно немедленно исправить — пока не поздно!
И что он может это сделать! — сейчас осенит ее крестом и скажет:
— Встань и иди!
И она вздрогнет, шевельнется, заморгает недоуменно... спустит ноги с каталки... встанет — и пойдет! Пойдет неуверенно, еще не веря своему воскрешению... недоверчиво улыбаясь и трогая себя за плечи... снова живая!
Секунда! Нет, меньше секунды!..
Потряс головой, трезвея.
Перевел дух.
И повез в четырнадцатый корпус — как, собственно, и положено...
С тех пор время от времени ему снился сон, повторявший тот случай: он стоит над покойницей, и рука уже воздымается, уже тянется, чтобы осенить ее жестом неослушной воли.
Просыпался с колотящимся сердцем, с холодком в груди.
Слаживаясь, батальон осуществлял учебные выходы — в соседние кишлаки по левому берегу Кумарки. Кишлаков было четыре, все нежилые. Правда, это уже потом становилось ясно, что они именно нежилые, заранее информацию командование до личного состава не доводило.
В первый раз ему было очень страшно.
Догромыхивало далеко впереди: где-то за водоразделом десантно-штурмовая бригада долбила базу мятежников — укрепленный душманами кишлак.
Перед батальоном стояла другая задача: когда бой войдет в заключительную фазу и бригада начнет преследование отступающего противника, по ее стопам занять и повторно прочесать освобожденный населенный пункт.
Артем услышал гул, задрал голову...
— Оба-на! — сдавленно сказал Матросов.
Мрак еще теснил горы, но их рой в вышине уже был залит светом и опасно сверкал. Яркие бронзово-зеленые жуки. И гром, гром!..
Понятно, что свои, — а все равно сердце захолонуло.
Эскадрилья... да нет же: армада! Армада вертолетов!..
Летели вперемешку, гурьбой, как попало — десятки «восьмерок» Ми-8 и штурмовых «крокодилов» Ми-24.
— Шестьдесят два! — ликующе крикнул Матросов, когда гремучая туча ушла за хребет. — Во сила!..
До полудня торчали на исходных. В полукилометре справа, на склоне холма у дороги, стояла артиллерийская батарея. Звуки ее пальбы надолго отставали от подпрыгивания гаубиц и суеты расчетов. Сделав десяток залпов, батарея замолкала. Затем опять начинала работу... Цель лежала за гребнем, и куда летят снаряды и что они там делают, отсюда не видно.
Солнце стояло почти в зените, когда поступила команда на выдвижение.
Блокировали кишлак: БТРы встали кругом, упулившись на кибитки холодными и внимательными глазами пулеметных и пушечных жерл. Следуя логике поставленной задачи, рота — группа за группой — втягивалась в узкие улочки между высоких глиняных стен. Точнее, в то, что от них осталось.
Сто двадцать первая десантно-штурмовая бригада оставила по себе такие следы, как будто сама земля пыталась вжаться как можно глубже и спрятать голову, отчего все на ней полопалось и развалилось.
Ни души. Ни лая, ни мычания. Даже птицы примолкли.
Никого.
Но чересполосица обманчиво тихих садов все равно дышала опасностью. Глубокие арыки ничем не отличались от полнопрофильного окопа. За любым забором мог залечь душман с гранатометом. Или снайпер. Да хоть бы и между теми деревьями. Кто-нибудь уже держит его на мушке?..
Когда ловил взгляд товарища — видел в нем то же самое: страх и истерическую готовность пальнуть в то, что, не дай бог, шевельнется. Пальнуть! очередью! сразу! а потом уж разбираться, что это было.
Группа подтянулась к последнему перед пустырем дому. Дербянин и Каргалец, опасливо оглянувшись, нырнули в узкий проулок. Метра полтора, не шире. Получив от них сигнал, Матросов махнул рукой — чисто!
— Передай, что вышли к пустырю, — сказал Артем.
Язык и горло были холодными, слова — чужими.
— «Чайка», «Чайка», «Я ворон-два», вышли к пустырю, — забубнил Алымов.
Артем сделал шаг к дувалу [1] , разрушенное основание которого густо поросло путаницей какой-то усатой травы.
И вдруг...
Взрыв!
Умер сразу: осколки мины, лопнувшей под ногами, вдребезги разнесли вспыхнувший мозг, остановившееся сердце, заледенелые внутренности!
— Сука! — сказал он, отшатнувшись. — Господи Исусе, спаси и помилуй!..
— Перепел, что ли, — хрипло спросил Алымов, глядя в зелень листвы, где пропала вылетевшая из-под ног птаха.
— Хре... хрен его знает, — сказал Артем, тяжело сглотнув. — Сам ты перепел.
Но вдруг почувствовал, что дрожь, мелко сотрясавшая его с самого начала операции, прошла, разум прояснился и страх, застилавший взгляд рябым туманом, ушел, оставив только острое состояние настороженности...
Вернулись на базу, и хоть никто их в том кишлаке не ждал и не прозвучало ни одного выстрела, долго обсуждали вылазку, маленько бахвалясь собственной ловкостью и бесстрашием.
В другой раз и страха меньше, и бахвальства — бойцы слаживались уже в натуре, в деле. Кишлак тоже пуст и полуразрушен, но на подходах к нему по обочинам жались какие-то люди: дети возились в пыли, женщины, закутанные с головы до пят, безмолвно сидели возле черных тючков скарба.
Несколько раз попадалось на глаза и другое: чуть в стороне от живых, накрытые каким-то тряпьем и мешками, лежали мертвые. Наверное, душманы...
В самом кишлаке врезался в память теленок: светло-рыжий, с белой звездочкой во лбу, располовиненный пулеметной очередью, он лежал в широком арыке. Мутная вода журчала, захлестывая стеклянный глаз.
Так они ходили раза четыре, и итоги всех операций одни и те же: задача выполнена, все чисто, потерь нет, боеприпасы в сохранности.
Возвращались веселые.
«Вы лучше лес рубите на гробы!» — распевал Прямчуков, колотясь тощим задом о броню.
И кто любил поорать, подхватывал:
«В прорыв идут штрафные батальоны!..»
Артем помалкивал. Наверное, это нормально. Солдаты быстро привыкают к войне... Пушки стреляют, вертолеты гудят, штурмовая бригада теснит врага, противник отступает...
Кто остался под теми мешками? Разор, огонь, трупы... Так ведь на то она и война?
Да, у них сила... вон как душман бежит: так бежит, что даже на глаза не показывается.
Не слишком ли просто?
Да разве так уж просто? Работа-то какая тяжелая: тащишь на себе десятки килограммов железа, патронов, взрывчатки, ноги ноют, спина болит, пот из-под каски заливает глаза, день бесконечен...
И жара, жара.
А то еще «афганец» налетит — совсем беда. Срывается откуда-то знойный ветер, прет со всех сторон — будто не один, а целая стая их, вырвавшихся из кожаного мешка. Пыль, песок и в воздухе и на зубах... тягостное время.
В общем, наверное, так и должно быть. Они честно работают свою солдатскую работу. Спаянные порядком и ответственностью, они — огромная сила. Понятно, что враг разбегается при их появлении. Вот и встречают советских солдат пустые кишлаки. Расползлись таракашки. Ну да, бывало, свет включишь — брызгами в разные стороны! Мерзость!
Правда, люди на обочинах рядом со своими покойниками... Откуда столько покойников?
Телок с медведем не бодается, ему дай бог ноги унести...
Телок, телок... или телушка, что ли. Да, совершенно стеклянный был глаз.
— Ковригин!
Артем вскинул взгляд.
Лейтенант Брячихин сердито смотрел на него.
— Спишь?! Что я сказал сейчас?
— Никак нет, товарищ лейтенант! Учебная операция в Хазаратском ущелье!
— Учебная операция в Хазаратском ущелье, — недовольно повторил лейтенант Брячихин и как мог строго оглядел свою группу.
Затем откашлялся (для солидности, которой, он знал, ему так не хватало) и продолжил:
— Значит, так. Цель учебной операции. Значит, разъясняю. При входе в Хазаратское ущелье стоит пост афганских войск... вот здесь. Выше по ущелью расположен кишлак Хазарат... вот здесь, значит. По данным разведки, на ночь духи выставляют в кишлаке свое охранение. В составе до десяти человек. С целью препятствовать... э-э-э... ну, чтобы, значит, афганские или советские войска не прошли вглубь ущелья.
ШАФДАРА, 29 МАЯ 1984 г.
Брячихин водил по карте карандашом или просто обрисовывал мыслимые им линии, помахивая рукой вдоль и поперек Ништяк-горы, угрюмо супившейся на фоне вечернего неба. (В первый день по прибытии кто-то, кинув взгляд на ее мрачную тушу, произнес потрясенно: «Во ништяк гора!» — да так и прилипло.)
При этом он то и дело окидывал взглядом сосредоточенные лица бойцов и досадливо морщился. Но раздражал его не личный состав группы, а то, что сам он слишком часто произносит слово-паразит «значит», которое, увы, ничего не значит. Когда речь шла о пустяках, оно ему почти не досаждало; но если нужно собраться, сосредоточиться и толковать о вещах серьезных, так опять вылезало, проклятое, будто масляное пятно из-под свежей побелки. В училище из-за этого сколько нарядов лишних получил!
— Первой роте поставлена, значит, задача — обнаружить указанный пост мятежников и решительно уничтожить. Две другие роты батальона осуществляют прикрытие. Заняв ближайшие высоты, — Брячихин снова коснулся карты карандашом, очертив кружок, — вот эту, значит... и, значит, эту...
Лейтенант замолчал и с сомнением посмотрел на каждого из своих бойцов — будто оценивая, на самом ли деле его понимают. Так или иначе, слушали внимательно.
— Теперь, значит, так, — удовлетворенно сказал Брячихин. — Наши действия. Выступаем перед рассветом. Переправляемся на другую сторону. На пароме, значит. На афганском. Затем батальон продвигается до поста афганской армии. Группе не растягиваться, сразу говорю! Собранно шагать, компактно, а не так, значит, чтоб шаляй-валяй! За постом вторая и третья роты направляются сюда... и, значит, сюда... на указанные им позиции. А первая — наша, значит, рота — продолжает движение к кишлаку Хазарат.
Матросов восторженно стукнул себя кулаком по коленке, и Артем, взглянув, удивился, что глаза у него буквально светятся: будто снова увидел вертолеты. Впрочем, он и сам чувствовал неожиданные наплывы азартного возбуждения.
— Прочесав кишлак и уничтожив, значит, пост мятежников… — лейтенант замолчал, нахмурился и сказал с нажимом, подчеркнув фразу движением карандаша, — если таковой там, значит, обнаружится!.. рота покидает район боевых действий. И возвращается под прикрытие поста «зеленых». Что еще? — спросил он сам себя, секунду подумал и заключил: — В общем, всем проявлять внимательность. Кому что не ясно? Вопросы!
Понятное дело, вылез, как всегда, один Прямчуков:
— Разрешите?.. Товарищ лейтенант, если рота должна уничтожить пост и не исключены другие боестолкновения, то почему операция называется учебной?
— Почему, значит, операция называется учебной, — повторил лейтенант тоном, который однозначно показывал, что следующей же фразой он бодро разъяснит то, что и так ясно всем, кроме одного никчемного баламута.
Однако лейтенант не мог разъяснить, поскольку сам не вполне понимал суть дела.
Более того, он спрашивал об этом у командира роты капитана Розочкина, полчаса назад доводившего задачу до командиров групп. Возможно, Брячихин облек свой вопрос в слишком пространную форму и именно это не понравилось ротному: дескать, значит, ведь если операция учебная, то и душманы должны быть учебными, а если, значит, душманы боевые, то какой же тогда, значит, является операция?
Розочкин хмыкнул и, саркастически щурясь, ответил:
— А что, лейтенант, если душманы такие боевые, так нам, может, и не ходить к ним? Пусть уж как-нибудь сами по себе?
Этот встречный вопрос, конечно, относился к делу еще меньше, чем заданный перед ним прямой, но если бы лейтенант Брячихин не боялся показаться смешным (а еще пуще — чтобы кто-нибудь вообразил, будто он чего-то боится), то, конечно, нашелся бы с ответом. Но все присутствующие усмехнулись словам капитана, а лейтенант Сергученко, главный в роте шутник и горлопан, качая головой так, будто Брячихин сморозил несусветную глупость, повторил:
— Боевые душманы! Вот ты даешь! Душманы боевые!
И Брячихин тоже рассмеялся и тоже покачал головой — мол, надо же, на самом деле! что за ерунда!
— В общем, хоть горшком назови, только сам себя веди по-боевому! — заключил Розочкин.
А замполит Семибратов (черт его принес в тот момент в роту) тут же пояснил — вроде как всем, но смотрел при этом, неодобрительно щурясь, исключительно на Брячихина, — что возможная боевая составляющая операции совершенно не отменяет ее учебной составляющей. И что личному составу батальона предстоит еще многому научиться, чтобы выйти на рубежи отличной боевой и политической подготовки.
— Хотя, конечно, — бодро сказал он, — не исключена возможность боестолкновения и с более многочисленным отрядом мятежников...
При этих его словах Розочкин поднял было брови, однако затем дернул плечом и кивнул, поневоле одобряя пояснение замполита. Правда, кивок сопровождался такой гримасой, будто капитан, одобряя все в целом, частично все же чего-то не одобрял. Возможно, капитан тоже считал, что, говоря о вероятности того или иного, следует подтверждать свое мнение какой-то конкретной информацией? Но то ли у него самого такой информации не было, то ли он не хотел почему-то ее оглашать, — так или иначе, никакого продолжения не последовало.
Семибратова каким-то новым ветром вынесло из палатки, и сразу после этого Сергученко озабоченно спросил, что делать в том случае, если караван все-таки будет обнаружен.
Розочкин недоуменно посмотрел на него.
Прежде караванов и в помине не было. Возможно, именно поэтому капитан совершил ошибку: вместо того чтобы резко отмести вопрос и точно повторить задачу, разъяснив при этом, что никаких караванов никто не ждет, он напустился на любопытствующего командира с издевками насчет того, что тот, видать, не ко времени начитался сказок «1001-й ночи», вот и мерещатся ему везде караваны. Произнеся несколько насмешливых фраз, Розочкин резко махнул рукой, подводя черту, и сказал, что в случае, если караван все-таки встретится, поступать с ним надо соответствующим образом, то есть безжалостно уничтожать.
В результате лейтенант Брячихин так и не понял, о каком караване идет речь: есть ли соответствующие данные разведки и нужно ли на самом деле ждать с ним встречи. Но уточнять не стал, поскольку опасался, что Розочкин вместо ответа на вопрос (который, должно быть, казался ему настолько самоочевидным, что вызывал исключительно раздражение) начнет, чего доброго, и у него спрашивать, не боится ли он, Брячихин, караванов.
Поэтому, инструктируя группу о возможной встрече с душманским караваном, Брячихин вообще не упомянул, решив — и справедливо! — прежде времени не сбивать с толку своих бойцов.
Горы молчали, молчала Ништяк-гора. Молчание ее, возможно, было обманчиво: командование доводило информацию, что прежде духи часто беспокоили стоявшую в двух километрах ниже по течению афганскую мотострелковую часть огнем и вылазками, а с того момента, как три недели назад на косе расположился их батальон, затихли и больше не совались. То ли вовсе ушли, то ли просто прижухнулись: не буди лихо, пока тихо.
И если не ушли, то скорее всего и сейчас наблюдают за ними. С этой самой Ништяк-горы и наблюдают, сукины дети.
Первые дни, как заняли косу, опасались снайперов. Но с самой горы выцеливать им далековато, а засесть непосредственно на противоположном берегу мешал афганский пост: совсем сумасшедшим нужно быть этому снайперу, чтобы туда соваться. Значит, и от «зеленых» есть какая-то польза...
Не успев отследить всю последовательность промелькнувших мыслей, лейтенант сказал с легким оттенком сомнения в голосе:
— Ну, если точно, то, конечно, операция не чисто учебная, а учебно-боевая. Личному составу многому еще надо научиться. Верно?
Прямчуков бесстрастно молчал.
— Я вас спрашиваю!
— Так точно, — нехотя отозвался Прямчуков.
— Вот и хорошо, что все это понимают, — сказал лейтенант, хмурясь.
Сунул карандаш в пенальчик полевой сумки, щелкнул кнопкой и вдруг, расплывшись-таки под самый конец в радостной и совсем мальчишеской улыбке, закончил:
— Но в целом все-таки учебная!
Ночная мгла размыла очертания гор, отчетливо виднелись только кромки. Над одним из отрогов висела щербатая кривая луна. По желвастому и рябому телу реки пролегла неверная дорожка серебряного света.
Тяжелая черная вода катилась то по-стариковски горбясь, то по-кошачьи ластясь, то рассыпаясь мелкой рябью и тут же снова смыкаясь воедино. Она скользила вниз по руслу, неслась дальше. Облизывала берег, крутила песчинки, перекатывала по дну мелкие камни — и уходила, а на смену ей прибегала новая, чтобы подхватить брошенное... и тоже ускользала, уступив место следующей.
Но где одна? где другая? Да нет же: плотное, неразрывное течение.
Утром текла и ночью течет... и год назад, и сто лет. И тысячелетие и два. Уже не раз, должно быть, стояли на краю этой невозвратной воды люди — вооруженные мужчины, воины, — намереваясь перебраться на вражеский берег.
Скользя все дальше и дальше, вода так рябила, будто перед глазами разворачивался испещренный письменами свиток. Смысла их он не постигал — да и мог ли? Но уже понимал, что они есть. Вода текла, уходила безвозвратно, оставляя на лице смутный отблеск всех прошлых времен.
Так же покрикивали командиры и суетились подчиненные, так же переминались солдаты, и поблескивал металл у них в руках, и галька хрупала под сапогами. Отряд за отрядом, фаланга за фалангой, сомкнутым строем — век за веком они приходили к этому берегу, тесня противника, сметая его укрепления, обращая врага в законное, положенное ему бегство. Да! — потому что армия — сила!.. потому что с ней не поспоришь!..
А ведь и впрямь он мог бы служить в войске Александра... или Дария, Кира... Господи Исусе, спаси и помилуй.
Оглянулся.
Ничего нового.
Три роты сгрудились на берегу. Слышалась болтовня, смешки. Вспыхнувшая спичка осветила полберега. А вот и визгливый голос Семибратова: замполит орал, требуя соблюдать маскировку.
— Всё ему снайперы какие-то мерещатся, — пробормотал Алымов. — Перекрестился бы... Долго тут загорать?
Артем молча пожал плечами.
Алымов вздохнул.
— Фигня какая-то. Так вообще не должно...
Не дождавшись вопроса, на который, вероятно, рассчитывал: мол, что не должно? — пояснил сам:
— Не должен батальон на этом долбаном пароме переезжать.
Артем неопределенно хмыкнул.
— Есть на то инженерные части, — не унимался Алымов. — А чо? Это их забота. Кто этих паромщиков знает. А если взорвут на середине, тогда чо? Рыб пойдем кормить?
Паромщиками были тщедушные афганцы-таджики, отец и сын, оба черные, как головешки. Сухие, все ребра можно пересчитать. Но ишаков, лошадей и баранов загоняли на свое судно весело, рулили смело. Обычно они день-деньской торчали в хибарке на берегу, пробавляясь чаем и лепешкой. Если кто советский мимо идет, галдежа не оберешься: «Шурави, шурави, бале, карош!..» Артем знал несколько слов. Шурави — советский. Бале — да. Карош — тоже ясно: «хорошо» значит.
Нынче хватились — а их как раз и нету.
— Сельцов говорит, в кишлак команду отрядили, — сказал Прямчуков. — Ищут.
— Ага, ищут, — снова загнусил Алымов. — Ищи ветра в поле.
— Заткнись, — оборвал его Артем. — Пусть ищут. Может, и найдут...
Обиженный Алымов поковырял сапогом гальку. Затем со вздохом встал и направился к Матросову.
Тот сидел на большом валуне, положив руки и подбородок на дуло автомата, и тоже смотрел на темную речную воду.
— Слышь, Матрос! У тебя пушка на предохранителе?
— А что?
— Да ничо! Пальнешь невзначай — башку отстрелишь.
Матросов вяло отмахнулся.
— Правда, ты ею все равно почти не пользуешься, — рассудил Алымов. — Но шапку же надо на что-то надевать?
— Отвали!
— Вот тебе и отвали, — сказал Алымов, садясь рядом. — Осторожней надо. Дай курнуть.
— Твои где?
— Кончились.
— Кончились! Еще не началось ничего, а у него кончились.
— Да ладно, чо ты. У меня в расположении полно, забыл просто...
От дальней стороны расположения долетало поревывание, порыкивание — это бронегруппа прикрытия начинала выдвижение. Бронегруппе поставили задачу не допустить обстрела батальона с тыла. Ночью ей предстояло совершить отвлекающий маневр, а к четырем утра сосредоточиться на этом берегу реки напротив входа в Хазаратское ущелье.
Розочкин отрядил нескольких солдат на розыски и теперь вместе с командиром батальона подполковником Граммаковым смотрел с галечного бугра в ту сторону, откуда посланные должны притащить хоть из-под земли вырытых паромщиков.
Командир полка решил, что батальон не получит инженерной поддержки и должен переправиться своими силами, воспользовавшись в качестве плавсредства гражданским афганским паромом.
Розочкин не знал, как шел разговор комбата с командиром полка. Однако с первой секунды, услышав о появившемся решении, понимал, что оно неверное: потому что делает выполнение поставленной батальону задачи зависимым черт знает от каких обстоятельств. Что за причуды?! Нельзя армии пользоваться гражданским паромом!..
Он высказал свое мнение, а Граммаков только хладнокровно пожал плечами. Комбата можно понять — с начальством не поспоришь. Но, честно говоря, Граммаков вообще казался Розочкину жидковатым для такого дела, как командование батальоном.
И теперь, когда паромщики пропали (ведь можно, можно было это предвидеть!), а роты торчали на берегу и дело так глупо заваливалось, в голове капитана снова и снова с грохотом прокатывались аргументы, подтверждавшие его несомненную правоту.
Разумеется, речь его, гулко, злобно и страшно гремевшая в затылке, осталась не только беззвучной, но и совершенно бесплодной: она громыхала попусту, раз за разом с разгона залетая в одну и ту же колею и так яростно молотя по ней, будто намеревалась прошибить-таки Розочкину мозги.
— Сухпайки приготовили? — спокойно спросил Граммаков.
— Так точно, — чуть помедлив, сиплым от негодования голосом ответил Розочкин. — Приготовили.
Это из дивизии велели: сухпайками с паромщиками разочтетесь.
И вот на тебе: сухпайки ждут, а паромщики пропали. И целый батальон — ба-таль-он! — торчит на берегу, вместо того чтобы решать поставленную ему задачу! Вместо того чтобы идти вперед! воевать! крошить духов!
— Может, все-таки самим переправиться? — с некоторым усилием проглотив кислую от злобы слюну, произнес капитан. — Что там за наука — паром!
Граммаков повернул голову и посмотрел на него.
— Опять за свое! — сказал он. — А перевернешь эту лайбу? Потопишь личный состав — и под трибунал?
Вопрос о трибунале звучал не в первый раз (равно как и предложение переправиться без помощи паромщиков), и капитан Розочкин справедливо отнес его к разряду тех, что не требуют ответа. Он только молча вздохнул и посмотрел на часы. Время дотикивало второй час после полуночи.
А рота сидит на берегу!
Его, капитана Розочкина, первая рота! Он чувствовал ее всю сразу — как собственную руку, как свои послушные, гибкие пальцы! Так хотелось сжать ее в железный кулак! пламенно грянуть! показать всем, что удар мощен и неотразим!
Но без парома его полная сил и отваги рука валялась на берегу безжизненным куском плоти.
Граммаков сунул в рот сигарету. Чиркнул спичкой, спрятав в кулаке, но вспышка все же озарила его широкое лицо. Пыхнул, спокойно пустил клуб дыма...
«Да, много еще в армии случайных людей! — с горечью подумал Розочкин. — Ой много! И даже на высоких постах!..»
Сам он не был случайным человеком. Во-первых, офицер в третьем поколении. Во-вторых, сколько себя помнил, знал, что станет именно им — офицером. Кем же еще? — даже странно было бы рассуждать. Армия! война! — вот его призвание. С малых лет знал. Недаром любимой игрушкой были оловянные солдатики — строил их то в походные порядки, то в боевые, как показал отец, майор интендантской службы. Он расставлял солдатиков на дощатом полу, а со стены, с фотографии в темной рамке, на него с улыбкой смотрел дед — Максим Леонидович Розочкин, в начале 1942 года погибший на Волховском фронте.
Прошлое было понятным, да и будущее не сулило неожиданностей: ведь он знал свой выбор и готовился к нему. Отличная учеба, бег, самбо, атлетика, книги про армию, про знаменитых военачальников. Единственное, что не нравилось Розочкину в грядущем, — собственная фамилия. Что за ерунда — Розочкин! Разве это для полководца? Суворов! Кутузов! Нахимов! — вот бы как надо!.. Лелеял мечту переменить на другую — Таранов, что ли... Железнов... Огнев!.. Только к началу десятого класса отец все же переубедил его, настояв на том, что не фамилия делает человека, а человек фамилию. «А Жуков? — спрашивал он. — Хорошая фамилия?» — «Хорошая», — угрюмо отвечал Илья. «А Червяков?» Илья на мгновение задумывался. «Так себе», — отвечал он. «Вот видишь! Жуков тебе хорошо, а Червяков — плохо! А чем, скажи на милость, жук от червяка отличается? Только тем, что Жуков — великий полководец, а про Червяковых никто не слыхивал? Так это ерунда, а не отличие. Сделаешься знаменитым — и фамилия твоя переменится. Маршал Розочкин! — разве плохо звучит?»
Читал про Александра и Ганнибала, про Суворова и Кутузова, про Наполеона и Дениса Давыдова, с каждым из них проходя суровые дороги лишений и опасностей, то и дело балансируя на тех смертельных остриях, с которых в одну сторону люди падают в поражение и гибель, а с другой их ждут победа и слава.
Колебался, выбирая между артиллерийским и общевойсковым училищем, и в конце концов, вопреки советам отца, решил все-таки в общевойсковое. Главный довод не озвучивал, боялся, что отец как ни полно разделяет его устремления, а все же не сможет сдержать усмешки. Но сам знал твердо: артиллеристы большими полководцами не становятся.
Будущее не вызывало сомнений, и тревожило только развитие дел на мировой арене. Складывалось впечатление, что эпоха берет курс на какие-то совсем не военные цели. «Мир во всем мире», «разрядка», «мирное сосуществование» — эти слова и фразы громко звучали с высоких трибун, находя внизу понимание и соответствующие отголоски. Этак, чего доброго, докатится до того, что и армия начнет готовиться к миру. То есть превратится в нелепое искусственное порождение неверно понятых назначений и возможностей: армия для мира — все равно что лягушка с пришитыми к ней воробьиными крыльями.
Отец успокаивал: мол, не волнуйся, никто эту трескотню не слушает. Хотеть не вредно. Конечно, мир без войны — и впрямь было бы хорошо... да ведь такого не бывает. «Мирное сосуществование» — это примерно как «наша цель — коммунизм». Как ни труби, а есть вещи, которые нельзя наполнить реальным смыслом. Лозунги лозунгами, а военные заводы работают. Днем и ночью из цехов выползают новые танки, из ангаров — новые самолеты; новые и новые ящики патронов, новые чушки снарядов занимают места на новых и новых складах. Машина вертится не зря: хватись чего ни попадя для мира — ниток, носков, галстука, пачки ваты или мыла, — может, если повезет, и на первом попавшемся прилавке увидишь, но, что вернее, набегаешься, как саврас, по магазинам. А для войны все готово и с каждым днем готовится все лучше, что бы при этом ни барабанили...
Короче говоря, он служил, выделяясь среди других офицеров собранностью, навыками и строгостью. Был на хорошем счету и чуть раньше, чем другие, получал очередные звания. Но ждал не званий — ждал войны, войны!
Потому что только война могла позволить ему проявить себя по-настоящему.
И война случилась!
Он в числе первых подал рапорт, скоро был откомандирован, сформировал роту, начал школить, кое-чего добился — не зря ведь его первая рота и есть по всему первая...
И вот на тебе: пропали паромщики! То есть по вине старшего начальника, который принял неверное, даже преступное решение, Розочкин должен бессмысленно торчать тут, упуская, быть может, шанс проявить свой дар и достичь, добиться первой победы — настоящей военной победы! — достичь первой славы!
А ведь это случай, просто случай. Не зря Володя поет. Как там?
А рядом случаи летают, словно пули, —
Шальные, запоздалые, слепые на излете, —
Одни под них подставиться рискнули —
И сразу: кто — в могиле, кто — в почете.
Про могилу он зря, конечно: нам помирать рано, еще поживем.
Но вот это верно: рискнул, подставился — и грудь в крестах.
А не рискнул — так и дурак. Дескать, война не завтра кончится. Случаи — они как? Нынче один пропустил — завтра другой прямо в руки...
Держи карман шире.
А мы — так не заметили,
И просто увернулись, —
Нарочно, по примете ли —
На правую споткнулись.
Вот он ждет — а очень даже может быть, что именно нелепое промедление помешает зубцам вселенских шестерен прийти в должное соприкосновение и колеса судьбы повернутся не в ту сторону.
Розочкин сжал зубы, готовясь потребовать от комбата решения, которое позволило бы приступить наконец к выполнению поставленной задачи, но тут какое-то живое шевеление вдали привлекло его внимание.
— Ведут, что ли? — пробормотал он, вытягивая шею и всматриваясь в берег и кусты, забрызганные неверным светом сильно ущербной луны.
Точно — вслед за стуком шагов возникли какие-то шаткие тени, а уже через минуту, окончательно материализовавшись из обманной ряби лунного мерцания, сержант Раджабов, жарко дыша и распространяя запах свежего пота и ружейной смазки, отрапортовал, что паромщиков нашли на берегу в паре сотен метров от их шалаша — спали, постелив на гальку куцые чапаны.
Афганцы испуганно жались друг к другу.
— Разрешите, товарищ подполковник! — сказал капитан.
Граммаков кивнул.
— Спроси, в чем дело! — отрывисто приказал Розочкин. — Почему прятались?!
Сержант Раджабов, возглавлявший розыски и одновременно исполнявший должность толмача, пустился в переговоры.
Сын помалкивал, а отец отвечал, то взволнованно оглаживая сухой ладонью седую бороденку, то разводя руками и заискивающе посмеиваясь. Розочкин давно приметил их придурочную манеру — беспрестанно хихикать, коли сказать нечего. Судя по выражению плоской физиономии Раджабова, дело оказалось путаное.
— Говорит, виноваты, не знали, что нужно работать. Ушли на горку, потому что там ветер дует, комаров меньше...
Старик перебил сержанта и, прижав руки к груди, произнес что-то одновременно просительно и настойчиво, махнув при этом рукой в сторону противоположного берега.
— Говорит, туда ходить вообще не надо, — пояснил Раджабов.
— Что? — насторожился Розочкин. — Почему так?
Допрос продолжился.
— Говорит, люди плохие есть... лучше, говорит, не ходить туда.
— Что за херня! — вскипел Розочкин. — Какие люди? сколько? Что он знает о них? Состав, вооружение?! Ну-ка, встряхни как следует!
Сержант взял тоном выше, заговорил строго, с напором, но отец только бормотал что-то, умоляюще складывая ладони. Сын и вовсе сжался, норовя спрятаться за его спину.
— Не знает он, — заключил Раджабов. — Говорит, это он так сказал, на всякий случай... посоветовал просто. Ночью, говорит, Аллах спать велит...
И усмехнулся, подчеркивая нелепость переведенных им слов.
— Ну, спасибо ему большое за совет, — вздохнул Граммаков. — Ладно, бог с ними. Давай, капитан, действуй.
Повернулся и пошел в сторону штабной палатки.
А Розочкин, которому не понравилось новое проявление граммаковской мягкотелости, выругался и зло взмахнул рукой:
— Раджабов! Скажи, чтоб он свои советы куда подальше засунул! Разожрались на наших харчах, не шевелятся! Полтора часа потеряли! Советчики, мать их так! Бегом на паром!
Вода безумолчно, но почти беззвучно поплескивала в камни и ржавый борт. Зато железные сходни устанавливались с грохотом и лязгом.
Личный состав тоже гремел, сваливая с плеч стволы, подсумки и набитые все тем же проклятущим железом ранцы.
— Вот дура-то, — с натугой сказал Дербянин, громыхнув о понтон двенадцатикилограммовой дрымбой реактивного огнемета. — Все руки отмотаешь...
— Не пыхти, — заметил Яровенко из второго отделения. — По твоей величине тебе вообще спаренный полагается.
— Ага, спаренный!..
Солдаты галдели.
— Занимай места, поехали!
— Ща поедешь...
— Ходок десять им мотаться...
— Да ладно! В шесть уложатся. Полроты в один заход.
— Не уложатся.
— Спорим!
— Да ладно...
Полроты и впрямь на паром не вместилось.
Наконец отчалили — заскрипели ржавые блоки, сквозь которые был продернут ведший на другой берег стальной канат.
Напирая на понтоны, течение начало мало-помалу толкать паром поперек реки.
— Что-то они сегодня какие-то снулые, — заметил Прямчуков.
— Кто?
— Афганцы.
— По пистону им Розочкин вставил, вот и снулые, — объяснил Алымов. — Чурки, блин...
— Три часа их ждали, — буркнул Матросов. — Козлы.
— Между прочим, они еще и сами, может, того, — предположил Алымов, с прищуром поглядывая на одного из паромщиков. — Слышь, они за кого вообще?
— В смысле? — не понял Артем.
— Да вот в том и смысле! Может, они дурку гонят? Сейчас здесь мантулят, а к утру, глядишь, духами станут! Ничо, да? Скажешь, не может такого быть?
Артем пожал плечами.
— Ох и хитрющий же народ! — качая головой, с досадливым осуждением заключил Алымов.
Паром отошел уж метров на тридцать. На стрежне река несла пуще, ржавый блок скрипел веселей, стальной канат то и дело налезал на ребро ролика, грозя сорваться, но всякий раз с громким щелчком соскакивал в положенный ему желоб.
Вода клокотала под днищем.
— Во как шурует, — с неясным удовлетворением сказал Каргалец. — А ну как оторвет? Так и будем плыть, плыть!..
Он негромко рассмеялся.
Берег приближался, и его мокрые валуны, возле которых золотилась мелкая прибойная рябь, поблескивали и мерцали.
sub Благостное место /sub sub/
Несмотря на то что выдвижение батальона отстало от намеченного графика почти на два часа, подразделения шагали без спешки. Как еще идти людям, которые знают, что предстоящее дело может и потерпеть? Получасом раньше за него возьмутся, получасом позже — без разницы, все равно конец известен заранее.
ХАЗАРАТСКОЕ УЩЕЛЬЕ, 30 МАЯ 1984 г.
От берега тропа забрала чуть выше, метров на сорок от уреза воды, и теперь бежала почти ровно, лишь изредка ныряя в глубокие ложбины, но на поверку в них оказывалось больше мрака, чем глубины.
Горы молчали.
Прохладная сиреневая мгла не казалась враждебной. И даже когда часам к четырем желтый огрызок луны завалился за хребет, мерцания бесчисленных звезд хватило, чтобы рассеять тьму: худо-бедно серебрилась земля, кусты, деревья, камни, и на кривящемся внизу лезвии реки тоже лежал неясный отблеск.
Артем шагал и шагал, глядя в зеленоватое пятно — спину Алымова.
Тропа рокотала под чередой их шагов, и под этот рокот мысли уносились далеко отсюда — далеко от сиреневой мглы, от молчания гор, от ровной поступи батальона, выступившего на ночную операцию. Казалось, мысли и само тело с собой уносят: отдавшись им, оно уже не ощущало тяжести амуниции, оружия, боеприпасов.
Но тут Алымов запнулся, Артем едва не сунулся носом в мокрую от пота спину и тоже остановился, шатнувшись от неожиданности и от веса утраченного было в полусне, а теперь вновь обрушившегося на него груза.
Оказалось, до поста «зеленых» осталось метров двести и поступила команда «привал».
Нагнав, мимо них пошла вторая, за ней и третья рота. Шагавшие и сидевшие перекидывались негромкими подначками, как деревенские мальцы репьями:
— Ишь расселись!
— Бока не отлежи!
— Да у них деревянные!
— Сам ты деревянный! Дурилка картонная!
— Ты за нас не волнуйся!
— Ничего, сейчас им кухню подтянут!
— Матрасы подвезут!
— А ты думал!
— Шагай, шагай!
— Строй держать! Носок тянуть!
— Ничего, сквитаемся!
— Пердячий пар-то пока не растрачивай! А то как на гору залезешь?
— Разговорчики!..
Скоро вторая и третья роты разошлись — одна двинулась влево, огибая афганский пост, чтобы сначала перейти речушку, выбегавшую из Хазаратского ущелья, а затем мало-помалу взобраться на пологий склон (в темноте склон казался более крутым и опасным), продвинуться по нему до кишлака и нависнуть над ним, ощетинившись опасным железом. Другая взяла правее, где ее ждала примерно такая же задача.
Нужно было еще раз обсудить с афганским командованием порядок взаимодействия первой роты со взводом «зеленых», вот они и шагали сейчас к афганскому посту.
Розочкин хмурился, потому что толку от союзников даже на учебных прочесываниях мало, больше под ногами путались. Боевого порядка не понимали, брели толпой... Но без них тут нельзя и шагу ступить: ведь советские войска не сами по себе в стране порядок наводят, их операции — всего лишь действия по поддержке сил правительственной афганской армии.
Комбат Граммаков тоже не ждал ничего особо приятного или хотя бы интересного. Честно сказать, веры афганцам у Граммакова не было ни на грош. Пока служил в штабе дивизии, сто раз имел случай убедиться: любые сколько-нибудь ценные сведения, полученные «зелеными» от советских, тут же просачиваются на сторону духов. И хоть ты что с ними делай — хоть половину под трибунал, а все равно будет то же самое. Конечно, советские несут с собой не только идеи интернационализма, но и провизию, оружие и боеприпасы — и все это тут на вес золота. Но когда солдат правительственной армии раскрывает тайны врагу-мятежнику, в нем говорит кровь — ведь тот приходится ему родственником. А разве кровь дешевле идей интернационализма?.. хоть бы даже и вместе с боеприпасами.
— Ну и где же встречающие? — невесть у кого спросил Граммаков.
В эту секунду их ослепил яркий свет (должно быть, прожекторы БТРа), Граммаков заслонил глаза ладонью и выругался.
Через секунду огни погасли. В красноватом свечении отходящей после шока сетчатки образовались какие-то контуры, оказавшиеся афганским лейтенантом и двумя заспанными афганскими солдатами-сарбазами. Один посвечивал фонариком.
Провели в палатку.
— Четур асти, хуб асти? — повторял лейтенант, пожимая руки и белозубо улыбаясь.
— От вертолета лоп-асти, в Афган попал по дур-асти, — машинально пробормотал Граммаков дурацкую поговорку.
— Спрашивает, все ли в порядке, — пояснил Раджабов.
— Вот спасибо, научил... Скажи, все хорошо. Как сами здоровы?
Приглядываясь друг к другу, неспешно толковали о предстоящей операции, то есть повторяли все то, что уж несколько раз проговорили позавчера на совместном заседании в полку. Договоренность простая: группа афганских бойцов в количестве десяти человек под командованием своего офицера присоединится к первой роте, тем самым укрепив ее. Ничто не менялось. Лейтенант казался вполне симпатичным парнем. Однако веры к афганцам у Граммакова не прибавилось. Кроме того, его томило в целом верное, но сейчас совершенно неуместное соображение, что это как-то несправедливо: война ихняя, гражданская, а вот надо же — задачу решает пришлый советский батальон, а хозяева собираются ему всего лишь маленько помочь... да еще как у них это получится, надо посмотреть.
И в этой связи у него мелькнула смутная мысль насчет того, что нужно как-то еще подстраховаться.
— Слышь, Розочкин, — сказал Граммаков, начав облекать в слова свою неясную мысль и тем самым делая ее определенней и даже отчасти материализуя. — Ты вот что... Ты оставь-ка тут пару-тройку ребят посмышленей. Раджабов! Скажи ему, что мы тут свой пост небольшой разместим... скажи, на время операции... в поддержку им.
Розочкин хотел возразить, что ему оставлять пару-тройку людей не с руки, потому что, во-первых, делать им здесь совершенно нечего, а во-вторых, эти люди — личный состав первой роты, которой предстоит воевать в кишлаке, и ослаблять ее перед боем никак не следует.
Однако Раджабов уже переводил, а лейтенант кивал и улыбался, да и на лице Граммакова читалось, что мысль, окончательно оформившись не только логически, но и словесно, ему самому решительно понравилась и отказываться от нее он не намерен.
— Есть, — недовольно ответил Розочкин.
Когда выбрались наружу, невдалеке строился афганский взвод. По команде сержанта сарбазы передернули затворы и направили стволы в бледнеющее небо.
Сержант зверски гавкнул и махнул рукой.
Залп все равно получился недружный.
— Стволы марают, — сказал Граммаков, посмотрев на Розочкина с некоторым значением.
— Ага, — неопределенно высказался Розочкин.
Он хорошо понимал суть происходящего, уж, слава богу, нашлось кому рассказать, наслушался про эти диковинки, но обрывать на полуслове, коли командир снизошел до беседы, в армии все-таки не положено.
— Утром каждый должен разок пальнуть, — пояснил Граммаков, желая, видимо, во что бы то ни стало довести имеющуюся информацию до подчиненного. — Чтобы о плене мысли не было. Потому что духи первым делом смотрят автомат. И если видят гарь в стволе, то куда там из него пуля полетела, не больно разбираются.
Розочкин хотел в ответ заметить, что к духам в плен попасть — это надо как-то особо исхитриться: сколько уж торчат здесь, а ни одного и в глаза не видели.
Да как-то не пошло в строку.
— Поня-а-атно, — протянул он.
И, обернувшись, еще раз оглядел построение.
Прошло всего полчаса, но за это время ночь успела смениться утром. Звезды потускнели, а потом незаметно исчезли со светлеющего неба, будто растворились. Луна тоже истаяла в теплеющем воздухе и стала совсем прозрачной. Хребты гор проступали из мглы, с каждой минутой набирая мощь и тяжесть: что было бесцветно и призрачно, становилось тяжело и непреложно.
Кишлак выглядел чем-то вроде нароста на теле земли, на ее камнях. Тусклый, сливающийся с окружающим, как древесный гриб на корявом стволе, он уступ за уступом вырастал из серо-коричневых, кое-где поржавелых глыб осыпи. Поддерживая и подпирая друг друга, кибитки лепились вправо и влево, заполняя все пространство неширокого здесь ущелья. Достигнув склонов, ползли и по ним, цепляясь, сколько можно, за останцы и уступы. Глиняные, тесно прилепленные друг к другу, они гляделись колонией ласточкиных гнезд. Мелкие, как бойницы, окна с решетчатыми переплетами оставались чернильно-темны. Вода речушки, бежавшей по ущелью в глубоких промоинах (а дома ее сторонились, должно быть из боязни весенних потоков), в полумраке тоже чернела и поблескивала.
Издалека казалось, что кишлак дремлет в предрассветных сумерках.
Теперь стало ясно, что он вымер.
Не лаяли собаки, не мычали коровы. Бараны не орали свое хриплое «мэ-э!». Птицы пощелкивали, но как-то неуверенно, будто недоумевали, отчего это прежде все здесь жило и галдело, а теперь умолкло.
Все ушли.
Розочкин оторвался от бинокля и сказал радисту:
— Ты вот что... Сергученко вызови. Пусть по крайним постучит.
Радист передал команду, и сергученковские споро развернули АГС. Однако единственным результатом пяти взрывов (две гранаты достигли максимального эффекта, угодив прямо в окна) стали огромные облака желтой пыли.
Небо совсем высветлилось и поголубело.
Ни передвижений противника, ни шевеления гражданских лиц или животных; ни даже огня или хотя бы дыма.
Его нервировала такая война. Что за война?! — глупость какая-то, пустая ходьба вперед-назад. Туда пошли, сюда пошли... толку чуть.
Противника нет — и боя нет, и ущерба противнику нет... и победы нет. А без победы и он сам, получается, никому не нужен. Он с детства нацеливался на победу. Победа — то, для чего его учили, чего от него ждут... зачем он без победы?
По-хорошему, надо бы дальше продвинуться. Пощекотать их прямо в ущелье.
Так ведь приказа нет — и опять рота вернется несолоно хлебавши.
— Поехали, — сказал Розочкин в микрофон рации. — Повнимательней там!..
Вторая и третья группы, оставив по левую руку молодую зелень кукурузного поля, а по правую прыгавшую на каменьях речушку и оплывшие останки каких-то стародавних строений, вышли на восточную окраину селения и начали осторожно углубляться в узкие кривые проулки.
Четвертая группа вместе с командиром роты капитаном Розочкиным и взвод афганцев двинулись правее, через пустырь.
Кишлак был не так уж велик. Снизу он расползся по обе стороны речушки, выше тянулся по левому берегу, уходя дувалами и дворами вверх по течению вглубь сужающегося ущелья.
Время от времени ухали разрывы гранат, потрескивали автоматные очереди, но все это просто из предосторожности: ни душманов, ни жителей в кишлаке не наблюдалось.
Однако минут через сорок радист Грошева взволнованно сообщил, что замечены мятежники — двое. Обнаружены были поздно и успели скрыться в зарослях вдоль большого арыка.
— Заросли, заросли прочесали? — вскинулся Розочкин.
— Так точно, — доложил радист. — Никого!
— Ах, заразы!.. Ладно, внимательнее там! Смотреть в оба!
Еще примерно через час, обойдя дворы и убедившись, что людей нет, группы встретились на площади, отделявшей нижнюю часть поселка от верхней.
— Серега, ну что, так и не нашлись твои духи? — с усмешкой спросил Розочкин.
Грошев смущенно — будто брал вину на себя — пожал плечами:
— Как сквозь землю провалились...
— Понятно, вверх по ущелью ушли, — определил ротный. — Им-то сподручно по кишлаку мотаться, они каждого куста не шугаются. Больше никого?
— Никого.
— В одном дворе куры кудахчут, — весело сообщил Сергученко. — Может, пикничок, товарищ комроты? Мои орлы не откажутся!
И радостно захохотал, а за ним и большая часть его солдат тоже зареготала.
«Вот же, а! — с неясной злостью подумал Розочкин. — И как это они, такие веселые, один к одному подбираются?»
— Отставить ржачку, — сухо сказал он. — Собраться, не на прогулке! Продвигаемся выше. В оба смотреть!
Миновав скалистый, неудобный для строительства, а потому и незастроенный прогал, снова оказались в кишлаке — совсем уж маленьком. Прочесали десяток дворов. Метрах в шестистах впереди снова торчали какие-то уступчатые стены.
— Тут сам черт ногу сломит, — пробормотал Сапожников, вытирая рукавом потное лицо. — Это что? К какому кишлаку относится? К тому же?
— А к какому еще? — бросил Розочкин.
Вообще-то он совершенно не был уверен, что эти дальние кибитки тоже принадлежат кишлаку Хазарат.
Но не Сарбан же? Слишком близко... Прав Сапожников — и впрямь черт ногу сломит.
Было уже совсем светло — где-то на равнинах солнце лупило в полную силу, но и здесь, за горами, чувствовалось его скорое появление.
Подошли врассыпку, подолбили на всякий случай из АГС. Тишина. Дувалы и дворы уходили все дальше вглубь ущелья.
Но вот и они кончились. Ущелье стало уже, боевые порядки сбились: вместо того чтобы прикрывать друг другу фланги, группы вынужденно сходились вместе, а местами даже тянулись вереницей.
Розочкин взглянул вверх, на высотки, где должны были занять позиции роты поддержки. Однако их, если он правильно ориентировался, уже загораживали вершины других высот.
Начинать отход? Но ведь Грошев видел двух духов! Куда они делись? Сидят где-нибудь, заразы!..
— Всем группам! — приказал он. — Ставлю задачу! Прочесываем еще шестьсот метров!
Эти шестьсот метров уже лишние, и поэтому, конечно, он должен был выговорить всеми ожидаемое продолжение: «...и возвращаемся под прикрытие афганского поста».
Но с языка само собой свернулось совсем другое:
— И продвигаемся дальше по ущелью. Как максимум — до кишлака Сарбан!
Лейтенант Брячихин подумал, что ослышался. Но потрескивающий, искаженный волшебством радио голос капитана повторил: «...до кишлака Сарбан! И не пропадать никому. Связь держать жестко! Брячихин, тебя это особенно касается!..»
— Есть не пропадать! — автоматически отозвался Брячихин.
Он почувствовал жар, в висках начала громко тикать кровь — точь-в-точь как если бы у него скакнуло давление до опасных в клиническом отношении величин.
Ничего себе! Дальше по ущелью! Рота окажется без прикрытия. Да она и сейчас уже без прикрытия... С бронегруппой задача не согласована, с артиллерией не согласована... артиллерия в операции вообще не задействована. Вертолеты не поддерживают... об авиации даже речи не было... Что за странный приказ!
Неужели комбат о таком говорил?.. а он пропустил мимо ушей, когда задачу ставили?.. Да вроде нет, он не отвлекался... не может такого быть. «Первой роте выдвинуться в ущелье до кишлака Сарбан! » — нет, такого он никак не мог прослушать.
Но и вообразить, что ротный сам такую дурь придумал, — тоже было невозможно. Не такой он человек.
Если начать разбираться в сложном чувстве лейтенанта Брячихина по отношению к командиру роты, то оказалось бы, что главная составляющая — восхищение характером капитана.
Про себя Брячихин давно уже понял: зря пошел он в военное училище, зря выучился и стал офицером... не армейская у него кость, да теперь деваться некуда: так уж заехало, нужно катиться по колее, из нее не вырулишь.
А капитан — образец, отлитый в самых точных, самых правильных своих формах.
Физически силен, смел, вынослив, отлично владеет приемами рукопашного боя. В суждениях резок. Способен без раздумий, если надо, принимать верные решения. Хочет быть во всем первым. Несомненно способен выковывать в себе качества, нужные для решения поставленных задач...
Есть немало и других замечательных свойств, которые Брячихин мог бы долго перечислять. В конце концов они неминуемо начали бы путаться и подменять друг друга. Но, так или иначе, весь этот букет, позволявший Розочкину быть настоящим боевым командиром, — несомненно, производное его характера: собранного, целеустремленного. Счастливого характера, которым Брячихин бессознательно и искренне восхищался.
Разумеется, у Розочкина есть и кое-какие слабости, но столь мелкие, что о них и говорить не стоит. Любит немного покрасоваться. Например, под конец стрелковых занятий выходил на огневой рубеж и брал в каждую руку по АКМу, которые, судя по легкости его движений, становились совершенно невесомы. Закатное солнце золотило его высокую фигуру.
Четыре пары одиночных выстрелов, сливаясь в короткую очередь, дружно валили восемь ростовых мишеней.
Еще несколько мгновений капитан стоял неподвижно, будто предоставляя присутствующим время оценить произошедшее.
Потом, опуская автоматы, поворачивался к строю все с таким же, как и прежде, бесстрастным лицом: «Когда весь личный состав выйдет на рубеж отличной подготовки, начнем отрабатывать и такие приемы!..»
Брячихин знал за ним только один серьезный недостаток: страсть к первенству порой перехлестывала границы разумного. Когда капитан толковал, что рота непременно должна стать первой (не по номеру — по номеру она и так в батальоне первая), в его голосе звучал несколько чрезмерный, почти истеричный напор. Как будто настолько важно быть командиром первой по всем показателям роты, что если она, рота, хоть на секунду сделается не первой, а, допустим, второй, Розочкин этого просто не переживет.
И сам во всем первый, и рота — первая... и бьется он за свое первенство так, будто именно оно есть в жизни самое главное.
Но справедливо ли страсть к первенству называть недостатком? Ну — пусть честолюбие, азарт... пусть даже кто-нибудь скажет: лишние амбиции капитан проявляет... но уж никак не больше.
А с другой стороны, не так давно он знал капитана, чтобы в нем по-настоящему разобраться.
Прежде Брячихин проходил службу в Бресте. В целом бытье там складывалось неплохо — и начальство вменяемое, и солдаты более или менее разумные.
Размышляя в ту спокойную пору о будущем, лейтенант временами приходил к выводу, что ему следует жениться.
Но ведь с кондачка такие дела не делаются: нужно как следует приглядеться, досконально разобраться в своей избраннице, не торопясь взвесить, а потом уж принимать решение.
Да вот только приглядываться было совершенно не к кому.
Из числа женского персонала части он никого рядом с собой помыслить не мог: все гораздо старше. Кроме того, и сорокалетняя врач Мартынова, и ненамного моложе ее шифровальщица Киселева, и бухгалтер Крольчук давно были замужем и растили детей. Доступ же молодого офицера к гражданской жизни, в которой, по идее, плещутся моря и океаны желаемых для него встреч и отношений, чрезвычайно ограничен. День (а то и до позднего вечера) — в расположении, вечер — там же, ночь — в трехкроватной комнатухе офицерского общежития... Короче говоря, возможностей для знакомства с хорошими девушками представлялось огорчительно мало.
Несколько однокашников решили проблему незадолго перед распределением. Витек Апраксин, тот и вовсе напрямки: торчал у дверей медучилища, спрашивая у всякой приглянувшейся девчушки, не согласится ли она выйти за него замуж. Два дня убил впустую, а на третий такая нашлась. Все устроилось, и теперь Брячихин ему немного завидовал...
Однако, скорее всего, когда-нибудь и для него отыскалась бы в Бресте хорошая девушка, согласная стать лейтенанту верной спутницей жизни.
Но однажды его вызвали в отдел кадров округа.
Дождавшись очереди, он пригладил светлые вихры, шагнул в кабинет и четко, в полный голос отрапортовал незнакомому генералу.
Тот слегка поморщился (лицо у генерала было сухощавое, нос с горбинкой), кивнул и, перебрав несколько папок в стопке слева, взял нужную. «Личное дело!» — догадался Брячихин. Тощенькое — полтора года после училища.
— Итак, лейтенант Брячихин, — сказал генерал, поднимая строгий и даже неприветливый взгляд. — Желаете ли выполнить интернациональный долг?
Брячихин еще не понял, о чем спрашивают, но почувствовал, что важна не столько смысловая составляющая вопроса, сколько интонация. Голос же генерала прозвучал так серьезно, что все происходившее обрело некое новое измерение, стало гораздо более значительным, чем прежде.
Генерал продолжал сверлить его взглядом.
Брячихин испугался, что невольным промедлением может разочаровать строгого генерала — не дай бог истолкует заминку как признак сомнения, неуверенности или даже, чего доброго, трусости!
И без раздумий выпалил:
— Так точно!
— То есть — желаете? — захотел удостовериться генерал.
— Желаю!
Генерал удовлетворенно кивнул, одновременно перекладывая папку вправо, и сказал:
— Свободны, лейтенант.
— Есть! — гаркнул Брячихин, уставно повернулся, рубанул три строевых и закрыл за собой дверь, чувствуя, как горит раскрасневшееся лицо.
Он надел шинель, шапку, пошел по мокрой улице, хватая ртом хлопья снега, валившего с сиреневого неба. Мало-помалу остывая, стал размышлять о том, что, собственно говоря, случилось. Кое-какие догадки брезжили, но если б кто-нибудь спросил сейчас: «Скажи, Брячихин, что за петрушка такая?» — он бы не смог ничего сказать.
Конечно, он знал, что интернациональный долг исполняет ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Это еще называлось — «за речкой»... Слухи об этом ходили — невнятные, глухие.
Слово-то само по себе понятное. Пять букв, черным по белому: Афган. Но что за буквами стоит?.. с чем его едят?.. какой он на вкус, сахарно там или солоно?.. что, вообще, в этом пятибуквенном Афгане происходит?
В общем, промелькнувшая в голове догадка ничего не прояснила: как говорится, ясно, что ничего не ясно. Туман и совершенная непроглядность.
Но через пять минут он понял. И, недолго порассуждав, пришел к выводу, что коли так, то, может, и хорошо, что прежде не женился.
И стало ему легко и радостно, и в двери общежития Брячихин влетел, прыгая через три ступени, и чемодан складывал, распевая про то, что «если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так!..».
И надо же было такому случиться, что буквально на следующий день он повстречал такую девушку, знакомство с которой обещало, на его взгляд, целую жизнь.
К сожалению, уже вечером он должен был сесть в поезд. Может быть, все и случилось именно благодаря неощутимой нервозности предстоящего отъезда: сообразил подобрать оброненную варежку, нашел несколько подходящих слов и — чего уж совсем от себя не ожидал — с разлету пригласил в кино. Счастье им сопутствовало: у него день был отведен на сборы, да он уж все собрал, а ее, как оказалось, отпустили с занятий в качестве компенсации за вчерашний вечер, убитый на изготовление какой-то там наглядной агитации. Часы летели как минуты, зато минуты полнились новым, глубоким и важным смыслом. И когда Брячихин залез на верхнюю полку, то, уткнувшись в подушку, едва не заскулил от тоски и отчаяния: щеки чуть заметно пахли ее духами, потому что, когда поезд уже трогался, проводница грозила захлопнуть дверь, а он стоял, держась рукой за поручень, она вдруг потянулась, обняла, крепко поцеловала — и шла потом, мало-помалу ускоряя шаг, до самого конца заснеженного перрона...
Его назначили командиром второй группы первой десантной роты третьего батальона бригады специального назначения. Растерянно оглядел пустую гулкую казарму. День был яркий, морозное солнце лупило в немытые окна, редкие пылинки кружили в золотом луче.
Но к вечеру прибыл капитан Розочкин, командир еще не существующей роты и его, Брячихина, непосредственный начальник, — высокий, сильный, резкий, решительный, с такими складками по углам всегда сжатого неулыбчивого рта и таким острым и настойчивым выражением синих глаз, что Брячихин сразу в него влюбился, — а утром поступило первое пополнение.
И — пошло-поехало, закрутилось, завертелось!.. Люди, люди, люди!.. кто откуда!.. кто с чем!.. Черные, светлые, кареглазые, синеокие, весельчаки, печальники, тот с угрюмостью, этот с наколочкой, тот до водочки горазд, этот до сладкого, один — певун, от гитары не оторвать, другой сядет в угол — и сидит, а спросишь — озирается, будто курицу украл. Должны были бросить лучших, а получилось — всяких, потому что кто ж своего лучшего отдаст, коли можно, наоборот, от худшего избавиться? По идее, все добровольцы — да только воля у каждого своя, и поди еще разберись, добрая она или нет. Всех запомни, каждому в душу влезь, представь себе в точности, чего от него ждать, а чего жди не жди — ни черта не дождешься.
Три недели Брячихин недосыпал, недоедал, осунулся, потемнел с лица; никогда не думал, что такая хлопотная вещь — формирование.
Но хорошо ли, плохо ли, гладко или через силу, а деваться некуда, с приказом не поспоришь. Не прошло и месяца, как полностью укомплектованный батальон прибыл в Чирчик.
А еще через два с лишним месяца оказался здесь — на Шафдаре.
— Раджабов, переведи афганцам: пусть их группа вперед идет!
Раджабов вступил в переговоры. Оказалось, афганский лейтенант не хочет вести свою группу вперед.
Розочкин вспылил:
— Что?! Это их война, а не наша! Это мы им братскую помощь оказываем, а не они нам!
Упрямая река долго пилила серо-желтый песчаник, чтобы в конце концов рассечь гору узким каньоном. Через сто метров тропа прижалась к скальнику. Рота змеей ползла по каменной щели, то и дело переваливаясь с одного берега на другой: каждый боец в отдельности совершал эти ежеминутные переправы где единым махом, где с одним или двумя промежуточными перескоками на мокрые скользкие камни — и всякий раз несколько человек, гремя железом и нещадно матерясь, рушились в ледяную воду. Двоих понесло. Испуганные и мокрые, они выбрались на берег метрах в шестидесяти ниже. Один тут же поспешил за своими, другой сел на камень и неспешно принялся выливать воду из сапог.
Солдаты взбирались на валуны, спрыгивали, карабкались на следующие. Розочкин чувствовал сосущее беспокойство — порядок движения роты утратил последнее подобие боевого, прописанного в уставе. Он с неприятным чувством смотрел вверх: ему казалось, что почти отвесные стены каньона сходятся с высотой — вместо того, чтобы, как это обычно бывает, немного отдалиться друг от друга. В сущности, ничего не стоило бы сейчас закидать роту гранатами с края обрыва... Он отогнал нелепую мысль — обрывы перетекали в такие крутые склоны, что подобраться сверху смог бы разве что ангел.
Еще метров через двести пятьдесят ущелье неожиданно раздалось вширь.
Внимательно осматриваясь, группы одна за другой пробирались в горловину.
Тропа выбегала на почти ровную площадку величиной немногим больше футбольного поля. Справа и слева уступами поднимались небольшие, заросшие травой терраски — с одной стороны к скальному обрыву, с другой — к пологому холму.
«Метров сто превышения», — механически отметил Розочкин, внимательно оглядывая склоны в бинокль.
За холмом тоже вздымались скалы. Река бежала посередине — здесь она, перед тем как нырнуть в узкую горловину каньона, текла тихо, спокойно струилась, не бурля и не пенясь.
Легкий ветер, вырываясь из одной теснины и целя в другую, тревожил сочную траву.
Он отнес бинокль в сторону и набрал полную грудь душистого воздуха.
На каменистом склоне расположилась семейка каких-то цветов. Сейчас их лепестки были еще туго сомкнуты, но пространство уже легонько погуживало — в котловине было тепло, и насекомые летуны чертили спозаранку первые круги и петли.
«Благостное место!» — подумал Розочкин, почувствовав смутное сожаление: эх, кабы не война!..
Солдаты тоже повеселели.
Он шагал за ними, собираясь в скором времени дать команду к отходу и уже не чувствуя досады: должно быть, и впрямь благостное место, успокоило мятущуюся душу... Сбежали два душмана... были да сплыли. Ну и черт с ними. Нужно проверить ущелье? — нужно. Вот и проверили: никого. Ищи ветра в поле: промчались, как зайцы, да и нырнули в заросли ущелья на противоположном борту этой чудной долинки.
Можно возвращаться.
Вспыхнула алым верхушка дальней горы — солнце наконец дотянулось до нее лучами.
И в эту самую секунду на склоне холма что-то тускло блеснуло.
sub Ожидание /sub sub/
— Ты, значит, это вот, Ковригин. Будете осуществлять наблюдение. И прислеживать за союзниками... что у них там, значит, делается.
Задачу Брячихин ставил недовольно и как-то невнятно: казалось, он сам не понимает, зачем у него отобрали трех бойцов и с какой целью они должны загорать возле афганского поста, вместо того чтобы со всей ротой сконцентрироваться на выполнении поставленной боевой задачи.
Лейтенант досадливо сморщил лоб под каской и, подводя черту, решительно махнул рукой:
— А в случае чего действовать, значит, по обстоятельствам!
Через пять минут первая рота растворилась в утренних сумерках.
Артем выбрал местечко под скалой метрах в сорока от берега: и расположение батальона хорошо будет видно, и афганский пост, и ручей, выбегающий из широкого, разложистого устья ущелья.
Вытащил две спички, одну сломал, зажал в пальцах:
— Тяните.
— Чо это? — насторожился Алымов.
Прямчуков молча потянул — длинная.
— Рядовой Алымов! — Артем продемонстрировал оставшийся на его долю обломок. — Приказываю занять наблюдательный пост метрах в ста правее. Понял? Вали туда... вон где валуны. Там и кустики как раз, укроешься.
— Зачем? — заныл рядовой Алымов. — Тут ништяк! Давай уж вместех, чо ты! А располземся — слышь, как пить дать по одному перережут!
Так он всегда говорил: не «вместе», а «вместех». Деревенщина московская...
— Разговорчики! Очко сожми, чтоб не так играло. Исполняй. Через пару часов сменю.
Алымов с ворчаньем поправил амуницию, по-собачьи встряхнулся и, взяв автомат на изготовку, двинулся к указанному месту; шагал пригибаясь, часто оскальзывался и громыхал сапогами. Тот еще ходок — вечно запинается...
Вообще-то Артем к нему хорошо относился. Отчасти, может быть потому, что Алымов оставался одной из тех немногих ниточек, что все еще связывали его с Москвой.
Встретились они на сборном пункте — то есть в эпоху, представлявшуюся ныне чем-то вроде истории Рима: говорят, что было... сам читал... но как-то не верится.
В гулких помещениях с голыми нарами в два ряда и пронзительным запахом хлорки стоял вокзальный гул — многие толклись тут дня по четыре, кое-как кемаря и пропитываясь чем бог послал, кое-кто и неделю дожидался сбора и отправления.
Алымова Артем приметил в одной из тех двух групп, в которые скучились самые приблатненные. В обеих верховодили какие-то мордовороты. Время от времени между ними проскакивала искра, начиналась перепалка, мордовороты матерно перекрикивались, рассыпая чудовищные угрозы, но до драки дело не доходило. Алымов там был в своей тарелке: то со всеми вместе гоготал чьим-то россказням, то сам плел байки (то и дело вскрикивая вперебив самому себе, чтобы удержать ускользающее внимание: «Слышь? Не, ну ты слышь?»), то вдумчиво толковал про своего брата-сидельца, то дорывался до гитары (дребезжащий инструмент шел в очередь: певцов больше слушателей) и тогда ныл заунывным речитативом, не совсем уверенно бренча по струнам:
Лифт, лифт, лифт! — умная машина, Лифт, лифт, лифт! — ходит без бензина! В лифте можно катануть, В лифте можно гробануть, В лифте можно девку
«На первом этаже она молчала, а на втором еще не отвечала!..» — Гнусавя, менестрель с фиксой постепенно добирался до восьмого, где между ним и неосторожной посетительницей лифта все слаживалось наконец самым упоительным образом.
Почему-то Артему поначалу приметилось, что Алымов без часов. Но уже к вечеру какими-то плохонькими обзавелся. А утром следующего дня, когда ненадолго отстал от своей шоблы и подсел к Артему, часы у него оказались совсем серьезные — даже с небольшим квадратным окошечком, где вылезали сокращения дней недели. «Во блин, — пожаловался Алымов как бы в пространство. — Ну ты смотри, а. Хер знает чо делают!..» — «Что?» — не понял Артем. «Да вот, говорю, часы-то... чо налепили, козлы?» Оказалось, дело в названиях дней. Артем от нечего делать перечислил ему все эти sunday и friday . Новые сведения поразили Гену до глубины сердца: он и подумать не мог, что встретит здесь столь образованного. Артема в свою очередь изумлял его мнемонический прием: новоприобретенный земеля с лету подбирал английским словам матерные соответствия. «Манди, говоришь? — щерил Алымов фиксу. — Так это ж почти по-нашему... Тюсди, говоришь?..»
Кто его знает, может быть, именно та дурацкая история с часами вселила в Алымова уверенность, что Артем — человек совершенно иного сорта, при случае за него и глотку порвать можно.
Какими они тогда еще фразами успели перекинуться — затерялось во мраке времен. Однако когда Артем вернулся из учебки, Алымов оказался единственным прежде знакомым в целом полку, потому и встретились они как родные. «А часы где?» — спросил Артем. «Часы? — осклабился Алымов. — Да ты чо, опомнился!.. Жизнь-то полосатая. Проиграл».
Потом служили в одном взводе, спали бок о бок. В целом дружба, конечно же, боевая, то есть временная, суетливая и поверхностная, в какой до рассказов о сокровенном дело не доходит. То есть нет, со стороны Алымова случалось, но лучше бы он помалкивал, потому что Артема от них лишний раз коробило. Сокровенное непременно оказывалось какой-нибудь дрянью: то как в седьмом классе с дружками встретили под вечер в леске за поселком девку, она все орала, что целая, а они не поверили и правильно сделали, что не поверили: доверяй да проверяй; то как в восьмом пошли в поход классом и там в палатке все с одной сговорчивой, а потом физкультурник, сука рваная, порол их по очереди мокрой авоськой; то как привезли чемодан с обувью из РОНО вроде как для малоимущих, а они стырили через окошко подсобки, пока училки не разобрали: думали продать, а корочки — слышь! не, ну чо ты?! слышь? — оказались почему-то все на левую ногу.
Бисеринки росы еще кое-где серебрились. Но солнце быстро слизывало влагу, и камни превращались в прежние где серые, где бурые, но одинаково дикие и выгорелые глыбы.
От реки доносился едва слышный гул. Сама она лежала длинным, неровно обрезанным лоскутом поблескивающей саржи.
Птицы уже робко тенькали, а кузнецы и цикады еще не принялись за свою утомительно звонкую работу, и все вокруг лежало в блаженном расслаблении тихого раннего часа: молчали дальние вершины, ветер не тревожил листву редких кустов на бурых склонах и группа боевых машин, рассевшаяся на террасах противоположного берега, будто стая серо-зеленых, сложивших крылья птеродактилей (каждый ящер тянул вперед клювы своих стволов), тоже помалкивала.
— Далековато забрались, — заметил Прямчуков.
— За них не переживай, — успокоил Артем. — Ладно, двигай вон к тем камушкам. Осуществляй наблюдение. Если что, шумни.
Прямчуков кивнул и, пригнувшись, бесшумно удалился.
Между тем время шло к восьмому часу. День будет жаркий. То есть такой же, как все. И вчера, и позавчера, и сегодня. Будто солдатский строй: все такие, и он такой — ясный, знойный, безоблачный.
А ведь какие раньше, на гражданке, плыли в небе облака!.. Молочно-белые, пышные: в отчетливой тишине громоздили башни, уступы... надували великанские щеки, усмехались, выглядывая друг из-за друга... одной стороной золотятся на солнце, другой хмурятся...
Здесь, пожалуй, ночи интересней. Гаснет тусклая эмаль выжелченной сини, и тут же небо — словно выковали из серебра: позванивают звезды в похолодевшем воздухе...
Машинально перевел взгляд.
Черный жилистый муравей вприпрыжку бежал по камню, переметнулся на другой, миновал и его, вот уже на третьем, оттуда скакнул на проплешину — и тут же неудержимо съехал в крутую воронку песка глубиной примерно в спичку.
Суматошно заметался, пытаясь вернуться назад, где только что все было так хорошо и гладко — и солнце, и зелень, и шум реки, и все дороги открыты, хоть на запад, хоть на восток, — но бесполезным карабканьем только вызывал новые обвалы.
А из самого низа, из устья воронки, уже летели в него точные броски других песчинок — швырк! швырк! Широко расставленные челюсти хозяина сооружения почти не показывались, он сидел тишком где-то в глубине, поджидая добычу. И дождался... а вот и схватил. Муравей, махнув напоследок усиками, утонул в песке.
Муравьиный лев. Точно прозвали. Этого бедолагу сожрет, воронку поправит, постреляв песком на скаты, чтобы стали круче, — и снова затаится, дожидаясь следующего.
И почему-то вдруг представилось, что все они здесь бьются в такой же смертельной воронке. Только она еще и несет, вращается, вздымает ввысь украшенные пеной края, а их самих бешено кружит, засасывая, на самом дне: и его, и Алымова, и Прямчукова, и Каргальца — и всех, всех! И они друг за другом, пытаясь напоследок схватиться за воздух, за пену, за что угодно, только бы удержаться — и быть, быть! Распялив рты воплем, гаснущим в реве этого гибельного вращения, взмахивая напоследок автоматом или просто рукой: один за другим, с дико вытаращенными глазами, как мураши — оп!..
Невольно передернул плечами. Оглянулся.
Да вроде ничего страшного. Горы, горы... река вдали... бледно-голубое небо над головой.
Безлюдье...
На кой черт их тут оставили? Должно быть, Розочкин приказал... а с ним не поспоришь.
Он, правда, однажды поспорил. Но не по поводу приказа, разумеется. Из-за наколок. Это еще в Чирчике.
Там все будто с ума посходили: упрямо желали иллюстрировать организм. Первым пристал Матросов: церковку ему с тремя куполами. Что Артем рисует, все знали. Первым, должно быть, замполит Семибратов проведал. Заглянул в личное дело: батюшки, сержант-то Суриковское училище почти закончил! — вот и ступай стенгазету размалевывать.
«Не боишься?» — спросил Артем. «Чего?» — «Да того. На гражданке в бане на своего нарвешься — посчитают тебе эти куполочки». — «Почему?» — «По кочану. У блатных со смыслом: сколько куполов, столько ходок». — «Да?.. Ну а что тогда?»
Артем хмыкнул: «Ну, если тебе непременно место отправления культа... Пагоду хочешь?»
Что такое пагода, Матросов не знал, но Артем ему примерно очертил — прутиком на песке у курилки.
«Ништяк, давай, — согласился Матросов. — Вещь!»
Кололи синими чернилами из магазина канцтоваров. Нашлись, правда, и критики простого подхода. Алымов со слов брата твердил, что чернила выцветают; если кто тяготеет к вечности, нужно резать пластину с резинового каблука, пережигать в пепел, пепел замешивать с сахаром на собственной моче: тогда, мол, и тело не гниет, и когти летучего времени над картиной не властны.
Слух о поветрии дошел до командиров, посыпались наказания. Семибратов взывал к комсомольской совести, к сознанию советского человека. Солдаты угрюмо огрызались — моя шкура, не комсомольская, не советская; что хочу, то и делаю!
Тогда Артема вызвал ротный.
«Ковригин! — холодно сказал Розочкин, одновременно так резко подаваясь вперед, что Артем невольно отшатнулся. — Вы что тут художество разводите?! В дисбат захотели?! Зачем солдат провоцируете?!» — «Чем провоцирую?» — «Молчать! Чем!.. Картинками своими! Вы в какой роте? В первой роте! Первую роту позорите!»
Капитан громыхнул стулом. Казалось, он был в ярости, но говорил на «вы». И матюков почти не позволял — только булькало что-то в горле, как будто нарочно сглатываемое. Вообще, присматриваясь к нему, Артем подозревал, что Розочкин держит себя в соответствии с неким мыслимым им образом настоящего русского офицера.
«Никак нет, товарищ капитан». — «Что — никак нет?!» — «Не провоцирую. Наоборот, отговариваю как могу...» — «Отговариваю!.. Вам сколько лет? Двадцать пять исполнилось?»
Артем сощурился.
«Двадцать шесть стукнуло. Старше вас, наверное, товарищ капитан? Ничего, вы и дальше можете кричать, хоть по уставу и не положено».
Господи Исусе, спаси и помилуй!..
Капитан откинулся на стуле, глядя на своего сержанта в некотором изумленном затруднении, — должно быть, решал, когда сгноить — прямо сейчас или чуть позже. Но в конце концов только недовольно крякнул и покачал головой.
«Нет, не старше... Ладно. В общем, кончайте это дело. Сами они не стали бы живопись разводить».
«Никак нет, товарищ капитан, — возразил Артем. — Это ведь не я придумал. Все равно бы кололи, только другое. Кресты какие-нибудь тюремные, кинжалы... А так хоть какое-то… — Он замялся, подбирая слово. — Хоть какая-то эстетика».
«Да уж, эстетика! — недовольно повторил капитан. — Тигры, пауки! Осьминоги!.. Зверинец в сумасшедшем доме».
Артем пожал плечами. Большую часть эскизов и впрямь составляли геральдические страшилища.
«Должно быть, это они от страха, товарищ капитан», — высказался он.
«От какого еще страха?» — насторожился Розочкин. И так глянул, что всякий бы понял: в первой роте страху не место.
«Ну, не страх... а на уровне инстинкта, что ли. Все знают, куда двинем. Знают: что угодно может случиться. Вот и хочется каждому свое тело отметить. Как бы показать, что это его тело, именно его! Мол, видите, какая тут отметка? — горячился Артем, чувствуя, что Розочкин поддается его объяснениям. — Так знайте, мол, — это не просто так отмечено, это мной отмечено, это — мое! Не трогайте, не ваше! Не нужно портить!..»
Розочкин хмыкнул:
«Глубоко копаете, Ковригин... Ну не знаю. А самому-то не хочется?»
«Никак нет. — Артем пожал плечами. — Перерос я эти шалости».
Несколько дней под разными предлогами увиливал, потом увидел, какую дрянь Васильеву из второй группы на плече соорудили... и снова взялся.
Горы, горы... река.
Тишина.
Как-то уже отвык один оставаться. Что-то тревожит, сосет душу: а где все? а как же теперь я?..
Бог ты мой, какая глупость!
С самого начала все это идиотская ошибка... но ведь влекло, тянуло... сам отыскивал какие-то оправдания, для самого себя находил ответные слова. Нужно было попасть, угодить, чтобы понять, как все обстоит на самом деле. Времени много не потребовалось: стоило лишь переступить порог, увидеть ряды безликих коек, сморщиться от вони промытых хлоркой полов, чтобы осознать сразу и навсегда: «казарма» — лишнее слово, проще и понятней другое: тюрьма.
Тюрьма, настоящая тюрьма!.. а никакая не казарма.
Но теперь уж ничего не поделаешь. Куда деваться? В отказ? — опять тюрьма, только худшая. Голову под пулю? — радости мало. Дезертировать? — есть и такие... сами к душманам уходят... это вообще как на Луну. В безвоздушное пространство.
Гера верно толковал. Артем его не слушал: сам с усам. Да и что мог ему, без пяти минут солдату, рассказать об армии этот штатский — не считать же службой месяц институтских лагерей?.. Но о своем месяце Бронников толковал как о десятилетии. С его слов выходило, что на всем том военном, что еще не вступило в бой, а только готовится к нему, лежит печать мрачного идиотизма. Караулы, кухня, разгрузка вагонов, свинарник, марш-броски, строевая, несуразно ранние подъемы, осточертелая каша и неудобоназываемые куски сала, плавающие в суповой кастрюле и именуемые «мясом», — все это, конечно, недостатки воинской жизни. Зато есть одно важное преимущество: нет нужды думать. Нужно лишь исполнять приказы, а размышлять над ними запрещает устав. В результате мозг обретает чудную свободу и нежится до тех самых пор, пока не поступит очередная команда воинского начальства. По команде следует, в зависимости от обстоятельств, бросить гранату, или выйти на огневой рубеж с автоматом, или кинуться бегом. Совершив же то или иное — снова погрузиться в состояние жизненного отсутствия...
Гера иронизировал, но и Артем его признания слушал с легкой иронией. Ну да, мол, рассказывай.
А оно так и есть. Здешняя жизнь не требует рассуждений. Даже не терпит их...
Почему-то вспомнилось, как на дежурствах в больнице, за полночь, когда схлынет самая суматошная волна вечерней травмы, сядут они, бывало, с Касьяном возле рентгеновского порассуждать... Касьян про божественное, про астральные тела воодушевленно толкует... космос, чернота, сияние вечности!..
Все это осталось в Москве.
Как они там?
Лизка проснется, подойдет к окну, глянет, еще заспанная, в большой глухой двор: слева ржавый рельс вбит посреди неширокой дорожки, чтоб машины попусту не ездили. Две большие липы, несколько жухлых кустов жасмина... в центре детская площадка: песочница, недавно починенные качели и две новые скамьи... возле одной непременно дворничиха Рая с метлой, точь-в-точь как девушка с веслом — только не в купальнике, а в телогрейке и бордовом платке... неужели все так и осталось?
А Лизка небось и не смотрит — что толку смотреть на давно знакомые, привычные предметы.
Обычно к ее пробуждению он успевал уже много чего сделать. И ворчал потом, что, мол, ей бы хорошо в пожарники: вот она спит как сурок, а тут черт ногу сломит, того и гляди, грязью подавишься. Все о ребенке речь заводит, а какой уж тут ребенок, когда за ней самой как за дитем малым.
Послушав, Лизка укоризненно выпрастывала руку из-под одеяла и показывала родинку на нежном сгибе.
— Ну что? Что? — спрашивал Артем, как будто сам не знал — что. — Господи Исусе, спаси и помилуй!.. Что такое?
— Видишь, какая черная, — грустно отвечала она. — Видишь?.. Ты на меня кричишь с утра, и она становится больше... потом начнется рак, и я умру.
Теперь-то ей, конечно, не до размышлений под одеялом.
Те несколько фотографий, что лежали в кармане (она бы и больше прислала, да ему где хранить?), оригинальностью не отличались. Как у всех. Вот смеющийся младенец на простынке... вот размахивает ручонками... вот, сморщившись от напряжения, держит голову.
На обороте каждого снимка любовной каллиграфией: «Сереженька». И дата.
Лизка утверждала, что мальчик — вылитый папаша, хотя, конечно, было трудно проникнуться этим убеждением в силу младенческой смазанности черт.
Его вообще впечатляло не возможное сходство, а то, что им с Лизкой каким-то образом удалось добыть человеческую душу — извлечь ее из небытия, в котором она прежде пребывала.
Как подумаешь — голова кружится: бог ты мой, да возможно ли это?
Как будто вечность — тихий ноябрьский пруд с флотилиями тусклого золота. И вот, словно из его черной стылой воды, почерпнули из вечности да и вынули на свет Божий: со всем тем миром, что будет громоздиться в головенке, со всем будущим изумлением и жадностью, со всем бессмертием и краткостью жизни.
Удивительно!..
Вздрогнул от голоса.
— Командир! — звал Прямчуков со своего НП. — Слышь, командир, вылезай! Гляди!
Артем оглянулся.
Бронегруппа ворочалась на террасах, поднимая пыль и явно имея намерение построиться в походную колонну.
Прямчуков в несколько приседаний преодолел разделявшее их каменистое пространство.
— Куда это они? — сказал Артем, вглядываясь. — Может, пониже хотят? Сам говоришь, далеко забрались...
— Нет, уходят.
Тем временем на КП батальона тоже поднялась какая-то суматоха. Взвод охраны построился было у палаток... потом двое побежали к берегу... стали махать руками, крича что-то — неразличимое за дальностью и гулом реки.
Паром как причалил в последний раз, так на этой стороне и оставался.
— Слышь, давай-ка гони туда, — спохватился Артем. — Где паромщики? Небось под бортом спят. Пусть на ту сторону валят!
Прямчуков потрусил к реке. На подходе передернул затвор, замедлил шаг.
Через несколько минут, обойдя плавсредство с одной, потом с другой стороны, сделал неопределенный жест: нету, мол.
К этому времени и Алымов возбудился, стал орать, высунувшись по пояс из своего укрытия:
— Командир! Смена скоро?
— Вали сюда! — крикнул Артем.
Алымов тут же притрусил, громыхая сапогами, довольно плюхнулся рядом, пожаловался:
— Тоска там одному-то. Ничо не видать, сидишь как дятел...
Приложил ко лбу ладонь и спросил удивленно:
— Это чо? Броня-то усвистала?
— Не знаю, — сказал Артем.
sub Марш танкистов /sub sub/
Разноголосый радиообмен батальона со стороны казался настолько бестолковым, что зампотех первой роты старший лейтенант Жувакин то и дело бормотал что-то язвительное, чертыхался, вздыхал и качал головой.
Его бронегруппа в составе восьми боевых машин и двух танков уже совершила обманный маневр (то есть проехала по берегу Шафдары четыре километра вниз, а затем вернулась обратно) и заняла позиции на невысоких террасах левого берега. Первая рота, вместе со второй и третьей переправившись на правый берег, выполняла боевую задачу по прочесыванию кишлака и уничтожению поста мятежников, а бронегруппе в случае необходимости предстояло обеспечить огневую поддержку — то есть палить через речку.
Поначалу было почти совсем темно, и, чтобы получить полную картину, мозгу приходилось достраивать то, что видели глаза. Пейзаж вмещал берега сливающихся рек, расположение батальона, паром, склоны противоположных гор, совсем неуверенно — палатки и технику афганского поста, а темный зев ущелья, куда скудно сеющийся свет неба не попадал вовсе, на этом неярком полотне только угадывался.
По мере того как света становилось больше, картина прояснялась.
Батальон расположился на широкой галечной косе при слиянии двух рек. Шафдара — широкая, мощная. Вторую — Кумардарью — пренебрежительно звали Кумаркой, поскольку она расходилась широкими отмелями и ее можно было перейти в сапогах, не замочив портянок, — наравне с прилетавшими иногда под вечер цаплями.
Середка полуострова плотно заросла дикой оливой — джидой. Джида буйно цвела, распространяя по долине приторно-сладкий аромат. На галечном бугре стоял на голых ободах заржавелый английский трактор. Правее торчали покосившиеся останки давно разоренной пилорамы.
Должно быть, в паводок большая часть этой земли пряталась под воду; но разлив миновал, и на гладких, вылизанных рекой галечных откосах рядами выстроились палатки, а ближе к зарослям встал парк бронетехники и транспорта.
Скоро окончательно рассвело. Затем и солнце выкатилось на верхушки гор, неспешно начало свой путь по ясному небу.
Все это время Жувакин бесплодно размышлял, зачем бронегруппа торчит там, где торчит: совершенно понятно, что ее огневая мощь никак не сможет помочь роте, прочесывавшей кишлак на другой стороне реки да еще и в глубине ущелья: во-первых, далеко, не дострелишь, во-вторых, вероятные цели заслонены склонами гор. Как стрелять — наугад? с помощью корректировки? Соображения свои он высказывал еще вчера на заседании командиров в штабе, но Граммаков не принял их в расчет, бросив что-то в том духе, что это Жувакину сейчас из штабной палатки так видится; а вот заедет он на танке или БМП на указанную терраску, и все образуется в лучшем виде.
Но образовалось все не в лучшем виде, а именно так, как заранее предполагал Жувакин, о чем он спозаранку и доложил Граммакову. Комбат выслушал с неудовольствием. Секунду поразмышляв, приказал поднять бронегруппу выше, чтобы увеличить зону обзора и обстрела. Однако выше начинались скалистые обрывы, и поднять на них бронегруппу не представлялось возможным. «Тогда сиди где сидишь, — приказал Граммаков. — Жди».
Граммаков часто переговаривался со штабом и командирами рот. Поменяв волну, можно послушать, о чем толкуют командиры рот с командирами групп. Все шло нормально, но часам к одиннадцати стало окончательно ясно, что временное отсутствие связи с первой ротой нельзя объяснить влиянием помех: Розочкин исчез из эфира не потому, что его радист зашел за скалу.
— Да-а-а, — недовольно сказал Жувакин, услышав начало разговора Граммакова с «вертушечным» начальством, и полез наружу — размять занемевшие мышцы и сделать еще кое-какие неотложные дела.
Вокруг стояли горы. Где поросшие редким лесом, где голые щебенистые или скальные склоны уводили взгляд выше. Вершины плавились в золоте, кипевшем на границе синевы. Ветер нес запахи теплых камней, трав, воды... Однако вся эта красота не могла отвлечь его от неприятных мыслей. Да и сама тишина тихого утра почему-то не нравилась.
— Так что это вот, — гаркнул, высунувшись из люка, наводчик-оператор Махрушко. — Товарищ старший лейтенант! Комбат требует!
— Вот же, а! — бормотнул Жувакин, досадуя, что сколько времени сидел в холодной железяке как пришитый и никому не был нужен, а стоило на минуту вылезти, тут же понадобился.
Застегнул штаны и пошел к машине.
— Махрушка! Ты историю в школе учил? — на ходу спросил он, скаля зубы вроде как в широкой улыбке.
— Так что это вот, — ответил Махрушко с опаской; и впрямь — вопрос звучал совершенно ни к селу ни к городу. — Учил, так точно, так что это вот...
— Знаешь, до капитализма был такой строй — просвещенный абсолютизм?
— Так что это вот. — Наводчик-оператор пожал плечами. — Слышал, кажись... ага.
— «Так что это вот»! — передразнил зампотех. — Кажись! Не кажись, а точно! Так и было: просвещенный абсолютизм!.. Но это раньше! А у тебя сейчас, Махрушка, знаешь что?
Махрушко затравленно смотрел, не смея раскрыть рта.
— У тебя непросвещенный идиотизм! — сердито объявил старший лейтенант. — «Так что это вот»! Что это значит вообще?! На каком языке, Махрушка?
— Так что это вот... — пробормотал морально убитый солдат. — Это я того...
— Вот же пропасть! — в сердцах сказал Жувакин, перегибаясь за бортовину люка, чтобы взять наушники.
— «Глыба»? Я — «Камень». Доброе утро.
— Доброе, — ответил Граммаков озабоченно-саркастически. — Добрее не бывает. Значит, так, Жувакин. Заводись и двигай на ту сторону.
— Не понял, — сказал Жувакин. — На какую «ту»?
— Что непонятного? — раздраженно спросил комбат. — На тот берег. К Хазарату.
— Я...
— До Кривого моста проедешь, — отрезал комбат, пресекая его сомнения. — И туда.
Кривой мост, прозванный так в полном соответствии со своей конфигурацией и надежностью, располагался километрах в десяти выше по течению. К нему действительно можно было проехать по дороге — если называть дорогой едва намеченный копытами путь, по которому, с ревом перебираясь с камня на камень, инвалидски ковыляли редкие грузовики.
— Товарищ комбат, но...
Перевалившись на левый берег, дорога устремлялась дальше вверх, а вниз никакой дороги не существовало: осыпи, скальник, ущельица, притоки, приткнутые к главному руслу.
Чтобы добраться до Хазарата нормальным способом, нужно переть по Шафдаре сорок километров вниз до совершенно другой переправы... а потом, соответственно, столько же обратно.
— Какое «но»?
— Да ведь на той стороне от Кривого моста к Хазарату дороги нет! — раскрыл Жувакин комбату тягостные сомнения.
— Что значит — дороги нет? — жестко удивился Граммаков. — Зачем тебе дорога, ты не на легковушке едешь. Давай двигай. Это приказ!
— Есть, — ответил старший лейтенант.
С этого момента время застучало по-новому, с каждой секундой все более безжалостно проясняя незавидное положение первой роты.
Когда колонна остановилась у Кривого моста, Жувакин вместе с командирами машин потратил минут пятнадцать на исследование сооружения. Река выла, вдавливаясь в скальную щель. Кривой мост был короток, однако его деревянные балки не внушали доверия. С другой стороны, груженые гражданские грузовики он все-таки выдерживал. С третьей — сколько в том грузовике весу?.. и сколько в танке.
— Сомов, давай первым! — решил Жувакин. — Поэнергичней! На середке не газуй, ровно езжай!
Первая БМП легко проскочила... за ней вторая. Танки, сначала чуть разогнавшись, а на мосту перейдя на спокойный ход, тоже не причинили ему никакого ущерба.
Осталось пробраться вниз по реке — к Хазарату.
Время бежало быстро. Солнце достигло зенита, начало скатываться вниз. Граммаков то и дело гремел в наушники, спрашивая, где они и скоро ли доберутся.
А что Жувакин мог сказать в ответ? Он и так не верил себе, то и дело поплевывал, боялся сглазить: хоть и с натугой, хоть и страшно кренясь, выскребаясь, скользя железом по вымытым спинам валунов, обрушиваясь с них всем весом и ломая острия соседних камней, машины все же ползли дальше и дальше.
Мозг зампотеха раскололся: одна его половина стремилась выполнить приказ как можно скорее, другая — страдала, слыша скрежет гусениц, мечтая сбавить скорость и с ужасом понимая, что если этого не сделать, начнут лететь траки.
Двигатели ревели, камни крошились, колонна метр за метром приближалась туда, где так требовалась ее мощь.
Сердце Жувакина превратилось в кровоточащий комок боли и жалости. Помня, чего стоило привести в порядок полученные батальоном сильно хоженные машины, он всякий раз, как одна из них валилась с метровой высоты, вздрагивал и на мгновение зажмуривался: знал, что сейчас увидит порванные в клочья гусеницы и сорванные с осей катки.
Каким-то чудом катки оказывались на месте, гусеницы — целыми. Тогда он переводил дух.
Но все равно сердце сжималось и кровоточило.
Жувакин озирался, окидывая взглядом окрестности — все те же берега полноводной реки Шафдары, в очередной раз понимая, что колонна бронетехники, забравшаяся в непроезжие места, лишенная возможности маневра и отступления, представляет собой лакомый кусок и легко может стать сначала объектом успешного нападения, а потом и добычей мятежников.
Более того, ему пришло в голову, что обманный утренний маневр (четыре километра вниз по берегу, а потом той же дорогой обратно, чтобы, вопреки ожиданиям врага, занять позиции на террасках) и впрямь мог сбить с толку противника. Если так, противник расценил движение колонны как верный признак, что шурави хотят перебросить бронетехнику на противоположный берег, к ущелью Хазарат, воспользовавшись для этого Кривым мостом и предприняв затем десятикилометровый марш по совершенному бездорожью.
А шурави, выходит, совершили утром обманный маневр, чтобы сбить противника с толку, а теперь прут тем самым маршрутом, на который столь прозрачно пытались ему намекнуть!
Конечно, маневр маневром, обман обманом, но такого рода план мог показаться душманам слишком безумным, чтобы в него поверить. И возможно, они ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать его осуществлению.
В сущности, оставалось надеяться только на это: что они верно оценили заведомое безумие плана и раскусили обман.
А если нет, если все-таки поверили и предприняли, что тогда?
Что сделал бы сам Жувакин на их месте? — верно, поставил бы три-четыре противотанковые мины на одном из тех отрезков пути, которые колонна никак не сможет миновать. И когда она неминуемо встанет, пожег бы все железки НУРСами. Экипажи сами выскочат под пулеметы... Вон на той горке можно засесть... милое дело!.. или там... или вот здесь... уж чего в горах полно, так это отличных мест для засады. Просто замечательных мест!
Башенные пулеметы крутились на турелях, самонадеянно надеясь выцелить врага прежде того мига, когда он сам себя обнаружит, Жувакина знобило от осознания бесполезности их усилий, и все же они упрямо шли дальше и дальше.
Но когда до афганского поста осталось не больше километра, дело встало вмертвую.
За крутым изгибом берега и длинной галечной косой (колонна пронеслась по ней как по асфальту) обнаружился овраг: глубокая промоина с крутыми краями, где наполовину занесенная дресвой, где поблескивающая вылизанными водой желваками материкового камня.
— Вот зараза, — сказал Жувакин, стоя на краю. — Что скажешь, Сомов?
— Надо выше брать — вон, где осыпуха, — прикрывая ладонью глаза, определился Сомов.
— Снесет тебя оттуда, — возразил Жувакин.
— Не снесет, — сказал Сомов.
Стоя в люке, Жувакин не замечал, что каждой своей мышцей помогает ревущей машине Сомова выбраться наверх, — но все-таки ее потащило боком, едва не перевернуло, и на тупых клыках гранита она «разулась», потеряв обе гусеницы.
Тросами выволокли наверх, двумя экипажами взялись за починку.
— Выше надо брать! — посоветовал Сомов Милосердову. — Еще выше!
— Нет, — твердо возразил Милосердов, командир другой БМП. — Опрокинется.
— Не опрокинется! — горячился Сомов. — Выше надо!
— Опрокинется.
— Давай, Милосердов, — решил Жувакин. — Попробуй.
Милосердов упрямо сжал и без того тонкие свои губы.
Секунда тянулась так долго, что Жувакин, глядя в лицо Милосердова, принявшее очень сухое и враждебное выражение, успел отдать новый приказ. Этот приказ был совершенно не нужен, потому что мгновенно превращал Милосердова во врага. И был необходим, потому что сам Милосердов не имел куражу поехать первым, чтобы показать дорогу.
— Стоп! Тогда высаживай свой экипаж. Пусть Сомов едет! Сможешь?
— А то! — ответил Сомов, просияв. — Глазков, давай сюда!
Побледнев, но не уступив, Милосердов стоял рядом, и Жувакин слышал, как он скрипит зубами, переживая за свою машину.
Машина забралась выше, на самую крутизну, сползла боком на полметра по осыпи, запнулась о скальник, медленно опрокинулась и с гулким грохотом пошла крутиться, а после трех переворотов страшно грянулась боком между валунами реки.
К счастью, никто всерьез не пострадал. Пока суетились вокруг, Милосердов молчал, только глаза его, обращенные на выбравшегося из машины Сомова, источали яд и ненависть.
— Взорвать надо этот выступ к бениной маме! — расстроенно сказал Сомов, потирая ушибленную голову. Он аккуратно, как обходят полное углей кострище, обогнул Милосердова и встал с другой стороны от Жувакина. — И на той стороне взорвать! Иначе не проберемся.
Когда танки начали стрелять из пушек по скалам и долину Шафдары затянуло пылью и дымом, Граммаков обеспокоенно поинтересовался, что за война у них там началась.
— Пробиваемся, товарищ комбат, — сухо доложил Жувакин. — Дорогу строим.
В казеннике орудия лежал совершенно исправный, неоднократно проверенный и готовый к использованию снаряд. Несколько дней назад его, в числе многих других, доставили в батальон с полкового склада, а до того привезли с завода на склад округа.
Снаряд представлял собой сложное инженерное сооружение, создание которого было невозможно без привлечения множества сведений и практик из самых разных отраслей человеческой деятельности. Если говорить общо, по главным ветвям естествознания, достаточно упомянуть математику, физику и химию. Если же попытаться проследить все этапы появления на свет какой-нибудь из его составляющих — например, гильзы, метательного заряда или стальной рубашки, — то уже на начальном отрезке этого пути, когда речь шла о поиске и добыче руды, придется вспомнить петрографию, литологию, седиментологию, фациальный анализ, грави- и электрометрию, каротаж и многие иные области геологического и геофизического знания. При этом каждая из бессчетно всплывающих дисциплин и методик потянет за собой, в свою очередь, неохватный шлейф специализированных подразделений, подчас довольно неожиданных.
Науки развивались и совершенствовались на протяжении нескольких столетий, поэтому совокупная история создания снаряда охватывала эпохи, страны и континенты, обитатели которых — ученые, изобретатели, инженеры, мастера и простые рабочие — тем или иным способом вложили толику своего труда в этот безбрежный океан разнообразной деятельности.
Кроме того, чтобы все эти люди могли спокойно заниматься своим делом, кому-то приходилось готовить для них еду, шить одежду, строить дома, изготавливать мебель, посуду, ткани и лекарства, врачевать, учить их детей и удовлетворять иные довольно многочисленные потребности.
В конечном счете почти все человечество так или иначе участвовало в создании снаряда: миллионы и миллионы людей — кто увлеченно, кто из-под палки, кто между делом, а кто, напротив, вынужденный ради него отказывать себе в самом насущном — веками тратили время и силы, чтобы он, такой намасленный и складный, в конце концов плотно лег в ложе казенника.
Последним представителем человечества, причастным к его жизни, оказался наводчик-оператор Мурашко.
Инстинктивно зажмурившись, Мурашко нажал кнопку. Пороховой заряд сделал свое дело и яростно вытолкнул метательную часть. Она шумно проехалась по стволу, неуклонно набирая горизонтальную скорость. Ударно рявкнув, вырвалась на волю, с опасным шуршанием пронеслась несколько сот метров — и грянулась в склон горы между двумя кустами барбариса, глубоко внедрившись при этом в щебенистую осыпь.
Взрыватель исправно сработал, начинка взорвалась.
Взрыв далеко разметал камни и осколки собственного вместилища, а также уничтожил кусты и несколько насекомых. Самым крупным из них оказался большой буро-зеленый богомол — он сидел на ветке, до последнего мгновения стараясь выглядеть безобидным существом, а на самом деле выжидая подходящий момент, чтобы совершить свое собственное убийство.
На этом жизнь снаряда кончилась.
Только облако поднятой им пыли, мало-помалу сносимое к западу, долго еще висело в воздухе.
sub Не к добру /sub sub/
Алымов по-стариковски поджал губы.
— Я же говорю: не к добру Каргалец пальнул.
Каргалец действительно пальнул: вечером во время сборов. Отстегнул, болван, магазин, а затвор не передернул. Патрон остался в стволе, вот и грохнул. Никто не пострадал: пуля прошила тент и ушла за Шафдару. Но переполох случился. Брячихин сгоряча отстранил его от операции, но Каргалец вымолил прощение. И когда стал громогласно этому прощению радоваться, Алымов, позевывавший на раскладушке с автоматом между колен, вздохнул и сонно произнес: «Эх, Каргалец! Детство у тебя в жопе играет. Сидел бы тут спокойно, картошку чистил... нет — выпросил приключений на собственную задницу».
Артем еще не знал, что часто будет вспоминать эти неожиданно печальные слова Алымова: и день, и три дня спустя. И даже через месяц, даже через год они будут время от времени проскальзывать в памяти, проплывать по границе сознания. Так скользят по небесному своду беззаконные кометы, вечно наводя людей на мысли о тайных знаках, позволяющих проведать будущее.
Но сейчас он только посмотрел на Алымова с ироническим прищуром и сказал:
— Гена, заткнись, добром прошу. Что ты каркаешь!..
— А чо? Да ладно...
Прямчуков уже возвращался, на ходу вертя головой вправо-влево:
— Никого! Опять как сквозь землю провалились!
— Я же говорю, — кивнул Алымов: будто он всех предупреждал, никто его не слушал, а оно теперь возьми и случись.
— Что?
— Каргалец не к добру пальнул, вот что.
— Заткнулся бы ты, — повторил Артем, вглядываясь в клубы желтой пыли, в которой пропал хвост колонны. — Добром прошу.
— Не надо мистики, — поддержал Прямчуков. — Пальнул и пальнул. В Чирчике в третьей роте тоже кто-то пальнул в оружейке. И ничего.
— То в Чирчике, — рассудительно заметил Алымов. — А то перед выходом. Понимать надо.
— Нечего тут понимать, — возразил Прямчуков. — Мистика — пустое дело. Все происходит на материалистической основе.
Алымов только махнул рукой — что с тобой толковать!..
Артем оставил его на посту, а сам взял Прямчукова и пошел искать паромщиков. Чертовы паромщики опять будто сквозь землю провалились. Прямчуков залез на склон, орал оттуда: «Джура, эй, джура! Ин ча бьё, джура!.. Кор кардан даркор!..» Дошли до афганского поста, он и там поговорил — довольно ловко уже здесь наблатыкался.
Вернулись к парому, а они уже здесь: и впрямь будто выскочили из-под земли.
Прямчуков всласть поорал, мешая фразы на дари с фразами на русском матерном, таджики погнали паром обратно и скоро привезли почти весь взвод охраны.
Прошел еще час или два... или три.
Рация исправно трещала и похрюкивала. Время от времени радист сообщал что-нибудь вроде: «Нет, не выходит первая... не слышно». Или: «Не выходит, нет... фигня какая-то».
— Комбат вертушки вызвал, — сказал он, когда солнце перевалило середину раскаленного неба. — А первая так ни хера и не выходит. Что-то у них там, должно быть, того... не заладилось.
— Слышь, пожрать бы, — тоскливо сказал Алымов. — Кишка кишке рапорт пишет. Пойду пошарю...
Разжился двумя сухпаями. Тушенку греть не пришлось — уже и так будто с плиты. Трижды прилетали вертушки. Точнее — пролетали: проходили над ними, бесстрашно ныряли куда-то за водоразделы... а что они там видели и видели ли что-нибудь вообще, неизвестно: с вертушками комбат вел переговоры на недоступной волне.
Он уже приказал, как придет броня, грузить остатки батальона — взвод охраны, лекарей, пекарей, водителей — и двигать на спасение первой роты.
Но брони все не было.
Когда же она все-таки пришла — три машины вместо восьми, и те, судя по запаленному виду экипажей, донельзя потрепанные дорогой, — уже темнело.
Граммаков приказал выставить охранение и ждать утра.
Ночью подгребли еще две машины и танк — прорвались наконец через овраги и обрывы.
К утру спустилось с водоразделов подкрепление из второй и третьей рот.
С первыми лучами солнца броня пошла на кишлак.
Кишлак был пуст.
Розочкин тоже вчерашним утром передавал, что он пуст, но совсем недавно пуст — еще, дескать, угли дымятся. А прошедшая ночь сделала пустоту совсем неживой — уже ни углей не дымилось, ни других следов человеческого прозябания не осталось; казалось, что за эту ночь дома как-то совсем обезжизнели, отрухлявели, и даже совсем не жалко их было, когда хлипкие, утратившие тепло стены рушились под гусеницами, уступ за уступом рассыпаясь в соломенную труху и вздымая к эмалевому синему небу клубы желтой пыли.
В пыли, в поту шагая вслед за БТРами, бойцы проламывались сквозь дома, плетни, дувалы, дворовые винограднички и цветущие гранатовые деревья: оставляя за собой широкую полосу «чистой» земли, где не было ни одной целой крыши — все лежали плашмя или косо кренясь, топорща чахлые жерди перекрытий и придавливая собой раскрошенные глиняные руины.
Солнце уже снова вошло в силу, пыль ела глаза, пот смывал ее, оставляя на лице и шее следы, похожие на извилистые пути личинок под сосновой корой.
Когда ущелье сузилось и стало каньоном, броня запнулась.
И еще не успели как следует разобраться по группам, как кто-то увидел и закричал: поток вынес к ним сержанта Просякова из группы Сапожникова. Как?! где?! — должно быть, всю ночь упрямо полз по каменной щели, срывался с осклизлых валунов, барахтался в ледяной стремнине. Речушка тащила его в нужную сторону — к своим. Ногу он перетянул ремнем, отстреленная голень висела на лоскутах мышц. Просяков был не в себе, но сознания не терял, шептал белыми губами, повторяя все одно и то же:
— Котловина!.. котловина!.. все там!.. все!..
Его слова разбили последние надежды.
Бойцы друг за другом ныряли в сырую тень каменной щели. Вынужденно переваливаясь то на правый, то на левый берег потока, группы пробирались вверх по каньону. Каньон так резко сужался, так угрюмо и грозно нависали его стены, будто две скалы должны были вот-вот двинуться, сойтись — и раздавить между собой все живое. Замшелые стены были всего лишь прохладными — но казались ледяными. Всех сотрясала неуемная дрожь.
И какая-то пичуга, смело пискнув, нырнула в черную пасть, будто показывая дорогу.
sub Стратегемы /sub sub/
Говорят, что кабульское восстание поздней осенью 1841 года стало результатом того, что афганские красавицы (в том числе из весьма знатных семей) массово бежали в объятия холостых и по местным меркам состоятельных британских офицеров: нескромное поведение англичан в отношении кабульских женщин породило огромное число их деятельных недоброжелателей.
Возможно, истинные причины последовавшего противостояния лежали в иной плоскости. Так или иначе, сама война оказалась совершенно не в пользу застрявшего в Кабуле британского гарнизона. Выбитая изо всех прилегавших к городу фортов, армия генерала Эльфинстона заняла хорошо укрепленный лагерь Шерпур. Однако Шерпур лежал в долине, а на господствующих высотах вокруг него стояла артиллерия восставших — хоть и слабая, но практически неуязвимая.
Скоро стало ясно, что придется или сбить афганцев с холмов, или в конце концов самим погибнуть от холода, голода и нескончаемых обстрелов.
Однако ни одна попытка не увенчалась успехом. Афганцы отражали атаки пушечной пальбой и метким огнем из древних кремневых ружей. Кабульские ремесленники и торговцы мастерски стреляли, конные отряды гильзаев опрокидывали обескровленные шеренги британской пехоты.
Эльфинстон требовал помощи — посланный к нему отряд не смог преодолеть заснеженные перевалы на пути из Кандагара в Кабул и вернулся обратно.
Пытаясь как-то исправить положение, Уильям Хэй Макнотон (который в случае победы должен был принять на себя функции посла и министра правительства Индии при афганском дворе нового ставленника Англии) вступил в переговоры с тогдашним эмиром Кабула — Дост Мухаммад-ханом. Но в то же время он, чередуя посулы с угрозами и рассчитывая расколоть афганские племена, объединившиеся против англичан, вел хитроумные негоциации с их вождями.
Двойственность Макнотона была разгадана и, возможно, неправильно истолкована. Мухаммад-хан боялся усиления племен. Прознав об интригах своего английского друга, он незадолго до Нового года убил его во время очередных переговоров. Обезглавленный и четвертованный труп был выставлен на базарной площади, в то время как его окровавленные части разъезжали по городу на открытой повозке, повсеместно вызывая кипучий восторг обывателей.
Тем не менее начало 1842 года ознаменовалось важной политической победой. Восемнадцать вождей приложили родовые печати к соглашению. Англичане обязались оставить афганцам все имевшиеся у них деньги, всю артиллерию (за исключением шести обычных и трех горных пушек), все снаряды, значительное количество различного огнестрельного и холодного оружия, всю обозную амуницию, всех тяжелораненых при двух врачах и, наконец, шесть здоровых офицеров в качестве заложников.
На этих условиях им разрешалось начать отступление. Воинские формирования афганцев должны были охранять их до самой границы. Совместно намеченный восьмидесятимильный маршрут вел через перевал Хурд-Кабул, Тезин и Джагдалакское ущелье — прямиком на Джелалабад. Там ждал гарнизон генерала Сэйла.
В полном соответствии с удачей (ибо на общем фоне даже возможность спокойно отступить расценивалась генералитетом как несомненная удача) 6 января 1842 года они покинули Кабул: четыре с половиной тысячи солдат и офицеров бодро шагали, сопровождаемые двенадцатью тысячами обозной прислуги и гражданских лиц, среди которых находились не только врачи (в их числе и доктор Вильям Брайдон), но также несколько десятков жен английских офицеров, их детей и нянек.
При начале похода авангард отступавших состоял из шестисот стрелков 44-го пехотного полка в красных мундирах и конной сотни. За ними, оседлав пони, следовали женщины и дети. Слуги-индусы несли паланкины, в которых качались больные и беременные. Основная часть пехоты, конницы и артиллерии предшествовала длинной колонне обозных верблюдов и волов. Замыкали движение несколько тысяч человек лагерной прислуги.
Вопреки ожиданиям, охраны отступавшие не получили. Обещанные провиант и топливо им тоже не доставили.
Через день афганские отряды уничтожили арьергард, а вьючных животных угнали. Они захватили также две горные и две лафетные пушки.
Следующий рассвет застал колонну британцев перед узким устьем ущелья Хурд-Кабул. Длина его составляла около пяти километров, и на всем протяжении англичан непрерывно обстреливали с окружающих высот. Как волки за изнемогающим стадом, за колонной неотступно следовали отряды афганцев: они добивали раненых и обмороженных. Потери, включая большую часть женщин и детей, составили около трех тысяч.
11 января в Джагдалакском ущелье отряд атаковали с тыла. Солдаты отважно сражались, невзирая на беспрестанный и меткий огонь расположившихся на склонах афганцев. Ни раненых, ни убитых толком не считали. По завершении побоища жалкие остатки армии разделились на две группы. Первая — пятнадцать кавалеристов — поставила целью достичь Джелалабада, чтобы вернуться оттуда с долгожданной помощью. Вторая, которую составили двадцать офицеров и сорок пять солдат, захватила селение Гандамак, разумно рассчитывая продержаться в нем до получения подмоги: от Джелалабада их отделяло всего тридцать миль.
Еще через день в бою под Гандамаком были уничтожены последние крохи того, что прежде составляло британскую армию.
До Джелалабада добрался только раненый доктор Брайдон — последний и единственный из пятнадцати поскакавших за помощью кавалеристов.
И вообще последний и единственный.
Почти сорок лет спустя его возвращение стало сюжетом для картины художницы леди Батлер «Остатки армии». Выполненное маслом в серо-коричневых тонах, полотно хранится в лондонской галерее «Тейт».
Холст являет зрителю явно изнемогающего человека, сидящего на такой же измученной лошади. Голова оставшегося в живых закинута назад, он едва не падает и, похоже, вот-вот потеряет сознание. Упрямо и жалко переступая копытами по песку, камням и клочьям жесткой колючки, по-собачьи высунув черный от жажды язык, лошадь из последних сил бредет по пустынной, обрамленной невысокими горами местности.
Но кажется, что она шагает не по земле — пусть дикой, пусть уродливой и страшной, — а по зыбкому краю какого-то ужасающего вихря, зашвырнувшего ее далеко-далеко от того места, где она имела неосторожность к нему приблизиться; по самой кромке какого-то дикого водоворота, который вот-вот слизнет ее, как слизнул всех прочих: закружит — и поглотит в непроглядной черной глубине.
На самом деле доктор Брайдон прискакал в Джелалабад на пони, которого ему отдал умирающий сослуживец. Доктор и сам тяжко страдал от рубленой раны черепа, нанесенной афганской саблей. Однако, чтобы как-то остановить кровотечение и не допустить переохлаждения раны, догадался набить свою шляпу изорванными в клочья страницами «Blackwood’s Edinburgh Magazine» — английского ежемесячного журнала, сыгравшего значительную роль в развитии литературы Великобритании в эпоху романтизма...
Что касается пони, то он был ранен в пах и, довезя доктора до города, пал мертвым прямо на улице.
Блеск, который увидел Розочкин при истечении последней секунды той мнившейся ему благости, что еще осеняла затерянную в горах долину, был отражением солнечного луча от голого металла видавшей виды патронной коробки, некстати передвинутой вторым номером пулеметного расчета.
Его нервное движение раскрыло засаду. И пусть это случилось на самом исходе последней секунды тишины и покоя (ибо уже следующая секунда превратила благостную долину в ад, а засада раскрылась сама собой, как раскрывается простое и действенное устройство мышеловки, когда она прищелкивает несчастную мышь), но, как бы удачно ни сложилось дело в целом, позже, когда обстоятельства позволили бы обратиться к вопросам дисциплины, совершенно напрасное и ошибочное действие второго номера не могло не повести за собой взыскания: Саид Пашколь требовал от своих солдат максимальной собранности, тем более в последние секунды перед атакой.
Его самого наставляли в учебном лагере близ границы с Пакистаном. Инструкторов хватало, был и начальник курсов, и серьезные люди, отвечавшие за безопасность. Но самым большим авторитетом у курсантов пользовался некий майор Даврани. Он появлялся далеко не каждый день и вел себя почти как посторонний — если не считать того, с каким почтением (а то и скрытой боязнью) обращались к нему различные начальники. Коротко говоря, увидев его, всякий бы понял, что этот высокий костистый человек если не руководит здесь всем вообще, то как минимум в соответствии со своим положением стоит чуть в стороне, внимательно наблюдая, как идет дело, чтобы при необходимости вмешаться и вернуть ему, делу, нужное направление.
Он просил называть себя майором. Однако поскольку всегда ходил в форме без погон, Саид Пашколь не знал, где и в каком звании он служит на самом деле. Почему-то ему казалось, что в большем.
Иногда после полевых учений майор Даврани расхаживал перед их строем. Саид полагал, что он хочет на только что практически изученных примерах растолковать курсантам стратегию войны.
Однако дело обстояло не совсем так.
Майор не говорил им этого, но сам с сожалением понимал, что стратегия этой войны (которая не вчера началась и не завтра придет к своему завершению), как ни мечи бисер, останется совершенно недоступной для всех этих простых парней — бывших пахарей и будущих полевых командиров.
Он расхаживал перед ними, присматриваясь и иногда недовольно хмыкая в черные усы.
Радовало, конечно, что к оружию они привыкли с детства. Как сингх немыслим без трех стальных предметов — гребенки, короткого меча и браслета, так пуштуна нельзя вообразить без ружья: мужчина без винтовки — не мужчина. Вчера каждый из них носил «лиэнфилд», принадлежавший некогда убитому или умершему от болезней «томми» (попадались еще времен первой англо-афганской войны: эти заряжались с дула едва ли не фунтом пороха и палили гранеными пулями). Ныне, кому повезло, взялся за АКМ китайского производства.
В этом, несомненно, состоял прогресс: одно поколение оружия сменилось другим.
Однако если говорить о стратегии, понимая под ней военную операцию как высшее проявление политической мысли, то с тех давних войн, когда афганские племена громили в ущельях английские батальоны, в их головах ничего не изменилось. В сущности, его курсанты — потомки тех инсургентов, что с волчьей злобой, хищностью, упрямством и изобретательностью рассеивали когда-то английские армии, — унаследовали крепкие боевые навыки своих предков.
Ясно представлялось, что пытаться внедрить в их простые крестьянские головы стратегию новой войны — дело безнадежное, с самого начала обреченное на провал.
Если бы он рассказал этим пахарям, что для победы им в первую очередь требуется принципиальное обновление материально-технической базы, то есть поставка совсем новых видов вооружения, появление которых в руках моджахедов будет для шурави неожиданным и неприятным сюрпризом, они лишь недоуменно переглянутся. Если он сообщит, что, дескать, стратегию войны на нынешнем этапе должно составлять решение именно этой задачи, неграмотные бедолаги искренне пригорюнятся: ну и впрямь, чем бы они могли помочь? Редкая птица из них долетала хотя бы до Кабула... а уж о тех дальних, сказочно богатых странах, где только и водится взыскуемое, они если и слышали, то наверняка так же, как слушают дети бабушкины сказки: жил да был не то в Америке, не то в Англии один добрый падишах...
Если бы он стал толковать насчет того, что тяжелое вооружение шурави в целом гораздо эффективней того, каким располагают ныне они сами, то его речи лишь навели бы на души будущих бойцов и командиров темную пелену уныния: при описанном положении им остается только помирать, пусть и с честью. Сердце каждого воина кипит радостью, когда он слышит слова, приписываемые красавице Малалай: «Если не погибнешь ты в Майванде, клянусь, позор не минует тебя, любимый!» [2] . Все так, Майванд Майвандом, но ведь для успешного завершения очередной войны им не гибнуть надо, а оставаться в живых, чтобы громить и устрашать врага дальше, пока он не покинет территорию страны.
Да и вообще, размышлять о стратегии, задумывать операции, изучать военную науку, чтобы не совершать роковых ошибок, приводящих к гибели сотен, тысяч или даже десятков тысяч, — дело вовсе не простого солдата.
Но почва их душ уже была обильна увлажнена страданиями и ждала, чтобы в нее упали зерна его слов.
Поэтому он, в очередной раз вздохнув и оставив стратегию в стороне, возвращался к разбору тех военных хитростей, что приходят на ум и используются уже в ходе самой конкретной операции или кампании.
— Вы должны беспрестанно пытаться встать на место своего врага, — несколько угрюмо говорил майор Даврани, посматривая то на правый, то на левый фланг строя. — Учитесь смотреть на позицию его глазами. Когда это вам удастся, легко будет придумать то, что отвлечет внимание противника от ваших истинных намерений.
Завершив фразу, он встряхивал иссиня-черной шевелюрой и наклонял голову, глядя на них исполобья, как будто не до конца им доверяя и желая убедиться, что они понимают его правильно.
— Что позволило шурави взять штурмом дворец Тадж-бек, потратив на все дело меньше часа? — Майор оглядывал строй, словно ожидая, что кто-нибудь продолжит вместо него. Все молчали. — Цитадель, которую охраняли многократно превышающие силы самых лучших солдат и офицеров? Которая благодаря этому считалась неприступной?
Поскольку никто не брался за развитие и окончание рассказа об упомянутой стратегеме, он продолжал сам:
— Во-первых, батальон шурави тоже делал вид, что охраняет дворец. А раз так, афганцы видели в советских солдатах братьев по оружию. Во-вторых, на протяжении нескольких дней и ночей их бронемашины непрестанно ревели — то прогревали двигатели, то занимались боевой подготовкой. Этот рев стал всем привычен. Никого не удивлял. Не вызывал подозрений. На него не обращали внимания, никто не видел в нем признак надвигающейся опасности. Поэтому когда машины шурави пошли на штурм, гвардейцы слишком поздно поняли их истинные намерения...
Майор приводил и другие примеры, извлекая их из памяти или пролистывая потрепанную, в бумажной обложке и на простой бумаге книжечку Секста Юлия Фронтина, прижившуюся в его скарбе еще с тех времен, когда он учился в Кабульском военном университете. Напечатанная где-то за морями, она продавалась в местном киоске; по ней, кстати, он начинал учить английский, так что, если смотреть в корень, именно растрепанная ныне книжица привела его когда-то на скамьи Британского армейского штабного колледжа в Кемберли.
Саид Пашколь не знал, что те военные хитрости, о которых толкует майор Даврани, называются стратегемами, но их дух был знаком ему с детства, ничего неожиданного он не слышал, высокая военная наука вставала перед ним как что-то знакомое, привычное и родное.
Он и сам использовал все это, когда продумывал собственные операции. Так, засаду под Хазаратом подсказала в первую очередь логика поведения самих шурави: источники в афганских частях передавали, что батальон усиленно обкатывают, но в данное время он еще совсем сырой, необстрелянный: несколько раз выходил в районы, где не встречал сопротивления. Командование батальона в известной степени привыкло к такому положению вещей, но, понимая, что ситуация довольно искусственная, пытается вести себя так, будто находится в реальности, то есть строжит личный состав и заботится о его безопасности. Однако из-за отсутствия действительного боевого опыта совершает массу ошибок, что в конце концов и делает подразделение весьма уязвимым.
Готовя отряд, Саид Пашколь, сам того не зная, прибегал к тем самым стратегемам, что жили в полевой сумке майора Даврани, в затрепанной книжице, принадлежавшей перу Секста Юлия Фронтина.
Все, оказывается, уже описано. Например, ремень его автомата решил сыграть с ним злую шутку перед самым началом операции. Но Саид Пашколь сумел вывернуть случай наизнанку — и вместо задуманного судьбой поражения одержал пусть маленькую, но очень важную победу.
Дело было так. Поздней ночью грузовичок, едва переваливаясь по камням, довез их до последнего кишлака. Парни Саида Пашколя — все одиннадцать человек — выгружали оружие. Сам он проговаривал последние наставления водителю: что бы ни случилось, ждать их на месте. Закончив, стал выбираться из кабины — и, как на грех, застрял: ремень автомата попал в проем между сиденьями, зацепился за что-то, а может и запутался в рычагах. Шаря в попытках высвободиться, он уже видел, как смотрят на его судороги бойцы. Дурной знак: ведь на дело идти, а командир застрял! Лица темнели, в глазах тень смятения: кому, правда, охота начинать операцию с черных примет?
Саид Пашколь не знал, но ведь и Сципион, переправив войско из Италии на африканский берег, поскользнулся, сходя с корабля, и, заметив, что солдаты напуганы этим, тут же обратил источник их страха в источник бодрости, заявив: «Приветствуйте, воины, я придавил Африку!»
И солдаты фиванца Эпаминонда встревожились, когда ветер, сорвав украшение с копья военачальника, отнес его на гробницу какого-то лакедемонянина. К счастью, Эпаминонд нашелся и крикнул: «Видите, уже и гробницы врага украшаются для похорон!»
Саид Пашколь тоже нашелся и сказал, смеясь:
— Нет, ну каково? Машина даже не хотела отпускать меня — знает, что все равно мы скоро вернемся с победой!..
А его придумка насчет мешковины? Она оказалась настолько эффективной, что могла бы занять в книге Фронтина место рядом с консулом Эмилием Павлом или скифской царицей Томирис. Или, например, на одной странице с египтянами: те, готовясь к бою на полях, прилегавших к болотам, покрыли болота травой и ветками: когда началось сражение, они притворились, будто убегают, и завлекли неприятеля в топь.
Кстати говоря, завлечение он тоже предусмотрел: два бойца болтались в кишлаке прямо на глазах шурави до тех пор, пока эти болваны наконец-то их заметили.
Но такого рода сладости-конфетки, до поры до времени скрывающие истинную горечь, дело обычное, всем известное. А вот мешковиной Саид Пашколь по-настоящему гордился.
Прежде они использовали только естественные складки местности — пригорки, камни, рвы, перетекающие друг в друга ущельица, каких в горах всегда хватает. А он приказал, подготовив пулеметные гнезда, покрыть их мешковиной. Рыхлая, серо-коричневая, грубая, точь-в-точь как бугристый песчаник, она настолько сливалась с камнями, что почти исчезла из виду, пряча под собой глазастых и настороженных бойцов. Именно благодаря мешковине они, не опасаясь быть обнаруженными, позволили идущей к собственной гибели роте не только полностью выбраться из узкого каньона, но и распределиться по всему пространству долины. И даже дали время, чтобы шурави окончательно расслабились.
Вот только в последнюю секунду второй номер ДШК зачем-то передвинул патронную коробку.
Коробка блеснула, но никакой блеск уже не мог испортить дела.
Саид Пашколь был наготове: ждал, чувствуя, как трепещет его приученное, казалось бы, ко всем страстям войны, а на самом деле слабое, вечно желающее победы, радости и свободы сердце.
Он дрожал.
То есть что значит — дрожал? Дрожал живший в нем мальчик. Да, мальчик дрожал — волновался, трепетал, как будто то, что должно было сейчас случиться, произойдет в первый раз. Как будто не знал еще о судьбе братьев. Как будто не хоронил отца. Как будто его сердце еще не покрылось жесткой скорлупой обиды, холодной ненависти, презрения и горечи.
В это самое последнее мгновение Саид, глядя в затылок бойца и одновременно не выпуская из поля зрения всю долину, не отдавая себе в этом отчета, по-мальчишески жадно хотел почувствовать себя и пулеметчиком, и одновременно самим пулеметом. Мальчишке удавалось это сделать: вот сейчас он еще крепче обхватит собственные рукояти своими же собственными руками и нажмет на крючки фигурного рычага!
Все, что произойдет потом, он тоже предощущал — как если бы сам готовился совершить сложное упражнение, плавный и стремительный танец которого вовлечет не только руки и ноги, не только все до единой кости и мышцы так сложно устроенного и такого послушного тела, но и каждую клеточку мозга, в сумме которых грядущее движение заранее расчислено и предопределено.
Слушаясь напряженных пальцев, фигурный рычаг толкнет спусковой, головка утопит шептало и освободит затворную раму; под действием амортизаторов и возвратно-боевой пружины рама повернет рычаг-подаватель, продвинув вперед до упора ударник и толкнув газовый поршень.
Патрон с пулей, скользнув по пульному скату, провалится в широкую часть пульного окна и окончательно дошлется в патронник.
Затвор ударит передними заплечиками по боковым выступам внутри ствольной коробки и приведет в движение ударник.
Ударник коснется бойка.
Тот клюнет острым носиком оранжевый кругляшок капсюля — и ударный состав взорвется, чтобы через затравочные отверстия в дне гильзы воспламенить пороховой заряд...
Выстрел!
Тяжелая пуля, выцелившая добычу, еще будет набирать ход, а пороховые газы уже устремятся в свою камору, чтобы задать поршню импульс отдачи.
Газовый поршень метнется назад, отбросит затворную раму в крайнее положение, затворная рама тоже вернется на свое место.
Выбрасыватель выхватит гильзу из патронника, и она вылетит через окно рамы и коробки.
Затворная рама ударит в амортизаторы, сожмет пружины, на мгновение остановится, а потом с нарастающей скоростью устремится вперед, чтобы повторить все с самого начала...
Выстрел!
Выстрел!
Выстрел!
Череда выстрелов, слившаяся в непрестанный грохот!..
Переводя дух, Саид Пашколь стоял у смолкшего пулемета.
Мальчишеская дрожь стихла, оставив по себе легкую слабость и сладкое ощущение удачи.
У него самого потерь не было, если не считать нелепую смерть второго номера одного из расчетов.
Так всегда. Коли человек не вовремя берется за патронную коробку и пускает зайчиков, раскрывая засаду, то даже если в этот раз все обойдется, все равно жди какого-нибудь дурного продолжения.
Несомненно, он заслуживал дисциплинарного взыскания. Однако теперь о взысканиях не могло быть и речи: второй номер лежал в стороне с широко разъятой черной пастью, каким на взгляд стороннего представало его перерезанное горло. С покойника не взыщешь. Из пасти горла уже даже не сочилась кровь, в первое мгновение так пылко хлынувшая наружу. Зачем он наклонился? Что хотел несчастный второй номер рассмотреть в мертвом лице советского сержанта? Вопреки ожиданиям, сержант оказался жив. И доказал это мгновенным и точным рывком десантного ножа.
Что сказать? Боец — глупец, сержант отважен — последнее деяние его жизни, как ни крути, оказалось храбрым и доблестным.
Саид оторвал взгляд от лежащих бок о бок мертвецов.
Взвинченные успехом и нелепой смертью товарища, моджахеды с визгом и воем, орудуя тесаками и прикладами, терзали и калечили вражеские тела.
Саиду не хотелось участвовать в том, что они делали. Да он и не смог бы, не уронив при этом своего достоинства: он командир.
Однако и останавливать их было не время. Через десять минут они успокоятся сами. Еще через пять он даст команду на отход.
Скомканная мешковина валялась возле остывающих пулеметов...
Возможно, они отрежут кому-то голову. Может быть, многим.
Наверное, если бы он тоже читал книгу Секста Юлия Фронтина, его туманная, не сформировавшаяся до конца мысль насчет того, что жестокость войны диктуется самой войной, не только стала бы отчетливой, но и нашла бы неоспоримые подтверждения.
Жестокость войны вечна. Так было. И так будет. Головы? — подумаешь. Чтобы сломить упорство и самоуверенность осажденным в Пренесте, Луций Сулла показывал им головы вождей. Арминий, предводитель германцев, тоже велел насадить на копья и поднести к неприятельскому валу головы убитых... А Домиций Корбулон, осаждая Тигранокерт, казнил Ваданда и, чтобы ужаснуть неприятеля, велел баллистой запулить свежую черепушку внутрь укреплений...
Неведомый Саиду Пашколю Секст Юлий Фронтин, сотканный из жаркого дымного воздуха, трепещущего над забрызганными кровью камнями, усмехался: а ты как думал?
Щурясь, Саид поднес ладонь ко лбу и еще раз оглядел котловину.
— Отходим! — приказал он.
Через десять минут бойцы небольшого отряда растворились в ущелье, унося с собой еще не остывшее железо.
sub Котловина /sub sub/
Много позже Артем обнаружил, что о тех двух днях помнит больше, чем мог бы видеть, даже если бы обрел способность находиться сразу всюду. Бессчетные обстоятельства произошедшего рисовались перед ним призрачными, часто бесцветными, но совершенно ясными картинами.
При этом память обходилась с ними иначе, чем со всем прочим своим имуществом: будто это был особый архив, что-то вроде закрытого гэбэшного спецхрана, куда доступ если и возможен, то лишь по очень особому разрешению, подтвержденному бумагой с синими печатями.
Будь его воля, он и вовсе закрыл бы двери этого мрачного заведения, навесил замки, забил косой доской — не знать, не помнить, забыть, пусть заживет, затянется: когда-нибудь проведешь ладонью по культе, а ничего нет — будто и не было.
Забыть не получалось. Спасибо и на том, что не всегда помнил, не каждую минуту.
При этом (если развивать сравнение с хранилищем), архивная документация была хоть и изобильна, но не вполне однозначна. Многое в ней существовало в качестве предположений, но лично ему эти предположения представлялись несомненными фактами.
Казалось, случившееся расслаивает сознание, населяя каждый отдельный пласт мыслями и чувствами других людей — тех именно, чьи тела (и части тел) они выносили из котловины, где погибла рота капитана Розочкина.
Надо полагать, что, поджидая роту, три пулемета (один из них крупнокалиберный ДШК) заняли к рассвету самые выгодные в тактическом отношении позиции: два — на склоне одной высоты, третий — на вершине соседней, для перекрестного огня. Стреляные гильзы весело и даже празднично блестели на солнце: уже никому не нужные, никчемные, они нисколько не тяготились своей бесполезностью.
Сержант Просяков рассказал, что в кишлаке они видели двух духов. Духи ускользнули, Розочкин решил двинуть дальше, чтобы, вероятно, в конце концов настичь беглецов.
Но почему рота не обнаружила засаду? Почему так беззаботно растеклась по цветущей долине — будто на прогулке?
Этому было только одно объяснение: противник принял все меры, чтобы тщательно замаскировать позиции.
Нашлось и подтверждение — несколько брошенных душманами кусков мешковины. Наверное, накрывшись коричнево-желтой мешковиной, человек совершенно сливался с бурыми тонами осыпных склонов. И даже на зеленом холме выглядел всего лишь куском скалы, камнем, не вполне обросшим травой.
Случившееся представлялось так ясно, что временами ему казалось, будто он сам был там, под пулеметами. Картина уничтожения вставала целиком, увиденная не одной, а, пожалуй, парой десятков глаз; более того, несколько из этих пар принадлежали не гибнущим товарищам, а врагу — тем людям, что смотрели сверху в прицелы.
Он не только видел, с какими удивленными лицами валились наземь первые, но и сам был и одним, и другим, и третьим из них — размноженный взгляд, перед тем как погаснуть, в последнее мгновение жизни останавливался то на отдельном камушке в галечной россыпи, то на нескольких травинках, то на крапчатой поверхности сухого булыжника.
Вместе с другими он падал, надеясь найти укрытие за отдельными валунами и в мелких, по колено, щебенистых овражках, сбегавших к руслу реки.
И он же, глядя сверху, азартно понимал, что их попытки укрыться совершенно напрасны.
Казалось, это прямо у него на глазах сарбазы, поначалу искавшие укрытия наравне с советскими, дружно поднялись на ноги и, кидая автоматы и поднимая руки, с разноголосым воем кинулись к зарослям, к дальнему краю долины, где она снова обращалась в узкое ущелье... но на полпути их настигли пулеметные очереди, и все они остались лежать между валунов.
Так ли было? Скорее всего.
Но, с другой стороны, почему, например, капитан Розочкин с первой секунды боя повел себя так, будто не видел иного выхода, кроме как оказаться убитым, хотя не мог еще знать точно, что никакой иной возможности действительно не существует не только для него, но и для всех его бойцов?
Он открыто и яростно метался между залегшими, однако пули облетали его, как облетали бы раздраженные осы. Пули бились возле ног капитана, разрывались, обжигали вспышками, рвали одежду. Пуль было много, очень много: кому-нибудь даже могло показаться, будто он видит, как они густым роем летят на встречу с капитаном. Но удивительным и совершенно невероятным образом ни одна из них его не задевала, и, мгновенно упав за камень, чтобы уберечься от самых настырных, он снова вскакивал — как будто для того, чтобы предоставить пулям новые, еще более плодотворные возможности для встречи с собой.
Почему он оставался невредим, хоть успел расстрелять три рожка и кинуть три гранаты, одна из которых на несколько минут прервала работу пулемета?
И почему, когда Розочкин, явно уже вышедший за рамки нормальных отношений между людьми и пулями, увидел поднимающих руки афганцев и крикнул своим бойцам: «Стреляйте в них! Бейте предателей!», и один из союзников, еще не бросивший оружия, обернулся и с ходу, неприцельно, наотмашь, будто для очистки совести, для галки в ведомости ударил в него длинной очередью, — то почему же, почему вся она, такая случайная и нелепая, не прошла мимо?
Розочкина швырнуло на спину, он несколько секунд тянул шею и ежился, а потом замер, сжав кулаки на груди, отмеченной строчкой семи пулевых отверстий, и возмущенно глядя в светлеющее небо.
Можно ли объяснить его действия в последние минуты тем, что капитан осознал страшную, роковую ошибку, приведшую к бесполезной гибели его роты? А осознав, внутренне вычеркнул себя из списка живых, вывел за скобки, тем более что, случись так, повези ему несказанно, неслыханно, останься он и в самом деле жив посреди черной бойни, судьба его, такая счастливая, вряд ли продлилась бы более месяца или двух, покуда не был бы приведен в исполнение приговор военного трибунала?..
Или все не так, все выдумки и глупости, а капитан и в шаге от гибели продолжал жить в мире ненастоящей смерти?
Ужасно, ужасно все путалось в голове, когда Артем думал об этом.
Поэтому старался не думать: пусть лежит в спецхране. Иначе с ума сойдешь.
Конечно же, он не видел, как погиб капитан Розочкин. Просто еще накануне знал подробности его смерти: сержант Просяков вкратце рассказал, едва шевеля белыми губами, и его слова мгновенно облетели тех, кто готовился идти в проклятую котловину.
Трупы пролежали всего лишь день, ночь и еще полдня, но лютая дневная жара сделала свое дело.
Котловина полнилась дрожащим маревом тления. Перед тем как волочь по камням каньона, чтобы в конце концов погрузить на БМП, солдаты, чтобы немного сбить запах, поливали тела соляркой. Солярку носили канистрами от машин... через каньон, по воде... тяжелые горячие канистры солярки.
Сон?
Не сон?
Нет, все происходит на самом деле — но так же медленно, как это бывает во сне.
Медленно ползали цветастые жуки по кускам плоти, медленно взмывали стаи изумрудных мух. Сам воздух — густой, полупрозрачный, вроде подтаявшего говяжьего холодца — не предполагал ни быстрого полета, ни мгновенного движения. Солдаты зачарованно бродили от одного трупа к другому — будто сдавленные чем-то, будто шагая по дну зеленоватого моря, вся неизмеримая толща которого пригибала их к окровавленной земле...
Почти все убитые были порублены очередями крупнокалиберных пуль.
Лица большинства обезображены и залиты кровью. Поначалу думалось, что это случайность. Но нет, не случайность: кто-то специально трудился над мертвыми, орудуя, должно быть, прикладами и тесаками.
Если не удавалось опознать, Алымов медленно вскидывал круглые, как у лемура, глаза, беззвучно шевелил губами... Лицо у самого Алымова было как у мертвеца — желто-зеленое, в цвет травы.
Помогал выпростать руку мертвеца из одежды.
Обнажалось предплечье.
Взгляд на синюю наколку позволял (тоже медленно, постепенно, не вдруг) вспомнить: самурайская плетенка — это... это Хайруллаев из второй группы... Буддийская пагода... Матросов!..
То порознь, то вместе, почти обнявшись...
Леопард с кинжалом в зубах... Каргалец!..
И Шура Грибов — сначала ему дали кличку Гриб, потом переделали на Тельца, а когда Артем нарисовал преклонившего колено рыцаря-шлемоносца и у Грибова появилась соответствующая рисунку татуировка, его почему-то прозвали Тузом.
Рассуждали насчет того, как ловко капитан Розочкин палит с двух рук. Грибов высказал мнение: дело не трудное, можно насобачиться. «Сможет он! С одного-то хоть попади!..» — «Да и попаду!..» — «Слышь, Гриб, а ты кто по знаку зодиака?» — «Чего?!» — «Что пристал, Гриб в знаках не рубит!» — «Родился когда?» — «Ну, пятнадцатого мая...» — «Так ты телец! Из тельца какой стрелок? Был бы ты стрелец, другое дело! А телок — он и есть телок!» — «Сам ты телок! Рюха ты, блин, некрашеная!..» — «Да ладно вам, какая, хрен, разница! Не горюй, Гриб! Телец, стрелец — все равно капец!..»
Георгий Победоносец... Георгий Победоносец — это Дербянин.
Возвращались со стрельбища, машину убаюкивающе покачивало... Должно быть, задремал — и вздрогнул, когда грянуло в самое ухо: «Дракон!» Вскинулся, успев вспышкой увидеть ало-фиолетовое, переливчатое тулово и пасть в сиянии пламени. «Дракона, говорю, можешь? — зычно повторил Дербянин. — Я дракона хочу!» — «Что ты орешь?.. Отстань!» — «Опять — отстань! Всегда — отстань! Обидно, Вань!» — прогнусил сидевший напротив Алымов. «Всем рисовал, а мне не хочешь?» Артем уже прочухался, проснулся. «Почему дракона?» — «Красиво! — ответил Дербянин и показал, растопырив пальцы: — Дракон!» — «С гребнем?» — невинно поинтересовался Алымов. «Ну а как же! — удивился простодушный Дербянин. — Конечно с гребнем». — «Стало быть, тот же петух, только гребень во всю спину». — «Сам ты петух!» Алымов ощерил в ухмылке железный зуб. «Я-то не петух. Мне брат говорил...» — «Задолбал ты своим братом!»— кипел Дербянин. «Давай лучше Георгия Победоносца нарисую, он дракона копьем гасит». — «Давай!» — «А сепсиса не боишься?» — «Что ему сепсис, если за речку! — встрял Каргалец. — Нарисуй, Артем! Красивый поедет, с татуировочкой!..»
Розочкин лежал на спине. Глаза широко открыты, лицо не тронуто — то ли из уважения к капитанским звездочкам душманы пощадили, то ли еще почему...
Лейтенант Брячихин вывернулся всем телом влево: как будто полз, а потом решил вскочить и кинуться куда-то — да так и замер, поворотившись напоследок к небу. Всегда взволнованное, всегда со следами юношеской краски, розовое, мальчишеское лицо лейтенанта Брячихина выглядело теперь взрослым, значительным, знающим. Напрасно они посмеивались за его спиной: не было в Брячихине ничего ни смешного, ни жалкого. Просто слишком много случайного отражалось прежде на лице лейтенанта, а теперь, после смерти, оно обрело свое истинное выражение.
Алымов сидел на камне... сполз... Артем присел возле... открутил крышку фляги... Алымова снова вырвало... Потом Артем отправил их с Прямчуковым за соляркой... Прямчуков взял пустую канистру, Алымов поплелся следом...
Все это было совершенно невозможно, но все-таки было, и сам он, попавший между молотом «было» и наковальней «невозможно», чувствовал себя уничтоженным и неживым.
За несколькими валунами, образовавшими естественное укрытие, кучно лежало шесть трупов — должно быть, разбросанные тем самым взрывом, что оставил воронку между ними.
Ему представилось, как погибли эти шестеро из группы лейтенанта Грошева. Каждая группа таскала с собой тяжелую противопехотную мину ОЗМ-72 — чтобы, по идее, использовать для подрыва самых серьезных препятствий.
Они оказались рядом. Может быть, все уже раненые... и стало понятно, что выхода нет. Успели взяться за руки... бах!..
Кому здесь сказать: «Встань и иди»?
Если бы даже каждый из них был Христос... да ведь Христа не рубили, не рвали на куски взрывчаткой и пулеметными очередями!..
Скрежетнуло железо по камню — это Прямчуков поставил наземь полную канистру. Подошел, встал за спиной Артема.
— Бог ты мой, — бесцветно сказал он.
Подошел и Алымов... остановился чуть поодаль — шагах в трех.
Они молчали.
— Давай, — через силу сказал Артем. — Слышишь? Давай канистру!..
Но вместо того чтобы взяться за дело, Алымов вдруг рассмеялся и заговорил бодрым, звонким голосом, прежним, будто ничего и не произошло:
— Сейчас, командир! Ничо, ничо, слышь! Я сейчас, я только поквитаюсь! Я быстро!..
Повернулся и, на ходу передернув затвор автомата, двинулся к зарослям, перед которыми лежали трупы афганских солдат, — быстрым шагом, почти бегом, не замечая, как обычно, камней под ногами, а потому часто спотыкаясь и в целом с видом человека, одержимого какой-то чрезвычайно важной идеей, реализация которой не может терпеть отлагательств.
— Стой! — крикнул Артем. — Ты куда?!
Услышав за собой топот, Алымов обернулся и предупреждающее повел стволом: дескать: не мешайте, я сам!
— С ума сошел! — заорал Артем. — Стой, сказал!
Сзади тоже орали: должно быть, все, кто заметил их неожиданный рывок в сторону зарослей.
Алымов наддал, припустив в полную силу (и силы-то эти у него откуда взялись? только что едва ноги волочил), — бежал быстро и дробно, как конь, изредка улучая мгновение, чтобы обернуться и снова по-дружески пригрозить стволом: не мешайте, дескать, по-хорошему прошу: я сейчас сам все сделаю и вернусь!..
Метрах в сорока от кустов, обернувшись напоследок, он запнулся и полетел на камни, гремя железом и кувыркаясь.
Успел встать на четвереньки — но тут на него обрушился Артем.
Алымов бешено извивался, вырываясь и хрипя.
— Пусти, сука!.. Все равно!.. Все равно поквитаюсь!.. Ты чо, пусти!.. — сквозь стиснутые зубы. Слюна пузырилась в углах губ, то и дело взблескивала стальная фикса.
Изловчившись, Артем отвесил ему одну за другой две мощные плюхи.
И отпустил.
— Сдурел?!
Алымов сел, удивленно мотая головой и опуская ее все ниже.
Закрыл глаза ладонями и завыл.
— Да ладно, — тяжело дыша, сказал Артем. — Успокойся!
Алымов привалился к его плечу, обхватил руками, ткнулся лицом в ворот.
Зной медленно плыл по котловине. Бурые камни дрожали.
Алымов рыдал. Слезы обжигали шею.
Артем гладил его по спине и одновременно держал, не пуская, потому что время от времени Алымов снова начинал вскрикивать и рваться.
— Ладно тебе... перестань!
Чувствовал его тепло, жар слез — и вдруг вспомнил старое, больничное. На одно лишь краткое мгновение — но так отчетливо, будто случилось только что.
— Ладно, ладно, — повторил он, зажмуриваясь, чтобы не видеть света. — Ладно тебе, хватит!
На смерть друга
Рецептер Владимир Эммануилович родился в 1935 году. Поэт, прозаик, пушкинист. С 1992 года художественный руководитель Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге. Автор многих книг стихов и прозы. Постоянный автор “Нового мира”.
Памяти Станислава Рассадина
I
Грубой ниткой заштопан твой лоб,
заморожено грешное тело.
И мертвецкий пиджак ты огрёб
против воли, судьба принадела.
Нет, конечно же, это — не ты,
старший брат и ровесник, и пастырь,
что с усмешкой смотрел на бинты
и на боль, и на кровь, и на пластырь.
Оболочка. Останки. Футляр
благородной души справедливой,
нам отдавшей пронзительный дар,
образ времени, горько правдивый.
В ожиданье большого огня,
крематорской подверженный смете,
ты по-прежнему выше меня,
и себя, и болезни, и смерти…
II
Прощай другим и не прощай себе.
На том стоим,
архангельской трубе
вверяя слух оставшийся и голос.
Без этой дружбы время раскололось,
отпали смыслы прежние, отпал
страх поражений, бедствий и опал.
Успев простить, ты все успел на свете.
Не холодна вода в холодной Лете,
а горький сон Вергилий составлял,
найдя черновики своих начал.
Огнем гори теперь, литература, —
шутиха, пьянь, завистница и дура
в чужом пиру, — мой друг тебя простил,
повысив свет действительных светил.
Благодарю за то, что я годами
шел за тобой, читая вещий знак.
Прости нас всех и оставайся с нами,
как друг, как брат…
Как спутник…
Как вожак…
III
Как же стерпеть эти черные дроги
до крематория в пробках дороги,
под равнодушный шумок площадей...
Как пережить этот год високосный,
подло расчисленный, словно допросный...
Пей и не жалуйся... Или запей…
Эй, календарь!.. Перепрыгивай даты!..
Руки выкручивает, треклятый,
на одиночество жертвуя чек…
Только денек февраля никчемушный
вынут из года, а сборщик подушный
хочет из времени вырезать век…
IV
Все эти дни меня трясло,
срывался по любой причине.
Рифмующее ремесло,
как мент, пытало о кончине
ближайшего из всех друзей.
Нет и не быть тебе замены.
Квартира чахнет, как музей.
Отчуждены диван и стены.
Библиотека сиротой
глядит во след убывшей плоти.
С неслыханною частотой
машинка просит о работе.
Но тщетно ей и тошно мне,
одноязыким патриотам;
в междугородней тишине
нет места строкам и отчетам.
Прости, безбожник дорогой,
напраслину моих молений.
Ты мог оставшейся ногой
ступить на храмовы ступени.
Ты мог приходский свой доход
поднять однажды щедрой данью,
но предпочел иной исход
раскаянью и покаянью.
Оставив дружбу и жилье,
ты оборвал любые речи
затем, чтоб претерпеть свое
во имя бесконечной встречи
с единственной…
V
Случилось так, что ты себе накаркал.
Упрямец, не послушался меня.
На високосный год, на первый кв а ртал
нам назначалась эта западня.
Так выпало, что реаниматолог
тебя в твою палату не пустил,
отдал хирургу, и наркозный полог
отгородил остаток дней и сил.
Ты отошел. А я не мог смириться
и, как живому, все бубнил тебе,
что твой блестящий слог
и взгляд провидца
не по нутру буграм и голытьбе;
что важно из статей составить книги,
одну, вторую, может быть еще.
Но ты молчал, снимая все вериги,
и больше мне не подставлял плечо.
Свыкаются. И радуются мелким
успехам, двери шуткам приоткрыв.
Спешат по новым хитростям и стрелкам,
пытаются пристроить твой архив...
Ты всех простил, прости и мне заботы
работные, беспомощность мою,
пошли мне вслух приветы и остроты.
…На перекрестке, понимая кто ты,
бормочущий и плачущий стою…
VI
Пять лет в заложниках,
лежачий,
самим собой зажат в тиски,
ты ставил высшие задачи,
но задыхался от тоски.
Друзей отодвигала челядь,
ждя часа…
Ты ее простил,
не в силах что сказать,
а сделать
уже, тем более без сил.
Ты ждал полета без оглядки
к той, что давно к себе зовет,
когда меняя распорядки,
ты враз достигнешь всех высот…
VII
Выпить с тобой. И открыться тебе.
И вознестись в долгожданной беседе,
смысл проявляющей в общей судьбе
и побуждающей сердце к победе.
Что-то прочесть. Получить по башке
или поблажку, своих притязаний
не оставляя. И, как о божке,
спорить о Пушкине в действенном плане.
Ты — Стародум, да и я — стародум.
Как же с тобою не стать стародумом?
Времени долго не взяться за ум,
в веке чиновном, чужом и угрюмом.
Встань же с дивана. Возьми костыли.
Едем в Пушгоры. Тебя на колесах
я докачу до святейшей земли,
помня о главных, о русских вопросах.
Сам понимаешь, Тригорское — рай,
там самогонка всех водок кудесней.
Слушай и слушайся. Не помирай.
Неслух упертый…
Вставай и воскресни.
VIII
Измочалит несчастье, измучит,
доконает сознанье греха,
и душа облегченье получит
в ненамеренной строчке стиха.
Крутит память ужасные сцены,
приближается лечащий стыд,
и болезненный опыт бесценный
вскроет смыслы и стон приглушит.
Было легче когда-то и проще,
а беспамятство слыло броней.
Только совесть бинты прополощет.
Лишь поэзия — госпиталь твой.
IX
Я живу в окруженье смертей,
как последний солдатик в траншее.
Мне уже не до прежних затей,
а до крестика, вот он, на шее.
В чем я грешен, простите меня,
все, кто умер вокруг, друг за другом
от прицельной пальбы и огня,
все, кто был моим дружеским кругом.
Вы спасали меня и спасли
своим телом, и прахом, и духом.
Я вам кланяюсь всем до земли.
И земле, чтобы сделалась пухом.
А потом я вырос
Буянов Борис Егорович родился в 1960 году в Воскресенске Московской обл. Окончил факультет журналистики Пражского и Московского университетов. Работал редактором на Гостелерадио СССР. Автор словарей и учебников. Бакалавр социальных наук. В настоящее время – социальный педагог, ведет семинары по переводу на переводческом факультете Лейпцигского университета. Печатался в журнале “Сибирские огни”. В “Новом мире” публикуется впервые. Живет в Лейпциге.
Журнальный вариант.
“Атаманов, Атаманов, ну зачем ты утонул!” C Серегой Атамановым мы учились в первом классе. И дальше бы учились, если бы кто-то из нас не утонул. Получилось так, что утонул он. Я тогда плавать не умел и на речку купаться не ходил. А он умел и ходил: на Москва-реку. На Москва-реке было сильное течение, да еще цемзавод, заводы “Цемгигант” и “Красный строитель” выбрасывали в нее свои отходы. И чужие тоже. И это все после химкомбината, который в этом деле занимал главенствующее место в районе, потому как всегда, везде и по всем статьям был первым. И вредных цехов в нем было видимо-невидимо — больше невидимо, так как в них работали осужденные “на химию” и знать про это никому не полагалось, хотя все знали и об этом говорили, но за пределы района не выносили, потому что кому это за пределами района нужно, скажем, перед оперой или балетом в Большом театре?
Но тогда в Большой театр мы редко ездили — далеко и времени не хватало, помимо того, московские театры поздно заканчивали, и домой, стало быть, не уехать — приходилось оставаться ночевать у тети Шуры или у дяди Толи. Мне больше нравилось у тети Шуры — она была разведенная и жила с дочерью Олей в Кунцеве в коммуналке, у нее всегда был комплект постельного белья для гостей, которого всегда всем хватало, независимо от количества ночующих данной ночью. А дядя Толя был женат и жил в Подлипках, которые на самом деле назывались по-другому, потому что были засекречены, но все все равно знали, как они в действительности назывались и что там производили. Жена его, тетя Тая, умела готовить, в основном, макароны по-флотски, так как работала медсестрой в физиотерапии, а дядя Толя работал полковником в облвоенкомате и разъезжал по военкоматам области, проверяя их потенциальную боевую готовность, иногда заглядывая и к нам. Тогда они с Егор Иванычем распивали чекушку или поллитровку, дядя Толя уезжал, а у Егор Иваныча весь оставшийся день или вечер было отличное настроение, несмотря на то, что был он из староверов, а дядя Толя — братом его жены.
Староверы не могли жениться или выходить замуж за нововеров. В принципе могли, конечно, но только без благословения родителей. Причем жениться было в этом отношении проще, чем выйти замуж. Егор Иваныч женился без проблем — все даже рады были, поскольку стукнуло ему на тот момент уже тридцать три с гаком.
Сначала Егор Иваныч ходил с кобурой, а потом без кобуры, потому что поменял работу. А может быть, неудобно ему с кобурой было ходить — не в смысле стеснительно, а в смысле физически — вот он работу и поменял. А кобура в гардеробе висела, рядом с полевой сумкой. Полевая сумка потому полевая называется, что с ней, наверное, в поля ходят.
Полей в округе было предостаточно — в основном кукурузных. Кукуруза, как правило, не вызревала, скорее всего оттого, что климат ей был не по душе, или оттого, что мы нещадно обрывали початки и созревать ей не доводилось. А потом кукурузу сажать перестали. Тогда мы переключились на семечки — нагрянут к Сиропчику, так дразнили Юрку Сироткина, родственники с Украины с мешками семечек на продажу на железнодорожной станции — подобьешь, бывало, его — вынеси, дескать, семян, — он из мешков потихоньку таскал и во двор выносил, пока украинские родственники не заметили и не надавали ему по шее. Во двор тогда все чего-нибудь выносили — как правило, кусок черного хлеба с подсолнечным маслом и солью или кусок белого с маслом сливочным и сахарным песком, иногда — жареный пирожок, купленный в “домовушке”, домовой кухне, предварительно принесенный домой и только уж потом из дома вынесенный. Выносивших сразу окружали не выносившие с криками: “Дай откусить!”. Тут надо было как можно быстрее проорать “Сорок один — ем один!”, прежде чем кто-то успевал прокричать “Сорок пять — оставлять!”. Во дворе мы играли в ножички, в землерезы, в двенадцать палочек или в войну. Игра в войну сводилась в основном к расстреливанию немцами партизан: самое главное было после расстрела упасть лучше других — не участвовавшие в игре пристально следили за падениями и давали оценку лучшим. Быть партизанами почему-то никому не хотелось, как правило, хотели быть немцами, чтобы смачно произносить: “Ти, рюссишь швайн!” Перед смертью расстреливаемые должны были в обязательном порядке прокричать “Гитлер капут!” Если кто прокричать забывал, то это не считалось и игра переигрывалась.
Особое унижение — вечерний загон домой, поэтому прятались, где только могли. Самым обидным было на вопрос: “А где Колька?” — услышать ответ: “А его уже домой загнали!”. Обидным для Кольки, разумеется. Прятались часто на чердаке — туда вела железная лестница с третьего этажа, вращающаяся вокруг своей оси. На чердаке играли в очко, буру и подкидного — иногда оттуда вылезали на крышу и, держась за чью-нибудь телевизионную антенну, гордо кричали оставшимся во дворе, например, “Эй, вы!”, покатываясь и чуть не падая с крыши, глядя на то, как те, которые “вы”, испуганно озирались по сторонам.
“Знаешь, что такое — линия горизонта?” — спросила Ирина. “Линия между небом и землей?” — “Линия горизонта, это когда выходишь в степь, а везде — горизонт. Здесь этого нет, поэтому мы здесь не приживаемся и рано или поздно уезжаем”.
Приезжих было действительно много. Заводам нужны были рабочие руки, и эти руки почему-то завозились издалека. Многие говорили с южным прононсом — “он идеть, стоить, лежить” — их называли “степными”. Еще было много татар — их присутствие для нас было тогда вполне объяснимым: в Татарии надо было говорить по-татарски, а кому охота язык ломать — по-русски-то проще, вот и уезжали они к нам из Татарии — другой причины мы тогда не находили. Татарские семьи были в большинстве многодетными. Татар побаивались. Говорили, что хоронят они своих в сидячем положении, — не те, кто хоронит, а тех, кого хоронят, в общем, кто умер, тот и сидит. Выкапывают они могилу, а затем якобы нишу в одной из стен — сажают в нее покойника, завернутого в саван. Никто из нас этой процедуры не видел, но говорили о ней усердно, отчасти поэтому татар и побаивались. О том, что кто-то татарин, говорилось шепотом, вот так: “татарин”. А еще частенько выяснялось, что у них, оказывается, совсем другие имена. Дядя Миша Мамуков со второго этажа на самом деле был совсем не Миша, а Махмуд или Мухаммед, точно не знали, его жена тетя Аня — Амна или Асма, тоже точно не знали, младшую дочь Лену звали на самом деле Левзия, а старшую звали Кадрия, но все ее звали Кадрюша, что очень не нравилось ее матери, а так как ей это не нравилось, то все Кадрюшу так звали да еще орали на весь двор “Кадрюша!!!”. Кадрюша была толстая, и когда шла весной или осенью в короткой школьной форме из школы, сзади нее обязательно увязывались два-три пьяненьких мужичка и, обсуждая толстые Кадрюшины бедра, о чем-то перешептывались — мы-то уже знали, о чем, и поэтому вовсю хихикали, идя шагов на пять сзади этих мужичков. Зимой Кадрюша форму на улице без пальто или шубы не носила, чтобы не замерзнуть, а летом были каникулы. В соседнем подъезде жила семья Нарбековых (татары), у которых было много детей, не знаю, сколько, потому что мы их постоянно путали, а может, и совсем немного их было, но из-за того, что мы их путали, нам казалось, что много.
Татары существовали в нашей жизни где-то рядом. Но однажды мой сосед по парте зловещим шепотом сообщил мне страшную тайну о том, что Сашка Абдыев, оказывается, татарин. Я не поверил: Сашка, безобидный молчаливый двоечник Сашка, который всегда добродушно улыбался, — Сашка — татарин? Но когда мне тот же источник сообщил, что сам лично на перемене видел в забытом учительницей классном журнале, что в графе “национальность” у Абдыева написано “татарин”, пришлось поверить. Новость мгновенно облетела весь класс — все стали оборачиваться в Сашкину сторону и сочувственно ему улыбаться, а Сашка сидел и улыбался в ответ — он всегда улыбался. И вдруг нам стало ясно, почему Сашка двоечник, — да потому что он татарин! Были в классе и другие двоечники, но они были двоечники нормальные — двоечники, потому что двоечники, как, впрочем, и Сашка до сих пор, — зато теперь... Не знаю, кому в этот момент что думалось, но на перемене каждый подходил к Сашке и давал ему кто конфету, кто яблоко, а кто еще чего — Сашка брал и улыбался. А вскоре выяснилось, что и Сашка Сальников тоже, оказывается, татарин, но эта новость никого не всколыхнула и никто ему ничего не дал.
А в пятом классе к нам перевели Насурлаева, (татарина), то ли из детской колонии, то ли из тюрьмы для малолетних, то ли еще откуда. Его в очередной раз оставили на второй год, поэтому он был старше нас, выше нас и сильнее нас и мы его очень боялись, потому что говорили, что он может позвать банду и нас всех изобьют. Насурлаев сидел на последней парте, громко разговаривал и мешал учителям, но учителя ему не делали замечаний, потому что тоже боялись его банды, которая и их могла запросто избить, особенно зимой после второй смены (мы учились в две смены), когда на улице темно, а фонари не горят, потому что насурлаевская банда их всех перебила. Как у всех хулиганов, независимо от национальности, у него была манера отбирать у нас деньги на большой перемене, что, собственно, нам не нравилось, но не давать их ему мы боялись. Родители опосредованно знали о сборе “дани” этой “татарве”, но ничего сделать не могли, потому что здоровье детей ставилось выше попыток “свержения ига”. Поэтому мы очень обрадовались, когда Насурлаев серьезно заболел и его увезли в больницу, в которой работала Нин Васильна, и я слезно умолял ее делать Насурлаеву больные уколы или дать пургену.
Про тряпичника мы вначале думали, что и он татарин, а он оказался цыганом. Цыган мы тоже боялись: они иногда разбивали шатры рядом с городом, ходили в цветастом одеянии по подъездам, просили денег или попить. Говорили, что цыгане воруют вещи из квартир, поэтому все их гнали куда подальше, а подальше было в шатры, но они все равно постоянно возвращались. Помню, выхожу я из квартиры, очищая апельсин, а пролетом ниже сидит классическая цыганка: увидела меня и говорит: “Сынок, дал бы апельсинчика!”. Я испугался и пулей вернулся в квартиру — вышла тетя Лиза и стала на цыганку кричать, цыганка поднялась и ушла, а потом во двор пришел тряпичник. И чего мы думали, что он татарин, наверное, привыкли уже так думать, вот и думали. Причем когда мы про него еще не думали, что он цыган, то мы кричали просто “тряпичник, тряпичник!”, а когда про то, что он цыган, стали думать, то, приближаясь к нему, обязательно напевали по-цыгански “ай-нэ-нэ” и били себя в такт ладонями по пяткам. Тряпичнику выносили тряпки — он их взвешивал специальными весами, которые назывались казавшимся нам неприличным словом “безмен”. Взамен тряпок можно было получить прыгающий на резинке мячик, куклу из тряпок или пугач — предел мечтаний: за него нужно было много тряпок отдать — до сих пор не понимаю, как тряпичник узнавал, взвешивая весами с якобы неприличным названием мешки с тряпками, в каких из них лежат для веса кирпичи, вытаскивая оные и тут же перевешивая к вящему неудовольствию желавшего заполучить пугач за минимальное количество тряпок и в результате получавшего только мячик. При этом тряпичник никогда не ругался, не называл нас обманщиками — он всегда все делал молча, вероятно, он русского языка не знал, хотя это вряд ли, такого быть просто не могло, как нам тогда казалось.
Когда кому-нибудь из нас удавалось заполучить большую партию тряпок и хватало не только на сам пугач, но и на патроны, настоящие, из пороха, мы шли докорять Ериных. У Ериных (не татары) было одиннадцать детей и мать-пьяница (про отца ничего не было известно), жили они в “Стекляшке” — так назывался дом, на первом этаже которого находился магазин, получивший в народе название “Стеклянный”, потому что весь его фронт представлял собой стекло с пола до потолка. В “Стекляшке” можно было выпить сока в разлив из стеклянных конусов, а взрослым — красного вина, посему там часто собирались рабочие после смены, перебирая на ладони мелочь и высчитывая, сколько граммов им нальет Быканова, — эта фамилия была написана на табличке рядом с соками. Еще Быканова делала молочные коктейли из пачки пломбира, стакана молока и ложки сиропа. Там же продавались кукурузные хлопья, сладкие и несладкие, кофе- и какао-брикеты, которые можно было грызть, шипучка — порошок для растворения в воде, рядом с магазином стояли автоматы с газированной водой с сиропом и без. Вот в каком доме жили Ерины. Говорили, что чтобы накормить детей, мать наливала им в большой таз кефира, они садились вокруг таза и дружно этот кефир хлебали. Мать их иногда приходила к Нин Васильне с просьбой дать взаймы десятку, при этом она клялась, что непременно отдаст. Нин Васильна давала, зная, что мать Ериных никогда не отдаст, так оно и выходило. А докорять мы их ходили не потому, что их мать брала взаймы деньги и никогда не отдавала, а потому что они ели кефир из таза. Докоряние проходило следующим образом: надо было зайти за “Стекляшку”, встать перед еринским балконом, палить из пугача и орать “Ерины, Ерины!!!” до тех пор, пока кто-нибудь из взрослых не прогонит. Тогда шли в “домовушку” покупать пирожки, после чего, жуя и чавкая, сравнивали сегодняшнее докоряние Ериных с предыдущими и давали ему соответствующую оценку.
“Стекляшка” выходила фасадом на второе озеро, оно отделялось от первого горбатым мостом, а от третьего — железнодорожным, по которому ходили поезда скорые, товарные и электрички. Когда проходили длинные товарные составы, на стеклянной полке в серванте всегда дрожали рюмки, потихоньку скользя к краю, чтобы упасть, — их нужно было постоянно поправлять — но однажды не успели — и дзынь! — упала и разбилась рюмочка, а длинные товарные составы, не обращая на это внимание, все шли и шли, но ночью это спать не мешало, хотя окна выходили на железнодорожный мост, очевидно, так организмы тогда были устроены — вот и спалось.
На самом деле это не озера были, а река Семиславка: начиналась она где-то в лесу, а заканчивалась впадением в Москва-реку. Текла Семиславка как-то вяло, до поры до времени мы и не знали, что она куда-то течет, — озера и озера. На первом озере была лодочная станция с лодками двухвесельными и четырехвесельными, а также с лодочником дядей Мишей: он давал лодки напрокат, а в качестве залога брал паспорт, у кого он был, а у кого не было, то часы, а у кого не было ни того, ни другого, то тому он лодку не давал — вот у меня не было ни паспорта, ни часов, поэтому мне он лодку не давал, а Сереге Раскатову давал, так как Серега часы у дяди Саши “одалживал”: утром возьмет, а вечером назад положит, а дяде Саше утром на цемзавод на смену, хвать — часов нет, ну ладно, думает, найдутся, так на работу без часов и ходил — хорошо, что гудок тогда еще был, а то бы он совсем не знал, когда ему начинать работать, а когда заканчивать. Так что таким образом брали мы лодку и катались. Это даже было лучше, чем купаться, потому что плавать тогда мы не умели, а вот грести — да: особым шиком считалось проскочить под горбатым мостом (поскольку двум лодкам там было не разминуться) под носом у какого-нибудь ухажера, катавшего свою пассию, да еще так гребануть, чтобы брызги от весел непременно ему на пиджак, а ей на платье, — тут тебе и визг (ее), и ругань (его), словом, все тридцать три удовольствия. А еще заманчивее было подплыть под железнодорожный мост и ждать, когда над головой пройдет товарный поезд, ощущая себя партизаном-подпольщиком, перманентно пускающим немецкие железнодорожные составы в реку, пусть даже, если она — озеро, и всегда хотелось, чтобы хотя бы один раз в жизни мост с проходившим по нему поездом рухнул на наши головы, — вот это было бы событие! — но ничего такого так и не произошло.
Иногда можно было покататься на лодке в качестве алиби с Егор Иванычем и Монаховым. Им лодку давали сразу — у них был и паспорт, и часы, причем и то и другое у каждого. Отплывали мы быстренько с первого озера на третье через второе, никого весельной водой, к сожалению, не забрызгивая и никаких поездов, опять-таки к сожалению, не ожидая, причаливали к травянистому берегу — тут они доставали и посудину и закуску... Дальнейшее было делом техники: надо было тихо-о-нечко влезть в лодку и тихо-о-нечко отгрести на середину озера и потом оттуда, раскачивая лодку из стороны в сторону, так что вода переливалась через борт, во всю глотку орать “Э-ге-ге-ге-гей!”, а затем наблюдать испуганную реакцию и Егор Иваныча, и Монахова, так как они прекрасно знали о моих успехах в плавании: и тот и другой на мгновенье цепенели, а затем уже заплетавшимися языками пытались уговорить меня вернуться к берегу, что я, слегка покочевряжившись, и делал, зная, что ничего мне за это не будет, поскольку всегда было ясно, кому что будет, за что и от кого. Иногда Егор Иваныч с Монаховым плавали на противоположный берег, где у частников-куркулей покупали моченые яблоки, засовывали их в плавки и возвращались назад, хотя, вообще-то, это мог сделать только Монахов, так как у Егор Иваныча плавок не было, он всегда в трусах купался — это только модник Монахов в плавках щеголял, и то, видимо, потому, что жена у него в райпотребсоюзе работала.
Детей у Монаховых не было, а был спаренный с нами телефон, то есть телефонный номер у нас был один на двоих, только им был один звонок, а нам два, причем слышали эти звонки и мы и они: если телефон звонил два раза — это нам, можно было брать трубку, а если один звонок, то к телефону у себя в квартире подходили Монаховы, а нам подходить было нельзя, но если тихо-о-нечко снять трубку, то можно было услышать, о чем разговаривали Монаховы. Для того чтобы кому-нибудь позвонить, надо было снять трубку и, дождавшись голоса телефонистки коммутатора, назвать ей нужный номер и количество звонков, после чего она соединяла, а если соединить не могла, то отвечала, что занято или что не отвечает. Мне нравилось это занятие, и я часто просил телефонистку соединить, выдумывая всякие телефонные номера: это было несложно, так как все они были трехзначные.
А уж полностью отводил душу я в этом деле летом у тети Нюры в Барановском — она работала телефонисткой на коммутаторе фабрики “Вперед” и часто брала меня с собой на работу. В телефонке мы пили чай из стаканов в подстаканниках с непонятной надписью “Запорiжжя”. Самым интересным было втыкать штепсели в гнезда, важно отвечая “алло” и “соединяю”. Происходило это так: когда над очередным гнездом загоралась лампочка и звонил телефон, надо было воткнуть в это гнездо штепсель, взять трубку, сказать в нее “алло”, выслушать номер, с которым нужно было соединить, воткнуть параллельный штепсель (они всегда парами в своих гнездах для обеспечения телефонных разговоров наготове стояли) в гнездо с выслушанным номером, сказать “соединяю” и повесить трубку, чтобы не подслушивать, а можно было и не вешать — тогда происходило явное, вернее, тайное подслушивание: о том, кто в каком “цеху” чего сделал или не сделал, а должен был сделать или куда кому идти сейчас, а кому куда потом, или про какую-то мать насчет плана (это если директор разговаривал). Плохо было только то, что не всегда номера называли, а просто: “директора” или “завбазой” — а ты, поди, знай, какой там у них номер, а вот тетя Нюра знала (и шепотом подсказывала, куда тыкать), за это знание ее ценили и платили ей зарплату.
В Барановском можно было половить в прудах синюшку или съездить с дядей Васей в лес за грибами на мотоцикле с коляской, когда он не в смену, а когда он был в смену, то работал на той же фабрике “Вперед”, потому что в Барановском больше работать было негде. Иногда дядя Вася разрешал прокатиться на заднем сиденье, а грибы в корзинах мы складывали в коляску. Иногда мы заезжали в соседнее Медведево к Могуевым, где можно было сыграть в карты с Вовкой, старшим сыном дяди Вити. Вовка был старше и поэтому всегда выигрывал, а в качестве выигрыша бил меня картами по носу, бил, надо сказать, довольно-таки сильно, отчего мне было очень больно и поэтому на глазах выступали слезы, а Вовка при этом злорадно смеялся и заставлял меня, пользуясь старшинством, играть с ним еще и еще. Похоже, Вовке, когда он вырос, стало стыдно и поэтому он уехал на край света во Владивосток.
Дядю Васю все звали Василь Иваныч, но не из-за Чапаева, а потому, что его действительно так звали. Чапаева дядя Вася не любил, поэтому когда по телевизору показывали фильм “Чапаев”, а по другой программе шел многосерийный польский фильм про капитана Клосса, то дядя Вася всегда смотрел про Клосса, а не про Чапаева, при этом он лежал на животе на диване в майке и в трусах перед телевизором и курил одну за другой папиросы “Север”, поэтому перед экраном постоянно клубилось сизое облако, но это ему не мешало, возможно потому, что фамилия его была Сизов. Нам это тоже не мешало, так как мы уходили смотреть про Чапаева к Крупе.
Крупа был сосед и украинец (“хохол”, как все его называли, потому что так называть можно было даже громко), он всегда улыбался и менял у Сизовых кружок сала на ведро картошки, потому что картошки у него не было, а сало было, а у Сизовых была картошка и не было сала. Обмен происходил в сараях. У Сизовых было три сарая: в одном стоял мотоцикл с коляской, в другом бегали куры, а в третьем всегда проводили первые брачные ночи молодожены, то есть когда у Сизовых была очередная свадьба, а молодоженам спать было негде, то спали они в сарае, потому что гостей было много и спали они вповалку там, где устали, — только младшая дочь Нина первую брачную ночь провела не в сарае, а в Москве: она всегда мечтала жить в столице, и мечта ее сбылась — мечты всегда сбываются, если мечтать как следует, тогда первую брачную ночь проведешь не в сарае, а в Москве или еще где-нибудь, потому что это раньше Москва была пределом мечтаний, а сейчас — все относительно, куда отнесет, туда и попадешь, пожалуй, даже в мир иной — в смысле неведомый, незнакомый, а может быть в иной — в другом смысле. Так, на свадьбе у Нины в московском ресторане я, разгоряченный танцами, хватанул холодного коктейля через соломинку и после этого некоторое время находился между двумя мирами, иным и не иным, раздумывая в горячем бреду, что лучше, а потом время моего раздумывания истекло, потому что надо было выздоравливать и идти в школу, программу нагонять, иначе у Нин Васильны мог бы случиться сердечный приступ, которым она постоянно грозила.
А дядя Вася все смотрел фильм про Клосса... Наверное, свою войну вспоминал или думал, что польским разведчиком быть намного лучше, чем кем-то другим.
С войны дядя Вася вернулся раненным в руку и голодным. Тогда Егор Иваныч купил ему кружку молока и кусок белого хлеба — дядя Вася насытился, повеселел, заулыбался, а затем сразу после этого решил жениться на тете Нюре, сестре Егор Иваныча, а так как и тетя Нюра, и Егор Иваныч были из староверов, а дядя Вася нет, то пришлось ему перекрещиваться в старую веру — такое условие поставила Татьян Степанна, мать и тети Нюры, и Егор Иваныча. Для дяди Васи это было непринципиально, он перекрестился и стал старовером.
Еще с дядей Васей интересно было в баню ходить, в мужскую, разумеется — женская рядом была, а коридор — общий. Иногда он ради забавы посылал меня в женское отделение за мылом, дескать, дома забыл — при виде голого меня голые женщины почему-то сразу громко визжали и прижимались передом к стенке, показывая мне свои, в основном толстые, задницы, — дядя Вася за стеной слышал этот визг и добродушно смеялся в ответ — несмотря на это мыло в женском отделении мне всегда давали и дядя Вася мог им намылить свои причиндалы, а заодно и мои, на что у него уходило гораздо меньше времени. После бани мы ели пожаренные тетей Нюрой собранные нами в лесу красики с картошкой, когда их было немного, или присыпанные мукой, когда их было много. Еще тетя Нюра жарила блины из блинной муки и посыпала их маком — при процедуре жарения блинов я всегда восклицал “Люблю со смаком!”, а так как эта фраза из одного популярного тогда фильма постоянно вызывала смех взрослых, то я ее повторял довольно-таки часто.
Смех смехом, но только однажды и я решил показать свое кулинарное искусство, удивить всех. Задумал я сварить варенье, что мне казалось делом простым и быстрым, причем сварить тогда, когда в квартире никого не было. Для этого я пошел на принадлежащий Сизовым участок и сорвал несколько клубничин, поскольку варенье я намеревался варить в небольшой кастрюльке. Клубничины я тщательно промыл под струей воды из колонки, затем пошел на кухню, включил газовую плиту и поставил на горелку самую маленькую кастрюльку. В нее я положил все клубничины и засыпал их сахарным песком. Воды в кастрюлю я не налил, поскольку хотел, чтобы у меня вышло варенье, а не компот. Для аромата я добавил две шоколадные конфеты, после чего сел рядом и стал ждать, когда варенье сварится. Ждал, ждал и заснул.
Вова, старший сын дяди Васи и тети Нюры, потом рассказывал, что, дескать, идет он со смены с фабрики “Вперед”, а навстречу ему мужики бегут с криками, что, мол, пожар у вас, Василич, квартира горит и пожарных уже вызвали. Вова сразу же припустился к дому, а из кухонной форточки — дым столбом. Ничего, кстати, не случилось, просто варенье подгорело и прилипло ко дну кастрюли темно-коричневой массой, которую потом с большим усилием отдирала Нина, она была единственная, кто попробовал мое варенье от начала до конца, а больше никому не досталось. А дым густой из форточки от варящегося без воды варенья бывает всегда, так что не стоит этому удивляться и думать, что пожар. Пожарные, к примеру, о пожаре вовсе не думали, поэтому и не приехали, потому что чего зря транспорт гонять, он ведь на настоящем пожаре пригодиться может. Пожарные по звонку определяют, какой пожар настоящий, а какой нет. Тетя Нюра тоже, видимо, сразу сообразила, что никакого пожара нет, поэтому она в своей телефонке спокойно соединила звонившего в пожарную службу. Возможно, она просто не поняла, что речь идет именно о ее квартире, а если и поняла, то виду не показала, поскольку — на работе все-таки, это вон Вове хорошо — припускайся себе куда хочешь после работы!
Дядя Вася с тетей Нюрой жили на фубрах в двухкомнатной квартире хрущевской планировки вместе с четырьмя детьми — как-то они в этой квартире помещались: в теплое время года выручали сараи, в смысле спальных мест, да еще к тому же всегда кто-нибудь работал в ночную смену на фабрике “Вперед”. В квартире не было ни воды, ни централизованного газа: воду носили в ведрах из колонки, а газ нужно было заказывать в баллонах — его привозили и устанавливали в специальных железных ящиках на улице прямо под кухонными окнами и прикручивали к трубам, которые вели к газовой плите. Центральная часть пола на кухне поднималась, и открывался подпол, в котором перед свадьбами хранились бутыли с самогоном, — само самогоноварение проходило непосредственно в туалете, отчего там постоянно стоял сладковатый дрожжевой запах, а поскольку подобный запах мог стоять в туалете любой квартиры или любого дома страны, то никого это не смущало, а наоборот, радовало: лица выходивших из туалета всегда расплывались в улыбке, как у китайцев, нанюхавшихся китайских благовоний. В этот подпол можно было спрятаться и покурить там папиросу “Север”, тихонько вытащенную из пачки у дяди Васи, воткнув ему для эксперимента в одну из оставшихся в пачке папирос несколько спичечных головок, чтобы посмотреть, как он ее потом закурит. Но в детском возрасте покурить папиросу “Север” можно было один раз, после чего курить не только папиросы “Север”, но и сигареты, табак из трубок, а также всякую марихуану и прочее больше почему-то в жизни не хотелось, хотя возможностей потом для этого появилось хоть отбавляй, видно, в какую-то мозговую извилину что-то вписалось и оставило в ней свой антиникотинный след.
Дверь в квартиру у Сизовых никогда не запиралась, потому что все друг друга знали и привычки запирать дверь тогда ни у кого не было. А фубры — это, оказывается, сокращение такое и означает оно “фабричное управление бараков рабочих”, когда-то там, видимо, бараки были.
У нас же дома двери всегда запирались, как правило, на два оборота замка — на один только тогда, когда в квартире были взрослые или тетя Лиза (она тоже была взрослая, но это не считалось). Тетя Лиза была из Рязанской области, хотя родилась в Царском Селе, ее старшая сестра баба Нюша родилась там же и даже видела царя — тетя Лиза царя не видела — может, конечно, и видела, но не знала, что это царь, — мало ли рыжебородых в то время по Царскому Селу шлялось! И вообще, видеть царей в наше время не приветствовалось, поэтому такие вещи говорились шепотом. Местом рождения у тети Лизы и у бабы Нюши в паспорте значилось, однако, не Царское, а Детское Село, так как в каком-то году произошло переименование, а место рождения в паспортах записывали не так, как раньше было, а согласно текущему моменту. (Мне всегда казалось, что в Детском Селе проживают одни дети, без взрослых, а когда они вырастают, их оттуда пускают на все четыре стороны, поэтому тот факт, что тетя Лиза родилась в Детском Селе, а жила отнюдь не там, меня ничуть не удивлял.)
Отец тети Лизы и бабы Нюши был аптекарем, но после революции он разорился — после революции многие разорялись, почти все, — а может быть, он не разорился, а у него просто все экспроприировали: пришел какой-нибудь комиссар и экспроприировал — не отнял, не отобрал, а именно экспроприировал, потому что отнять или отобрать — дело подсудное, а экспроприировать — нет, по крайней мере, нам так в школе тогда объясняли. После разорения (или экспроприации) поехал тот аптекарь в Рязанскую область, поскольку там у него родственники были. И затерялись его следы в селе Городец. А тетя Лиза, закончив четыре класса, поехала в Москву жить в домработницах. Каждое утро путь ее от места проживания к месту домработы лежал через Красную площадь, и каждое утро она заходила по дороге в Мавзолей, посмотреть, лежит ли там Ленин и если да, то каким образом, благо, очередей тогда никаких туда не было, так что она всегда быстро управлялась. Так как Ленин всегда лежал благополучно, тетя Лиза, выйдя из Мавзолея, спокойно продолжала свой путь в домработницы. Потом ей работать в домработницах надоело (или Мавзолей надоел), и устроилась она нянечкой в больницу села Виноградово, где ей дали комнату напротив заброшенной церкви, служившей складом. Эту церковь я почему-то ассоциировал с Кремлем и всем рассказывал, что тетя Лиза живет у Кремля, удивляясь, почему мне не верят (я тогда не знал, что можно жить или в Кремле, или на определенном от него расстоянии, но никак не у Кремля). В больнице она познакомилась с Нин Васильной, жившей в соседней комнате и бывшей молодым врачом, которая вскоре вышла замуж за Егор Иваныча и переехала вместе с ним в город, в одну из кирпичных хрущевок напротив “Стекляшки”. Выйдя на пенсию, тетя Лиза иногда к нам приезжала и какое-то время у нас жила, потому что без нас скучала.
Однажды она взяла меня с собой в Городец к бабе Нюше. Всю ночь перед дорогой я не мог сомкнуть глаз: неужели я увижу человека, который видел царя! Но об этом я никому не говорил, а то меня бы не отпустили, потому что тогда считалось, что с царизмом покончено и нечего вспоминать старорежимные времена. О тех, кто родился до революции, так и говорили, что он родился при старом режиме или что он старорежимный. Тетя Лиза считалась старорежимной, а уж баба Нюша, видевшая царя, — тем более.
Сначала мы с тетей Лизой поехали на электричке в Москву, где жила ее племянница тетя Лида, дочь бабы Нюши, с дочерью Леной и сыном Мишей — жили они в одной из квартир в деревянном доме, который мог в любой момент рухнуть, поэтому поддерживался со всех сторон толстыми деревянными подпорками. Зато они жили в самом центре Москвы — не у Кремля, естественно, но все равно — здорово. Можно было пойти в соседний девятиэтажный дом и целый день кататься в нем на лифте, пока не приходила тетя Лиза и не загоняла домой. Но в Москве загоняться домой было совсем не стыдно, потому что там не было ни ребят, ни двора — одни трамваи, троллейбусы и еще метро, в котором тоже можно было кататься с утра до вечера и даже до ночи, но ночью я тогда не катался, потому что не разрешали, а когда, позже, разрешения уже не требовалось, то до ночи кататься было уже неинтересно.
А тогда, покатавшись на лифте в девятиэтажке или на эскалаторе в метро, можно было купить мороженое на палочке под названием “эскимо” — после этого почти всегда возникала зависть к москвичам: им-то можно было каждый день и на лифте кататься, и в метро на эскалаторе или просто в вагоне, и “эскимо” есть, и в кино ходить на любой фильм, который идет, а не ждать, пока все один посмотрят и другой привезут. А еще в Москве был салют, который мы ходили смотреть в сад Центрального дома Советской Армии, в котором стояли танки, ракеты, самолеты и другие агрегаты военного назначения. Не знаю, настоящие они были или обманные, но считалось, что настоящие. (Это только империалисты тогда всех обманывали, об этом везде говорилось и писалось — “Что же за сволочная такая страна, эта Америка!” — периодически восклицала тетя Лиза после очередного сообщения ТАСС.) Еще в Москве можно было покататься на “чертовом колесе” в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Горький — это псевдоним великого пролетарского писателя, но, как говорят, тот, кто живет под чужим именем, живет не своей жизнью. Так и с Горьким было — писатель был пролетарский, а жил отнюдь не как пролетарий, а даже совсем наоборот, и в основном в разных фешенебельных странах, вроде Италии и пр. Хотя, с другой стороны, почему он должен был жить по-пролетарски? Вот, скажем, министр сельского хозяйства в сельской местности не живет, а живет в центре, в столице, как будто в Москве выращивают пшеницу или курагу какую-нибудь! Так и с Горьким было, но в конце концов он опролетарился и стал опять жить в первом государстве пролетариата, пока не умер или пока его не отравили, что в этом случае одно и то же.
А потом, пока еще дом с подпорками не рухнул, мы поехали на автовокзал и купили билеты на автобус дальнего следования по маршруту Москва — Спасск. Мы уехали, а дом с подпорками так и не рухнул, но когда всех оттуда переселили, то его сломали, а переселили всех в отдаленные районы новостроек — жить стало комфортнее и скучнее.
До Спасска мы ехали долго, я аж умаялся, хотя, скорее всего, потому долго, что в детстве все дольше и длиннее кажется. В Спасск приехали поздно, а в Городец — еще позже (до Городца от Спасска курсировал обычный районный автобус с женщиной-кондуктором, отрывавшей билеты за деньги), так что бабу Нюшу, видевшую царя, я в ту ночь так и не увидел, потому что она спала на печи, а наутро, пока я спал, она с печи слезла и в огород пошла — она каждый день ходила в огород выращивать лук, чтобы ее дети потом его в Москве на рынке продавали. Но выращивала она лук не целый день, а с перерывами — в перерывах же вовсю лежала на печи. Должен признаться, что баба Нюша меня разочаровала: с одной стороны, — видела царя, а с другой стороны, — каждый день лук выращивала. Посмотрел я на нее однажды, когда она, придя с огорода, на печь лезла, повернулся, да и пошел себе гулять на улицу.
На улице был пруд, в нем плавали утки и селезни, а вокруг него бегали куры с цыплятами, а все потому, что утки и селезни плавать умеют, а куры с цыплятами — нет, поэтому одни плавали, а другие бегали, каждому, как говорится, — свое, а иногда и чужое, потому что мы кое-что нашли. Нашел не я, нашел Колька, но поскольку я рядом с ним стоял и поскольку мне очень хотелось, чтобы нашел и я тоже, то будем считать, что нашли мы. А нашли мы настоящее утиное яйцо! И конечно же, мы его взяли и понесли домой, большое такое, тяжелое (Колька один раз дал подержать), а дома поджарили и съели. Теперь-то я понимаю, что чужое брать нехорошо, а тогда чужого ведь и не было вовсе — все, что лежало, висело или стояло без присмотра, считалось общим, поэтому брали и несли домой, а что в дом попадало, то это уже — свое, и если кто возьмет, то украл, значит.
А утки раскрякались, наверное, яйцо искали, а куры им его искать помогали, потому что яйцо на берегу в траве лежало, вот если бы на дне пруда, то ни курам, ни нам его бы не найти, а так вот нашли — мы, а не куры, а могли бы и куры найти, но только что бы они с утиным яйцом делали, ведь жарить яйца они не умеют, наверное, уткам бы отдали. Но, надо сказать, утки сами виноваты: расплавались, видите ли, в пруду, а яйцо без присмотру оставили — за вещами, вообще-то, присматривать надо, особенно за собственностью, но это все уже потом поняли, а если кто и тогда понимал, то того клеймили позором на собраниях.
Еще в Городце мы ходили в луга за горохом, который рвать не разрешалось, потому что он был колхозным, а чтобы было понятно, что он колхозный, а не общий, то гороховое поле периодически объезжал объездчик на лошади: он потому и назывался объездчиком, что поля объезжал, в основном гороховые — в тот год горох почему-то сажали. А горох — дело такое, он, как известно, вкусный, а что вкусно, того и хочется, поэтому его хотелось, но нельзя было, но, наверное, все-таки можно, иногда, и мы, запасшись большими мешками, выходили за околицу в луга и рвали себе, рвали... А когда на горизонте появлялся объездчик, то к нему выходила тетя Лиза и заговаривала ему зубы, потому что тетя Лиза и объездчик были старыми знакомыми. Ей очень нравилось заговаривать ему зубы, и она этим часто хвалилась перед бабой Нюшей, но бабу Нюшу это нисколько не интересовало: еще бы, она царя видела, а тут какой-то объездчик, несмотря на то, что про царя можно было в основном шепотом, а про объездчика — хоть во всю глотку.
Собирать землянику мы ходили на кладбище, ту, которая дикая, а не ту, которую выращивают, потому что на кладбище никто землянику не выращивал, она сама там росла, а мы ее там собирали потому, что ее там больше никто не собирал: местные жители были все-таки верующими, хотя всякую религию тогда отменили, как, впрочем, и смерть, поэтому земляника на кладбище и росла, так как живая была, а не мертвая — мертвая не росла бы. Кладбище было вполне старорежимным, с чугунной оградою и железными крестами, а земляника была спелая-преспелая, красная-прекрасная, сладкая-пресладкая — умереть не встать (вот, видно, до нас умерли, не встали, тут их и похоронили — давно, поэтому никто сюда за земляникой и не ходил: тут нам очень страшно стало — а вдруг — Вий?!).
Фильм “Вий” мы не видели, потому что детям до 16 лет вход на него был воспрещен, но о содержании этого фильма мы слышали, как правило, от тех, кто сам фильм не видел, но от кого-то слышал, о чем он. А не пускали на него детей до 16 не потому, что он любовный был, а потому, что страшный. Со временем мы уже прекрасно знали, что и как там происходило, и даже играли в Вия. Происходило это так: панночка с широко раскрытыми от ужаса глазами должна была ненормально озираться вокруг и кричать “Приведите мне Вия! Приведите мне Вия!”, после чего приводили Вия, кого-нибудь с закрытыми глазами. Он должен был идти непременно с вытянутыми руками и пытаться кого-нибудь поймать — если он кого-то ловил, то должен был пойманного душить (понарошку, конечно, но все равно больно), а этот пойманный должен был орать “А-а-а!”. Если Вий долго никого поймать не мог, то он должен был восклицать зловещим голосом “Поднимите мне веки! Поднимите мне веки!”, после чего открыть глаза, и все должны были упасть, умерев от страха (тоже понарошку, конечно). В общем, все были чего-то должны.
Еще говорили, что фильм этот сняли по книге, которая называлась так же, но была запрещенной, потому что тот, кто ее читал, сразу умирал от страха (мы, конечно, тогда уже понимали, что не от страха, а от разрыва сердца: от страха — это так, для совсем уж маленьких), поэтому эту книгу и запретили. Особенно ее нельзя было читать высшему руководству страны, чтобы не умереть от разрыва сердца. Даже тогда, когда тогдашний лидер государства просил своих подчиненных эту книгу ему достать, его подчиненные, конечно, достать эту книгу нигде не могли, потому что она была запрещенная, да еще к тому же они боялись, что он после прочтения этой книги умрет, а так как не выполнить его просьбу не могли, то отвечали, что книга эта, дескать, навсегда утеряна во время войны, так как в войну немцы вовсю за этой книгой охотились, чтобы давать ее читать своим врагам для их (врагов) каюка. Общеизвестно, что одним из вопросов, задававшихся немцами партизанам, был вопрос “Где Вий?”, на что большинство партизан пожимало плечами, и их тут же расстреливали (вообще пожимать плечами лучше не надо — себе дороже выйдет), тех же партизан, кто плечами не пожимал, а на этот вопрос ехидно отвечал “Гоголь-моголь!”, не расстреливали, а дружески хлопали по плечу и назначали работать полицаями в комендатуру, где они получали эрзац-продукты (при этом слове у нас всегда текли слюнки, и мы мечтали о том, что когда вырастем, то обязательно поедем в Германию и привезем оттуда эти эрзац-продукты и накормим ими всех, — пусть и наши люди отведают заграничных деликатесов!). Оттуда, из этой комендатуры бывшие партизаны посылали шифровки в Центр, и именно эта ценная информация явилась существенным вкладом в достижение победы в войне. Уж не знаю, верил ли лидер государства своим подчиненным или нет, но когда через много лет лидеры страны стали умирать один за другим, у меня возникли определенные сомнения по поводу невозможности достать книгу “Вий”, а когда страна распалась, как карточный домик, то тут я понял, что Вию подняли веки.
В Городце мы подружились с Хрущевым. Он был лысым, поэтому его все так звали. Часто можно было слышать по всему селу “Хруще-ов! Ты где? Пошли гулять!” или “Хрущев-зараза! Опять ты все варенье съел!” (это уже мать его так). Звать Хрущевым тогда никого никому не возбранялось, поскольку настоящий Хрущев был уже не у дел, а лысых часто дразнят. С Хрущевым мы всегда лазили по каким-то руинам, заброшенным домам или просто так. Дружить надо для того, чтобы куда-нибудь лазить, особенно в селе. Однажды Хрущев откуда-то куда-то упал и ушиб себе спину, которая у него после этого болела, в результате чего его мать сильно ругалась на все село, поэтому все жители села знали, что Хрущев откуда-то куда-то упал и ушиб себе спину (“хребет перешиб”, — говорили). После этого меня боялись отпускать с ним дружить, чтобы и я от такой дружбы не перешиб себе хребет, но я все равно тайком убегал и дружил, а хребет я себе не перешиб, наверное потому, что меня Хрущевым не звали, видимо, все Хрущевы рано или поздно с перешибленным хребтом ходят, не важно, настоящие они или их просто так дразнят.
К соседям Карабановым мы молоко покупать ходили, потому что у них своя корова была — Карабановы сами молока не пили ни грамма, поскольку все продавали. “Вот капиталисты, — сокрушалась тетя Лиза, — при живой корове да самим молока не попить!” Но это она нам так говорила, а им нет, а то бы они это высказывание могли оценить как оскорбление и на молоко цену накинуть. Так что, действительно, молчание — золото, в смысле деньги, сэкономленные на возможной наценке на молоко.
Однажды вечером мы пошли в кино. Кинотеатра в Городце не было, как и Дома культуры, как и клуба, — в Городце, кроме домов, пруда, автобусной остановки и магазина “Сельпо”, не было ничего. Поэтому в кино ходили в соседнюю Слободу. Шли мы туда довольно долго, и я опять умаялся, потом пришли в какое-то здание, в котором была всего одна комната, но большая — народ принялся расставлять скамейки. Когда скамейки были расставлены и народ уселся на них плотными рядами, то вспомнили, что показывать-то не на чем. Тогда два мужика откуда-то принесли простыню, которую и повесили вместо экрана. Затрещал киноаппарат и поехало... “Вашу ручку, фрау-мадам” и т. д. и т. п. Показывали новую комедию и, помню, хохотали все до упаду. Вообще, если задуматься, над чем мы тогда смеялись, то становится смешно. Одно утешает, что смешно, а не грустно, хотя иногда и такое бывает.
Уезжал я из Городца в каком-то смятении: так и не понял, видела баба Нюша царя или нет. И спросить, главное, не у кого — был бы жив царь, он, наверное, сказал бы так: “Врешь ты все, баба Нюша! Не видела ты меня!”. Пожалуй, из-за этого его и убили, чтобы подобными высказываниями не дискредитировал рабоче-крестьянский класс.
Бабка Скрипина была вечная бабка. В любое время она сидела на лавочке у подъезда в одном и том же одеянии и с одной и той же клюкой, которой она постоянно размахивала. Любимым ее занятием было гонять всех подряд, размахивая клюкой и крича во весь голос “Я те покажу!!!”. Чего она хотела показать — знали все: свою клюку. И показывала она ее изо всех сил, благо, сил у нее было еще ой-ей-ей — жилистая была бабка и цепкая.
Скрипины жили на первом этаже в двухкомнатной хрущевке. Тетя Маша была вечно больна и никуда из квартиры не показывалась, иногда через открытую в их квартиру дверь можно было видеть ее толстое тело в ночной рубашке. Бабка Скрипина была ее матерью, стало быть, вообще-то не Скрипина, но поскольку все были Скрипины, то и она тоже за компанию — настоящего ее имени и фамилии не знал никто, кроме, разве что, домашних, но они об этом никому не рассказывали. Муж тети Маши работал на цемзаводе или на заводе “Красный Строитель”, а может быть, на заводе “Цемгигант” или на шиферном заводе, хотя вполне возможно, что и на самом химкомбинате или еще где-либо, например на фетровой фабрике или на заводе “Антисептик”. У Скрипиных было две дочери: Верка и Ирка, поговаривали, что обе они гулящие. Особенно в этом поговаривании преуспело замужнее женское население нашего квартала. Мы тогда уже знали, что значит быть гулящими, выражая это понятие своим детским нецензурным языком. Особой популярностью пользовались из уст в уста передаваемые подробности их гуляния — Веркиного и Иркиного, что кто-то якобы их видел с тем-то, с тем-то или с тем-то — те-то были, естественно, мужики, с которыми принято было гулять. Еще большей популярностью пользовались рассказы о том, как тот-то или тот-то или сразу несколько имели Верку, Ирку по очереди или одновременно. Считалось, что их часто имели в сарае на берегу второго озера и что при этом они очень громко орали: считалось, что чем громче они орали, тем более гулящими были. Сами мы этих сцен не видели, как, впрочем, не видели этих сцен и те, кто нам об этом подробно рассказывал, — видели якобы те, кто рассказывал им (скорее всего, их видело все замужнее женское население нашего квартала или, по крайней мере, не прочь было бы увидеть), в общем, кто-то что-то где-то видел... Но мы всей гурьбой ходили на берег второго озера и смотрели на сарай, в котором якобы все это и происходило. Иногда мы делали засаду в соседних камышах, чтобы дождаться Верку и Ирку с мужиками и услышать, наконец, как они орут, но сколько бы мы в камышах ни сидели, дождаться мы никого никогда не могли — объяснение этому давалось одно и единственно правильное — все это, включая ор, происходило, наверное, после того, как нас загоняли домой, и мы мечтали поскорее вырасти, чтобы никто нас уже не смог загнать домой и тогда бы мы услышали то, что хотели, и, вероятно, даже бы увидели. Подробности гульбы Верки и Ирки с мужиками с показыванием друг другу сцен их орания приводили нас в возбуждение и даже, можно сказать, в экстаз. Когда мы в очередной раз дразнили бабку Скрипину, то ни на миг не забывали, чья она бабка, и это дразнение ее доставляло нам особую сладость. А дразнили мы так: проходя практически перед ее носом, но в то же время на определенном расстоянии, чтобы не достала клюкой, мы корчили ей рожи, издавали неопределенные звуки, махали перед ней руками, дрыгали ногами, извивались всем телом, чтобы только досадить бабке. Она на нас кричала и ругалась, размахивая при этом своей неизменной клюкой. По-моему, она нас даже обзывала какими-то словами, но нам это только больше нравилось и мы старались еще усерднее. Взрослые бабку Скрипину почему-то не любили и комментировали ее выпады фразой “Ну вот, опять разоралась!”.
Перед окнами жильцов первого этажа были небольшие участки, которые все называли палисадниками. В этих палисадниках жильцы первого этажа сажали кто чего хотел и мог, а иногда там уже чего-нибудь росло. На участке Скрипиных росла черемуха — постоянный объект наших вылазок, особенно в процессе ее созревания: она была вяжущая и вкусная, когда успевала дозреть, но так как дозреть она никогда не успевала, то вкуса настоящей черемухи мы никогда не знали, поэтому считали, что у настоящей черемухи всегда вкус той, скрипинской. Для того чтобы полакомиться черемухой, надо было ее оборвать, но на пути всегда стояла, вернее, сидела бабка Скрипина, и это было основной нашей проблемой. Нужно было настолько вывести ее из себя, чтобы она не только кричала и махала своей клюкой в нашу сторону, но и, сорвавшись с насиженного места, побежала вслед за нами. Когда это удавалось, остальные, не принимавшие в этот момент участия в дразнении бабки Скрипиной, пулей летели в сторону черемушного дерева и старались как можно больше его оборвать, используя в качестве резервуаров карманы и пазуху. Когда бабка замечала нашу хитрость, она очень быстрыми шагами семенила в сторону обрывателей, в этот момент надо было поскорее смыться, чтобы не попасть под удар ее клюки. Иногда в качестве обрывательного пункта использовалась кухня Мамуковых, живших над Скрипиными (разумеется, когда взрослых не было дома), потому что черемушное дерево было высокое и если высунуться из мамуковского окна и перевеситься через подоконник, то можно было достать верхушку дерева и обрывать столько, сколько доставали руки, — тут уж бабка Скрипина была бессильна. Интересно, что даже в минуты опасности, обрывая черемушное дерево, мы ни на минуту не переставали думать о гулящих Верке и Ирке, а однажды, когда мы узнали сногсшибательную новость о том, что Верка, оказывается, путается с австрийцами, жившими в трехэтажном общежитии, от изумления мы стали дразнить бабку Скрипину и обрывать черемушное дерево еще интенсивнее.
Хотя город был тогда абсолютно закрытым для иностранцев из-за находившихся в нем предприятий, на эти предприятия тем не менее приглашались работать иностранные специалисты, в основном почему-то австрийцы. Они жили в общежитии и путались с Веркой. Или она с ними. Поговаривали (естественно, все те же), что когда Верка австрийцам надоедала, они выбрасывали ее из окна. Мы живо себе представляли картину выкидывания Верки в окно — почему-то считалось, что австрийцы выкидывали ее именно с третьего, последнего этажа. И еще говорили, что Верке после этого ничего не становилось — ни даже тебе царапины, потому что она у австрийцев всегда была пьяная, а пьяным, как известно, после падения ничего не бывает — хоть с небоскреба их скидывай, но так как у нас небоскребов не было, то приходилось этот факт принимать на веру за неимением возможности проверить это высказывание на практике. Отлежавшись под окнами общежития, выброшенная Верка отряхивалась, постепенно трезвела и опять шла к австрийцам, потому что они якобы опять в ней уже нуждались. Про ее сестру Ирку в этой связи ничего не поговаривали, этим-то они друг от друга и отличались.
Сексуальная тематика была, естественно, нередко темой наших разговоров, но поскольку научных терминов в этой области мы не знали, то употребляли нормальные уличные нецензурные (“стыдные”, как сказала бы замужняя женская часть нашего квартала). Особенно нам нравилось в разговорах совокуплять наших учителей друг с другом. Когда однажды после очередных летних каникул учительница пения пришла в школу с большим животом, мы стали усердно размышлять о том, с кем это она могла... Почему-то считалось, что могла она только с учителями нашей школы и ни с кем другим, — внешкольные мужчины в расчет не принимались. Учителей-мужчин в школе было немного: физик, физрук, два трудовика и директор школы, так что выбор у нее был невелик, и нам путем какого-нибудь метода предстояло лишь определить, кто это был. После недолгих переборов мы остановились на трудовиках: один проводил уроки в столярной, другой — в слесарной мастерской, причем после каждого занятия оба трудовика запирали мастерские на ключ и никого туда не пускали — этому важному факту мы придавали большое значение: где, скажите на милость, можно было заниматься этим с учительницей пения, как не в запирающихся слесарке и столярке! Поэтому физик, физрук и директор школы сразу же были исключены из числа “подозреваемых”. Итак, двое. Но кто из них? Тут начиналось сравнение: где лучше и где удобнее можно было заниматься этим. Вывод напрашивался сам собой: конечно в столярке — там ведь верстаки деревянные, а в слесарке — металлические, то есть холодные, а дерево — оно теплое, так, по крайней мере, нам объясняли на уроках труда. И тут, разумеется, мы вовсю давали волю фантазии: находясь в столярке, мы ходили от верстака к верстаку, похлопывали один за другим и никак не могли выбрать тот, на котором все это с учительницей пения происходило. Как-то быстро с учительницы пения мы переключились на трудовика: наверное, он занимался этим здесь не только с ней, но и с другими — с кем же? Перебирая всех учительниц, мы выбирали самых толстых: нам казалось, что чем толще женщина, тем охотнее мужчина готов с ней совокупиться (хотя в то время в художественных галереях мы еще не были и полотен Рубенса не видели). А так как почти все учительницы нашей школы были, мягко говоря, в теле, то отсюда вытекало, что трудовик, оказывается, имел их всех, кроме, тощей замухрышки физички — разве на такой уляжешься!
И захотелось нам написать порнографический роман (слова “порнографический” мы еще не знали, но дело ведь не в слове, а в сути). Название придумали сразу: “На верстаке”, после чего стали мы придумывать различные сцены, взахлеб пересказывая их друг другу. Говорят, что если кто-то кого-то вспоминает, то тому, кого вспоминают, икается. Не знаю, какие процессы происходили в организме трудовика во время “сочинения” нашего романа, но, думаю, икалось ему вовсю. Кроме названия, к счастью, ничего больше не сложилось, потому что за порнографические романы тогда можно было получить срок, и, по-моему, немалый, несмотря на наше несовершеннолетие, а в тюрьме сидеть, понятно, никому не хотелось, даже если бы посадили не нас, а родителей. Так что хорошо, что так вышло, в смысле — ничего не вышло. Но ведь устное творчество — тоже творчество, пока мозги шевелятся и шарики за ролики не заходят. Возможно, кто-нибудь из нас этот роман и написал — когда можно стало и в тюрьму за это сажать перестали. А тогда, возбужденные беременностью учительницы пения, мы пристально всматривались в животы других учительниц, пытаясь определить уже на ранней стадии, кто из них беременная (вопрос “от кого?” уже не стоял, поскольку и так было ясно). Потом эта тематика постепенно сошла на нет, видимо, новые темы, новые проблемы захлестнули нас, закружили и понесли все дальше и дальше на волне постепенного взросления.
“Тебе как бы хотелось жить, как сейчас или как раньше?”, — частенько спрашивал заводила Толян Исмаков, похоже, эта философская проблема его нередко волновала. Под “раньше” подразумевалось общество дореволюционное, старорежимное, царистско-узурпаторское, в общем. “Конечно, как сейчас!”, — всегда отвечал кто-то из нас. Толян задумывался. Он всегда, прежде чем ответить, задумывался, хотя было видно, что ответ у него уже есть, но так уж положено истинным философам — есть ответ или нет, надо сначала задуматься, а то как философу грош тебе цена. Подумав, он говорил одну и ту же фразу: “А мне бы, как раньше...” и, выдержав паузу, добавлял: “но богатым!” После этого шли его пространные рассуждения о том, как хорошо было быть раньше богатым, — абсолютно ничего не делаешь, а все остальные твои прихоти исполняют. В этом была своя завораживающая логика — жить, как раньше, но богатым, казалось здорово — и домой никто не загонит! Частенько Толян был не прочь пофилософствовать о жизни и смерти: “Вот как представишь себе, как оно все будет после смерти! Вот умрешь, и как без тебя жить будут?”.
Толян был авторитетом и всегда решал, во что мы будем играть, — играли, естественно, в то, во что любил он, а любил он в жопки, в двоечки и в троечки.
В жопки играли так: один вставал, согнувши спину и оттопырив зад, а другие старались в этот зад попасть мячом с ноги, если кто-то промахивался, то менялся со стоящим и должен был в свою очередь согнуться и оттопырить уже свой зад. Пулять ногой мяч нужно было изо всех сил, чтобы тому, в чью задницу этот мяч попадал, было больно до слез — остальные при этом дружно ржали.
А в двоечки и троечки играли по-другому: разбивались на две команды по двое или по трое — одна команда поочередно била мячом по воротам, в которых стоял выбранный вратарь другой команды, потом команды менялись местами. Каким-то образом подсчитывалось количество забитых и пропущенных голов, в результате чего определялись призовые места, что было самым интересным в двоечках и троечках, ради чего, в основном, и играли. Призовых мест было три. Первое называлось “Брежнев” — по фамилии тогдашнего лидера государства, то есть тот, кто занимал первое место, считался Брежневым и после объявления сего факта должен был делать серьезное лицо, хмурить брови и, поднимая согнутую в локте правую руку, махать кистью из стороны в сторону, произнося при этом голосом Фантомаса “Хо-хо-хо!”. Третьим был “Подгорный” — как тогдашний третий человек в государстве. “Подгорному” ничего не надо было делать, он был просто “Подгорный” и все его так звали. А вот второе место никто не любил, второе место занимать никому не хотелось — уж лучше тогда “Подгорный”, если не “Брежнев”. А все потому, что вторым человеком в стране был тогда Косыгин и, естественно, занявший второе место назначался “Косыгиным”. А это значило, что как только это происходило, остальные в ту же минуту дружно громко начинали распевать на мотив “Калинки-малинки” — “Ка-сы-гин, Ка-сы-гин, Ка-сы-гин, ка-сой — Ка-сы-гин ка-сой, а-ба-жрал-ся кал-ба-сой!” — и так много раз до одурения. А “Косыгину” приходилось терпеть и все это выслушивать: что поделать — должность такая!
Сапрыкины жили тоже на первом этаже, но “за домом”, то есть окна их квартиры выходили в противоположную от подъездов сторону. Там не было палисадников, поэтому гонять можно было непосредственно перед окнами. Важность данного момента невозможно понять, если не знать особенностей устройства кухонь. В каждой кухне под подоконником (с внутренней стороны) был небольшой встроенный шкафчик, состоявший из двух полок и прикрывавшийся изнутри двумя створками. Такой шкафчик использовался для хранения продуктов, а чтобы они не протухали, внутри шкафчика в стене была вытяжка-отдушина на улицу. Она предствляла собой вделанный в стену квадратный металлический каркас с несколькими круглыми дырочками на выходившей на улицу металлической панели. Этот каркас легко вынимался почему-то у Сапрыкиных. Затем этот каркас осторожно клался у стены. В образовавшееся квадратное отверстие можно было просунуть руку и пощупать, что там у них на полке. Годилось не все: большие трехлитровые банки с вареньем или компотом, к примеру, в отверстие не пролезали. Идеальным была половина арбуза, купленная Сапрыкиными, то есть арбуз был куплен целиком, но половина была съедена сегодня, а вторая положена на полку до завтра — об этом факте мы уже знали от сапрыкинских детей. Запуская поочередно в отверстие руку, мы доставали сладкую красную мякоть и ели ее. Когда пол-арбуза было съедено, удалось вытащить арбузную корку, которой мы с удовольствием тут же поиграли в футбол. Наигравшись, мы тщательно замели все следы: выбросили корки и вставили отдушину обратно в отверстие. Самым сложным оказалось на следующий день делать удивленное лицо, слушая рассказы сапрыкинских детей о таинственном исчезновения половины арбуза из кухонного шкафчика. Мы, конечно, принимали участие в отрабатывании различных версий пропажи половины арбуза, но никакого объяснения этому явлению, естественно, не находили. С тех пор я считаю, что не надо ничего откладывать на “потом”, потому что “потом” может не быть. А применительно к Сапрыкиным я бы сказал, переиначив известную пословицу, так: “Не откладывай на завтра то, что сможешь съесть сегодня”. Возможно, я и не прав — что если не могли Сапрыкины съесть целый арбуз за один день? Хотя этого совершенно не может быть — арбуз съедается зараз, причем независимо от его величины.
Кстати, об отдушинах — такие отдушины были не только в кухнях — они были везде: в ванной комнате, она же туалет, на кухне, а также в каждой комнате, но в комнатах почему-то в полу. Скоро мы нашли этому объяснение. В полу такие отдушины делались для того, чтобы можно было взять графинчик с кипяченой водой и весь его в эту отдушину осторожненько опорожнить, заранее уже зная, что сейчас последует. Буквально через несколько минут прибегала тетя Валя Скачкова со второго этажа с громкими криками, что их опять залили и что у них по всей только что покрашенной стенке с накатом вовсю течет. Вот, тетя Валя, сами смотрите — ничего у нас нигде не течет, вероятно где-то трубу прорвало, но не у нас — сами же видите. Тетя Валя тут же замолкала и бежала дальше искать причину заливания. Пусть побегает — курить меньше будет, а о ремонте, вообще-то, предупреждать надо, тогда бы ее никто и не залил, а может быть и залил.
Тетя Валя была заядлой курильщицей. Если бабка Скрипина бессменно сидела у подъезда, то тетя Валя бессменно стояла в халате в подъезде на втором этаже у дверей своей квартиры и курила одну за другой папиросы через мундштук. Ночью она, правда, уходила в квартиру спать, но пепельница всегда оставалась у двери, молчаливо вещая о том, что место занято, и, скорее всего, навечно. Тетя Валя говорила изумительным низким хриплым голосом (результат постоянного курения), который нам нравился, и, чтобы лишний раз послушать ее голос, мы сначала поднимались с первого этажа на третий, а потом тут же спускались вниз. Проходя мимо тети Вали, мы каждый раз здоровались, а она каждый раз нам отвечала, поскольку ее статус не позволял ей быть невежливой. Отвечая на наши приветствия, она практически не успевала курить, что всегда приводило ее в состояние легкой нервозности, отчего ее изумительный низкий хриплый голос начинал дрожать, приобретая особую эротичность. Это нам, безусловно, нравилось, хотя слово “эротика” мы тогда еще не знали.
Ее муж Адольф Иваныч Скачков работал тоже там, где носят кобуру со всем ее содержимым. Работал он в центральной части города и ездил на работу на автобусе — минут сорок туда и минут сорок обратно. Но даже в те дни, когда у него были выходные, он все равно ездил в центр (правда, без кобуры), чтобы купить там свежую газету и свежую буханку черного хлеба, хотя и газеты и хлеб продавались и у нас, но, видимо, из центра было все же свежее, по крайней мере, он так считал.
Адольф Иваныч очень любил разгадывать кроссворды, причем любил это делать прилюдно. Для этого у него была партнерша — бывшая учительница не помню чего, а в то время уже пенсионерка. Она жила в доме напротив на первом этаже, балкона у нее не было, но был палисадник, в котором она сделала несколько грядок, засадив их цветами и назвав их “сквером Гагарина”, поскольку грядки были засажены цветами в память о гибели Гагарина, первого космонавта планеты. А у Адольф Иваныча балкон был, что давало ему небольшое оптическое преимущество. Приехав из центра, он появлялся на балконе и громким низким, но отнюдь не хриплым и уж совсем не изумительным голосом, поглядывая сверху вниз, задавал слышный всему кварталу якобы риторический вопрос: “А что это у нас там в „Комсомольской правде” пять букв под номером три по вертикали, я думаю, что это...” — далее произносилось слово, которое Адольф Иваныч думал. Ну, раз весь квартал этот якобы риторический вопрос слышал, то слышала его и бывшая учительница, разбившая сквер Гагарина. Она тут же выходила в свой сквер и, держа перед собой тот же номер газеты, победно парировала (тоже громко, чтобы и ее весь квартал слышал): “А вот и нет, пять букв под номером три по вертикали будет не ... (тут называлось слово, которое думал Адольф Иваныч), а ... (называлось слово, которое думала она)”, глядя при этом на Адольф Иваныча снизу вверх и на всякий случай озираясь по сторонам. Это было начало многочасовой кроссвордной дискуссии при вынужденном молчаливом участии жителей всего квартала. Тетя Валя при этом все курила, курила и курила у дверей своей квартиры, а у бывшей учительницы никого не было — она жила одна. В конечном счете побеждал в дискуссии Адольф Иваныч, наверное потому, что вел он ее с балкона, а тот, кто ведет дискуссию с балкона, — всегда побеждает, так, по крайней мере, запомнилось из уроков истории.
“Эй, хромой! Хромай до загородки!” — так дразнили Юрку Филатова, потому что он хромал. А хромал он не потому, что был хромой с детства, а потому, что невдалеке затеяли строительство нового панельного дома улучшенной планировки с большими лоджиями, о чем, естественно, знала вся округа. Эта стройка становилась местом наших игр после того, как строители заканчивали рабочий день и расходились. Тогда приходили мы, так как объект никем не охранялся. Самой интересной была большая катушка толстого алюминиевого кабеля в обмотке то ли из резины, то ли из пластмассы. От этой катушки можно было, с большими усилиями, правда, отпилить кусок кабеля и сделать себе кинжал с рукояткой то ли из резины, то ли из пластмассы. Через месяц от катушки остался только деревянный каркас, зато мы все ходили с кинжалами, а пропажа кабеля, видимо, никого не интересовала, списали, наверное, или списывать не было и надобности.
Еще интереснее было залезть на подъемный кран (кстати, почему кран называется “подъемным”, он ведь не только поднимает, но и опускает, наверное все-таки потому, что он, как правило, вначале поднимает и только потом уже опускает, поэтому “подъемный кран” — это, наверное, сокращенно от “подъемно-опускательного крана”). Подъемный кран стоял на рельсах перед строившимся домом, по которым он ездил во время работы, а после ее окончания стоял на одном месте. Кран был очень высокий — раньше можно было бы сказать, что до неба, но мы-то уже знали, что “до неба” не бывает, поэтому он был просто очень высокий. Влезать на него нужно было по перекладинам, а чтобы крановщик случайно не упал, спину его от падения защищали металлические полукольца, расположенные напротив каждой перекладины. После окончания работы крановщик запирал кабину на ключ, спускался вниз и удалялся. Как только это происходило, появлялись мы и сразу лезли на кран, жалко, конечно, что в кабину мы не попадали, поскольку крановщик всегда ее закрывал, но все равно и так здорово было стоять на самой верхней перекладине перед закрытой дверцей кабины и осматривать окрестности, которые мы в принципе и так знали, но все равно ракурс был не тот, а теперь ракурс был очень даже тот. Частенько кран покачивало налетевшим ветром, и было ощущение как на маяке, хотя никто из нас на маяке не был, потому что маяки обычно устанавливают около морей, то есть от нас очень далеко, хотя если исходить из того, что Москва — порт пяти морей, то и не очень-то далеко получалось, исходя, разумеется, из масштабов страны, — но кто знает, есть ли в Москве маяк, — с одной стороны, должен быть, поскольку порт все-таки, а с другой стороны, хоть и порт, да не у моря, поэтому лучше не гадать, а залезть на подъемный кран, но ощущать себя как на маяке — это нередко бывает, живешь так, а ощущаешь себя совсем по-другому.
Еще мы любили на стройке в догонячки играть, это уже после того, как с крана слезали. Догонячки — это очень просто: бегаешь друг за другом и дотрагиваешься до догоняемого, а чтобы никто до тебя не дотронулся — убегать надо, вот и носились мы по этажам недостроенного дома. В запасе у нас всегда имелся трюк с недостроенными лоджиями. Недостроенная лоджия, это когда в ней есть пол, потолок и три стены, а четвертой пока нет — ее или потом застеклят, или перила построят, чтобы не упасть. Обычно две лоджии строились всегда рядом, во всяком случае, так в том доме было, а стена, их разъединявшая, сплошная была, так что надо было, обхватив эту стену руками, там, где она кончалась, ступить одной ногой в соседнюю лоджию, а затем плавно перенести в нее все тело и затем вторую ногу, остававшуюся все еще в первой лоджии. При этом надо было очень крепко сжимать ладонями стену, разделявшую лоджии, чтобы не упасть. Мы это проделывали с отменным мастерством, и все проходило на редкость удачно. Бежит, скажем, кто-нибудь за тобой, а ты — раз — и уже в другой лоджии, то есть уже в другом подъезде. И оставался догонявший с носом. А Юрка Филатов не удержался при таком маневре — руки расцепились, и он упал с третьего этажа недостроенного дома прямо на щебенку в нескольких сантиметрах от рельсов, по которым днем ездил подъемный кран, так что, можно сказать, повезло ему, что он не на рельсы упал, а то пришлось бы его хоронить, а так как мы этого делать тогда еще не умели, то пришлось бы взрослых звать на помощь и им все рассказать. А это было, естественно, нежелательно. Так что и нам в некотором роде тоже повезло, не только Юрке. И вообще, в тот момент каждый из нас очень обрадовался, что упал не он, а Юрка, кроме, разве что Юрки, он-то уж точно не обрадовался, ладно бы, во время учебного года, а то в каникулы! Бывает, к слову сказать, такая радость, когда что-то не очень хорошее, что могло произойти с тобой, происходит отнюдь не с тобой, а с кем-то другим, то радуешься в этом случае как ребенок, не потому, что кому-то плохо, а потому, что плохо не тебе.
Так вот, порадовались мы — не за Юрку, за себя — и пошли домой, а так как он сам идти не мог — ногу он, как выяснилось потом, сломал, — то мы поддерживали его, а он скакал на той ноге, которую не сломал, а ту, которую сломал, волочил за собой. К врачу он, естественно, идти не хотел, но так как в соседнем подъезде жил врач-хирург Агеев, мы к нему зашли и про Юрку ему все рассказали, потому что знали, что врачам надо говорить только чистую правду. Но врач-хирург Агеев как-то от нас отмахнулся и закрыл дверь, а еще врач, называется! Клятву Гиппократа небось давал! Но мы тогда про эту клятву ничего не знали, а то бы мы этого врача этой клятвой так прищучили! Но похоже, что клятва Гиппократа действовала лишь в старорежимные времена, а в наши уже не действовала. В наше время много чего не действовало, что раньше действовало. Наоборот тоже бывало, но реже. Юрка потом еще долго хромал и не только до загородки, как его дразнили. Когда он хромать перестал, я не знаю, может, до сих пор хромает, если жив.
За грибами все ходили до первого оврага — туда все ходили, и было неинтересно, потому что набрать там можно было исключительно сыроежек, так как рано вставать не хотелось, а после обеда почему-то только сыроежки и попадались, сорт, наверное, такой. До второго оврага ходили отнюдь не все, но многие — там можно было набрать и других грибов: подберезовиков, подосиновиков, маслят, а также волнушек, чернушек и свинушек. Некоторые опята собирали, но это было стремно: можно было их перепутать с поганками, отравиться и попасть после этого на кладбище — каждому на свое, в зависимости если не от вероисповедания, то в крайнем случае от традиций. Особым интересом пользовался гриб под названием “Не тронь меня — я посинею”, который действительно синел от малейшего к нему прикосновения, но этот гриб был не собирательным, а трогательным. Пыльник же, гриб такой, был ни собирательным, ни трогательным — на него нужно было наступить, тогда от него шла пыль, значит, он был наступательным. А до третьего оврага доходили немногие, потому что страшно было идти к третьему оврагу: говорили, что можно туда пойти и оттуда не вернуться, поэтому и не ходили. Только Юра Мискавец ходил и очень много грибов оттуда приносил, но каких грибов — никто не знал, потому что Юра всегда грибы в корзине прикрывал ветками, чтобы никто не сглазил. Юра вставал каждый день очень рано, потому что спал в кладовке, и сразу шел до третьего оврага собирать грибы. От третьего оврага он всегда возвращался, потому что нечистая сила его не брала. А не брала нечистая сила Юру потому, что он был блаженный, тогда говорили, правда, что он будто бы дурачок, но он был отнюдь не дурачок, а самый настоящий блаженный, просто тогда понятие “блаженный” использовалось исключительно для характеристики людей старорежимного времени, а в то наше время считалось, что блаженных уже всех повывели полностью и окончательно и что их в нашем обществе быть не может, поэтому тех блаженных, которые все еще оставались, считали дурачками — не дураками, а именно дурачками, потому что дурак — это тот, кто глупый, а дурачок — это тот, кто долгое время придуривается, то есть прикидывается дураком, и уже настолько допридуривался, что сам перестал осознавать, что он совсем не дурак, а просто таковым прикидывается — таким образом и получаются дурачки. А блаженный — это свыше, им быть или дано, или нет. Вот Юра именно таким блаженным и был — не успели его, очевидно, повывести, вот он и ходил до третьего оврага за грибами. А нечистой силе он не нужен был потому, что она, эта самая нечистая сила, в дурачках вовсе не нуждалась, как, впрочем, и в дураках тоже, а так как нечистая сила в свете тогдашней политики дурачков от блаженных отличить не могла, то считала и тех и других дурачками, как тогда было принято, или небось нечистая сила действительно тогда верила, что блаженных всех повывели. Все мы тогда во все верили.
Спал Юра в кладовке потому, что больше негде было: жили они сначала вчетвером в двухкомнатной квартире, причем все проживающие в ней были разнополыми: баба Дуся была очень полная и больная, из квартиры по состоянию здоровья никуда не отлучалась, поскольку квартира находилась на третьем этаже, — на балкон, правда, выходила. Таня, ее дочь, была уже взрослая и уже где-то работала, а внук Вадик нигде не работал, поскольку был еще школьником, но он хоть и был внуком бабы Дуси, но отнюдь не сыном ее дочери Тани, а также отнюдь не сыном Юры, который был сыном бабы Дуси. Он был сыном своих родителей, один из которых был или сыном, или дочерью бабы Дуси, и жили они, эти родители, где-то далеко на Севере, поскольку туда завербовались на работу или, как тогда говорили, погнались за длинным рублем, но это им не помогло, потому что на этом Севере они погибли или просто умерли, что, впрочем, для бабы Дуси и Вадика было одно и то же. Поэтому Вадик как жил у бабы Дуси, так и продолжал у нее жить, потому что деваться ему было больше некуда. Таня вскоре вышла замуж, родила сына, потом муж ее умер, она опять вышла замуж, но и второй муж тоже умер, потому что спился, а первый умер оттого, что попал в аварию, или наоборот — первый спился, а второй попал в аварию — не суть важно. А так так Тане это уже к тому времени порядком надоело, то она решила больше замуж не выходить, а продолжать жить с сыном у бабы Дуси — вот почему Юра спал в кладовке, а рано утром ходил до третьего оврага за грибами в надежде, что нечистая сила его все-таки когда-нибудь заберет и не надо будет ему больше спать в кладовке, но нечистая сила его упорно не забирала, наверное, и у нее спать было негде. С Вадиком мы практически не водились, общаясь исключительно по-соседски. Вадик был тихоней и любил остальных подзуживать, подначивать и на что-нибудь подбивать, сам в том участия не принимая. Гораздо позже я узнал, что такая манера поведения называется “Браво, капитано!”, когда один науськивает другого на третьего, а сам потом стоит в сторонке и хлопает в ладоши, браво, дескать, капитано... Вадик тихо радовался, когда кому-то за что-то попадало, внешне ничем свою радость не показывая, и только блеск глаз выдавал его. Он очень любил за кем-нибудь из нас заходить и, увидя у кого-нибудь в квартире конфеты, наклонялся к уху того, за кем заходил, и шептал: “Спроси у мамы конфетку!”. Подразумевалось, что конфетка в конечном счете достанется ему. Вадик любил лепить из разноцветного пластилина всадников — красивые они у него получались! Но однажды я почему-то решил, что смогу слепить намного лучше, чем Вадик, и, пользуясь его отсутствием, взял всех его всадников и скатал в один пластилиновый ком. Лучше слепить, конечно, не удалось — не удалось слепить никаких, но я же об этом до этого не знал! Вадик потом очень расстроился. “Ничего, — сказал я ему, — не расстраивайся, Вадик! Когда я вырасту и у меня будут деньги, я куплю тебе всадников в сто раз больше и лучше или, если их не будут продавать, в тыщу раз больше разноцветного пластилина, а сейчас пошли к нам, я спрошу у мамы конфетку!” Прости меня, Вадик! Я действительно не хотел тебя обидеть, и если ты думаешь, что я решил отомстить тебе за твое “Браво, капитано!”, то это, уверяю, не так — ты же сам видел, что я тоже расстроился и мои глаза если и блестели, то только от навернувшихся на них слез.
Березовый сок собирали без помощи взрослых, потому что взрослые считали, что им сыт не будешь. Что верно, то верно, потому что “сыт” — это когда поешь и наешься, а березовый сок не ели, а пили, поэтому березовым соком можно было напиться, а не наесться. Взрослые предпочитали если и пить, то что-нибудь другое, пусть даже цвета березового сока, а цвет березового сока был прозрачным. Короче, прозрачность березового сока взрослые не ценили, а зря. По-настоящему его прозрачность оценил лишь Костя. Он учился за границей и, приезжая на каникулы домой, обязательно увозил с собой обратно несколько трехлитровых банок с надписью “Сiк березовий” — штук семь-восемь, не более. На вопрос таможенников он гордо отвечал, что это, мол, враки все о том, что за границей все есть, — сока березового вот там нет! А так хочется! После этого таможенники его сразу благодушно пропускали и дальше не досматривали. У этих банок была, однако, своя подоплека. Дело в том, что бабушка Кости была заведующей одной из московских аптек и в банках с надписью “Сiк березовий” был чистый спирт, который можно было за границей вполне разбавлять и вполне пить, и это в то время, когда провоз спиртных напитков за границу строго ограничивался. Таким образом Костя экономил драгоценную свободно конвертируемую валюту, хотя вполне возможно, что он каким-то образом эту валюту даже и зарабатывал. Как в свое время открыли одинаковую плотность железа и бетона и сделали из этого соответствующие выводы, так и Костя в свое время открыл одинаковую прозрачность березового сока и спирта и сделал из этого тоже соответствующие выводы.
Обычно на сбор сока мы ходили с Серегой Раскатовым и Вовкой Дмитриевым. Вовка был сыном дяди Димы, и жили они рядом со Скачковыми. Дядя Дима тоже все с кобурой ходил, потому что работал там же, где и Адольф Иваныч, только Адольф Иваныч начальником был, поэтому его все звали Адольф Иванычем, и кобура у него была большая, а дядя Дима был подчиненным Адольф Иваныча, поэтому все его звали дядей Димой, и кобура у него была маленькая.
Сережка, не Раскатов, а Скачков, сын Адольф Иваныча, будучи постарше Вовки Дмитриева, считал своим долгом в силу своего положения сына Адольф Иваныча всячески третировать Вовку Дмитриева в силу его положения сына дяди Димы: то подзатыльник ему отвесит, то саечку за испуг, то щелбан, а то прикажет куда-нибудь быстро сбегать и чего-нибудь ему принести. Вовка Дмитриев вынужден был все это терпеть, потому что считал, что если он этому третированию поддаваться не будет, то тогда Адольф Иваныч начнет в отместку третировать дядю Диму и будет отвешивать ему подзатыльники, саечки за испуг и щелбаны, а также приказывать куда-нибудь быстро сбегать и чего-нибудь ему принести, причем третировать Адольф Иваныч будет дядю Диму исключительно в рабочее время, потому что в нерабочее он занимается разгадыванием кроссвордов, а это уже совсем никуда не годится, потому что в рабочее время надо работать, а не третировать. Вот и страдал за отца Вовка все время, за исключением, конечно, когда мы ходили за березовым соком, потому что Сережка, сын Адольф Иваныча, с нами не ходил, и правильно, потому что наши с Серегой Раскатовым отцы не были подчиненными Адольф Иваныча, да и лес все-таки...
Сезон сбора сока был обычно в марте. В лесу еще лежал снег, но уже было светло, так как мы учились во вторую смену. С собой мы брали пустые бутылки из-под чего-нибудь, ножи и металлическую проволоку. Подойдя к березе, мы надрезали конусом кору, иногда вместе с камбием, на уровне наших тогдашних плеч, оттягивали надрезанное слегка вверх, после чего вонзали нож несколько раз чуть повыше надреза, таким образом из получившихся дырок начинал вытекать сок и вытекал прямо поверх конусообразного надреза, стремясь к острию конуса. Прямо под острием конуса привязывалась пустая бутылка из-под чего-нибудь таким образом, чтобы сок стекал внутрь бутылки. Для этого бутылка обматывалась вокруг дерева металлической проволокой. Удостоверившись, что все путем, мы шли в школу, чтобы после окончания уроков пойти опять в лес, отвязать уже наполненные соком бутылки, замазать березовые “раны” землей, найти другую березу и проделать над ней ту же “экзекуцию”, что и перед школой, и вернуться домой с бутылками с соком. Наутро процедура повторялась: полные бутылки забирались, пустые устанавливались, то есть подвешивались.
С соком каждый поступал по-своему: Серега Раскатов, по слухам, выливал в унитаз, потому что пить его боялся, а ходил с нами в лес, чтобы не думали, что он боится. Что делал с соком Вовка Дмитриев, я не знаю, кажется, сам пил и младшего брата поил, — одно уж точно: Сережке Скачкову не давал, потому что тот о наших походах не знал и знать ему об этом вовсе не полагалось. А мы и сами пили, и еще бабе Дусе давали.
К бабе Дусе сплавляли детей — посидеть, в основном тех, у кого бабушек не было. С одними баба Дуся сидела за деньги, а с другими — за так, хотя вполне возможно, что она со всеми за деньги сидела, а может быть, со всеми — за так, кто ее знает! Тогда считалось, что сидеть за так — это хорошо, а за деньги — плохо. Нет, конечно, работали, разумеется, за деньги, и учились для того, чтобы потом за деньги работать. Но почему-то было принято, что если, кроме работы, где-то что-то делаешь, то это должно быть обязательно за так, а если ты делаешь не за так, а за деньги, то ты — рвач, а это нехорошо. Работающий должен был жить на те деньги, которые он зарабатывал на работе, а если денег от работы не хватало, то нужно было умерить свои потребности, а не наоборот, зарабатывая где-нибудь еще, чтобы эти потребности удовлетворить. Существовало даже изречение “По доходам и расход!”, а слово “удовлетворить” считалось стыдным. Баба Дуся не работала, а получала пенсию. К пенсионерам подход был такой же, как к работающим: не хватает пенсии — умерь потребности! А вообще всем должно было всего хватать, но часто получалось, что не всем хватало, а все хватали, потому что был дефицит, так вот, когда этот дефицит был, тогда его и хватали, а когда его расхватывали, то дефицита уже не было, — таким образом создавалось бездефицитное общество. Это в других странах считали, что “дефицит” — это когда чего-то нет, а у нас считали, что “дефицит” — это когда, наоборот, что-то есть, но его, этого чего-то, мало, поэтому это что-то, чего мало, и называлось дефицитом, и когда все раскупали, то дефицита больше не оставалось, то есть его уже не было. Поэтому в других странах считали, что когда дефицит, то это плохо, а у нас считали, что плохо тогда, когда дефицита нет, когда он кончился. Это так часто бывает, когда одно и то же слово понимается по-разному, особенно если люди живут в различных социально-экономических формациях.
Еще считалось, что если баба Дуся из квартиры все равно никуда не выходит, то может сидеть с детьми за так, а так как одной ей сидеть целый день в квартире все равно скучно, то дети — это еще для нее и веселье. Так что еще бабушка надвое сказала, кто с кем — она с нами или мы с ней... Но бабушка надвое сказать не могла, потому что у тех, с кем сидела баба Дуся, бабушек не было, как об этом уже было сказано. И со мной баба Дуся сидела, потому что оставить меня было больше не с кем, потому что и у меня не было ни бабушек, ни дедушек, то есть когда-то они, конечно, были, но некоторых я не застал вообще, некоторых не застал практически, а некоторых застал, но смутно.
Василь Сергеич сидел, читал газету “Трудовая копейка”, потом вдруг у него кровь горлом пошла, он и умер. Осталась его жена Ольга Степанна с шестерыми детьми: старшему — двадцать, а младшей, будущей Нин Васильне, — два. И стала Ольга Степанна инвалидом: может быть, потому что Василь Сергеич умер или еще из-за чего. Старшие дети работали на ткацкой фабрике имени А. Д. Цюрупы, так как жили все в поселке имени А. Д. Цюрупы на центральной улице, в пятистенке напротив чайной. Младшие дети и внуки ходили в этом же поселке в школу или не ходили никуда по причине малолетства.
В старорежимные времена поселок назывался Ванилово, а фабрика была Гусева, поскольку Гусев ее основал и ею же владел. Когда же старорежимные времена закончились и есть стало нечего, так как запасы стали подходить к концу и их едва хватало разве что для Москвы, то на фабрике начались легкие волнения. Тогда решили пойти на компромисс: так как продовольствия дать не могли по причине ограниченности его количества, то решили и фабрику и поселок назвать именем наркома продовольствия А. Д. Цюрупы, а продовольствие было обещано в будущем, зато во много раз больше. После этого легкие волнения сразу улеглись, а потом все к новой жизни потихоньку привыкли и продовольственный вопрос уладился сам собой.
Довольно-таки продолжительное время об Ольге Степанне я слышал, что она, будучи инвалидом, подняла шестерых детей и даже успела помочь поднять и нескольких внуков. Больше о ней я ничего не знал, потому что она умерла, когда мне исполнился один год. Еще, правда, слышал вскользь, что у нее на чердаке дома было много фарфоровой посуды Гжельского и Кузнецовского заводов (разумеется, посуда была старорежимная, но этот факт не подчеркивался).
Гораздо позже стали просачиваться обрывки других рассказов. Василь Сергеич, оказывается, пел в церкви на клиросе, замуж Ольга Степанна вышла за него рано и вроде бы не то чтобы без согласия родителей, но и не то чтобы с их согласия, так как отец Ольги Степанны якобы был управляющим Гжельского фарфорового завода и даже часто ездил в командировки в город Мейсен в Германию на тамошний фарфоровый завод, вероятно для обмена опытом (естественно, в старорежимные времена), а фарфоровая посуда Гжельского и Кузнецовского заводов на чердаке Ольги Степанны была ее приданым, несмотря на то, что родители ее были от этого, по их понятиям, неравного брака не в восторге.
Потом просочились сведения о том, что были какие-то нивы и что были кони, и еще была история, как старший сын Василь Сергеича, будущий дядя Леша, будучи двадцатилетним комсомольцем-активистом, этих коней отвел в колхоз, не спросясь, естественно, Василь Сергеича, поэтому Василь Сергеич, узнав такую новость, очень расстроился — тут у него горлом кровь пошла, он и умер.
Когда началась война, дядя Леша сразу на нее попал, потому что по возрасту подходил. Но попав на войну, он сразу попал в окружение и долго в нем был. Другой бы в его положении сидел и ждал, когда его разокружат, а дядя Леша научился виртуозно играть на аккордеоне и зачем-то выучил польский язык (видимо думал, что мы с поляками воюем, или в польский танк хотел попасть — не в смысле снарядом, а в смысле в нем ездить и воевать: попал же в такой танк грузин из польского фильма про четырех танкистов и собаку). Выйдя из окружения и вернувшись домой, в послевоенную жизнь он как-то не вписался. Польский язык в поселке имени А. Д. Цюрупы никого не интересовал, поэтому дядя Леша стал играть на привезенном из окружения аккордеоне на свадьбах, похоронах, именинах и прочих празднествах с вытекающими из этого обстоятельствами, а вытекали обстоятельства, как правило, в виде сорокаградусной или даже покрепче, в зависимости от материальных возможностей и оборудования отмечавших очередное событие. В таком состоянии дядя Леша всегда стремился доказать свою правоту и то, что в пятистенке он отнюдь не на последнем месте, а совсем даже наоборот. Доказывал он это всегда шумно и буйно. Наверное поэтому, а может быть, просто так совпало, но со временем пятистенок потихоньку опустел — дети и внуки Ольги Степанны перебрались в другие места: кто на учебу, кто на работу, а кто замуж. После смерти Ольги Степанны остался дядя Леша в пятистенке один: этот отрезок его жизни описать достоверно довольно-таки трудно, можно лишь предположить, что жил он гостеприимно и щедро, благо, места в пятистенке было предостаточно. В результате никакого старорежимного фарфора Гжельского и Кузнецовского заводов я отродясь не видел, о чем впоследствии иногда сокрушалась Нин Васильна. Очевидно, фарфору надоело лежать на одном месте, и он, как говорится, сделал ноги. Вообще, в пятистенке было очень много интересных предметов, но самые интересные были свалены грудой в горнице, правда, это уже было потом, когда в нем жила тетя Зоя. Самой интересной вещью на тот момент я считал нарисованный потрет Сталина, который стоял на полу в углу почему-то вверх ногами. Скорее всего потому, что тогда уже стало не модно вешать портреты подобного рода на стенку, а выбросить было жалко: вот он и стоял — а вдруг когда-нибудь пригодится? А дядя Леша умер, не дожив и до шестидесяти — отказало сердце, вроде бы на свадьбе или на каком-то другом мероприятии.
Раньше я часто слышал от тети Шуры ее риторические рассуждения о том, что кем бы они были, если бы не эта новая власть. Долгое время я ее в этих риторических рассуждениях поддерживал, потому что тоже так считал. Теперь же мне остается разве что развести в стороны руками, глубоко вздохнуть и сказать: “Не знаю, теть Шур, честно, не знаю, кем бы вы все стали, продлись старорежимные времена, а я, возможно, дедушку бы увидел”.
Иван Елисеича я тоже не застал. Долгое время говорили, что он пропал без вести где-то на трудовом фронте. Иван Елисеич был старовером и жил в Шуклине. При крепостном праве эта деревня вместе с соседними принадлежала помещику-староверу, который разрешал венчаться жителям этих деревень только между собой, чем они усердно занимались даже после отмены крепостного права. Когда же старый режим закончился, то все венчания отменили, а вместо этого создали ЗАГС. Поэтому жителям этих деревень жениться и выходить замуж стало можно, не ограничиваясь территориальным принципом, что они в последующих поколениях и делали, несмотря на явное неудовольствие своих староверских родителей.
Иван Елисеич был женат на Татьян Степанне, тоже, естественно, староверке, потому что тогда иначе быть не могло. Было у них пятеро детей, Егор Иваныч был средним, то есть третьим. Так как в Шуклине кроме домов ничего не было, то работали все в сельском хозяйстве. Иван Елисеич и Татьян Степанна грамоты не знали, были они тихими, то есть нешумными, каковыми и полагается быть истинно верующим людям: закрыл за собой дверь, зажег свечку, тихонько помолился, и стало на душе спокойно — истинная вера и шум несовместимы. Иван Елисеич был рыжебородым, потому что стричь и брить бороды у староверов не приветствовалось. Курить тоже не дозволялось, но Иван Елисеич курил, а чтобы Татьян Степанна не ругалась, выходил для этой надобности на крыльцо: сидел и курил, таким его и запомнили односельчане.
Позже я узнал некоторые подробности касательно Иван Елисеича и трудового фронта. По какой-то причине Иван Елисеич к строевой службе был не годен, поэтому его отправили на трудовой фронт в пункт Х, где он занимался разными трудовыми работами, и, вероятно, так хорошо занимался, что ему дали отпуск с обязательством вернуться к определенному дню назад. Приехал он в отпуск в родную деревню — тут увидел его председатель колхоза и, потирая руки, говорит, что завтра, дескать, поедешь на лесозаготовки в пункт У. Иван Елисеич был человеком послушным, он даже жену свою во всем слушался, да к тому же, как всякий неграмотный, перед грамотными робел. Так что вместо того, чтобы сказать председателю, что, дескать, я уже прикомандирован к пункту Х и должен туда вернуться к определенному дню, он ничего ему не сказал и на следующий день послушно отправился в пункт У. В результате Иван Елисеич в назначенное время в пункт Х не вернулся. О последствиях всего этого можно только догадываться, но больше его в родной деревне никто никогда не видел.
А Татьян Степанну я застал и даже какое-то время успел пожить у нее в деревенском доме. Любимым моим занятием было валяться на печке, именно валяться, а не спать, потому что спят ночью, а валяются днем. Спать на печке мне не разрешали, а валяться — сколько угодно. Но мне очень хотелось на печке поспать. Тогда я придумал, что на самом деле я на печке не валяюсь, а сплю: закрывал глаза и мечтал, считая, что мечты — это мои сны. Еще мне нравилось, затаившись на печке, смотреть через прогал между печной трубой и стеной на кухню, в которой хозяйничала Татьян Степанна, доставая ухватами из печи чугунные котелки со щами или кашей. В прогале между печной трубой и стеной лежали небольшие поленья, и я приноровился скидывать их в кухню, потому что от их падения Татьян Степанна пугалась, громко охала и приговаривала: “Это что же за поленья такие — сами с неба падают!”. Тогда я не понимал, что она мне просто подыгрывала, и радовался своей уловке, внутренне потешаясь над Татьян Степанной.
В углу у Татьян Степанны висела икона, перед которой она бухалась на колени и, осеняя себя двуперстным крестом, шептала молитвы — я тут же бежал к Татьян Степанне и, стараясь ее поднять, изо всех сил тянул ее руку вверх, потому что считал, что она упала и ее обязательно нужно поднять. Татьян Степанна ворчала и нехотя поднималась. Затем она жаловалась приезжавшим на выходные Егор Иванычу и Нин Васильне, что, дескать, я, окаянный, не даю ей помолиться. Если бы мне тогда объяснили, что она не падает, а молится, и что значит “молиться”, то я бы, безусловно, дал ей помолиться, потому что тогда еще не был пионером и не знал, какой вред и какое зло причиняет религия всему человечеству, в том числе и Татьян Степанне.
Перед домом был палисадник, в котором росла акация. Когда она цвела, мы со Светкой, дочерью дяди Андрея, тоже частенько живавшей у Татьян Степанны, ели “собачки”, казавшиеся нам очень вкусными. Светка была на год старше меня и грассировала, что, впрочем, ни ей, ни мне не мешало. Когда акация созревала и давала стручки, так как мы никогда не успевали съесть все “собачки”, то мы со Светкой ели стручки акации. Однажды за этим занятием нас застала Татьян Степанна. Она тут же взяла меня за руку и повела в дом, пообещав дать больше и вкуснее. На кухне она наложила мне полную тарелку гороховой каши — я чуть не расплакался. Обидно было, что Светку, которая всего-то на год старше, да к тому же и грассирует, она в дом не повела, — Светка осталась пастись у акации: ее грассирующий голос был слышен на кухне, и мне казалось, что она меня таким образом дразнит. Гороховую кашу я есть отказался, мотивируя тем, что это хотя и больше, но отнюдь не вкуснее, и что я такую размазню есть ни за что не буду, а хочу есть стручки акации, пока их все Светка не съела. Но обратно к Светке Татьян Степанна меня категорически не пустила.
Мы тогда много чего ели, чего вообще-то не едят. Кроме “собачек” и стручков акации ели клевер, хвою лиственницы и листья липы. Кстати, в Шуклине, правда, на другом конце, жила тетя Липа. Гораздо позже я узнал, что звали ее Олимпиада, а Липа — это сокращенно. Тогда же мне казалось, что ее так зовут в честь дерева липы, листья которой мы так любили есть. К тете Липе мы ходили в гости с Лешкой, младшим сыном дяди Вити, который был младше меня. У тети Липы мы пили чай с липовым медом и о чем-то с ней беседовали. Прежде чем к ней пойти, мы очень громко ставили об этом в известность Татьян Степанну, а потом, идя вдоль деревни, очень громко обсуждали между собой тот факт, что вот сейчас мы идем к тете Липе на другой конец деревни. На тот момент это было вершиной нашей самостоятельности, и мы по праву считали, что об этом факте должны были знать все, и если кто-то в тот момент выглядывал в окно, просто так или за козой глянуть, или узнать, не будет ли дождя, града, бури, урагана или еще чего-нибудь, то нам в этот момент казалось, что выглядывают из окна исключительно из-за нас, и это было очень приятно, потому что быть в центре внимания приятно всегда, а для нас тогда находиться в центре внимания всей деревни было равносильно вниманию всего мира, всей вселенной, галактики, а посему ходили мы к тете Липе с превеликим удовольствием. Когда однажды у тети Липы нам захотелось яблок, то тетя Липа пошла в сад и отломила от яблони две большущие ветки, усыпанные яблоками. Ветки были такие тяжелые, что нам пришлось их нести через всю деревню на плече, умаялись мы, к слову сказать, изрядно, но зато когда мы подходили к дому Татьян Степанны, как всегда, громко между собою переговариваясь, то и Татьян Степанна, и Светка, и все, кто в тот момент сидел на крыльце дома, так и ахнули, увидев, сколько яблок мы принесли.
Когда Татьян Степанна умерла, стояла холодная подмосковная весна, повсюду были сугробы снега. На похороны меня не взяли, чтобы не простудился. Потом ее младшая дочь тетя Маша смогла выйти замуж, потому что до этого жила с Татьян Степанной, так как все остальные давно разъехались, а она осталась ее доглядывать. Вскоре дом был продан на вывоз, то есть его раскатали по бревнам и куда-то увезли. А потом деревню Шуклино снесли и на ее месте проложили бетонку, по которой ездят большие грузовики и самосвалы и чего-то куда-то возят.
У Татьян Степанны был брат Федор, будущий дядя Федя. Жил он в соседнем Потаповском, откуда в свое время Татьян Степанну выдали в Шуклино. Дядя Федя был человек смекалистый, поэтому смекнул, что дальше жить в Потаповском нет абсолютно никакой необходимости. Когда он это смекнул, как раз неподалеку нашли большие месторождения фосфатов и решили построить для их переработки химический комбинат имени В. В. Куйбышева. Построили и стали на нем производить фосфоритную муку для удобрений, простой суперфосфат, серную кислоту, причем башенным способом, преципитат, силикагель, а также коллоидно-графитовые препараты. А вокруг химического комбината имени В. В. Куйбышева построили бараки для рабочих. Бараки ничьим именем не назвали. Дядя Федя переселился в барак, стал работать на химкомбинате и доработался до мастера. А потом его за что-то посадили, скорее всего, по подозрению, потому что через какое-то время выпустили. Не успели выпустить, а тут — война. Перед войной вообще любили сажать, очевидно для того, чтобы враг думал, что все сидят и одержать победу будет легко, — а тут — раз — и всех выпустили, так что враг просчитался — этот факт даже история не может опровергнуть!
А некоторых не выпускали. Вот, например, дядя Ваня, будущий муж тети Зои, на тот момент заезжий гастролер из Смоленской области, работал в поселке имени А. Д. Цюрупы водителем, а потом тетя Зоя от него понесла. Но тут дядя Ваня, недолго думая, взял и продал перед войной канистру государственного бензина “на сторону”, то есть получилось, что он эту канистру у государства украл, за что государство посадило его на восемь лет. Так всю войну и просидел (видимо, берегли его для резервного фронта, но он этому фронту так и не пригодился). Вернулся потом дядя Ваня к тете Зое, несмотря на то, что в Смоленской области оставалась законная жена с сыном, но ведь Смоленская область была во время войны оккупирована, а остававшиеся на оккупированных территориях не в чести были, да и к тому же у дяди Вани судимость, вот он решил лучше к тете Зое. Приехал, а там уже малец бегает лет восьми, сын, стало быть, Коля, будущий отец шестерых детей, что по московским меркам, а жил он, став взрослым, в Москве, уже было нонсенсом.
Не долго думая, понесла тетя Зоя от дяди Вани еще два раза. А посему построил дядя Ваня дом, какие в Смоленской области строят. Своеобразность дома заключалась в том, что он был собран из некрашеных бревен: дядя Ваня утверждал, что если дом покрасить, то он не будет дышать. Дети выросли, а Смоленская область перестала быть изгоем, и в один прекрасный момент были налажены контакты с первой семьей дяди Вани. Дети очень подружились со сводным братом и называли его Толька-летчик, потому что он был летчиком, в отличие от младшего сына дяди Вани и тети Зои, тоже Тольки, — он-то летчиком быть не собирался. Когда дети совсем выросли, тетя Зоя ушла от дяди Вани из дышавшего дома в пустовавший к тому времени не дышавший пятистенок, где пристрастилась гнать самогонку и гнала ее до самой смерти. Оставшись один, дядя Ваня стал очень подозрительным и считал, что все хотят его отравить, поэтому в дом никого не пускал, общаясь с соседями исключительно через забор и не общаясь больше ни с кем.
Но к дяде Феде это не имеет никакого отношения, потому что дядя Федя — брат Татьян Степанны, а дядя Ваня — муж тети Зои, дочери Ольги Степанны, и хоть отчества у Татьян Степанны и Ольги Степанны одинаковые, были они отнюдь не сестрами, а сватьями. А теперь я все-таки продолжу про дядю Федю, поскольку мне перед ним уже как-то неудобно.
Перед тем как дядю Федю посадили, а потом выпустили, жил он уже с женой и сыном Юрой. И еще жил у него Егор Иваныч, потому что станкостроительный техникум, в котором он успел отучиться один год, из-за начавшейся войны расформировали, а возвращаться в Шуклино из-за отсутствия перспектив ему не хотелось, да и надоело вечерами при лучине читать, поскольку электричества тогда ни там, ни в соседних деревнях не было. И когда дядя Федя предложил ему поработать токарем на химкомбинате, Егор Иваныч тут же согласился. На фронт Егор Иваныча не взяли по причине малолетства, а когда могли бы уже взять, то все равно не взяли, так как война подходила к концу и пока бы его выучивали разным военным премудростям, она бы уже к тому времени кончилась, как, впрочем, и произошло на самом деле. Могло бы, конечно, случиться так, что Егор Иваныча на фронт все-таки взяли бы, если бы в документах у него другая дата рождения стояла. А будь у него в документах третья дата рождения, то его могли бы не взять работать на химкомбинат. С датой рождения у Егор Иваныча все было непросто. Дело в том, что Татьян Степанна знала, какой из ее детей после какого или перед каким родился, но вот кто когда родился, она не знала, и, скорее всего, в документах это не отражалось. Рожали староверы, как правило, дома, а не в больнице, и кто там кого куда записал и, главное, когда, было не всегда понятно. Короче, знал Егор Иваныч, что он средний, и все. До поры до времени это никому не мешало. Но вот понадобились Егор Иванычу документы для поступления в техникум — хвать, а документов никаких нет и никто не знает, где они и были ли вообще. Долго ломала приемная комиссия над этим голову, а потом решили провести медицинское освидетельствование Егор Иваныча — ну, мол, медики, они умные, вот пусть и покажут, на что их ум способен! Обследовали медики Егор Иваныча так, обследовали сяк, а потом один из медиков, работавший по совместительству в другом месте ветеринаром, предложил определить возраст по зубам (он таким образом всегда возраст лошадей определял), другие же медики с этим предложением согласились, поскольку никакого контрпредложения выдвинуть не смогли. Таким образом был определен год рождения Егор Иваныча. “А дату, — сказали ему медики, — выбирай сам, какую хочешь, потому что нам это все равно, мы только за год ответственность несем”. У Егор Иваныча в детстве друг был, погибший при невыясненных обстоятельствах. Друг этот еще до своей гибели точно знал, когда родился, и своевременно сказал об этом Егор Иванычу, поэтому Егор Иваныч выбрал датой своего рождения день и месяц рождения погибшего друга. Вот ведь как бывает — выбери он другую дату, глядишь, и на фронт попал бы, и до Берлина дошел бы, а может и нет... не все ведь доходили... Старший брат его, будущий дядя Андрей, до Берлина, к примеру, не дошел, поскольку закончил войну в Венгрии и в Австрии, отзываясь позже об этих странах исключительно с восторгом: “Да... Вот это страны! — восклицал он. — Посмотришь, бывало, на небо — жарковато что-то, надо бы дождичка — глядь, а тут и дождичек, как по заказу. Или наоборот, нужно, чтобы солнышко вышло, так оно уже и выходит. Чудо, а не страны!”. Дядя Андрей ко всему подходил чисто с крестьянской точки зрения, потому что другого опыта у него к тому времени не было. А теперь я все-таки опять продолжу про дядю Федю, поскольку мне перед ним опять уже как-то неудобно.
На фронт дядю Федю забрали не сразу: сначала его какое-то время с такими же, как он, обучали строевой подготовке. Обучение проходило во дворе школы номер два, и Юра, его сын, ходил смотреть, как его отец марширует, поворачивается налево и направо, ложится, приседает, бежит по кругу рысцой и т. п. Юра приходил к школе не один, а с соседскими ребятами, которые тоже любили смотреть на строевую подготовку, потому что и их отцы в ней участвовали, да и потом, где еще такое увидишь — разве что в кино, а в кино они могли ходить исключительно на детские сеансы, на которых про строевую подготовку не показывали.
Пока дядя Федя маршировал, жена его, Маша, ходила беременная вторым сыном Сережей. Однажды она проходила невдалеке от железнодорожного моста, как вдруг налетели немецкие самолеты и стали мост бомбить. Маша испугалась до такой степени, что Сережа родился с нарушением функций мозжечка, что выражалось в его не совсем связанной, слегка заторможенной речи.
Вообще, война впрямую города не коснулась, но отдельные налеты вражеской авиации были, да еще окопы противотанковые на всякий случай рыли, да еще как-то в лесу Егор Иваныч нашел настоящий немецкий парашют из белого шелка. Найдя его, он испугался и убежал, о чем впоследствии очень сожалел, считая, что если бы не испугался и не убежал, а принес парашют домой, то можно было бы из него столько одежды всем нашить, да еще из чистого шелка, — семья жила небогато. Оно, конечно, похоже что так, да только, видимо, нахождение в доме вражеского парашюта, пусть даже из чистого шелка, могло иметь в то время очень серьезные последствия, так что сожалел об этом Егор Иваныч, видать, совсем напрасно.
А дядю Федю тем временем отправили воевать. Пока он воевал, Маша родила Сережу и вскоре умерла. И тогда дядя Федя овдовел. Но не такой он был человек, чтобы унывать, тем более что путь его лежал прямехонько через Украину. И привез он после войны оттуда вторую жену, будущую тетю Любу. Детей у тети Любы не было, и стала она матерью Юре и Сереже, и вырастила их, а также их детей, можно сказать, своих внуков, а вот до правнуков дожить не успела, как, впрочем, и дядя Федя.
Тетя Люба была украинкой, то есть хохлушкой, как говорили в народе. В народе вообще было принято говорить “хохол” и “хохлушка” вместо “украинец” и “украинка”. Доходило до курьезов: когда одна заезжая иностранка, будучи в Москве в гостях у Коли, старшего сына тети Зои и дяди Вани, услышав несколько раз из уст Нины, жены Коли, слово “хохол”, бывшее ей непонятным, взяла и спросила: “Нина, будь любезна, объясни мне, пожалуйста, что значит „хохол”?”, Нина подумала и ответила: “Хохол — это хохол!” Больше заезжая иностранка ее не спрашивала, поскольку ей стало ясно, что “хохол” — это “хохол” и дополнительно объяснять ничего не надо. Справедливости ради нужно сказать, что не следует обвинять Нину в нежелании поделиться информацией с заезжей иностранкой, тем более что информация эта была не секретная. Дело в том, что Нина просто не знала, что “хохол” — это “украинец”, а “хохлушка” — это “украинка”, для нее эти понятия существовали раздельно друг от друга, хотя я подозреваю, что понятия “украинец” и “украинка” для нее не существовали вообще.
Тетю Любу “хохлушкой” или “украинкой” никто не звал. Все ее звали просто “теть Люб”. Она была хозяйственной и аккуратной: каждая вещь у нее имела свое место, в отличие от традиционного бардака в русских семьях, в которых для того, чтобы что-нибудь найти, нужно было как следует поискать, нередко подняв все вверх тормашками. Не все, конечно, так жили, но все-таки в основном.
Тетя Люба и дядю Федю к порядку приучила, и это ему очень понравилось, тем более если учесть, что жили они сначала вчетвером в однокомнатной квартире, а потом в двухкомнатной, но зато в центре города, в двух шагах от центральной площади с памятником Ленину, который всегда стоял на ней с протянутой рукой и не шевелился, сколько бы мы его ни дразнили.
Еще тетя Люба готовила необычайно вкусно для нашей местности. Нет, я отнюдь не хочу сказать, что в нашей местности готовили невкусно, я хочу только повторить, что тетя Люба готовила необычайно вкусно. То, что она готовила, перечислять не буду, потому что все равно никого не переубедишь. Это вон Гоголь во всех своих сочинениях постоянно перечислял, кто что где ел и в каком количестве, наверное поэтому его заживо похоронили, чтобы прекратил издевательства над желудками читателей, постоянно выделявшими в большом количестве желудочный сок при чтении хотя бы основных его произведений. Остановлюсь лишь на том, что запомнилось: печеночный паштет и треугольники из песочного теста, заправленные самодельным мармеладом, и еще вишневая наливка, которую нам не давали, — наш удел был лимонад “дюшес” или “ситго”, как говорила грассирующая Светка.
Центральное расположение квартиры дяди Феди и тети Любы предполагало обязательные сборища у них многочисленных родственников дяди Феди, так как родственники тети Любы продолжали проживать на Украине. Собирались на майские и на октябрьские после прохождения с поднятыми плакатами в колоннах добровольно-принудительных демонстраций под окнами квартир дяди Феди и тети Любы с проходом по центральной площади мимо трибуны перед неподвижным памятником Ленину и возвращением с опущенными плакатами гурьбой по соседней улице.
А потом вваливались в квартиру дяди Феди и тети Любы и, посидев в коридоре на кожаном диване, на котором в свое время ночевывал Егор Иваныч, проходили к столу. Ели, пили, говорили, а иногда пели про молодого коногона, которого несли с разбитой головой. Дядя Федя никогда не пел, потому что, наработавшись всю жизнь в шумном цехе с вредными условиями труда, слышал плохо и часто громко переспрашивал: “Ка?” Я раньше думал, что это за “Ка?” такое непонятное, пока мне не разъяснили, что это сокращенное “Как?”, в смысле “Что вы говорите?”. Так что, если необходимо кого-то о чем-то переспросить, достаточно сказать просто “Ка?”. Дядя Федя, кстати, тоже готовить умел, и весьма даже неплохо, по-видимому, тетя Люба его научила. Он очень рано вышел на пенсию из-за работы на вредном производстве и иногда сиживал со мной, когда ни баба Дуся, ни тетя Лиза, ни тетя Нюра, ни тетя Маша, ни многие другие по каким-то причинам посидеть со мной не могли. Вот он и сидел, дожидаясь, когда придет с работы тетя Люба, а поскольку она не была связана с вредным производством, то работать ей было и работать. Пока мы ждали тетю Любу, дядя Федя варил мне суп и кормил меня им. Когда надо было дохлебать остатки, он научил меня есть по-рабочему, как он говорил. Надо было взять двумя руками тарелку с супом и выпить, обязательно громко хлюпая при глотании, через край и жижу, и то, что в ней плавало. После этого надо было громко сказать “А-а-а!”. Мне этот процесс ужасно нравился, и суп я съедал до последней капли жижи. В других обстоятельствах я обязательно демонстрировал присутствующим, как едят по-рабочему, но восторг это вызывало только у меня, хотя я каждый раз всем рассказывал, кто меня этому научил.
Когда мы собирались у дяди Феди с тетей Любой, по-рабочему почему-то никто не ел, хотя я всех пытался подначить, но меня никто не слушал, потому что взрослые никогда не слушают детей, что, впрочем, зря. Еще не ели сыр, который в обязательном порядке нарезался ломтиками и клался веером на тарелку, но к нему никто не притрагивался, и он лежал, загибая потихоньку углы кверху, и потел. Чтобы спасти положение, Юра с женой всегда приводили с собой детей: старшего Андрюшку и младшего Алешку. Андрюшка был серьезен, сосредоточен и молчалив, хотя говорить уже умел. Своим молчанием и серьезно-сосредоточенным поеданием колбасы он, видимо, хотел показать свою будущую солидность, и это ему, кстати, вполне удавалось. Алешка был улыбчив и разговорчив, но так как он разговаривать еще не умел, то и не разговаривал, но видно было, что хотел, вероятно поэтому и улыбался. Алешка был единственным, кто любил есть сыр, поэтому он всегда спасал положение в отношении сыра в любой компании.
Однажды Нин Васильна сказала, что Юра женится и что он с женой приедет к нам и будет свадьба. И они приехали — два застенчивых худосочных очкарика, так как оба уже работали инженерами, а инженеры, как правило, были застенчивы и худосочны, потому что мало получали, а очкариками были потому, что приходилось много работать глазами. Так вот, приехали они, Нин Васильна посадила их за стол, налила им щей с мясом (она всегда всем наливала щей с мясом), а также по рюмке водки. Молодожены застенчиво улыбнулись, сказали разом “Спасибо!”, выпили по рюмке водки, съели щи с мясом, еще немного застенчиво поулыбались, попрощались и уехали. “А свадьба? — подумал я, — где обещанная свадьба?” Я ведь думал, что будет свадьба, какая бывает по-настоящему. А настоящая свадьба, это когда выносят из комнаты всю мебель, ставят столы, стулья и табуретки (если своих не хватает — берут у соседей), стелят на столы скатерти, а на них ставят всякой снеди и самогона, в углу сидит баянист и все время что-то играет, если не выпивает, потому что ему периодически подносят. Во главе стола сидят жених и невеста, все пьют, закусывают, кричат периодически “Горько!”, молодожены целуются, им высказывают разные пожелания, сначала “любви и счастья”, потом “взаимной верности”, а по мере продвижения веселья желают им уже “лечь вдвоем, а встать втроем”. А баянист все играет и играет, а ему все подносят и подносят, а гости все пьют и веселятся и иногда даже закусывают, потому что выпить можно сколько угодно, а закуска действует на организм ограничительно. Затем, когда веселью уже тесно в комнате, все, в том числе и баянист, который уже в состоянии играть лишь два аккорда попеременно, выходят на улицу, причем обязательно заасфальтированную. Асфальт нужен для того, чтобы по нему шаркать подошвами под ритм частушек. А вот и частушки пошли под шаркание подошв. В частушках обычно женщины лидировали, правда, почему-то считалось, что частушки на свадьбах поют в основном разбитные разведенные молодухи, но это, конечно, не так — разбитных разведенных молодух в таком количестве никогда нигде не было, так что пели все, а особенно те, кто поголосистей, то есть пописклявей. Частушки были разными по содержанию, самой расхожей была “Ой ты, милка моя, шевелилка моя, шевелишь все, шевелишь, мне пощупать не велишь!”, а затем все хором подтягивали: “Ух ты, ах ты, все мы космонавты, ишь ты подишь ты, что ж ты говоришь-то!”. По мере продвижения свадьбы текст частушек постепенно менял характер. Так как баяниста забывать не полагалось, то перед ним выплясывала очередная не обязательно разбитная разведенная молодуха и, шаркая под ритм частушки подошвами по асфальту и маша перед носом баяниста платочком из стороны в сторону, затягивала: “Гармонист, гармонист, положи меня под низ, а я встану, погляжу, хорошо ли я лежу!” — и опять все вместе хором: “Ух ты, ах ты, все мы космонавты, ишь ты подишь ты, что ж ты говоришь-то!”. Не забывали и сельских тружеников, им посвящалось следующее: “Полюбила тракториста и, как водится, дала — всю неделю сиськи мыла и соляркою ссала!” — и опять все вместе хором: “Ух ты, ах ты, все мы космонавты, ишь ты подишь ты, что ж ты говоришь-то!”. Если привести слова частушек, которые исполнялись затем, то понадобятся, в основном, многоточия. После частушек все начинали парами продвигаться в направлении сараев, и даже некоторые пары до них доходили. Ну а если кто-то что-то (или кого-то) не поделил, то того били, а наутро битые залечивали свои раны недопитым самогоном. Вот это, я понимаю, свадьба! А тут... ни “ух ты” тебе, ни “ах ты”...
И хотя Нин Васильна подробно объяснила, что те свадьбы, на которых я до сих пор бывал, — деревенские, а эта свадьба Юры и Люси — городская, поскольку Юра и Люся не какая-нибудь деревенщина, а представители технической интеллигенции, поэтому их свадьба в корне отличается от общепринятых, можно сказать, что это свадьба будущего. Сельскую жизнь Нин Васильевна недолюбливала, хотя сама до четырнадцати лет прожила в поселке имени А. Д. Цюрупы, а потом, уехав оттуда, старалась жить в каком-нибудь городе, а не в сельской местности. Поэтому свадьбу будущего она искренне приветствовала. А я нет, потому что было скучно, а свадьба должна быть веселой. Теперь-то я понимаю, что взрослые лукавили, никакая это была не свадьба — Юра с Люсей объезжали всех родственников и таким образом со всеми знакомились — без нецензурных частушек, мордобоя и самогонки. Наверное, в этом что-то есть, но только не для детей, потому что детям очень хочется, чтобы было весело и динамично, что вовсю присутствует на деревенских свадьбах, в отличие от свадеб технической интеллигенции.
Своеобразной манерой принимать участие в застольях отличался дядя Витя, младший брат Егор Иваныча. Он был военнослужащим и жил то в Германии, то в Архангельской области, то в Улан-Удэ, то в Чите, а то еще где-нибудь. Поскольку, проходя службу вдалеке, он редко видел своих родственников, а также родственников жены, то, приезжая в отпуск, он с женой всех их объезжал. Делалось это так. Сначала они заезжали к одним родственникам, неважно, к чьим, к его или к ее. Ну, ясное дело, ели, пили, разговаривали. Потом вместе с этими родственниками перебирались к следующим и там опять ели, пили, разговаривали. Затем вместе с первыми и вторыми родственниками перебирались к третьим и там то же самое. Таким образом, путешествующая от родственника к родственнику компания стремительно разрасталась. Не знаю, почему так получалось, но мы были в этой цепочке всегда последними, к кому заезжал дядя Витя с женой и прочими. К тому же еще дядя Витя любил наведываться сюрпризом, то есть без предупреждения. Это были времена, когда меня уже могли оставлять одного в квартире. Звонок. Приехал дядя Витя со товарищи. Нин Васильна и Егор Иваныч на работе. Но это не беда, потому что гости привезли все с собой, а чего не хватало, то находилось у нас в холодильнике. И начиналось жаренье-паренье с подаванием на стол, ну и, конечно, наливание. И вот, когда Нин Васильна возвращалась домой (Егор Иваныч возвращался позже, поскольку работал дальше и дольше), она заставала уже тепленькую компанию, призывавшую ее не стесняться и заходить. Нин Васильне такая манера заезжать в гости очень не нравилась, а дяде Вите наоборот. По этому вопросу они никогда не могли достичь консенсуса, видимо потому, что тогда этого слова в широкой массе не знали, а Нин Васильна и дядя Витя были из широкой массы. В общем, гостям часто приходило сворачиваться, а когда вечером домой приходил Егор Иваныч, то получал от Нин Васильны хорошую нахлобучку. На следующий день он собирался и уезжал туда, где, по его мнению, должен был быть дядя Витя, потому что мы хоть и были последними в этой цепочке, но все же, видать, не совсем — всегда находился кто-то неохваченный: вполне возможно, у дяди Вити как профессионального военнослужащего имелись на всякий случай различные стратегические и тактические варианты, вот Егор Иваныч к этому варианту и уезжал. Возвращался он тогда, когда у дяди Вити заканчивался отпуск и он отбывал вместе с женой по месту службы. Я до сих пор не могу понять, как родственникам дяди Вити или его жены удавалось совместить работу с триумфальным шествием за дядей Витей, но как-то удавалось. Да и потом, если кому-то удавалось в рабочее время в очереди в магазин постоять, то почему родственники дяди Вити вместо стояний в очередях в рабочее время не могли с ним немножко поездить, ведь не так уж часто такое случалось — всего лишь раз в год.
У дяди Феди с тетей Любой был сад — не какие-нибудь там задрипанные три сотки в бывшем карьере с глиной вместо земли, а настоящий земельный участок в шесть соток в садовом товариществе в Новлянском на высоком берегу Москва-реки, чтобы не заливало. В саду стоял двухкомнатный деревянный домик с электричеством, в котором можно было жить в летнее время, что частенько и проделывала тетя Люба, а дядя Федя нет. Жила тетя Люба в домике потому, что только там она могла спокойно читать и перечитывать подшивки “Роман-газеты”, которую она выписывала и которую называла не иначе как “Роман-газэта”, что нас очень смешило. Нас вообще смешил ее твердый украинский выговор, но мы вида не подавали и только иногда лишь выбегали из садового домика, чтобы вдоволь посмеяться на свежем воздухе, а заодно и проверить, много ли дождевой воды насобиралось в бочку из желобов, расположенных по периметру края крыши.
А росло у них в саду много чего: помидоры высотой в человеческий рост, между которыми можно было играть в прятки, плоды которых были величиной в два взрослых кулака, цветы, в основном розы, гвоздики бархатные, астры и пионы, огурцы, редиска, укроп, лук, петрушка, репа, свекла, картошка, морковь, ревень, смородина красная и черная, крыжовник, малина, клубника, сливы, яблоки, груши и вишня, особенно нас привлекавшая: “шубинка” была кислой, и мы от нее морщились, а “владимирка” была сладкой, от нее мы расплывались в лучезарной улыбке. Для того чтобы рвать эти сорта, необходимо было взять высокую деревянную лестницу и лезть на дерево, что нам категорически запрещалось, но мы все равно тайком эту лестницу добывали, пока тетя Люба рассортировывала свою “Роман-газэту”, а дядя Федя уходил на соседний садовый участок поболтать с дядей Мишей Ермолаевым. По этой лестнице мы залезали на дерево и рвали, и ели, пока нас не замечал кто-нибудь из взрослых и мы не вынуждены были ретироваться. Но был еще сорт вишни “андо”. Великолепие этого сорта заключалось в том, что ягоды можно было рвать, стоя на земле, поскольку росли они на низеньких деревцах, похожих на кусты, возле которых мы любили пастись, пока не выходила тетя Люба, начитавшись “Роман-газэты”, и не прогоняла нас оттуда возгласами “Не рвите всю, оставьте Андрюшке с Алешкой!” Когда приводили Андрюшку с Алешкой, Андрюшка серьезно-сосредоточенно обходил кусты-деревья “андо” и, проворно их обрывая, молчаливо поедал то, что осталось. Алешка, улыбаясь, стоял рядом и ничего не рвал. Нашу особую любовь к вишне могу объяснить исключительно тем, что в нашенских краях совсем не росла черешня, которую любили все, а вишня ее в какой-то степени заменяла.
Черешня росла на юге, куда мы иногда ездили. Поехать на юг тогда считалось поехать на Черное море. На юг мы ездили не каждый год, несмотря на то, что там жила тетя Лиза, старшая сестра Нин Васильны. Вот тетя Шура моталась туда со своей дочерью каждый год, чтобы скрасить ей одиночество сумасшедше длинных летних каникул, потому что искренне считала, что когда родителей у ребенка двое, то это одно, а когда только один, то надо этот пробел чем-то компенсировать. В отместку за их ежегодные приезды тетя Лиза частенько наведывалась к тете Шуре в Москву, например, купить розовый унитаз для своей дочери Лены, так как на юге розовые унитазы не продавались, а в Москве продавались, или еще за чем-нибудь в столицу слетать — в столице всегда чего-нибудь было, чего больше нигде не было, потому что в столице проживало и проживает высшее руководство страны, которое, естественно, решает так, чтобы было чего к ним поближе, а не от них подальше.
Тетя Лиза жила на юге отнюдь не с рождения. Родилась она в поселке Ванилово, будущем имени А. Д. Цюрупы, где и окончила неполную среднюю школу, после чего поступила в медучилище, куда потом сманила Нин Васильну, правда, Нин Васильна после медучилища поступила в мединститут и стала врачом, а тетя Лиза ограничилась медучилищем и стала медсестрой. А может быть, дальнейшей ее учебе помешал бурный роман с молодым человеком, от которого родился сын Миша. Несмотря на то что все в поселке имени А. Д. Цюрупы знали, чей Миша сын (его даже на фамилию биологического отца записали), молодой человек после бурного романа никак не собирался связывать свою судьбу с тетей Лизой, а решил свою судьбу сначала ни с кем не связывать, а потом все-таки связать с кем-то другим. Воспитывала тетя Лиза Мишу в гордом одиночестве, не совсем, правда, в одиночестве — в пятистенке тогда народу много было: тут тебе и Ольга Степанна, и будущая тетя Зоя с сыном Колей, и будущие тетя Шура и Нин Васильевна — те еще совсем школьницы. А будущие дядя Леша и дядя Толя на войне были — один в окружении, а другой просто на войне.
Когда же послевоенная жизнь начала налаживаться и даже дядя Ваня к тете Зое вернулся, появился в поселке им. А. Д. Цюрупы обходительный коммивояжер Андрей Иваныч откуда-то из южных областей нашей тогда необъятной страны. Решил он за тетей Лизой приударить. И приударил, да так, что они вскоре поженились. Да и как тут не пожениться — у него южные мягкие обходительные манеры, против которых в поселке имени А. Д. Цюрупы никто бы не устоял, а у нее — природная шустрость и определенный рационализм старшего ребенка из многодетной семьи. Все бы ничего, да только стал Андрей Иваныч хандрить: ему, южанину, подмосковный климат на пользу не шел, да и народу в пятистенке многовато было, к тому же все такие шумные, немножко буйные — разухабистые, в общем, но в меру. И вот начал Андрей Иваныч холодными темными вечерами потихоньку нудеть в ухо тете Лизе, поедем, дескать, на юг, чего здесь, в поселке имени А. Д. Цюрупы, делать. Нудел себе потихоньку, чтобы другие не услышали, поскольку жили они, отгороженные от остальных занавеской, и донудел. Не смогла тетя Лиза устоять перед его южными мягкими обходительными манерами, даже в нудном их варианте. И стали они думать, куда поехать. Поскольку “на юг” для Андрей Иваныча означало, как для всякого нормального человека, к Черному морю, то раздобыли они карту черноморского побережья и стали строить планы, где бы им поселиться — в Анапе, в Геленджике, в Сухуми, в Гагре или в Туапсе. На все был Адрей Иваныч согласен, но вот почему-то как только тетя Лиза пыталась выстроить планы с учетом полуострова Крым, Андрей Иваныч от этой затеи всегда ее отговаривал, дескать, холодно там, ветры сильные дуют и вообще неуютно. Тетя Лиза тогда никакого значения этому не придала и лишь потом, спустя многие годы, случайно узнала, что в Крыму у Андрей Иваныча другая семья жила и он не только не хотел к этой семье возвращаться, но и боялся по каким-то ему известным причинам чисто случайно с этой семьей встретиться, поэтому переселение в Крым им отметалось под любым предлогом.
В конце концов уехали они в Сочи. Получилось, однако, так, что Миша в сочинский колорит не вписался, особенно после рождения тетей Лизой Лены и Сергея. Да и Ольга Степанна по Мише очень скучала. Терпела она, терпела, да не вытерпела. Не могу, говорит, смотреть на это безобразие. Приехала в Сочи и забрала Мишу к себе в поселок имени А. Д. Цюрупы. И после этого в Сочи не ездила и Мишу не пускала. Ольга Степанна не ездила, зато ездили остальные.
Остальных было много, а квартира у тети Лизы — стандартная трехкомнатная с большой увитой виноградом лоджией. Часть проходной комнаты, отделенной занавеской, тетя Лиза сдавала одиноким мужчинам-курортникам, потому что считала, что мужчина-курортник утром проснется, сразу на пляж — и до вечера, а вечером придет, выпьет-закусит, газетку почитает — и на боковую. И никаких тебе постирушек, ползунков-распашонок и прочих женских штучек. В других комнатах, включая увитую виноградом лоджию с широкой двуспальной кроватью, помещались тетя Лиза с Андрей Иванычем, их двумя детьми и многочисленными родственниками и знакомыми, приезжавшими к ним отнюдь не спонтанно, а по строго согласованному графику.
Впервые я попал к тете Лизе в компании трех Иванычей. Когда родилась сестра, то Нин Васильна услала меня вместе с Егор Иванычем, чтобы не мешались, куда подальше. Куда подальше оказался Сочи, потому что еще дальше тогда еще не существовало. Вторым Иванычем был дядя Ваня, муж тети Зои, Иван Иваныч, из поселка имени А. Д. Цюрупы. Видимо, и его тетя Зоя услала куда подальше. Дядя Ваня прихватил с собой своего друга и односельчанина Пал Иваныча, который тоже был женат, но послала ли его жена куда подальше или он сам решил отдохнуть за компанию, мне не известно. И вот в таком составе мы и отправились на юг — туда на поезде, а оттуда на самолете.
Ехать в поезде было интересно, но скучно. Нескучно было только на станциях, на которых продавали вареную кукурузу удивительно желтого цвета и черешню. Иванычи ничего себе не покупали, потому что закуска у них была с собой. Ехали мы ночь, день и ночь. Днем к нам подсели цыгане в разноцветных одеждах и бесцеремонно расселись на наших полках. Поскольку все билеты были проданы и мест не было, то они заплатили проводнику и он их взял в вагон, а уж место-то они себе нашли сами таким вот образом. Три Иваныча ничего на это не сказали, потому что знали, что бесполезно и может получиться только хуже, ведь впереди была еще ночь, а ночью цыгане запросто могли нас всех перерезать, так, по крайней мере, считал я. Не знаю, что считали Иванычи, Егор Иваныч, скорее всего, жалел, что едет без кобуры, хотя прекрасно знал, что в отпуск с кобурой ездить не разрешается, да и к тому же никакой кобуры у него к тому времени уже не было. Но цыгане зарезать никого не успели, потому что вышли из вагона именно в тот момент, когда над широкой степью стали спускаться густые сумерки, поэтому мы смогли благополучно добраться до нашего места назначения.
Приехав утром в Сочи на вокзал, мы сразу же вышли на улицу Роз, на которой и жила тетя Лиза. По улице Роз идти было приятно, во-первых, — тепло, во-вторых, — одно название чего стоит! Когда мы пришли к тете Лизе, оказалось, что Андрей Иваныч умирает. Бывает так: жил человек, а потом умер, а бывает по-другому — живет человек, а потом умирает. Вот он так и умирал. Когда я позже читал “Войну и мир” Толстого, то описываемая им сцена смерти старого князя Болконского всегда стояла у меня перед глазами. Вот он, старый князь, лежит и медленно умирает в комнате трехкомнатной квартиры панельного дома на улице Роз города Сочи. Умирает долго и трудно. А окна занавешены плотными шторами, но все равно через плотные шторы из бессовестно широкой лоджии, увитой виноградом, пробивается рассеянный свет яркого южного солнца, не давая старому князю спокойно умереть. И сколько бы раз я ни перечитывал эту сцену, всегда облик умирающего старого князя сплетался у меня с обликом умиравшего Андрей Иваныча.
Вошли три Иваныча, вместе со мной, естественно, к умирающему четвертому Иванычу, поздоровались с ним, он им что-то ответил слабым голосом, а затем тетя Лиза нас оттуда прогнала, чтобы не мешали человеку спокойно умереть. Вот так я увидел единственного коммивояжера в моей жизни в первый и в последний раз.
Тетя Лиза всегда просила нас быть потише, да мы и не шумели, потому что нас целыми днями не было, но ночевать мы все же к ней приходили, и тогда, когда три Иваныча уединялись с закуской на кухне, я был предоставлен самому себе, а так как мне было скучно, то я слонялся по комнатам и часто заглядывал в дырочку в занавеске в комнату к одиноким мужчинам-курортникам. Однажды один из них это заметил и погнался за мной, в шутку ли, всерьез ли, не знаю. Боясь, что он меня поймает, я со всей силы толкнул дверь в комнату, где умирал Андрей Иваныч. Дверь была стеклянной. Стекло разбилось и посыпалось. Я окровавился с головы до ног. Андрей Иваныч вздрогнул от звона разбившегося стекла и тут же умер.
Когда мы каждое утро уходили из квартиры тети Лизы, то нам все вокруг было очень любопытно, потому что в Сочи было много чего такого, чего нигде на было, даже в Москве. Например, кустарники были не только подстрижены, но и имели определенную форму: куба, шара или прямоугольного параллелепипеда. Помоек нигде не было. Оказалось, что сочинцы выбрасывали свой мусор в специальную машину со специальным люком, которая подъезжала к дому два раза в неделю в определенное время по графику. Еще в Сочи везде стояли автоматы с бутербродами. Подходишь к такому автомату, смотришь через стекло на бутерброды, выбираешь конкретный, кидаешь в щель монету, нажимаешь кнопку рядом с полочкой, на которой этот бутерброд лежит, секция с этой полочкой поворачивается, можно ее открыть, достать из нее бутерброд и съесть. Если подойти к такому автомату с утра пораньше, то можно успеть выбрать бутерброд с колбасой, ну а тем, кто долго спал, доставались бутерброды с сыром. Вообще, если встать пораньше и тут же пойти на пляж, то можно было успеть взять напрокат лежак или топчан. А вот зонтиков от солнца в Сочи тогда не было, потому что тогда, видимо, считали, что чем больше солнца, тем полезнее для здоровья, поэтому и ездили на юг, чтобы загореть, причем чем больше, тем лучше. Правда, за свои носы многие почему-то боялись и клеили на них бумажки, а иногда и газетные обрывки. Туалетов на пляже не было, и все свою нужду справляли в море. Но я до моря часто дотерпеть не мог, поскольку идти к морю надо было босиком по раскаленной гальке, переступая через вплотную лежавшие друг к другу тела загоравших. Тогда я начинал ныть и приставать к Иванычам. Чтобы от меня отвязаться, а то закуска уже нагревалась, они меня посылали справить нужду в кабину для переодевания, представлявшую собой шиферное сооружение, скрывавшее среднюю часть тела, так что были видны ноги и головы переодевавшихся. Туда я и ходил, наивно полагая, что это пляжный туалет, пока однажды не услышал в спину от одного мужика-курортника “Нассал, гаденыш!” После этого я стал сомневаться в том, что это действительно туалет, но с Иванычами своими сомнениями не поделился, а просто научился терпеть до моря, как это делали все приличные отдыхающие.
На пляже продавали сахарную вату и жарили пончики, за жареньем которых наблюдали все. По специальному видному всем конвейеру кольца из теста подъезжали по очереди к краю конвейера и бултыхались в посудину с кипящим маслом. Проплыв в этой посудине по маслу круг, они переворачивались специальным механизмом на другую сторону, таким образом можно было видеть уже жареную сторону пончиков, а после второго круга готовые пончики вываливались в специальный лоток, откуда их доставал продавец и складывал в кульки, посыпая сверху сахарной пудрой. Вкусные были пончики на сочинском пляже в тридцатипятиградусную жару! Очередь за ними, правда, была длинная, но мы стояли, терпели, потому что привыкли стоять в очередях и терпеть.
А еще в Сочи впервые в стране стали продавать пепси-колу, потому что Новороссийский завод пиво-безалкогольных напитков купил у американцев лицензию на производство и выпуск этого напитка, а так как Новороссийск находится в том же крае, что и Сочи, то было принято решение, что лучше начать продавать пепси-колу именно в Сочи. Поэтому отдыхающие обязательно покупали себе бутылочки с пепси-колой и ходили с ними по набережным, бульварам, аллеям или улицам, показывая всем остальным, какие они модные и современные. И только старшее поколение ретроградов-консерваторов, к которому относились и три Иваныча, пепси-колу не покупало, считая, что эта смола не стоит тех денег, лучше пойти попить квасу или пива бархатного. В такие моменты я считал Иванычей деревенщиной и, гордо дефилируя перед ними с очередной бутылкой пепси-колы, думал, что мне в жизни повезло значительно больше, чем им, поскольку они свое уже практически отжили, а я еще нет.
Выполняя обязательную программу Нин Васильны, Иванычи сходили со мной в цирк и кукольный театр, которые мне не понравились. Понравилось кино, хотя я и не весь фильм помню. Показывали смешную комедию, а сидел я в кинозале у Егор Иваныча на коленях. Но так как смешно было не только всем остальным, но и мне, то я от смеха надул в штаны и на штаны Егор Иваныча, поэтому полфильма мы с ним провели в туалете (вот почему я не весь фильм запомнил). Штаны у всех были белые, потому что лето, потому что юг. Вышли мы из кинотеатра в белом и мокром, а вместе с нами два Иваныча в белом и сухом. И пошли мы у всех на виду, особенно у толстых женщин в белых халатах, стоявших вдоль нашего маршрута на определенном расстоянии друг от друга, продавая вес. Не свой, конечно, а того, кто купит, потому что рядом с ними стояли большие металлические весы, покрашенные белой масляной краской. На эти весы становились отдыхающие, предварительно купив билет на взвешивание. Женщина в белом водила туда-сюда гирьками, пока на весах не устанавливалось равновесие, после чего громко называла вес только что взвешенного отдыхающего в килограммах и граммах. Почему люди любят взвешиваться на отдыхе или в больнице, я не знаю, видимо, есть что-то общее, по крайней мере — белые халаты.
Иванычи часто искали какие-нибудь лужайки, чтобы на них неплохо посидеть, мне же в это время предоставлялась относительная свобода. И вот однажды, на одной из лужаек, пока Иванычи на ней хорошо сидели, мне повезло — я поймал кузнечика. Кузнечик был не зеленый, как обычно, а серый, но стрекотал по-настоящему, как зеленый. Я спрятал его в большую спичечную коробку, периодически поднося ее к уху и слушая, как он стрекочет. Вдруг передо мной возникло существо с двумя большими прозрачными бантами и, равномерно хлопая большими ресницами, спросило, что у меня в коробке шуршит, на что я ответил, что не шуршит, а стрекочет, потому что в коробке — кузнечик. Существо с бантами захотело непременно на кузнечика посмотреть, ради чего пришлось мне приоткрыть коробку, куда оно тут же сунуло свой нос. “Ах, — огорченно произнесло существо с бантами, — у меня никогда не было ни одного кузнечика и, видимо, никогда в жизни уже не будет!” После этого последовало несколько глубоких огорченных вздохов. “Вот если бы кто-нибудь хотя бы однажды одолжил мне такого кузнечика на денек, я была бы ему бесконечно благодарна всю жизнь, — продолжало существо с бантами, не забывая при этом глубоко вздыхать и равномерно хлопать большими ресницами, — но, видимо, этого никогда не случится”.
“Ну ладно, — подумал я, — всего ведь на денек”, — и протянул ей большую спичечную коробку с кузнечиком, и мы условились, что завтра на этом же месте в это же время девочка мне эту коробку с кузнечиком вернет. На том и расстались.
Вернувшись к Иванычам, я застал их в отличнейшем расположении духа. Иван Иваныч и Пал Иваныч вовсю подкалывали Егор Иваныча на предмет моего нового знакомства, но, узнав, что я одолжил кузнечика до завтра и что завтра в это время мы должны прийти сюда опять, Иванычи дружно рассмеялись. Нет, завтра сюда опять прийти они не возражали, но вот в том, что я получу обратно своего кузнечика, сильно сомневались, сказав мне при этом, что я этих баб еще не знаю. С их утверждениями я был категорически не согласен, но ничего им не сказал.
Конечно, правы оказались они, умудренные жизненным опытом. На следующий день банты на место встречи не пришли, несмотря на то, что я ждал очень долго, — Иванычи даже пару раз в магазин сбегать успели. Таким образом, мой кузнечик в коробке накрылся медным тазом, а я впервые узнал еще одно значение слова “динамо”, не подозревая о самом существовании этого слова.
В день отлета из Сочи я с нетерпением ждал полета. Во-первых, потому что лететь мне предстояло впервые, а во-вторых, потому что в полете я хотел всех удивить. Когда-то дядя Федя рассказал мне, как он летел в Азербайджан. Как только по проходу проходила стюардесса, неся полный поднос кисловатых леденцов “Взлетные” и предлагая их поочередно всем пассажирам, дядя Федя сразу же откладывал все свои текущие дела: “Все возьмут по одному-два, а я — по-рабочему, целую горсть — раз! — и в карман! — не раз повторял он и заканчивал: — Все остальные так удивлялись!” Вот и я тоже хотел всех удивить, специально попросившись сесть у прохода, а не у окна, о чем обычно все мечтали. Но когда я, зачерпнув с подноса стюардессы горсть “Взлетных”, победно сунул их себе в карман, никто этому не удивился. И тогда я подумал, что дядя Федя все это мне наврал: никого он горстями “Взлетных” не удивлял и ни в какой Азербайджан вовсе не летал, к тому же, как он говорил, в Азербайджане все говорят по-азербайджански, так чего же он тогда там делал, если он азербайджанского не знал, ну ладно там Украина — украинскому его бы тетя Люба научила, а тут Азербайджан какой-то — не сразу и выговоришь.
После прилета в московский аэропорт Егор Иваныч меня куда-то посадил и велел ждать, а сам с Иванычами куда-то ушел. Вдруг это, куда меня Егор Иваныч посадил, куда-то поехало, я испугался и заплакал. Водитель вагончиков (а именно в вагончике я сидел, потому что именно в него меня посадили) остановил состав, вышел, высадил меня плачущего на летное поле и уехал. Стою на летном поле и реву, а мимо самолеты проносятся. А в это время около здания аэропорта меня ждали Иванычи — они за багажом пошли, а я в вагончике к ним подъехать должен был. Да вот не подъехал. Испугались они, видимо, не увидев меня там, где я должен был быть. А после того как испугались, сразу же на летное поле выбежали — а мимо них самолеты проносятся. Но повезло им — нашли они меня, а как только нашли, то сразу в три глотки на меня и наорали — тогда я не знал, что орали на меня они от испугу, и еще больше заплакал. Но потом, когда мы миновали здание аэропорта и Иванычи зашли в магазин, они совсем успокоились, подобрели и купили мне конфет, несмотря на то, что в кармане у меня в этот момент лежала целая горсть кисловатых леденцов.
После нашего отлета из Сочи курортный сезон закончился и курортники оттуда уехали или улетели, остались одни местные, в том числе тетя Лиза с Леной и Сергеем. Тетя Лиза считалась местной, поскольку приехала в этот город не отдыхать, а жить и работать, что она и делала, оставаясь при этом белой-пребелой, чем удивляла коренное население. Белой-пребелой она была потому, что на море никогда не ходила и на пляже никогда не загорала, потому что ей было некогда и еще потому что она этого не любила. Дети же ее, напротив, уродились довольно смуглыми, ничем не отличаясь от остальных сочинцев. Да и на пляж, и на море ходили.
Шло время, и Лена вышла замуж за Женьку — его все так и звали: Женька. Он работал поваром в ресторане и, естественно, готовил так, что облизывали пальчики все. А так готовить он мог исключительно потому, что ему всегда было из чего готовить, то есть из мяса. Тогда всегда готовили из мяса, а если мяса не было, то не готовили, потому что не из чего было, а раз не готовили, то ходили в столовую, но там было невкусно, поэтому туда ходили редко. Как типичный ресторанный повар Женька то ли уже отсидел, то ли ему еще предстояло, потому что быть ресторанным поваром и не сидеть — понятия несовместимые. Так что в очередной наш приезд, когда Женька уже поселился у тети Лизы вместо одиноких мужчин-курортников, мы три раза в день наворачивали мясные блюда, причем на первое, на второе и на третье. А чтобы мы все это ели, взрослые плели нам байки о том, что сегодня у нас — медвежатина от знакомого охотника Женьки, с которым он или уже сидел или еще только будет, а вечером — фазанятина из того же источника. Те, у кого был хороший аппетит, сразу же захотели стать поварами, так как считали, что Женька был не дурак: в сущности, так оно и было, просто он опережал свое время и жил уже тогда в эпоху рыночной экономики, которая отнюдь не должна была быть экономной, потому что просто не могла себе этого позволить.
А потом Женька съехал. Мясо исчезло, и опять появились одинокие мужчины-курортники и, конечно, многочисленные родственники, друзья и знакомые. А так как тете Лизе невозможно было доказать, что живут у нее они бесплатно, поэтому и налоги она платить не должна, то в определенные дни мы должны были вставать очень рано и уматывать на пляж, потому что в эти дни к тете Лизе приходила проверка на предмет сдачи койко-мест и уплаты налогов. В какие дни придет проверка, тетя Лиза знала заранее, потому что в органах проверки у нее был свой человек, как, впрочем, у всех сдававших. В эти дни на пляже было еще темно и неуютно, но недолго, потому что летом светает рано.
Потом Лена сошлась с главным энергетиком города, бывшим старше ее на двадцать пять лет, у которого была семья и бросать ее он не собирался, но, получая как участник войны ветеранские пайки, он отдавал их Лене, а не своей законной супруге — вероятно потому, что его супруга была тоже ветераном войны и в его пайках не нуждалась. А потом главный энергетик города умер, да и Лена вскоре тоже.
Сергей любил, чтобы его звали Сержем, поэтому его так все и звали. Родившись и выросши в Сочи, он каждый день наблюдал праздную жизнь курортников и искренне считал, что так везде живут. Поэтому такую жизнь в себе он культивировал с детства со всей ее курортной атрибутикой, включая позже и рестораны с коньяком, шампанским и любимым вином Сталина, которое в каждом ресторане почему-то называлось по-разному. Недостатка в средствах у него никогда не было: благо тетя Лиза работала медсестрой на две ставки, да еще и ночами дежурила, ну и курортники тоже доход приносили. Манеры у Сержа были, как нам тогда казалось, заграничными, хотя за границей мы тогда не были, но фильмы заграничные смотрели, в основном французские, с Аленом Делоном и Жаном Полем Бельмондо. Долгое время Серж никак не мог определиться, кто он — Ален Делон или Жан Поль Бельмондо, поэтому взял элегантные манеры от обоих. А может быть, гены Андрей Иваныча сыграли свою роль.
И вот, закончив школу, элегантный Серж со своим не менее элегантным другом Костей приехал в Москву поступать в тогда очень престижный Институт международных отношений, чтобы стать впоследствии дипломатом и работать в одном из зарубежных посольств или, на крайний случай, консульств. Поселились они с Костей, естественно, у тети Шуры, потому что больше не у кого было. Костя был сыном уборщицы, которая воспитывала его без отца. Этот факт в разговорах всегда подчеркивался. “Надо же, сын уборщицы, а какие манеры!”
К экзаменам ни Серж, ни Костя не готовились, потому что считали, что своим сочинским шармом они могут обворожить кого угодно, включая приемную комиссию, а так как у Оли, дочери тети Шуры, были школьные каникулы, то они втроем довольно весело проводили время, в основном играя в карты, поскольку это занятие им больше всего нравилось. В перерывах тетя Шура их часто кормила чем бог послал, так как работала в детском саду, находившемся на первом этаже того же дома, в котором она жила.
Так прошел месяц, и наступила пора приемных экзаменов. После того как сочинским шармом обворожить приемную комиссию не удалось, Серж, в отличие от Кости, обратно в Сочи не вернулся. Стараниями дяди Толи из облвоенкомата его устроили в Высшее общевойсковое командное училище, поставлявшее в то время офицеров для службы в Кремле. Учись себе, да маршируй, а после окончания ходи себе к Мавзолею и принимай разводы караула или следи за тем, чтобы солдаты как следует охраняли чего-нибудь секретное на территории Кремля. Или болтайся где-нибудь между Алмазным фондом, Оружейной и Грановитой палатами, но так, чтобы думали, что с секретным заданием откуда-то куда-нибудь идешь. Да и потом, правительство под рукой.
В училище, понятно, дисциплина, хоть и Кремль, но все же, а дисциплина и сочинский шарм — понятия несовместимые. Мучился Серж в училище, страдал, в каждую увольнительную к тете Шуре наведывался: чайку попить или в картишки с Олей перекинуться. В училище познакомился Серж с Алешей, тот, как и Костя, тоже без отца рос, но в Москве, правда, хоть и мать его из сельских староверов была. Тянулись, видно, к Сержу такие полуодинокие души, так что подружились они крепко, даже до такой степени, что Алеша этот на Оле женился, так что Серж и Алеша, можно сказать, породнились.
И опять грусть-тоска стала съедать Сержа. Ну поженил он Алешу с Олей, погуляли на свадьбе — и что? Скука, тоска — так и до петли недалеко. Но до петли дело не дошло. Решил Серж роман закрутить. И закрутил. С женой своего начальника. Все с ней романы крутили, а против сочинского шарма она, ясное дело, не устояла и, видимо, не раз отдавала ему честь, а он, в свою очередь, не раз отдавал честь ее супругу, потому что так по уставу было положено. И стала жизнь Сержа поразнообразнее — честь взял, честь отдал, у Грановитой покемарил, из Царь-пушки припрятанный бутылек достал и с Алешей раздавил, в Царь-колокол забежал, нужду малую справил — и опять к своей любезной по части чести и более чего.
И все бы ничего, да только попался Серж. Как попался — никто толком не знает, поскольку дело, на него заведенное, в архивах Кремля покоится, если, конечно, не сгорело — Кремль ведь частенько поджигали. Из другого какого места в таком случае — пинком в зад — и все дела. Но из Кремля... Из Кремля ведь практически никого никогда, разве что во время отпуска, но это уже за его территорией. Так что решили отправить Сержа куда-нибудь поюжнее — подальше от центра и ему комфортнее, с его-то южным... И очутился Серж в училище того же профиля, но только в городе Алма-Ате. Перевели его, стало быть, из столицы одной республики в столицу другой. Там-то он и женился. На свадьбу летала тетя Шура, рассказав всем потом, какие в Алма-Ате прямые улицы сеточкой и какие там вкусные яблоки. Больше она ничего не рассказала.
После окончания училищ ребята вполне устроились. Алеша стал работать в Кремле и заважничал. В свободное от работы время он срисовывал цветными карандашами документы разных степеней допуска на территорию Кремля. Получалось вполне достоверно, поскольку художник он был хороший. А больше в свободное время ему особо делать было нечего, впрочем, как и во время несвободное. Таким образом он дослужился до кремлевского генерала, ушел в отставку и стал работать в новых структурах, то есть охранником, поскольку больше ничего делать не умел. Пришлось Оле с ним развестись, поскольку она считала себя натурой творческой, проработав какое-то время в детском саду воспитателем и немножко логопедом, а его — отнюдь нет, а нетворческих людей она не жаловала. А вообще, настоящие творческие люди в Москве не живут, поскольку конгломерат творчеству противопоказан. Питер тоже, кстати, недалеко ушел — но там есть корюшка, и это его оправдывает.
Другое дело — Серж. После окончания алма-атинского училища он получил распределение в Германскую Демократическую Республику, и его жена тут же последовала за ним на запад, как в свое время жены декабристов последовали за ними на восток. Служить в Германской Демократической Республике было делом ответственным. Каждый раз, приезжая в отпуск, Серж рассказывал о том, что живем мы здесь, в тылу, ничего не видим и не понимаем, в то время как он, Серж, стоит на страже нашей системы вплотную грудь грудью к врагу, нацеливающему в его грудь винтовку или автомат. И все это ради того, чтобы все мы спокойно и мирно жили на нашей планете под названием Земля.
Я очень четко представлял эту картину. Стоит себе Серж в Германской Демократической Республике, упираясь своей грудью в границу нашего общества. Эту границу я почему-то представлял в виде сетчатой проволоки из алюминия, как в саду у дяди Феди. А по другую стороны границы стоит враг и целится винтовкой или автоматом в грудь Сержу. А поскольку расстояние между грудью Сержа и грудью его врага намного меньше длины винтовки или автомата, то ствол этого вражеского оружия касается непосредственно груди Сержа и так на нее давит, что от этого ему очень больно. И так все время, пока не придут караулы и их не сменят. Попробуй, постой вот так как минимум восемь часов каждый день, когда тебе в грудь сильно давит вражеская винтовка или автомат! Вот и стоял Серж, и терпел весь день и всю ночь, в зависимости от смены. За это ему и деньги платили. После каждого рассказа Серж сразу же просил комнату, чтобы переночевать в ней с той, которую он в данный момент привел туда, где этот свой рассказ и рассказывал. Конечно, после такого рассказа отказать ему в комнате было как-то неудобно, даже если остальным в тот момент приходилось спать где-нибудь на кухне под столом. Жена же его в это время оставалась в Германской Демократической Республике, поскольку ему раз в год был положен бесплатный проезд, а ей нет.
Мудрое руководство страны отлично понимало, что под дулом вражеской винтовки или автомата длительное время стоять нельзя, поскольку после такого стояния в груди может образоваться большая вмятина. Поэтому через несколько лет стояния под вражеским дулом Сержа перевели из Германской Демократической Республики на Крайний Север. На этот раз его жена за ним последовать отказалась, аргументируя тем, что жены декабристов последовали за ними всего лишь один раз. Так что поехал Серж на Крайний Север один, а его жена — к матери в Москву, так как в то время, когда они пребывали в Германской Демократической Республике, ее мать сумела обменять алма-атинскую квартиру на московскую.
На Крайнем Севере Сержу было почти так же тоскливо, как когда-то в Кремле. И стал он пить с каждым, кто под бутылку попадется. Так и загремел в больницу — сердце стало не выдерживать. А в больнице ему сказали, что, мол, ерунда все это, не сердце это вовсе, а желудок, и стали Сержу желудок промывать. Тут он и умер. Тетя Лиза потом рассказывала, что в этот день предчувствие у нее нехорошее было и сердце саднило, да еще и голубь в окно залетел. Похоронили Сержа в Сочи.
Вася, средний сын тети Зои, любил путешествовать. Нет, дальние страны его не интересовали, по горло он был ими сыт. Путешествовать он предпочитал от родственника к родственнику на электричках и автобусах. Родственников было много, но Вася умудрялся объездить всех, кого надо. Кого надо, он знал всегда и, приезжая без предупреждения, попадал, как говорится, в кон — те, к кому он в данный момент приехал, были дома.
В гости Вася приезжал так. Продолжительный звонок в дверь. После этого из-за двери голос Васи: “Иваныч, открывай, у меня чекушка!” Открывала обычно Нин Васильна со словами “Я те дам чекушку! Иди поешь лучше!”, вталкивая при этом Васю в кухню и наливая ему, естественно, щей с мясом. Пока она их наливала, повернувшись к плите, Вася, распахнув пиджак, показывал Егор Иванычу торчащее из внутреннего кармана горлышко чекушки с козырьком и тут же переводил взгляд на полку со стаканами. Егор Иваныч беззвучно под шум разогревавшихся щей брал два стакана, куда Вася мгновенно наливал, не ошибившись, поровну, и они с Егор Иванычем тут же стаканы опорожняли — происходило это все в считаные секунды, так что Нин Васильна обернуться не успевала, а когда оборачивалась, то было уже поздно, естественно для нее, а не для Васи с Егор Иванычем, которым было уже душевно. Нин Васильна ругалась, но щи с мясом наливала, потому что считала, что кормить ими нужно всех, кто пришел, даже тех, кто пришел с чекушкой.
“Что, Вася, опять не работаешь?” — благодушно спрашивал очекушенный Иваныч. На что Вася многозначительно отвечал, что, дескать, какая уж тут работа, если эти давят. При слове “эти” Вася всегда закатывал глаза к потолку для того, чтобы было понятнее, кого он имеет в виду. И не было еще ни одного случая у родственников, чтобы его не поняли, а наоборот, поняв и посочувствовав, тут же лезли кто в подпол, кто в модный тогда бар в стенке и, достав оттуда очередную емкость, щедро наливали Васе, не обделив, конечно, и себя, к вящему неудовольствию присутствовавших в тот момент женщин, а если женщины в тот момент не присутствовали, то было еще проще, но уже без щей с мясом или их эквивалента.
Не работал Вася не всегда, иногда ему удавалось где-то поработать, тогда получалось, что работает он несмотря на то, что эти давят, так что и в этой ситуации наливали ему и, естественно, себе. Так что не важно, работаешь ты или нет, — родственники все равно нальют: куда же они денутся — на то они и родственники.
После этого обычно следовал рассказ Васи о том, как он служил там, где он не служил, и поэтому говорить об этом не имеет права, так как давал подписку, поэтому если раскроется, то кирдык не только ему, но и всем тем, кто знает, так что об этом не должен был знать никто, хотя все уже давно об этом знали и даже не по одному разу.
Это было отнюдь не пьяной трепней, а настоящей правдой. Вася служил в армии действительно там, где никогда не служил, и действительно давал подписку о неразглашении, и действительно не разглашал — ведь нельзя же назвать разглашением родственные рассказы после чекушки, поллитровки и прочих емкостей о том, что, дескать, поезжай туда, не знаю куда, служи там, не знаю где, но подписку после всего этого все-таки дай.
Разгадка этой, казалось бы, шарады заключалась в том, что Вася служил в армии в Египте в то время, когда никакой армии в Египте не было. Нет, конечно, у египтян была армия, но в ней Вася не служил, поскольку египтянином не являлся. А той армии, в которой он служил, никогда в Египте не было, по крайней мере официально. Официально Вася служил в Сибири и все годы вынужден был писать родственникам, друзьям, знакомым и просто любимым женщинам письма о том, как он околевает при пятидесятиградусных морозах, изнывая на самом деле при этом от пятидесятиградусной жары. “Эх, — говорил в заключение Вася, — если бы я тогда думал так, как сейчас.....” И потом, выпив, добавлял: “Вот у нас один был — с египтянами тыр-пыр — вдруг — раз — он уже и переводчик! А я дурак — язык надо было учить!” (Иногда я думал, что вот было бы здорово, если бы Вася на самом деле служил в Сибири, а всем вынужден бы был писать, а потом и рассказывать о том, что служил в Египте, — тогда бы все стали думать совсем по-другому, чем думали до этого, но было бы это хорошо или нет, я не знаю, потому что от перестановки слагаемых сумма не всегда остается неизменной, и пусть попробуют мне математики возразить — все равно у них ничего не получится, так как вряд ли они служили в Египте, служа в Сибири, или наоборот.)
После этой тирады Вася обычно прощался, если не ночевал, и перемещался к другим родственникам, зайдя предварительно в магазин и купив очередную чекушку.
И хотя у Васи была семья и квартира в Химках, но к родственникам его постоянно тянуло, и эта тяга все пересиливала. Родственные узы — дело такое, что и рад бы иной раз разорвать, да не получается и не получится, потому что это — закон природы или, похоже, даже закон того, что выше природы, но выше природы бывает только абсолютный разум, так нас в свое время учили, только про него никто ничего не понял, даже учителя, поэтому плюнули они на абсолютный разум и стали учить опять про природу — это понятнее и естественнее, по крайней мере, можно было пойти и на эту природу поглядеть — а попробуй пойди да погляди на абсолютный разум — глаза выколешь, а не увидишь. А кто говорит, что абсолютный разум видел, то врет он все, как Вася про Сибирь. А может быть, тот, кто этот абсолютный разум видел, тоже кому-нибудь подписку давал, как, например, Фауст Мефистофелю, да только тогда наши познания в Фаусте ограничивались, в основном, фаустпатронами — традиции тогда были именно такими, и ничего с этим нельзя было поделать, потому что подписку дали, не всегда даже об этом зная.
Вовка тоже любил поездить, правда, не на общественном транспорте, а на машинах, причем на разных. Вовка — его все так звали даже тогда, когда он вырос, — был сыном дяди Толи и близнецом своей сестры Иры, или ее двойняшкой, то есть они лежали в одной утробе, в процессе чего Ире удалось Вовку обожрать, поэтому она родилась толстая и здоровая, а он — щуплый и хилый. В детстве Ира могла запросто съесть пачку маргарина без хлеба, причем даже не одну за день, поэтому маргарин от нее усердно прятали, чтобы Ира не заболела диатезом, а Ира спрятанный маргарин находила и ела. А Вовка маргарин не ел. Он вообще почти ничего не ел, но зато часто болел, поэтому его все жалели и баловали в соответствии с возможностями того времени.
В школе Ира училась хорошо, потому что все еще была толстая и здоровая, а Вовка — плохо, потому что все еще был щуплый и хилый. Но зато Ира не любила кататься на машинах, а Вовка любил, а так как у него машины не было, то он катался на чужих. Подойдет к машине, откроет ее, покатается и поставит туда, где есть свободное место, а если машина была заперта и не открывалась, то он ее все равно как-то открывал. Проблем вроде бы не должно было быть, но почему-то хозяева машин, на которых любил кататься Вовка, предпочитали искать свои машины там, куда их ставили они, а не там, куда их, покатавшись, ставил Вовка. Хотя, казалось бы, какая разница, где стоит машина, — садись и катайся себе на здоровье. Но хозяева машин этого не делали, а бежали заявлять в милицию о пропаже личного транспорта, хотя их машины никуда не пропадали. Дяде Толе все это не нравилось, но вместо того, чтобы бежать в милицию и ругать хозяев непропавших машин, он бежал к Вовке и ругал его, иногда даже руками, искренне считая, что если бы Вовка не катался на чужих машинах, то дядя Толя давно бы уже стал генералом. Но даже и тогда, когда Вовка перестал кататься на чужих машинах, потому что внезапно умер, дядя Толя все равно генералом не стал, так как, по-видимому, очередь его не подошла, хотя на самом деле его очередь подошла уже давно.
Когда во время войны дядю Толю взяли на фронт, то воевал он так, что дошел до Берлина и был представлен к высшему на тот момент званию героя своей страны, но его ординарец сбежал в неизвестном направлении, предварительно взяв с собой все ордена, медали и наградные документы дяди Толи. Почему дядя Толя потом документы и награды не восстановил, я не знаю, видимо, очень хлопотно это было, а может быть, и невозможно в тогдашних условиях, но в Параде победы на Красной площади столицы он участвовал, после чего вернулся в добитую Германию, где его и ранили, потому что грузовик, в котором он ехал, наехал на мину, после чего дядя Толя попал в лазарет, где и познакомился с тетей Таей, которая в этом лазарете работала медсестрой.
Первая любовь случилась в первом классе. Все мальчишки класса были влюблены в Ирку Шурупову, считавшуюся самой красивой. Любимым ее занятием в свободное время было сидеть перед домом на скамейке нога на ногу, вздернув нос, что доставляло ей большое удовольствие. Вокруг скамейки постоянно увивались ребята, пытаясь разрешить вопрос, кого же она из них любит. Особенно усердствовали Крылов и Колосков, периодически подскакивая к Ирке, и, перебивая друг друга, орали на весь двор, вопрошая, любит ли она Крылова или, наоборот, Колоскова, и пытаясь добиться от Ирки ответа. Ответ у Ирки всегда был готов, потому что отвечала она все время одно и то же, а именно, что любит она маму, папу, лимонад, конфеты и мороженое, доводя этим ответом Крылова и Колоскова буквально до бешенства. Оба начинали еще больше орать, а Ирка продолжала спокойно сидеть нога на ногу и задирать свой нос. Меня всегда эти лавочные наскоки удивляли, я не понимал, как можно влюбиться в Ирку Шурупову, если предметы ее любви довольно ограничены. И я решил в нее не влюбляться. Но так как влюбиться в кого-нибудь было надо, то я решил влюбиться в Ирку Лысенко с короткой стрижкой под мальчика. Тогда я еще не знал, что подобные стрижки носили эмансипированные женщины двадцатых годов двадцатого века, но даже несмотря на это незнание, я в Ирку Лысенко влюбился.
Что делает влюбившийся человек? Куда-нибудь приглашает, например в кино, если есть кинотеатр или клуб. Кинотеатра у нас не было, а клуб был. Поэтому однажды на перемене я подошел к Ирке и сказал: “Пошли, Лысенко, завтра в кино, я за тобой зайду!”. Ирка утвердительно кивнула. Эта новость мгновенно облетела весь класс, а затем и всю школу, поскольку влюбляться-то мы влюблялись, но вот в кино никто никого не приглашал, даже Шурупову. Нет, конечно, взрослые друг друга в кино приглашали, чтобы в темноте целоваться, это мы знали, поскольку всегда занимали места в последнем ряду и, как только на экране была сцена с поцелуями, мы сразу же начинали урчать и чмокать губами, имитируя эти поцелуи, к неудовольствию любовных парочек. Но пригласить в кино в первом классе — это был нонсенс.
Не знаю, почему Лысенко сразу согласилась, наверное потому, что тоже была влюблена в меня, или потому, что благодаря своей прическе уже была эмансипирована, а может быть, потому, что давно в кино не была.
Когда после уроков я появился дома, о том, что я завтра иду с Лысенко в кино, знал уже весь квартал. Нин Васильна сразу стала думать, в чем я завтра в кино пойду, Егор Иваныч, хмыкнув, спросил: “Сколько?” Я ответил, что нужны деньги на два билета на детский сеанс.
На следующий день, а это был выходной, я зашел за Иркой. Ее родители, а также старшая сестра Наташа были в меру возбуждены и предлагали мне деньги на билет, от которых я категорически отказался, гордо заявив, что у меня есть. “У, какой у тебя ухажер, — сказала мать Ирки Ирке, — при деньгах!” После этого мы с Иркой пошли в клуб. Каково же было наше огорчение, когда, придя в клуб, мы узнали, что хоть время и детское, но сеанс не детский и стоимость билетов на него существенно превышает имевшуюся у меня в кармане сумму. Тут я пожалел, что отказался от денег, предложенных мне потенциальной тещей, поскольку в тот момент я твердо намеревался на Ирке жениться. Что делать, мы не знали, так как сбегать за деньгами домой мы не успевали, да и неудобно как-то было. Думали мы, думали и разошлись по домам. После этого я к Ирке Лысенко охладел, а спустя некоторое время и вовсе ее разлюбил, так и не узнав о ее чувствах ко мне.
Потом в школе ребята сочувственно похлопывали меня по плечу, поскольку о неудачном походе с Лысенко в кино знали уже все. Похлопывание по плечу означало, чтобы я не очень и расстраивался, поскольку так часто бывает, что в первый раз не совсем удачно, так что пойдем лучше в домовушку, купим пирожок и забудем всех этих девчонок — вот что означали эти похлопывания по плечу. А Ирка Шурупова ехидно улыбалась, не переставая повторять, что любит маму, папу, лимонад, конфеты и мороженое.
Кокетство Ирки Шуруповой сыграло с ней злую шутку. Слывя в начальной школе самой красивой девочкой, в переходном возрасте она потолстела и подурнела. В нее к тому времени уже не то чтобы никто не влюблялся, но все старались ее слегка обходить стороной. Особенно это невнимание было отчетливо заметно на танцах в лагере, когда стояла она в сторонке одна и никто ее на танец не приглашал. Иногда она взглядом просила: “Ну пригласи!”. Этот взгляд старались не замечать. Однажды она подошла ко мне и попросила, чтобы я ее пригласил. Мне стало ее жалко, и я с ней потанцевал. Оттанцевавшись, я с чувством исполненного долга отвел ее туда, откуда взял. Что с ней стало после ее переходного возраста, я не знаю, потому что это меня нисколько не интересовало, ведь я, в отличие от остальных, никогда не был в нее влюблен.
А потом я вырос. Вот, собственно, и все.
Советские мальчишки
Данил Файзов (Файзов Даниил Павлович) родился в 1978 году в Красноярском крае. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в литературных журналах и альманахах, автор книги стихов “Переводные картинки” (М., 2007). Работал в московской системе клубов ОГИ-Пироги-Билингва продавцом книг и товароведом. Вместе с Юрием Цветковым организовал литературный проект “Культурная инициатива”. Живет в Москве. В подборке сохранена авторская пунктуация.
* *
*
Семеня при выходе из вагона метро
Глядя в чужую спину вспомнить лицо подруги
Так ли он хорош этот договор
По которому я оказываю все услуги
Те ребята что мяч пинают моложе меня
Где же я потерял красивые годы жизни
И уже не важно что и на что менять
Вот отчизна просится в рифму. Ну вот. Отчизна
Так ли мне хорошо
Что готов написать стишок
Так ли чудесно
Что не находишь места
Где хорошо?
Там где еще
Сладко солено
Может быть даже пресно
* *
*
Ни одного знакомого лица
и вообще ни одного лица
красоты
виды
и все для одного чтеца
платона и овидия
в березах и полыни адреса
забыты и потеряны с листа
до самой смерти
считал до ста
всего что есть на свете
и провалился и порезался осокой
плескался сон он был рекой глубокой
горбушка зачерствела в рюкзаке
и проступала кровь из неглубокой
из ранки на щеке
* *
*
само собой случится разделенье
на тех что умерли
и тех что вырастают
из дедовых рубах до потолка
но жизнь сама решила как-нибудь сложиться
одернешь руку обожженная рука
крапива в строчку хорошо ложится
и ты ее как родную воспринял
поскольку с ней на языке одном
ты говоришь лишь гласными простыми
их выдыхая в воздухе густом
* *
*
Бабушка Клава несла этот груз сколько знала сил,
Сколько знала лет для своих детей
Говорила: Сделаешь дело, и с плеч гора,
А то, сколько ее носить, но о том что стара
Не могла говорить никак — потому как не износил
Пиджака последнего старший из ее сыновей.
Пусть, что младше, те совесть несли иначе.
Разве что младший старшему чуть помог
Или напротив. Ну, он на то и старше.
Старший же сын был навсегда сынок.
Трое их было у бабы Клавы каждый любим совсем.
То есть по-своему, но ежели та гора
Падала с плеч, то любимый всеми
Старший не смел отдыхать. Он кирял с утра.
Долгая та зима и не спешно лето.
Летом же бабу Клаву в пуховый гроб
Так уложили, что младший рыдал об этом.
Да и другой рыдал бы. И где тех слов
Мне отыскать, чтоб умножить, отнять, прибавить.
Бабушка Клава, малина уже не та…
Да и гора задумала нас оставить.
Сыновей твоих — Павла, Алика,
До того как доделали дело.
Не успели они устать.
* *
*
Как же мне не хватает моих любимых
Б. К.
Попрощаться хотели бы все неприглядные птицы
Все смешинки дурачества дальше забавней гореть
Но закончены велосипедные спицы и вся чечевица
Все ушли от меня, все любимые дни, и любимые лица
Вам того же и вам, и удачи, и счастья, и не постареть.
Как ты думаешь, я вот им так пожелал
Не стареть, но, быть может, исполнят?
Как ты думаешь, я целовал
Ну, хоть кто-нибудь вспомнит?
Горький шелест осоки и жалобный шелест ольхи
Кто стоит над тобой в двадцать лет в колыбели
Это твой человек он мои обожает стихи
Это я и конечно не ведает цели.
* *
*
Игорю Белову
последние советские мальчишки
пьют кока-колу радуются жизни
цветут и пахнут верят и молчат
о всяком-разном ищут смысл жизни
и тащат что-то на своих плечах
разбив коленки расцарапав ранки
тархун эклеры буратино и баранки
не продаются ныне в дьюти-фри
и в середине самой страшной пьянки
они трезвеют
и мыльные пускают пузыри.
* *
*
Когда и воздуху отчитываться не за что
И в воду не войдешь запросто так
Горчит уверенность чаевничает горечь
Какое там случайно, невзначай?
Какое брату? Я себе давно не сторож
Червонец мятый и затерянный пятак
В пространстве тело дышит и смеется
Не ощущает ни вины ни пустоты
Одето в новые и чистые одежды
Ты сомневаешься, что твой карман порвется
Что все сорвется, чай остынет и прольется
Но руки вымыты и помыслы чисты.
Черная кость
Белозёров Сергей Алексеевич (фамилия отца — Белазоров) родился 10 июня 1948 года в селе Хороль Приморского края, где служил в лётном полку его отец. Затем Белозёровы переехали в Белоруссию, а потом мать Сергея с детьми перебралась в город Советск Тульской области. Учился в Горном техникуме в Туле, на факультете журналистики МГУ. Работал слесарем, подсобным рабочим, кочегаром, журналистом в “Комсомольской правде” и других СМИ. Лауреат журналистских премий. Стихи публиковал в газетах, отдельные публикации были в журналах “Нева”, “Огонёк” и в сборнике издательства “Молодая гвардия”. В 1983 году оказался в ссылке на станции Зима Иркутской области. В 1989 году в Туле вышла его первая и последняя книга “Словарь далей”. В начале 90-х работал военкором на войне в Приднестровье, был контужен, получил многочисленные травмы. Умер 12 ноября 2002 года в Туле. Посмертно стихи опубликованы в журналах “Дети Ра” и “Арион”, “Зинзивер”, “Сибирские огни”, “День и ночь”, альманахах “Иркутское время”, “Тула” и в антологии военной поэзии “Ты припомни, Россия, как всё это было”.
Стихи из архивов К. Шестакова и А. Коровина, публикация и послесловие Андрея Коровина.
Редакция “Нового мира” благодарит наследников С. Белозёрова за возможность настоящей публикации.
Сергей Белозёров
(1948 — 2002)
*
ЧЕРНАЯ КОСТЬ
* *
*
У кузнеца вожглась окалина в лицо,
у слесаря ладонь с накладкой жестяной,
у птичницы в руках — несушка и яйцо…
О жизнь моя, ну что ты делаешь со мной?
У летчика — дела в неясных облаках,
куда деваться мне на плоскости земной?
Она ясна, как сталь, понятна, как плакат —
куда девать меня, что делать ей со мной?
Дела мои в себе, дела мои как свет,
мои дела во сне, мои дела — ледок
или вчерашний снег: когда их больше нет,
повеет иногда чистейший холодок.
Я жить хотел, как все —
тишком, своим домком,
своим печным дымком, совсем уже молчком,
зачем же я шепчу у жизни на краю:
возьмите жизнь мою — смешком,
со всем мешком,
сгодится, может быть? —
возьмите жизнь мою…
* *
*
Весёлые дела!
По рельсам, по стране
качу, как захочу,
в гулёж очередной —
а станция Зима
протягивает мне
замасленный кулёк
с картошкой отварной…
Я выставлю в окно
беспутную башку
на ветер и мороз —
пущай охолонёт…
А станция Зима
по чахлому снежку
бежит и машет мне —
вот-вот в окно впорхнёт…
Там ирис впереди
пестреет, как удод,
соцветиями губ
пылают мне юга…
Да шла бы ты, Зима!
И что ж — она идёт,
как верная жена,
отстав на три шага.
Как сладок мой побег!
Как радуется мир,
объятья распахнув
встречающий меня!
И высадит меня
уже через полдня
на станции Зима
румяный конвоир…
* *
*
Россия, спасибо:
рассеялась мгла,
пока вдоль Транссиба
судьба волокла.
У трасс, где жестоко
я душу протряс, —
спецовка, бытовка,
изнанка пространств.
Меня из-под палки
учили любви
бурьяны и свалки,
стальные репьи.
Не Росси, не Мойка,
не юрод с Кремлём —
помойка и койка
с дырявым рублём.
Побед эполеты
померкли в пыли,
и тяжкие беды
по сердцу прошли.
Россия, не плахой
ты виделась мне —
дырявой рубахой
на сером плетне,
как будто бы шпалы
не пали ничком —
с Москвы до Байкала
стояли торчком,
а поверх — деревья
и терны стерни,
как будто отрепья
великой страны…
Россия, спасибо…
Грубя и любя,
шепчу тебе, ибо
я видел тебя.
* *
*
…За дверью снег
скрипит протезом,
бредет мороз, как пес цепной,
по кругу,
звякая железом,
распугивая пацанов.
А мы,
калечась и бинтуясь,
в тылу зимы, как подо льдом,
отбарабаним, отбунтуем,
отмельтешимся,
а потом
земля,
как мальчик после тифа
глаза зелёные откроет,
и кто-то скажет,
подняв брови:
«Смотри, как тихо…» [1]
* *
*
Шлёпать по отечественным хлябям
и мычать о дали голубой,
очевидно, можно даже с кляпом,
сляпанным себе самим собой.
Мне надоедала та замазка,
я кусками, с кровью — отрывал,
зря в больнице имени Семашко
что-то в горле доктор зашивал.
* *
*
Я годы зачислил в утраты,
я счёт потерял трудодням!
А голубь, как ангел бригады,
в обед опускается к нам.
Он бродит и хлеб подбирает,
над ним доминошную кость
Морозов с размаху вбивает
в столешницу, словно бы гвоздь.
Приподнято всё-таки длится
обыденный этот обряд:
возвышенны чёрные лица
и мерно ладони гремят.
Размыслишь — а всё-таки лестно
вот в этих пенатах стальных
быть чёрною костью, железно
стоящей в ряду остальных.
И ценишься тут не по числам
побед или прожитых лет —
а тем, что вколочен со смыслом,
что лучшего выбора нет.
НА ГРАНИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И БЕЗДНЫ
Недавно, разбирая свой архив, я нашёл интервью, которое брал у Сергея Белозёрова много лет тому назад. Вот что он рассказывал мне о своих бедах конца 1970-х: «После того, как меня выгнали из «Комсомолки», я жил в Москве, ночевал на вокзалах, подрабатывал в редакциях, ездил в командировки аж в Сибирь. Я каждый день обходил все редакции по Садовому кольцу в поисках заданий…»
Есть разные версии «казанской трагедии» Белозёрова. Очевидно одно — он бросил успешную работу (в 1977-м Белозёров был направлен собкором «Комсомольской правды» в Казань), расстался с семьей и пропал. Жена объявила Сергея в розыск, его признали «безвестно отсутствующим» и заочно развели.
Несколько лет Белозёров внештатничал во всевозможных газетах, переезжал из города в город, много пил и неуклонно шёл ко дну. В то же время его нигде не опубликованные стихи с восторгом читали в узких кругах, в том числе — в среде студентов и преподавателей Тульского пединститута. Там, в Туле, Белозёров и познакомился с молодой, аристократичной студенткой Ольгой Подъёмщиковой, которая решила посвятить ему свою жизнь.
Она вытаскивает его из запоев и переезжает к нему в город Советск.
Казалось, жизнь начинает налаживаться, но не тут-то было. В это самое время государство «находит» Белозёрова, который если от кого и скрывался, то разве от кредиторов. За неуплату алиментов (что, по словам самого Сергея и мнению некоторых его друзей, было только поводом, реальной же причиной — журналистская деятельность) ему впаяли три года ссылки в Иркутскую область. Там, на знаменитой — по биографии Евгения Евтушенко — станции Зима Белозёров работал подсобным рабочим, кочегаром и внештатным журналистом. При поддержке Анатолия Кобенкова, в местных изданиях публиковались и стихи Сергея.
Его «последняя декабристка» — Ольга Подъёмщикова — приехала и туда. Здесь у них родилась дочь Аня, которой была суждена самая короткая и самая тяжелая судьба во всей истории. Через год после рождения у девочки обнаружилось ДЦП, и Ольга поехала в Москву в поисках волшебных врачей. Но чуда не произошло, — что отразилось и на личных отношениях супругов: в Зиму Ольга больше не вернулась. К возвращению Сергея из ссылки они уже были почти чужими.
Тем временем литературные дела Белозёрова начинают понемногу продвигаться. Илья Фоняков пробивает публикацию в журнале «Нева», пишет статью о современной поэзии для «Знамени», обильно цитируя стихи Белозёрова.
В издательстве «Молодая гвардия» выходит коллективный сборник со стихами Сергея.
…По возвращении в Тулу Белозёров работал корреспондентом в «Молодом коммунаре», в новых тульских газетах. Его единственную книгу, вышедшую в Приокском книжном издательстве — раскупили мгновенно. В пику Союзу писателей он создал литстудию «Мастерская» при «Молодом коммунаре» и начал уверенно ходить в мэтрах.
И …продолжал пить горькую.
Его третий брак был, пожалуй, самым неудачным. Последнее десятилетие уходящего века вообще стало для него годами последних испытаний. В 1994-м умерла дочь Аня. На войне в Приднестровье его дважды пытались расстрелять как шпиона; с войны он привёз оттуда рукопись блистательной документальной прозы. Не смотря ни на что, он всегда оставался профессионалом. Однако из-за пристрастия к алкоголю его уже не хотели брать на работу. К концу жизни Сергей Белозёров лишился всего, в том числе и собственного жилья. Умер поэт в чужой квартире, не дожив до 55-ти лет.
Он всю жизнь ходил по краю справедливости и бездны. И бездна поглотила его. Но истинная справедливость — то, что стихи его продолжают жить и поныне. Я думаю, он был бы рад такой справедливости.
Андрей Коровин
Десятый
Кублановский Юрий Михайлович родился в Рыбинске в 1947 году. Выпускник искусствоведческого отделения истфака МГУ. Поэт, критик, публицист. Живет в Переделкине.
Записи приводятся в авторской редакции.
Публикуя в свое время фрагменты Записей за 2008 год («Новый мир», 2010, № 9 — 10 ), я никак не думал, что этот мой не столько даже литературный, сколько житейский поступок будет иметь какое-то культурное продолжение. Но тепло читательских отзывов решило дело, и за той публикацией последовала следующая («Новый мир», 2012, № 2 — 3).
И вот теперь — третья. Выдержки за 2010 год я хочу предварить напоминанием, что это не окончательные отстоявшиеся характеристики и утверждения, а повседневная рефлексия.
Ю. К.
Переделкино.
sub 2010 /sub
1 января, 9 утра. Paris.
Новогоднюю ночь встречали у елки с Н. и — благодаря ее стараниям — не обильного, но продуманного стола.
Пошлятина на центральных каналах (мы здесь их ловим) была зашкаливающая, гомерическая с обильными сальными шутками (не без упора на голубых). Населению предстоит 10 дней ничегонеделания (удар по печени нации), разврат открыли прямо в новогоднюю ночь.
ТВ — для страны, где только в декабре пьяные люмпены-обезьяны застрелили двух священников; где уморили при перевозке в Якутск в железном коробе фургона тигров и льва.
Где, считай, ни на кого нельзя положиться.
Народный любимец, телеартист Владислав Галкин учинил в кабаке пьяный дебош. На суде его защищал знаменитый адвокат Генрих Падва. Хулиганство артиста он оправдал тем, что все последнее время тот снимался в роли Котовского в сериале и от перенапряжения так и не смог выйти из роли.
2 января , суббота нового года.
«Перекличка» со Шварц в новогоднюю ночь — по электронке.
4 января.
Бунин, видимо, был нарцисс . Сколько экспериментов над своей бородкой, пока, наконец, совсем не сбрил. И получал, видимо, удовольствие, когда знакомые после этого говорили: «Ваня, как ты помолодел».
Струве не без согласия вспомнил Флоровского, который углядел в Ив. Ильине «что-то люциферическое». Но Флоровский был человек без юмора и «люциферическое» увидел там, где было скорей все-таки донкихотское.
«„Медным всадником” нельзя было любоваться в одно время с „Шинелью”» (Тургенев в восп. о Белинском).
Вот и моей поэзией нельзя «любоваться» вместе с кибировско-постмодернистской клюквой или «цветами зла». Между тем, когда мои стихи достигли читателя, культурное поле было уже захвачено именно ими, пришедшимися как раз ко двору закипающей криминально-культурной революции.
Возможно, «Люблю Отчизну я...» имело скрытый полемический смысл по отношению к высокопарно-патриотическому крылу тогдашней литературы (Кукольник, Бенедиктов, Марлинский и т. п.).
Можно быть Давидом , придворным художником. Но, по крайней мере, уже с XVIII столетия нельзя быть придворным поэтом, идеологическим «трубадуром». Краска простит, слово не простит. Корнель и Расин были в этом смысле «последними». (А у нас, позднее — Державин.)
Скоро — в рамках «русского года» во Франции — состоится здесь лирический фестиваль «Весна поэтов» : прилетают Айзенберг, Гандлевский, Бунимович, Рубинштейн и проч. — Россия высылает в одряхлевшую, стремительно теряющую поэтическое слово Галлию своих лучших сынов, видимо, в целях культурного омоложения.
Через тридцать лет Тургенев вспоминал свою единственную встречу с Пушкиным (в прихожей Плетнёва «в начале 1837 года»), который, прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» — засмеялся и вышел.
Не верю! Как говорил Станиславский: «не верю» — что Пушкин говорил это! Какое-то фальшивое общее место, явно отдающее дежурным апокрифом. Плохая подделка под натуральность. Почти «на автомате» Иван Серг. послал красный сигнал нигилистам-шестидесятникам: Пушкин, конечно, наш , свой . Узнаю Кармазинова .
«Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завраться человек, когда заберется не в свою сферу» (Тургенев).
Это в точку, это Тургенев . Но вот примечание Кармазинова к очерку Тургенева о Белинском: «А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что я назвал неполитическим в темпераменте Белинского — и видит в его „сдержанности” одну неизбежную уступку особым условиям того времени. — Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г. Пыпина этой стороны характера нашего великого критика — вернее моей… Тот „огонь”, о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу».
Т. е., понимай, молодежь: неистовый Виссарион не звал «Русь к топору» только по «особым условиям того времени».
Если б не скоротечная чахотка, — раз уж арестовывали за чтение письма к Гоголю, — то вполне б могли арестовать и его автора (или, по крайней мере, допросить в участке с пристрастием , после чего Виссариона привезли б домой умирать). Представляю, что в довершение ко всему сталось бы тогда с Гоголем: бросился б писать Государю, неистовствовать и т. д. и т. п., в общем, окончательно бы свихнулся.
Поленовское. Правдолюбие в сочетании с доходящим до глуповатости простодушием (это по мужской линии). А по женской — бой-бабы.
Эстетическая позитивистская плоскость наших людей второй половины XIX века — до Соловьева. Вот Ал. Иванов — рассказывает, что знал Евангелие наизусть, десятилетиями писал «религиозную живопись», но Тургенев с полным сочувствием замечает, что искусство до Рафаэля (даже и Перуджино) — было ему чужим: «русский здравый смысл удержал его на пороге того искусственного, аскетического, символического мира» и проч. Т. е. искусство Средневековья — якобы чуждо «русскому здравому смыслу». А как же иконопись? Для таких как Тургенев это, верно, была просто варварская примитивная мазня.
Так что напрасно — вопреки очевидности — покойный Топоров пытался «перевернуть» Тургенева, сделать из реалиста — мистика. А простодушный Солженицын восторженно его поддержал (на вручении Т. солж. премии). Все «мистическое» у Тургенева беспомощно и комично («Довольно», «Клара Милич» и т. п.). Мы любим Тургенева «Живых мощей» и «Дворянского гнезда». Но «структуралисту» ведь все равно — нравственная составная вне его «демагогии».
7 января , Рождество Христово, 4 часа утра.
Впервые за много лет — по болезни — не был на службе. Смотрел трансляцию из Храма Христа Спасителя. (Мелькал в золотой парче и отец Илий, а я вспоминал, как шли мы два десятка лет назад с лишним на мельничную церковь — «к афонскому Силуану». «Держи ум свой во аде и не отчаивайся» — кажется как-то так там слышалось Силуану.) Патриарх — к Медведеву: «Ваше Превосходительство». Медведев с супругой стоял в окружении каких-то детишек. Она причащалась, и Кирилл, явно педалируя: «Причащается Раба Божия Светлана».
Все было в духе новейшей гос. патриот. идеологии. И проклятия разрушительным 90-м (не единожды, в слове Патриарха), и спасительные путинско-медведевские усилия по отстройке государства, и мудрый выход из кризиса, который чуть было вновь не откатил Россию к девяностым. И т. п. (Правозащитники корчились, наверное, у своих экранов со стаканами виски.) В общем, поддержка Церкви Кремлю была продемонстрирована по максимуму.
А Путин? Путин скромно в курточке стоял в кучке мирян в церкви где-то на окраине Костромы. «Единение с простыми людьми».
Сервильное, убаюкивающее слово Кирилла, словно списанное референтами с по-детски самоуверенного ежегодного Послания президента. Бездна морального упадка осталась за пределами государственно-рождественской скуки. Конечно, когда публично пинают криминальную революцию 90-х — мне по сердцу. Но по сути — сегодняшнее: ее продолжение, а никак не выздоровление.
Так что в целом осталось неприятное чувство постановочного характера Рождественского торжества.
8 января , пятница.
Как писал Тургенев:
«Гарсон возвратился — и с немотствующим содроганием пропустил вперед себя человека, шедшего по его следам, действительно одетого в блузу, истрепанную, замаранную блузу» (курсив мой).
Или:
«Еще вспоминаю я зимнюю охоту в самых вершинах Шварцвальда. — Везде лежал глубокий снег, деревья обросли громадным инеем, густой туман наполнял воздух и скрадывал очертания предметов».
Или:
«Соловьи у нас здесь дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя , все колена мешают» — и проч.
Снилось: накат валов — накроют скалу, а потом кипят у ее подножья. И шум, грохот такой, что кричу что-то своему спутнику, а он и не слышит. И я не слышу себя.
Иванова роднит с Гоголем тяга к несбыточному (картина — у первого, книга — у второго) — и у обоих на этом съехала крыша.
Где в келью Гоголя входил Иванов...
Т. со своим Базаровым «пришел к своим и свои его не узнали». Уже старик (43 года) в открытую говорил, что во всем практически согласен со своим героем — за исключением «отношения к прекрасному». (Т. е. и с тем, что «умру — лопух вырастет»). «Да пошел ты со своим „прекрасным”» отвечала радикальная молодежь. Ну, уж тогда — «Мерси».
«У меня, как у всякого „завзятого” охотника, перебывало много собак, дурных, хороших и отличных — попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики» («Пэгаз», 1871).
Форма и содержание моей поэзии. Ну, содержание — суть впечатления бытия: моральные, социальные, эстетические. А форма — лучше всего сформулирована Леонтьевым: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться».
9 января , суббота, 2210.
Вечером на Дарю. Мои любимые — в полутьме — службы с елеопомазанием. И всего-то несколько человек мирян.
Либеральное воспитание на закате цивилизации. Это когда дети видят в родителях не источник дисциплинирующей организации жизни, но — удовольствий и приобретений. Сейчас растет целое поколение, чье младенчество, детство, юность — пришлись на десятилетия криминальной революции. Хапуги отцы вырастили гедонистов детей, натренированных на то же самое. В одних семьях это не без — даже — флера церковного гламура, в большинстве — просто потребительская масскультурная похабель. Никто из них пальцем не пошевелит для ближнего — не приучены.
12 января , 8 утра.
Снилось: резное, коричневое с желтым стекло.
С. Л. Франк — «С нами Бог». Очень значительная, порою на грани фола, ревизия церковного христианства. Но, может быть, «так и надо»… Но вот, например, это: «Настоящие гениальные государственные деятели — подлинные мастера жизни, люди типа Кромвеля, Наполеона, Бисмарка» etc… Какая-то «леонтьевщина». Сколько людей положил Бонапарт в целинных снегах России — тьмы, тьмы и тьмы — и «не за фунт изюму». Неужели не жалко?
Впервые эту книгу я читал в середине 70-х (из библиотеки Димы Борисова). И эту, и «Свет во тьме», и «Духовные основы общества». Очень большое оказали влияние на меня.
14 января , 4 утра.
Пришло тяжелое письмо (электронное) от Изольды, жены Бори Думеша. Он уже, считай, скоро год, как тает от рака и вот, видимо, началась агония. Не ест, не пьет, уже и худо соображает (еще на Рождество брал трубку, подбадривал меня: «Мне немножко лучше»). Друг по жизни. И как сейчас помню 1 сентября 1954 года, когда увидел его — еврейского с челочкой мальчика — впервые.
Этим летом вместе с ним ездили — за рулем Наташа — в Рыбинск, а возвращались порознь, он на день там задержался (в Ярославле мы ночевали в гостях у владыки Кирилла, а он — в епархиальном доме). Я вроде бы в воскресенье вылетаю, хочу успеть его повидать, но прицепился артроз и сегодня, пусть и несильные, в ногу вернулись боли.
Борис… Всегда бодрый, даже бравировавший небережением здоровья, много куривший, всю жизнь ездивший на работу за город полтора с лишним часа.
4 40 . Ну какой, скажите мне, еврейский мальчик без скрипки. Классе в 3-м и Боре купили скрипку. А музыкальный слух у него был не тоньше, чем у меня. Помню, с какой зверской мордашкой натирал он канифолью смычок.
Третий день крутится в мозгу некрасовское:
Глашенька! Пустошь Ивашево —
Треть состояния нашего,
Не продавай ее, ангельчик мой! —
какая-то бредятина.
15 января , пятница, 1420.
Сейчас пришло сообщение: вчера в восемь вечера Борис скончался.
В Борисе была «брутальность», презрение к достатку, «респекту»: ездил в общих вагонах, в утрамбованных народом автобусах, игнорировал соображения комфорта; мог пересекать «пространство», которое я бы — поленился. Прошлым летом в солнцепек он вышел из нашей машины, не доезжая Пошехонья, и пошел пешком в какую-то деревню, даже названия ее хорошенько не зная — к знакомым на дачу. На обратном пути, волнуясь, что солнце таким больным противопоказано, что с транспортом там беда, безуспешно пытались мы отыскать и ту деревню и тех знакомых. Тщетно. А он — нашел. Проделав тогда по жаре километров восемь. Он до последнего просто презирал любой сложности неудобства.
Чего только во сне не увидится — и не услышится. Уже пробуждаюсь под Наташин голос: «Кладу эту бутылку в чемодан, в знак того, что наше отплытие в Японию на „Корсаре” необратимо».
17 января , вторник, 920 утра .
Через час в Москве (в Косьме и Дамиане) отпевают Бориса. А я сейчас на Дарю.
«Ужастики», чернуха — пряная составляющая гламура. (Так же как безобразие какого-нибудь Раушенберга — полноправная часть нынешнего салона. )
Тихие радости коньюнктурщика-конформиста: жениться на дочери «правильного человечка», познакомиться с «нужными людьми»; набрать в легкие воздуха и — попросить , навязать себя.
Так Евтушенко незапрограммированно вылезает выступать там, где его не ждут, шлет ведущему вечера записку: прошу слова! и уже не дожидаясь согласия — к микрофону, и пошло фиглярство.
18 января , понедельник, Переделкино.
Уже 4 дня землетрясению на Гаити — жертв сотни тысяч, невинных бедняков, не причинявших земле вреда. За что? Куда Бог смотрит? Невероятно. Ну ладно, тряхнуло бы Рублевку, Барвиху — там это было бы справедливо. А за что нищих, невинных? (Депрессия.)
Сон: едем по улочке, упирающейся в закипающий океан. Вал впереди накрыл зубец скалы; мы попятились. Но пена следующего — уже бежит по ветровому стеклу.
19 января , Крещенье.
Когда-то в допотопные времена у меня в этот день проводили обыск. Стоит зима, про какие мы уже позабыли: «мороз и солнце» и — простите самоцитату рядом с Пушкиным — «окна в подпалинах инея, тронутых солнцем с утра». Такие зимы стояли в 70-х, когда я работал в Никольском, ездил в Каргополь, жил в Апрелевке. Исчез навык к таким зимам: не знаю, как и в чем выходить на улицу.
Такого мороза у меня много в стихах тех лет :
Медовым морозцем любимой роток обметало.
От лисьей папахи еще золотистее стало.
20 января .
В Донском заказал Сорокоуст по Борису. Постоял у А. И., у Ильина и Деникина. Шапки снега на могильных камнях — словно белые куколи, шишаки.
Гениальные завораживающие строки Пушкина:
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
«Кровь людей» — какое простое, страшное, удивительное словосочетание: не просто, «как обычно» — кровь , а кровь людей . Даже объяснить не могу: отчего это так страшно.
Непонятным образом попался мне на глаза тридцатилетней давности «Континент» (№ 91), а там давно забытая статейка моя «О мнимостях в литературе». Читал, словно чужую, и порадовался крепости руки (какой теперь у меня уже нет):
«У соцреалиста самодовольство смешано с трусостью, это зверь с сердцем мыши, тогда как у автора коммерческого самодовольство омрачается лишь беспокойством не упустить бы чего: его, как волка, всегда ноги кормят, а писателя советского кормила родная партия… Сегодня мистифицирующий публику волк-одиночка из андеграунда по сути так же адаптирован масскультурой, как и любая литературная бульварная потаскушка… Чем литератор бескрылей — тем шумней реагирует на самые скромные дисциплинарные ограничители, даже потенциальные, чем плоше — тем яростней выворачивает себя наизнанку. И эта литература вседозволенности, двусмысленности и всеобъемлющей хохмы — часть общего идеологического поля нынешнего криминально-олигархического режима. Каждый, что называется, гребет под себя, и на этом принципе формируются незримые корпорации».
И сегодня все то же.
22 января , пятница.
В Семхозе (75 лет отцу Ал. Меню). «Берёз серебряные руна». И в них (и в воздухе) поблескивают алмазные огоньки. Наша зима — в зените и красоте. Как завороженный глядел я на это поблескивание, на иней, на заиндевелые плакучие ветки… Россия.
Паша Нерлер задается и впрямь не простым вопросом (НМ, 2009, № 10): «Так кто — или что — тянуло О. М. за язык в кабинете Шиварова (следователя-гэпэушника), когда он называл столько имен?» (т.е. сходу выдал большинство тех, кому читал «Мы живем, под собою не чуя страны»). И высказывает в ответ свои догадки:
«Может быть… своеобразный синдром протопопа и протопопицы?» «А может, он искал прилюдной смерти на миру…».
В огороде бузина, а в Киеве дядька. То, что он добровольно записал следователю свое стихотворение собственноручно — да , с натяжкой еще можно предположить, что искал жертвы . Но при чем здесь словоохотливая сдача тех, кому он, было, доверился и прочитал убойное стихотворение свое? Тут уж и забота редактора: надо было указать Нерлеру на нелепую нестыковку его вопроса — с его «догадкой».
Поступок (стихотворение) О. М. — жертвенен. Но в кабинете следователя на допросе ему делать нечего. И тут дело даже не в дефиците мужества, не в «следствии травматического психоза» (Нерлер). А — просто в несовместимости Мандельштама с… допросом . Допрос — вот что ему на корню противопоказано.
«Божественный лицемер» Пастернак это понимал яснее других: «Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их (эти стихи) никому другому». Ведь тут О. М. жертвовал уже не собой, а — слушателем, каждый слышавший — становился потенциальной жертвой, заложником, — до первого мандельштамовского допроса, на котором тот — Пастернак это видел ясно — «чистосердечно» во всем признается. А тот не просто еще признался, но подвел под расстрельную статью и себя и всех своих товарищей и знакомых. Всего за 4 дня. Ох, ох, смелый, очень смелый был О. М. человек, но… повторяю, не для допросов . (На три года позже — всех бы и расстреляли.)
В ту пору еще существовала административная высылка. Алэксэй Максимыч был, оказывается, однако, против: «Чистка центров от человеческого мусора — дело необходимое, но засорение мусором провинции едва ли полезно, ибо провинция своим хламом достаточно богата» (письмо Постышеву 13.IV.1935).
Письмо Бухарина — «Кобе» (июнь 1934-го) — блеяние недорезанного ягненка, имитирующее человеческое достоинство и даже дружественную развязность. (И подпись — лакейская, а как бы товарищеская «Твой Николай».)
Снежная и солнечная зима. А что еще русскому человеку надо? Но это хорошо в тепле говорить. А одиноким старикам в полузаброшенной деревне? А тем, кто «всю жизнь вставали затемно на работу»? Им такая зима тяжела. Огромная Россия с такими зимами. Уж какая тут «демократия». Двоевластие: Царь плюс царь-мороз на треть года (плюс «необозримые пространства сопредельных с нашею губерний»).
Но зима 2010-го мне запомнится этим днем — возле храма Усекновения Головы Иоанна Предтечи в Семхозе: с инеем, блестками, серьезным морозом и духовенством.
26 января , вторник.
Вчера очередной день рождения Влад. Высоцкого. В отличие от Галича он во времени «зацепился». И вдруг вспомнился, если не ошибаюсь, декабрь 1978-го, как он (с художником Боровским, тоже нынче уже покойным) вошел в малогабаритную первоэтажную квартирку аксеновской мамы Евг. Гинзбург — чуть ли не прямо из аэропорта, оба в светлых дубленках, а у Высоцкого газетный сверток, который он раскатал, а там — водка, да еще 2 бутылки. На Аксенова смотрел снизу вверх. Помнится, говорил о недавней встрече своей с «Ромой Полянским». Я заметил, что, кажется, «Макбет» Полянского провалился, и спросил: почему? «Ерунда, — захрипел Высоцкий, — я весь фильм сидел, вцепившись в подлокотники, гениально!» (В октябре 1982-го, помня Высоцкого, я в Вене первым делом пошел смотреть «Макбета» — об этом первое стихотворение «Венского карантина»). Как хорошо я помню всех — всех: «стилягу» Васю, Майю в бархатном, и в сапогах с ботфортами Беллу, Инну, Семена Липкина, Юру Карабчиевского — иных уж нет, а те далече. Время сейчас смывает уже последних.
Ползучий советизм или дельцы ТВ высасывают из пальца последнее? Так по Российскому каналу прошел телесериал «Исаев» — по «произведениям» письменника-гэбиста Юлиана Семенова. Так же как и Виктор Луи (о котором, кстати, сейчас тоже идет сериал на Первом канале!) — он был доверенное лицо Лубянки, приоткрывавшей ему секреты второй свежести, потускневшие за давностью лет. (Помню тушу Семенова в никогда еще не виданных мною прежде шортах и пробковых сандалетах в Коктебеле.) Начальник героя — Глеб Бокий . Этот заплечных дел мастер, недоучка (с 1918 г. член тройки в Петроградском Чека) — тут всегда в белой глаженой рубашке, жилете, эдакий мудрый интеллигент на службе у красных (и могильный голос за кадром, что расстрелян в 37-м; вот уж кого не жалко, а злорадное чувство справедливого возмездия только). Какая ложь — облучают ею миллионы людей. (Ал. Любимов: «Этот сериал — новое слово на телевидении».)
На днях я случайно увидел по ТВ забавную сценку. Лужков входит на прием во дворец (очевидно, кремлевский) — демократ: куртка, кепка. Лакеи подхватывают куртку, словно соболью шубу. Но самое комичное: жест, с каким снял мэр за козырек кепку и, не глядя, плавным, дугообразным движением передал ее чуть замешкавшемуся «слуге». (Так господа и дэнди в киноинсценировках снимают на балах и приемах свои цилиндры.)
27 января .
Наводнение в Калифорнии. Тонувшую в паводке собаку спасли с военного (специально поднятого) вертолета.
В последний год столько говорилось о «глобальном потеплении» — на респектабельных дорогостоящих саммитах и встречах, что это уже заставляло задуматься: уж не стала ли и эта священная тема чьим-нибудь «бизнес-проектом» (так же как «свиной грипп»). Но так или иначе — то ли в отместку, то ли в целях экологического успокоения — пришла вдруг такая зима, каких в мире не помнят. В Европе — сотни замерзших, сплошь и рядом снегопадом бывают парализованы трассы, по ТВ показывают бедствия и многокилометровые машинные пробки. И в России — как когда-то в легендарные времена детства и молодости — изо дня в день все золотисто-белое, с алмазной искрой.
Завтра с утрева — в Ярославль.
Ахматова улавливала все с полувзгляда. Так, посмотрев монографию о новейшем заокеанском искусстве, она сразу поразилась глухоте и бескрылости американского абстракционизма.
Кажется, кроме Эндрю Уайета, ни у кого из тамошних мастеров не бьется живое сердце: все муляжно. Там, кажется, нет вообще ничего в изобразительном искусстве глубокого и прекрасного.
…После 14, примерно, лет я оказался в Париже (с Наташей) и поразился насколько (по сравнению аж с декабрем 1982 (!) года) не изменился вид толпы: словно все носят те же самые вещи — не сменились ни силуэты, ни цвета в целом. (В России толпа за эти годы стала совсем другой, правда, у нас произошла смена режима и ушла советская «униформа».) Но вот Анна Ахматова увидела Париж 1965 года : «Город наряден, а люди — да, представьте себе! Люди в парижской толпе одеты плохо… Да, да как-то что-то накинуто на одно плечо, всунуто в один рукав»… (Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Июнь 1965). Это тем более удивительно, что Ахматова-то приехала из «совка» и уж, казалось бы, по сравнению с советской толпой образца 65-го парижане должны были казаться одетыми превосходно.
28 января , вторник, час ночи.
За окном — луны не вижу, она где-то скрыта и не видна; но от ее света зеленовато фосфоресцирует под черными соснами снег — с хаотичными тенями от них.
6 утра. Сталин как инфернальный гений политической интриги. В этом качестве он превзошел самые смелые прогнозы Достоевского. Такое порождение российского освободительного движения не представимо было не только эмпирически, но даже метафизически.
Издательство «Олма-Пресс» Москва (существует с 1991 г.).
Серия «Биографические хроники».
«Искусный принцип составления книг серии „Биографические хроники”… помогает по-иному оценить своеобразие произведений и многогранность характеров известных личностей, приоткрывает завесу над тайной их частной жизни.
В Серии вышли: Е. Гусляров „Сталин в жизни”, Е. Гусляров „Христос в жизни”.
Новинки: Е. Гусляров „Ленин в жизни”, Е. Гусляров „Есенин в жизни”».
«Проведите, проведите меня к нему! / Я хочу видеть этого человека» (т. е. Е. Гуслярова).
30 января , суббота, 1630.
Замечательная поездка в Рыбинск. Туда: по левому безлюдному берегу — из Ярославля среди заснеженных пышно елей. За весь путь — не встретилось ни одной машины. Зато лисица совсем близко перебежала дорогу. И сегодня обратно — на этот раз через Углич, Калязин (впервые видел вдали вмерзшую в лед колокольню — обычно всегда в топях, зыбях), Лавру. И опять лисица — подальше. У бабок пирожки (мои любимые — с яйцом и зеленым луком), копченая рыба…
На чтении в библиотеке; в конце подошел старик с вихрами, в старом пуловере и пожал руку: «Спасибо вам за то, что вы такой как есть». Это дорогого стоит. Руинированный старый город… Но в кафе вежливо, вкусно.
Плетнев, если не ошибаюсь, назвал «Выбранные места» книгой, стоящей у истоков великой русской литературы. Если так — то у истоков несуществующей русской литературы. Ибо существующая, надо признать, оппозиционна реальностям русской жизни.
Я не оппозиционер, но и не конформист; не модернист, но и не реалист; не монархист, но и не демократ; не сторонник (в поэзии) «прямого высказывания», но и не иронист, не «шестидесятник» (по духу), но и не авангардист, не концептуалист, не постмодернист, но и противник любой эклектики… Так кто же тогда? Тот, кто подходит к каждому явлению не с заранее выработанной идеологическо-эстетической меркой, но исключительно с индивидуальной — не иначе — оценкой. Консерватор и свободолюбец одновременно.
31 января , воскресенье, вечер.
В детдоме при приходе отца Аркадия (Шатова) поставили «Ревизора». (И мой Иоанн — единственный там «вольняшка» — играл почтмейстера очень живо.) А городничий — негр. Какие ребята! Все были сданы в детприемники при рождении. И в 4 — 5 лет попали сюда. Потом был ужин, и «актеры» сидели с нами: в галстучках, в костюмах. Ком в горле и радость, что есть такое в России.
За первые годы жизни здесь — переделкинские стены «покрылись» фотографиями родных, близких друзей. Я привык к ним, но теперь, проходя мимо, все время ловлю себя на мысли: этот уже покойник, этого уже нет: мама, тетка (Нина), Юра Зубов, Бродский, последний — Борис Думеш, и еще, еще… Тут нам 12, там 15, там 18… И их уже нет. А вот мы с Александром Исаевичем (кадр телепередачи) — нет и его.
И с метропольской фотки: нет уже Липкина, Высоцкого, Аксенова, Карабчиевского и проч. После 60 — мертвых среди близких становится едва ли не больше, чем живых.
2 февраля , 2320.
На Первом канале:
— Ты не целка, ты давалка, трахаешься со всеми (сериал «Школа»).
Ох, ох, вспомнишь советскую власть, коммунистическую цензуру. Та ложь казалась мне худшим, что есть на свете. А вот оказалось, что теперь гаже .
6 февраля , суббота, 530 утра.
В кабинете, не спится. Поднял глаза и даже не сразу понял: что это за ослепительный слиток в черных извилинах ветвей. А это — половинка луны.
Завтра на Украине выборы; состояние гражданской войны. Янукович на этот раз в открытую использует «российскую карту». Тимошенко — филаретовскую церковь и «атлантистскую» риторику.
7 февраля .
В Иркутске (ТВ) молебен у памятника Колчаку — мороз, солнце, горстка народа с хоругвями и русскими флагами.
8 февраля , Paris.
Москва проводила солнечным морозцем. В Париже — серо и дождь.
За три года до революции в устье Никольской (центральной) улицы в Рыбинске был открыт памятник Царю-Освободителю работы знаменитого Опекушина. Сохранились фото: запруженная народом площадь, славный памятник (моделька-статуэтка его сохранилась, слава Богу, в Русском Музее). Народ — нарядная публика , милые настоящие провинциальные россияне. Через 3 года — статую Александра утопили в Волге (в перестройку, рассказывают, энтузиасты-водолазы ее искали на волжском дне и, разумеется, тщетно) — а на прежнем хороших пропорций постаменте соорудили из гипса серп и молот. И опять та же площадь, и опять запруженная народом. Уже другим — какие-то… как бы сказать, посадские что ли… (А куда попряталась та публика? По каким щелям?) Потом — после серпа и молота — стоял черный Ленин в пиджачке и с вытянутою ручкой — этот памятник (отдававший экспрессией 20-х годов) я хорошо запомнил. Да и Никольская стала проспектом Ленина. Классе в 5 — 6-м мы с покойным Юрой Зубовым уже вовсю рисовали — и изредка наведывались в «Канцтовары» на площадь с памятником. Идем однажды — поздней весной, после зимы — и вдруг вопреки сезону не верим своим глазам: все на том же опекушинском постаменте новый Ленин: в добротном зимнем пальто, воротник шалью, и рука заложена под него… (Остроумцы потом прозвали: «Ленин в Зимнем». )
Теперь новый мэр Ласточкин поделился со мной свежими планами: восстановить (по питерской модели) Александра II. «Ну, а Ленина перенесем к Фабрике-кухне, пусть там стоит, будем уважать стариков».
10 февраля , среда.
Раньше было: запропагандирование масс совковой идеологией. Теперь — еще более мощное (благодаря усовершенствующимся технологиям) — разложение масс: масскультурой. Государство отдало массовые коммуникации в руки алчных предпринимателей. И поди разбери, что гаже: жирный партийный идеолог времен застоя или нынешний делец-гедонист?
Трубят об отсутствии «свободы». Политической? А что касается области культурной — так наоборот — ее до отвращения много, что и позволяет малоталантливой пройдошной своре забивать все, или почти все коммуникативные поры — как маргинальные, так и «общефедеральные».
Умные люди в России есть; талантливые есть; даже бескорыстные пока что найдутся. Но нет у нас человека, способного издавать культурный русский журнал тиражом… 25 тысяч экземпляров. Изловчись, прыгай выше крыши, трудись, созывая на побудку и консолидацию остатки честных, жертвенных граждан и, так сказать, творческую интеллигенцию — все равно ничего не выйдет. «Поезд уже ушел».
11 утра . За окном в колодец парижского двора падает крупный снег.
Вышел том писем Чуковского (Терра, 2009). «Какая в Переделкине чудесная зима. Многоснежная, солнечная» (январь 1967). «Пойдем гулять… по Неясной поляне, по берегам реки Сетунь» и проч. Сорок лет назад можно было гулять по Переделкину, не натыкаясь (за исключением, конечно, советских писателей, к которым Чуковский был, в общем, лоялен) на приметы времени. Сейчас, несмотря на столь же «многоснежную и солнечную зиму», так по Переделкину не побродишь, всюду приметы гнусного времени: несуразные дворцы нуворишей, выступающие из-под снега груды мусора, объявление о распродаже Самаринского парка. Прежде я ходил по Москве, видел красные тряпки и сжимал кулаки. А теперь и тут ходишь, не расслабляясь, но с брезгливым негодованием. Сходить в магазин — моральное испытание.
А я и не знал, что Сталин лично курировал укомплектование «философского парохода», т. е. «контролировал операцию по высылке „антисоветской” интеллигенции» . Оказывается, и тут — в 1922 году — отметился.
Ахматова, Бродский, Солженицын (в наши дни, кажется, Седакова) были окружены услужливыми помощниками. Феномен, не встречавшийся, кажется, скажем, во времена Пушкина. («И я один на всех путях» — это мандельштамовское «определение» вполне и ко мне применимо.)
13 февраля .
Одна из главных — наряду с шоковой терапией — трагедий посттоталитарной России, что телевидение, оставаясь по сути и по инерции с совковых времен средством массовой пропаганды , было отдано в руки предпринимателей; хапуг и конъюнктурщиков, которые и наполнили его своим кругозором и своими представлениями о сущем.
Новая-старая генерация: ельцинские братки , ореспектабельневшие при путинском режиме: он их нагнул, подрумянил и покрыл глазурью патриотизма.
15 февраля , понедельник, начало Великого Поста.
2 дня в Нормандии: обрывы (описанные в «Перекличке»), фисташково-желтоватые воды Ла-Манша с пенкой наката волн… А самое удивительное — снег на полях и отвалы его вдоль дорог — как мы во Франции еще никогда не видели. И как проголодавшиеся птенцы, прут из земли подснежники.
«„Гамлет” — это Мона Лиза в литературе» (Элиот).
Чуковский (в 1960 г.) называет Есенина и Багрицкого «эпигонами, очень талантливыми, но лишенными собственного голоса». Правда, делает он это в письме к волчаре Заславскому, так что полемическое заострение тут налицо. Но все же — это не правда в принципе. По большому счету не люблю ни того ни другого, но, по крайней мере, в отношении Есенина это не совсем так, а скорее всего, и совсем не так. Собственный голос у него был, несмотря на все пошлые подражательные «подголоски». Русский хулиган с сердцем, кощунственник, чаще люмпен, чем «поэт деревни» (в отношениях с Богом, с женщинами и т. д.) — и все же. Есть у него первозданная пронзительность, не заимствованная (ее не заимствуешь) стихия.
Есть какая-то оскорбительная для Истины пошловатость, когда в «Чукоккале» оказались как бы «на равных» бескорыстные и настоящие герои литературного дела и советская последняя сволочь. (Следствие того, что Корней Иванович, никуда не денешься, был вписан в советский литературный процесс, раз, а во-вторых, наследовал все-таки освободительной, если не «революционно-демократической» идеологии, изначально придававшей ему если не красноту, то «розоватость».)
Прямо надо сказать, что после всего, что обнародовано ныне Чуковского — Шварцу и о Шварце, ставит последнего (с его «Белым волком») в глазах потомства в некрасивое положение.
Чуковский — Шварц. Хороший урок. Даже из самых добрых побуждений не бери в секретари высокоталантливого честолюбивого человека. Ведь тебе придется отдавать приказания-поручения, даже пусть в форме просьбы. А это накапливает ответную неприязнь.
20 февраля , суббота.
Увы, скорое и жесткое наказанье зла в конце произведения скорее отвечает нравственному запросу читателя, зрителя — чем реальности. На деле относительно немногие негодяи получают заслуженную кару, большинство же продолжают свое удовлетворяющее их прозябание в сволочизме и моральном разврате. Добро скорее надорвется и сойдет с жизненной сцены, чем дождется наказания зла. Но есть законы художества — и тут зло не должно оставаться безнаказанным. Только вот не следует перебарщивать: например оспа у героини-злодейки в конце «Опасных связей» — чрезмерность: довольно с нее обструкции со стороны света и проигрыша процесса. А оспа — уже и лишнее. В современном искусстве (если это не добропорядочные голливудские коммерческие боевики) зло часто не наказывается вовсе (особенно в триллерах деградирующей культурной немчуры) или у наших чернушников. Это — культурное зло в чистом виде.
При советской власти житель Апрелевки, истопник, сторож — я не сомневался в нужности, безусловной востребованности своего дела, своей поэзии, которым мешает только намордник существующего режима. Режима нет больше, но нет — не то что уверенности, но почти и надежды на… востребованность. «И я один на всех путях». Оказывается, трудно писать стихи не только без «дуновения» свыше, но и без, пусть гипотетического, запроса извне .
Сегодня впервые со времен эмиграции остался в Париже на целую неделю один. (Наташа с детьми уехала кататься на лыжах — жизнь не вполне по средствам, но это, видимо, поколенческое.)
1030 утра . Поеду сегодня в YМСА купить «Великий Пост» Ал. Шмемана. Я люблю этот магазин, где сравнительно умеренный выбор книг и не пахнет бизнесом и их «потреблением». Тут есть аура: сюда заходили Ремизов, Бунин, отец С. Булгаков… И пока жив, пусть и начавший чуть «рассеиваться» Никита Струве, — тут теплится культурное благородство.
2330 . По ТВ «киновед» Вит. Вульф рассказывает о когда-то знаменитой нашей красавице-актрисе Алле Ларионовой (я вспомнил, как смотрел с бабушкой — лет в 6 — «Анну на шее»): «Слава ее была такова, что из самых отдаленных уголков СССР ей писали, не зная адреса: Москва. Мавзолей Ленина. Алле Ларионовой».
21 февраля .
Лена Тахо-Годи прислала фотку: ректор МГУ Садовничий вручает ей какой-то важный диплом. Я ответил стишком:
В чёрном платье похожа на воронёнка,
праправнука тех, что живут у Тауэра,
стоишь, сестрёнка,
а окрест культурная аура.
И, скрывая свой чин чиновничий,
на тебя любуется г-н Садовничий,
словно старая нянька на проказливого ребёнка.
Я ж в помятых латах и с медным тазиком
вдалеке скачу маргинальным классиком.
24 февраля , среда.
Я не умею (и не хочу) ладить со средой . Наоборот: я — когда невольный, а когда и сознательный — раздражитель среды . Особенно литературной среды.
«У Юры так много врагов» (Н. Солженицына). Как бы сочувственно, но с оттенком сам виноват .
Вчера с владыкой Ярославским Кириллом на Сент-Женевьев; молебен в тамошней дивной церкви. Разговор с энергичным журналистом (с ТВ) Антоном Голицыным, ликвидация гласности, все худо. Любой чиновник (из администрации) может одернуть, уволить, убрать, ежедневное чувство несвободы, зависимости, что для журналиста, особенно молодого, совсем беда. Я никогда не был сторонником «свободы слова», но сторонником всесторонней гласности был и остаюсь. Мэр Ярославля в прошлом году сбил человека. Всей прессе дали указание хаять жертву, и вся пресса улюлюкала над покойником. А на мэра даже дело не завели.
Провинциальных журналистов гнобят, оказывается, еще и вот почему. Прежде (в 90-е годы) губернаторы были ставленниками конкурирующих финансовых сил и группировок. Ну и, конечно, собственные карьерные, а отчасти даже и идейные амбиции — этими силами подпитываемые. Существовала, таким образом, конкуренция , политической ее трудно назвать, но отчасти все же и политическая. Теперь губернаторы — ставленники Кремля. Это авторитарный выбор Президента, как правило, основанный на личных симпатиях, а чаще — докладных и досье, составленных референтами и т. п. Но на основании чего они составляются? В частности и на том, что сообщает местная пресса. Вот почему никакого негатива в Москву из губернии не должно утекать, вот почему так зажимают местные чиновники журналистов.
Был когда-то — во времена Пушкина — у поэзии верхний пласт, создававший иллюзию доступности. Т. е. приходил в медвежий угол журнал, там читали его папаша, мамаша, дочь — и все «понимали» Пушкина. Ну, конечно, не так как, к примеру, Ахматова или сегодня я, но — понимали. Это, очевидно, и есть народность . Так было еще с Блоком… Да и с «шестидесятниками» так было. Но в наши дни это уже ушло, видимо, невозвратно.
Ждал владыку в холле отеля «Наполеон». Он спустился, скосил глаза — а у меня в руках книжечка Еврипида. «Разумное, доброе, вечное» — «пояснил» я. «Вечное — да. А вот доброе и разумное? Не знаю, не знаю». До отъезда оставался час с небольшим. Быстро дошагали на рю Дарю. Причастников было всего-то человек пять. Успели подойти и к кресту. Откуда батюшка? — поинтересовался о. Евгений. «Из Ярославля». Конечно, и в голову ему не пришло, что крест у него целует архиепископ.
25 февраля .
Ретроспектива Мунка в Пинакотеке. Хороший художник… Ранние трогательные картинки. Но уже с 80-х гг. — своя округло-эллипсоидная линия, своя экспрессия. Художник несравненно слабее, скажем, Серова, но вот что значит «в нужном месте и в нужный час»: создал несколько эмблематичных, а потом «раскрученных» вещей: и его знает мир, а Серова — полтора человека.
(Хотя не уважаю Серова: портрет Государя и тут же — для реабилитации в глазах общества — «Солдатушки». Впрочем, они все тогда такие были.)
Между тем, как и наши авангардисты, под давлением социальных обстоятельств Мунк в 30-е годы делается благонамереннее, реалистичнее. Но как далеко-далеко ему, скажем, до Фалька (в его портретах). Прямо скажем, много российских живописцев сильнее Мунка, но, увы, остались они на периферии (те, кто не уехал на Запад). Исключение — Малевич. Но его гомерическая легендарная слава — для меня в чем-то секрет.
6 марта , суббота.
В Савойе, в Альпах (Val-Thorens, 2300 м).
Вчера поздно вечером на шоссе нахохленный, заурядный, прозябший, видимо, паренек ловит машину (а наш автобус неподалеку). Только подумал, что, конечно, никто его не возьмет, как белый лимузин затормозил и тотчас его увез. У нас в России вряд ли бы ему помогли (во всяком случае уж не владельцы такой кареты).
Неделя в Вал-Торансе — высокогорной лыжной базе — курорте. В чаше снежных скал и хребтов, фосфоресцирующих при полном раскаленном диске луны, а днем — склоны и окрестности складчаты от снежных заносов.
Вчера с Наташей на перевале — сначала в непроницаемой влаге облака; потом все в одночасье открылось до горизонта: зубцы, пики, вершины, седловины, хребты — под пятном матового солнца. Заваленная чуть не по крышу снегом изба высокогорного ресторана — шалмана, где, продрогшие, напились горячего глинтвейна (а я и местного жэнэпи ).
Впервые в жизни пожил на такой высоте среди лыжников — обывателей (кроме французов — много голландцев, немцев, да и нашего брата — россиянина).
На перевалах всегда почему-то думаешь — сравниваешь: что «лучше» — вот эти перед тобой снежные шапки, и пики, и сахарные волны до горизонта; или — океан, море, шторма, приливы. Я всегда — в пользу второго: горы как ни прекрасны — статичны, бесшумны, а там — прибой, накаты, движение… Но объединяет их — темное, загадочное фосфоресцирование в лунную ночь.
Перед отъездом в Париж на Поварской в ИМЛИ среди прочего купил (какое старорежимно-хорошее развернутое у этой книги название): «Князь Владимир Федорович Одоевский. Переписка с великой княгиней Марией Павловной, великой герцогиней Саксен-Веймер-Эйзенак». ИМЛИ РАН, Москва, 2006. Тираж-то 800 экземпляров, а вот и по сегодня в продаже. (Позорные времена.) Предисловие — считай, самостоятельный труд — Кати Дмитриевой-Майминой, давней моей приятельницы, дочери псковского пушкиниста Маймина. Превосходный, скрупулезный, вдумчивый труд! И ее же примечания — такого же уровня. Если б не всегда раздражающий меня штамп «Вместо заключения» (место заключения) — можно б было считать Катину работу просто безукоризненной. Впрочем, это придирка. В книге замечательное приложение: полемическое возражение князя на дежурное французское (европейское!) русофобское щелкоперство: «Речь в защиту abonne russe» (1857), актуально, видимо, на все времена. Одоевский рассказывает, среди прочего, как Полевой — «историк, филолог, журналист, который 35 лет назад основал первый ежемесячный журнал в России („Телеграф”), имевший огромный успех — пропустил в разделе „Смесь” своего журнала ошибку» во французском слове. «Этот проступок ему никогда не простили. Он преследовал г. Полевого до конца его дней, исполненных трудов и пользы для общества… И наоборот, приведите мне хотя бы одно русское имя, которое бы на Западе не было искажено тысячью и одним способом». И т. п.
В Вал-Торансе новодельная церковь с башней, она же еще и культурный клуб. Во вторник — к удивлению моему — на мессе было полно народу; алтарь — цветная фотография на картоне; перед причастием все пожимали друг другу руки. А на другой день — «где стол был яств, там гроб стоит», где был алтарь — там рояль, и славная грудастая, но подтянутая мулатка хорошо пела, ударник… саксофонист… И еще больше народу.
Как метко пишет Анненский (книжечка Еврипида в его переводах тоже была при мне): у Еврипида «сложный драматический узел вместо того, чтобы осторожно распутываться, разрубается машинным появлением бога , который наскоро примиряет требования мифа с осложнениями драмы».
Или:
«Что может быть поэтичнее явления Артемиды над ложем умирающего Ипполита? Герой узнает свою подругу по нежному дуновению ее бессмертных одежд» и т. п. Ну, положим, эпитет «бессмертные» по отношению к «одеждам», как минимум, странноват. Но сразу захотелось найти это место у Анненского — Еврипида. Вот:
Волшебное благоуханье! В муках
Ты льешься в грудь… и будто легче мне.
И все. Где тут «нежное дуновение ее бессмертных одежд»? Или Анненский в переводе это не прописал, или от себя добавил в своей статье «Античная трагедия» (Театр Еврипида, СПб., 1908).
Шестнадцатилетний Вася — современный юноша, все же еще читающий. В последние полгода я подсовывал ему «Подвиг», «Защиту Лужина», но только «Мастера и Маргариту» он почему-то прочитал залпом: «Гениально!» Совсем для меня неожиданно. Оказывается, «Мастер и Маргарита» в XXI веке произведение для юношества , несмотря на то, что многие реалии советской довоенной Москвы современному тинейджеру, разумеется, не понятны. И вряд ли Булгаков предполагал, что пишет книгу для юношества.
А чем она привлекательна? Веселая, нестрашная, бурлескная, но и высокопоэтичная чертовщина , включенная в процесс конечного торжества справедливости — назло эмпирической бескрылой и беспросветной реальности.
Пряное сочетание драмы — с праздником.
8 марта .
Снегопады (!) на Роне и потоп (наводнение) в Вандее. (Фермеры вытаскивают за ноги из загона утонувших овец.)
Открытка от Витторио и Клары (Страда) из San Candido: «С удовольствием и восхищением читаем Вашу державинскую лирику». (А отправлена из Вероны.)
Только-только месяца три назад в интервью «Северному Краю» (Ярославль) я сказал, что одна «Ксюша Собчак гаже всего советского агитпропа», как узнаю сегодня, что ее сделали «лицом» нового федерального (Пятого) канала.
9 марта , 7 утра.
Сейчас приснилось: дегустирую, а потом прошу налить в стакан вино из трехлитровой банки в шалмане у приезжих узбеков. Но осы мешают пить, лезут по ободку прямо в стакан.
Новая «патриотическая» «кремлевская» идеология, включающая в себя: гламур, успешливость, технотронность, религиозность и релятивизм разом. В общем идеологический «коктейль Молотова» XXI века. Собственно духовно-русскому началу места тут не нашлось.
Мою жену почему-то многие считают ушлой. А она донельзя чистосердечна, простосердечна и катастрофически не умеет торговаться.
12 марта , пятница.
В 1500 — вынос плащаницы в Notre-Dame. Оговорка «по Фрейду»: не плащаницы, конечно, но тернового венца, хранящегося в ризнице здешней (трофей крестовых походов). А — чудо из чудес — среди готической полутьмы служил наш настоятель (из Трех Святителей на rue Pеtel) и оттуда же славный хор. Настоятель (забыл его имя, две недели назад он «паломничал» с нами в Сент-Женевьев, а родители его живут в Переделкине) был хмуроват, видимо, напряжен (и еще бы: первое в жизни служение в самом сердце католической готики), не хватало приветливости, но… но… вместе все было поразительно, слов не подберу как …
А в 9 утра на rue Daru. С клироса читали Часы, прихожан горстка; ставил свечи и подавал записки (за здравие Инны и Елены теперь всегда).
Вспомнил, как однажды тут в соборе длинноногая, мало похожая на прихожанку блондинка расставляла охапку свечей, на шпильках колыхаясь перед кивотами… И надо же — через несколько часов, заплаканную, я встретил ее у крыльца конторы Диора! Видимо, не откликнулось Небо на ее мольбы.
Воистину роковые качества русских, ускоривших краткость «русской цивилизации»: отсутствие солидарности, взаимовыручки, памяти (настоящей, а не инспирированной сверху) о жертве, жертвах.
Экономическо- социумная дисциплина Парижа (а по мне дак попросту крохоборство). Предложил автобусному водителю на выбор: 20 евро или 1,60 мелочевки (т. е. не хватало 10 сантимов до стоимости билета). Сдачи с 20 евро у водителя не было. Принять мелочь с недостачей в 10 сантимов он отказался. И указал мне на выход из салона. Да последний жлоб в России наплюет на 10 коп. недосдачи. Не то во Франции. Крохоборный педантизм, дикий русскому человеку.
20 часов. Вчера, ближе к пятничной полночи умерла Лена Шварц. Сегодня вечером (придя со службы в Notre-Dame) кликнул мышкой «Культура» и… И не мог ни записать, ни обдумать — так обожгло. Отпевание в воскресенье, послезавтра. Не успеваю. Не успел к Думешу, теперь — к Лене, не успеваю на похороны к самым близким друзьям… Поэт высочайшего полета, мощного воображения. И целый пласт жизни. Сейчас записывал в дневник все подряд, лишь бы оттянуть написать вот это: Елены Шварц больше нет .
13 марта , суббота, 440 утра.
Проснулся. Как подкинуло, словно от голоса, разбудившего фразою Достоевского: «Маша лежит на столе. Увижу ли я Машу?» А где сейчас лежит Лена? Дома? В морге? «Я пока ничего и ко всему готова». И опять внутренний голос: «Для меня это как для Гоголя смерть сестры Хомякова». Хотя и совсем другое.
Поэт беспокойной поэтики. Потому-то Цветаева, футуристы, Маяковский, даже Вознесенский ей ближе Ахматовой (и Мандельштаму, видимо, не могла простить его ранней акмеистической упорядоченности). Меня если и любила — то только за то, что много о ней. «Посмотри — помнится, говорила она мне, — мы шли белой ночью, уже под утро к Елагинской стрелке, выгуливали ее пуделька Яшку — посмотришь направо — одно, налево — уже другое — ветер шевелит листву — как же можно сохранить один ритм на протяжении целого стихотворения?»
Как раз сегодня Поминование усопших . Литургия в 10 часов, т. е. через четыре с половиной часа. И не спится, и на улицу выйти не соберусь.
Казалось бы, ей должны были нравиться такие мои, к примеру, стихи как «Британские стансы». Но я у нее изначально шел по ведомству «лирической простоты», и никаких аллюзий, никакого сюра она у меня не воспринимала. Вот «Обнова» — другое дело.
Путешествие наше на Валаам; отплытие от Сенатской; плыли мимо Дворцовой, мимо Смольного… Белой ночью — мимо Шлиссельбурга.
Помнится, вытянуть Лену было не просто: Яшку не с кем оставить (в итоге оставили с Беллой Улановской) и т. п. «Ты меня как резиновую присоску на кухне оторвал от стены». (Были тогда такие крючки-присоски для полотенец.) Все обошли, любовались на дальний островок с соснами в серебряных блеских бликах и поволоке, забирались на колокольню… Была у нее в стихотворении (об этом) строфа, которую она потом опустила:
И если нам отсюда вниз
сойти не суждено,
мы братний хлеб привыкнем есть,
пить сестрино вино.
У себя же простоты, кажется, не ценила. Так, когда я выразил ей свое восхищение стихотворением про клен («Бабье лето, мертвых весна, / говорят в Тоскане, говорят со сна» и проч. — гениальное стихотворение) — она отмахнулась: «Да ну, что ты. Там (т. е. в новой книге) есть гораздо лучше». Надулась на меня, когда я ее подборке в Н. М. дал заголовок «При черной свече». Она-то хотела что-то такое с Богом. Но разве не безвкусно Бога выносить в заголовок подборки? — убеждал я ее. Этого не умела понять.
Московские концептуалисты ее, кажется, не любили. И впрямь: для этих труположцев она была слишком беспокойна, экстравагантна, ершиста.
Она все-таки «зверь-цветок», а они — математики. И хотя в литературный социум она была в последние годы вписана намного благополучней меня, она по существу одиночка.
30 с лишним лет назад на Валааме… И вот сегодня, сейчас, под сводами парижского Александро-Невского храма отец Анатолий поминал — по моей записке — новопреставленную рабу Божию Елену.
Когда Лене было лет 15-16, ее, знаменитую уже ну хотя бы строчкой «О море Черное, тебя пересолили», познакомили с Иосифом Бродским. Двадцатитрехлетний мэтр спросил юного вундеркинда, какая часть «Божественной комедии» ей особенно по душе. «Конечно, „Чистилище”» — ответила Лена.
14 марта , воскресный день, 740 утра.
Значит в Москве около десяти. Так что тело Елены, видимо, уже в храме. Сейчас еще в последний раз тело , лицо, которые я с такой нежностью вспоминаю. А через 2 — 3 часа останется только пепел. (Гениальное стихотворение о кремации любимого человека у Бориса Слуцкого.)
В интернете воспроизводятся одни и те же фото — их очень мало осталось после пожара несколько лет назад (когда ее комната вся сгорела, а соседняя, мамина осталась целехонька). Кто же туда теперь въедет? И куда денут всё ее и — мамино , которое она так берегла?
Вчера на Дарю ко мне подошел знакомый по Кламару продюсер (гламурной халтуры Лунгина «Рахманинов»):
— Вернулись к нам из России? Поздравляю. Там теперь одни воры, бандиты и сумасшедшие.
Приталенный, как бы чуть маловатый по последней моде пиджачок, все, видимо, бутиковое . Но вот же привел на литургию и поминовение усопших троих маленьких сыновей.
— Будем делать с англичанами «Анну Каренину», грандиозный проект…
«То что было Иваном, то что было Петром»… А теперь и то что было Еленой .
1720 . Ну, вот и сожгли Лену (сейчас говорил со Стратановским по телефону). Ну, ничего, поминальные записки тоже сжигают в тазике на церковном дворе. (Сам сжигал, когда сторожил в Никольском.)
19 марта , пятница.
«Она ведь была с искрой гениальности. Поклон ей улетающей», — написал мне Дм. Бобышев.
«С искрой гениальности» я знал троих (а их и не было и нет больше). Первый хоть своей смертью и обжег, но случилась она где-то далеко, а здесь так громко «скорбели» о нем лицемеры и межеумки, что мешали оплакать. Смерть Солженицына, его утрата — личное и культурное горе, но сами похороны носили постановочный характер — с присутствием проходимцев из высшего звена власти, военным салютом; но боль во мне и сегодня.
И вот Лена; где-то горсть пепла от нее.
Как же гениально писал Солженицын, уже никто так больше на русском языке не напишет; перо Достоевского : «Чутче евреев, я думаю, нет народа во всем человечестве, во всей истории. Еще только первые молекулы тления испускает государственный или общественный организм — уже евреи от него откидываются, хотя были бы доселе привержены, уже — отреклись от него. И едва только где пробился первый росток от будущего могучего ствола — уже евреи видят его, хвалят, пророчат, выстраивают ему защиту…» («Двести лет вместе», кн. 2, стр. 23).
«Лучшее, что ждало Россию [если б не большевистский путч. — Ю. К. ] — неумелая, хилая, нестройная псевдодемократия без опоры на граждан с развитым правосознанием и экономической независимостью». Отговорка, отписка Солженицына: ясно, что подобное невозможно. После Февраля Россию (как геополитическое, конечно, а не культурное целое) могла спасти только диктатура. И никакой кроме большевистской — не просматривается. Ну, а если б таких пассионариев-сатанистов как Ленин и Троцкий не было вообще? Что бы было тогда? Не умею предположить.
В 1917-м победил уже, в сущности, отработанный «инерционный» вариант 1905 — 1907 гг. Ежели б не война, революционно-социалистические силы уже б не сумели сгруппироваться.
21 марта , воскресенье.
Современный культуролог, галерист, искусствовед, интеллектуал — это не духоносец культуры, но нигилист и менеджер , относящийся к предмету своей деятельности как к товару, в лучшем случае, как к более-менее остроумному фокусу, «проекту» (тоже, однако, имеющему свою товарную стоимость).
Вот уже месяц где-то назад заказал у Алика, продавца YМСА-PRESS (легендарного, со стажем лет в 30 с лишним, женатого на племяннице Никиты Струве), Эккермана. (Не перечитывал с 80-х годов, очень хорошо помню, вплоть до мелочей: как путешествовали они на пикник и Гёте достал из походного сундучка рябчиков и вино.)
Эккерман был у Гёте на жалованье, кажется, весьма скромном, имел неосторожность сделаться незаменимым, великий человек держал его на коротком поводке, не пустил жениться и проч. Но не в этом дело. Пример Эккермана — пример бескорыстного по сути служения великому человеку, понимание его и своей миссии, культурной иерархии мира. Тот же элемент был и у Чуковской — в отношении Ахматовой (вот почему особенно безобразна ташкентская история ахматовского третирования Л. К.). Чуковский даже поражался (читая ее Записки), как самоотверженно его дочь отдавала себя делу Ахматовой...
Но все не может Алик раздобыть для меня Эккермана. (Мой-то томик остался когда-то в Мюнхене.) К чему я все это. Я ищу перечитать эту книгу не столько ради Гёте, сколько именно ради Эккермана : захотелось лишний раз быть благодарным памяти этого на редкость верного человека.
Стою в прошлую среду в храме, завибрировал мобильник, выскакиваю на паперть. Из Москвы поэт Миша Бузник.
— Миша, я на Литургии Преждеосвещенных Даров.
— Я так и думал. А я тут у нас обошел три прихода. Все ленятся, никто не хочет служить.
А в пятницу было — Девять дней .
Какой завораживающе-безнадежный эффект:
Это было Петром, это было Иваном
— сочетание безличного в прошедшем времени и дважды повторенное это было — со среднестатистическими личными именами.
22 марта .
1500. Легок на помине, звонит Сережа Гандлевский, оказывается, в Париже. Я ему:
— Ты знаешь, Лена Шварц умерла.
— Знаю. Ах да, вы ведь дружили, сочувствую.
Самое краснобайское и пустомельное пророчество русское, очевидно, принадлежит все-таки Гоголю: что Пушкин — «русский человек в его развитии… через 200 лет».
Сроки приближаются, и когда выйдут — русского человека с лупой уже придется искать.
Из Интернета. Стихи Фанайловой (это из серии р-русские цветы зла ) выпустили в США по-английски, и книга получила элитарную университетскую премию. У переводчицы спросили, не смущало ли ее в работе обилие ненормативной лексики?
— Знаете, я тоже не тургеневская девушка…
В Кламаре у отца Михаила. В этой тесной семейной церкви с полукустарными образками и свечками, по-гречески втыкаемыми в песок светильников, легчает, хорошеет на сердце.
Потом полтора часа с Сережей Гандлевским — провел его нижней набережной вдоль Сены. Тут их целая команда — во главе с Бунимовичем. А Ольга Седакова, зачисленная было в нее, не поехала. Блюдет себя.
Василий Зеньковский: «Надо со всей определенностью сказать: Гоголь не совладал с темой, которая мучила его. Тема была гениальная, была пророческим преддверием всей русской культуры в последующие годы, но тема эта, тема религиозного обновления жизненных отношений, затруднена ведь вековыми преградами!.. Гоголь действительно был придавлен и сложностью, и какой-то необъятностью его основной идеи… Гоголь сознавал с полной ясностью всю первостепенную значительность его центральной темы, но чувствовал, что ни как мыслитель, ни как художник он был не с силах раскрыть это. Это и подкосило его силы…» (1959 г.).
Помню дремучий Рыбинск 59-го, насквозь проеденный советчиной, а на мне — шелковый красный галстук… А в Париже еще доживали люди, которые мыслили так . Вот теперь я так мыслю. Но по-мандельштамовски «один на всех путях», а если аукаться — так только с покойниками (Вестник № 195). Вчера гуляли с Гандлевским; сегодня придут о. Владимир (Вигилянский) с Олесей. Но — как-то некому протянуть культурную руку.
«В России надо жить долго» (Чуковский). Перед отъездом во Францию вместе с другими книжками купил (в ИМЛИ) вот и эту: «А. А. Фет поэт и мыслитель» (ведь интереснейшее название!). Наконец, сегодня ее открыл. Оказывается, новехонькая книга издана еще 11 лет назад (Москва. «Наследие»). В аннотации к ней сказано: «Сборник включает в себя доклады и сообщения, сделанные на юбилейной Фетовской конференции в ИМЛИ РАН, состоявшейся 5 — 9 декабря 1995 года. Книга адресована научным работникам, сотрудникам музеев, преподавателям вузов, а также всем, кого интересует история русской литературы и культуры». «Всех» оказалось, видимо, немного. Смотрю сзади: «Тираж экз.». Цифра скромно пропущена.
Четырнадцать с лишним лет назад кто-то — в разгар криминальной революции, прихватизации, убийств и разборок — интеллектуально горячился, делал доклады о Фете-мыслителе. И вот сегодня тогда звучавшее — у меня в руках, а за окном парижский, с начинающимся цветением, весенний день.
Фет: «Раз сложившиеся, хотя бы и совершенно неосновательные убеждения преимущественно руководят всеми действиями человека, даже вопреки нагляднейшей очевидности…».
Реформы в России всегда почему-то приводят, очевидно, к обеднению и новому витку культурной деградации масс. Поразительное свидетельство Фета 1882 года: Сегодня «Россия могла бы гордиться, доведя общее благосостояние крестьян до уровня 50-х годов»…
Или:
«Эти бедные селенья,
Эта скудная природа
неказисты и могли возмущать Тютчева рабским видом, но в сущности, масса крестьян стояла при прежнем порядке (т. е. при крепостном праве) по богатству неизмеримо выше западных масс».
Невероятно. Откуда же тогда ощущение европейского довольства по сравнению с родиной у русского человека? Возможно потому, что в Европе дома из камня, а у нас — избы? Что европеец опрятней и меньше пьет? Наконец, ощущение высокой — по сравнению с Россией — комфортности жизни (в первую очередь из-за дорог, пансионов, гигиены, кухни и проч.) и ее большего общественного (политического) многообразия.
После соборования. 23 часа.
Народные, массовые многолюдные похороны Достоевского всегда казались мне немного трагикомичными — ввиду его пламенных призывов к всеобщей солидарности и любви — ведь за гробом шли православные и бесы, и еще неизвестно, кого было больше: освободительное движение влилось в процессию похорон старого петрашевца, несмотря на все его «ренегатство», как ни в чем не бывало. И вот сегодня читаю то же у Фета, писавшего по свежим совсем следам:
«Так, например, в январе прошлого года весь Петербург, слившись в одном сочувствии, хоронил Достоевского. К гробу его протягивались с венками руки истинных слуг Царя и Отечества и руки врагов их. Те и другие чтили в усопшем своего героя. Разве это не софизм в действии? Люди порядка чтили в Достоевском тяжело выстраданные призывы любви к действительному обновлению и преуспеванию. Не тот смысл имели овации наших слабоумных революционеров. Порицая последнее направление Достоевского, они чествовали в нем бывшего ссыльного. (Смягчил Фет, надо бы сказать — каторжника. ) Его погребение было для них как бы сборным пунктом; нужно было показать, что вот мы все налицо (тю-тю-тю, а я и не думал, что уж настолько…). И точно, прошел месяц со дня торжественных похорон человека, прочувствовавшего русским сердцем великое для русского человека слово царь (курсив Фета) — как совершилось гнусное злодейство» и проч. (Фет «Наши корни»).
25 марта .
Начальник Службы пожаротушения Москвы Евг. Чернышев . В субботу, в свой выходной день, этот высокий чиновник по ТВ узнал о начавшемся на севере Москвы сильном пожаре (бизнес-центра). Тотчас — за руль, на своей машине туда поехал, вывел из пекла пятерых, а сам погиб (сегодня похороны). Есть в России и такие чиновники, такие люди — не одна тля. Берет такое за горло.
28 марта , Вербное Воскресенье.
Вчера на лекции Аси Муратовой (конечно, о ее дяде) в Лувре. Сидел и думал о разрывах русской (и без того такой недолговечной) цивилизации. На рубеже XIX — XX вв. открывали «древнерусское» искусство (которое и было-то всего на 300 лет раньше) с такой же горячностью и изумлением, как итальянцы XV века античность и Рим, существовавший за 15 с лишним веков до того! При таких разрывах как и когда можно было русской цивилизации окрепнуть и обзавестись стабильной кровеносной системой. И смех и грех: православная цивилизация с терроризмом в подполье.
Литургия на Дарю. Вернулся с пучочком здешней зеленой «вербы».
В это трудно поверить, но — согласно Фету — кофе с молоком в середине XIX столетия в Париже хлебали столовыми ложками из посудин, больше похожих на супницы, чем на чашки.
Беспримесный Шопенгауэр: «Вновь примиряться с другом, с которым мы порвали, — слабость, за которую мы платим, когда он при первом случае снова делает как раз то самое, чем был вызван разрыв, — даже еще с большей развязностью, в скрытом сознании своей для нас необходимости» («Афоризмы житейской мудрости»)…
Фетовский сборник заканчивается обзором выставки Фета в Доме Аксаковых в начале 90-х годов, написанным Г. Л. Медынцевой. На выставке этой я, помнится, побывал, разглядывал пожелтевшие фотографии.
По наводке Лиснянской я тогда там и презентовал «Число». Пришли Наташа с сыновьями и мамой (а общество-то собралось глуповатое). Совсем другие были тогда мальчики, не было у них нынешних насмешливо-выжидательных глаз богатых людей.
Медынцева упоминает воспоминания В. Кривича (сына Ин. Анненского): «Фрагмент их был подготовлен к печати в 1940 г. сотрудницей музея Дуниной (о ней ничего не удалось выяснить), но так и остался в машинописи».
Мир Вашему праху, безвестная Дунина! (От которой не уцелели даже инициалы.)
Фетовский сборник составил «профессор, доктор филологических наук Е. Н. Лебедев». Но выхода его в свет не дождался: помер в 97-м. В маленьком мемории в конце сборника тоже ныне уже покойный Вадим Кожинов (как паровоз, все время дымил «Примой» через видавший виды мундштук) написал про Лебедева, что «Евгений Николаевич жил напряженно и неосторожно», т. е., видимо, пил . Фраза лебедевской преамбулы к сборнику: «Афанасий Фет — это великое прошлое России и залог ее не менее великого будущего », очевидно, написана либо накануне запоя, либо сразу после него.
Запивал и сам Кожинов. В открывающей сборник его статье «Место творчества Фета в отечественной культуре» опечатка вполне по Фрейду: «Лишь сравнительно недавно поэзию Фета начали понимать по-иному, начали открывать в ней глубину и размах художественного смысла — вплоть до истинного „ комизма ”, проникновенного видения Вселенной в ее беспредельности» (вместо космизма ). По той же причине, видимо, не вычитал свою же статью…
У Тютчева: «Отрешенно-роковая интонация бесстрашного вещания вселенских истин». Громоздко, но точно сказано (ярославским некрасоведом Николаем Пайковым. «Феномен Некрасова», Ярославль, 2000).
Протоиерей Иоанн (Восторгов) в 1908 году (за 10 лет до мученической кончины от большевиков): «Он (Лев Толстой) „не может молчать” при виде казни преступников-революционеров… но он молчит, когда революционеры и убийцы… казнят самовольно сотни и тысячи невинных людей и заливают кровью лицо земли русской».
А вот уж тут прот. Иоанн явно переборщил, приписывая Толстому «зависть к чужой литературной славе… ненависть (!) к Достоевскому и Тургеневу». Ревность определенная, возможно (и даже конечно) была, не больше того.
30 марта .
Слёзные только пазухи
что-то поизносились —
я лишний раз почувствовал это сегодня, сейчас — когда после многих-многих лет прочел эпилог «Преступления и наказания». Свет невечерний, нездешний идет от этих страниц (как и от многих страниц русской литературы). Это чудо (которого не знает французская литература, к примеру).
Остроумное замечание Свидригайлова (которое прежде у меня не было возможности оценить): «Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь».
В Страстной понедельник взрывы в моск. метро — 37 человек погибло, десятки ранено.
Моральный, нравственный распад общества: в парализованном центре Москвы таксисты тотчас взвинтили цены в десяток раз; хорошо, что патриарх Кирилл счел нужным сказать об этом (в Покровском женском монастыре).
Я прежде все недоумевал: зачем Достоевскому нужна была Лизавета? Разве не достаточно убийства одной старухи? И только теперь понял: да ведь она была духовной подругой Сони! (И вместе читали они Евангелие.) Это делает романную ситуацию еще бездонней.
Нигилист Лебезятников — Лужину: «Мы поговорим о детях после, а теперь займемся рогами! Признаюсь вам, это мой слабый пункт: это скверное, гусарское, пушкинское выражение даже немыслимо в будущем лексиконе». Юмор Достоевского: разом и славный, и «черный».
Достоевский — русский Шекспир. Шекспир, облагороженный православной культурой.
При тоталитарном режиме едва ли не все настоящие поэты жили несравненно хуже нас теперь, много хуже. И, большинство, материально, а главное, в страхе за могущую прерваться свободу в любую минуту, хотя слово «свобода» в отношении того времени вообще нелепо. Зато ни в ком из них не было и тени сомнения в конечной победе и прочности книжной культуры, а значит, и конечного торжества справедливости и нужности своего дела, дара. У нашего поколения этого уже нет: нам в лицо дышит бездна конца традиционной культуры, книги. Это успел застать Солженицын, но, слава Богу, по старости, кажется, не расчухал (это было бы уж для его судьбы слишком). Но вот я учусь жить именно у этой «бездны мрачной на краю» (и в состоянии культурного одиночества).
1 апреля , Страстной Четверг, 10 утра.
Сегодня в 18 часов — 12 Евангелий.
Гёте — Эккерману: «Со мной бывало не раз, что мои бесцеремонные высказывания отталкивали от меня хороших людей и портили впечатление от моих лучших произведений».
Бывает такое и у меня: я не из осторожных, да к тому же и трястись особенно не за что, и так гол как сокол. Но, в основном, дело в другом. Чухонцев когда-то мне сказал полунедоуменно: «Ты ведь первый сам себе своим патриотизмом вредишь» (т. е. своей, читай, публицистикой). Знаю сам, что «впечатление от моих лучших произведений» испорчены тем, что я в открытую свои убеждения выражаю. Зачем это? Да затем, что «алчущий и жаждущий правды» и — «не могу молчать». Это вот и есть исток публицистики. Возможно, этот отравленный дар и не развился б во мне, коли не Солженицын.
3 апреля , Страстная суббота, 8 утра.
Букет молодых опаловых тюльпанчиков на субботнем рынке — Наташам .
Хохлацкие политики не только дилетанты, но и комики. Вчера тимошенковцы заблокировали Раду, сорвали ее работу. А сегодня принесли «народу Украины» официальные извинения, что сделали это в Страстную пятницу. (Вчера потерпевшая политическая сторона весь день возмущалась: как? как? В Страстную пятницу!)
В 17 часов освящали на Дарю яйца, куличи, пасху (яйца красили сами в луковой шелухе — смуглые, с темно-красным отливом, с отпечатками листиков петрушки, укропа и морковной ботвы, а потом для блеску я еще смазал их тампончиком, пропитанным подсолнечным маслом). Кулич и пасху купили в «Тройке». Владыка здешний — голландец, перед освящением говорил по-французски: «Мы здесь не в России, не в Украине, не в Молдавии, мы в свободной Франции». Хохлы и молдаване святили и колбасу, и бутылки — аристократический парижский двор превратился даже не в Москву, а в окраинную (не русскую) провинцию.
5 апреля , Переделкино.
Вчера. Яндекс. Новости. Новость часа . Медведев и Путин поздравили патриарха Кирилла со Светлым Христовым Воскресением.
6 утра — по дороге с аэродрома в продмаг. И вылупились глаза. Минеральная вода, кефир и проч. — все новых марок, с новыми наклейками и в 2 — 3 раза дороже. Дома — телефон мертв. С трудом дозвонился до соответствующих служб. Механические голоса, но когда скажешь: Христос Воскресе! — вдруг человеческие прорезаются нотки, словно сказал пароль. Так удалось выяснить, что обрыв кабеля — но кабель проходит через земли какого-то богатея, и тот на них никого не пускает — видно, чувствует себя феодалом. Ощущение — как и предупреждали друзья — ускоряющейся деградации.
Рядом с постелью на тумбочке — самиздатовский талмуд Елены Шварц, третья какая-нибудь машинописная копия. Но сразу со страниц зазвучал ее голос, ее интонации. И сразу:
Крематорий — вот выбрала место для сна!
Будто предугадала...
6 апреля , половина второго ночи.
В пасхальную ночь в Кламаре у отца Михаила (Осоргина) я встретил вдруг Веронику Шильц — через четверть века! В последний раз мы виделись, помнится, на блинах у Никиты Струве в конце 80-х! «Жрица, Постум, и общается с богами». Мне показалось, когда мы христосовались, что она чуть-чуть смущена: то ли я напомнил ей вдруг минувшее, то ли — что «вдруг» узрел ее православной. Ведь с Бродским и при Бродском она была как бы в его идеологии. Он рассказывал, как они брали облатки в католическом храме и он пошутил: «Как, после такого обеда?» — они до того обедали в какой-то вкусной траттории.
Была эта — стройная, никогда не красившаяся французская преподавательница — интеллектуалка (по типу). Теперь потучнела и стала безгубая, мучнолицая. Но очень-очень хорошая. Струве: «Она сносила все его связи всю жизнь, мол, это, так сказать, профессиональное. Но вот женитьбы его уже снести не смогла».
Уж и не знаю, складывает ли она теперь по-наполеоновски руки, что когда-то так восхищало Бродского:
Руки скрестив, как Буонапарте на Эльбе (...)
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.
(1967)
43 года тому назад — и как раз накануне Пасхальных дней…
Врубай «ящик», не ошибешься. Вот сейчас по НТВ какой-то фильм, а там исповедь разочарованной, но знойной блондинки-простолюдинки: «Поверила я ему, понимаешь, полюбила его. А он оказался бисексуал». А фоном — лесок, березки… Русское ТВ-2010.
7 апреля , Благовещение.
Четвертый час ночи. Визави в темноте горит окошечко «матушки Олеси». Она ли пишет новый роман, отец ли Владимир читает правило на ночь (шучу). Но в любом случае, приятно это бодрствование в ночи. Как когда-то лет в 12 написал покойный ныне Боря Думеш: «Спят все люди тихо-тихо. / Лишь одно окно горит: / это старый наш учитель / за тетрадками сидит». Это был первый поэтический текст, родившийся, считай, на моих глазах — у моего сверстника. Тогда мне открылось, что не боги горшки обжигают, что вот — можно писать стихи.
Читал стихи (и отвечал на вопросы) на филфаке МГУ. Собралось человек 30, половина — аспиранты и педагоги. Два с лишним часа пролетели как — не заметил. Прошел насквозь, правда, 200-х — 300-х метровый коридор факультета с дверями кафедр и классных комнат, но никакой культурной и филологической энергетики, честно сказать, так и не заметил. Если б не таблички — и не понять, что ты у гуманитариев. Вот тебе свобода от идеологического намордника — вместе с ним, оказывается, и дух отлетел. Почему? Разговор особый. Все гуманитарное — какое-то перегоревшее, опущенное. Никак не скажешь, что здесь кузница кадров гуманитарной интеллигенции.
2230 . Сегодня день в лучших традициях прошлых времен: т. е. круговерть и много пешего хода.
С утра у Иры Антоновой дорабатывали «Посвящается Волге» (цвет обложки, уточнение текста и т. п.). От нее доехал на троллейбусе до поворота на Донской. А там сегодня — в Благовещение — оказывается Патриарх и ряженые, пардон, казаки стояли в две шеренги от храма до трапезной под весенним припеком.
Так что, обогнув слева собор, прошел к солж. могиле. Пожилая женщина, ссутулившись, там стояла и… узнала меня: перекрестила и «дай вам Бог здоровья». И потом еще подходили — все пожилые, старые, много все меня старше и тоже все меня узнавали. Так вот, оказывается, где меня знают и любят — на кладбище у солж. оградки и лампадки в фонарике.
На выходе в палатке под тентом купил (за 250 руб.) пасху в марлечке и с ней в Пушкинский к Богатыреву. А там уже выпивают моя теща и директорша из Тархан. Долго ходили внизу по выставке: миниатюры, гравюры, портреты — вещдоки русской цивилизации. У-ф-ф, потом еще суета, а после вечер поэтов в МГУ на журфаке: Гандлевский, Иртеньев, Николаева и т. п. Темпераментно читала Маша Ватутина. Вошел во дворик и сразу вспомнил, как на ступеньках под Ломоносовым сидели Евтушенко и Бродский. Возле Евтушенки толклись за автографом девицы, а Бродский постно косился в сторону.
Но аудитория-то набита была битком — как в те баснословные времена.
Какая-то поэтесса читала:
Красивые, как два гестаповца
в шуршащих кожаных пальто.
Но Гандлевский посмотрел осуждающе (мол, такими вещами не шутят).
10 апреля , суббота.
На днях на вернисаже благонамеренного пастелиста из Тархан все толклись в одном зальчике, а я в соседнем присел на стул. Накрыт фуршетик — человек на 30 — три бутылки не охлажденного останкинского «шампанского». Вошел мужик, раскрыл портфель, насыпал из разных пузырьков целую пригоршню пилюль и шарит глазами в поисках, очевидно, запивки. Но минералка оказалась на «фуршете» не предусмотрена. Тогда выстрелил шампанским, налил бокал, пилюли — в пасть, и запил спиртным лекарство. «Мы ведь где — мы в России» (Шварц).
Зато тем же вечером на юбилее студии «Луч» — я такого давно не видел — водка «Смирнов» стояла в несколько рядов, шеренгами. Я там до конца не пробыл (с «матушкой Олесей» вернулся в Переделкино) — но пииты, верно, хорошо оттянулись...
Цыганские стихи Шварц:
И вернусь я тогда, о глухая земля,
в печку Африки, в синь Гималаев.
О прощайте вы, долгие злые поля
с вашим зимним придушенным лаем .
«С вашим зимним придушенным лаем» — какой эпитет! Гениально. Ничего более тоскливого о русской «степной» зиме — не сказать.
А печка тут — суть топка . Раскаленная топка в сини — какой пророческий образ.
Гёте — Эккерману (27 января 1824 г.): «Меня всегда считали особенным баловнем судьбы… но, в сущности, в моей жизни ничего не было, кроме тяжелого труда, и я могу сказать сейчас, когда мне семьдесят пять лет, что я за всю жизнь и четырех недель не прожил в свое удовольствие». Гёте, конечно, не совсем точен: труд был ему в удовольствие. Но отличие гения даже и от сильного дарования: труд и труд. То же и Толстой, и Солженицын. Я-то всю жизнь «в свое удовольствие» проболтался и провалялся с книгой. Мол, «если кончена моя Россия — я умираю» (Гиппиус).
Бишкек (Киргизия) в руках мародеров уже несколько дней — ночей.
Пять лет назад там произошла цветная (на этот раз тюльпановая ) революция. Американцы расквартировали там свою базу. Кто заказал цветную музыку на этот раз — пока не ясно. Показали вчера растерзанного с заплывшим от побоев лицом крупного эмвэдиста (министра МВД), разбитыми губами повторял как попка: «Я выполнял приказ, я выполнял приказ». Сообщили, что потом родственники выкупили его у вожаков толпы за 40 000 долларов.
В пристанционном шалмане «Мельница».
— Би в строганоф (так в тексте меню) приличный у вас?
— Да пока никто не жаловался.
Но или я избаловался в Париже, либо состарился: не мог разжевать ни одного почти ломтика, завернул в салфетку и принес домой Мишке (потомок того «Трезорки», что в стихотворении о Бродском).
За соседним столиком подвыпившие мужики с подружкой: матерок, подначки. Выпили и продолжают гулять.
— Девушка, раки есть?
— Сегодня нету.
— Ну, три порции креветок.
— Креветки, простите, только вечером будут (видно, рыбаки еще покуда с промысла не вернулись).
— А что же есть?
— Чипсы.
— Ладно, несите чипсы.
В прошлом году — столетие Павла Васильева. Я не люблю этот тип: буйные самородки, лишенные самодисциплины, с гениальными вдруг наитиями, не люблю (за исключением немногих строк, строф) и Павла Васильева, особенно невыносимы знаки восклицания в конце стихотворения. Но вот сегодня, несмотря на безвкусицу восклицательного знака в конце, одно стихотворение меня заворожило. Написано в 24 года — за три года до дикого скоропалительного ареста и расстрела. Какая лирика: «По снегу сквозь темень пробежали» — замечательно. А дальше: «И от встречи нашей за версту, / Где огни неясные сияли, / За руку простились на мосту».
Одарить бы на прощанье — нечем,
И в последний раз блеснули и,
Развязавшись, поползли на плечи
Крашеные волосы твои.
Предпоследняя строфа:
Он поет, чуть прикрывая веки,
О метелях, сбившихся с пути,
О друзьях, оставленных навеки,
Тех, которых больше не найти.
Васильев — тип добра молодца, красавца и дебошира. Ну что ему делать в Москве 30-х? Сгорел мотылек. (И говорят из-за того, что за обедом у функционера Гронского под хмельком пожаловался, что Клюев к нему пристает, стал причиной клюевского ареста.)
А стихотворение Васильева напомнило мне Рубцова (никак не хуже): «Ветер всхлипывал будто дитя…» etс.
Любопытно, почему перекультуренный смолоду Мандельштам вдруг так оценил Васильева? Да потому что живая вода — среди свинцовой казенщины. Лет за 10 до того он был бы ему еще не нужен.
Польша — самый колоритный, яркий, религиозный народ Восточной Европы. Это как бы ее испанцы . И жертвы ее всегда мистичные, крупные, душераздирающие.
Если уж Сталин на нее осклабился, так непременно устроил настоящую бойню — уничтожил выстрелами в затылок цвет польского офицерства в Катыни. (Сильный фильм Вайды об этом.)
И сегодня утром — на день 70-летия этой жертвы летела из Варшавы головка нынешнего польского руководства — хорошие консерваторы-националисты, приверженцы христианской морали. И за 300 метров до смоленского аэродрома польский «борт № 1» упал, все погибли, все — около 100 человек, включая президента Качинского.
Оказывается, наземные службы настойчиво предупреждали о дурной видимости, предлагали садиться в Минске или Москве. Но кружили, кружили и с третьего раза все-таки пошли на посадку. Смесь польского гонора со славянским авось.
11 апреля .
К стыду своему — впервые в жизни прочитал «Конец Чертопханова» Ивана Тургенева. Гениальная вещь. Но, мнится, без XVI главки было б еще сильнее. Но уж таков XIX век: еще не умели эффектно, вовремя обрывать — это уже есть у Бунина, отчасти у Чехова…
2220. По России 1 — «Катынь» Вайды. Сегодня горжусь Россией, нам хватило нравственной силы показать это . (А по Первому каналу «Пепел и алмаз» — фильм сильный, но все-таки снятый в социалистической Польше, и по нашим временам розоватый.)
16 апреля , пятница.
Три дня в Рыбинске — погода и природа были такие, словно смотрел на мир сквозь хорошо промытую линзу. Под свеже-голубым небом — слепяще синяя Волга в разливе с одиноко несомыми течением небольшими льдинами (а на них чайки). Я забыл про такие русские весны, холодновато-солнечные и чистые, с последними языками и островками снега по берегам.
По дороге туда опоздал из-за пробки на Минке на ярославский экспресс и добирался на «поезде дальнего следования» Москва — Архангельск. Не перемещался по родине на таких уж лет 15: идешь по проходу, уворачиваясь от свешивающихся нечистых пяток, архаичный сортир... Не успели отъехать — крутые яйца, холодные котлеты и водка. Скоро стал раздаваться и матерок. Совково-азиатская обстановка.
На окраине Борисоглебска, чуть в стороне — кладбище. Там — на могиле «последнего старца» Павла (Груздева) — черный гранитный крест, теплился огарок в песке железной «божнички». (А при входе на кладбище — «унылый слежавшийся сор, / как будто распахнуты недра / Отечества всем на позор».)
С другой стороны шоссе — уже не сор, а сюр : вид зоны с крашеными бараками. Что это? В жизни не догадаетесь. На одной из облезлых дверей дощечка: «ООО Бониццы и Ко». Оказывается, какой-то авантюрный сеньор Бониццы решил здесь реанимировать и отладить производство сыра в середине 90-х годов. «Я накормлю сыром Россию», — цитировала его нам словоохотливая тетка в сатиновом рабочем халате.
— А где же он теперь?
— А давно уехал.
— Но вы с ним на связи?
— Да уж давненько не говорила: телефон есть, но нет переводчицы. Она и сама вышла за итальянца и отсюда уехала.
Сыр, разумеется, шокировал бы любого европейца, а мне нравится: рыхловатый, солоноватый, пористый — фирменный сыр ООО «Бониццы и Ко», нигде такого не сыщешь.
11 утра. Ходил платить за аренду дома (апрель — июнь). Цены выросли раза в 3. Трудно передвигаться по Переделкину; грязь и мусор вдоль дорог доводят до тихого исступления.
20 апреля .
В моральном и психологическом (и социальном) отношении 90-е гг. были самые для меня мутные, унизительные, самые нехорошие. Обрушение всех надежд, связанных с возрождением Родины, с моей нужностью ей…
Премьера михалковского нового военного боевика «Утомленные солнцем-2» подается как событие государственного значения. «Сверху» спускаются установки на восторженные рецензии. Вчера в программе «Постскриптум» интервьюер Пушков спрашивает: «Комдив Котов, согласно концовке вашего предыдущего фильма, должен бы был быть расстрелян как враг народа. А он, оказывается, жив». Михалков: «Но ведь такие воскресения уже встречались в литературе: вспомните Остапа Бендера, Шерлока Холмса».
21 апреля , среда.
На днях закончил перечитку третьего тома «Гулага» (не читал с 80-х годов). Сейчас, когда уже советское не так жжется, и «на повестке дня» совсем новые тревоги и беды — видимей рыхлотца, поспешное стремление вместить сразу и все в ущерб художественной локальности и т. п. Уже тогда последняя часть тома показалась мне очерково-газетной, именно газетно-проблемной, ну и, тем более, уж теперь. Да Александр Исаевич и сам пишет: «А вот что выражался я неудачно, где-то повторился или рыхло связал, — за это прошу простить» («И ещё после», 1968). Книга такого объема и такой раскаленности писалась в подполье и как памятник могла исчезнуть в любую минуту, а автору было б не сносить головы. Вот почему не просто невежественны, а гадки высокомерные нападки на эту книгу (Улицкой и Ко). Для моего поколения и людей моего круга и моей мысли она… священна. Ну а уж что будет дальше — Бог весть.
Остроумный Е. П.: «Были Суслов и Фурцева. А теперь Сурков и Прохорова».
22 апреля , четверг.
В каждом русском мистике XIX века сидел натуралист. Вот почему Достоевский и его круг с такой жадностью ухватились за Данилевского: он давал им иллюзию научного подтверждения их мировоззрения.
В новостной программе главный архитектор Москвы Кузьмин:
— Для нас, стариков, только два слова и имеют значение: библиотека и филармония. А молодежь хочет другого, другую Москву (по поводу постройки под площадью Пушкина гигантского торгово-развлекательного центра). Думал, Москву уже добили. Ан, нет: есть еще ресурс для уничтожения .
Гражданское бессилие — бессилие , какого не ощущал даже под коммунистами.
Сейчас по телефону (19 часов) германист Юра Архипов. Пожаловался, что журнал «Иностранная литература» вернул ему его эссе «Пушкин и Гёте». Отказ, подписанный Сергеем Гандлевским, мотивирован тем, что «мы — журнал либерального направления, а ваша статья консервативна по духу».
23 апреля .
По-юношески наивная (но и славная!) уверенность Гёте: «Для меня убеждение в нашем будущем существовании возникает из понятия деятельности ; ибо если я неустанно действую до конца моей жизни, то природа обязана дать мне иную форму существования, когда эта, теперешняя, уже не будет в силах более удерживать мой дух» (4.II.1829).
«Природа обязана дать мне» — мирочувствование оптимиста.
Гёте, видимо, последний эпигон-универсалист возрожденческого закала. (У Стриндберга его «оккультные» опыты носили пародийный уже характер.)
В XX (да уж и в XIX веке со второй его половины) невозможно представить художника или писателя, годами занимающегося естествознанием и связанными с ним опытами. Еще Шопенгауэр, помнится, занимался по молодости «наукой о цвете» (и даже грубил Гёте за недостаточное к нему внимание), но это уже была последняя отрыжка универсализма. Потом наступила все более сужающая занятия специализация .
А у нас последним (и первым) таким универсалистом был Ломоносов. (Впрочем, отчасти и Менделеев.)
Эккерман, 5 июля 1827 г.: «Вспоминали (с Гёте) и более ранние времена эпохи Наполеона, и в особенности, много говорилось о герцоге Энгиенском и его неосторожном революционном поведении ». Так понимать, что сам виноват в том, что Наполеону пришлось послать к нему наемных убийц в соседнее государство?..
Ох, хотел бы понять я, почему Гёте и его современники, поклонники Бонапарта, не впадали в оторопь от бессмысленного броска его — на Москву, от того, что столько положил людей и бежал из России, бросив в ее снегах остатки недобитой своей армии — гибнуть и замерзать. Ради чего такая бойня, столько пролитой крови? Какая психология позволяет не обращать на это внимания?
Но на это не обращали внимания, кажется, «ладно» Гёте, но у нас и Пушкин и Лермонтов. Исторический герой еще не был в их сознании напрямую связан с моралью. И только в Толстом (и Фете — см. их переписку, которую я читал аж летом 1967 года!) убийство герцога Энгиенского вызвало уже понятное нам негодование.
Еще бесстрашный Розанов отметил где-то, что если, к примеру, Гёте устарел в очень значительной своей части, то Пушкин не стареет совсем (правда, Пушкин теперь, кажется, устарел весь и сразу, но в этом нету его вины, а только сила технотронного одичания: в пределах культуры Пушкин не устарел и теперь). Казалось бы, что за чушь: титан возрожденческого пошиба Гёте и русский варвар с африканским жаром без олимпийства. Но такова правда искусства. Гёте и в 75 считал, например, Вольтера источником света , ничего его не смущало. Тогда как Пушкин уже в 25 понял, сколько там идеологической дешевизны (опасной для души человеческой).
25 апреля , воскресенье.
Сегодня вечером — в Латвию. Я не был там с 1970 (!). Вдруг оказалось, что русские стихи кому-то там интересны.
29 апреля , четверг.
Три славных дня в Латвии.
В первые же минуты в Риге вдруг выплыло в сознании: Слока . Что за Слока? И вспомнил, разом вспомнил — ну, не откажешь Творцу в рисунке судьбы — да ведь это место на взморье, тут, где я жил когда-то — когда? Да тоже весной и, считай, 40 лет назад! Да-да, обошел — по наводке Сарабьянова — питерских коллекционеров, насмотрелся «станкового» Сапунова — и сюда писать диплом, обрабатывать собранный материал… Наверное, был тогда конец марта, а не апрель: вспомнились выброшенные на берег последние подгнившие льдины; и вот вчера я шел тем же взморьем, и так же, как тогда, обгонял меня лебедь (тогда впервые в жизни увидел я вольного лебедя на вольной воде).
Сюда на рижское взморье, когда наступало лето, бежали столичные либералы из Московии-Евразии в какой-никакой, но все-таки уголок Европы. А весной пусто — и тогда и теперь. Слева — сосны, справа — морская зыбь с чайками, лебедями. И белый «дюнный» песок…
В Слоке (в Каугари) я вдруг вышел даже на — вспомнил! — пельменную, где 40 лет назад в обед подкреплялся. И она существует — в несколько облагороженном варианте. Правда, бутерброды с килькой и луком кружками — те же, но пельмени ручной работы.
Рига. Поздно вечером в баре на Домской площади заказал бальзам. Латыш в белой рубашке, застегнутой под кадык: «Такой большой мужчина и такую маленькую рюмочку?»
Проститутки (причем обоего пола). Парень: «Массаж прямо сейчас». Девицы «застенчиво» трогают за плечо. Город чудный, но неблагополучие налицо. Ни один латыш не сказал о сегодняшнем дне ни одного доброго слова. Вот ведь: свобода и от совка, и от «русских оккупантов», а молодежь поэнергичней поголовно бежит на Запад, производства развалены, сельское хозяйство почти погибло. Ни-ще-та слишком многих.
Сахарная свекла, сахар — многие работники поверили, что теперь-то станут процветающими производителями, на последнее закупили нужное оборудование, оснастку. Но Латвия вступила в Европейское Экономическое Содружество (чтоб лишний раз доказать себе и другим свое европейство) . А там и так этого преизбыток. Откупаясь, дали Латвии денег на ликвидацию производства. Часть раздали, часть украли. Что теперь делать фермерам? Продают когда-то купленную по наивности технику за гроши белорусам.
В нераскормленной Восточной Европе — словно переносишься на полвека назад…
Филолог Влад. Попов ровно семь лет назад подарил мне Том 2, Часть 1 Полного собрания сочинений и писем Е. А. Баратынского. Сегодня я решил разузнать, сколько книг еще вышло и где их можно приобрести — дабы восстановить «прерванную нить» и углубиться в позднего Баратынского, привлекающего меня своим зазывным одиночеством. Звоню Владимиру, и что же? Ни одного тома с той поры так и не вышло! «Очень надеемся в этом году выпустить Часть 2» (Изд-во «Языки славянской культуры»). На издание нет денег. А еще говорят, что русские культурные люди живут не в оккупированной стране.
Мне завтра 63. И этой же весной — папе моему 100 (!). Я родился, значит, когда ему уже было 37. И на стене у меня висит полувыцветшее, чудом уберегшееся «Свидетельство о браке № 594».
Мама с отцом поженились за 4 дня до начала войны 18 июня 1941 года. Известие о ней застало их в поезде, по дороге в Харьков — к его родителям. Этих своих родственников я не знаю. Мама была моложе отца на 7 лет. Он любил ее намного сильнее. Но в Рыбинске, несмотря на всю его популярность (помню его в кофейного цвета камзоле с серебром в «Коварство и любовь» Шиллера), актерская судьба его не сложилась. А мама — волжской крови. Жили они вместе только урывками, а уже в 1957-м мама сошлась с другим.
1330. Звонок из Израиля Инны Лиснянской (поздравляет с завтрашним днем рождения). Я впервые услышал Инну после ее инсульта зимой. Голоса не узнать — изменилось все: тембр, интонации… Увидимся ли? После Елены самый мне дорогой поэт — из еще живых .
5 мая , полдень, Переделкино.
Любимое присловье Победоносцева: «Не надо». В России что-то политическое, реформаторское делать — только вредить. А потому — не надо .
Посмотрел на днях «Трамвай Желание» (с Вивьен Ли и Марлоном Брандо). Какое было кино! Как играли! (С долей славного примитивизма.) Я всегда считал, что в этой пьесе Уильямса есть искра шекспировского трагизма.
«Жизнь народа, его учреждения, его верования и искусство суть только видимые продукты его невидимой души» (Г. Лебон). Что же мы на сегодня видим ? Какие «видимые продукты»? «Жизнь народа» несет на себе ярко выраженные черты люмпенства, хамства, антисанитарии. «Его учреждения» — в них лучше лишний раз не соваться. «Искусство»? — его нет, вместо него уродство, шоу-бизнес и несусветная пошлость. Остались только «его верования». Только в церкви — и видишь «невидимую душу» народа. Только в церкви. (Но, разумеется, не когда жирные кобели, гикая, окунаются в крещенскую прорубь, а после пьют водку.)
7 мая , пятница.
Солженицын владеет иронией не уплощающей, не схематизирующей, но выявляющей суть события, человека… А какое письмо: «…страдальчески обжал Керенский локтесогнутыми руками свою огурцовую голову». (Сейчас, выборочно, поглавно стал перечитывать «Март Семнадцатого», 4-ю часть). На полях обложки — записи полустершимся карандашом: «16.V.92. Поезд Саратов — Самара, 7 утра»; «18.V.92. Самара — Рыбинск (1615)». Восемнадцать лет назад читал «Март Семнадцатого» — вот, в дороге. Припоминаю с трудом. (Время увлечения Светланой Кековой. С ней в грозу прятались на кладбище у высоких кустов цветущего обильно шиповника — кажется, возле недавней могилы ее мамы.)
Послезавтра — 75 лет со Дня Победы . Массированная пропаганда псевдопатриотизма. Оруэлл отдыхает. (И все время повторяющаяся «минута ненависти» к «власовцам» и т. п.)
Вчера — издатель Вит. Горошников, на редкость обязательный и сметливый, привез сигнал «Посвящается Волге». Опрятно сделано.
8 мая .
Раз примерно в месяц шизоватый звонок из Серпухова.
— Ю. М., это вас Олег Ларичев беспокоит.
Вот и сегодня:
— Вы случайно в Европу в ближайшее время не едете?
— То есть?
— Ну, в Париж, в Венецию… Жаль. А то хотел вас просить: цветочки бы положить на могилку Оскара Уайльда.
10 утра. Приезжал Саша (Жуков) с Алешей — на своем новом компьютеризированном броневике. Выпили четвертинку, закусили с икрой черняшкой. Милое дело.
9 мая , утром.
Идеологическая раскаленность начала 90-х.
Солженицын еще и до Москвы не добрался, а Рената Гальцева, разочарованно отрубая: «Уже и так ясно, с кем он».
Карякин — на вопрос журналистки, с кем был бы сегодня Достоевский — горестно покачал головой: «Не с нами…»
Роднянская (мне): «Когда слышу, что к Залыгину в редакцию придет Распутин, стараюсь поскорее уйти, чтоб только с ним не столкнуться».
А ведь это лучшие бескорыстные люди. Но — неисправимая московская интеллигенция.
13 мая , четверг.
Гёте (9 февраля 1831-го) о ком-то: «…испортил легкость и естественность стиха техническими ухищрениями». Пастернак вот так, например, никогда не делал и естественность — «как написалось» — очень ценил. Еще Гёте: «Если бы я был еще молод и предприимчив, я бы умышленно стал бы употреблять бедные рифмы с полной беззаботностью; но я обратил бы все свое внимание на самую суть дела и постарался бы написать такие хорошие вещи, что все восхищались бы и заучивали их наизусть». Блаженное время, когда еще можно было быть «народным».
16 мая .
В славном пушкинском Торжке — все еще подзатопленные речные откосы с золотыми одуванчиками, мощный монастырь (куда не успели прийти). Зато с Сашей Жуковым коньячком помянули Анну Керн («Анна Петровна, в замужестве Керн, / это исчадие сплетен и скверн» и проч. написал я где-то в конце, Бог ты мой, 60-х). Невысокий камень — «голгофа» и крест, свежая травка в ограде, на которой, свернувшись клубочком, спала все время белая кошечка — видимо, инкарнация самой Керн. У входа на кладбище щит (погост называется Прутня):
Уважаемые новоторы и гости,
пожалуйста,
будьте милостивы к усопшим,
не сорите, не пьянствуйте,
не нарушайте их покой.
Да хранит вас Господь Бог.
Кто такие новоторы членораздельно так никто и не объяснил. Говорят, когда-то при совке Торжок был переименован в Новотор (?!), и за жителями так и закрепилось… И что район и посегодня новоторский , вроде бы так.
Нищий — гармонист с двумя последними резцами — на мосту над быстробегущей Тверцой.
20 мая.
3 славных дня на Волге. Правда, лиризм нашего пейзажа повсеместно испорчен вышками мобильной связи. Глядишь с мышкинского обрыва на охотинскую колокольню, к примеру, а там рядом вышка. И всегда-то, точно специально, почему-то ставят ее возле храмов, уничтожая русское светлое от них впечатление.
Вечер прошел очень хорошо и собрал много народу (человек 300 — не меньше). А жили в Дёмине — у излуки Волги и — «створа фарватера в разворот». Мышкинский паром (к нему отвилка с наконец-то после 15 лет работ открытого для езды угличского шоссе) «Капитан Петров» (крупной трафаретной вязью на рубке). Кто ты — капитан Петров?
Трехкратное погружение в колодчик св. Иринарха (а до нас «погружались» деревенские подростки — пусть для них просто забава, а все равно чудесно).
Не подкачали земляки: «Посвящается Волге» приятно держать в руках.
500 — 700 тысяч умирают в России в год от последствий алкоголизма (о. Т. Шевкунов).
Стихотворец просто должен быть личностью : этого условия не объедешь. Еще Гёте сетовал, что его молодым современникам-художникам «кое-чего не хватает, а именно мужественности . В картинах отсутствует некоторая порабощающая сила, которая в предшествующие века везде обнаруживала себя, а в нашем столетии ее нет… В искусстве и поэзии личность — это все ; однако среди критиков и ценителей искусства в новейшее время были слабые личности, которые этого не хотели признать и пытались рассматривать великую личность творца лишь как своего рода незначительный придаток к творениям поэзии и искусства. Но, конечно, чтобы ощущать крупную личность и чтить ее, нужно и самому быть кое-чем».
Сюрреалисты эту «порабощающую силу» заменили магизмом. Лучшие из них «порабощают» именно магией своей фантазии. Но это чаще всего подмена.
Эккерман: «Второразрядная поэзия развивает наши пороки, так как мы впитываем в себя заразительные слабости поэта. И притом впитываем их, не сознавая этого, так как угодное нашей природе мы никогда не считаем порочным».
Все никак не хотел оторваться от Волги ночью (за полночь), а от противоположного берега отслаивался туман, вздыбливался и стлался. Я не тотчас догадался, откуда в его толще огоньки, а это были огоньки рубки проходившей баржи. Вдали, ближе к Ярославлю, вспыхивали молнии и зарницы.
22 мая .
На днях купил две рябинки, четыре кусточка белого шиповника и три черноплодки. Теперь все время выглядываю в окошки — как там они? Для меня они существа живые, беспомощные, на новом месте — не слишком для них комфортном, потому как всегда в тени из-за хвойных непомерных гигантов.
Что для немца благо, для русского — смерть. Ап. Григорьев, оговаривая условия работы, требовал себе диван в рабочую комнату. Не то Гёте: и в 80 не было в его кабинете софы: «Я всегда сижу на моем старом деревянном стуле и лишь несколько недель назад велел приделать к нему нечто вроде спинки, чтобы можно было прислонить голову» (25.III.1831).
Гёте (6.III.1831) прочитал Эккерману фрагменты своей вещи, написанной до того за полвека, они «позволяли заключить о глубокой осведомленности в обширном мире безнравственного» — замечает в дневнике Эккерман.
Человечество взрослеет? (Или худшеет?) Во времена Гёте и Пушкина и они, и их культурные ровни читали Вальтера Скотта с полной серьезностью, кончали «Айвенго», принимались за «Роб Роя». А уже в наше время это были книги для пацанов, для юношества (то же и с Виктором Гюго).
В третий раз «за жизнь» перечитываю я Эккермана, и всегда, помню, до кома в горле восхищался концовкой его «Разговоров» :
«Мне хотелось взять себе на память прядь его волос, но чувство благоговения помешало мне ее обрезать. Обнаженное тело завернуто было в белую простыню; кругом его обложили большими кусками льда, чтобы как можно дольше предохранить от тления. Фридрих поднял простыню, и я был поражен божественной красотой этих членов. Могучая, широкая, выпуклая грудь; полные, умеренно мускулистые руки и бедра; изящные ноги прекраснейшей формы, и нигде на всем теле ни малейшего следа ожирения или истощения. Совершенный человек лежал передо мною во всей своей красоте, и, восхищенный, я на мгновение позабыл, что бессмертный дух уже покинул эту оболочку. Я положил свою руку на его сердце — оно не билось — и я отвернулся, чтобы дать волю долго сдерживаемым слезам».
Многострадальная Польша. Теперь ее затопило, паводок подступил к Варшаве. Весна 2010 для нее какая-то роковая.
24 мая, понедельник.
Наткнулся вдруг в чеховской «Попрыгунье» (сто лет не читал): «…потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова» etс. (1891).
Как же все близко: Поленов «всего лишь» Наташин прадед . Почему-то меня всегда поражает, когда у русских классиков, не доживших до революции, в толще их творчества, встречаю имена тех, кто ее пережил (иногда и намного).
Неряшливое письмо Достоевского:
— Это что еще такое? — вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол («Карамазовы»).
Что такое? Что пристав, глиняный горшок что ли, чтоб ударять им об пол?
Чехов говорил, что после шестидесяти лечиться безнравственно. Возможно, и писать стихи тоже.
Но до чего ж гениален Федор Михайлович! «Стенограмма» процесса над Митей — там предвосхищена вся наша Госдума: словно это солж. стенограммы ее из «Красного колеса».
Прокурор Ипполит Кириллович: «Но пусть я пессимист, пусть. Мы уже условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте». Из этого пассажа вырос весь Керенский.
Или обращение прокурора к Алеше: «С моей стороны я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм — два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения…» А из этого — весь Милюков.
27 мая, четверг, 15 часов.
Паша Крючков на днях обронил: «Скоро Бродскому 70, представляю, сколько же будет вони». Так и вышло.
Катя Андреева, длинношеяя дикторша Первого канала: «Сегодня 70 лет Иосифу Бродскому, последнему великому русскому поэту» (свят, свят, свят).
Людмила Штерн (на том же канале): «Был ли Иосиф бабником? Не думаю. Женщин он любил, и они его любили. Но бабником…» (раздумчиво). Ну и проч. в том же духе. Смесь гомерических похвал с «эксклюзивом».
Поэзия Бродского — спутница моей жизни. Но тем более вызывают досаду его пропагандисты, указующие молодежи и шире — на Бродского как на… «делать жизнь с кого». Человека неопытного — в растленном мире — его поэзия, боюсь, не поддержит.
29 мая .
Февралистское Временное правительство — это коллективный «карамазовский» прокурор. И представление о правде реальности было у него такое же, как у этого адвоката. Как же знал Достоевский русского либерала! Весь процесс над Митей — провидение будущего исторического сценария.
И вполне в духе карамазовского прокурора они верили — иногда чистосердечно — в свою версию России. Но Россия была (как и Митя) стихийна и не красноречива (в отличие от либеральных ораторов).
Причем правдоподобна-то именно версия , а не реальность. Все здравомыслящее — за версию. И тем не менее реальность — другое. Версия правдоподобна, реальность фантастична. Это в «Карамазовых» показано гениально.
1 июня, 530 утра.
Вчера вечер памяти Саши Сопровского на Петровке. А потом долго брели с Павлом Крючковым предночной Москвой, новодельной , но теплой, майской, поблескивавшей стеклом, огнями. Днем весь этот новодел, конечно, привел бы в ужас, а тут даже и ничего, тем более, когда под шофе. Поспал часа три. А сейчас птичий разнобой, рассвет, и, видимо, ясный (а впереди летний жаркий) день.
…Это та Москва затемно, которая так возбудила Пастернака, когда он приехал на авто из Переделкина на премьеру «Марии Стюарт» («Вакханалия»). Правда, то была ранняя весна, а тут первая летняя ночь... Дошли аж до Минина и Пожарского, потом Александровским садом, потом мимо университетских решеток, старых, с утерянными звеньями, но жирно-черных… Людям книжной культуры, поэзии — нам было по-родственному уютно вместе.
Звезда — тусклый огонек дальнего (на границе с небытием) гарнизона, заставы…
Однажды даже Пушкин попался, что называется, «под руку» быстрому письму Федора Михайловича:
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать…
В этих (онегинских) строках речь, разумеется, идет о тонусной волне молодой жизни — и все. Но в Достоевском вдруг взыграл моралист-социалист, к тому же ему нужен был пример избалованности:
«Вот эта-то „обжорливая младость” (единственный дрянной стих у Пушкина, потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же?», «…слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке» и т. п.
«Облегченное воспитание»! — да это прямо про нынешнее отрочество.
Умер Андрей Вознесенский.
1310. Звонил сейчас Зое Б. «Не могу говорить, сейчас его привезут ». Помню, читал стихи им в номере старого корпуса Дома творчества. Он выглядел возле нее мальчишкой, она — в спортивном «олимпийско»-совковом костюме с белыми лампасами на штанах (зима 1965 года).
Днем выпили с Олесей Н. по рюмке коньяку — помянули.
По ТВ писательница-феминистка Арбатова: «Если посадить за пишущие машинки сто тысяч обезьян, то одна обязательно или, во всяком случае, вполне вероятно напишет „Войну и мир”».
3 июня, полдень.
Новостная программа 1 канала. Ветеран Вел. Отеч. войны Николай Григорьевич Хабаров (Оренбургская область) передал в Онкологический детский центр все свои многолетние накопления (таков был уговор его с уже покойной ныне женой). Когда изумленное начальство Центра его отыскало, оказалось, что живет он в покосившейся полуаварийного состояния избе.
А олигарх Прохоров купил американский баскетбольный клуб.
Религиозное мое мирочувствование закалялось на рубежах 60 — 70-х годов в горниле «достоевщины», а отчасти у Конст. Леонтьева и… Льва Шестова.
4 июня, 5 утра.
Жду из Парижа Наташу. Потом — на проводы Вознесенского (Зоя «не удержалась», и будут хоронить, как Михалкова, на Новодевичьем). А поздно вечером — в Питер. Уже завтра на 11 утра назначена у меня встреча с другом Елены последних лет, Кириллом (ему завещала она квартиру) — возле «Техноложки» (метро). Сначала к ней домой (даже страшно), потом — на кладбище.
И завтра, и послезавтра в 18 часов на Мойке. На полгода, Лена, я к тебе опоздал.
8 июня, вторник.
3 дня в Питере. У Лены Шварц: сначала на квартире. Наследник Кирилл готовится к ремонту, пакует вещи, книги. Подарил мне ее пепельницу, четки (иерусалимские), книгу (на выбор). Взял я своего когдатошнего учителя Гращенкова «Антонелло да Мессина и его портреты» («Искусство», 1981).
Потом на кладбище. У Елены была возможность похорониться в Комарове. Но захотела — с мамой. Места уже рядом не было. Согласилась на крематорий: компактную урну легче к маме (на Волковом)… Неподалеку Олег Охапкин. Питерская художественная богема умирает как-то по-своему, старорежимно: дурдом, самовозгорания, угар и т. п.; кончины по-прежнему инфернальней московских.
Царское Село, Острова; в Питере — новые громоздкие и богомерзкие архитект. силуэты то тут, то там; даже пожалел, что пришли на Стрелку. Нынешняя нажива хищнее позднесоветского вялотекущего разрушительства и выходит Питеру боком. Так сломали целый квартал (!) в устье Невского возле Моск. вокзала — вышел, оторопел.
Вчера с Сережей Стратановским. Поехали было в Комарово, из-за пробки замешкались и повернули в Репино, на взморье. Примостились в ресторане на террасе прямо возле глади (зыби) Балтийского моря. С умным человеком, во многом единомышленником, и поговорить приятно: он делился своими зоркими соображениями, почему Ленин ненавидел Пилсудского (тот — косвенный виновник казни Александра), вспомнили — это Сережино — Короленко. От совестливого демократа я поспешил отвести разговор в свое русло: как мог Хлебников — после всего — назвать Николая «ста народов катом», а Тынянов восхищенно это — цитировать. «Стыда у них не было, совести не было». Сергей легко согласился: «Стыда у них не было, а революционная составляющая была».
Возвращались с Н. в Москву на новом скоростном поезде: за 4 часа.
Кирилл рассказал, что у Е. Ш. было как бы два почерка: один — запись диктованных вдохновением стихов, она спешит, это почти «стенография»: слова не дописаны, строки неровные и, как у Гёте, могут уползать за предел листа. Другой почерк — обыденный, ясный.
Незадолго до смерти Елена разбогатела (перевод Дона Карлоса, книга о Д’Аннунцио (!), деньги от Ходорковского). Купила «домашний кинотеатр» — большой плазменный экран и т. п. Стратановский: «Неожиданные, не характерные для нее приобретения». И огорчалась: впервые в жизни можно пожить безбедно, а тут умирать.
Как это славно, как простодушно «вырвалось» у Достоевского (в отрывке о нищих детях): «Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли Государь …». Вот монархическое сознание, которое сымитировать невозможно.
По дороге в Царское заглянули на Новодевичье. Прежнего мародерского разграба уж нет, но тютчевские кресты как-то по-новодельному подновлены и подкрашены, а между тем нуждаются в грамотной реставрации (а утраченные детали и в реконструкции); с переносицы некрасовского бюста стекает засохший птичий помет…
В Лицее впервые увидел репинскую картину: славная, русская, иллюстрирующая событие вещь (не кондово реалистическая, а уже с размытостью, соответствующей веяниям живописи, тогда новейшей).
Зашкаливающая и заставляющая страхом сжиматься сердце бессовестность молодых современников. Солдаты охраны утащили банковские карточки погибших в автокатастрофе поляков; в Москве разоблачена многолюдная контора по обману пенсионеров и ветеранов — вытягивали у доверчивых стариков их копейки. Девки, парни, накаченные, холеные, закрывают куртками от камер рожи — устыдились? Что-то не верится. Новая молодежь опущенной России.
Ирина Роднянская — литературный критик с необычайно открытым сердцем (что для критиков, по-моему, редкость). Помнится, она писала в НМ, что XX век неожиданно завершился у нас я влением Максима Амелина.
12 июня, суббота.
Гёте полагал, что один человек, даже если это Богочеловек — Христос не может покрыть Собою все явления природы, Земли, Вселенной, да даже и разноликих цивилизаций (Евангельский, как бы теперь сказали, проект, по его представлениям локален и не может охватить все ). Скорее, у Гёте были спинозовские представления о Высшем Разуме, которые он предпочитал (и не хотел, и не умел, поелику это невозможно) ни конкретизировать, ни доводить до «конечной точки».
А наш иудей Шестов восстал — он, по-ветхозаветному, за Бога личного , за «Бога Авраама и Иакова». Шестов учил меня сверхъестественному, тому, что вопреки очевидности, тому, что прошлое отменяемо и т. п. И при такой весьма нетривиальной философской позиции — убежденности имел, оказывается, самые примитивные представления о социальной реальности, о современной ему России и проч. (его «февралистская» заметка — даже его соратники по Серебряному веку были шокированы такой банальной керенщиной из уст такого не простого мыслителя).
Болезнь дается во вразумление, в улучшение. Сосед по Переделкину литератор Леня Латынин прохворал (оперативно вовремя обнаруженным) раком и сделался добрее и глубже, в нем померещился мне новый внутренний свет. А вот Р. после двухлетней депрессии остался прежним. Спрашивается, зачем же тогда болел?
Гениальная по точности самохарактеристика Шварц:
«Я — сложный человек. Бессознательное у меня — как у человека дородового общества, сознание — средневековое, а глаз — барочный».
А как точно выражена порою мысль! «Можно подумать, что я склонна к самолюбованию. Скорее я пристально вглядываюсь в себя с опасным вниманием экспериментатора, с каким он может следить за животным, опыты над которым, наконец-то, начали подтверждать теорию».
Сколько я писал о мерзости посттоталитарной России, а у Елены это сильней, эпичнее:
В городе сняли трамвай,
Не на чем в рай укатиться,
Гнусным жиром богатства
Измазали стены.
Новый Аларих ведет войско джипов своих.
Серою бедною мышкой
Искусство в норку забилось,
Быстро поэзия сдохла ,
Будто и не жила.
Сколько в этой нарочитой грубости горечи, силы! Напускное презрение от безмерной любви.
15 июня , вторник, 9 утра.
Вот уж будет два месяца, как хлещет нефть в Мексиканском заливе (после взрыва на буровой скважине компании «Бритиш Петролеум»). Саша Жуков говорит, что всегда удивлялся, как это до сих пор ничего еще не рвануло, и для себя объяснял это чрезвычайно высоким качеством амер. технологий и их исполнения. Но вот произошло, случилось, обрушилось, взорвалось — урон фауне, флоре, моральному и житейскому состоянию американцев Флориды, Луизианы и др. соседних штатов невосполним. Это теперь — открытая рана в теле Америки и человечества в целом. Из тех — что не заживают, или уж во всяком случае ноют до смерти. (Хотя заблокировать утечку клятвенно обещают к середине августа.)
«Русский мальчик»: просыпаюсь, и первая мысль — о катастрофе в Мексиканском заливе.
Искусство Средневековья… Например, иконопись, дученто… Поразительное соединение примитивизма и завораживающей красоты. Знаем, сколько там было вероломства, изуверства, чисто физической боли… А оно — словно послание ангелов — нам, деградантам. И если бы мы могли послать им свое искусство туда, в прошлое, они бы решили, что душа человеческая оскотинилась и уже в аду. Изумлению и (справедливому) омерзению их — к нам не было бы предела.
18 июня, пятница.
Вчера рассматривал альбом дученто, и под утро (под впечатлением еще и дождя) сложилось стихотворение. Я давно уже перестал испытывать после написания прежний щенячий восторг: «голос» не диктует, а с большим трудом удается его расслышать, добавляя что-то и от себя. И все же: вчерне готов триптих памяти Лены Шварц.
20 июня , воскресенье.
Какое замечательное четверостишие Фета (40-х годов):
Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,
И всплывают, и стонут, и тонут —
Но о чем это стонут оне?
Трижды повторенное стонут в одной строфе. Правда, в следующей строфе какая-то комичная прутковско-бенедиктовская гиперболизация:
Полуночные образы воют,
Как духов испугавшийся пес
и проч.
Да видит ли Фет описываемое?
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы
Не бывает «золотых» звезд, все «серебряные». Не понимаю, что было у Фета в голове в эту минуту — явно не картина ночного космоса. Он не видит то, о чем пишет (во всяком случае, не всегда).
Кто-то (Набоков) упрекал лирику Фета в «тайной расчетливости». Мимолетное достигается за счет рационального делания. Свежий сырой импрессионизм чувств и впечатлений имеет ремесленную трудолюбивую подкладку. Никогда я не жил поэзией Фета — как поэзией Пушкина, Лермонтова, Тютчева, например. Она смолоду казалась мне приторной что ли. Да и то в ней, что подхватили символисты, меня скорее отталкивало. Ну и сентиментальность, сопли и слишком много — для мужчины — слез и плача. Взвинченность и экзальтированность хозяйственника и практика. От а до я могу я, к примеру, прочитать «Сумерки», а «Вечерние огни» не могу. Но с томиком Фета ходить всегда приятнее и теплее, чем, к примеру, с Некрасовым. Тут важна и идеологическая составляющая: я ценю фетовский консерватизм, монархизм, противостояние освободительному потоку и нигилизму.
Дух дышит, где хочет: оказывается «Леопард» Лампедузы (1895 — 1957) написан под… влиянием Фета! Какой-то критик-левак попрекнул, что сцену смерти писатель позаимствовал из голливудского фильма (о Лотреке). «Нет, не из голливудского фильма», — гневно отповедала вдова Лампедузы — а: «Мой муж очень ценил Фета, одного из самых больших русских поэтов XIX века, если не самого большого после Пушкина. Фет был хорошим другом Толстого, который любил и цитировал его стихи…» etс.
21 июня , понедельник.
«…оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание» (Нобелевская речь Бродского). А ведь он хорошо знает, что данное (да и любое) награждение такого рода — результат многолетнего лоббирования, денег, влияний, политиканства и проч. Но всегда поражала меня искренность этой неправды; до сих пор ее природа мне не ясна: либо небожитель сам себя убедил, причем так, что в этом совершенно уверился, либо нас держит за простаков. Фальшь мифа о внезапности с самого начала мешала мне радоваться за Иосифа от души: оценен и награжден неожиданно для него самого. И не совестно утверждать такое. Эта неправда еще хуже, чем кажется на первый взгляд: мол, в наши дни в отношении поэтического явления может вдруг, внезапно восторжествовать культурная справедливость.
Валерия Новодворская («оппозиционный» портал Грани.ru): «Именно Самодурова и Ерофеева Христос пригласил бы к себе в апостолы»… (т. е. организаторов выставки «Осторожно, религия»).
29 июня.
В переделкинском Доме творчества в закуте, где был прежде медпункт, поселился русский парень, бежавший откуда-то с Кавказа, говорит, что массажист и любит поэзию. Увидит меня в окошко, выскочит здороваться, а потом обязательно провожает до дому. И однажды доверительно поделился:
— У меня две мечты. Сделать массаж дяде Саше Розенбауму. И съездить в Бари на могилку к Николаю-угоднику.
(Окончание следует.)
Великий шанс великого человека
Из какого сора и мусора растут стихи, известно всем и каждому. А вот из какой мелкой и несерьезной безделицы и совершенной чепухи порою родятся мысли — этот аспект всемирной ерундистики, кажется, исследован не в полной мере и не с должной серьезностью. По этой-то простой причине кажется, что любой живой пример науке о человеческой природе ценен и полезен.
Итак…
Компания Abe Books (читается «Эйб букс» и расшифровывается как «усовершенствованный книгообмен» — Advanced Book Exchange ), старейшее (сайт функционирует с 1996 года) интернет-объединение книготорговцев Старого и Нового Света с год тому назад запустила регулярную рассылку новостей из мира онлайн букинистики. Милая штука. Между делом, не выходя из собственного электронного почтового ящика, можно узнать, что книжку с дарственной надписью Салмана Рушди может себе позволить обыкновенный менеджер по продаже межкомнатных дверей, а вот книжку с собственноручными каракулями Джеймса Джойса на обложке — ну если только великовозрастный сын владельца всей сети розничных продаж бытовых улучшений. Запивая домашний бутерброд офисным чаем в благословенный час обеда, можно внимательно рассмотреть редкое немецкое издание книги Уильяма Берроуза в пупырчатых комбинированных корочках из кож млекопитающих и пресмыкающихся — питона и козла. А чуть-чуть задержавшись после гудка на выход, спокойно и без спешки изучить тематическую подборку разноязычных книг «Врачи в литературе», в которую самым добросовестным и честным образом подшито все так или иначе имеющее отношение к ланцету и пинцету от «Джека Потрошителя» до «Доктора Живаго». Да, ресурс романо-германский по своей природе, но русские книги и имена мелькают. Довольно часто. Впрочем, набор вполне академический ( Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, Nikolai Gogol, Ivan Bunin ) с вполне ожидаемыми и понятными вкраплениями ( Varlam Shalamov — Kolyma Tales, Andrei Platonov — The Foundation Pit) . Взгляд лишь скользит привычно, мозг не задействован. Все на своих местах, горизонтальное положение вещей. Тем поразительнее эффект неожиданности — избыточное, ненужное и даже лишнее, внезапно порождающее желаемое и необходимое. Мысль. Нечаянное откровение, употребляя слово из лексикона иных измерений.
Письмо в череде прочих свалившихся за ночь с заглавием «The Author Who Saved Britain» («Писатель, который спас Британию»). Email, как email. Два дня не открываешь. Думаешь, про Джоан Роулинг, наверное, и кризис зоны евро, купированный в одной отдельно взятой стране ЕС одним отдельно взятым очкариком посредством дирижерской палочки. Воображаешь какую-нибудь забавную нелепость, маркетинговый ход и прочие оптимистические фигли-мигли веселой игры слов. Но не стираешь. Зачем-то держишь, вылеживаешь, паришь, и вдруг — щелк по ссылке, ну так, для чистоты эксперимента, и попадаешь в мир множащихся параллелей и ассоциаций, надолго оставляющих в печали и задумчивости. Но с ясным до болезненности пониманием связи людей, событий и идей.
Писатель, спасший Британию, — это Уинстон Черчилль. О том, что содержал себя этот поразительный человек в первую очередь потогонным литературным трудом, конечно, помнится, но ряд за рядом обложек на эйбебуковской информационной странице абстрактное представление об этом делает очень и очень конкретным. Начало — 1898 год — «История Малакандского полевого корпуса» (The Story of the Malakand Field Force), первая книга двадцатичетырехлетнего кавалерийского офицера, триста восемьдесят три полновесные страницы оригинального издания; 1899 год — «Нильская война» («The River War»), еще триста пятьдесят три страницы уже военного корреспондента; в том же году первый и последний роман «Саврола» («Savrola»), еще три сотни страниц наследия, а дальше, начиная с 1900-го, книги по совместительству великого политика уже идут циклами и томами — опять история, на сей раз, войны с бурами — «От Лондона до Ледисмита через Преторию» (London to Ladysmith via Pretoria) и сиквел «Марш Йена Гамильтона» (Ian Hamilton’s March) , через шесть лет, в 1906-м, первая биография, жизнь отца в двух томах «Лорд Рэндолф Черчилль» (Lord Randolph Churchill), за которой немедленно следует дебютный сборник речей «За свободную торговлю» (For Free Trade) . В 1908-м проба пера в новом жанре травелога «Мое африканское путешествие» (My African Journey) и возвращение к коньку, историческим запискам «Мировой кризис» (The World Crisis) , пять томов и шесть частей, посвященных Первой мировой, целое десятилетие трудов, 1923 — 1931 гг., на излете которых, как бы между прочим, рождаются и первые сотни страниц автобиографии «Начало жизни: Неопределенные полномочия» (My Early Life: A Roving Commission, 1930).
Обложки, обложки, издательские и выходные данные, том первый, том второй. Том третий в двух частях. Какой-то колокольчик начинает издалека будить сознание, и искорки, первые светлячки, еще не вполне ясных, но нарождающихся как будто в мозгу ассоциаций, уже роятся. Кадровый офицер, необычайной личной храбрости, полный благородной любви к родине командир и вождь, волей судьбы ставший крупным политиком, исторической личностью, спасителем страны и чести. Но главное, конечно же, — писатель. Писатель, историк, мемуарист, оставивший потомкам свидетельства участника и очевидца. Творца истории, ее баловня и жертвы. Ну же. Давай. Но нет, пока еще уводят в сторону детали. Какие-то движения эфира у поверхности, банальные воспоминания. Всплывают в памяти давно забытые фрагменты первых военных репортажей Черчилля, прочитанные, впрочем, в урезанных и сокращенных современных вариантах. Сто лет неизменной тактики пуштунских племен и меткость рабовладельцев-буров.
Еще один инструмент рассеяния и отвлечения, Гугл, немедленно находит по искаженным и временем и памятью обрывкам фразы точную цитату из «Начала жизни». Слова офицера и джентльмена:
«And here I say to parents, and especially to wealthy parents, Don’t give your son money. As far as you can afford it, give him horses. No one ever came to grief — except honorable grief — through riding horses. No hour of life is lost that is spent in the saddle. Young men have often been ruined through owning horses, or through backing horses, but never through riding them; unless of course they break their necks, which, taken at a gallop, is a very good death to die».
«И вот что я бы посоветовал родителям, особенно родителям со средствами. Никогда не давайте вашему сыну денег. Давайте, покуда можете себе это позволить, лошадей. Никого еще не посещало сожаление — кроме самого благородного сожаления — вследствие верховой езды. Ни один час жизни из проведенных в седле напрасно не потрачен. Молодые люди часто губят свою жизнь, став собственниками лошадей или ставя на лошадей, но никогда это не происходит из-за самой езды верхом, не считая, конечно, случаев сломанной шеи, впрочем, если сломать ее, галопируя на коне, — это лучшая из смертей, которую только можно найти».
Галоп… Галоп. Галиция. Голь перекатная. Гортанный крик. Конь вороной, конь бледный. И гибель. Гуща. Гроб… Галоп… Слово за словом, цепляясь и подхватываясь, внезапно очищают наконец-то связь, обнажают единство, и вот уже все тот же Гугл, вновь по каким-то косвенным приметам, самым примерным исходным данным ищет цитату, ищет трудолюбиво и находит:
«Митинг продолжался. Многочисленные ораторы призывали к немедленному самосуду... Истерически кричал солдат, раненный поручиком Клецандо, и требовал его головы... С крыльца гауптвахты уговаривали толпу помощники комиссара, Костицын и Григорьев. Говорил и милый Бетлинг — несколько раз, горячо и страстно. О чем он говорил, нам не было слышно.
Наконец, бледные, взволнованные Бетлинг и Костицын пришли ко мне.
— Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого; только потребовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что нельзя.
Я ответил:
— Пойдем.
Снял шапку, перекрестился: Господи, благослови!
Толпа неистовствовала. Мы — семь человек, окруженные кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнаженной шашкой в руке, вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди Костицын и делегаты (12-15 человек), выбранные от гарнизона для конвоирования нас. Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, прорезываемой иногда лучами прожектора с броневика, двигалась обезумевшая толпа; она росла и катилась, как горящая лавина. Воздух наполняли оглушительный рев, истерические крики и смрадные ругательства. Временами их покрывал громкий, тревожный голос Бетлинга:
— Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово дали!..
Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, своею грудью отстраняют напирающую толпу, сбивающую их жидкую цепь. Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши заволокло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо; получил удар Эрдели и я — в спину и голову.
По пути обмениваемся односложными замечаниями. Обращаюсь к Маркову:
— Что, милый профессор, конец?!
— По-видимому...»
Ну кончено! Конечно! И взгляд уже не прыгает случайным образом от обложки к обложке поздних многотомников Черчилля «История англоговорящих народов» (History of the English-Speaking Peoples, 1956 — 1958), и «Мальборо. Его жизнь и время» (Marlborough: His Life and Times, 1933 — 1938), нет, целенаправленно фиксирует главную точку соприкосновения, литературную, двух великих людей, английского политика и русского генерала. Есть. Естественно. Оно! Уинстон Черчилль «Вторая мировая война» (The Second World War), 1948 — 1953 гг., шесть томов в двенадцати полутомах, Антон Иванович Деникин «Очерки русской смуты», 1921 — 1926 гг., пять томов, а в скольких выпусках, первый том точно в двух, а дальше, дальше, да кто бы знал, и стыдно, становится очень стыдно. Знать с такою достоверностью и точностью столько смешных и маленьких деталей из жизни, пусть и великого и прекрасного, но очень чужого и далекого отпрыска благородного английского рода — и почти ничего, в сравнении с этим, о сыне крепостного крестьянина и польки, русском генерале, бесстрашном и благородном человеке, в юности публиковавшем рассказы и стихи под псевдонимом Иван Ночин. Отчего это? Оттого ли, что один необыкновенно литературно одаренный человек спас Британию? А второй не менее талантливый мог, мог да не спас Россию? Нашу Родину?
Какая жестокая несправедливость. А может быть, совсем другое? Разное время, прошедшее у одного и будущее у другого. Время Черчилля, писателя и воина, там, в 1940-м, в год одинокого противостояния одной христианской и демократической страны, укрывшейся за узкой лентой пролива, тоталитарной, языческой империи, внезапно напитавшейся кровью и телом целого континента. А время Антона Ивановича Деникина, не генерала и бойца, а именно писателя, историка и хроникера, приходит лишь сейчас. Только сегодня. Его второй и несомненный шанс. В 1921 году он уже не смог спасти Россию, но в XXI веке, сто лет спустя, как кажется, может и должен.
Хочется верить. Потому что трудно найти что-либо более актуальное и необходимое русскому уму сегодня и сейчас, чем хроника двух войн и революции, написанная завидным и безупречным русским языком, с такой поразительной обстоятельностью и честностью, а главное, с таким даже не пониманием, а внутренним ощущением главного и коренного русского противоречия — противоречия между мечтой и жизнью, чем пять томов пера Антона Ивановича Деникина, с названием, и поныне звучащим необыкновенно современно, — «Очерки русской смуты».
Вечный русский вопрос — вовсе не что делать, а как смотреть! Через очки, бинокль, косынку или простым и хищным взглядом, четко видя контуры и ясно различая оттенки. Ну чем иным, как не безобразием кривой, немытой оптики, можно объяснить ну, скажем, то утихающие, то вновь волнующие атмосферу какие-то слезливо-детские рассуждения и воздыхания о величии Сталина или же Гагарина?
А между тем мелкий, исторически незначительный вопрос, сама постановка которого возможна лишь умом чисто советским, тем, снабженным не глазом вовсе, а перископом заднего вида. Задутым и запорошенным сугубо большевистской пургой, нудящей все об одном: де до октябрьского переворота Россия не была великой страной, и приход к власти оравы радикалов был для нее научно-техническим прогрессом и божьим благословением одновременно. А если не исходить из этой очевидной пошлости поздней истории ВКП(б), а смотреть на вещи прямо и не смаргивая, то ясно и очевидно совсем иное, — февраль 17-го мог закончиться не октябрем в Петрограде, а русским флагом примерно в то же время над рейхстагом в Берлине и крестами над Аль-Софией в Царьграде, альтернативный вариант почище перелетов через полюс, прямо скажем, а значит, глядя все также прямо и не щурясь, нужно признать, что леваков с их тотемом — кремлевским горцем нужно благодарить всего лишь навсего как добрую братву, укравшую не все, не подчистую, кланяться в пояс за те жалкие, ничтожные крохи, которые они вернули обманутой и обворованной стране — причем чудовищной ценой, взамен того громадного, неисчислимого богатства и наследства, которое сразу и в одночасье было ими же просвистано. И будет снова, всякий раз, когда прорвется заправлять канализацией подпольщик, а улицы мести бомбист. Борцы за правду, неспособные ни гвоздь прибить, ни починить утюг. И даже не пробовавшие этого никогда сделать — принципиально. Теоретики. Готовые рулить только процессами, управлять одними лишь системами и суммами технологий. Кубами и квадратами абстракций.
А тут практик. Между прочим, и в этом они равны и сходятся, русский генерал и английский лорд-адмирал. Оба люди от сохи, от жизни, от реального, осязаемого и ощущаемого дела. Живого. Страшно и просто, так, будто это отравление водкой, страница за страницей описывает Антон Иванович Деникин, как может заливать глаза теория, как может целый народ пойти за дудочкой. Отдать и честь, и совесть за мечту. И разум, и веру, и целую страну. А потом — жуткая русская белочка с хвостом длиною в семьдесят с лихвою лет. Да, они кончились, эти годы. Трезвость полнейшая. Бесспорно, но не кончилась сама теория, ее оптика, через которую нас то и дело заставляют, едва ли не принуждают рассматривать прошлое нашей страны иные философы, историки и литераторы. И литераторы. Конечно, куда ж без них. А время-то, само выздоровленье пациента, давно и настоятельно требует иного, простого, незамутненного телескопическим и калейдоскопическим, самого обыкновенного, точного и ясного взгляда на вещи. Глазомера практика. Кругозора человека дела. Именно поэтому «Очерки русской смуты» генерала Деникина кажутся опорным элементом, краеугольным камнем той самой лестницы, по которой философы, историки и литераторы, конечно, — литераторы сойдут все наконец-то раз и навсегда с высоких эмпирей на землю, на нашу, наконец, родную. Избавятся от очков. И нам на нос их перестанут вешать. Почему? Да просто потому, что хорошо писал Антон Иванович Деникин, а в языке вся сила. И долгий, незабываемый эффект воздействия.
«Потом?
Потом „расплавленная стихия” вышла из берегов окончательно. Офицеров убивали, жгли, топили, разрывали, медленно с невыразимой жестокостью молотками пробивали им головы.
Потом — миллионы дезертиров. Как лавина, двигалась солдатская масса по железным, водным, грунтовым путям, топча, ломая, разрушая последние нервы бедной бездорожной Руси.
Потом — Тарнополь, Калуш, Казань... Как смерч пронеслись грабежи, убийства, насилия, пожары по Галиции, Волынской, Подольской и другим губерниям, оставляя за собой повсюду кровавый след и вызывая у обезумевших от горя, слабых духом русских людей чудовищную мысль:
— Господи, хоть бы немцы поскорее пришли...
Это сделал солдат.
Тот солдат, о котором большой русский писатель, с чуткой совестью и смелым сердцем, говорил:
„Ты скольких убил в эти дни солдат? Скольких оставил сирот? Скольких оставил матерей безутешных? И ты слышишь, что шепчут их уста, с которых ты навеки согнал улыбку радости?
Убийца! Убийца!
Но что матери, что осиротевшие дети. Настал еще более страшный миг, которого не ожидал никто, — и ты предал Россию, ты всю Родину свою, тебя вскормившую, бросил под ноги врага!
Ты, солдат, которого мы так любили и... все еще любим”».
Уинстон Черчилль, писатель, спасший Британию, однажды сказал, что Россия — это «головоломка, закрученная в тайну, сидящую внутри загадки» ( a riddle wrapped in a mystery inside an enigma ). Я думаю, мы здорово его надули, просто потому что в русской литературе имеются не только фейерверкеры 4-го разряда, но и генералы. И даже генерал-лейтенанты, которые умели писать и ярко, и просто, и понятно.
Литературное наследие Антона Ивановича Деникина не столь объемно и разнообразно, как его литературного собрата-нобелиата с британских островов, он поздно начал и не имел такого штата помощников, секретарей и машинисток; помимо эпохального труда о русской смуте, неоконченной автобиографии «Путь русского офицера», двух книг-записок «Старая армия», очерков, статей и прочей мелочевки наберется, ну максимум еще на один том, но этого достаточно, вполне достаточно, чтобы о продаже его старых изданий и многочисленных новых переизданий сообщала какая-нибудь будущая, грядущая рассылка сервера российских букинистов алиб.ру.
И если при этом для темы письма-рассылки будет бессовестно использован старый шаблон эйбебукса, лишь переделанный на русский лад, я возражать не стану. Я буду счастлив, потому что сбылось.
«Почему между народами были и будут кровавые скандалы»
В свое время географ и этнолог профессор С. Б. Лавров, автор первой биографии Гумилева, в течение всей своей жизни собиравший материалы о нем, складывавший в особую папку все газетные вырезки, посчитал нужным объясниться с читателем на первой же странице по поводу того, «как это у него хватило смелости взяться за такую работу». «А решился я на эту книгу по той главной причине, что Лев Николаевич был наиболее значимой, масштабной личностью изо всех, с кем мне довелось работать в жизни. Да и стаж нашей совместной работы не мал — около 30 лет с той поры (1962), когда ректор ЛГУ А. Д. Александров взял на работу опального ученого. Взял на географический факультет» [1] .
Вопрос, который предвидел первый биограф и соратник Гумилева, задает Сергею Белякову один из интервьюеров, Владимир Гуга: «Не слишком ли самонадеян ваш поступок? <...> Реакция, скорее всего, будет негативная, просто в силу того, что какой-то молодой исследователь взялся за то, за что опасаются браться маститые ученые». «Значит так, — отвечает Сергей Беляков, — я — самый маститый ученый в гумилевоведении» [2] .
Ответ смел и несколько озадачивает. В биографии Белякова, правда, значится тот факт, что он закончил Исторический факультет Уральского государственного университета, но ни его активная работа литературного критика, ни его литературоведческие изыскания, ни должность заместителя главного редактора журнала «Урал», кажется, не предполагают профессиональных занятий теорией этногенеза или историей древних тюрков. Имени Белякова нельзя обнаружить в обширной библиографии работ, Л. Н. Гумилеву посвященных.
Правда, еще в 2007 году Сергей Беляков откликнулся на книгу о Льве Гумилеве в серии ЖЗЛ, написанную Валерием Деминым (тем самым доктором философии, который на Русском Севере все искал Гиперборею), и суть упреков позволяла понять, что литературный критик знает предмет гораздо шире, чем это требуется для рецензии.
Беляков укорял автора: «Гумилев для Демина — непререкаемый авторитет, идол. Все, что не соответствовало образу „вдохновенного и несгибаемого Фауста”, Демин старательно обошел. В книге нет ни слова о печально известной юдофобии Гумилева, хотя как раз ему принадлежит антисемитский миф о Хазарии. Выяснить происхождение этой юдофобии — вот одна из задач биографа» [3] .
Это, конечно, не главный недостаток книги Демина, которого Беляков обвиняет в непонимании самой сути гумилевской теории этногенеза, превратившейся под пером биографа в «коктейль из мистики, физики и диамата».
«Пора очистить Гумилева от мифов, легенд, в том числе и от легенд, сочиненных самим Гумилевым», — заявляет Беляков в интервью Андрею Рудалеву [4] . В самой же книге среди обычных слов благодарности тем, кто оказал помощь автору, есть несколько двусмысленное выражение признательности: «От души благодарю Ольгу Геннадьевну Новикову, хотя и понимаю, что эта книга не понравится ни ей, ни многим ученикам и последователям Льва Гумилева».
Ольга Геннадьевна Новикова — заместитель председателя Фонда Л. Н. Гумилева, ученик ученого и автор ряда работ о нем. Книга Белякова вышла как раз к столетию Гумилева, которое отмечали 1 октября 2012 года. Среди немногочисленных юбилейных публикаций была и парадная статья в газете «Невское время» «Познание гения» (13.10.2012), на которую Ольга Новикова откликнулась раздраженной заметкой «Идеи Гумилева пытаются „заболтать”» [5] . Сетуя на небрежение наследием Гумилева, она ни словом не упоминает только что вышедший обширный труд Сергея Белякова (М., «Астрель», 2012), зато укоряет тех, кто, «уверяя в своей любви к ученому, переписывают его биографию».
Несложно догадаться, в чей огород брошен этот камешек.
Обиделись, впрочем, не только гумилевоведы. Роман Арбитман — один из тех, кто обиделся за Ахматову, о которой исследователь повествует «с укоризненными как минимум интонациями». Справедливости ради рецензент счел нужным заметить, что и к самому Гумилеву его биограф «относится без особого пиетета».
«Он легко оставлял друзей и возлюбленных», «довольно быстро забывал оказанные услуги», «скромность — не гумилевская добродетель» — выписывает Арбитман цитаты из книги Белякова и резюмирует: «Прибавьте к этому упомянутый биографом в отдельной главе почти карикатурный антисемитизм героя, его манию преследования <…> и мстительность — и вы получите классического социопата, эдакого „безумного ученого” из голливудских страшилок». Стоило ли при таком отношении к своему герою писать о нем — задается вопросом автор реплики [6] . Я бы ответила так: набор подобных цитат не определяет отношение автора к герою. Отношение к герою определяет весь строй книги, а она посвящена, как неоднократно подчеркивает сам Беляков, великому ученому и незаурядной личности.
Но, тем не менее, само появление подобных отзывов — свидетельство существования серьезной и неразрешимой проблемы. Есть ли у биографа моральное право погружаться в запутанные личные отношения персонажей, наследники и друзья которых еще живы и чаще всего имеют основание оберегать личную жизнь дорогих им людей? Имеет ли биограф право предавать огласке сведения, которые его герой хотел скрыть от потомков? Должен ли биограф касаться негативных сторон личности избранного героя? Если же речь идет об ученом — имеет ли он право осуществлять селекцию его теории, хвалить — одно, опровергать другое, — или роль биографа сводится к популяризации и комментарию?
Это далеко не бесспорные вопросы. И то, как решает их Беляков, тоже далеко не бесспорно. Отсюда — противоречивость реакций на книгу Белякова.
Кому-то размашистость и некоторая безжалостность автора по отношению к его героям не нравится. Зато другой приходит в восторг от того, как «под лупой дотошного исследователя» рассматриваются личная жизнь и научная карьера героя, как автор «раскатывает по асфальту» многих разномасштабных гумилевоведов и претендентов на роль продолжателя дела автора термина «пассионарность» [7] . В том же духе неожиданно одобрительно откликнулся на книгу Эдуард Лимонов, видимо, усмотрев в ней некий родственный разрушительный дух: «Есть книги легендообразующие и легендоразрушающие. Книга Сергея Белякова „Гумилев сын Гумилева” — легендоразрушающая» [8] . Кого-то (большей частью сторонников Гумилева) возмутит, что автор иронизирует над самим понятием «учение Гумилева» и заявляет, что единого учения нет, а есть научное наследие, в котором много ошибок и несообразностей. Другие будут удовлетворены именно тем, что в наследии Гумилева можно, оказывается, отбросить несколько смущавших их идей и при этом высоко оценивать теорию этногенеза.
Однако все же рискну предположить, что преобладающая часть читателей берет в руки книгу Белякова не для того, чтобы побольше узнать о древних тюрках и их столкновениях с народами Китая и Персии, об истории Хазарского каганата или о фазах этногенеза, пассионариях и субпассионариях, этнических химерах и антисистемах, и даже не для того, чтобы узнать мнение Белякова о том, какие открытия Гумилева кажутся ему ценными, а какие — антинаучными. Лев Гумилев сам пишет настолько увлекательно, что ему не слишком нужен посредник, растолковывающий его идеи. А людям, заинтересовавшимся Гумилевым, не так уж нужен популяризатор (или критик) его научных взглядов. Я, во всяком случае, человек, никогда не бывший поклонником Гумилева, но в свое время, согласно интеллигентской моде, побегавший на его лекции, стремившийся покупать его книги и даже раздобывший депонированный экземпляр «Этногенеза и биосферы» (который так и не дочитала до конца), несколько устав от толкований Белякова, скачала легендарный труд Гумилева (благо все его работы доступны на сайте «Gumilevica») и прочла наконец с большим интересом. За что очень благодарна Белякову: пробелы в образовании все же приятно заполнять, хотя бы и на склоне лет.
Но мне книга Белякова интересна все же не тем, как он толкует труды Гумилева, а тем, как он рассказывает о личности незаурядного человека, об уникальности его судьбы. Смею полагать, что большинство читателей Белякова тоже не специалисты по истории, и их интересует в первую очередь судьба великого сына двух великих поэтов.
Биографический жанр у нас часто ассоциируется с книгами серии ЖЗЛ, заточенными под определенный канон, под описание «замечательной» жизни, где прилагательное «замечательный» полностью утрачивает свое значение «достойный быть замеченным», «достойный внимания» и становится синонимом слова «превосходный».
Книга Белякова не принадлежит этому жанру. Он не пишет житие. Он рассказывает о незаурядном характере, возможно, искалеченном и искаженном трудной судьбой, — но кто знает, может, особенности научного наследия Гумилева, его интеллектуальное мужество этим характером и обусловлены?
Несколько слов о «мифах, созданных Гумилевым». Лев Николаевич Гумилев оставил воспоминания, которые местами звучат довольно неприятно. В 1935 году, арестованный вместе с Пуниным, выпущенный на свободу благодаря отчаянным усилиям Ахматовой, но исключенный из университета, он, по его словам, «очень бедствовал, даже голодал, т. к. Николай Николаевич Пунин забирал себе все мамины пайки (по карточкам выкупая) и отказывался меня кормить даже обедом, заявляя, что он „не может весь город кормить”…». Выглядит этот пассаж невеликодушно по отношению к мужу матери, погибшему в лагерях.
Или вот о встрече с Ахматовой в Москве после второго лагерного срока: «Она встретила меня очень холодно. Она отправила меня в Ленинград, а сама осталась в Москве, чтобы, очевидно, не прописывать меня. <…> Я приписываю это изменение влиянию ее окружения, которое создалось за время моего отсутствия, а именно ее новым знакомым и друзьям: Зильберману, Ардову и его семье, Эмме Григорьевне Герштейн, писателю Липкину и многим другим, имена которых я даже теперь не вспомню, но которые ко мне, конечно, положительно не относились».
Неужели мать не хотела прописывать сына, вернувшегося из лагеря? Но ведь без прописки в ту пору нельзя было ни работу получить, ни даже в самом городе находиться. Мы должны верить рассказу Гумилева? И верить тому, что Эмма Герштейн, которая безропотно исполняла все поручения Гумилева, посылала посылки в лагерь, по просьбе Ахматовой и от себя, — что именно она одновременно настраивала Ахматову против сына?
Белякову приходится распутывать этот клубок отношений. Очень часто биограф берет сторону Гумилева. Ну, например, рассказывая о «пунических войнах», как называл Гумилев борьбу за наследство Ахматовой (то есть ее архив), Беляков решительно становится на сторону Гумилева, который считал, что все пунинское семейство присосалось к Ахматовой из выгоды. Биограф несколькими мазками рисует очень непривлекательный портрет: Ирина Пунина, не стесняясь, рыдала, узнав, что Льва выпускают из лагеря, умело разжигала вражду между Ахматовой и сыном, заставила Ахматову написать завещание в свою пользу и после того, как Ахматова переделала его в пользу сына, — сочинила версию о поддельности этого второго завещания, захватила архив Ахматовой и продала его, расчленив и тем самым нарушив волю Ахматовой. (Гумилев собирался отдать целиком весь архив в Пушкинский дом, как хотела Ахматова, безвозмездно.) Лидия Корнеевна Чуковская в письме директору Института русской литературы Базанову от 27 декабря 1967 года прямо называла судьбу ахматовского архива катастрофой. «Имя этой катастрофы — Ирина Николаевна Пунина и ее желание распоряжаться бумагами Ахматовой по собственному усмотрению, бесконтрольно и с материальной выгодой для себя» [9] .
Однако есть много свидетельств теплого отношения Ахматовой к Ирине Пуниной и ее дочери, да ведь она же сама избрала их своей семьей: достаточно посмотреть переписку Ахматовой и Ирины Пуниной. Но Беляков в данном случае стоит на стороне Гумилева. В то же время иных врагов Гумилева, например того же Пунина или профессора Бернштама, которого Лев Николаевич изображал всегда в карикатурном виде, Беляков берет под защиту.
В подобных случаях всегда возникает вопрос: расстановка акцентов — это прихоть биографа, выражение его симпатий и фобий или он всего лишь пытается разобраться в документах и свидетельствах и по мере возможностей беспристрастно изложить факты?
Возьмем так встревожившую Арбитмана проблему (и, конечно, наиболее лакомую для массового читателя — конфликт Ахматовой с сыном). Мне казалось, что я хорошо себе представляю этот конфликт по воспоминаниям Эммы Григорьевны Герштейн, по запискам Чуковской, воспоминаниям Михаила Ардова, по книге Аллы Марченко об Ахматовой. Все эти мемуаристы и исследователи сходились в одном: что претензии Льва Гумилева к матери, нарастающие во время его последней отсидки (1949 — 1956), вызваны непониманием обстановки на воле и не лучшими качествами его характера, которые обострил лагерь. Он обижается, что она не пишет или не отвечает на вопросы в его письмах, что не подает прошение об освобождении, не едет на свидание (когда их разрешили) — меж тем как Ахматова хлопотала за сына, а писать опасалась, зная, что письма перлюстрируются (заметим в скобках, что книги она, по крайней мере, могла бы присылать те, что просит сын, когда ему, получившему инвалидность, разрешили в лагере заниматься научной работой по истории: в результате именно в лагере Гумилев вчерне подготовил рукопись «История хунну»).
«Но что же могла написать Анна Андреевна о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание? Что она очнулась от слов гэбэшников: „А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск”? Что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате? <...> Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива?..» — цитирует Беляков Эмму Герштейн.
И сам же возражает: все эти доводы относятся к страшному периоду после гумилевского ареста. А Гумилев больше всего упрекает Ахматову в невнимании в период 1955 — 1956 гг. В книге есть специальные главы, посвященные анализу конфликта, где подробно рассматриваются версия самого Гумилева и версия Ахматовой. Но лучшим анализом причин конфликта является сама биография Гумилева, детству и юношеским годам которого автор уделяет большое внимание.
Нельзя сказать, что автор оперировал какими-то новыми материалами. Но иногда важно обратить внимание и на то, что известно. А известно, например, что с раннего детства Левушка был предоставлен бабушке Анне Ивановне (Львовой), матери Николая Гумилева, женщине волевой, хорошо образованной и самоотверженно любившей внука. Пока семья находилась вместе в Царскосельском доме, а летом в имении Гумилевых в Тверской губернии, Ахматова все-таки занималась сыном, но после развода Гумилева и Ахматовой маленький Лев остается с бабушкой в Слепневе. Летом 1917 года, после угроз крестьян уничтожить усадьбу, Гумилевы перебираются в город Бежецк. Когда в августе 1918-го Анна Ивановна с внуком приезжают в Петроград, маленький Лева живет в семье отца и мать почти не видит. Когда в 1919-м Анна Ивановна возвращается в Бежецк, Николай Гумилев семью часто навещает, вплоть до своей гибели. Ахматова же навещает сына в Бежецке всего два раза, в 1921 и 1925 гг., причем в последний свой визит она пробыла с сыном всего четыре дня. Это значит, что когда осенью 1929 года шестнадцатилетний Лев приезжает в Ленинград к матери — она видит перед собой практически незнакомого юношу, который 12 лет находился вдали от нее. Место в квартире Пунина для него находится только на сундуке в неотапливаемом коридоре, так что скоро Лев уходит из материнского дома и поселяется у друга. Через год он пробует поступить в педагогический институт, но у него даже не принимают документы из-за дворянского происхождения, и, помыкавшись недолго на физических работах (нужен рабочий стаж), Лев заканчивает курсы коллекторов и отправляется в прибайкальскую геолого-разведочную экспедицию. Как пишет Беляков — чтобы вырваться из тягостной атмосферы Фонтанного дома, подзаработать денег и отъесться после полуголодной зимы. Вернувшись в Ленинград, он использует любую возможность, чтобы только не жить с матерью и Пуниным, — ночует у дальних родственников отца, у друзей и просто соседей, пока снова не уезжает в экспедицию на целых 11 месяцев.
Вдумаемся в это: 17-18-летний юноша, при живой матери, годами его не видевшей, скитается по чужим домам, потому что в ее доме для него нет места, вечно голодный, дурно одетый, неприкаянный. И у Ахматовой еще хватает чувства юмора шутить над страшной худобой сына. «Лев такой голодный, что худобой переплюнул индийских старцев…» — обиженно припоминает Гумилев слова матери.
«Нет, удивителен не их разрыв в 1956 — 1966, удивительно, что Ахматова и Лев Гумилев, несмотря на годы, проведенные врозь (самые важные, бесценные детские годы Левы!) все-таки стали родными людьми…», — пишет Беляков.
Вопрос не в том, что именно сказала Ахматова сыну в 1961 году, после чего они больше не встречались 5 лет, до самой ее смерти, действительно ли она была против защиты сыном докторской диссертации и требовала, чтобы он продолжал делать стихотворные переводы, отрабатывая деньги, затраченные ею на лагерные посылки, или Лев Гумилев сочинил эту обидную для Ахматовой версию, и причина ссоры была иная.
Вопрос не в том, права ли Ахматова, когда она в бешенстве кричала сыну: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я». По-своему права, если учесть ее сосредоточенность на своей славе, а публикацию в «Огоньке» стихотворения, восхваляющего Сталина, — как жертву и унижение. «Бросалась в ноги палачу», — как напишет сама Ахматова. (Сын же этот поступок жертвой не считал, да и вообще не оценил.)
Эгоцентризм гения (как пишет Беляков) был свойствен каждому из них. Но цель повествования Белякова — не обвинение Ахматовой. Цель — показать своего героя со всех сторон, чтобы сделать понятными обстоятельства, в которых он формировался, чтобы прояснить его характер. Гумилев как ученый сделал себя сам. Он шел к науке упорно, вопреки обстоятельствам, почти лишенный семейной поддержки семьи, такой естественной в студенческие годы.
Фамилия Гумилев стояла на нем страшным клеймом. Некоторая доза легкой иронии вылилась на Белякова за название книги. Но дело не в том, что Лев Николаевич боготворил отца и был на него похож не только внешне, но и по складу характера, по бесстрашию, по страсти к путешествиям. Сохранить фамилию Гумилев в советских условиях 20 — 30-х годов, когда дворянское происхождение считалось криминалом и закрывало путь в институт, было решением мужественным и гордым. Недаром сестра Николая Гумилева, Александра Степановна Сверчкова, на скромную зарплату которой и жила в Бежецке вся семья, хотела усыновить Льва, чтобы дать ему свою фамилию: с такой фамилией легче было бы поступить в университет, она не дразнила бы ни студентов-комсомольцев, ни спецчасть. Следователь, допрашивавший Гумилева при первом аресте, сам посоветовал юноше сменить фамилию. Тогда это делалось просто. Гумилев не захотел отрекаться от отца и, скорее всего, заплатил за это лагерным сроком. В этом эпизоде, конечно, проявляется характер Гумилева-сына, та самая воля, твердость и способность действовать вопреки выгоде, которая является составляющей гумилевской легенды. Не на пустом месте она возникла. И здесь Беляков подтверждает легенду, хотя чаще всего следует прокламируемой цели «очистить биографию Гумилева от мифов и легенд». Правда, иногда стремление подвергнуть ревизии господствующую точку зрения, опирающуюся на воспоминания самого Гумилева, приводит к парадоксальным результатам.
Ну, например, Гумилев считал, что его выгнали из аспирантуры Института востоковедения «из-за мамы». «Но как только совершилось постановление о журналах „Звезда” и „Ленинград”, т. е. о моей маме, то меня оттуда выгнали, несмотря на то, что за первый же год я сделал все положенные доклады и сдал все положенные экзамены», — рассказывает Гумилев в автобиографии, надиктованной в 1986 году. Гумилевская версия его отчисления из аспирантуры никем не оспаривалась, кроме Белякова. «Между Ждановским постановлением и отчислением Гумилева прошли год и четыре месяца. Медленно же доходила воля партии и правительства до академического института!» — иронизирует биограф и выдвигает другую версию. В институте тон задавали ученые дореволюционной школы, востоковеды-полиглоты, которые знали по десятку с лишним языков, ибо «востоковедение — это в первую очередь филология и лишь затем история». Боровков, которого клеймит Гумилев, был профессиональным тюркологом, знавшим множество тюркских языков. Гумилев же, рассуждает биограф, плохо владел тюркскими языками, не знал древнемонгольского, маньчжурского, китайского — то есть тех языков, которые требовались для написания диссертации о кочевниках Центральной Азии. «Как мог Боровков относиться к такому аспиранту?»
Зададим встречный вопрос: а что, когда Гумилева принимали в аспирантуру весной 1946-го, его филологическую подготовку не выяснили? И когда принимали экзамены — она тоже не обнаружилась? Или для недавнего фронтовика она была достаточной, а для строптивого сына опальной Ахматовой оказалась слабой?
Беляков делает акцент на официальной формулировке: Гумилева отчислили «как не соответствующего по своей филологической подготовке избранной специальности». Вот уж чему не следует доверять, так это подобного рода документам.
В ту пору, правда, с формулировками не особенно церемонились. Это уж потом, в послесталинское время, наловчились диссидентов сажать по всяким экзотическим обвинениям: Константина Азадовского — за наркотики (сами же и подкинули), Игоря Губермана — за покупку краденых икон. Не дай бог, какой-нибудь исследователь со временем решит внести ясность в биографию писателя и ученого и извлечет на свет следственное дело: вон оно, оказывается, за что их судили, а вовсе не за политику.
Похоже, Лев Николаевич все-таки был более прав, когда считал, что его выгнали «за маму»…
Если на вопрос о допустимости вторжения в те области биографии ученого, которые сам он не предполагал открывать, стоит ответить положительно (и тем самым поддержать подход Белякова), то вопрос интерпретации научного наследия куда более сложен. Беляков не принимает многих работ Гумилева. Особенное раздражение у него вызывают «евразийские фантазии» о благотворности для Руси союза с Ордой. Вокруг работ, где изложена эта теория, велась полемика. Естественно ожидать от автора биографии изложения точки зрения Гумилева и его оппонентов. Но все-таки досадно видеть, когда биограф Гумилева начинает играть на чужом поле.
Так, удивление вызывает, когда в качестве «самого яркого и талантливого критика Гумилева» Беляков называет Владимира Чивилихина, автора книги «Память», впервые опубликованной в журнале «Наш современник» (1980, № 12), которая, по мнению биографа, «навеки останется в истории русской культуры» (так и сказано).
Думаю, что эта тяжеловесная, аморфная, пафосная книга останется как эпизод идейной борьбы заката советской эпохи, когда несколько высокопоставленных функционеров ЦК КПСС вознамерились привить к обветшавшей марксистско-ленинской идеологии русский патриотизм. Празднование 600-летия Куликовской битвы хорошо подходило для кампании по искоренению русофобии. Ходили слухи, что роман Чивилихина заказан на самом верху, что этим обусловлен и странный способ публикации (сначала вторая часть, историческая, за которую автору поспешно была выдана Государственная премия), и даже — что это коллективный труд (во что я, впрочем, никогда не верила).
Ученик Гумилева Ермолаев в предисловии к сборнику статей «Черная легенда» оценивает роман-эссе Чивилихина как «прямой печатный донос» на Гумилева.
Это не совсем так. Чивилихин рассуждает прямолинейно, для него вообще нет понятия «научная школа» — для него в историографии есть борьба патриотов и антипатриотов. Гумилева он, естественно, относит к последним, негодует, неуклюже иронизирует, но все же остается в рамках литературных приличий. А вот историк Аполлон Кузьмин, использовавший роман Чивилихина как инструмент для расправы с Гумилевым, эти приличия уже нарушает. Как признает Сергей Беляков, статья Кузьмина, появившаяся в «Молодой гвардии», — «критика очень грубая, злобная, оскорбительная. Это пощечина, оплеуха, а не рецензия». Тем удивительней следующий пассаж биографа: «Но Кузьмина можно понять. Он был оскорблен как русский историк и просто как русский человек, потому что Гумилев вслед за евразийцами <…> начал искать у „палачей и угнетателей” какие-то добродетели». Да нет же, нельзя понять историка, который оскорбляется той или иной трактовкой истории. Тогда это не историк, а идеолог.
А вот Гумилева, оскорбившегося нападками, понять можно. Странно, что биограф Гумилева находит возможным едва ли не оправдать Аполлона Кузьмина, подавшего сигнал к травле Гумилева, но не находит слов сочувствия для Гумилева, решившего написать в марте 1982 года письмо Р. И. Косолапову, главному редактору журнала «Коммунист». Об этом решении Гумилева биограф рассказывает с какой-то иронией. Ученому поставлены в вину и «зощенковский зачин» («Разрешите обратиться к Вам, хоть я и беспартийный») и обилие цитат из Маркса, Энгельса и даже Брежнева, и демагогические приемы полемики: Гумилев и в самом деле обвинял своих оппонентов в разжигании межнациональной розни. «Перед нами не аргументированный ответ ученого, а какой-то „громокипящий кубок” гнева».
При этом, обильно цитируя письмо, в котором действительно много советской демагогии, биограф пропускает именно те пассажи, которые и являются, на мой взгляд, ответом ученого. Ну, например:
«Непонятно почему А. Кузьмин так пугается термина „симбиоз”. Буквально это значит совместная жизнь, — растолковывает Гумилев. — С XIII по XV век татары жили на Нижней Волге, а границей Руси была Ока, т. е. между ними простиралось огромное малонаселенное пространство. Обе страны подчинялись правительству в Сарае. Все татарские походы на Русь совершались при помощи русских князей для борьбы с их соперниками, а русские сражались в татарских войсках во время гражданской войны в Орде; Ногая убил русский ратник. Короче говоря, в любой междоусобице на обеих сторонах были и татары, и русские. Это и называется симбиозом».
И действительно: описывая те ужасы и то разорение городов, которое учиняли татары, Чивилихин всегда почти «забывает» сообщить про участие в набеге русских князей, что, конечно, меняет суть события. Одно дело — поход завоевателей, другое — междоусобные кровавые распри. И как подчеркивает Гумилев, нельзя мерить сегодняшними мерками жестокость того времени. «Русские тоже грабили».
Разумеется, с теорией Гумилева можно спорить, можно ее полностью отрицать. Но в том-то и дело, что Кузьмин предлагал не спорить с Гумилевым, а осудить его взгляды.
Гумилев же совершенно справедливо писал, что «в научном споре полагается выслушивать оба мнения <…> в противном случае получается травля», и просил опубликовать свой ответ А. Кузьмину и В. Чивилихину.
Просьба осталась без ответа. Редакция «Молодой гвардии» твердо стояла на стороне Чивилихина и Кузьмина, пишет Беляков. Ах, да не сошелся же свет клином на этих редакциях, были и другие. Они что, тоже все поддерживали Чивилихина и жаждали крови Гумилева? «Роман „Память” охотно раскупали читатели и хвалили критики», — пишет Беляков. Боюсь, что биограф, не заставший атмосферу тех лет, не совсем понимает природу этих похвал.
Я очень не люблю, когда преувеличивают степень контроля идеологов из ЦК КПСС за литературой. Я слишком хорошо знаю, что в «Литературной газете» часто мнение критика, которого просили написать о книге, не зная, что именно он напишет, и определяло характер статьи. Но с чивилихинской «Памятью» было иначе: некая сильная рука руководила кампанией в прессе, всякие критические отзывы о романе пресекались, а выходка Кузьмина поддерживалась. Ни Гумилеву, ни его сторонникам не дали ответить. Нигде. Это и называется травлей.
Да и сам биограф, остыв от негодования, называет период с 1982 по 1987 год глухим для Гумилева временем и сетует на отлучение Гумилева от издательств и научных журналов, свершившееся, по его мнению, по вине историков, — и приводит имена ученых, подписавших позорное «Заключение» комиссии Отделения истории АН СССР о работах Л. Н. Гумилева. Странно, что у биографа не возник вопрос: а что, ученые вот так собрались по собственной инициативе, поговорили друг с другом и решили написать о вредности работ Гумилева? Или им сделали предложение, «от которого трудно отказаться»? И почему мнением этих же историков бесцеремонно пренебрегли, когда в 1987 году А. И. Лукьянов, тогда член ЦК КПСС, вмешался в судьбу Гумилева, — опираясь на другое, очень кстати подоспевшее письмо, подписанное, в частности, академиком Лихачевым, — и книги и статьи Гумилева посыпались из печати одна за другой?
Тут бы биографу и бить в фанфары: последние пять лет жизни Гумилева прошли в лучах славы и признания, и умер он на восьмидесятом году жизни, окруженный учениками, и похоронен в Александро-Невской лавре, и похороны были грандиозные, при огромном стечении народа. Однако кончается биография на довольно печальной ноте. Гумилев вышел из интеллектуальной моды, констатирует автор. Хуже того: его идеи оказались опошлены и взяты на вооружение фальшивыми наследниками, вроде Александра Дугина, и политиками, болтающими о евразийстве. Серьезными историками в России он не признан. На Западе — тем более: эпидемия политкорректности не допускает рассуждений об этносах. «Гумилев станет интересен западным ученым только тогда, когда изменится до неузнаваемости сам западный мир», — туманно произносит автор. Это когда? — зададим мы неполиткорректный вопрос. Когда собор Парижской Богоматери станет мечетью, по остроумной догадке Елены Чудиновой? А будут ли тогда ученые?
Что же до нашей собственной страны, то нынешняя ситуация, по мнению Белякова, совершенно опровергает веру Гумилева в спасительное братство с народами Великой степи и актуализирует другие его идеи.
Еще раньше Беляков назвал самой страшной книгой Гумилева, казалось бы, вполне академическую работу «Хунны в Китае». В третьем веке длительная засуха заставила кочевников хунну мигрировать в Китай. Поначалу китайцы обижали мигрантов, а кочевники терпели, но постепенно смелели и наконец восстали, захватили власть в империи, установили свои порядки и стали жестоко истреблять китайцев. Страна пришла в страшный упадок, но поскольку мигранты, ставшие оккупантами, разучились работать — со временем восстали уже уцелевшие китайцы. Кровавый кошмар продолжался два века. «Мультикультурализм» древних правителей Китая, надеявшихся, что в просвещенном государстве уживутся разные этносы, потерпел крах. «Не ждет ли нас судьба Китая времен варварских царств?» — спрашивает Беляков в эпилоге. Очень резонный вопрос.
Существование на одной территории двух и более враждебных этносов Гумилев называл химерной конструкцией. На наших глазах такие конструкции возникают и в нашей стране, и в Европе под аккомпанемент разговоров о терпимости, политкорректности и мультикультурализме. Чем кончится очередная мультикультурная химера? Пользуясь инструментарием Гумилева, ее финал можно предсказать. Финал довольно мрачный, но, как спрашивает Беляков, «станем ли мы ругать врача, который <…> ставит больному диагноз»?
Можно ли избежать подобного финала? А вот это уже зависит от дальновидности политиков, к сожалению, все талдычащих про толерантность и мультикультурализм, вместо того чтобы взглянуть правде в глаза.
Книгу полагается закончить на оптимистической ноте, и автор завершает ее выразительной цитатой из беседы Гумилева с известным этнологом и близким другом Айдером Куркчи: «Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы. <…> Предмет моей науки довольно строг, хотя и не общепринят; предмет мой — разнообразие».
Беляков делает упор на последней фразе, воспевая этническое разнообразие, противостоящее скуке глобализации. Мне же в приведенной цитате кажется более важным предсказание неизбежности «кровавых скандалов». Светлые умы человечества часто мечтали о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Нужно большое интеллектуальное мужество, чтобы сказать: «Никогда». Им-то и обладал Лев Гумилев.
Неуютная книга
Маргарита Хемлин. Дознаватель. М., «Астрель», 2012, 413 стр.
Отзывов о «Дознавателе» в прессе не так уж и много — не потому ли, что роман этот очень неудобный?
К тому же говорить о «Дознавателе» в отрыве от двух предыдущих романов — «Клоцвог» и «Крайний» — смысла не имеет. То есть говорить, конечно, можно, но массив есть массив, общий замысел есть общий замысел, общие герои — скажем, «знаменитый командир еврейского партизанского отряда» Янкель Цегельник, активно проявивший себя в «Крайнем», например, или его «заместитель по партизанской славе» Гиля Мельник, знакомый нам по «Клоцвог», — появляются или упоминаются и здесь. Тем более, «Дознаватель» с предыдущими романами объединен и общим хронотопом — город Остер на Черниговщине, окрестные села, собственно Чернигов, первое послевоенное десятилетие, когда мы победили и, казалось бы, дальше всё будет хорошо.
Радости победившим, однако, выпадает мало. Хлебная Украина была под немцами уже в 41-м, и те, кто выжил и пережил, оказались в той ситуации, когда, говоря словами еще одного второстепенного персонажа — сельского учителя и коллаборациониста Диденко, и палачи и жертвы живут на одной улице. Но живут — жить ведь как-то надо. А до того — голод 33-го, во время которого родители того самого дознавателя у себя же в родном селе строили колхоз и «последние зернинки по указке сверху с-под дитячих подушек выгребали. Ястребки — одно слово». Но вот во время войны те же «ястребки» погибли как герои.
Вина как бы оказывается размазана на всех. Совсем невиновных — нет. Степень этой вины разная. Но главное, что человек сам ее воспринимает как вину. Жена партработника, уезжая с сыном в эвакуацию, не посадила на подводу трех девочек двоюродной сестры — места не хватило — и те погибли страшной смертью. Партизанская связная видела, как жгли тех самых девочек в доме приютивших их украинцев (тех показательно расстреляли), — и не бросила гранату, хотя могла, тем самым обрекая их на гибель в огне. Даже кроткий герой романа Хемлин «Крайний», этот Иов ХХ века, на которого, кажется, свалились все беды из возможных (но без полагающегося Иову вознаграждения за терпение и нежелание «хулить Бога»), и тот вроде бы не виноват, а вроде бы и виноват… Зачем пленного немца убил?
Для общего блага надо бы эту вину и связанные с ней обстоятельства — совсем уж по-человечески невыносимые — забыть, а чтобы жить дальше, как-то приукрасить, залакировать. Чем, собственно, и занималась послевоенная литература советского времени. Вот — черное, а вот — белое. Вот жертвы — вот избавители. Вот наши — вот чужие. Страшное горе, чужие зверства, преодолеваемые всеобщим усилием… А чтобы оно было черное, но еще и немножечко белое, или чтобы избавитель был немножечко жертва, или чтобы герой, но немножечко еще и злодей, причем не один, а чтобы все персонажи были такими, — это, пожалуй, только в жизни так бывает, да еще вот у Хемлин.
Шаламов писал об отрицательном опыте лагеря — Хемлин пишет об отрицательном опыте войны. С незапятнанной душой и твердым умом из нечеловеческой ситуации вышел, кажется, лишь один партизанский герой Гиля Мельник, а его несгибаемый командир от непонимания и недоумения перед делом врачей и борьбой с космополитами свихнулся и снова ушел в леса. Связи с жизнью здесь настолько некрепки, что герои Хемлин очень легко умирают, убивают и сходят с ума, — единственным процветающим человеком, сумевшим «по-людски» выстроить себе жизнь, оказывается абсолютная социопатка красавица Майя Клоцвог, героиня одноименного романа, которая таких вещей, как боль и вина, вообще не признает и не понимает, но умело использует чужие и боль, и вину.
И когда главный герой «Дознавателя» Цупкой Михаил Иванович, фронтовик, кавалер боевых орденов, бывший разведчик, а ныне дознаватель (не следователь, следователь — птица более важная), по собственной инициативе расследуя несколько невнятные обстоятельства уже закрытого убийства красивой и молодой, однако успевшей повоевать в том самом «еврейском партизанском отряде» Лилии Воробейчик, начинает тянуть за эти нитки вины и ответственности, то оказывается, что ниток этих слишком много и они спутаны так, что и не расплести.
Этот роман Хемлин — в отличие от двух предыдущих — чистейшей воды детектив, с психологией , вполне в духе Достоевского, к тому же — столкновение двух интеллектов (и, как впоследствии выясняется, двух безумий), двух антагонистов, двух характеров — самого Цупкого и «страшной женщины» Полины Львовны Лаевской, когда-то жены мелкого начальника, а теперь — портнихи. Кто из них — дознаватель, кто — подозреваемый? Один Порфирий Петрович как бы распадается надвое, но обе половинки не совсем полные, не совсем полноценные, недоделанные. Как результат, правда, когда она выплывает на свет, оказывается неуютна, и тоже половинчата, недоделана и противоречива, но правда всегда неуютна, а другой правды нет.
И часть этой правды в том, что «дружба народов» существовала в основном на страницах газет — чужие обычаи неприятны, непонятны, а порой и отталкивающи. Скученность, бедность и грязь тоже не способствуют толерантности, а грубые физиологические подробности страшного нищего быта трудновыносимы стороннему человеку (старуха с мрачной фамилией Цвинтар — «кладбище» — в комнате, где дознаватель дожидается сестру убитой, мочится в ведро — в своем углу за занавеской, но он слышит).
Чувство вины, которое вообще склонно мучить людей как раз совестливых и приличных (не помогли, не сохранили, не защитили), подсознательно заставляет — опять же с целью сохранения собственного рассудка — искать в жертвах некую ущербность, нечто такое, что как бы легитимизирует совершенное над жертвой насилие… не совсем, но все-таки. Этот психологический феномен наглядно демонстрируется (прямо как для учебника!) при помощи эпизода, когда герой-дознаватель (украинец и сын комсомольских активистов, выгребающих зерно по «указке сверху»), попав все по тому же делу об убийстве в село, наблюдает еврейскую свадьбу и, глядя на не слишком молодых жениха и невесту, бросает вскользь, что поздновато, мол, уже пора бы давно детей нарожать, на что ему отвечают, что и у жениха и у невесты до войны были семьи и дети были. Что тут, казалось бы, еще можно сказать? Но дальше происходит вот что — став на постой к своему старому учителю «коллаборационисту» Диденко, герой возвращается к этой истории: «Ну что за нация! У них половину поубивали по-всякому! И детей, и стариков, и все на свете. Чтобы следа не осталось. А они опять женятся. Опять рожают жиденят. Как ничего не было. Хоть бы жить после такого ужаса постеснялись (здесь и далее курсив мой. — М. Г .). А они живучие».
Вина тем самым как бы перекладывается не на тех, кто истребил евреев, и тем более не на тех, кто, вольно или невольно, отдал их на гибель («Мои евреи все уехали», — вроде бы сказал Сталин), а непосредственно на жертв — как смеют жить? Как смеют — радоваться?
Диденко, впрочем, вполне политкорректно отвечает на это, что «все нации живучие» и что «в тридцать третьем еще ямы шевелились — голодовка только закончилася. Люди хлеба трошки поели. И свадьбы пошли. Земля дрожит на ямах. А люди гуляют. Жрут и гуляют. Перепьются на радостях, что живые, и с девками обжимаются, и блюют на те ямы. Хлебом и блюют».
Тем более, евреи у Хемлин нисколько не приукрашены, не смягченно-шаржированы («еврейский» юмор — именно такой сигнал в недружелюбный мир — «мы смешны, а значит, безопасны») и потому в массе своей симпатию не вызывают — а почему, собственно, должны? — люди вообще создания малосимпатичные. Потому отношения между героями романа, так сказать, подпорчены национальным вопросом, причем с двух сторон.
Вот герой (украинец) усыновляет Йоську, сына покойного коллеги, и к жене героя, кроткой Любочке, к этому Йоське прикипевшей, приходит дедушка Йоськи, и хочет его забрать, потому что хочет, чтобы Йоська учил Тору и вообще рос в еврейской семье, хотя у него на руках и так уже двое старших Йоськиных братиков, и живут они нелегко и даже по тем временам бедно, а та Йоську не отдает, и он ее толкает, а она и сама ждет ребенка, и у нее выкидыш и больше детей уже не будет. Вот у Йоськи свинка, а Любочка боится отдавать его в больницу — там же «врачи-убийцы», — но совершенно спокойно отдает его, больного, интриганке Лаевской, про которую отлично известно, что она тоже «из этих». Вот она же, немножко подвинувшись рассудком (все там, у Хемлин, немножко двинутые, кто на чем), мажет Йоське царапину зеленкой, потому что боится заразы, которой его нарочно заразили «свои», чтобы он заразил «чужих». А тут еще чудовищная нищета, и отсюда — зависть (у жены героя, человека не маленького, милиционера , два платья, и третье, пошитое ею у «хорошей портнихи», уже ввергает героя в чудовищные расходы). Дознаватель Цупкой все время механически отмечает, кто во что одет, какой материал, какой пошив, не только потому, что он дознаватель, — в скудном мире каждая вещь приобретает особое значение.
Социальная психология здесь значит не меньше, чем государственная пропаганда, которая легла на весьма разрыхленную почву. Государство вообще в романе упоминается мимоходом: так, безликая страшная сила — «назначили голод — и стал голод». Даже смерть Сталина, персонажами как-то не очень отрефлектированная, используется героем в качестве демагогического приема — мол, время сейчас тяжелое, сложное, требуется особая сознательность…
Тем не менее надо за что-то держаться, и оказывается, что люди готовы держаться за что угодно, за любые химеры, только чтобы не признавать ужасной правды, и, при всех раздражающих особенностях личности того же Цупкого, при всей его безжалостности, его способ держаться (фамилия — Цупкой — «хваткий» — фамилия говорящая) — за детей, своих и чужих, за жену, с которой у него отношения тяжелые и больные, но все же отношения, — пожалуй, оправдывает многое.
«Дознаватель» на неуютные вопросы дает неуютные ответы. Ну, например — так ли уж важно национальное и даже кровное родство, когда речь идет о личном выборе в экстремальной ситуации? А если ни то, ни другое, то что важно? Привязанность? Ответственность? Женщина, спихнувшая с подводы трех девочек-племянниц, ведь на самом деле не родного сына спасала — приемыша. И так далее. По степени «неуютности», неутешительности ответа на вопрос, может ли нормальный, но отягощенный нечеловеческим опытом обыватель — не сверхчеловек — вернуться к мирной жизни, «Дознаватель», пожалуй, сопоставим со знаменитым «Выбором Софи» Уильяма Стайрона.
О языке романа отдельно. Выморочный канцелярит, на котором изъясняется главный герой романа (и изъяснялась в первом романе безжалостная выскочка Клоцвог), — язык власти. Недаром герой «принципиально не отвечал по-украински, чтоб была дистанция. Люди всегда это чувствуют. Дистанция — важнейшая вещь в отношениях». Это язык, на котором изъясняется — через газеты, радиопередачи и своих чиновников — государственная полуправда, а то и прямая ложь, и таким образом помогает скрывать, а не выражать свои мысли. Это язык машины. В этом контексте переход на украинский делает героя человечным и потому — уязвимым («Незаметно для себя перешел на украинский. И рассердился. <…> Тьфу. „Вишня”. „Соловейко”. „Вечеря”. Решительно и беспощадно (это в разговоре с женой. — М. Г .) поправился»).
И — наконец — о приеме. Дважды — здесь и в «Клоцвог» Хемлин использует один и тот же прием, что, пожалуй, не случайно. Прием этот называется unreliable narrator (ненадежный рассказчик). Это когда герой говорит от первого лица, говорит про себя «я», тем самым заставляя читателя волей-неволей идентифицировать себя с рассказчиком. И не сразу задумываешься, что «я» может так же врать, как и «он». В «Клоцвог» Хемлин ухитрилась так обвести вокруг пальца читателя, что он мерзкой бесчувственной бабе, сломавшей жизнь нескольким мужикам, дочери, фактически убившей мать, а, возможно, косвенно, и своего сына, начинает сочувствовать, вникать в ее обстоятельства, а критики старательно пытаются найти в ней хоть что-нибудь хорошее (ну хотя бы витальность, жизнеспособность). К тому же как-то неловко вот так взять и признать еврейку абсолютно отрицательным персонажем, мы же культурные люди… Здесь же, в «Дознавателе» («Крайний» — на мой взгляд, самый слабый, самый лобовой роман из пока что трилогии, слишком уж выстроен как антитеза к «Клоцвог») этот прием уместен еще и потому, что, повторюсь, это все-таки детектив. А тут любителям детективов есть что вспомнить — скажем, не менее вызывающий для своего времени и в своем жанре роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Акройда».
«Крайний» — история невинного. «Клоцвог» — история виновной. «Дознаватель» — история обычных людей, строящих кое-как свое существование на развалинах всего, что было дорого, фактически — на развалинах привычных понятий о человеческом , о реконструкции этих понятий — в меру слабых сил и способностей каждого. В сущности говоря, «Дознаватель» — это история о примирении и прощении — частном, не историческом, но оттого не менее болезненном. Однако это понимаешь только какое-то время спустя после того как закроешь книгу. Именно здесь и заключается основная интрига «Дознавателя», загадка, которую должен разгадать читатель, а не в том, что перед нами «остросюжетный детектив из послевоенной жизни», как обещает ряд книжных сайтов...
Мария ГАЛИНА
Искушение частностью
Марина Степнова. Женщины Лазаря. М., «АСТ», «Астрель», 2011, 448 стр. («Проза: женский род»).
Марина Степнова — писатель, переводчик с румынского и одновременно редактор глянцевого мужского журнала «XXL». Ее собственные произведения появились в печати больше десяти лет назад, некоторая известность пришла после выхода в 2005 году романа «Хирург». И если прошлый роман вошел в шорт-лист «Национального бестселлера», то нынешний был оценен еще выше — не только шорт-лист «Нацбеста» и «Русского Букера», но и третье призовое место в «Большой книге» 2012 года.
Критики роман молчанием также не обошли. Сергей Кузнецов в своем блоге включил «Женщины Лазаря» в список «лучших русских книг прошлого года», обозначив в качестве достоинств и «хороший язык», и то, что «…и герои живые, и мир объемный, и даже слезы на глазах читателя» [1] . Дина Суворова в Booknik’е роман хвалила — в частности, за любовь автора и к героям, и к читателям [2] . Не менее восторженно отозвался и Максим Лаврентьев: «Четкие, резкие, доведенные до ослепительного стилистического блеска фразы; абзацы, каждый из которых — композиционно завершенный период; глубочайший, обеспеченный богатейшим словарем, кладезь метафор…» [3] .
Но не все были столь радушны. Валерия Пустовая, например, указывает на то, что в романе слишком много «общих мест», а попытки представить роман как сагу неудачны — в нем нет необходимой для эпической формы исторической цельности, фон — «стертый» [4] . К тому же, замечает она, религиозная подоплека имени главного героя в романе почти не проявлена, так что название, хотя и броское, несколько искусственно. Лизе Новиковой многое в романе показалось непродуманно избыточным: «В ее романе всё, включая по-деловому витиеватые фразы, поставляется лошадиными дозами» [5] .
И все же имеет смысл задуматься, почему роман, представляющий, в сущности говоря, семейную сагу, со всеми присущими этому жанру достоинствами и недостатками, оказался столь значим для текущего литературного года.
Главный герой книги — Лазарь Иосифович Линдт, гениальный ученый, физик, математик, изобретатель атомной бомбы. Еврей, атеист, язвителен, некрасив, обаятелен, нетактичен и трогательно раним (здесь как бы напрашиваются параллели со Львом Ландау, однако сразу скажем читателю, что сходство это чисто поверхностное). И речь пойдет не столько о науке, сколько о частной, семейной, личной жизни героя: что отражено и в структуре романа, четко разделенной на временные интервалы.
«Хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года» юный Линдт появляется в коридорах МГУ, знакомится с «одним из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академиком, сияющим столпом советской науки» Чалдоновым, и вследствие невероятной математической одаренности сразу становится его сотрудником. А потом вместе с желающим приютить гениального юношу Чалдоновым приходит к нему домой и влюбляется в его супругу, светлую и прекрасную Марусю, цельную, хозяйственную, мудрую, с даром к «домашней алхимии». Линдт страстно любит ее, и это почти взаимно, только он хочет видеть ее своей, а она «непоправимо замужем» и обожает его как сына. Пожалуй, эта часть романа Степновой действительно удалась. Язык кажется сочным, сюжетные коллизии органичны, персонажи очерчены хоть и несколько мелодраматично, но чрезвычайно убедительно. Тем более, что частное тут внятно перемежается историческим. Сталинские чистки хоть и не трогают Линдта и Чалдонова, но грозной тенью маячат поблизости. Во время войны дружная троица эвакуируется в Энск, борется там с ощутимыми, но не катастрофическими тяготами военно-тыловой жизни (все ж таки великие ученые, и паек, и квартиры). Маруся все время держится эталонно: ведет дом, помогает окружающим, дает кров нескольким семьям, фактически устраивает частный детский сад. И от нее все время сияние исходит. Классический образец настоящей русской женщины, но у Степновой получилось сделать ее живой, не приторной, положительной без пряничности или ложно-героического пафоса. И даже ее смерть летом 1949 года показана очень тонко и бережно. На этом этапе вправду кажется, что перед тобой превосходная книга.
Спустя десять лет после смерти Маруси (с которой так ничего и не сложилось, что не помешало всю жизнь провести рядом) Линдт влюбляется в юную лаборанточку (этакий реверс: Маруся была на 31 год старше, а Галочка — на 41 младше), после чего легко ломает ее жизнь, делая своей женой вопреки всем девичьим чаяниям и планам. Мечта Линдта об уютном гнезде (настоящем, как у Чалдоновых) воплощается карикатурно, но ослепленный страстью герой не желает ничего замечать, по мере возможности наслаждаясь видимостью и иллюзорностью, при том что у Галины Петровны муж вызывает практически физическое чувство омерзения. Став женой великого ученого, чтимого при всех номенклатурных катаклизмах, юная Галочка стремительно превращается в холеную аппаратную стерву, мешает обывательское с барским, нещадно строит прислугу и коллекционирует книжный антиквариат. В доме Линдта — образцовый застой, как и во всей стране. Но и империи, и гении смертны. Линдт умирает в маразме, кстати (галлюцинации, нарушения памяти, печеньки в супе). А через несколько лет разваливается и Союз. Галина Петровна не теряется и мутирует в образцовую бизнес-вумен. И вот этой стервозной красавице бабушке, которая не пропускает ни одной французской парфюмерной новинки и пирожков сроду не пекла, достается на воспитание внучка, Лидочка. Невестка тонет в море (собственно, с этого и начинается роман), не перенесший гибели любимой сын кончает с собой, и у Галины Петровны не остается выбора.
Лидочку автор представляет читателю как продолжение Линдта. Правда, дедушка с внучкой видится только раз, возвращая ее после попытки суицида в мир живых. Но она важна для ученого. Он ведь и в Галине Петровне искал Марусиного света, а вот во внучке этот свет вроде есть. Она мечтает о собственном доме (по сказочному стечению обстоятельств именно Марусин дом, что Чалдоновы купили, оставшись после окончания войны в Энске, ей и достанется), заслушивается уроками домоводства, наизусть заучивает книгу рецептов Елены Молоховец (звучит почти пародийно, но автор здесь вполне серьезен). Но бабушка отдает Лидочку на танцы, и обладающая уникальными данными девочка дорастает чуть ли не до примы. По окончании училища она танцует партию «Жизели» (неслыханная честь для выпускницы), однако тут же расстается с карьерой, принимая предложение бизнесмена Лужбина. Избранник значительно старше ее, умен, сдержан, добр, без памяти влюблен и предлагает главное — жить в собственном (Марусином) доме, возле леса, среди пахнущих древесной стружкой балок и ароматов дыма и хвои. Лидочка привыкает к роли хозяйки, воплощая все свои кулинарно-бытовые умения и залечивая полученные ранее любовные раны. Но тут Галина Петровна делает царский подарок — находит покупателя на дом супругов, добавляет денег и приказывает Лужбину быстренько переезжать с женой в Москву и не заставлять гениальную балерину варить борщи, когда в Москве по ней Большой плачет. Лидочка же, узнав о грядущих переменах, пытается покончить с собой, только бы не расставаться с облюбованным местом, а до великого будущего ей дела нет. Завершается все благополучно, никто никуда не переезжает, планируются дети и внуки.
Собственно, об этом и роман, название нас не обманывает — жизнь окружающих гения женщин показана подробнее, детальнее, интереснее его личной биографии, о по всей видимости очень важных собственно научных изысканиях Линдта, равно как и о его «службе», мы узнаем ничтожно мало.
Роман и не о науке — он об «отношениях», о стремлении к человеческому счастью, о попытке определения — что, собственно, оно есть такое, это вечно ускользающее счастье. Когда Линдт любит Марусю, перед нами, кажется, стремление к гармонии: интеллект стремится обручиться с домашним уютом, инновации желают традиционности, дабы образовать синтез. Но счастье это недостижимо, по крайней мере для главного героя. С его собственной женой Галиной не получается ровным счетом ничего. Лидочка, с ее гениальной телесной одаренностью, метафизически наследует Линдту, причем по классической гендерной схеме: мальчики — физика и точные науки, девочки — балет (если бы Лидочка обрела авторской волей другой дар — хотя бы дар художника, проблема выбора между семьей и работой не выглядела бы столь драматично), но талантом своим — невзирая на классическую формулу о том, что талант есть поручение, — пренебрегает. У нее и мысли не возникает о том, что данное свыше надо воплощать. При этом финал книги явно трактуется самим автором как happy end. Конечно, сидеть под пледом с чашкой чая, разводить котов, приручать белок и выпекать плюшки — занятие приятное. Но по книге получается, что это не просто один из вариантов судьбы, но вариант самый верный, возвращающий натуру к ее цельности. Мне тоже частные истории ближе исторических полотен, но все же кажется, здесь автор чуть переборщил.
Степнова — умелый собиратель деталей: ученый у нее выглядит весьма аутентично, а вселенная пленников Терпсихоры — от профессионального сленга до психологических зарисовок и специфической картины мира — изображена столь фактурно, что кажется, автор лично зналась с классическим танцем. Даже прототип училища узнается — Пермское хореографическое. А вот рисунок судьбы героини не слишком убедителен: в балете до роли примы добираются только личности с сильным характером, а Лидочка, во-первых, своих интересов отстоять не может, во-вторых, согласна пустить под откос годы работы, и даже нигде не ёкает, ни доли сомнения. Это не сила, это — слабость.
Роман, однако, на то и роман, чтобы допускать самые разные, в том числе и символические толкования… Можно, конечно, Линдта сопоставить с Советским Союзом, погибшим из-за того, что слишком много внимания уделял вещам военным и был слеп и неумел, когда дело касалось семейного, частного. Маруся — дореволюционная Россия — оказалась недостижимым идеалом. Жизнь вместе с Галиной, пусть и с натяжкой, можно совместить с холодным расчетом брежневских времен. И как тогда быть с Лидой, которая к началу двухтысячных презрела все, кроме своего угла?
А в целом «Женщины Лазаря» намного оптимистичнее и мягче предыдущего романа. В «Хирурге» страданий и жестокости было с избытком, нынешнее произведение светлее и сдержаннее. Но скрепы творчества Степновой, сквозные темы — уже очевидны. В обоих романах (как и в нескольких рассказах) есть несчастные дети, обделенные родительской любовью, заброшенные, без поддержки справляющиеся со своими страхами. Степнова вообще остро сочувствует маленьким и беззащитным. Очень много — о «нелюбви», всеобщей, трагической: человеческое неумение договариваться, нечуткость, каскады несовпадений… В обоих романах писательница размышляет о даре, о призвании, об ответственности, о тяжести таланта и бремени гениальности… Однако если в «Хирурге» гению все же давался шанс изменить мир (безуспешно), то в «Женщинах Лазаря» гениальность и вовсе не имеет никакого отношения ни к улучшению мира, ни к счастью. Именно тут очевидно, что роман написан не мужской рукой:
«В разложенной на большом столе выкройке нового платья, в устройстве личного счастья горничной (прислуга Чалдоновых была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж), даже в том, как Маруся, почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков, — во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье».
В этом смысле успех романа очень показателен — явно прочитываемый мессидж о том, что частное выше общественного, а строительство собственного дома, собственной семьи важнее любого дара, любого «поручения свыше», видимо, оказался удивительно своевременным. И критикам еще предстоит задуматься, что лежит в основе этой востребованности — усталость общества, социальная «сдача позиций» (гори все огнем, лишь бы дома все было хорошо!) или, напротив, столь чаемое обращение к «человеческому».
Недаром поклонники романа склонны видеть достоинства даже там, где придирчивый критик усмотрит авторские промахи. Язык и вправду сочен и метафоричен, но порой — избыточно. Если прочитать интервью со Степновой, то заметно, что слог ее устной речи живее текстов, хотя ничуть не уступает в выразительности. И если в начале хочется сравнить авторскую манеру и с Набоковым, и с Толстым (традиционность, основательность), то чем дальше, тем больше эти попытки писать по канонам «великой русской литературы» кажутся нарочитыми (надо сказать, в прошлом романе стремление писать «литературно» не было еще столь очевидно). Но, видимо, слишком уж мы стосковались по неторопливому повествованию в классическом ключе. Тем более, если автор умеет описывать, как изумительно хороши пылинки в лучах света, как приятны на ощупь свежеошкуренные деревянные перила и как удивительно звучит замороженное кольцами молоко.
Александра Гуськова
[1] <;.
[2] </a-ne-spet-li-mne-pesnyu/>.
[3] <;.
[4] <;.
[5] <;.
Свой среди своих, чужой среди чужих
Павел Гольдин. Чонгулек. Сонеты и песни. Тексты, написанные без ведома автора. Книга стихов. М., «Книжное обозрение (АРГО-РИСК)», 2012, 48 стр. («Книжный проект журнала ёВоздух”, вып. 60»).
Эта книга — третья на счету проживающего в Симферополе поэта и биолога Павла Гольдина. Две предыдущие — «Ушастых золушек стая» (2005) и «Хорошая лодка не нуждается в голове и лапах» (2009) — были благосклонно встречены (пусть и немногочисленными) критиками, отмечавшими, что эти тексты производят «оглушительное и странное впечатление» [6] , а также, что в них «пустотному иронизму минувшей, к счастью, поэтической эпохи <…> противопоставлено второе смысловое дно — дополнительный — глубинный — механизм смыслопорождения...» [7] . К тому же тексты Гольдина, написанные после 2005 года (и позднее вошедшие во вторую книгу), воспринимались на фоне такого странного явления, как «новый эпос», главные идеологи которого, Федор Сваровский и Арсений Ровинский, включили тексты Гольдина в посвященный «новому эпосу» номер интернет-журнала «РЕЦ» [8] . Стихи Гольдина смотрелись вполне органично рядом с текстами тех же Сваровского и Ровинского, но, думается, между «новоэпическими» опытами этих авторов и текстами Гольдина есть принципиальные различия. Во-первых, они различаются структурно: у Сваровского твердые, дегуманизированные роботы парадоксальным образом дают возможность лирическому субъекту быть более «человечным», безопасно соединить видимость социальной стабильности и фантазм («в 10 лет мечтал дружить с роботом / в 14 представлял, как женится на девушке-андроиде / в 20 думал о том, как со временем сменит органику / на сверхпрочные углеродные материалы»), тогда как у Гольдина аморфные, ускользающие существа стремительно теряют антропогенные свойства, мимикрируя под изменчивую окружающую среду (не теряя при этом имени или фамилии — Василий, Жанна, Лисичкин etc ). Во-вторых, между ними существует разница культурная или, быть может, даже субкультурная: имеется в виду использование материалов, которые могли бы быть проинтерпретированы как язык Другого. В случае Сваровского это кинематограф категории B и плохо переведенная фантастика, необычайно популярная в позднесоветское время, а в случае Гольдина — язык телепередач, идущих на спутниковых телеканалах вроде « Animal planet» и образцы «народного сюрреализма» (О. Аронсон), размещенных на сайтах со свободной публикацией. Кроме того, тексты Гольдина, на мой взгляд, находятся в некоторой зависимости от рок-музыки, чьи тексты сочинялись под влиянием переводов зарубежной поэзии ХIХ — ХХ веков («Аквариум», «Странные игры»). В-третьих, и это, быть может, самое значимое: различается отношение «новых эпиков» и Гольдина к концептуализму. Очевидно, что для каждого из них было важно оттолкнуться от концептуалистского наследия и создавать лирический субъект, учитывая то, что «все имевшиеся художественные языки не просто исчерпаемы в принципе, а уже исчерпаны, так что впредь никакое индивидуальное высказывание невозможно» [9] . Разумеется, это не могло не отразиться и на их языке, вернее, чужом языке, к помощи которого они так часто прибегают. Наполненные холодной иронией, пространные циклы Сваровского или разрозненные фрагменты Ровинского призваны отразить опыт жителя глобализированного мира, пребывающего в вечном настоящем, где «превращение — это сцена, на которой происходит реальное действие, момент перехода (война, разрушение империи, старение, смерть)…» [10] . У Гольдина, для которого также важна данная проблематика, мы не увидим «критики языка», которая имеется, например, у Арсения Ровинского (или еще одного автора этого круга — Леонида Шваба). Если для Ровинского каждое слово должно быть отвоевано (у мертвой поэтической традиции, у медиа), то у Гольдина язык используется вполне инструментально: так пишутся статьи в энциклопедии. Поэт, без ведома которого пишутся его тексты, дает полный carte blanche вывернутому наизнанку Знанию:
Сотрудники агентства по борьбе с особой жестокостью,
специалисты в разных костях,
застыли перед окаменелой костью,
изогнутой в двух плоскостях.
<…>
В центральном универмаге можно купить
еврейские зародыши в питательном растворе
и убить на любой стадии развития.
Тот же, кто передержит продукт до рождения,
обязан усыновить ребёнка и с этого момента
считается членом семьи еврея.
ищет защиты
маленький ребёнок в папе и маме
большой ребёнок в боге и храме
взрослый человек в будде и ламе
ом мани падме хум
бритва, вскрывающая человеческий ум
Любопытно присутствие последнего фрагмента, словно бы призванного «заговорить» поток медиа вирусов, чтобы «спасти» лирический субъект от информационной интоксикации, подталкивающей его к алогичному и практически неостановимому монологу. Думается, именно присутствие последнего, рифмованного фрагмента и выводит Гольдина из круга авторов, совмещающих, по словам Кирилла Корчагина, «оптику поэта» и «оптику исследователя» [11] . В отличие от названных Корчагиным Сергея Завьялова, Александра Скидана, Антона Очирова, Гольдин предпочитает отказаться от аналитического подхода. Ему ближе стратегия «просто поэта», в стихах которого поют соловьи, идеи, розы, научные системы и государственные теории. По сути, функция авторства тут — вовремя прервать информационный поток:
Всем остальным — сила и слава, мышцы и нервы,
золото, мясо, герои, перья, планеты,
пурпурный и золотой дождь,
а мне — пенной слюны
складка и бруцеллёз.
Своей работой Гольдин заостряет проблему существования поэтической субъективности в ситуации тотальной неопределенности. Как и Орфей из фильма Кокто, поэт стремится уловить в свои сети дивную музыку, но получается, что волна выкидывает на берег коммуникационные штампы и осколки (говорю безоценочно!). От романтической стратегии авторства остается лишь зуд письма, подталкивающий поэта к навязчивому (вос)производству смыслов. Но все-таки Гольдину не удается стать полноценным героем первого тома «Капитализма и шизофрении»: стремление рассказывать истории, «быть прочитанным и понятым» побеждает радикальность. Которая имеет место в творческой стратегии автора, чье имя неявно присутствует в сборнике Гольдина. Речь, разумеется, о Кирилле Медведеве и его книге «Тексты, изданные без ведома автора». Напомню, что этот сборник был составлен Глебом Моревым и вышел в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2005 году, то есть уже после знаменитого «Коммюнике», в котором Медведев отказывается от каких-либо публикаций, кроме как в книгах, «выпущенных своим трудом и за свои деньги» и «публикации на собственном сайте в Интернете» [12] . Культурный — и политический — жест Медведева явился примером разрыва и проблематизации, под знаменем которых будут создаваться все будущие его тексты [13] . Жест Гольдина (перифразирование) указывает на то, что разрыв является «органичной» частью стратегии современного автора, не без ностальгии раздумывающего о том, как этот разрыв залатать. В отличие от Медведева, говорившего и говорящего простыми словами о непростых вещах, подход Гольдина отличается инструментализмом, в рамках которого поэтический «язык эпохи» (трудно найти более эклектичного автора) призван описать «техническое продолжение сознания» (И. Хассан). При этом проблематичным кажется отсутствие какой бы то ни было критической позиции по отношению к используемому языку. Можно предположить, что подобная установка вызвана недостаточным вниманием к работе московского концептуализма — но в таком случае, что оказалось для Гольдина важнее?
Возможно, дело в том, что крымский поэтический контекст (в рамках которого формировалось дарование Гольдина) центрировался вокруг другой, во многом противоположной концептуализму тенденции. В первую очередь, необходимо сказать о группе «Полуостров», созданной в самом начале 1990-х годов. Сегодня она представляется одним из множества групп рубежа десятилетий, которые собирались скорее по принципу биографической и культурной близости, нежели по принципу близости поэтик. Входившие в эту группу Николай Звягинцев и Игорь Сид давно воспринимаются как московские авторы, тогда как другой, «центральный», по мнению многих, участник группы, Андрей Поляков, остался верен своей стратегии изгнанника (его первый сборник назывался « Epistulae ex Ponto »), работающего с образами «потайной» классики двадцатых-семидесятых годов, пропущенными через интуитивно понятый структурализм. Безусловно, Гольдин не мог пройти мимо подобного автора. Он не только неоднократно упоминал Полякова в числе повлиявших на него поэтов, но и сочинил небольшое стихотворение, вошедшее в книгу «Хорошая лодка не нуждается в голове и лапах»:
Стоя в снегу, о рыбах подумал Андрей:
нынче же ночью, подумал Андрей, мне привидится рай —
книги, и рыбы, и кошка, и рыжая Ленка, и с нею Андрей
слушают сонного ангела-рыбу с моей бородой
и рыжим живым саксофоном.
С одной стороны, это довольно характерный для Гольдина текст, посвященный некоему Андрею (хотя автор и не скрывает, кому посвящено это стихотворение), одному из множества странных его героев, кочующих из текста в текст, — но с другой — Гольдин демонстрирует, в каких точках ему близка работа Полякова. Это не лишенное иронии внимание к эсхатологической проблематике, работа с архетипами, а также обильное употребление неизвестных читателю имен собственных. Кроме того, эти персонажи взаимозаменяемы и могут, так сказать, существовать в двух или более «регистрах».
Итак, поэтика Павла Гольдина сформировалась в диалоге как минимум с двумя заметными явлениями последних двух десятилетий: с одной стороны, это насыщенная, барочная поэзия авторов группы «Полуостров», а с другой — т. н. «новый эпос» с его вниманием к абсурдизму и примитивистским техникам письма. Последнее часто использовалось концептуалистами (от Д. А. Пригова до Юлии Кисиной), но их влияние не оказалось для Гольдина решающим: в его текстах мы не увидим той критики языка, которую предпринимали концептуалисты и их последователи (в том числе и представители «нового эпоса», такие как Арсений Ровинский и Леонид Шваб). Доверие к поэтическому языку соединяется у Гольдина со страстью к рассказыванию парадоксальных историй, призванных обескуражить, а иногда и насмешить читателя.
Демократизм этих текстов соединяется с попыткой проанализировать мифы, которые производит обыденное сознание (см. «Следы Советского Союза…»). При этом поэт говорит о другом на своем языке, вернее языке, который он считает своим. В этом проблема и интерес поэзии Павла Гольдина.
Денис ЛАРИОНОВ
Служба универсальности
Григорий Кружков. Луна и дискобол. О поэзии и поэтическом переводе. М., РГГУ, 2012, 516 стр.
А вообще нам несказанно повезло. Не смешай Господь языки во время Вави-лонского столпотворения и не сделай их разность не преодолимой до конца — каких бы огромных смысловых пластов мы лишились, каких форм опыта! Тут плодотворна (притом, подозреваю я, бесконечно плодотворна) сама до-конца-не-переводимость — провоцирующая на попытки с ней справиться, само наличие зазора между возможностями разных языков, заставляющего их тянуться друг к другу, испытывать себя на пластичность, отращивать себе новые щупальца.
Это, пожалуй, первая, хотя далеко не единственная мысль, на которую наводит чтение «Луны и дискобола» Григория Кружкова — суммы его переводческого опыта. Суммы, которая могла бы быть фрагментарной — поскольку составлена из текстов, написанных в разное время, с разными целями и даже отчасти в разных стилях, — когда бы не была такой цельной. А цельность ей сообщают лежащие в основе всего написанного единство опыта — и единство мышления, связность тем, которые по-разному проговариваются на разном материале.
Собственно, по самому большому счету, тема здесь, во всех ее ветвлениях, одна: как возможна переводческая работа.
Подобно тому, как филология вообще, согласно словам С. С. Аверинцева — служба понимания — работа переводчиков вполне может претендовать на имя службы универсальности (состояния, для человека, кажется, столь же соблазнительного, сколь и труднодостижимого). Опыт каждого языка — неизбежно локален, и переводчики нащупывают переходы от одной локальности к другой. Если угодно, они доделывают ту работу, которую не доделал (подозреваю, намеренно) сам Создатель мира, оставив каждого из нас наедине со своими языками. Они заращивают пустоты между разрозненными опытами. Можно было бы поддаться соблазну и сказать, что они делают невозможное (такое, на самом деле, многократно говорилось, притом самими переводчиками, среди которых, в частности, — и Иосиф Бродский) — если бы сам автор книги не принадлежал так убедительно к тем, кто героически и плодотворно сражается с самой идеей непереводимости.
Прежде всего, Кружков попросту дает нам увидеть на живых примерах, «как это делается». Так, в статье «Лестница перевода. О точности и вольности» он позволяет читателю вместе с ним пережить решение невыполнимой, казалось бы, задачи: пересадить на почву русского языка с его непоправимо длинными словами стихотворение Роберта Фроста «Nature’s First Green Is Gold», написанное словами очень короткими: «…решительно сворачиваем шею тому жалкому толмачу, который вбил себе в голову идею об экономии слогов, и начинаем шикарно жить. Берем длиннейшее русское слово в пять слогов — „новорожденный” и нагло ставим его в начале. Места в строке остается только на короткое словечко „лист”. Итак, вместо пяти английских слов — у нас два. То же самое — во второй строке: вместо пяти — три» (то есть — идея минимализма средств парадоксальным образом соблюдена) — и так далее, пока в итоге не получается изящный, сам по себе золотистый и ломкий, русский текст:
Новорожденный лист
Не зелен — золотист.
И первыми листами,
Как райскими цветами,
Природа тешит нас —
Но тешит только час.
Ведь, как зари улыбка,
Все золотое зыбко.
Но практика и техника — это еще совсем не все (о них — впрочем, с обширными отступлениями в пласты более глубокие — первый раздел книги: «Ремесло»). Из «Луны и дискобола» можно вообще многое узнать о том, как переводческая работа переживается изнутри, что она вообще делает с человеком, который ее выполняет, как она его меняет, воспитывает, выращивает ему восприятие. Мы узнаем это не только о самом авторе, но — из раздела «Воспоминания» — и о других переводчиках, каждый из которых был для него чем-то важен: о Вильгельме Левике, о Наталье Трауберг. Среди героев этого раздела — только один не-переводчик: поэт Валентин Берестов. По крайней мере о том, занимался ли Берестов переводами, здесь не сказано ни слова. Зато сказаны такие слова, после которых рука не поворачивается написать, что он тут неуместен: «Есть разные солнца в галактике, одни крупнее других в тысячи и миллионы раз. Но все они сделаны из одной лучистой смеси. Берестов для меня состоял и состоит из того же солнечного вещества, что и Пушкин». Вот честное слово, подумаешь, что к переводческой работе, к прояснению смыслов, к опытам единства, к службе универсальности это тоже имеет какое-то несомненное отношение. Как-то ее на себе держит.
Книгу можно читать как своего рода энциклопедию личного переводческого (и неотрывного от него поэтического) опыта — да, личные энциклопедии бывают, — тем более, что Кружков в своей области — в проживании и проговаривании иноязычной поэзии русскими языковыми средствами — именно что энциклопедист. Одних только английских и англоязычных авторов он переводил в огромном диапазоне, от шекспировских времен до ХХ века (по объему — не меньше, чем несколько миров). Достаточно сказать, что им целиком переведены и составлены книги избранных стихотворений Джона Донна, Томаса Уайетта, Джона Китса, Уильяма Батлера Йейтса, Джеймса Джойса, Роберта Фроста, Уоллеса Стивенса, Спайка Миллигана, антология английской поэзии абсурда «Книга NONсенса», «Охота на Снарка» Льюиса Кэрролла (нет, это далеко не все). Некоторым, наиболее важным героям своих переводов — Донну, Кристоферу Смарту, Кэрроллу, Эмили Дикинсон — Кружков посвятил в книге особый раздел: «Спутники»; а некоторых рассмотрел в сопоставлениях с другими, в том числе — с русскими поэтами (под это, не лишенное авантюрности, интеллектуальное предприятие отведен раздел «Оппозиции»).
Энциклопедична книга и потому, что этот опыт нам дан здесь в многообразии своих уровней — от физиологии перевода, его смысловой и словесной пластики, его идеологии и психологии — до его метафизики: слово самого автора, которое повторяется на этих страницах слишком часто, чтобы быть оставленным без внимания. По существу, перевод оказывается у него своего рода метафизическим инструментом. Цитируя одно свое стихотворение, спровоцированное стихами английского автора о вымышленных буквах, которые идут за буквой Z: «Я — не конец. Наоборот, / Я — это лестница и вход / В необычайные края, / Лежащие за буквой Я», автор вдруг ловит себя на мысли: а ведь эту «подозрительно легко написавшуюся строфу» можно истолковать не только морально, как всем нам памятно из детства («Я — последняя буква в алфавите»), «но и метафизически» — и очень близким к этому метафизическому толкованию оказывается понимание того, что и переводчик использует «свое собственное „Я” как „лестницу и вход” в иные, бесконечные и таинственные, пространства». (Так и хочется написать, хотя бы в примечании: разве не то же самое делает человек вообще?)
Среди ведущих идей Кружкова — тех самых, придающих книге цельность, — мне видится очень важной идея единства поэзии: поэзии как типа явлений, на каких бы языках и в какие бы исторические эпохи она ни осуществлялась. Иной раз Кружков попросту высказывает это до категоричности прямо: «Я против того, чтобы раздувать ажиотаж относительно современной поэзии, якобы непонятой и непереведенной. Не существует никакой „современной” поэзии, как не существует осетрины первой и второй свежести. Это — миф. Существует просто поэзия, которая нормально живет, питается традицией и обновляется, как все живое. Несмотря на все изгибы, она непрерывна». Да, разрывы в общественном сознании случаются — но единства и непрерывности они не отменяют.
В книге чувствуется важной сама ее основательность, подробность, насыщенность деталями. При чтении не раз приходит в голову, что автор неспроста физик по исходному образованию (он окончил физический факультет Томского государственного университета, аспирантуру по физике высоких энергий и даже одно время по этой специальности работал): он очень систематичен. Кружков — переводчик-исследователь, переводчик-естествоиспытатель, внимательный к естеству и слова (достаточно сказать, что вопрос о словаре Шекспира, связанный с проблемой шекспировского авторства, решается им в книге — и, надо сказать, убедительно — при помощи методов математической лингвистики), и самого перевода — что таинственным образом не уменьшает его внимания к работе художественной компоненты.
Любопытно наблюдать, как в понимании сути происходящего при переводе (сути, разумеется, таинственной — благодаря чему и приближение к ее пониманию обречено существовать исключительно в динамике, постоянно возобновляясь и никогда не достигая окончательной цели) Кружкову помогают иные сферы опыта (на язык же рецензенту, стремящемуся понять, как устроено мышление и мировосприятие его героя, упорно просится словцо «стереоскопичность»).
Метафоры, призванные прояснить устройство поэзии вообще и переводческого ремесла в особенности, привлекаются из областей столь же разных, сколь иной раз и неожиданных — среди которых и актерство («Переводчик — не столько перекладчик слов и фраз, сколько актер в интеллектуальном театре»), и цирковые трюки («Переводчик — канатоходец, — так начинает Кружков разговор о Роберте Фросте. — Он должен пройти по проложенной автором линии, как по натянутому канату, — и пройти непринужденно, не глядя под ноги»), и близкая автору-естественнику математика (говоря о сопоставимости двух независимо друг от друга написанных стихотворений — Уоллеса Стивенса и Пастернака, он прибегает к математической лексике и говорит об их «наибольшем общем делителе»); в вошедшем в книгу диалоге с Олегом Мишутиным он сравнивает работу переводчика с солдатчиной и монашеством. Но прежде всего прочего привлекается для этого, что ничуть не парадоксально, опыт ученого-физика. Быть физиком автор, похоже, не перестал, разве что исследует иные объекты — и иными средствами. Наиболее яркий пример того, как в его руках работают на литературном материале метафоры, взятые из естественно-научного обихода, изумленный читатель имеет возможность наблюдать в первом из «Трех эссе о поэтическом переводе»: «Перевод и квантовая механика». Оказывается, переводческая работа весьма эффектно описывается в физических терминах, для гуманитария, правда, не на каждом шагу прозрачных: «Подобно тому как в физике, — с терпеливой въедливостью лектора поясняет автор, — кинетическая энергия сохраняется полностью только при абсолютно упругом столкновении, так и в переводе часть энергии оригинала обычно теряется. (Теряется она внутри „черного ящика”, то есть переводчика, — хотелось бы думать, что она идет при этом на увеличение его внутренней энергии и повышение потенциала.) Задача переводчика — максимально уменьшить потери на неупругость». Предложен также график происходящего при переводе смыслового сдвига, схема, демонстрирующая волновую природу стиха, формула для расчета соотношения неопределенностей в стихотворении и иные интересные вещи, глядя на которые и сокрушаясь о своей ограниченности, гуманитарий готов просить пощады.
Изрядно яркого в том же роде поджидает нас и в двух других частях трилогии о природе перевода: «Перевод и Эрос» и «Перевод и бессмертие» (здесь физическое мышление уступает роль поставщика метафор мышлению, соответственно, биологическому и метафизическому). Понятно, что во всем этом много иронии, что вообще это — своего рода игра, затеянная специально для того, чтобы ум радовался и удивлялся собственным возможностям. Но уж точно не более игра, чем искусство как таковое (не говоря уж о том, что и перевод, и даже умение проследить, как он устроен — тоже искусства). И не менее, чем всякая игра, она выявляет кое-что весьма серьезное. Например, таинственное родство между несопоставимо, казалось бы, разными областями мира. Единство бытия, пронизанность его общими закономерностями, о которых мы по большому счету можем лишь догадываться, причем играя — вернее всего. (Шутки шутками, а ведь есть некоторые основания утверждать, что «аналогии между законами перевода и законами квантовой механики имеют глубокую подоплеку»: «...дело в том, что и физическое взаимодействие частиц, и перевод можно рассматривать как частные случаи универсального процесса передачи информации», и «в обоих случаях действуют общие законы». Это ли не об устройстве мироздания?) Впрочем, сама возможность перевода с языка на язык — разве не подтверждение этого единства?
Ольга БАЛЛА
КНИЖНАЯ ПОЛКА МАРИАННЫ ИОНОВОЙ
Наталия Черных. Из писем заложника. М., «АРГО-РИСК», 2012, 56 стр.
Новая книга Наталии Черных — это две поэмы: одноименная «Из писем заложника» и «Лето в Отрадном». Два образца «тропарной формы», как толкует ее сам автор, т.е. верлибра на грани ритмизированной прозы. Два явления той эпической лирики , с какой Черных занимает обособленную нишу в сегодняшней русской поэзии.
В поэме «Из писем заложника» психологическая канва очерчена так же четко, как и сюжетная. Идет условная война; героиня добровольно становится заложником, жертвует своей свободой ради спасения любимого, который не любит ее. Но в плену и в своей жертве обретает истинную себя, рождается заново… Во второй поэме ни сюжетной, ни психологической канвы вроде бы нет, при этом в первой ничего не происходит помимо монологического разговора с адресатом, есть лишь рассказ о действиях, тогда как вторая представляет собой непрестанное действие-действо. «Вдруг все мироздание на нас оглянулось. Остановилось. / А еще полощутся ливни и громы в жестяных перьях, / воздушное крошево сыплется, длится рост безмятежный и сочный рокот. <…> / Звуки брошены свежей подсолнечной шелухой, / ветер волнует нотные знаки / по песку, на солнечном свете, по белому-белому песку».
Стержень и первой, и второй поэмы — мысленное общение с любимым сквозь время и пространство. Одна тема: разлука как онтологическое разделение и возможность единства внутри этого разделения. В «Из писем заложника» с их большей житейской определенностью разделенные — еще только «я и ты». В «Лете в Отрадном» ( лето здесь означает «год», и отсылки к церковному году смыслообразующи) за теми же «я и ты» встают их сущностями/параллелями Дух и Душа. Дух связан с долженствованием, дух бодр , тогда как душа поддается чувствам, порывам, она несовершенна. Не то чтобы немощна, как плоть, а скорее неустойчива («Да, я и сама боюсь новой жизни, замираю и плачу, / но вверяю ей и тебя: все, что есть у меня».). Лейтмотив всей поэзии Черных — норма и отклонение от нормы, призыв и уклонение от призыва. Диктат нормы идет снизу, диктат призыва — сверху. А посредине — цветущий, густой, пронзительный, полный страдания и уюта мир героини.
Пожалуй, главное свойство поэтики Черных в верлибрах последнего десятилетия — универсальность, или как бы наивная всеядность. Черных работает на скрещениях. Так, «разговорная» риторичность современной западной традиции, на родной почве практикуемая, скажем, Львовским и Фанайловой («Мне стыдно за девяностые годы»), перекрещивается с «пышной» риторичностью византийской традиции. Но не следует думать, будто Черных смешивает «речевые нарративы» для создания эффекта разноголосицы, словесной ткани с неоднородной фактурой. В том-то и дело, что каждое стихотворение спето одним авторским голосом. «Византизм» — не маска, а один из пластов внутреннего мира лирической героини (сделаем эту уступку литературоведческой проформе, подразумевая «Наталия Черных»), потому столь естественно переходящей от обыденной речи к украшенной, от интимного лиризма к настрою и строю литургической поэзии. А в «Из писем заложника» слог постоянно меняется с почти телеграфного на романтически-образный, бытовые подробности перебивает афористическое обобщение.
Мама была в психлечебнице.
Отец узнал, что я в плену, из новостей. Не плакал.
Мне в пункте контроля сказали, что он писал президенту.
Представляю, что. Однако его не тронут. Он пенсионер,
он инженер тонких химических технологий.
<…>
Теперь, когда и лицо твоё позабыла,
а детали единственной встречи рассыпались, будто сгоревший листок,
жить очень странно…
Искренность и торжественность в их ненатужном сплаве — мгновенно узнаваемый эмоциональный почерк Черных.
Ее часто пространные верлибры сравнимы с потоками, принявшими в себя все, что им встретилось на пути. У Черных, как ни у кого из современных поэтов, прием есть только прием, средство, а не цель. Цель же — высказаться. Сложносоставность поэтической ткани ощутимо второстепенна для автора, который отдает себя целиком тому, что хочет сказать. Нет тщательного отбора: неожиданная, парадоксальная метафора («Мы видим друг друга сквозь бумажное зеркало. / Мы не бываем с тобою порознь») порой соседствует с банальностью, штампом, но именно так звучит хрупкая и жестокая музыка внутреннего Отрадного.
«Я хотела бы жить без забот и в рифму писать, / чтобы стихи мои запоминались, — а пишу совершенно иначе, / попадая под перекрестный огонь и кровавый дождь / на фоне цветущего сада в Отрадном».
Вадим Месяц. Имперский романсеро. М., «Водолей», 2012, 176 стр.
В сборнике, куда вошли три поэтических цикла плюс отдельное большое стихотворение, более всего интригует цикл, соименный книге. Зачем понадобилось Вадиму Месяцу обыгрывать в названии «Цыганское романсеро» Лорки (перемену грамматического рода приходится, увы, считать авторской ошибкой)? Перед нами лубок на тему России начала XX века, времени как раз «лубочного»: окончательное формирование городской народной культуры и одновременное освоение ее искусством, Ларионов и Гончарова, открытие Пиросмани, новые «крестьянские» поэты… Но при чем же здесь испанский фольклор в лорковском преломлении?
Лорка по его собственному признанию «стремился к гармонии цыганско-мифологического с откровенной пошлостью теперешней жизни». Можно сказать, что Месяц поставил перед собой задачу вдвойне более трудную. С помощью постмодернистского ералаша, затягивающего в себя читателя уже в оглавлении («Река Потудань», «Кутузов», «Идиот», «Марфуша», «Случай на Обводном канале», «Голова Гоголя», «Монахи у проруби», «Я танцевал в обнимку с самоваром»), он синтезирует собственную российскую мифологию, не забывая и о «пошлости теперешней жизни», как он ее понимает.
Часики тикают гулко,
время не вяжется с грузом.
По городскому проулку
бежит монашка с арбузом.
В виде инопланетных
чудищ сидят на террасах
дамы в платках разноцветных,
их кавалеры в лампасах.
<…>
Празднуют дружным союзом
или кронпринца хоронят.
Бегает баба с арбузом,
никак его не уронит.
Монашка с арбузом — центральный образ книги (одноименное стихотворение слегка прямолинейно вынесено на обложку), фигура едва ли не космогоническая, а не только лишь «феномен культуры»: уронит арбуз, и мир рухнет. Но это и «страна контрастов», «святая Русь» с вечным привеском нелепости. В смешении всего и вся состоит сущность России, однако построенная на диссонансах гармония ненадежна, потому — монашка с арбузом, идиллия с бомбой замедленного действия.
Склонный к «дикарству», примитиву, широкому мазку Месяц прекрасно справляется с вывесочно-плакатным колоритом и кафешантанно-балаганным переплясом. Выходит гротескный портрет-пейзаж-натюрморт Российской империи, перестающей быть похожей на самое себя, перерождающейся во что-то доселе немыслимое, во «взвихренную Русь» — и делающей это (у Месяца) с великолепием малявинского «Вихря», где высвобождаемая витальная энергия раскрывает свою суть в цветах пожара и крови.
«Петухи срастаются как близнецы, / шаром вкатываются в хоровод: / волчья стая сцепилась в шкуре овцы, / сапогами стучит в живот. / В жженый сахар растаяли леденцы, / опустились в пучину вод».
Но какая же предреволюционная Россия без «серебряного века»? Представлен он не только Ахматовой, торгующей селедкой у Обводного канала. «И белоснежный ребенок / плачет на колокольне» — причастный тайнам, плакал ребенок . Блока как никого из поэтов притягивала русская бездна, и китча он не чуждался, и революцию воспринял совершенно мифологически…
Постмодернизм Месяца как бы «народный», сшитый на грубую нитку. Сшиванию и перешиванию подвергаются жанры либо имеющие историческую привязку, либо так или иначе трактующую историю: приключенческое чтиво для мальчиков, стихотворный памфлет, жестокий романс, народная песня об исторических деяниях. В получившемся месиве исторического и легендарного, музейного и масскультного вдруг ясно проступают жанры самой Истории, ее комедия, трагедия и мещанская драма.
«По улице идут под красным флагом / в фуражках белых гневные жандармы, / они сегодня вышли за свободу, / за правду и гражданские права. / Вслед демонстрации бредет корова / и лают разноцветные собаки».
Что касается двух других циклов, то здесь слышится тема беспочвенности и «вихря». Полистилистика текстов Месяца, роднящая их с поэзией «русского рока» (Летов, Гребенщиков, Арефьева), передает расшатанность внутренних основ, метания в поисках идеала. «Верхоглядна моя вера, легок крест. / Не вериги мне — до пояса ковыль. / По ранжиру для бесплодных наших мест / причащеньем стала солнечная пыль».
Прежде первобытно-цельный, лирический герой Месяца как будто ищет, на какой бы алтарь принести свое чувство полноты жизни, свою витальность.
Юрий Казаков. Во сне ты горько плакал. М., «Астрель», 2012, 635 стр.
В однотомник вошли все ранее публиковавшиеся законченные рассказы плюс несколько новелл из «Северного дневника». Расчет явно сделан не на преданного поклонника казаковского творчества, которому мало напечатанного при жизни, а потребно и незавершенное, и наброски, и письма, но скорее на читателя еще не «уловленного», которого можно уже с обложки отослать к одному из лучших рассказов XX века.
Хотелось бы порекомендовать этому читателю начинать чтение либо с начала, либо с конца, но не с середины. Так уж получилось, что два лучших рассказа Казакова, столь разные, стоят один у старта, другой у финиша его пути. «Голубое и зеленое» 1956-го и «Во сне ты горько плакал» 1977-го, каждый из которых — чистая и монолитная вещь .
Наследие Казакова и невелико, и неровно. Шаблоны навязывала официальная линия, но что особенно горько, давление идей, давление этическое дополнялось менее прямым, как бы распыленным давлением эстетическим. Тут уже не цензура, не трусость издателей давила, а стиль эпохи. Ряд рассказов — «Странник», «Легкая жизнь», «Старики» — плоть от плоти хрущевского времени, когда трепетная романтика формы облекала морализаторскую элементарность содержания, будь то кинематограф, поэзия или проза (исключая несколько шедевров). Искусство, по сравнению со сталинским временем, расковалось, но однобоко: вместо «схем» появились «живые люди», но действуют они еще по схеме. Опьянение возможностью изобразить человека , индивидуализировать его и дать целиком, «без купюр», со всеми родимыми пятнами, дурными привычками, манерой вздыхать и манерой сплевывать наталкивается на отсутствие для этого трехмерного героя пространства, где тот мог бы реализовать свою полноту. Отсюда многие рассказы Казакова страдают избытком подробностей при психологически и метафизически копеечной коллизии, порой и вовсе снабженной моральным выводом. «Легкая жизнь! Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так — перекати-поле» («Легкая жизнь»).
Рассказ «Манька» посвящен Паустовскому, но теплой сдержанности прозы «учителя» здесь нет. Хотя героиня дана сложно и бережно, многословие, приложенное к попытке передать стилистикой авторской речи «народный» жизненный мир, оборачивается нервностью тона, как следствие — ощущением нарочитости, фальши.
Но почему при всей дани времени (сконцентрированной, пожалуй, в «Северном дневнике») проза Казакова — среди лучшей за прошлый век? Наверное, потому, что почти в каждом его рассказе, даже многословном, «переслащенном», всегда оставлен небольшой зазор, как бы воздушный коридор для стремления к невозможному. Не того, о котором писал Платонов: «Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души», сопряженного с высокой мечтой и пылом сердца. А того, который растет из догадки о недосказанности судьбы, о ее вечной эскизности. И вечной нехватке места, чтобы дописать до целого.
Белла Улановская. Одинокое письмо: Неопубликованная проза. О творчестве Б. Улановской: Статьи и эссе. Воспоминания. М., «Новое литературное обозрение», 2010, 480 стр.
Текстов Беллы Улановской и текстов о ней в книге поровну, почему книга и выглядит своеобразным hommage. Статьи, посвященные разбору творчества или размышлению над творчеством (Омри Ронен, Борис Рогинский, Григорий Померанц, Кирилл Кобрин и другие), мемуарные эссе, посвященные воссозданию личности с той или иной стороны (Борис Егоров, Д. А. Пригов, Сергей Стратановский, лучшая подруга и спутница в путешествиях по Русскому Северу Татьяна Жидкова и другие), и даже стихи, посвященные Белле Улановской (Сергей Завьялов и Ольга Тимофеева), — все это, следуя за недоопубликованной когда-то прозой, словно подводит черту. Вот и выговорен до конца феномен Беллы Улановской, шедшей по стопам Юрия Казакова (буквально), не как ленинградский филолог продолжавшей традиции охотничьего рассказа и «деревенской прозы», но как прозаик-модернист, чьи опыты в малой форме сопоставимы со стилем французского «нового романа». Между тем кажется, что изданное на сегодня — только подступы, что архив Улановской должен быть обширнее, а наличествующие повести и рассказы суть лишь разработка чего-то главного. Это главное не иллюзорно, оно стоит за ее текстами, но никогда не будет найдено в архиве. Ощутить его можно, если попытаться произнести слово «жизнь», отрезав бритвой Оккама все контекстуальные пошлости и абстракции. Равняясь на название, данное Александром Эткиндом сборнику своих эссе, — «Нон-фикшн по-русски „правда”», можно употребить и слово «правда», не в морально-оценочном смысле, а в том, который по-японски обозначается коно-мама — «как есть».
«Седьмой час вечера. Розовые поверхности — синие тени. Легкие весенние облака.
Пока я писала, еще не стемнело. Так же белеет снег на пруду и озере, но не блестят больше новенькие жердины, их вообще теперь не видно.
В ясном весеннем небе летают черные грачи. Кричат дети на дворе. Восемь часов вечера. Из столовой бегут девчонки в красных сапожках».
(«Внимая наставлениям Кэнко»)
Улановская знает, насколько трудно дается принцип «как есть», насколько искажает прямое переживание неизбежная и невольная рефлексия. «Увиденное и пережитое я передать не могу, потому что оно куда-то задвинулось, ушло куда-то вглубь, зато след его остался, но я не могу его передать адекватно — нет подробностей» («Из книги Обращений»).
Парадоксально по сравнению с Анатолием Гавриловым и Дмитрием Даниловым, для которых (или, поскольку речь не идет о сознательном ученичестве, для восприятия которых) Улановская подготовила почву, а лучше сказать, воздух, у нее в равной мере больше и нон-фикшн, и лирически-личного начала. Секрет Улановской не в том, что это гармоничное соединение наполняет и фабулу «Путешествия в Кашгар», где даже война вымышленная, и бесфабульную структуру так называемой медитативной прозы, составившей нынешнюю книгу.
«По тоням» — первая проба заметок о путешествии вдоль берегов Белого моря, равняющаяся на «Северный дневник» Казакова (Улановская специально побывала в описанных Казаковым деревнях Койда и Майда). «Нюрка», «Егорка», «Рождественский рассказ» и «Возвращение» — наброски художественной прозы, как вполне сюжетной, так и характерно «улановской». «Кельи» — очерк о поездке по старообрядческим скитам. «Внимая наставлениям Кэнко» — вдохновленная «Записками от скуки» Кэнко Хоси и по ходу комментируемая абзацами из упомянутого сочинения «охота» на сложную элементарность жизни. Наконец, «Из книги Обращений» и «Одинокое письмо» — отрыв от Кэнко в новой попытке высказать жизнь через себя как субъекта ее переживания.
«Теперь я поняла, что человек больше доверяет констатации факта, чем своим собственным глазам; у него на глазах происходит действительное, бесспорное событие, живое, но оно еще пока бесформенно, не обговорено, ему еще не придана филологически-литургическая законченность». Диагноз писателям, предпочитающим с этой «законченности» начинать, Улановская выносит безжалостный: «Гностическая ненависть к бытию». В ней самой, при отсутствии и капли сентиментальности, жила любовь к бытию.
Ирина Сироткина. Свободное движение и пластический танец в России. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 328 стр.
Первые кружки, где девушки из московских и петербургских семей практикуют не скованные систематизированной хореографией «античные» пляски, начинают возникать почти сразу после второго (1913 год) визита в Россию Айседоры Дункан. Хотя школа, открытая позднее, уже в советской России, самой Дункан, долго не просуществовала, студии и объединения, возглавляемые теми, кто либо напрямую вдохновлялся опытом первой «босоножки», либо полемизировал с ним, множились и порой проживали бурную жизнь. Непродолжительный (1910 — 1930-е) период, вместивший расцвет деятельности и уход на нелегальное положение многочисленных «ритмических» и «пластических» студий, и рассмотрен в книге.
Речь шла не только об удовольствии от собственной легкости и гибкости. «Свободный танец» был актуальной философией. «С помощью танца Айседора Дункан хотела приблизить приход свободного и счастливого человечества; она обращалась не только к эстетическим чувствам своих современников, но и их евгеническим помыслам…». Мандельштам во время своей непродолжительной работы в Наркомпросе заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школ ратовал за введение обязательного «пластического воспитания»: ведь «все-таки мы эллины» под «варварским небом», а эллин — это гармония духа и тела. Можно вспомнить Козьму Пруткова с его «древним пластическим греком», но кроме шуток: в период предвосхищения и проживания исторических катаклизмов верилось, что человек, овладевший искусством естественно (антитеза классическому балету) и красиво двигаться, гармонизирует свою внутреннюю и внешнюю реальность.
«В новом танце им (создателям „пластического танца”. — М. И. ) виделся росток культуры будущего — культуры нового человечества». Пляска была утопией Серебряного века, когда слово «дионисийство» сделалось паролем людей, искавших утоления охватившей их духовной жажды. Религиозное откровение не мыслилось иначе как через экстаз, порыв. При этом аполлоническое начало было, так сказать, заинтересовано в том, чтобы телесное проявление этого порыва было эстетически привлекательным, смотрелось художественно .
Новый человек — живучая новоевропейская утопия — занимал и мечтателей-большевиков. Государство поддерживало эксперименты над движением и проекты «ритмического» воспитания (вероятно, только разбросанная обстановка 1918 года помешала воплотиться призывам Мандельштама). С трудом вообразимые ныне Высшие мастерские художественного движения и Хореологическая лаборатория, где проводились научные исследования движения человеческого тела, были типичными начинаниями 1920-х, дерзкими, курьезными — и по сути своей ориентированными на мировые тенденции. Но уже к 1930-м советская власть делает ставку на академический балет; ковать нового человека доверено физкультуре. А «свободный танец» постигла участь всего свободного.
Сноска на странице учебника новейшей русской истории развернута в подобающе немаленькую главу.
Ду Фу. Проект Наталии Азаровой. Перевод с китайского. М., «ОГИ», 2012, 296 стр.
Первая при взгляде на книгу мысль такова: хорошо, великий китайский поэт явлен в новых русских переводах, но зачем было переводчику называть свою работу проектом? В самой форме выходных данных, где за именем классика следуют слова «Проект Наталии Азаровой», таится нескромность. Но начав читать сборник стихотворений как научную монографию, то есть с начала, с краткого предисловия составителя (он же переводчик и автор проекта), не миновав и пространное собственно предисловие Александра Уланова, мы поймем, насколько нынешнее издание не обычное юбилейное — к 1300-летию Ду Фу — и даже не обычное новое. Это не просто Ду Фу, по-новому преподнесенный новым переводчиком (как всегда бывает), а действительно Ду Фу Азаровой, Ду Фу как ее концепция современной русской поэзии. Поставленная себе Азаровой задача — внедрить Ду Фу не в русское сознание, а в текущий поэтический процесс, которому он послужит на пользу. Можно не без дерзости сказать, что наследие китайского классика использовано как полигон для эксперимента, имеющего значение за пределами проблем перевода.
«Структура современного русского стиха не только дает новые возможности для поэтического перевода с неродственных языков, но и позволяет найти точки схождения в языке современной русской и средневековой китайской поэзии...
С другой стороны, текст и язык оригинала будят в переводчике стремление трансформировать свой язык…
Таким образом, упрек переводчику — так не говорят по-русски , — можно перефразировать: так потенциально говорят по-русски, так уже говорят по-русски ».
Переводя поэта не на русский язык, а на язык современной русской поэзии, мы развиваем последний... Нечто похожее утверждал Эзра Паунд, когда переводил китайскую поэзию из архива Феннелозы.
Издание-билингва (редкость у нас в случае с литературой, использующей иероглифическое письмо) подготовлено самым тщательным образом. Переводы Наталии Азаровой занимают половину книги или проекта; вторую часть, под названием «Дань Ду Фу», составили стихотворения в переводах двенадцати поэтов: Анны Альчук, Владимира Аристова, Марии Галиной, Татьяны Грауз, Ирины Ермаковой, Николая Звягинцева, Геннадия Каневского, Кирилла Корчагина, Светы Литвак, Ильи Оганджанова, Алексея Прокопьева и Аркадия Штыпеля. Каждая часть снабжена отдельным примечанием китаистов Юлии Дрейзис и Дмитрия Дерепы. В приложении представлены хронология жизни и творчества Ду Фу, эскиз-карта его странствий (начертанная самой Наталией Азаровой), индекс собственных имен и топонимов, а также сведения обо всех участниках проекта.
Леонид Видгоф. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. М., «Астрель», 2012, 703 стр.
Литературная топонимика — пожалуй, наиболее почтенная ветвь «занимательного литературоведения». Как незаменимая для, так сказать, безболезненной (в противовес различным «анти») популяризации, она последние годы часто радовала. Можно назвать «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» Мирона Петровского, «Москва Пастернака» А. Сергеевой-Клятис и В. Смолицкого.
Разница между этими книгами и книгой Леонида Видгофа — в большей прихотливости задачи. В случае Булгакова и Пастернака речь идет о родных городах, отношения с которыми не приходится выстраивать. Видгоф, несмотря на заявленный жанр «книга-экскурсия» (дань «занимательности», надо думать), больше чем связывает места в тексте с местами в городе. Помимо необходимого следования хронологии, предполагающего известную процессуальность, он рассказывает историю, развертывает коллизию, у которой есть начало и конец. Книга Видгофа — о том, как строились отношения Мандельштама и Москвы, отношения мучительные, то взаимные, то односторонние, чередующие иллюзии с нелицеприятием. «Столица непотребная» проходит через судьбу поэта как живое и становящееся все более родным существо. Потому-то, утверждая названием трудную, но все же любовь поэта к Москве, автор берет вместо просящейся строчки «И ты, Москва, сестра моя, легка» не попавшую в окончательный вариант стихотворения «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (почему-то все же отброшенную…).
Все здесь построено на отторжении и любовании. До революции Москва для Мандельштама — это собственно Россия, все, что в ней не Европа. После революции, с перенесением столицы, Москва — это и власть, со всей ее отвратительностью «рук брадобрея», и новая жизнь, которую необходимо принять, и народ, ради которого ее необходимо принять. При этом хрестоматийные, заношенные параллели «Петербург — Европа, Москва — Азия» в дальнейшем не только крепнут, но углубляются, приводят к более остро-парадоксальному взгляду: не только ближневосточная деспотия, но и дальневосточная бесформенность, амбивалентность («буддизм», «Пекин»). Но в любовании также всегда присутствует личное начало, женское лицо . Москва-1 — это Марина Цветаева, в 1916 году показавшая Мандельштаму Кремль. Москва-2 — Еликонида (Лиля) Попова, жена актера Владимира Яхонтова, искренняя сталинистка, с которой связана поездка на автомобиле по «новой Москве» 1930-х.
Делая «ювелирный» как по въедливости, так и по деликатности разбор не однажды анализированных текстов, интерпретируя отдельные образы, находя возможные их первоисточники, Видгоф не пытается подверстать какую бы то ни было концепцию, видение Мандельштама «в целом». Ни как поэта иудейского, ни как поэта христианского, ни как поэта советского, несоветского, антисоветского, ни как наследника русской поэзии XIX века, ни как модерниста. Перед нами плод вдохновенно-бережной работы с фактами.
Непременную визуальную часть «экскурсии» являет богатый фотоматериал, а в приложении дан, кажется, наиполнейший перечень «мандельштамовских» мест Москвы.
Константин Азадовский. Рильке и Россия. Статьи и публикации. М., «Новое литературное обозрение», 2011, 432 стр.
Основное содержимое книги — статьи и заметки, освещающие след, который оставила в судьбе Рильке его «духовная родина», и (чуть менее) след самого Рильке в судьбе некоторых из тех, кого он связывал с боготворимой страной. Цветаева, известные по биографии Пастернака сестры Высоцкие, поэт и переводчик Александр Биск, основательница русского театра марионеток в Париже Юлия Сазонова.
Два важных узла в предыдущем пассаже: «боготворимая страна» и «связывал». Всех этих людей мы видим сквозь двойной фильтр. Во-первых, буквально боготворимая, граничащая с Богом Россия не есть Россия доподлинная (на что, то участливо, то раздраженно, намекает Бенуа в письмах к Рильке). Во-вторых, связь представителей этой фантомной страны с обеими Россиями, «Россией Рильке» и Россией собственно, зачастую также если и не идеализирована, то пересоздана.
Феномен «Рильке и Россия» — редкий в истории литературы и мировой истории чувств пример полной слепоты, редкий для выдающегося таланта (если кому угодно, гения) случай преданного, вдохновенного непонимания. Это еще и случай — счастливый ли? — воздушного замка, который был осаждаем, колебался, но так до конца и не развеялся. Несостоявшееся переселение в Россию компенсировалось для Рильке переселением, какому позавидует любой сказочник, визионер и ребенок — в собственный вымысел, в романтическую утопию. «Свое специфическое восприятие России Рильке сохранит до конца жизни. Богоизбранная страна, наивный и набожный народ-художник и русский бог, что явится в будущем, — таков идеальный образ, сложившийся у поэта в 1899 — 1900 годах и созданный преимущественно его поэтической фантазией», — суховато констатирует автор.
«Розовые очки» заведут Рильке довольно далеко, когда придется давать оценку русской революции. «„Русский мужик, это бесконечно выносливый и творческий элемент России, — пишет далее Рильке, — уже приступил к своей великой работе: созидая глубокие и прочные связи с Востоком, он использует большевизм ‘в качестве пугала‘, чтобы оградить себя от западных людишек…” <…> Созданный поэтом миф о России нигде не звучит таким трагическим диссонансом…»
В какой мере этот миф создан Рильке, в какой мере он специфически личный — и в какой пересекается с общими местами всех мифологий «особого пути», от славянофильства до евразийства, в какой — с западноевропейскими штампами… Не поднесено ли зеркало к «Умом Россию не понять…» Тютчева, к «Пушкинской речи», к блоковским «Скифам», вызвавшим представимое восхищение Рильке (теме «Рильке и Блок», как и теме «Рильке и Вячеслав Иванов», посвящены отдельные статьи в книге), ко всем попыткам русских мечтателей вымечтать национальный дух.
История же чувств дает иной, чем история идей, ракурс. Россия навсегда осталась для Рильке потерянным раем, вечным путешествием в обществе любимой — тогда и до самой смерти — женщины.
В. В. Бибихин. Слово и событие. Писатель и литература. М., «Русский Фонд Содействия Образованию и Науке», 2010, 416 стр.
Два сборника, сведенные под одной обложкой, были подготовлены самим автором, не успевшим выпустить первый и завершить работу над вторым. Сдвоенные, включившие материалы разных лет, они охватывают все сферы деятельности, все интересы Владимира Вениаминовича Бибихина. Сама постановка в пару слова и события задает направленность от теории к практике, от потенции к воплощению, от текста к поступку. «Философия языка» (так названо первое эссе) по Бибихину выступает как философия понимания: носителями двух разных языков — друг друга, носителем одного языка — текста на другом языке, наконец, носителем языка — самого этого языка. Понять Библию, поэзию, античную философию, ребенка возможно лишь приняв их такими, какие они есть, приняв непонимание как естественный начальный этап понимания. И сущность перевода, которому посвящены несколько статей, заключается в понимании через непонимание, рождающем новый смысл. «Поскольку перевод есть проигрывание заново, переоформление данной формы по правилам общечеловеческого языка, он… просто и есть тот же самый оригинал, только отлитый в другую частную форму и продолжающий жить в этой своей новой форме… Каким бы языком он (переводчик. — М. И. ) реально ни пользовался, пользуясь им, он утверждает его как всемирный».
Бибихин (как и любимый им Розанов) — очень русский философ: о чем бы он ни писал, он утверждает первенство жизни перед системой. Провозглашает «авторитет языка» и развенчивает лингвистику, расшатавшую этот авторитет «тем, что его игнорировала, и тем, что перенесла понятие языка на системы знаков, а главное тем, что сводит фонетику к фонологии, грамматику к логике, семантику к лексике». Язык не система, а живая реальность. «Самим фактом своего существования лингвистика внушает, что язык не может объяснить себя… В языке есть много областей, которые можно рационализировать, но в своем существе он структура, ускользающая от сознания».
Отсюда парадоксальное на первый взгляд для ученого-гуманитария недоверие к толкованию, любовь к «букве». Но эта однажды вставшая на свое место «буква» священного писания, просто древнего или поэтического текста — живее и сильнее позднейших игр не-понимающей мысли. Слово мудрее нас. Особенно слово подлинной литературы, которое свободно и «значит всегда больше, чем может догадаться самый быстрый умом и осмотрительный автор». Как бы ни был объемен багаж знаний, едва ли он гарантирует то главное понимание, которое не может не продолжиться в действии, не разрешиться событием. Понимать говорящий в нас Логос не научит герменевтика, но только наше желание услышать его и готовность откликнуться. В эссе, давшем название сборнику, сказано как будто с решимостью: «Событию-поступку соразмерно слово, и, похоже, собственно только оно».
Стиль Бибихина не спутаешь ни с чьим. Даже неожиданный синтаксис обладает какой-то магической мягкой мощью убеждения («Один поэт умеет восстановить значимость тому, что брошено на ветер»).
Герои второй части книги — «Писатель и литература»: Розанов, Кьеркегор, Арто, Гоголь, Достоевский, Надсон, Грэм Грин, Маканин. Здесь же переводы двух эссе Ионеско и двух рассказов Курцио Малапарте. И в самом этом составе тоже прочитывается некая парадоксальность, а вернее, тихий и дерзкий отказ замечать любую схематику, перегородки и этажи.
Андрей Бауман. Тысячелетник. М., «Русский Гулливер», 2012, 196 стр.
Неверно было бы назвать Андрея Баумана традиционным поэтом. Он поэт традиций — или, если угодно, Традиции. Поэт традиционный никогда о традиции не думает, а следует какой-нибудь одной безотчетно. Традиционность делает поэзию не вневременной, а несвоевременной, относящейся к этакому Passato remoto, о котором учебник латыни говорит, что оно «…выражает действие, которое развивалось и завершилось в прошлом, но в данном случае действие не имеет никакой связи с настоящим». Не станем кривить душой: в первом авторском сборнике, куда вошли стихи разных лет, присутствует и незначительная, однако заметная часть, сработанная поэтом традиционным , хотя умелым и зорким. Но преобладающая часть показывает, что тот поэт остался этапом роста.
Лучшее у Баумана на сегодня — тексты, написанные той самой «тропарной формой», о которой говорит Наталия Черных.
Среди традиций, в контексте которых следует воспринимать поэзию Баумана, Владимир Гандельсман называет Хлебникова, русскую поэзию XVIII века, старославянские и древнегреческие памятники, богословскую и патристическую литературу; добавим сюда и европейскую поэзию XX века, прежде всего Целана. Бауман ведет диалог с каждой из линий по очереди. Поэтика его не то что гибка, а многолика, и у этой широкой амплитуды есть философское обоснование — в идее Единства как множественности, человечества как братства. Трем (!) небольшим эссе о поэте предпослана подборка цитат, пестрая по составу источников (от Джонна Донна до Жака Деррида, от Салмана Рушди до Иоанна Лествичника), но скрепленная одной темой: жизнь мира как общее дело — литургия, смысл, кульминация которой — евхаристия; причастность Богу через согласие причаститься Другому, будь то другое существо или все мироздание. Поэтому когда Бауман пишет стихотворение терцинами и заканчивает его парафразом из Данте, то можно, конечно, говорить об интертекстуальности, но тогда мы должны согласиться, что видим лишь одну из веревок, за которые тянет звонарь. Что мы слышим звон и не знаем не только откуда он, но и куда .
Пока еще не он и не она,
не Я навстречу Ты,
небытие-собой еще легко,
на старт стараний
не выйдя к миру. Лепет-пелена.
Из темной теплоты
в артериях струится молоко
тишайшей рани.
(«Дитя»)
Бауман действует с открытым забралом, развивая в авторском послесловии мысль о том, что «поэтическое слово по природе своей литургично». Видение в поэте священнослужителя, соединяющего творение с Творцом, можно считать для Баумана той традицией-стратегией, от которой производны традиции-тактики. Бауман скручивает ленту Мебиуса, в которой нерасторжимы один как множество (автор — «веревки»-поэтики) и множество как один (стержневой мотив его поэзии). И ядром книги кажется никак не выделенный автором — очевидно, во избежание патетики — «исторический» цикл, своеобразная летопись трагедий XX века. Предреволюционная Россия, Первая мировая, Вторая мировая, блокада, сталинский террор, Колыма, Хиросима... Голос общности, состоящей из каждого, слышен тут особенно полновесно. Субъект цикла не безличен, а представляет собой коллективную личность, цельную множественность — хор (вспомним слова Бродского о гибели хора!). Уже сама попытка реабилитировать возможность выйти за пределы исторического дискурса к эмоциональному обобщению , образу национального целого есть достижение. Блестящ или не блестящ результат в каждом конкретном случае, но Бауман справился с труднейшей задачей: мы видим не «стихи о Родине» как заздравный жанр, а стихи о Родине . «Родина человеку — другой человек, / и дом, и хлеб, и вино: / сжата пшеница, / и стол накрыт, / светом подробных морщинок лучатся усталые руки, / неторопливым светом земли, / сестринским и материнским».
Константин Кравцов не побоялся в своем предисловии коснуться болевой точки. В наши дни, по его мнению, Бауман «едва ли будет принят за своего даже „профессиональным сообществом”: слишком нестандартен даже для „архаиста”». Над этим печальным и дерзким прогнозом стоит задуматься — припомнив (не менее дерзко), кто получил от когдатошних поборников актуальности прозвище «мраморная муха».
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ
БАЛАГАНЧИК
Новая экранизация «Анны Карениной», снятая Джо Райтом по сценарию Тома Стоппарда, наделала много шума, вызвав массу восторгов и возмущения. Я готова присоединиться к восторгам, хотя Кира Найтли, снявшаяся в главной роли, — самая вульгарная Каренина из всех, что мы видели на экране, а фильм в целом — самый радикальный эстетический вызов первоисточнику. Это даже не комикс. Это такая картонная игра по мотивам великого романа. Театрик с ложами, партером, рампой, кулисами и закулисьем. Прямо в кадре меняется задник, и с улицы с нарисованной колокольней мы попадаем в нарядную гостиную Кити… Тут же бегает игрушечный поезд, тут же — детская в доме Облонских, устроенная как кукольный дом. За раздвижными воротами в глубине сцены — настоящие снега и луга, но по ним бродят дизайнерски одетые бабы, и высится деревенский дом Левина с куполами (что-то среднее между сельской церковью и швейцарским шале)… Но самое удивительное тут — персонажи; очаровательные, стройные куклы в роскошных нарядах, которые танцуют и демонстрируют «шутки, свойственные театру», а когда надо — переживают и разговаривают по системе Станиславского, как живые.
Игра происходит во всех регистрах — от ярмарочного балагана до сугубого реализма, что позволяет: а) ловко упаковать 800-страничный роман в два часа экранного действия; б) пустить в глаза восхищенному зрителю фейерверк метафор, из которых центральная: свет — театр, — вполне в духе «Срывателя всех и всяческих масок»; в) и самое главное, — «оторваться», освободиться от гипноза толстовского текста с его дотошным психологизмом и неподъемной серьезностью.
Отношения фильма с романом — дерзкий поединок, коррида. Недаром в первой же сцене утреннего бритья Стивы Облонского (Мэттью Макфейден) цирюльник предстает в костюме тореадора: вжик, вжик — и подбородок Стивы сияет. И сам Стива жизнерадостно отправляет в детскую большую бутафорскую грушу и тоже сияет в предвкушении упоительнейшей игры. Ну, и пошло — поехало. Долли на авансцене целует одного за другим вереницу детей. Стива тискает гувернантку в укромном закутке за кулисами… Массовка в присутствии по свистку ритмично штампует бумаги, а сняв вицмундиры и выпростав из-под них длинные фартуки, мгновенно превращает пространство канцелярии в ресторан, где Стива обедает с Левиным (Домналл Глисон). Анна прощается с сыном на фоне игрушечной железной дороги, а знакомится с Вронским (Аарон Тейлор-Джонсон) на вокзале в Москве, вблизи настоящего, пышно заиндевевшего паровоза. Не перестаешь восхищаться стремительности и изяществу, с какими совершается в фильме перемена мест действия. Вот рыжий клоун Левин, столкнувшись в гостиной у Кити (Алисия Викандр) с бравым и хорошеньким, как вербный херувим, Вронским (они сталкиваются буквально, плечом к плечу), выходит с разбитым сердцем, поднимается по деревянной лестнице на обшарпанные, рабочие колосники и попадает в нумера, где ютится его непутевый, спившийся брат Николай. И оттуда с завистью и презрением поглядывает вниз, на сцену, где разгуливают разряженные гости в доме Щербацких.
О Толстовском сюжете в этом вихре пространственных метаморфоз авторы тоже не забывают. На хрестоматийных, узловых сценах действие услужливо притормаживает, и мы можем со всеми нюансами разглядеть, как Анна утешает смешно и некрасиво плачущую Долли или рассуждает с румяной Кити про окутанную голубым туманом пору девичества. Все основные фабульные вехи на месте и лишь слегка утрированы, остранены. Так, например, в сцене бала режиссер выделяет Кити недорослого кавалера лет пятнадцати, подчеркивая, что она еще играет в команде юниоров, в то время как у Анны с Вронским все «по-взрослому» — дерзкая стрельба глазами, пьянка пацанов (пардон, офицеров) на балконе и удивительный танец — гибрид вальса с мазуркой, который в какой-то момент почти превращается в откровенное, полное страсти танго.
При этом условная театральность нисколько не препятствует авторам фильма вдаваться в мельчайшие бытовые детали — даже те, что в романе упомянуты туманно и вскользь. Так, смутные подозрения вечно беременной Долли по поводу устройства семей с одним или двумя детьми превращаются на экране в хрустальную коробочку с презервативами, которую Алексей Александрович Каренин торжественно достает из шкафчика перед тем, как лечь в супружескую кровать. А опийная настойка, которой Анна глушит свою тоску, — показана крупным планом и становится едва ли не основной причиной ее погибели.
И даже абсолютно «непереводимые» на визуальный язык фантастические Толстовские описания любовного транса типа: «Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее», — авторы находят способ метафорически показать. Сцене решающего объяснения с Вронским в гостиной Бетси Тверской: «…я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас…» — предшествует фейерверк, который Анна, запрокинув голову, созерцает сквозь раскрывшийся потолок театра, а Вронский из окна кареты; после чего велит кучеру повернуть и гнать к дому Тверских. Это и есть любовная магия, взрыв чувств, экстаз и «снос крыши».
Так, виртуозно балансируя между школой представления и стихией переживания, авторы-тореадоры уверенно выигрывают первый раунд поединка с романом-быком. Вплоть до сцены скачек, где массовка, оцепленная канатами, толпится в партере и глазеет на гарцующих по периметру всадников; а сама скачка происходит на сцене, откуда вместе с лошадью в роковой миг валится Вронский, — зритель безотрывно и зачарованно следит за открывающимися перед ним все новыми и, кажется, неисчерпаемыми возможностями театрализованного пространства. Но потом — то ли зритель привыкает, то ли авторы устают — эффектный прием как-то перестает работать.
Нет, в фильме и дальше встречаются совершенно блистательные «театральные» метафоры: к примеру, когда Каренин, отлученный от супружеского ложа, униженный и оскорбленный, садится в кресло на авансцене, спрашивая: «За что? Чем я заслужил это?», — мы видим его со спины, со стороны сцены, в свете керосиновых ламп, которыми освещена рампа, и можем только воображать, как выглядит из зрительного зала его семейный позор, выставленный на всеобщее обозрение. Однако действие в целом перетекает в какие-то вполне обычные интерьеры, игра с пространством отходит на второй план, а на первый выдвигается собственно фабула. Роман-бык берет реванш, подминая тореадора, и на место радостной эйфории приходит мучительное ожидание катастрофы. Невольно ловишь себя на мысли: «Господи! Ну скорей бы она уже бросилась под свой поезд!», — ибо наблюдать страдания Анны невыносимо — все равно, что следить за агонией раненого животного.
«Анна Каренина» — самый экранизируемый роман русской литературы. Это давно уже миф, живущий в культуре своей собственной жизнью, независимо от толстовского текста. Миф о прекрасной, богатой светской женщине, раздавленной последствиями беззаконной страсти. При этом конкретные причины ее погибели, силовые линии внутри любовного треугольника и даже характеры главных героев от фильма к фильму радикально меняются.
В картине 1935 года с Гретой Гарбо Каренин (Бэзил Рэтбоун) — самовлюбленный болван, а Анна и Вронский (Фредрик Марч) — идеальная пара, два ярких, незаурядных человека, которые могли бы жить долго и счастливо, если бы не роковое стечение обстоятельств. Их, по сути, разлучает ошибка: Вронский — офицер и джентльмен — тайком отправляется на Турецкую войну, Анна узнает об этом, видит его прощание на вокзале с матерью и княжной Сорокиной, делает поспешные выводы, и…
В фильме 1948 года с Вивьен Ли Анна — стареющая фам фаталь, которая бросается под поезд от того, что не в силах удержать бессмысленного молодого любовника.
В советской классической экранизации Александра Зархи (1967) идеальны все: Анна — Самойлова, Каренин — Гриценко, Вронский — Лановой, Кити — Вертинская, Долли — Савина, Стива — Яковлев… Идеален сам этот канувший в небытие мир возвышенных чувств, прекрасных манер, дворянских гнезд и великосветских салонов, где неземной музыкой журчит изысканная французская речь… И Анна гибнет именно в силу своей идеальности — слишком тонкая, слишком трепетная душевная организация, чтобы вынести муки совести и чувство вины.
В голливудском фильме 1997 года с Софи Марсо Анна — покорная овечка с влажными глазами и полуоткрытым прелестным ртом, безраздельно покорившаяся злодейскому обаянию Вронского в исполнении Шона Бина.
А в недавней русской экранизации Сергея Соловьева (2009) Вронский — Владимир Бойко, взятый, похоже, на эту роль из-за внешнего сходства с Василием Лановым, — вообще никто и звать никак. Сентиментальный сосунок, которого только в состоянии полного помрачения можно было предпочесть мудрому, зрелому, самозабвенно любящему жену Каренину в исполнении Олега Янковского. И утонченная умница и красавица Анна (Татьяна Друбич), осознав свою роковую ошибку, бросается под паровоз, ибо главная любовь ее жизни разрушена.
Для западных интерпретаторов «Анна Каренина» — классический «русский текст», где любая, самая банальная бытовая коллизия развивается по самому катастрофическому сценарию, смерть торжествует, и лезет из всех щелей скрытый трагизм бытия [14] . В русско-советском кино «Анна Каренина» — миф о погибшей красоте, об ушедшей культуре, об «утраченном времени» и разрушенном совершенстве [15] . Но так или иначе на «святое» — на аристократизм, светский лоск и изысканно сложные терзания Анны никто доселе специально не посягал.
В фильме Райта-Стоппарда Анна — не аристократка ни разу. Это «Анна Каренина» времен постмодерна, когда разрушение сословного общества — давно свершившийся факт; сексуальная свобода женщинами давным-давно отвоевана; когда принцессы крови выходят замуж за своих фитнес-инструкторов, и это никого не шокирует, напротив — приветствуется, как способ поддержания в народе монархических чувств… Великосветские манеры, замысловатые предрассудки и ханжеская половая мораль уже перестали быть действенным средством предохранения элитарного слоя от растворения в безликой массе «подлых людей». Все это более не жестокая, ломающая судьбы реальность — но показуха, игра, балаган. В массовом обществе элита формируется по-другому — не за счет внешних признаков доминантности и жестокой социальной дрессуры, а за счет внутренней зрелости, широты спектра тех поведенческих реакций, что находятся в распоряжении индивида.
В картине Райта нет никаких непереходимых социальных барьеров. Обшарпанный мир-театрик един. Простолюдины на улицах танцуют те же причудливые танцы, что и господа на балу, а у супруги царского сановника заусенцы на пальцах, неровные зубы и манеры как у звезды деревенской дискотеки. Юная красотка с крепкой, волевой челюстью, она мгновенно западает на Вронского, дерзко кокетничает с ним, отбивает у Кити, упоенно сводит с ума… Затем отдается практически без колебаний, вдохновенно, взасос целуется на зеленой траве, и принимается срывать с себя платье, еще не добежав до условленного места свидания… Женщина без предрассудков, не то чтобы переступившая через них, но даже и не догадывающаяся об их существовании. Трагически незрелое существо, неспособное заглянуть дальше страстного и сиюминутного «хочу», а на любые препятствия, конфликты и сложности реагирующее истерикой, попытками манипулировать, злыми слезами и припадками саморазрушения. Ей под стать столь же юный, незрелый Вронский, абсолютно не знающий, как быть со стихийными всплесками ее темперамента, и легкомысленно подсадивший возлюбленную на наркоту. Понятно, что связь их обречена, и любящий, «взрослый» Каренин, похоже, только потому и не разводится с Анной, что ждет, когда она тоже, наконец, повзрослеет, перебесится и вернется к нему. В принципе мог бы и дождаться, если бы не наркотик, который губит ее прежде, чем она успевает созреть.
В этом фильме нет богатых и бедных, аристократов и плебеев, плохих и хороших, правых и виноватых… Есть неразумные дети и невеселые взрослые, не знающие, как им помочь. Дети — это и Анна, и Вронский, и Левин — упертый и трогательный мономан в крестьянском платье и с заправленными за уши огненно-рыжими патлами, и Кити, похожая на новую, накрахмаленную куклу — только из магазина, и смешная, несчастная Долли… А взрослых, собственно, двое — Каренин и Стива.
Каренин — застегнутый на все пуговицы рогоносец, с любящим, раненым взглядом за стеклышками пенсне, который страдает, ревнует и при этом целует ноги своей непутевой жене. Он готов все простить, взять на себя вину, подставить другую щеку… Она не готова. Они — в разных возрастных категориях, а человека, как и редиску, насильно созреть не заставишь. И Каренину только и остается следить, как жена истекает кровью, угодив в капкан столь желанной для нее страсти. В финале он с книгой сидит на цветущем лугу и пасет двух оставшихся от Анны детей — Сережу и маленькую Аню. Может, хоть эти вырастут…
Стива же — благодушный, снисходительный циник — ни от кого ничего не ждет, принимая жизнь и людей такими, как они есть. Анне это, правда, тоже не помогает.
Итак: Анна — трагическая хабалка, Вронский — ничтожество, Каренин — любящий папочка, Левин — клоун… Величайший реалистический роман всех времен и народов превращен в какой-то, извиняюсь за выражение, — балаган. Что остается тут от Толстого?
Все. Самое главное.
Ведь если взглянуть на Толстовский роман и миф широко, то речь тут вовсе не о свободной любви. У Толстого ее нет, есть разрушительная страсть, которую он довольно ханжески осуждает. А создатели фильмов всякий раз подставляют на это место что-то свое, и получается, перефразируя Толстого, — «сколько экранизаций, столько — родов любви». Речь не о давлении социума на человека, не о ханжеской светской морали — где она, та мораль? Не о разрушении традиционного общества, которое в России разрушено сто лет назад, в Европе и того раньше, что нисколько не сказывается на актуальности толстовского текста.
Главное здесь — тот пласт бытия, пожизненным пленником и гениальным описателем которого был Толстой. Пласт преимущественно витального в человеке и человечестве с его неотразимой прелестью и душной, чудовищной безысходностью. Здесь все — противоречие, счастье и мука одновременно, напор жизни, сквозь которую цинично скалится смерть, восторг и ужас борьбы за существование. И чем сильнее, ярче витальное явлено в человеке, тем больнее в своем стремлении жить он ранит себя и других. Противоречия можно смягчить приверженностью общей колее жизни или замазать ложью. Но действие романа происходит в эпоху перемен, когда общая колея размывается, а лжи Толстой не приемлет. Духовное измерение жизни было ему по-настоящему недоступно, он заменял его какими-то бесплодными умственными конструкциями и со всей своей звериной чуткостью обречен был вечно вариться в этом стихийном, витальном котле, где варится вместе с ним 99% падшего человечества.
Тут, на этом уровне бытия и происходит в основном человеческая история. Традиционное общество сменяется миром модерна. На смену ему приходит «бетономешалка» глобальной цивилизации. Исчезают сословия, институты, социальные формы, меняются мораль и природа социальных противостояний, все упрощается, смешивается, выравнивается, но по-прежнему страстная жажда жизни оборачивается невыносимыми страданиями и мучительной смертью. И выхода нет. На витальном уровне его нет уж точно.
«Анна Каренина» — вечный роман, роман о грехопадении, точнее — о неисцелимых ранах и неизбывных противоречиях, являющихся уделом наличного человечества. И экранизировать его сегодня можно, вероятно, только так, как это сделали Райт со Стоппардом, — в форме детской игры, со всем трагическим легкомыслием, свойственным нашему инфантильному времени.
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ С ПАВЛОМ КРЮЧКОВЫМ
Фрида и Фридл (ч. 1)
Мне кажется, более всего на свете она любила маленьких детей. Она знала их во множестве, собирала и как превеликую радость показывала друзьям их фотографии — грудные и постарше — записывала детские слова, монологи и диалоги; дружила с детьми — ответственно и строго, по-учительски, и в то же время талантливо, весело, так что и со стороны было весело видеть ее вместе с детьми.
Лидия Чуковская, «Памяти Фриды»
Она излучала особое, материнское тепло.
Георг Айслер, художник (ученик Фредерики Дикер)
Наша рубрика адресована взрослым, — которым мы рассказываем преимущественно о произведениях, читаемых нашими детьми самостоятельно, или о текстах, читаемых взрослыми — детям — вслух. Но сегодня ее название пусть притянет несколько иной смысл, сохраняя ключевым слово «дети». Я чувствую себя обязанным представить тут два совсем не детских произведения. И — двух героинь, посвятивших себя детям и во многом воплотившихся в заботе о них. Это русская журналистка и писательница Фрида Вигдорова (1915 — 1965) и австрийская художница и педагог Фридл Дикер-Брандейс (1898 — 1944). Подчеркну, что обе женщины по своему происхождению были еврейки.
В судьбе и той и другой случились события, принесшие каждой из них (одной при жизни, другой — посмертно) — мировую известность: Вигдорова законспектировала заседания позорного суда над поэтом Иосифом Бродским в начале 1964 года, и эта запись широко разошлась по миру; а Фредерика Дикер с 1943 по 1944 год обучала детей в концлагере чешского городка Терезин рисованию и занималась с ними искусствотерапией.
Фрида Абрамовна умерла от рака в Москве, сегодня ее художественные книги и журналистские труды понемногу переиздаются, публикуются и материалы из домашнего архива [16] . Фридл погибла от нацизма в Биркенау, а проще говоря, в Освенциме, среди миллиона других евреев. Сегодня ее картины стоят больших денег, а выставки проходят по всему свету (как и рисунки ее маленьких учеников).
Помянуть здесь этих двух великих подвижниц меня побудили две публикации, которые, надеюсь, привлекли и еще привлекут внимание — особенно! — тех из нас, кто пребывает в нелегком статусе родителя, тех, кто всерьез думает о том, как воспитывать и любить детей. И что в этой связи делать с самими собой, любимыми, что же такое особенное искать и обнаруживать в самих себе, могущее пригодиться детям?
Итак, в течение почти двух лет (2010 — 2011) ставший, кажется, уже полусуществующим журнал «Семья и школа» [17] публиковал заветную книгу Фриды Вигдоровой «Девочки (дневник матери)». В свое время эти дневники в той или иной мере были известны: Фрида Абрамовна давала их читать друзьям и знакомым (Корней Чуковский упоминал рукопись в «От двух до пяти» и цитировал из нее), художественно обработанные извлечения из дневника под названием «Маша и Катя» Вигдорова готовила для так и не вышедшего из печати и загубленного цензурой тома «Литературной Москвы».
«Девочки» так и не вышли в свет, Ф. А. оставила их своему близкому другу — Лидии Чуковской, которая подготовила их для печати (и дала то самое название — «Девочки (дневник матери)» и даже сдала в работу издательства «Просвещение». И в апреле 1968 года записала в своем дневнике: «У меня надежды на выход этой книги, да еще в этом, темнейшем, изд-стве, да еще сейчас, — нету никакой. Уж очень она очаровательная, домашняя, талантливая. Но мой долг исполнен». В конце концов издательство отговорилось реорганизацией (имена автора и публикатора в это время еще и были в опале у властей), и рукопись постигла судьба Атлантиды. Но, как видим, не навсегда. Публикацию выполнила — сократив и одновременно расширив текст — младшая дочь Фриды Абрамовны и ее наследница — Александра Александровна Раскина, живущая ныне за границей. Сегодня, читая этот дневник (а дочь Саша присутствует в нем с рождения и до двенадцати с небольшим лет), рассматривая фотографии и живописные изображения, я наткнулся на одно удивительное факсимиле. На послание человека, который назвал автора дневника «большим сердцем, самой лучшей женщиной, какую я знал за последние 30 лет». На доброе и шутливое письмо от Корнея Чуковского, адресованное дочери автора и одной из героинь «Девочек», причем адресованное в тот самый год, внутри которого я пишу эти заметки.
Правда, Корней Иванович несколько ошибся в своих расчетах, 2013-й превратился у него в 2025-й, но тем не менее: «Дорогая Саша. Спасибо Тебе и за лягушку, и за белого медведя, и за лисицу, и за ворону, и за кролика и за цветы, — синие, желтые, красные, — которыми окружено твое письмо. Твое поздравление доставило мне радость. В 2025 году тебе тоже будет 71 год и так как по некоторым причинам у меня не будет возможности поздравить тебя в 2025 году, спешу заранее принести тебе свои поздравления. И тоже рисую кое-какие картинки. Вот это — бабочка, залетевшая сегодня к нам в окно и усевшаяся на кухаркин напёрсток. Так как в 2025 году напёрстков уже не будет (все будут шить машинами), я нарисовал его особенно тщательно. Бабочка у меня не вышла, но напёрсток как живой. <…> Привет Маме, Папе и Гале. Твой друг Чуковский (Корней Иванович, род. 1882)».
Жанр такой книги, которую создала Фрида Вигдорова, хоть и малыми проявлениями, но в истории нашей словесности — существует, взять хотя бы «Нашу Машу» Л. Пантелеева. Я догадываюсь, что существовали и существуют (пусть единицы, но все-таки) и совсем не «литературные» люди, бравшиеся за подобное дело. Но писательский случай — особый, ведь точная, фиксирующая событие, поступок или детское высказывание запись тут может быть преображена в искусство. В послесловии к одной из книг Вигдоровой Лидия Чуковская писала о своеобразии писательско-журналистского дара своей любимой Фриды, об особом качестве ее записей: «То, что сделаны они на лету, не помешало им: они вполне точны и вполне завершены. И достоверность, точность, которая составляет их прелесть и силу, — не стенографическая, а самая драгоценная на свете: художественная».
Я понимаю, что времена изменились. Что ушла советская эпоха — своеобразно, интересно и крайне драматично отразившаяся в этих записях, в характерах и становлениях героинь. Что преломилась сама антропология — что любой современный ребенок в сравнении с этими девочками середины сороковых-пятидесятых годов прошлого выглядит просто каким-то инопланетянином. Что, скорее всего, книга покажется многим из тех, кто прочитает ее, чем-то вроде «памятника домашней педагогике». Изменилось все — время, нравы, язык, характеры, страна и мир, наконец.
Но главное-то осталось: это те же самые дети и те же самые мать с отцом (дневник чуть-чуть полифоничен: глава семейства, писатель Александр Раскин оставил тут и свои записи). «Девочки» пропитаны, если угодно, драгоценным веществом родительской любви, сущность которой неизменна. И те испытания и искушения, которым время от времени подвергаются и автор и ее героини, — тоже ведь в основе своей извечны, как восход солнца.
Читая, я настолько сдружился с Сашей и Галей [18] , до такой степени привязался к их родителям, что, после того, как записи завершились, долго не мог с ними мысленно проститься.
Если когда-нибудь «Девочки (дневник матери)» будут изданы отдельной книгой, мне бы очень хотелось приложением к ней видеть и «Памяти Фриды» — Лидии Чуковской, вот так — книгу в книге. Наверное, если бы эти записи вышли в шестидесятые, отдельного рассказа об авторе и не потребовалось бы: Вигдорову знали все. Она была, что называется, народным заступником и положила жизнь свою «за други своя». Но теперь, несмотря на переиздания, ее имя в читательском сознании существует исключительно как приложение к судьбе нашего знаменитого нобелиата. А это не вполне справедливо.
Впрочем, ее материнское простодушно-исповедальное «отражение» в этих записях — замечательно.
Расставаясь с «Девочками», приведу два фрагмента — от 4 и 9 декабря 1946 года (Гале Кулаковской 9 лет 4 месяца, Саше Раскиной 4 года и 2 с половиной месяца).
« 4 декабря 46.
Саша:
— Мама, люби меня больше, чем Галю. Посмотри: она сосет палец, в школе ей поставили тройку... Она грубая... Люби меня, пожалуйста, больше.
* Мы с Сашей пришли в школу за Галей. Сидим в вестибюле, ждем. Саша оглядывается, осматривается. Находит глазами плакат и читает по слогам: „Учиться, учиться, учиться!” и спрашивает:
— Мама, что это их так уговаривают учиться?
* Вчера были на именинах у Паши. На прощанье я сказала имениннику:
— До свидания, Паша, поцелуемся.
— Только не с тобой! — воскликнул он и тут же заключил в объятия Сашу.
Очень у него это темпераментно получилось.
Ему исполнилось пять лет. Он был потрясен количеством подарков, шумом, кричал, дрался, но всё в каком-то упоении, без злости.
* Саша с падежами не в ладу. Она говорит: „Я тебя люблю, как я могу тебя не любить, у меня же не шесть матерь?” Она же: „Четыре детей”.
9 декабря 46.
Саша, задумчиво:
— Мама, почему так смешно получается: сначала человека нет. Потом он родится. Потом его опять нет: умирает. Правда, почему так?
* Мама Соня возила Галю в кино смотреть „Мастера сцены”. Там первые акты из „Царя Федора”, „Вишневого сада”, „На дне”. Девочка все поняла. Особенно проникновенно и с большим сочувствием рассказывает о „Царе Федоре”:
— А под конец зазвонили колокола в церкви, и он говорит своей жене таким жалким, усталым голосом: „Иринушка, не пойду я к обедне, ведь это не такой уж большой грех, правда? А пойду я в свою опочиваленку...”
* Галя:
— Мама, моя соседка Гольденблат Рита потеряла свою ручку и говорит: „Это ты взяла”. Я ей отвечаю: „Прежде чем говорить, поищи хорошенько”. Она поискала и нашла под партой и все-таки стоит на своем: „Это ты взяла, а потом бросила!” Евгения Карловна услышала и страшно на нее накричала. Она сказала: „Как ты смеешь так оскорблять человека?”
Тут Галя смеется. Я удивленно смотрю на нее. Тогда она поясняет с веселым изумлением:
— Человек! Это я — человек!»
В следующий раз мы поговорим о документально-художественном романе Елены Макаровой «Фридл», о самой Фредерике Дикер и отметим юбилей Юрия Коваля.
А в качестве своеобразного эпиграфа к будущему рассказу о художнице и педагоге (если бы сотни детских рисунков не уцелели чудом после Терезина, мир, возможно, и не узнал бы феномена Фридл) приведу отрывок из ее сохранившейся в одном из частных пражских архивов терезинской лекции (может быть, заметок к будущему докладу). Начало этой записи напомнило мне письмо одного японского издателя — Корнею Чуковскому. Адресат не успел с ним ознакомиться, издатель приехал в Переделкино сразу после кончины К. И., о которой, судя по всему, не знал; свое послание сказочнику и специалисту по детской психологии он сложил в тот день прямо в доме и оставил «на память». Насколько я помню, там говорилось примерно так: «Дети никогда не были для вас незрелыми, недоразвитыми существами, но — совершенным прототипом человека…».
Итак, Ф. Дикер-Брандейс, лето 1944 года:
«Наши предрассудки и притязания в отношении детских рисунков вытекают, по большей части, из ложных представлений о самом ребенке и о том, что он имеет сообщить. Они происходят из расхожих мнений о высоких и низких эстетических ценностях, возникающих у взрослых вследствие либо их тщеславия, либо самонадеянности или страха; пытаясь в свое время решить проблемы своего собственного творческого развития, они сочли их непреодолимыми и со страху подавили в себе желание в этих проблемах разобраться. Почему, собственно, взрослые так спешат уподобить себе детей — так ли уж мы счастливы и довольны собой?
Ребенок не является (или почти не является) недоделанным, недоразвитым, предварительным этапом развития взрослого. <…> Предписывая детям путь их развития, притом что их способности, помимо всего прочего, развиваются абсолютно неравномерно, мы не даем им расти свободно и творчески, а себя лишаем возможности этот рост увидеть. <…> Главное, чтобы ребенок был свободен в выражении того, что он хочет о себе сказать, — это могут быть любые идеи и фантазии, богатые и бедные, вплоть до бессмыслицы — либо вовсе не воплощенные в форме, либо выраженные на том языке формы, которым он владеет. В обмен на это мы получим бесценную возможность наблюдать за его внутренним состоянием (здесь желательна помощь психолога), вникать в его интересы, предпочтения и знания. Приведенные ниже работы детей могут служить примерами того, насколько необходимо ребенку ежедневное спонтанное самовыражение и как оно трансформируется в рисунках, которые дети рисуют как „картинки”».
[16] См., например: «Вы просите в частном порядке…» Из блокнотов. Публикация А. А. Раскиной. Предисловие Р. Е. Облонской («Новый мир», 2005, № 11).
[17] В журналистской среде упорно ходят слухи о бедственном положении старейшего издания для родителей и педагогов; судя по сайту, последний номер вышел в мае прошлого года. Публикация «Девочек» доступна пользователям Интернета: <;.
[18] Старшая дочь Ф. А., учительница Галина Кулаковская, погибла в 1974-м под колесами «скорой помощи», которую сама же и вызвала для одного из своих учеников. Разница у сестер в возрасте была чуть больше пяти лет.
Книги
14. Женская проза «нулевых». М., «Астрель», 2012, 413 стр., 5000 экз.
Сборник, представляющий сегодняшнюю прозу Анны Андроновой, Ирины Богатырёвой, Ксении Букши, Алисы Ганиевой, Натальи Ключарёвой, Анны Матвеевой, Василины Орловой, Анны Старобинец, Марины Степновой и др. С предисловием Захара Прилепина.
Александр Володин. Неуравновешенный век. Стихи. М., Московское бюро по правам человека, «Academia», 2012, 184 стр., 200 экз.
Собрание стихотворений, которые один из наших лучших драматургов Александр Моисеевич Володин (Лифшиц) (1919 — 2001) писал всю жизнь; к концу века ему писалось так: «Погода, плохая погода, / неуравновешенный век. / Мы вниз спускались полгода, / а где же полгода, чтоб вверх? // Запросы покорно понизив, / согласны на осень, на снег... / На разные беды — полжизни. / А где же полжизни на смех?»; «Мы волочили семь десятков / к великой стройке кирпичи. / Нас озаряли с шаткой кладки / страны дозорные лучи. // Теперь поем нестройным хором / и — в пику хорам тех времен. / Смелы, раскованны, но — хворы. / И хор слегка похож на стон».
Жозеф Кессель . Смутные времена. Владивосток 1918 — 1919 гг. Перевод с французского Натальи Сакун. Владивосток, «Рубеж», 2012, 143 стр., 1000 экз.
Впервые на русском языке поздний (1975) роман известного французского писателя Жозефа Кесселя (1898 — 1979), написанный им по воспоминаниям ранней молодости, когда двадцатилетним летчиком автор оказался во Владивостоке, где предполагалось формирование новой союзнической армии для продолжения войны с Германией на территории России; знание русского языка (отец Кесселя — выходец из России) стало причиной того, что Кессель был привлечен к административной работе и, соответственно, получил возможность изнутри узнавать жизнь Владивостока, заполненного в самом начале Гражданской войны солдатами самых разных армий — колчаковцами, семеновцами, чехами, японцами, французами и т. д. Критика (см. рецензию М. Бутова на сайте Morebo) отмечает ходульность сюжетной линии романа, связанной с историей любви, но отмечает выразительность написанных в романе картин жизни Владивостока на переломе эпох.
Также вышла книга: Жозеф Кессель. Дневная красавица. Перевод с французского В. Никитина. СПб., «Азбука», «Азбука-классика», 2012, 224 стр., 4000 экз. (роман 1928 года, широко известный еще и благодаря его экранизации Луисом Бунюэлем).
Грант Матевосян. Возвращение. Избранное. Переводы с армянского Анаит Баяндур, Соны Бабаджанян, Ирины Маркарян, Анны Полетаевой. М., «Текст», 2012, 421 стр., 1000 экз.
Из классики прошлого века — проза Гранта Игнатовича Матевосяна (1935 — 2002); повести «Буйволица», «Мы и наши горы», «Похмелье»; рассказы «Мои мимолетные поцелуи», «Возвращение», «Прозрачный день», «Мир слова». Предисловие Михаила Синельникова. Вместо послесловия — текст Андрея Битова «Грант».
Вера Павлова. Либретто. Стихи. Проза. Рисунки. М., «Астрель», 2012, 382 стр. 2000 экз.
Книга новых стихотворений Павловой с приложением ее эссеистской прозы и ее комиксов («дистрофиков»).
Цитаты — из стихов: «Пойдём, посмотрим, поймём, / если ещё не поздно, / кто скачет Млечным Путём, / расплёскивая звёзды, — ангел на белом коне, / бес на хромой кобыле? / Любимый, мы сон во сне, / родимый, мы пыль пыли»; из прозы: «Писать о том, что любишь. Ещё больше любить писать. И всё это — для того, чтобы хотя бы ненадолго полюбить себя»; «Нельзя писать стихами ни о том, чего не знаешь, ни о том, что знаешь точно, только о том, о чем смутно догадываешься и надеешься, что стихи подтвердят догадку. Или опровергнут».
Марина Палей. Клеменс. М., «Эксмо», 2012, 384 стр., 2000 экз.
Изданием романа «Клеменс» «Эксмо» продолжает малое Cобрание сочинений Марины Палей — к уже представленным в «Библиографических листках» книгам («Хор», «Кабирия с Oбводного канала», «Дань саламандре») добавились книги: Марина Палей. Ланч. М., «Эксмо», 2012, 288 стр., 2000 экз.; Марина Палей. Жора Жирняго. М., «Эксмо», 2012 г., 3100 экз.
Петербург-нуар. Антология. Авторы предисловия Ю. Гумен, Н. Смирнова. СПб., «Азбука-Аттикус», 2013, 320 стр., 3000 экз.
Четырнадцать «петербургских» рассказов четырнадцати авторов, написанных в жанре нуар (Андрей Кивинов, Сергей Носов, Вадим Левенталь, Александр Кудрявцев, Наталья Курчатова, Ксения Венглинская, Лена Элтанг, Андрей Рубанов, Анна Соловей, Юлия Беломлинская, Антон Чиж, Михаил Лялин, Павел Крусанов, Евгений Коган, Владимир Березин). Из предисловия составителей, названного «Четырнадцать оттенков черного»: «Несколько лет жизни в Санкт-Петербурге, и ты легко начинаешь различать как минимум десяток оттенков черного. У коренных жителей счет идет на сотни»; «Гармония мрака для Санкт-Петербурга естественна, потому что он сам и есть нуар. Писателям, живущим тут, ничего выдумывать не нужно, стоит лишь внимательно посмотреть по сторонам, ну или внутрь. Городские мифы могут быть заголовками криминальных хроник, а очередная новость в газете об убийстве старушки-процентщицы — великим романом».
Игорь Сахновский. Острое чувство субботы. Восемь историй от первого лица. М., «Астрель», 2012, 253 стр., 5000 экз.
Новая книга Сахновского, состоящая из восьми монологов (историй), формирующих цельное повествование, и при этом каждая из историй сохраняет свою самодостаточность — «„Автор” первой истории пересекается с героем, который становится „автором” второй истории и так далее. Но во второй половине книги сеть прерывается, и в герметичную прежде конструкцию врывается сначала история жены аукциониста, который продал компанию ЮКОС, затем монолог шведской поэтессы, влюбленной в жену Набокова, а потом и вовсе фантастическая история про вечного мальчика, который повторял библейские чудеса» (от издателя).
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. М., «Азбука», 2013, 144 стр., 3000 экз.
Несмотря на относительно скромный объем — одно из самых значительных произведений русской литературы, вернувшее ей в середине советского века ту роль, которую она всегда играла в общественной жизни России; текст, начинавшийся заученными почти наизусть читателями в трех поколениях фразами: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря». Книга выпущена к пятидесятилетию первого книжного издания повести с сохранением того, 1962 года художественного оформления и формата; единственное различие: переплет, а не — бумажная обложка.
Также к пятидесятилетию повести изданы книги:
«Ивану Денисовичу» полвека. Юбилейный сборник (1962 — 2012). Составление П. Е. Спиваковский, Т. В. Есина; вступительная статья П. Е. Спиваковского. М., Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, «Русский путь», 2012, 744 стр., 1000 экз.
Литературно-критическая антология, представляющая судьбу «Одного дня Ивана Денисовича» в литературной критике — от внутренних отзывов на повесть при подготовке ее первой публикации в «Новом мире» и полемики, развернувшейся в печати в 1962 — 1963 годах в СССР и за рубежом, до сегодняшнего взгляда на повесть современных критиков. Авторы: К. Чуковский, С. Маршак, М. Лифшиц, К. Симонов, Г. Бакланов, В. Шаламов, Ф. Кузнецов, В. Лакшин, Ю. Карякин, А. Латынина, М. Чудакова, П. Паламарчук, В. Бондаренко и другие; а также — материалы из архивов ЦК КПСС, Прокуратуры СССР и КГБ. Из давней эмигрантской статьи Романа Гуля: «...произведение рязанского учителя Александра Солженицына „Один день Ивана Денисовича” как бы зачеркивает весь соцреализм, т. е. всю советскую литературу. Эта повесть не имеет с ней ничего общего. И в этом ее большое литературное (и не только литературное) значение. Повесть Солженицына — как предвестник, как указание пути для русской литературы».
«Дорогой Иван Денисович!..» Письма читателей: 1962 — 1964 . Составление, комментарий, предисловие Г. А. Тюриной. М., Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, «Русский путь», 2012, 360 стр., 1000 экз.
Сборник составили письма-отклики читателей на первую публикацию рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (из фондов Российского государственного архива литературы и искусства и архива писателя в Троице-Лыкове), а также 11 писем А. И. Солженицына и некоторые рабочие материалы редакции «Нового мира».
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Новые мелодии печальных оркестров. Перевод с английского Людмилы Бриловой, Сергея Сухарева. СПб., «Азбука-Аттикус», 2012, 384 стр., 5000 экз.; Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Издержки хорошего воспитания. Перевод с английского Л. Бриловой, А. Глебовской. СПб., «Азбука»; «Азбука-Аттикус», 2013, 384 стр., 15 000 экз.; Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Успешное покорение мира. Перевод с английского Е. Петровой. СПб., «Азбука»; «Азбука-Аттикус», 2013, 416 стр., 8000 экз.
Три книги, начавшие масштабный издательский проект — представление «коммерческой», писавшейся по заказам популярных американских журналов прозы Скотта Фицджеральда.
Елена и Михаил Холмогоровы. Рама для молчания. М., «Астрель», 2012, 350 стр., 2000 экз.
Книга эссеистской прозы, написанной двумя авторами порознь и в соавторстве, разнородный материал которой — Колыма шестидесятых, среднерусская деревня глазами тринадцатилетней московской девочки, революционные события 1993 года за окном квартиры, расположенной в прилегающих к Белому дому кварталах Москвы; история старинного московского особняка, драматизм писательской судьбы Юрия Олеши; наполнение летней жизни «праздношатающихся» писателей-дачников, и т. д. — выстраивается в цельное повествование сквозным авторским размышлением о нашей способности быть сосредоточенным на глубокой мысли, то есть о таланте «удерживать вниманье долгих дум»; о так называемых банальных, прописных истинах, которые оказываются самыми трудными для усвоения; о том, что такое авангард и арьергард в литературе (ну, скажем, применительно к прозе Казакова и Бунина), о культурной памяти. Выбранным темам соответствует стилистика книги с ее ориентацией на подчеркнуто традиционные литературные формы — на внятность высказывания, логичность развития мысли, которая-то как раз и определяет парадоксальность некоторых авторских ходов; с ориентацией на то, что стало в сегодняшней русской литературе маргинальным, — на чистоту русского литературного языка, доставшегося нам от предыдущих поколений.
Брюс Чатвин. «Утц» и другие истории из мира искусств. Перевод с английского Анны Асланян, Дмитрия Веденяпина. М., «Ад Маргинем», 2013, 312 стр. Тираж не указан.
Книга известного английского искусствоведа и прозаика о произведениях искусства и их коллекционерах.
Борис Черных. Эрька Журо, или Случай из моей жизни. Рассказы и очерки. Владивосток, «Рубеж», 2012, 288 стр., 2000 экз.
Избранная проза дальневосточного прозаика Бориса Ивановича Черных (1937 — 2012), творческая биография которого была связана с Иркутском, где он начинал вместе с Распутиным и Вампиловым и откуда в 1982 году за создание «Вампиловского общества», а также за чтение и распространение неподцензурной русской классики ХХ века был отправлен в Пермские лагеря; после освобождения много лет жил в Ярославле, где, в частности, был учредителем и главным редактором ярославской литературной газеты «Очарованный странник», в середине 90-х вернулся на родину в Благовещенск. В книге представлены его тексты, писавшиеся с конца 1950-х годов до двухтысячных.
Евгений Шварц. Все произведения. Проза. Пьесы. Стихи. М., «Астрель»; Минск, «Харвест», 2012, 1024 стр., 1500 экз.
Полное собрание сочинений Евгения Львовича Шварца (1896 — 1958), включая отрывки из дневников.
*
Станислав Куняев. Любовь, исполненная зла. М., «Голос-Пресс», 2012, 256 стр., 1000 экз.
Свое повествование автор начинает разбором обстоятельств гибели Николая Рубцова и, соответственно, фигуры поэтессы Людмилы Дербиной, признанной судом виновной в смерти Рубцова. Куняев видит прямую связь между предполагаемым убийством Рубцова и строем поэзии Дербиной, испытавшей сильной влияние поэтов Серебряного века, в частности Ахматовой и Цветаевой. Далее следуют размышления о русской «бесовщине», которая гнездится в творчестве писателей начала прошлого века, оказавших роковое влияние на русскую литературу и русскую жизнь ХХ века: «Иногда мне кажется, что на переломе двух веков в жизни просвещенных сословий Российской империи пышным цветом расцвели все человеческие пороки», «Революции, как волны, накатывались на страну одна за другой: антихристианская, антисемейная, антигосударственная, сексуальная, экономическая... И, конечно же, феминистская...», «Отнюдь не пресловутый „заговор большевиков” разрушал социальные и нравственные основы жизни, а труды и лекции высоколобых интеллектуалов того же Серебряного века: С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского, Н. Бердяева. Стены канонического православия начали обваливаться не только от богохульства Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного, а во многом и от деятельности модных реформаторов христианства: Л. Толстого, В. Розанова, Д. Мережковского. Врубель с „мирискусниками” и Скрябин со Стравинским расшатывали устои русской живописной и музыкальной культуры».
Софья Нуриджанова (Хордикайнен). Одна любовь. Роман в письмах. М., «Русский мiр», 2012, 800 стр., 500 экз.
Мемуарный, точнее, эпистолярный роман, составленный из реальных писем его персонажей, выстраивает историю одной из, так сказать, среднестатистических русских интеллигентских семей «с традициями». Основная часть повествования охватывает годы с 1949 по 1977; в этой книге автор продолжает свою работу, начатую в предыдущих, уже представленных в «Библиографических листках» (2007, № 4) книгах: «Дар любить. Книга о маме в письмах. 1944 — 1949». Подготовка текста, предисловие, комментарии, примечания С. А. Нуриджановой (Хордикайнен). СПб., Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006, 339 стр., 300 экз.; «Жизнь в оккупации. Пушкин. Гатчина. Эстония. Дневник Люси Хордикайнен» (подготовка текста, предисловие, комментарии, примечания С. А. Нуриджановой (Хордикайнен)). СПб., Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006, 148 стр., 500 экз.; «Жизнь незабытых людей. Дневники. Письма. Справки. Воспоминания». Уфа, Издательство ИС, 2000, 324 стр., 500 экз. Также вышла книга: Софья Нуриджанова (Хордикайнен). «Читайте полотенце!» (Уфа, «КИТАП», 2011, 156 стр., 2000 экз.), в которой автор выступает как «заинтересованный ценитель и любитель народного прикладного искусства», представляющий, в частности, культуру тканых полотенец татарских и башкирских народных умельцев.
Евгений Сидоров. Записки из-под полы. М., «Художественная литература», 2012, 336 стр., 3000 экз.
Книга известного литературного критика, на какое-то время слегка отвлекшегося от критики на должность министра культуры и на дипломатическую работу и, соответственно, как бы выпавшего из литпроцесса, но, как показывают его новые книги, временное дистанцирование от текущей литературы оказалось благотворным — книгу «Записки из-под полы» автор выстраивает уже в новом качестве: не столько критика, сколько писателя, работающего на стыке различных жанров — критики, эссе, публицистики и исповедальной прозы, и выбор новой стилистики дает автору неожиданную раскрепощенность мысли и слова. Основу книг и составила эссеистская проза, имитирующая дневниковые записи, сделанные по разным поводам (послевкусие от прочитанного, встреча с Папой Римским, спектакль «Чайка» в постановке Ефремова, объявление ульяновским губернатором среды нерабочим днем под девизом «Роди патриота!» и т. д.), но именно, дневник «имитирующая» — слишком плотно в образном и в интеллектуальном отношении выглядят здесь развернутые реплики по поводу, скажем, «Бесконечного тупика» Галковского, или — по поводу литературных взаимоотношений Битова и Платонова и т. д. Есть в книге и раздел собственно литературной критики («Литературные заметки»), состоящий из литературно-критических статей, но в них — то же дыхание вольной эссеистики. Цитата: «Стал моден в России жанр эссе . Оправдание — только в простодушии . Как только умствование (как у прочитанного мною вчера в „Октябре” Бориса Хазанова), так изящные зады чужой словесности. О Париже лучше вообще не писать; или так, как снимает его Отар Иоселиани. Но для этого надо обладать небудничным художественным зрением. И простодушием — веселой свободой дилетантов, не помнящих о культурных кодах и клише».
Артем Скворцов. Самосуд неожиданной зрелости. Творчество Сергея Гандлевского в контексте русской поэтической традиции. М., «ОГИ», 2013, 224 стр., 1000 экз.
От издателя: «Монография представляет собой первый в филологии опыт всестороннего описания и анализа творчества Сергея Гандлевского. Основное внимание в книге уделяется поэзии автора, а его проза и эссеистика рассматриваются как дополнительные и вспомогательные элементы поэтической деятельности. Предложенная методика анализа творчества современного автора предполагает совокупное восприятие формальных и содержательных особенностей его поэтики, а также аналитическое рассмотрение конкретной художественной системы на широком историко-культурном фоне для выявления и истолкования ее подтекстового пласта».
В. В. Шульгин. Тени, которые проходят. Составление Р. Г. Красюкова. СПб., «Нестор-История», 2012, 688 стр., 500 экз.
Мемуары Василия Васильевича Шульгина (1878 — 1976), над которыми он работал в 60 — 70-е годы вместе с Ростиславом Красюковым, осуществлявшим запись текстов и помогавшим в сборе материалов. Из справки об авторе, содержащейся в издательской аннотации: «Депутат всех четырех дореволюционных Дум, русский националист, во время антисемитского дела Бейлиса выступивший на стороне ложно обвиненного еврея; участник белогвардейского движения, эмигрант, советский заключенный, амнистированный Хрущевым; пенсионер, тихо живший в городе Владимире, снявшийся в двух советских фильмах, „Перед судом истории” и „Операция ‘Трест‘”, в которых он сыграл самого себя...»
Сергей Яров. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 — 1942 гг. М., «Центрполиграф»; СПб., «Русская тройка — СПб.», 2012, 608 стр., 2500 экз.
Исследование петербургского историка ленинградской блокады «…оставляет по большей части в стороне политические аспекты, действия и высказывания представителей высшей власти, уделяет не очень много внимания знаковым, маркированным фигурам и событиям легендарного статуса (например, Шостакович и Седьмая симфония упоминаются в рецензируемой книге лишь раз — блокадник вспоминает, что слыхом тогда ни о чем подобном не слыхивал, не до того было). Предмет Ярова — „просто” ленинградец, как он выживает в блокаду, переживает ее, осознает — насколько, конечно, существующие материалы позволяют такого „блокадника вообще” теперь воссоздать. С официальными советскими материалами, в том числе и с издававшимися воспоминаниями, Яров работает осторожно, подразумевая, что в процессе издания они неминуемо подвергались идеологической корректировке. Его база — архивные дневники и воспоминания, частная переписка» (от издателя).
*
Вадим Ярмолинец. Кроме пейзажа. Американские рассказы. М., «Время», 2012, 288 стр., 2000 экз.
Вадим Ярмолинец — уроженец Одессы, с 1990 года живет в Нью-Йорке, работает в тамошней русской прессе — обстоятельства, во многом определившие и стилистику, и содержание его книги; более того, в рассказах художественно отрефлексированы и одесское (во всех отношениях) происхождение автора, и его газетная работа. То есть перед нами «репортерская проза». Что отнюдь не выносит эту прозу за границы собственно художественной литературы (в репортерах побывали многие — от Эдгара По до Юрия Трифонова и Сергея Довлатова, а с другой стороны, и сам Ярмолинец уже засветился в качестве серьезного прозаика — его роман «Свинцовый дирижабль „Иерихон 86-89”» вошел в шорт-лист Большой книги 2009 года), определение это только помогает обозначить специфику рассказов Ярмолинца, их достоинства и недостатки. К первым следует отнести энергию повествования (я бы сказал, сюжетную мускулистость его рассказов), выразительность персонажей, органичную вплавленность в художественную ткань неожиданных бытовых подробностей; иными словами, «репортажность», которая в данном случае отнюдь не синоним «беглости» и «поверхностности», а — определение бытовой достоверности, переходящей в достоверность психологическую. Автор пишет о том, что действительно знает, — о стиле и содержании жизни сегодняшнего русско-еврейского Брайтон-Бич, о своей газетной работе, о соседях, друзьях, о персонажах своих газетных очерков. Ну а к недостаткам прозы Ярмолинца я бы как раз отнес его попытки уйти от «репортажности», загулять налево, в сочинение «художественной литературы», где у него и начинают выскакивать разного рода литературные клише. Мест таких в книге немного, и они по-своему (то есть для литературного критика) украшают книгу, давая возможность по контрасту оценить силу и художественную состоятельность основного корпуса ее текстов.
У американских рассказов Ярмолинца есть черта, которая кардинально отличает их от освоенной нами русской эмигрантской литературы: отсутствие в авторском мире силового поля между «там» и «здесь», «на родине» и «в эмиграции» — обязательного для эмигрантской литературы противостояния «советского» и «антисоветского». То, к чему так стремился в своей американской прозе Довлатов, далось Ярмолинцу без видимого труда. Дело тут, разумеется, не в уровне талантов, просто изменилось время, изменилась ситуация, и у Ярмолинца появилась возможность изображать русских в США не как эмигрантов, а просто как людей, то есть писать не эмигрантскую прозу, а просто — русскую прозу на нью-йоркском материале. Материале, во многом пока экзотичном для широкого нашего читателя, но речь в книге все о том же — о вечном: любви, ненависти, борениях с судьбой. И американская «экзотичность» материала в данном случае — что-то вроде неожиданно поставленного фотографом света: тот же объект, та же проблематика, но неожиданная игра теней и света высвобождает в объекте нечто новое. Если продолжить литературные ассоциации, то вслед за Довлатовым я бы назвал Зощенко — как мастера «сгущенного» изображения жизни социума и порождаемых им типов. Навык газетчика, сориентированного на поиск особо выразительного и неожиданного в облике героя или в его истории, ведет Ярмолинца к некоторой гротескности. Хотя, казалось бы, в ситуации Ярмолинца гротескность достигается уже просто достоверностью, в конце концов, типичный советский пенсионер из Одессы в контексте американской жизни не может не выглядеть гротескно. Но автор идет дальше. Он делает эту гротескность предметом специального исследования, более глубокого, нежели выявление «особенностей советско-еврейской ментальности». Его интересует природа человека, а не «эмигранта».
Автор описывает Брайтон-Бич и его обитателей не как этническое гетто в США, герои его — полноценные американцы, а Брайтон-Бич — это органика современной американской жизни. Той жизни, которая собственно и состоит из жизни множества вот таких этнических анклавов. Можно сказать, что перед нами модель и нашего будущего, — всмотритесь повнимательнее в потоки людей самых разных этносов, идущих по центральным улицам сегодняшних европейских столиц. Разговор о том, хорошо это или плохо, смысла уже не имеет — просто жизнь потекла в эту сторону, и никакому Брейвику ее не остановить.
Ярмолинец, повторяю, пишет не об эмигрантах, он пишет о новых американцах, которые одновременно еще и слепок русской, в частности одесской жизни, — то есть у него как у художника появляется дополнительный простор для исследования природы современного человека. И открывшихся перед ним возможностей Ярмолинец как художник не упускает.
Составитель Сергей Костырко
Составитель благодарит книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, дом 12/27) за предоставленные для этой колонки книги.
В магазине «Фаланстер» можно приобрести свежие номера журнала «Новый мир».
Периодика
«АПН», «Взгляд», «Искусство кино», «Итоги», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Коммерсантъ Weekend», «Литературная газета», «Новая газета», «Новая реальность», «Новые Известия», «Огонек», «Перемены», «ПостНаука», «Русская Жизнь», «Русский Журнал», «Урал», «Читаем вместе», «Эксперт», «SvobodaNews.ru», «Thankyou.ru»
Ольга Андреева. Белка в колесе. — «Искусство кино», 2012, № 11, ноябрь < >.
«Когда на обложке толстого тома крупными буквами набрана чья-то фамилия, то проблемы как бы и нет — вот книга, вот ее автор. А между тем любая книга написана при участии как минимум трех волевых начал — культуры со всеми ее слоями и прослойками, языка с его давно освоенным стилистическим багажом и, наконец, самого автора».
«Получается, что проблема автора начинается в тот момент, когда на фоне постоянно действующих и живущих собственными большими жизнями культуры и языка он, автор, оказывается просто не нужен. А зачем? Культура и язык несут в себе такую могучую и страстную энергию бесконечного самовоспроизведения, что автору нужно только раскинуть на столе эти весело бренчащие кости цивилизации и запечатлеть выпавший рисунок. Плен стилистической зависимости сладок, как счастливый сон детства. Сквозь этот сон культура вкупе с изобретательным языком проговорит все положенные слова и явит себя во всем блеске своего изысканного совершенства. Проснувшемуся автору останется только самое приятное — поставить на рукописи свое имя и отнести в редакцию».
Андрей Аствацатуров. «Литература давно уже не играет в обществе никакой роли…» Беседу вел Платон Беседин. — « Thankyou.ru », 2012, 17 декабря < >.
«Культура ведь включает в себя не только прослушивание хоралов Бахов и разглядывание картин Ван Гога. В культуре есть все: от манеры принимать пищу и первобытных выкриков на футбольном матче до симфонических поэм. Это помойка, где каждый может найти то, что ему нужно. Если происходят серьезные динамичные процессы в культуре, то они должны захватывать все ее области — и футбол, и экстремизм, и сексуальность в том числе».
«Я человек левых убеждений, сторонник идеи взаимопомощи и социальной справедливости. Мне неприятно жить в обществе, построенном не на принципах солидарности и совместного труда, а на принципах индивидуальной инициативы и звериной войны всех против всех. Я подвергался бессовестной эксплуатации в сверхлиберальные 90-е, я знаю, что такое эксплуатация, и я искренне не хочу, чтобы ей подвергались другие люди. Но нынешнее оппозиционное движение мне совершенно неинтересно».
«Литература давно уже не играет в обществе никакой роли. Есть просто такая специальность — писатель, как есть специальность инженер-электрик или повар».
Прямая речь: Дмитрий Бак. [Материал подготовила] Анна Козыревская. — «ПостНаука», 2012, 17 декабря < >.
«Есть замечательный филолог Андрей Леонидович Зорин, сын драматурга и прозаика, мой товарищ, старший коллега. Много лет он был со мной на одной кафедре, а сейчас заведует кафедрой в Оксфорде и работает у нас в РГГУ и в еще нескольких вузах Москвы. И он замечательно определил преподавание: „Часто думают, что приходишь на лекцию, достаешь по червяку и кладешь им в клювы. А на самом деле преподавание другое. Ты приходишь, полу-отворачиваешься и достаешь из глубокого кармана очень долго очень длинного червяка и сам начинаешь его есть на глазах у других”. Это и есть преподавание».
Бог знает откуда. Беседу вел Дмитрий Волчек. — « SvobodaNews.ru », 2012, 10 декабря < >.
Беседа с живущим в Вашингтоне поэтом Василием Ломакиным , лауреатом премии Андрея Белого.
«— В каком из осколков русского зеркала — досоветском, советском, нынешнем — вы отражаетесь лучше всего?
— В том, где находится русский модерн, по времени совпавший с ранним советским периодом. Этот осколок хорошо отражает, потому что крепок и неизменен: слог лучших поэтов модерна, от Клюева до Введенского, остался уникально-авторским. Их языку не было суждено естественным образом истратиться и, став банальным, исчезнуть в своем поэтическом качестве, cоставить фон обычности для по-новому определенных поэтических фигур. Также, на более низких уровнях, их поэтики избежали профанирования и размножения массовым стихотворчеством, для стилизаций оказались непригодны и не смогли быть освоены постмодерном. Время для таких поэтов остановилось (или вновь пришло, что одно и то же), и их слог останется действенным навечно».
Новый адрес сайта Радио Свобода:
Больше миссионерства! Андрей Рудалёв в беседе с Платоном Бесединым. — «Урал», Екатеринбург, 2012, № 12 < >.
Говорит Андрей Рудалёв: «С разрушением великой страны произошла и потеря смыслов, люди, населяющие ее территории, пересели в гумилевский „заблудившийся трамвай” и едут, руководимые чужой волей, в бесцельном хаотическом движении. У нашего поколения есть ощущение произошедшей тотальной ошибки, и ее надо исправлять в первую очередь через обретение осмысленности своего существования, через возвращение чувства собственного достоинства. Когда я читал „Коммунизм” [Олега] Лукошина, мне показалось, что автор размышляет о чем-то схожем».
Сергей Гандлевский. «Русский язык попал в серьезный переплет». Беседу вела Светлана Рахманова. — «Новые Известия», 2012, 4 декабря < >.
«Я люблю читать серию „ЖЗЛ”, если, конечно, автор жизнеописания внушает доверие, а его герой мне не безразличен. Некоторые люди жалуются, что после того, как они узнают о неаппетитных подробностях жизни кого-то из деятелей искусства, они перестают получать удовольствие от его творчества. Для меня же, наоборот, это повод лишний раз порадоваться тому, какая сильная вещь искусство, если оно в творческом процессе поднимает вполне обычных и даже посредственных людей на высоту великодушия, красоты, благородства, до которой они не дорастают в своей частной жизни».
Александр Генис. Шибболет. — «Новая газета», 2012, № 139, 7 декабря < >.
«Попробуйте обойтись без суффиксов, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет, как, впрочем, и многие другие, склонять числительные и походить на человека. Приделав к слову необязательный кончик, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы — улыбки, французы — поцелуи и американцы — зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем сразу. Хорошо или плохо быть „субчиком”, как я понял еще пионером, зависит от того, кто тебя так зовет — учительница или подружка».
«Между устным и письменным словом много градаций. Одна из них — тот псевдоустный язык, которым сперва заговорили герои Хемингуэя, а теперь — персонажи сериалов. Их язык не имитирует устную речь, а выдает себя за нее так искусно, что мы и впрямь верим, что сами говорим не хуже».
«Когда обновленные словари обнаружили у „кофе” средний род и разрешили называть его „оно”, маловажная перемена вызвала непропорциональный шок. Умение обращаться с „кофе” считалось пропуском в образованное общество. Но вот шибболет интеллигенции, удобный речевой пароль, позволяющий отличать чужих от своих, — убрали, и язык стал проще, а жизнь сложнее».
Федор Гиренок. Без надежды на успех. — «Литературная газета», 2012, № 52, 26 декабря < >
«Русский язык перестает выполнять интегрирующие функции. Дело не в том, что кто-то хочет его реформировать и говорить вместо „пальто” „пальтом”, а в том, что русский язык более не гарантирует своим носителям прямого доступа к современной науке и технологиям, современному искусству и современной философии. И даже к современной литературе. Русский язык девальвируется и сворачивает свою образовательную деятельность. Он передает свои функции английскому. Теперь этот язык обеспечивает прямой доступ к современным достижениям науки, искусств и литературы. И калмык, друг степей, сегодня должен учить не русский язык, а английский, чтобы быть на уровне вещей и идей, его окружающих».
«Европа хранит свое трансцендентальное воображаемое в философии, она опекает ее, холит и лелеет. У европейцев все начинается с мысли. У нас воображаемое упаковано в форму литературы, и наши философы — это наши писатели. У нас все начинается с переживания. Ресурсы метафизики воображаемого передавались до недавнего времени русской литературой через систему образования, сакральной фигурой которого являлся учитель. Любой русский человек, когда он начинает говорить, пытается соединить реальное с воображаемым через образы литературы. Только так мы можем придать смысл окружающей нас бессмыслице».
Анна Голубкова. Конец литературоцентризма, или Послание юноше бледному со взором горящим. — «Новая реальность», 2012, № 43 < >.
«К примеру, доводилось слышать сетования многих так называемых молодых поэтов о том, что вот вышла у них первая книжка (подборка в солидном издании) или даже что вот получили они какую-то литературную премию, все взрослые поэты им дружно похлопали, ну а дальше-то что? А дальше — ничего, потому что дальше они становятся конкурентами поэтов взрослых и из тепличных условий литературного детского сада попадают в реальную литературную жизнь, подчас жестокую, и к юным талантам совершенно безжалостную».
«Проблема в том, что взрослых поэтов и так слишком много — гораздо больше, чем издательских серий, литературных журналов и уж тем более — литературных премий. Все места на литературном олимпе давно поделены и заняты, иногда, кстати, вполне заслуженно, а новых мест у нас почему-то никак не предусмотрено. Вот и выходит, что молодые начинающие поэты нужны всем — в первую очередь для сохранения преемственности, но как только поэт перестает быть начинающим, то есть как только у него появляются какие-то реальные претензии, он сразу же оказывается в своеобразном вакууме».
Григорий Дашевский, Анна Наринская. О чем речь. Из чего сложилась литературная жизнь. — «Коммерсантъ Weekend », 2012, № 49, 21 декабря < >.
«В самом начале лета перестал работать московский клуб „Проект О.Г.И.”, бывший в начале 2000-х одним из самых важных „идеологических” мест в Москве. Его закрытие во многом знаменует конец советского феномена всепобеждающего разговора. Основанный детьми диссидентов, „О.Г.И.”, в принципе, был репликой советской интеллигентской кухни в отсутствие советской власти. Восприняв эту кухонную стилистику — разговоры о важном, плюс выпивание, плюс песни и пляски, — „О.Г.И.” обеспечил преемственность поколений московской богемы. Кстати, для большинства иностранцев, которые туда приходили, самым сильным впечатлением оказывалось невероятное смешение возрастов. Это было не просто место мирного сосуществования отцов и детей — это было место, где они (в отличие от того, что часто происходит в домашней жизни) участвовали в непрерывном интересном для тех и других и вообще для всех разговоре».
«В качестве самоутешения можно сказать, что сегодня мы приблизились к цивилизованным странам с их торжеством small talk — ненапряжно-увлекательного разговора о пустяках. А для такого, надо признаться, антураж „О.Г.И.” совсем не подходит. Так что хватит, поговорили».
«Деревня пока еще есть». Лауреат премии «Русский Букер» Андрей Дмитриев — о деревенской прозе, переменах в обществе и неоднородности России. Беседу вел Кирилл Решетников. — «Взгляд», 2012, 5 декабря < >.
Говорит Андрей Дмитриев: «Деревенская проза и проза о деревне — это разные вещи. То, что называют деревенской прозой, основано на неком мифе. Под мифом я в данном случае подразумеваю не вранье, а определенную конструкцию, модель мира. Миф этот был задан, по большому счету, двумя произведениями, которые написали два городских человека. Одно из них — это рассказ Юрия Казакова „Запах хлеба”, а другое — рассказ Солженицына „Матренин двор”. Там существенно противопоставление города и деревни: город — это упадок и растление, а в деревне живут праведники, деревня сохраняет подлинную жизнь».
«Думаю, что деревенской прозы в этом смысле уже давно не существует. <...> Если говорить о каком-то продолжении, о том, что осталось, то я бы назвал Бориса Екимова. Это, может быть, единственный большой, мощный писатель, который по-прежнему пишет о деревенских жителях. Конечно, это уже не та деревенская проза, что была в 1970-х, но все-таки, поскольку деревня пока еще есть, есть и литература о ней».
Максим Кантор. Привычное дело. — «Перемены». 2012, 6 декабря < >.
«Умер Василий Белов, его называли писателем-деревенщиком. Было такое определение: „деревенская проза” — как будто в России есть какая-то проза, помимо деревенской. <...> Городские писатели в России имеются: это Достоевский и Гоголь, но их идеал — крестьянский. А уж про других и говорить нечего: Толстой, Чехов, Лесков, Пушкин, Тургенев, Есенин, Шукшин — это деревенская литература в самом чистом виде».
«Другая повесть у Белова называется „Все впереди”; мало есть на свете столь точных пророчеств. Повесть эту считали вульгарным пасквилем на прогресс. В книжке описывается, как патриархальную любовь променяли на ничтожную городскую дрянь. Тогда (это написано лет тридцать пять назад) казалось, что характеры ходульны, а конфликт неубедителен. <...> Однако все произошло именно так, как описал Белов — и с тысячекратным увеличением. Действительно, все, что любили, потеряли — взамен получили много пестрой дряни».
Литературная битва полов. — « Thankyou.ru », 2012, 28 декабря < >.
Говорит Андрей Рудалёв: «В прозе женщины нет прорывов, она не способна на новую идею, новое слово, там есть уют, особый колорит, теплота, но не более. Да, она стремится к художественной безупречности, к эстетизму. Но надо ли это литературе, безупречен ли Достоевский? Женщина — хранительница очага литературы вчерашнего дня. Она — поклонница литературы, может быть более чутким и верным, чем мужчина, читателем, исследователем, но она совершенно не способна на движение вперед».
Георгий Любарский. Мракобесие, или Наших бьют. — «Эксперт», 2013, № 1 < >.
«Когда молочнокислые бактерии едят молоко, оно со временем становится таким, что в нем уже не могут жить молочнокислые бактерии. Организмы портят собственную среду — она становится непригодной для их жизни, потому что в ней слишком много продуктов их жизнедеятельности.
Мы живем в эпоху победившего (почти) рационализма и научного мировоззрения. <...> Так было не всегда, рационализм встал во главе мировоззрений сравнительно недавно. И за пару веков развития и в конечном счете господства поменял культуру, в которой рос, выделив в нее результаты своего развития. Создал себе проблемы с воспроизводством.
То есть ведущие тенденции нашего времени (демократия, экономоцентризм, сциентизм и проч.) и являются важными причинами роста мракобесия, и это не мешает признавать, что эти самые ведущие тенденции развились благодаря рационализму».
Евгений Майзель. Всюду Бог? Пробные заметки о религиозном кино. — «Искусство кино», 2012, № 9, сентябрь.
«Богооставленность — это единственное состояние духа, при котором можно говорить о триумфе материи, но никак нельзя — о триумфе атеизма. Богооставленность означает в числе прочего именно боль утраты или изначальной нехватки. Кинематограф почти с самого своего рождения производил картины, тесно связанные с религией любыми способами — от различного выражения конфессиональных ее форм (вспомним феномен „католического кинематографа”) до выражения атеизма или радикальной богооставленности (тоже сильная способность кинематографа в силу объективирующего, полуавтоматического и тем самым как бы „научного” характера кинопроизводства). XXI век продолжил эту традицию, подарив миру за минувшее десятилетие с лишним как минимум несколько хитов богооставленности, из которых каждый — с репутацией шедевра. Сокуровский „Фауст” (2011), привезший в Петербург венецианского „Золотого льва”, — это одна из вершин нашего времени по части перевода литературы Просвещения в гностический хоррор, сосредоточенный на несовершенстве Творения и на триумфе князя мира сего в образе уродливого фармацевта с атавистическим хвостом на копчике».
О фильме «Фауст» см. также статью Натальи Сиривли («Новый мир», 2012, № 5).
Анна Наринская. «Будут у нас еще и русские люди, и русская речь». Андрей Дмитриев получил «Русский Букер». — «Коммерсантъ», 2012, № 231, 6 декабря < >.
«Бурление другого рода вызвало выступление председателя жюри нынешнего года критика и эссеиста Самуила Лурье, который, перед тем как объявить имя русского писателя-лауреата, спросил гостей церемонии, отдают ли они себе отчет в том, что вообще-то русская литература закончилась примерно в 1949 году, и предположил, что собравшиеся, будучи, как он сам, нормальными людьми, читают зарубежные детективы, а не современную русскую литературу. В зале это предположение вызвало ропот, а другой член жюри, писатель Роман Сенчин, вышел к микрофону и заявил, что нет — русская литература и после 1949 года „шла пунктиром” и что она скоро проявит себя в нашей огромной стране, „и будут у нас еще и русские люди, и русская речь”. Эти слова собравшимся понравились, и букеровский обед весело продолжался».
«Нового содержания у поэзии нет...» Беседовала Дарья Лебедева. — «Книжное обозрение», 2012, № 22, 12 — 19 ноября < >.
Говорит Максим Амелин: «Я люблю разные вещи, но античность и русский XVIII век, действительно, оказали на меня сильнейшее влияние. Свой „архаический” период, длившийся с 1996-го по 2001 годы, я давно завершил. Хотя, если присмотреться, в стихах того времени ничего такого уж древнего нет — ритмы вполне современные, смыслы — тоже. Главная задача стихотворца, на мой взгляд, — поиски формы, языка и стиля. Своих, особенных. Вся лучшая мировая поэзия на этом основана».
«Иногда я не понимаю, зачем этим занимаются другие. Я занимаюсь стихотворством почти профессионально. Почти, потому что эта профессия не приносит мне средств к существованию, но она — мое главное дело. Поэту в наше время необходимо иметь работу, которая его прокормит. Мировой опыт подсказывает, что только так и возможно выжить. Советское время, когда поэтам платили за поэзию деньги, прошло безвозвратно».
«А прозу как таковую, особенно длинную, мне писать неинтересно потому, что там нужны сюжетность и однозначность. Рассказ со сдвигами еще можно написать, а вот романа уже не получится. Я люблю, когда все сказано в языке, все слова и смыслы сливаются в один хор. Поэзия — это концентрат, а проза — разбавленная водица. Разве что найду какую-нибудь особенную форму, как Саша Соколов — ведь его проза, по сути, по составу и по материи, поэзия».
В конце февраля стало известно, что Максим Амелин стал лауреатом Премии Александра Солженицына.
Сергей Носов. «Достоевщины у нас в быту хватает. И гоголевщины, кстати, тоже…» Беседу вела Елизавета Александрова-Зорина. — « Thankyou.ru », 2012, 6 декабря < >.
«Более надежного, более проверенного носителя памяти, чем печатная книга, наша цивилизация не придумала. А мы сейчас отдаем себя в заложники собственным технологиям, возжелав накопленную человечеством информацию поставить в зависимость от состояния электрических зарядов в полупроводниковых кристаллах. Ну а вдруг? Знаете, моя жизнь выпала не на самое драматическое время, бывали времена и похуже, но и на моей памяти исчезали сигареты, соль, бензин. Никто не знает, с чем придет к нам Великая Встряска».
Одиночество Евгения Гришковца. Записала Юлия Скляр. — «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», 2013, № 1 < -vmeste.ru >.
Встреча читателей с Евгением Гришковцом на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction .
«— Ваше отношение к новейшей русской литературе?
— Я ее совсем не знаю, не читаю».
Островки читательской безопасности. Беседовала Татьяна Шабаева. — «Литературная газета», 2012, № 51, 19 декабря.
Говорит Борис Куприянов: «Ну, вот, например, на одной международной выставке в большом городе с интереснейшей историей мне бросилось в глаза тотальное отсутствие любопытства у наших писателей. Их совершенно не интересовало, что происходит за стенами гостиницы и выставочного помещения. Тридцать писателей выпивали и обсуждали гонорары, говорили не о культуре, а о том, кто из них более успешен. Критерий успешности — деньги! Меня это удивило страшно, я таких разговоров в издательских и даже книготорговых кругах не замечал. В тех кругах спорят, что актуально, какие книги сейчас в России нужны… получается, такой „Разговор книгопродавца с поэтом” наоборот».
Александр Самоваров. Мастер. — «АПН», 2012, 6 декабря < >.
«[Василий] Белов был элитарным писателем. И это была драма пресловутых деревенщиков, к которым относили и Белова. Народ их не особо читал, их читала почвенная русско-советская интеллигенция. Даже с Шукшиным было то же самое. Он служил русскому народу, любил его, боролся за его интересы, но говорят, что даже в его родном селе к нему „народ” относился не очень. Народ не видел себя в его текстах, народ увидел себя только тогда, когда Шукшин снял „Калину красную”, мелодраму, когда он „народу” все начал объяснять на понятном для него языке».
«В любом „народе” есть два народа. Массы, толпа и элита этого народа, в данном случае под элитой я понимаю мыслителей, интеллектуалов, сознательно служащих своему народу. Русский народ холоден к своей элите. Безразличен. Поэтому он до сих пор и не состоялся».
«Позднее Валентин Распутин признал, что они думали, что являются духовными поводырями русского народа, а это оказалось не так. Ибо поводырь знает, куда идет, а они не знали. Просто не за что уцепиться русскому человеку, не было идей. Сейчас идея есть — русское национальное государство, демократия, как власть русского большинства. Идея есть, но во всю идет реставрация СССР».
Иван Толстой. Барин из Парижа. «Двенадцать стульев» как спецоперация. — «Русская Жизнь», 2012, 19 и 27 ноября < >.
«Киса Воробьянинов настолько хорош и выразителен сам по себе, что мысль о его вторичности кажется неуместной. Даже если он с кого-то и списан, трудно представить, чтобы оригинал мог соперничать в бессмертии с отцом русской демократии. Между тем в бессмертии-то как раз — запросто. Эмигрант Василий Шульгин — Воробьянинов-первый — прожил 98 лет, скончался в Советском Союзе и „Двенадцать стульев”, несомненно, читал, как в свое время читала, веселясь, вся русская эмиграция (и даже Набоков в „Тяжелом дыме” назвал роман „потрафившим душе”). Но именно детали, невероятные подробности подлинного визита и, главное, сама фигура прототипа, тайно пришедшего через границу и — о Боже! — тайно ушедшего назад в Европу, мешает всей этой истории скромно таиться в чащобе комментаторских частностей».
«Точку поставил, а сам думаю: почему в первой редакции „Гиперболоида инженера Гарина” (1925) агента уголовного розыска зовут Василий Витальевич Шульга? Что за шутка такая?»
См. также: Сергей Беляков, «Одинокий парус Остапа Бендера. Литературные раскопки» («Новый мир», 2005, № 12).
Людмила Улицкая. «Не надо бороться с жизнью, нужно работать с тем, что дано». — «Русский Журнал», 2012, 13 декабря < >.
Встреча Людмилы Улицкой с читателями в библиотеке РГПУ им. А. И. Герцена. Запись беседы сделана Натальей Алексютиной.
«На мой взгляд, книга, которая прошла мимо внимания читателя, но которая является выдающейся, это роман Людмилы Петрушевской „В саду других возможностей”. Это глубочайшая книга с чрезвычайно серьезным, хотя и спорным, содержанием. Книга с весьма критической и пессимистической антропологической подоплекой. Кроме того, это языковой шедевр. По-моему, на таком уровне, как Петрушевская, с языком никто не умеет работать. Хотя в последнее время она пишет мало и исключительно неровно. „В саду других возможностей” плохо переводят, он так называемое „трудное чтение”. Я принадлежу к поколению, которое выросло на трудном чтении».
«Сегодня мир переживает кризис, который описывается, в первую очередь, как экономический. Но я уверена, что мы испытываем кризис понятийный, кризис культурный, кризис, который существует сегодня во всех областях знаний и, конечно, это, прежде всего, кризис сознания. Потому что ясно, что в тех формах, в каких существовала европейская цивилизация, она существовать дальше не может. Там возникло несколько очень мощных тупиков».
«Мы в каком-то смысле обреченные люди, потому что как-то трудно верится, что гуманитарная культура в ближайшие сто лет будет процветать. Может быть, до тех пор, пока не будет востребованности новой формы, что вполне может быть, потому что человек удивительное создание, он, между прочим, продолжает эволюционировать. Я не пессимист, просто срок жизни человека — 75 лет, и мне скоро исполнится столько, поэтому не знаю, сколько еще смогу наблюдать. Одно знаю точно: нужно хорошо делать то, что ты умеешь делать».
Александр Эткинд. Внутренняя колонизация: Российская Империя сто лет спустя. — «Русский Журнал», 2012, 29 декабря < >.
«В XIX веке крепостное право было центральным предметом и российской политики, и историографии, то есть не только политики, экономисты дебатировали и рубились в отношении того, что делать с крепостным правом, как его реформировать, но и историки тоже непрерывно занимались его историей. В нынешних книгах и даже учебниках по российской истории XIX века крепостное право исчезает прямо на глазах. Если смотреть на учебники, которые выходят, то там все меньше и меньше глав, главок или секций, где есть ссылки на крепостное право».
«Мы знаем, что крепостное право было отменено в России примерно в те же года, когда было отменено в Америке рабство, что крепостное право имело гораздо более широкое применение, количество крепостных было несравненно больше в России, чем количество черных рабов в Америке. Оно существовало дольше, оно имело глубокое влияние и долговременные последствия. Но в американской историографии исследование рабства и память о рабстве — это огромная область, выходят целые журналы, посвященные этим вопросам, книги, опять-таки учебники».
«В Британии люди имели больше прав, чем их имели люди в британских колониях, это касается, допустим, выборов органов местной власти или в парламент. В России же мы отлично знаем, что крепостное право существовало именно в центральных губерниях. <...> В Сибири не было крепостного права, на Русском Севере в Архангельской губернии его не было, в балтийских странах и в Польше оно было, но было очень малоразвито. Что такое крепостное право? Это радикальное ограничение гражданских прав, которое проводилось в отношении этнически русского, религиозно православного населения: даже этнические русские, которые были старообрядцами, редко оказывались закрепощенными».
«У меня нет сомнений, что советский период совсем другой, чем имперский период, а постсоветский период совсем другой, чем советский период. Но определенные моменты схожи. Скажем, коллективизация, и об этом писали, была радикальным проектом внутренней колонизации. В то же время я уверен, что в исторических процессах нет инерции, что люди каждый раз изобретают заново, как управлять государством. Но процессы исторического творчества происходят в рамках тех возможностей, которые предоставлены географией, экологией, историей, экономикой, и поэтому они устойчивы».
«В Российской империи надо смотреть скорее на отношения власти, и на моем языке это и есть внутренняя колонизация. Но я бы добавил, что все-таки в России были столицы, были определенные области, губернии, территории, на которых этот самый слой, назовем его элитой, сосредотачивался, оттуда он управлял на расстоянии своими имениями по всей России, оттуда назначали губернаторов. Так что нельзя совсем уж этот слой подвешивать в воздухе, без географии».
Галина Юзефович. Фигура умолчания. — «Итоги». 2012, № 49, 3 декабря < >.
«Однако самое странное последовало позднее — сразу после церемонии, а также в последующие дни в социальных сетях. Прямо в зале после объявления вердикта жюри некоторые представители просвещенной общественности начали выражать бурное ликование, а по завершении церемонии в кулуарах поднимались бокалы за то, что „попа прокатили”. На следующий день то же настроение перекинулось в Faсebook , где расцвело особенно пышно. Таким образом, ключевым персонажем „Большой книги” впервые стал тот, кому премия не досталась».
«Я могу понять логику „Мне не понравилась книга архимандрита Тихона, зато понравилась книга Гранина, и я хочу, чтобы премию получил Гранин, а не Тихон”. Но от логики „Я не читал Гранина и не думаю, что его роман хорош, но я не хочу, чтобы премия досталась человеку в рясе” мне делается физически нехорошо».
Леонид Юзефович. «Ангажированная литература редко бывает хорошей». Беседу вел Андрей Рудалев. — «Thankyou.ru», 2012, 20 декабря <; .
«На Нобелевскую премию писатели претендуют не сами по себе, но как представители литературы тех стран, к которым по разным причинам прикован интерес западного мира. Россия сейчас к ним не принадлежит. Чтобы русская литература была интересна не только нам самим, Россия опять должна стать загадочной экзотической державой, какой она была для европейцев и японцев в начале ХХ века, страной будущего, как в 1930-х, „местом силы”, как после Второй мировой войны, или, на худой конец, „империей зла”».
«Язык политизируется там, где отсутствует политика». Андрей Архангельский беседует с филологом Михаилом Эпштейном. — «Огонек», 2013, № 51, 24 декабря < >.
Говорит Михаил Эпштейн: «Мне кажется, начался процесс сознательного возвращения общества в родной язык, оживление вкуса к языкотворчеству, словотворчеству. Этот процесс можно назвать воязыковлением — по сходству с воцерковлением. Человека крестили младенцем, он об этом и думать забыл, но вот приходит время — и он возвращается уже сознательно в ту церковь, которой неосознанно принадлежал по факту крещения. То же самое происходит и в наших отношениях с языком. Мы возвращаемся уже взрослыми в тот язык, которому принадлежим по факту рождения в нем, и уже сознательно участвуем в его обрядах, заново открываем смысл в тех словах, правилах и грамматических структурах, которые раньше употребляли автоматически, по привычке».
«И мне кажется, что в общественном и политическом вакууме 2000-х вся скрытая энергия российского бытия, вся тоска по смыслу и воля к смыслообразованию стали опять переходить в язык, в языкотворчество, потому что больше им просто некуда было деться».
Составитель Андрей Василевский
«Волга», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Православное книжное обозрение», «Солженицынские тетради», «Toronto Slavic Quarterly»
Василь Быков. «И был фронт, и была война, и был плен…» Беседу вел Иван Афанасьев. — «Вопросы литературы», 2012, № 6 <;.
Публикуется впервые. Беседа была записана исследователем творчества писателя в Минске в мае 1988 года: И. А. работал тогда над кандидатской диссертацией на тему «Антивоенная направленность творчества Василя Быкова», и это была их первая беседа, впоследствии долгое общение продолжалось до августа 2001 года (последней встречи в Германии).
«…Видите ли, я меньше всего преследую какие-либо дидактические цели. Я просто оперирую жизненным материалом. Ясное дело, что жизнь всегда сложнее каких-то установок. Всегда сложнее. И вот эту сложность я хотел показать в данном случае. И, может быть, в поступках Мороза, может быть, того же Рыбака (герои „Обелиска” и „Сотникова”. — П. К. )… У меня часто спрашивают: „Ну, что он — предатель, не предатель?..” Я не знаю. Я не знаю. Потому что это только один из его поступков. А последующие — еще где-то за рамками повести. Поэтому он мог вполне и поучаствовать дальше в карательных акциях, и убивать, и стать убийцей. Мог, допустим, увидев, к чему его готовят, — вернуться, перебежать к своим. Свои могли его застрелить: великолепно... Могли его послать куда-то. Например, в штрафники, чтобы он искупил там эти подозрения. В общем, могло быть по-разному. Но такая задача уже не стояла.
Тут я уж не знаю... В том, что касается войны, всегда, почти всегда обстоятельства сильнее человека. Я имею в виду прошлую войну нашу. И человек в единоборстве с этими обстоятельствами очень редко одерживает победу. Или же победа его может быть только вот такого характера, как у Сотникова.
— „Мертвое” доказательство.
— Только такая победа. Потому что обхитрить, обойти, победить обстоятельства, в общем, практически было невозможно».
В другом месте беседы, говоря о том, что немецкому фашизму все-таки не удалось выполнить задачу «тотального расчеловечивания», В. Б. приводит в пример «классического представителя немецкого пруссачества» — генерала Паулюса, который отменил в своей армии приказ Гитлера об уничтожении в прифронтовой полосе коммунистов и евреев. «Это, в общем, довольно непонятный поступок с точки зрения любой военщины. Ну а потом еще надо иметь в виду христианскую традицию, хотя фашизм ее, надо сказать, подвел основательно в Германии».
Константин Исупов. Два века в тени Искандера. Императивные и эстетизированные. — «Вопросы литературы», 2012, № 6.
«В одной из лучших книг о Герцене — монографии Г. Шпета — „сердце” развернуто в широком миросозерцательном контексте. Эта категория положена в основу социальной жизни и в самую глубину межличностных отношений, более того — она предположена в составе познавательных процедур: „Как в примирении индивидуального и общего нужно было, чтобы человек не только ‘любился‘, не только жил своим чувством и сердцем, но также проникался идеалами общего, так и здесь к теоретическому решению разума, которое остается только отрицательным, должно присовокупиться положительное движение сердца и воли”. <…>
Шпет пережил наследие Герцена как нечто интимно-сердечно причастное его собственному мироощущению. Русский философ, говоря о Герцене, забывает свою обычную маску скептика-ироника, которая так раздражала его современников. В рассуждениях о мечтательно-романтическом утопизме в сочетании с фанатизмом у Шпета вырываются интонации свидетеля, до последних глубин потрясенного распадом социального бытия: „Кто однажды продумал смысл и психологию этого мировоззрения, враждебного настоящей и в настоящем жизни, тот с осторожностью и опаскою будет прислушиваться к звукам марша, призывающего в бездушный град безликого будущего, ибо эти звуки только для того, чтобы заглушить стон и рыдание тех, на чьих настоящих слезах и на чьей настоящей крови воздвигается в настоящем этот безумный и бессердечный град”».
В номере см. также: материалы из архива Льва Копелева, мемуары Бенедикта Сарнова об истории публикации романа Гроссмана «Жизнь и судьба».
Здесь и воспоминания Бориса Друяна («Том агатовый») о девятилетних мытарствах с изданием посмертного тома стихов Ахматовой (того самого, к которому было написано предисловие К. Чуковского, в котором подготовкой текстов и примечаний отдела поэзии ведала Л. Чуковская). В результате многих драматичных событий статью для книги написал главный редактор издательства Д. Хренков, а роль составителя перешла к автору мемуара. Честное и добросовестное свидетельство, хорошо отражающее издательскую атмосферу 1970-х. Среди «филологических портретов» современных поэтов обращу внимание на статьи Е. Пестеревой (об Алексее Цветкове) и саратовского критика Е. Ивановой (об Ирине Евсе).
В. В. Каширина. Юбилей 100 лет назад. — «Православное книжное обозрение», 2012, № 11 (024).
В 2015 году на общецерковном уровне будет отмечаться 200-летие со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского, — великого церковного писателя и проповедника. Здесь рассказано, как отмечался его предыдущий большой юбилей. Вослед заметкам — огненная, если не сказать сильнее, статья студента Анатолия Вельмякина «Неверие как преступление» с напоминанием о том напряжении, с которым служил Затворник, о его «жарком» слове.
«Тема номера» — малоизведанное: приходские библиотеки. Общение меж ними есть ныне и в соцсети «ВКонтакте» (при участии журнала «ПКО»).
Георгий Кубатьян. Отходная вместо здравицы. — «Знамя», 2013, № 1 <;.
О медленной гибели уникального в своем роде журнала «Литературная Армения», выходящего более полувека.
«Но прежде вот о чем. Уместно ли толковать о журнале с полувековой биографией в разделе, где предстают urbi et orbi новички? Вполне. Ровно два десятилетия никто знать не знает, есть он, этот журнал, или, миль пардон, окочурился, как выглядит и как ему живется-можется. „ЛА” хорошо ли, худо ли знали до той поры, пока не расползлось общее культурное пространство. В оно время здесь, бывало, печатали вещи, входившие в „обоймы” московских критиков, а ведущих его прозаиков и поэтов не нужно было представлять обширной аудитории. Не говорю уж о веренице нашумевших в свое время публикаций, начавшейся с перепечатки арменианы Мандельштама, Белого и Волошина: „Добро вам” Гроссмана, „История одного посвящения” и „Живое о живом” Цветаевой, „Провансальские пересказы” и „Железная шерсть” Бунина. Здесь один-единственный раз при жизни напечатали в отечестве под собственным именем Надежду Мандельштам; обнародованный здесь мемуар о встрече Цветаевой с Исаакяном положил начало воспоминаниям Ариадны Эфрон; сюда предлагал иные свои вещи Битов, отсюда со своей „Тоской по Армении” вступил в легальную литературу Юрий Карабчиевский.
Времена переменились — и как отрезало».
Самое главное там — в конце. В сравнении России с Англией, например.
«Открытую почту нам Москва обрубила в оба конца…» Из переписки Александра Солженицына и Лидии Чуковской (1974 — 1977). Публикация, подготовка текстов и комментарии Е. Ц. Чуковской и Н. Д. Солженицыной, вступительная заметка Е. Ц. Чуковской — Солженицынские тетради. Материалы и исследования [альманах]. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., «Русский путь», 2012. Вып. 1.
Очевидно, это стержневой текст «Тетрадей». Публикуется только часть переписки за указанный период (18 писем из 30, с момента высылки Солженицына); когда эпистолярий будет доступен отечественному читателю полностью — бог весть (кстати, Н. Д. Солженицына говорила на эту тему в публичных интервью, объясняя позицию публикаторов).
Иные письма — сердечные, лирические послания; другие — целые трактаты с подробным разбором позиций друг друга. С одной стороны — непрерывный спор, а с другой — музейная бережливость по отношению друг к другу, понимание масштабов поставленных перед собою задач, ответственности за собственный дар и предназначение.
Бытовое и планетарное, домашнее и всеобщее.
Вот Л. Ч. пишет летом 1974-го из Переделкина о том, как «начальство не дремлет», как к ней (и не только к ней) являются под видом «прозревших» гэбэшные провокаторы…
И сразу же: «Но вот где горечь, Александр Исаевич, это — когда приходит настоящий человек, в самом деле прозревший, и надо ему помочь, необходимо, а — боишься. Все-таки человек с улицы, не знаешь его, хоть и веришь голосу, слову. И потом чувствуешь себя такой дрянью: струсила, не помогла. Недавно был один из Сибири, рабочий. Ему 62 года, 10 лет, до 56, был в лагере. Сейчас пенсионер и обучает машинистов. Хочет „разафишировать”, что с ним случилось. Он в столовке кому-то сказал: „Что вы Солженицына браните, вы ж его не читали”. А потом на выборы не пошел. Его отвезли в милицию, оттуда в КГБ, беседовал полковник 4 часа. „Ты у нас помолчи, мы тебе в минуту 5 лет за хулиганство дадим”. „Ты на своего Солженицына не надейся, мы его кончим”. „Тебе незачем его книги читать, ты в ‘Правде‘ Яковлева читал? Понял? И хватит!”
Собрался он совершить поступок безумный, я его как могла отговаривала. Он: „А что мне бояться, моя жизнь прошла, мне уж 62 года, пускай сажают”.
Потом поглядел кругом (я была с ним в столовой, одна): „А вы что ж так скучно живете? Я знал бы, вам яблочков привез”» (из письма от 14 июля 1974 г.).
И вот в начале 1977-го, уже из Вермонта, А. С. откликается на оценку Чуковской 3-го тома «Архипелага» (цитирую обильно, так ведь сборника в сети пока нет):
«Достаточно ли крупно я сейчас пишу, разбираете ли Вы меня? Растроган глубоко Вашими строками о III „Архипелаге”. С таким сердцем и у нас-то в стране не многие воспринимают, а здесь — здесь я вообще удивляюсь, что хоть что-то поняли (ещё ведь и переводы посредственные или плохие). Говоря по-архипелажному — здесь мир небитых фреев и жить между ними ужасно тоскливо, просто отчаянно! Старый Свет, Новый Свет — не знаешь, где хуже. К этому обществу формальной свободы и существенного бессердечия мне, да и многим нам, привыкнуть совершенно невозможно. Живём — как не живём, а только: когда вернёмся? Вот этот камень, на котором я сижу с сыновьями, они знают — есть заколдованный крылатый конь, и ночами он слегка дышит, как дышит Россия, а как только Россия полностью вздохнёт — так конь расколдуется, и мы на нём полетим на родину. Ложась вечером, ребята просят: а ты ночью проверь — дышит?
Люблю Вас, обнимаю, не сердитесь на редкость и краткость моих писем!
Живём мы в страшное время (здесь — тоже страшное, по-другому) — даст Бог, кто-то из нас доживёт до лучшего».
Материалы «круглых столов», литературной премии А. С. (два последних по времени лауреата), специальные статьи — всё тут есть. Из удививших текстов, читавшихся с неослабевающим напряжением, назову воспоминания Бориса Любимова («„Пир победителей” на сцене Малого театра. Из истории постановки»). Там есть и поистине мистическое: чего стоит только история об артисте, чей отец был следователем Солженицына в годы войны (и присутствовал на премьере).
Вадим Перельмутер. Фрагменты о Чуковском. — «Toronto Slavic Quarterly», 2012, № 40 <; .
Эссе посвящено Мирону Петровскому, юбилею которого (см. ниже) в этой книжке журнала выделен специальный блок трудов коллег.
«Чуковский не сочинил ни одной „советской” вещи для детей, ничего похожего на пропагандистского „Мистера Твистера”, героический „Пожар” или учительское „Что такое хорошо и что такое плохо?”. Это он оставил делать Маршаку и Маяковскому. При этом „Мистер Твистер” одновременно и с ритмами Чуковского перекликается, и подозрительно смахивает на сочиненное Маяковским восемью годами ранее „Black and White”.
Чуковский делает совсем иное. Он ничему не учит, потому что научить никого и ничему нельзя, можно лишь помочь выучиться. Он и помогает, без малейшего нажима, играючи, обрести свободу воображения и гибкость разговора (самовыражения), слуха и чтения — в слиянности звука-образа-смысла-ритма. То бишь речь — об о-своении главного — „национального” — интеллектуального богатства — языка. В конечном счете всё это сводится к свободе мышления, не больше и не меньше...»
В. Перельмутер приводит множество поразительных наблюдений над поэтикой сказочных поэм Чуковского. И между тем замечает:
«Александр Квятковский мог бы найти/взять у Чуковского множество примеров/образцов ритмов, размеров и рифм для своего Поэтического словаря.
Однако — традиционно — детские стихи не привлекают внимания серьезного исследователя.
Думается, не я один замечал, что читающие/слушающие Чуковского дети легко усваивают некоторые — и совсем не самые простые — элементы его поэтики и с удовольствием играют в сочинение стихов».
Вообще же Чуковскому в этом номере «TSQ» повезло; здесь публикуется и обширный «Фрагмент № 21» — Романа Тименчика («Из Именного указателя к „Записным книжкам” Ахматовой»), и другие исследования.
Андрей Пермяков. Из белой маршрутки. — «Волга», Саратов, 2013, № 1-2 <; .
Низкие горы цепочкою так похожи на ключ,
что настоящим ключам, наверное, очень обидно.
По реке Чусовой идёт маломерное судно Луч.
Небо до хруста белое — чаек почти не видно.
Здесь поворачивает на север река-сирота
с крутой стороны упругих и малорослых гор.
Хочешь сказать «комар», а говоришь «навсегда»,
хочешь сказать «пойдём», а говоришь «простор».
Холодно только. Будто на небе или наоборот.
Но всё — для тебя одного,
точно в неполучившемся детстве на тёткиной даче.
Это не мокрое небо, это всех вод естество
обнимает тебя как умеет — по-медвежачьи.
И маломерное судно по чёрной воде идёт.
Вадим Скуратовский . Верность себе. — «Toronto Slavic Quarterly» , 2012, № 40.
Статья открывает блок материалов, посвященных юбилею филолога и литературоведа Мирона Петровского (Киев).
«„Детско-взрослые” работы Петровского поражают своим блестящим проникновением в само „зазеркалье” этой литературы, в ее морфологию. Это же нужно было увидеть (и весьма убедительно) в приключениях Буратино отзвуки литературного и театрального спора кающегося графа Алексея Толстого с символизмом Блока (Пьеро) и авангардизмом Мейерхольда (доктор кукольных наук Карабас-Барабас). Да и тогдашние обобщающие наблюдения критика над тем, что самоназвалось „советской литературой для детей”, весьма поучительны.
…Его сборник статей вынули из типографской машины чуть ли не в день начала советской интервенции в Чехословакию». И далее — напоминание о многолетней травле ученого, который не остановил свою работу, но расширил «поле видения» (Блок, Маяковский, Олеша, Булгаков, Януш Корчак, русский романс…)
Номер полон интересных исследований. Выделю статью Павла Нерлера «На воздушных путях: по ту сторону тамиздата» — о заграничной «некрологии» Мандельштама и о фантастической работе Г. Струве и Б. Филиппова над однотомником 1955 года — в содружестве с тутошним Юлианом Оксманом.
Александр Солженицын. Виктор Астафьев. Из «Литературной коллекции» (публикуется впервые). — «Солженицынские тетради», 2012, выпуск 1.
Из части текста, посвященной роману «Прокляты и убиты».
«Эта книга — уникальный случай, когда война описывается простым пехотинцем, „чёрным работником войны”, в то время и не предполагавшим, что станет писателем.
Описание днепровской переправы, со всей её беспорядочностью, неясностью, даже противоречиями и невидимостью отдельных движений — жизненно сильно именно своею неразберихой, не охваченной единым общим объяснением. Но оперативный обзор недоступен даже опытному офицеру, и то спустя много времени от события. Также с огромным опозданием, охватным взглядом, Астафьев может написать об этой переправе: „Эти первые подразделения конечно же погибнут, даже до берега не добравшись, но всё же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, не израсходует боеприпасы”. Упрекнуть ли автора, что он не показал эту массовидность, как „20 тысяч погубили при переправе”? Зато мы читаем, как телефонист Лёшка, спасая в лодке себя и свои катушки (задание майора протянуть связь по дну реки) — бьёт веслом по головам других, наших тонущих бойцов, чтоб они, цепляясь, не опрокинули бы лодку, не загубили операцию. Никаких и ничьих ахов над свеже убитыми, простой быт. Хотя можно заныть от этого месива от непосредственности пересказа — но всё новые и новые эпизоды, и все правдивы. Между эпизодами нет устойчивой осмысленной связи — так солдату и видны только обрывки событий, тем более не понять ему тактической обстановки. <…> Что у автора полностью неудачно — это все сценки на немецкой стороне».
«Виктору Астафьеву» предшествует очерк «Николай Лесков».
Илья Фаликов. Кладбище паровозов. К 100-летию Ярослава Смелякова. — «Дружба народов», 2013, № 1 <;.
«Он лишь раз срифмовал в евтушенковском духе: „делегаты — деликатно”. Мог — не хотел. Даже в молодости, ибо евтушенковская рифма не рождена лишь Евтушенко — Сельвинский или Кирсанов, идя от Хлебникова, Маяковского и Пастернака, блистали изысками рифмовки, но Смеляков и тогда им не очень-то следовал, несмотря на влечение к стиховому модерну.
В нем сосуществовало несколько натур. Был там и середняк, был там и старовер. Середняк отписывался командировочными впечатлениями и слал поклоны высшему руководству. Ему нравилось стоять на Красной площади, принимая первомайскую демонстрацию. Старовер хранил верность идеалам и стоял на страже классики. Таково было его шестидесятничество. Он сам избрал эту роль. Приветствуя одаренную молодежь, он учил ее не растрачиваться на интим, начисто забыв о том, что ему самому некогда досталось на орехи как раз по части недопустимой чувствительности. Но чувствительным он остался навсегда. Количество уменьшительных суффиксов зашкаливает. Всякие там „хозяечки”, „платьишки” и „кулечки” пестрят у него, засахаривая самую чистую струю лирики.
Он допускал промахи элементарного порядка. Ну, скажем, Маяковский в его стихотворении „Чувство юмора” (1972) хохотал , а этого никогда не было, не хохотал он никогда. Натали Пушкина-Ланская нарисована так: „толкалась ты на верхних хорах / среди чиновниц и купчих” — это где? На балу в Зимнем? Или: „И в горе, и в счастье, София, / всегда неизменно с тобой / могучая наша Россия, / как с младшей любимой сестрой”. Болгария старше России на много веков.
В советскую пору стихотворцы строчили высокоидейные спецстишки для проходимости книги в печати. Их называли „паровозами”. Наследие Смелякова во многом кладбище этих „паровозов”. Но само стихотворение „Кладбище паровозов” — одно из лучших у него. Это реквием по своему времени, по всему тому, чему он отдал светлейшие порывы души. По существу, Смеляков засвидетельствовал крах своего поколения: „Это распад сознанья — / полосы и круги. / Грозные топки смерти. / Мертвые рычаги <…> Стали чугунным прахом / ваши колосники. / Мамонты пятилеток / сбили свои клыки”.
Надо не забывать: Смеляков — сын железнодорожника, так что это стихотворение — его кровное переживание во всю длину существования от колыбели до грозных топок смерти. Ему снились сны такого рода: „Приснилось мне, что я чугунным стал…”. Не был он чугунным. Поэтическое чутье выводило его на истинные высоты порой без контроля рацио».
Феликс Чечик. «Записанные на виниле» и др. стихи. — «Волга», Саратов 2013, № 1-2.
эпистолярный жанр
в отсутствие эпистол
и псс в пыли
мерцает еле-еле
потушенный пожар
заброшенная пристань
и гибнут на мели
бездушные емели:)
Борис Чичибабин. Доброе Средневековье. К 90-летию со дня рождения. Публикация Полины Брейтер. — «Звезда», 2013, № 1 <;.
«Процессы ведьм, конечно, были. Это очень больно и очень страшно. Ужасно, непростимо страшно и больно. Но ведь смертный грех и искупался ценой, какой уже не было в другие времена, — святостью подвижников, самоотверженностью, духовностью. Вот Вам мое Средневековье. <…>
Конечно, отдельному человеку в то время жить могло быть тяжело и страшно, и в этом смысле Вы правы, в каждой эпохе есть свои жестокость и „плотскость”, как и свои доброта и духовность. Но есть же разница между Грецией времен Сократа и Перикла и Грецией после Александра Македонского, между Римом республики и Римом последних лет перед Христом. Все-таки каждая эпоха в истории имеет определенный смысл, преобладающие цвет и мелодию.
Между прочим, Средние века — это еще и эпоха добуржуазная, безбуржуазная, когда народ был еще не чернью, а народом, когда он был творящей силой, слагал песни и складывал сказки.
Все сказочные сюжеты, все людоеды, драконы, рыцари, феи, волшебные палочки берут свое начало оттуда, из Средневековья. Недаром эта эпоха так была любима великими романтиками. Кстати, и само слово „романтизм” в противовес „классицизму” явилось из противопоставления античной классике — романского Средневековья, разуму — сердца, красоте внешней — красоты внутренней, отсюда все эти Квазимодо и Гуинплены...
Кажется, это последняя эпоха в Европе, когда были возможны чудеса.
Дело даже не в знамениях, пророчествах, видениях, которые были тогда почти массовым явлением. Но разве история Жанны д’Арк, девушки, возглавляющей армии и спасающей нацию, не явное и величественнейшее чудо? Да если бы в этой эпохе была бы одна Жанна да еще Франциск Ассизский, самый прекрасный, трогательный и обаятельный герой христианства после самого Христа, то и тогда Вам стоило бы внимательнее и заинтересованнее отнестись к моей защите „доброго Средневековья”. <…>
Знаете что? Вы отложите в этом месте мое письмо, положите его рядом с собой на краешек стола, или на диванчик, или еще куда-нибудь в сторонку и задумайтесь немножко: что такое Средневековье, что это за Средние века, что Вы о них знаете, что нам всем о них известно?
Вы увидите поразительные вещи. Вы поймете, что это огромный участок времени, вмещающий в себя очень многое и, в общем, мало известное, почти абсолютно неизвестное» (из письма середины 1970-х).
Юлия Щербинина. Нимбы псевдонимов. — «Знамя», 2013, № 1.
«Повышение интереса к литературным псевдонимам, как оказалось, имеет циклический характер. Прокатившийся лавиной в первой четверти XX века, когда едва ли не всякий сочинитель изобретал себе другое имя, этот интерес искусственно подавлялся в советское время, когда, по словам писателя Михаила Бубеннова, „социализм, построенный в нашей стране, окончательно устранил причины, побуждавшие людей брать псевдонимы”. Постсоветская эпоха вызвала не только новый всплеск интереса к вымышленным именам, но и новые предпосылки к их изобретению.
В начале наступившего века мотивация выбора псевдонимов пишущими людьми претерпевает качественные трансформации. С одной стороны, произошло перераспределение уже названных причин (например, утрачивают острую актуальность соображения политического толка); с другой стороны, возникают новые резоны для игры на литературном поле под вымышленным именем. Во многом это связано с тотальной виртуализацией культуры и проецированием анонимности интернет-общения в реальность офлайн. Тяга к псевдонимам не в последнюю очередь связана и с актуальной тенденцией превращения популярных писательских имен в книжные бренды, по аналогии с раскрученными названиями торговых марок.
И к настоящему времени сформировались три типовые модели литературных псевдонимов — условно назовем их „имиджевая”, „функциональная” и „проективная”».
Центр статьи — история с «мавринским» псевдонимом Алексея Иванова. На самом деле все это — о силе мифологического мышления. Правда, с несколько диковатым выводом.
Составитель Павел Крючков


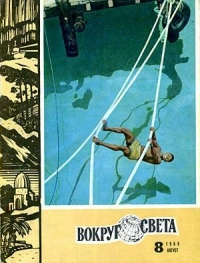

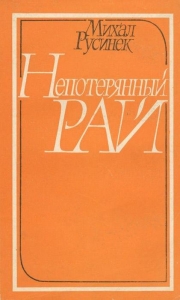




![Разумная дзевачка [Маленькая аповесьць пра адно дзяцінства]](https://www.4italka.su/images/articles/502878/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Новый Мир ( № 3 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев