Михаил Афанасьевич Булгаков «БЫЛ МАЙ...»
Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается Театр. Это был отличный, гладкий, любимый переулок, по которому непрерывно проезжали машины. Проезжая, они хлопали металлической крышкой, вделанной в асфальт. «Может быть, это канализационная крышка, а может быть, крышка водопроводная», — размышлял я. Эти машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.
«Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру», — думал я, тыча концом палки в тротуар и боясь смерти[1].
«Надо ускорить шаг, свернуть во двор, пройти вовнутрь Театра. Там уже не страшны машины, и весьма возможно, что я не умру».
Но свернуть во двор мне не удалось. Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене Театра и заложив ногу на ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком.
Это был молодой человек ослепительной красоты, с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. Они преграждали путь в ворота.
Я снял шляпу и низко поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня странным образом. Именно — сцепил ладони обеих рук, поднял их кверху и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на меня пронзительно, лихо улыбаясь необыкновенной красоты глазами. Я смутился и уронил палку.
— Как поживаете? — спросил меня молодой человек.
Я поживал хорошо, мешали мне только машины своим адским криком, я что-то мямлил и криво надел шляпу.
Тут на меня обратилось всеобщее внимание.
— А вы как поживаете? — спросил я, причем мне показалось, что у меня распух язык.
— Хорошо! — ответил молодой человек.
— Он только что приехал из-за границы, — тихо сказал мне режиссер.
— Я читал вашу пьесу, — заговорил молодой человек сурово.
«Надо было мне другим ходом, через двор, в Театр пойти», — подумал я тоскливо.
— Читал, — повторил молодой человек звучно.
— И как же вы нашли, Полиевкт Эдуардович? — спросил режиссер, не спуская глаз с молодого человека.
— Хорошо, — отрывисто сказал Полиевкт Эдуардович, — хорошо. Третий акт надо переделать. Вторую картину из третьего акта надо выбросить, а первую перенести в четвертый акт. Тогда уж будет совсем хорошо.
— Пойдите-ка домой да и перенесите, — шепнул мне режиссер и беспокойно подмигнул.
— Ну-с, продолжаю, — заговорил Полиевкт Эдуардович. — И вот они врываются и арестовывают Ганса.
— Очень хорошо! Очень хорошо! — заметил режиссер. — Его надо арестовать, Ганса. Только не находите ли вы, что его лучше арестовать в предыдущей картине?
— Вздор! — ответил молодой человек. — Именно здесь его надо арестовать, и нигде больше.
«Это заграничный рассказ, — подумал я. — Но только за что он так на Ганса озверел? Я хочу слушать заграничные рассказы, умру я или не умру».
Я потянулся к молодому человеку, стараясь не проронить ни слова. Душа моя раскисла, потом что-то дрогнуло в груди. Мне захотелось услышать про раскаленную Испанию. И чтоб сейчас заиграли на гитарах. Но ничего этого я не услышал. Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избили в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха мать этого Ганса была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем.
«Господи, какие мрачные вещи он рассказывает! И где он, на горе мое, встретился с этим Гансом за границей? И пройти в ворота нельзя, пока он не кончит про Ганса, потому что это невежливо — на самом интересном месте...»
Чем дальше в лес, тем больше дров. Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рявкали. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было, и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы[2]. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла. Мне показалось, что померкло солнце, я почувствовал себя несчастным.
Рядом оборванный человек играл на скрипке мазурку Венявского. Перед ним на тротуаре, в картузе, лежали медные пятаки. Несколько поодаль другой торговал жестяными мышами, и жестяные мыши на резинках проворно бегали по досточке.
— Вещь замечательная! — сказал режиссер. — Ждем, ждем, ждем с нетерпением!
Тут дешевая маленькая машина подкатила к воротам и остановилась.
— Ну, мне пора, — сказал молодой человек. — Товарищ Ермолай, к Герцену.
Необыкновенно мрачный Ермолай за стеклами задергал какими-то рычагами. Молодой человек покачал колокол, скрылся в каретке и беззвучно улетел. Немедленно перед его лицом вспыхнул зеленый глаз и пропустил каретку Ермолая. И молодой человек въехал прямо в солнце и исчез.
И я снял шляпу, и поклонился ему вслед, и купил жестяную мышь для мальчика, и спасся от машин, войдя во дворе в маленькую дверь, и там опять увидел режиссера, и он сказал мне:
— Ох, слушайте его. Вы слушайте его. Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина[3]. Большие недоразумения могут получиться из-за этой картины. Бог с ней, с третьей картиной!
И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май.
Комментарии. В. И. Лосев
«Был май...»
Впервые — Аврора. 1978. №3.
Печатается по машинописному тексту, хранящемуся в НИОР РГБ (ф. 562, к. 5, ед. хр. 1).
К рассказу приложены пояснения Е. С. Булгаковой, которые приводятся полностью.
«Написано М. А. Булгаковым (продиктовано Е. С. Булгаковой) 17 мая 1934 г. сразу же после прихода домой в Нащокинский пер. из АОМСА (админ. отд. Моск. Сов.), куда мы были вызваны для получения заграничных паспортов, после того как М. А. написал просьбу о них на имя А. С. Енукидзе. 17.V по телефону некий т. Борисполец сказал М. А.-чу, чтобы мы пришли, взяв с собой паспорта и фотокарточки для получения паспортов. В АОМСе он встретил нас очень любезно, подтвердил сказанное, дал анкеты для заполнения, сказал, что мы получим валюту. Перед ним на столе лежали два красных паспорта. Когда мы внизу заполняли анкеты, в комнату вошли двое: женщина и мужчина. Меня очень смешил М. А. во время заполнения анкеты, по своему обыкновению. Те пришедшие присматривались очень внимательно, как мы сообразили потом. Паспортов нам Борисполец не выдал, „паспортистка ушла", — сказал. Перенос на 19-е. С 19-го на 20-е и т. д. Через несколько дней мы перестали ходить. А потом, в начале июня, кажется 7-го, во МХАТе от Ивана Серг., который привез всем мхатовцам гору паспортов, — мы получили две маленькие бумажки — отказ. На улице М. А. стало плохо, я довела его до аптеки. Там его уложили, дали капли. На улице стоял Безыменский[4] около своей машины. „Ни за что не попрошу", — подумала я. Подъехала свободная машина, и на ней отвезла Мишу. Потом он долго болел, у него появился страх пространства и смерти.
А эту главку он продиктовал мне 17 мая — она должна была быть первой главой будущей книги путешествия. „Я не узник больше! — говорил Миша счастливо, крепко держа меня под руку на Цветном бульваре. — Придем домой, продиктую тебе первую главу..."»
11 июня 1934 г. Булгаков написал большое письмо Сталину, в котором подробно изложил все происшедшее. Черновой вариант письма, хранящийся в архиве писателя, был опубликован нами в журнале «Октябрь» (1987. №6). В «Литературной газете» (1999. №28) был напечатан отрывок из экземпляра письма, который читал Сталин и на котором он начертал: «Совещ<аться>». Характерно, что основной текст этого экземпляра оказался утраченным, но окончание его, к счастью, сохранилось. Оно представляет несомненный интерес, и мы некоторые фрагменты из него приведем ниже:
«...не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположение, что я, отправившись в кратковременное путешествие, останусь за границей навсегда?
Если это так, то я, принимая на себя ответственность за свои слова, сообщаю Вам, что предположение это не покоится ни на каком, даже призрачном, фундаменте.
Я не говорю уже о том, что для того, чтобы удалиться за границу после обманного заявления, мне надлежит разлучить жену с ребенком, ее самое поставить этим в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном театре, ославить себя, — и главное, — все это неизвестно зачем.
Здесь важно другое: я не могу постичь, зачем мне, обращавшемуся к Правительству с важным для меня заявлением, надлежит непременно помещать в нем ложные сведения?
Я не понимаю, зачем, замыслив что-нибудь одно, испрашивать другое? И тому, что я этого не понимаю, у меня есть доказательство. Именно я четыре года тому назад обращался к Правительству с заявлением, в котором испрашивал или разрешения выехать из Союза бессрочно, или разрешения вступить на службу в МХАТ.
Задумав тогда бессрочный отъезд, под влиянием моих личных писательских обстоятельств, я не писал о двухмесячной поездке.
Ныне же, в 1934 году, задумав краткосрочную поездку, я и прошу о ней.
У меня нет ни гарантий, не поручителей.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре моего дела...»
После такого объяснения не разрешить поездку было невозможно. Однако ответа на письмо не последовало. Высокое «Совещание» отказало писателю в поездке, тем самым окончательно утвердив его во мнении, что он — «узник». И политическому узнику, даже получившему временную «увольнительную», нужно было не шутить в приемной, а с благоговением и подобострастием заполнить анкеты и принять паспорта. Несколько отпущенных жене шуток стоили долгожданнейшей поездки в Париж, где писатель надеялся увидеть братьев...
Такой «подарок» получил Булгаков от Сталина к пятисотому спектаклю «Дней Турбиных» в Художественном театре. В письме В. В. Вересаеву Булгаков так оценил происшедшее: «Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос! Выбрался из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня... Я написал генсек-ру письмо, в котором изложил все происшедшее, сообщал, что за границей не останусь, а вернусь в срок, и просил пересмотреть дело. Ответа нет. Впрочем, поручиться, что мое письмо дошло по назначению, я не могу...»
Письмо, как мы уже знаем, прекрасно дошло. Сталин внимательно читал его, начертал даже на нем резолюцию (заметим: не отказывающую!), но отпущен Булгаков не был...
«Был май...»
1
...тыча концом палки в тротуар и боясь смерти. — Булгаков не фантазирует, а описывает точно свои ощущения. Были продолжительные периоды, когда он боялся ходить по улицам, остро чувствуя неуверенность в себе. Об этом можно прочитать в дневнике Е. С. Булгаковой, но лучше и проникновеннее всех об этом написал артист МХАТа М. Яшин: «В последний раз я встретил его на Кузнецком мосту — ему, видимо, нужно было перейти через Петровку, но со всех сторон неслись машины... Он стоял в некоторой растерянности. Я окликнул его и предложил свои услуги...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 275).
(обратно)2
...рассказывал третий акт своей пьесы. — Л. М. Яновская полагает, что Булгаков в данном случае пародирует пьесу Вл. Киршона «Суд» (см.: Булгаков М. Избранные произведения. Киев, 1989. С. 764).
(обратно)3
— Ох, слушайте его... Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина. — В дневнике Е. С. Булгаковой (запись 9 сентября 1933 г.) описывается похожая ситуация:
«Афиногенов М. А-чу:
— Читал ваш „Бег", мне очень нравится, но первый финал был лучше.
— Нет, второй финал лучше...
...Афиногенов стал поучать, как нужно исправить вторую часть пьесы, чтобы она стала политически верной.
Судаков:
— Вы слушайте его! Он — партийный!!!
Афиногенов:
— Ведь эмигранты не такие...
М.А.:
— Это вовсе пьеса не об эмигрантах, и вы совсем не об этой пьесе говорите. Я эмиграции не знаю, я искусственно ослеплен...»
(обратно)4
Безыменский А.И. (1898-1973) — советский поэт.
(обратно) (обратно)

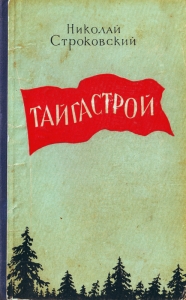

Комментарии к книге ««Был май...»», Михаил Афанасьевич Булгаков
Всего 0 комментариев