АНАТОЛИЙ ЖУКОВ
КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕХ
Жуков A. H. Каждый отвечает за всех: Повести и рассказы. – М.: Моск. рабочий, 1978. – 320 с.
ЛУННЫЙ СВЕТ
А. А. Жукову, сыну
Они сели рядом, а напротив, на переднем кресле, сидела девушка, и, когда сын, продолжая разговор, сказал: «Пап, а помнишь», – девушка удивленно посмотрела на отца, потом на сына. Конечно, она сразу обратила внимание на сына, он выделялся и новенькой формой, стройный такой молодой летчик, но она никогда бы не подумала, что севший рядом с ним мужчина, точно такого же роста и почти такой же стройный, в гражданском костюме, может быть отцом летчику.
– Ну да, помню, – отвечал отец. – Я тогда вернулся из армии, а тебе было четыре года, и ты мог это запомнить сам. Я-то прекрасно помню. – Он перехватил удивленно-пристальный взгляд девушки, пожал плечами и опять обратился к сыну: – И еще помню тебя двухлетним, когда я был в отпуске и мы поехали с тобой на велосипеде в лес. Ты сидел впереди на раме, вернее, на моей пилотке, которую я подложил, и держался одной рукой за руль, а другой все помахивал матери – она стояла у дома и глядела нам вслед. Вряд ли ты помнишь это.
– Не помню, – с сожалением сказал летчик.
И тут в салоне грянул репродуктор, включенный водителем на всю мощность, и они оба посмотрели на часы – шли первые минуты первого, середина дня, диктор сообщал сводку последних известий:
– ...эскалация войны во Вьетнаме, происки израильских экстремистов и американских империалистов на Ближнем Востоке, испытательный взрыв китайской термоядерной бомбы, «черные полковники» – палачи греческой демократии, рост военного потенциала Японии, последствия урагана в Чили...
Они уже не могли говорить, обреченно слушали, а может быть, ждали, когда он утихнет, но репродуктор не утих, и возле станции они вышли вслед за девушкой, чтобы пересесть на электричку.
Девушка дважды оглянулась, и сын озорно подмигнул ей, а отец, встретив ее сочувственный взгляд, улыбнулся и подумал, что она добрая и глупая.
– Знаешь, пап, а она ведь на тебя не просто поглядывала: она будто оценивала тебя, будто примеряла.
– Балбес, – сказал отец, хлопнув его по плечу.
Взяв билеты, они подошли к краю платформы посмотреть на воробьев, которым мальчишка крошил булку, а воробьи прыгали по рельсам и шпалам, хватали крошки и драчливо наскакивали друг на дружку. Тут опять подошла девушка из автобуса, отец с сыном переглянулись и пошли по платформе вперед, чтобы сесть в головной вагон.
Им хотелось провести вдвоем этот день, походить по Москве и поговорить, потому что вечером летчик уезжал к месту своего назначения, и отцу хотелось, чтобы сын уехал спокойным и внутренне готовым к первым самостоятельным шагам в своей жизни. У самого отца редко так получалось – может, потому, что рядом не было опытного близкого человека, может, из-за нетерпеливости – всегда выходило неожиданно, будто бросался с обрыва в незнакомую реку. Правда, его метания и броски совершались в одном направлении, даже в строго определенном направлении, не было лишь подготовленности, ни внешней, ни внутренней.
– Идет, – сказал сын вслед за далеким, стонущим сигналом электрички. – Это сколько же тебе было лет?
– Когда?
– А вот когда мы ездили на велосипеде в лес, а мама глядела нам вслед.
– Двадцать один, – ответил отец.
– Интересно. Мне сейчас ровно столько, но я не могу представить себя отцом, не получается.
– Это потому, что ты не отец, – сказал он. И вспомнил, что сам тоже не испытывал тогда родительских чувств, забавлялся с сыном не то чтобы как с игрушкой, а как с чем-то любопытным, но не особенно важным.
И еще вспомнил, что тогда, в тихий июньский день пятьдесят второго года, когда он, отпускной солдат, катал своего малыша на велосипеде, а потом повез его в лес и чуть не потерял там, вот тогда он впервые почувствовал себя родителем, отцом, хотя, может, не до конца осознал это.
Он тогда оставил велосипед на просеке и, углубившись с сыном в лес, который манил малыша яркими пичужками, порхающими в кустах, нашел просторную травяную полянку, где было много клубники. Малышу скоро надоело нагибаться за каждой ягодкой, и он лег на траву и ползал, открывая попутно мир букашек, муравьев, червей, пока не заполз далеко в кусты. Как же испугался отец, когда увидел, что его малыша нет на поляне, как бегал тогда, обшаривая каждый куст, и как радостно рассердился, когда увидел, что малыш спрятался за высокий пень и не откликается, хитро прислушивается, ждет, когда его отыщут.
Их обдало теплым потоком воздуха, электричка с грохотом подкатила к платформе и замерла, готовно раздвинув створчатые двери.
Вагон был почти пустой, сын прошел вперед, заметив с улыбкой, что так им придется меньше ехать: на несколько метров Москва ближе.
Они заняли первое кресло, и сын спросил:
– Пап, а помнишь, как мы ездили на лодке удить рыбу, вымокли и потом на берегу пили водку? Стакана у нас не было, и ты выскоблил ножом мякоть помидора и наливал в него водку нам с Колькой.
– Да, – ответил отец, – оригинальные были рюмочки. Последнюю ты выпил, а потом съел и саму рюмку на закуску. («Не надо было тогда давать им водки, рано еще, лет одиннадцать ему было, а Коле и того меньше, но они промокли и могли простудиться».)
– Тогда тебе было двадцать девять, – сказал сын, – и ты рвался к большой журналистике, а я к самолетам. Всегда рисовал их, читал книжки о летчиках, любил смотреть на пролетающие самолеты. Вряд ли ты помнишь это.
Отец засмеялся:
– В самом деле не помню. Прости.
– Бог простит. Днем ты мотался по району на редакционном мотоцикле, ночью читал или писал, а по выходным пропадал на рыбалке. Только там мы тебя и видели. Вручишь нам удочки, сам возьмешь узелок с обедом, весла – и на Волгу.
– А помнишь, как я учил тебя ездить на мотоцикле?
– Еще бы! Я тогда уж окончил третий класс и любил машины.
– Это у тебя от деда, любовь к машинам... Он погиб в самом конце войны. Вы бы с ним подружились. Он был такой чуткий, интересный...
– Я тогда быстро научился.
– Да, быстро. Только рукам твоим было далеко до руля, и я посадил тебя на топливный бак, а сам был на сиденье.
– Я помню. Сначала ты объяснил мне все на месте – сцепление, переключение передач, правила поворотов и обгонов, – а потом я сидел на баке и держался за руль, как дублер, как второй пилот, и ждал, когда ты передашь мне управление.
– На втором круге я тебе уже передал. Сначала мы сделали большой круг по новостройке к заливу и рыбацкому поселку, а потом обогнули школу, и, когда поехали мимо нашего дома к пристани, тут уж ты вел сам. Если бы ты не ездил так хорошо на велосипеде, ты на мотоцикле не смог бы научиться так быстро.
– А ты сидел позади и держался за мои бока. Вернее, поддерживал. И все говорил, чтобы я не торопился. А мать глядела на нас от палисадника и потом ругала тебя: мол, не дело ты затеял, рано, убьешь ребенка, остановись...
– Она потому ругалась, что незадолго до этого дня я катал вечером Кольку и мы сбили пьяного рыбака. Он ехал на велосипеде навстречу и повернул налево, пересек наш путь, а о правилах, видно, не подумал: какие правила для пьяного...
– Колька мне рассказывал. Он ведь тогда перелетел через тебя, когда рыбак неожиданно повернул и угодил прямо под мотоцикл, а ты перелетел через руль и сразу кинулся к Кольке, а потом вырвал ключ зажигания и стал крыть рыбака.
– Не сдержался, каюсь. Слишком уж он был бестолковый.
– Платформа метро «Ждановская», – весело объявил динамик. – Следующая – Вешняки. Граждане пассажиры, не забывайте в вагонах свои вещи.
Поезд встал у новенькой станции метро, щелкнули и зашипели открываемые двери.
– Может, поедем в метро? – спросил отец.
– А двадцать копеек пропадут, – улыбнулся сын. – Это тебе можно, а я еще на курсантском бюджете, первая зарплата будет только через месяц.
Опять зашипели и щелкнули двери, вагон мягко качнулся, и станция метро уплыла назад.
– Вам неплохо платят, – сказал отец. – И на пенсию можно выйти раньше.
– Вроде бы рановато о пенсии.
– Кому как. В сентябре исполнилось двадцать пять лет, как я работаю. С четырнадцати лет.
– И журналистика уже надоела?
– Вроде пока нет. На рыбалку бы сейчас закатиться... Помнишь, как прошлый год мы удили карасиков на Цне?
– Конечно. Здорово ты приладился их таскать. А какие рассветы там, речка какая! И желтые кувшинки горят на воде, и белые лилии... Только мне показалось, что Валентина Николаевна была не в восторге от моего приезда.
– Это тебе показалось. И потом, она ведь с утра до вечера занималась экспедиционными делами, квартира частная, а хозяйка – ты заметил, наверное, – не из приветливых.
– Да, старуха строгая. И здоровенная, как драгун. Стоит у двора и спрашивает каждого проходящего: «Ты куда?.. Ты откуда?.. Что в сумке?..» Смеш-на-ая старуха.
– Много она крови попортила. И в основном жене. К тому же и Надя доставляла хлопот. Понравилась тебе Надя?
– Ничего девчонка, шустрая. Ей уже пять лет?
– Пять. Ты заканчивал школу, когда она родилась.
Разговор подошел к такой точке, когда лучше не продолжать. И они замолчали. Сын вспомнил, что год рождения этой девочки, наполовину сестры, был, пожалуй, самым беспокойным в его жизни. Да и не только тот год. И предыдущие два года отец приезжал уже отчужденным, мать встречала его, как гостя, и не столько радовалась, сколько нервничала, и они с Колькой не могли понять, что происходит. Даже в тот год им ничего не говорили, хотя где-то далеко от села уже должна была родиться Надя, шустрая девочка, наполовину сестра, что она уже родилась, когда отец уезжал в последний раз, и как-то странно было услышать потом, что у них нет отца, когда он был и любил их по-прежнему, если не больше. Пожалуй, даже больше, потому что он стал внимательней к ним, бережней и всегда рад был их видеть.
А отец вспомнил, как встречал сына ранним утром на Казанском вокзале. Он приехал туда вместе с Валей, получив телеграмму от той жены, матери его двух ребят. Перрон вокзала был непривычно пустынен, электрички еще не ходили, и, когда по радио было объявлено о прибытии поезда из Ульяновска, Валя отошла под фонарь на платформе, а он, один, стал ждать, заглядывая в лица прибывших пассажиров. И когда увидел сына, худого еще подростка, – он тогда только закончил восьмой класс – сразу бросился к нему, забыв обо всем на свете, обнял за плечи и тут почувствовал на себе взгляд со стороны, зовущий, требовательный. Он уже знал, откуда этот взгляд, обернулся к фонарю и в его тени увидел Валю, такую близкую, родную и одинокую, что хотелось броситься туда и вывести ее на свет, но одной рукой он обнимал сына, тоже родного, близкого и одинокого в большом городе, а в другой нес его чемоданчик. И он прошел мимо фонаря, мимо нее, будто разорванный надвое, ощущая глубокую боль не оттого, что разорван, а оттого, что каждая часть живет отдельно и их нельзя, невозможно соединить. Интересно, понимала ли она тогда его состояние или не понимала? Вероятно, все-таки понимала. Будь она не такой чуткой, все было бы проще...
– Электрозаводская. Следующая – Москва. Граждане, будьте внимательны, переходите улицу в установленных местах, берегите свою жизнь!
– Пап, а помнишь, как ты приезжал в училище, когда у меня гостил Колька? Неплохо мы погуляли, правда?
«Молодец, что перескочил через эти годы. Перескочил, но не забыл, а хорошо бы их забыть обоим. Всем бы забыть о них».
– Неплохо, – сказал он. – И купались почти целый день, и на пароме прокатились. Смешной у вас паром, допотопный.
– Зато безотказный. Стоишь на мостках, перебираешь канат и плывешь. Сам двигатель, сам пассажир. А над тобой «яки» летают.
– Городишко у вас тихий, скучный.
– Жалко все равно. Девчонка там есть... Славная такая девушка, провожала меня. Вот теперь осталась одна. – И посмотрел отцу в глаза, пристально посмотрел, испытующе.
– Не знаю, – сказал отец. – Лучше бы не торопиться в таком деле. Ранние браки часто бывают неудачными.
А сын не отводил взгляда, не деликатничал, дело было нешуточное. «Значит, твой первый брак был неудачен, значит, мы с Колькой родились по ошибке, да? Почему же тогда ты любишь нас, почему с теплотой говоришь о нашей матери?» И с улыбкой поддразнил:
– А если это любовь, пап?
– Коли это любовь, решай сам. – И чуть было не сказал, что в таких делах он не советовался, решал, но вовремя спохватился: его сразу встретит новый безмолвный вопрос, а возможно, этот вопрос прозвучит вслух – не очень-то они с нами церемонятся. Как, впрочем, и мы когда-то.
– Ладно, – сказал сын, – не сердись, я уже решил. Просто мне хотелось знать твое мнение.
Вот-вот, он решил, а как – это уж тебя не касается, в свое время узнаешь. И глядит с торжеством, весело: ну как, мол, папочка, здорово я тебя прижал?
Казанский вокзал встретил их многолюдным шумом и духотой разогретого асфальта. Они взяли билет до Ульяновска – сыну надо было по пути заехать домой к матери, – спустились в метро и поехали центр. Сыну хотелось проститься с городом, к которому он успел привязаться за время своих наездов, проститься с местами, которые он хорошо знал. Неизвестно, когда он теперь сумеет сюда выбраться, что ждет его в далеком, незнакомом краю, как пойдет его непростая служба летчика.
Москву сын впервые увидел лет шесть, нет, семь лет назад. Тогда он приезжал к отцу после восьмого к касса, а отец еще учился в институте, и было как-то неловко говорить, что его отец студент, хотя и объяснять, что он с детства работал и только теперь стал учиться, не хотелось.
Тогда они встретились на Казанском вокзале, тоже спустились в метро и поехали не в общежитие, а сразу в центр, чтобы посмотреть Красную площадь, которую он видел только в кино, Мавзолей Ленина, Большой театр, Третьяковку. А больше он ни о чем не слышал. Правда, хотелось еще увидеть университет на Ленинских горах, в котором он в детстве мечтал учиться. То есть он не мечтал, а говорил только, что будет там учиться, и говорил потому, что об этом мечтали родители.
Красная площадь ему показалась меньше, чем он ожидал, но потому и понравилась сразу – своей неровной, неприлизанной брусчаткой, стаями голубей возле Исторического музея, тишиной раннего утра. Солнце только что взошло, было прохладно, трава у стен Кремля сверкала росой и казалась необыкновенно зеленой, нежной рядом с красной кирпичной кладкой, такой массивной и в то же время легко уходящей в небо своими зубцами. И знаменитая Спасская башня с курантами глядела на него, и храм Василия Блаженного блестел золотыми куполами, будто приветствовал, и над Кремлем переливался, как пламя, жаркий шелк государственного флага.
Они тогда недолго там пробыли, отец был чем-то расстроен и торопился в общежитие, чтобы уехать оттуда в институт сдавать курсовые экзамены, а город они осматривали в другие дни и не всегда вместе. В Пушкинский музей отец только отвез его, а сам побежал на встречу с каким-то критиком, руководителем их семинара, и вернулся поздно, когда музей уже закрыли, и он ждал отца в подъезде с одним московским пареньком, который тоже забежал туда переждать дождь.
– Пап, а помнишь, какой тогда был дождь, настоящий ливень, с грозой, когда ты прибежал к Пушкинскому музею?
– Я тогда, кажется, здорово задержался.
– Не очень. А гроза мне впервые показалась забавной. В селе она слишком серьезна, даже страшна, а в Москве вроде бы как игрушка. Большая, громкая игрушка.
Они вышли к Красной площади, молча постояли у Мавзолея, потом с какой-то экскурсией зашли к Кремль. Экскурсовод объяснял, что они находятся в сердце России, в заветном, любимом его уголке, и это не показалось выспренним, хотя было жарко и ни о чем не хотелось говорить. Хотелось не спеша ходить, смотреть, думать.
Они обошли весь Кремль, а потом выбрались на площадь и спустились к набережной Москвы-реки и молча курили там, глядели на темную текучую воду и думали об одном – о своей деревне. Захолустная такая деревушка, маленькая, всего полсотни дворов, но какой же красивой она казалась отсюда, из этих лет, какой была дорогой сейчас! Она была бесценна, та малая деревушка, бесценной была изба с окнами в степь и бесценна сама степь с крохотным островком леса у деревушки. Раздольная, песенная степь, бесконечная, как Россия.
У отца в этой деревушке прошли отрочество и юность, в этой деревушке он стал взрослым, семейным человеком, работником, а сын там родился и провел свое безоблачное детство. Он вспоминал о деревушке легко, без жалости, потому что родным считал районное село на Волге, куда отец перевез семью и год его поступления в школу.
– Пап, а хорошо, что мы переехали тогда на Волгу, правда? Я сейчас как-то не представляю своей жизни без того села, реки, лесов... Красивые у нас места!
– Красивые. Особенно летом – все цветет и зеленеет, белые теплоходы разгуливают по Волге, горластые гудки их разносятся. Мой отец тоже перевез нас в степь, когда мне было примерно столько же лет, сколько тогда тебе. Он любил степь.
– А ты любишь реку?
– Да.
– Ты просто молодец у нас.
– Рад, что угодил тебе. Поедем на Ленинские горы?
– Давай лучше вечером. Ночную Москву оттуда посмотрим.
– Тогда надо перекусить и выпить чего-нибудь холодненького. Я весь вспотел.
– Вроде не очень жарко.
– Нет, просто душно. Даже близость реки не смягчает. Да и какая это река – бетонное корыто с водой. Если бы в селе, да у Волги... Я во сне иногда ее вижу.
– Вот туда бы нам сейчас, а? Закатиться бы туда, лодку у дяди Сани Шустерова взять, и на острова с ночевкой. Тишина там какая!
– Тишина там зеркальная. И травяной землей пахнет, мокрыми тальниками, воды в заливах плещущие, рыбные... – И вспомнил, что в свой последний приезд домой часто ловил себя на том, что не хватает стремительной, вечно шумной Москвы, не хватает беспокойной работы, и опять испытал то болезненное ощущение разорванности, когда одна твоя половина живет здесь, а другая находится там и требует автономного права на существование. Неужели это будет продолжаться все время, до самого конца?..
Они пошли в тихий ресторанчик на Пушкинской улице, заняли там столик в углу, и сын стал обдумывать заказ. Выбор не представлял особых затруднений, оба они были неприхотливыми и ели то, что подадут и что можно есть, а вот с выпивкой обстояло сложнее. Отец заказал себе минеральной воды, сыну хотелось чего-то посущественней, но пить одному было скучно, к тому же коньяк дорог, а водка в такую жару при одном упоминании вызывала отвращение. Вина разве?
– Может, выпьешь со мной, пап?
– Не отказался бы, тем более сегодня. Торжественный, праздничный для нас день.
– Так, может, рискнешь?
– Пожалуй, стопочку водки. Только чтобы холодная. А себе возьми коньяку или что ты хочешь. Мне нельзя ни капли, и вин тоже, и пива.
«Для ваших почек это смертельный яд, – сказал ему уролог через месяц после операции. – Вот если пройдет благополучно с годик, тогда разрешите себе стопку водки по праздникам. По самым большим праздникам».
Им принесли закуску, две бутылки воды и два потных графинчика – и коньяк и водка были из холодильника.
– Давай за тебя, – сказал он сыну, – за твою взрослость и самостоятельность. Даже не верится, что ты уже вырос. Быстро и нечаянно как-то вышло – взял и вырос!
– Может, и нечаянно, да не быстро. Мне кажется, я живу очень давно.
– Да? А я вроде и не жил еще. Сорок лет, сорок оборотов Земли вокруг Солнца...
Сын улыбнулся:
– Действительно, при наших скоростях, счет на обороты ничтожен.
– У природы свои скорости, и неизвестно еще, кто быстрее крутится, человек или винт твоего самолета. Ну, будем!
Они выпили, отец налил себе воды, а сын стал расправляться с закуской. В ресторанчике было уютно и прохладно, два пропеллера у потолка гнали эту прохладу на них и словно сдували то напряжение, в котором они оба находились. А когда выпили по второй, стало совсем хорошо – за свою деревню пили, за степь вокруг нее.
– Ну как, лампочка зажглась? – спросил сын.
– Зажглась, – улыбнулся отец, вспомнив, что он часто говорил так, когда выпивал пару стопок на похмелье и чувствовал облегчение. – Лампочка зажглась, но уже красным светом.
– Жалко. Надо это учесть для себя.
– Учти. – Он налил себе воды и приветственно поднял: – За Волгу, за наше село!
– Теперь уж поселок городского типа. Лет через десять – пятнадцать городом станет. Вот я приду к твоему возрасту, он и станет городом. Совсем немного, правда?
– Совсем немного.
Они пообедали и отправились дальше по городу. Посмотрели выставку современной графики в Манеже, постояли возле Третьяковки, зашли в Пушкинский музей. Потом поехали на Ленинские горы.
Отец очень хотел, чтобы его первенец учился в знаменитом университете, который тогда только еще строили, и он сделал попытку, но сын срезался на первом экзамене, хотя и окончил школу с медалью. Он мог бы не срезаться, но его тянуло в небо, а отец настаивал на университете, и не хотелось ему возражать – отец воспринял бы это непослушание как личную обиду, потому что к тому времени он оставил их, по крайней мере юридически, он потерял право руководить их судьбой, и вот эта формальная потеря права только подтвердилась бы непослушанием. Потом отец водил его в Менделеевский на тот же факультет, но он опять срезался и уехал работать в Куйбышев к родственникам матери. Уж после его отъезда, через полгода, если не больше, отец написал ему, что ничего не имеет против летного училища и, стало быть, смирился с желанием сына, и сын поступил и вот уже окончил его, и отец рад, потому что понял свою ошибку и жалеет о прежней настойчивости.
Они поднялись по эскалатору, побродили у Дворца пионеров, постояли возле университета. Стало уже смеркаться, город нарядно лежал внизу, расцвеченный огнями, далеким красным пунктиром уходил в небо тонкий ствол Останкинской телебашни.
– Пап, а помнишь, как мы ходили на Выставку, когда ты окончил институт? Весело тогда было, хорошо.
– Хорошо. По-моему, даже счастливо.
Тогда они приехали к нему оба, младший Николай тоже рос добрым парнем, и они пошли на ВДНХ погулять и отдохнуть. В парке им попался мужик, который косил траву, и отец попросил косу с какой-то нетерпеливой радостью, даже с опаской – он лет пятнадцать уже не косил и боялся, что не сможет. Оказалось, не забыл, руки помнили работу своей молодости, и он радовался этому, горячо благодарил мужика и с гордостью и тайным сожалением посматривал на своих ребят. Они не умели косить и не знали этой простой радости, и сейчас, вспомнив об этом, отец опять пожалел, что его сыновья никогда этого не узнают. Один будет водить самолеты, другой – электропоезда, здесь иная радость, новая, и ее уже никогда не узнает он, их отец.
– Пожалуй, нам пора, пап, не опоздать бы.
– Да, лучше постоим на вокзале.
Они спустились в метро и поехали на Казанский.
Посадка еще не начиналась, и они зашли в вокзальный ресторан.
– Быстро кончился наш день, – сказал сын. – Даже обидно. Иногда они кажутся годами, а тут промелькнул, и нет его.
– У тебя в запасе еще один такой же день, – сказал отец завистливо. – Мать будет без ума от радости.
– Да, здесь я побогаче тебя. Но ты забыл, что это прощальные дни, два прощанья на одного.
– Нет, я не забыл.
– Я сейчас вроде там и здесь одновременно. А завтра будет наоборот. Словно разорван надвое. Извини, что я так, ты знаешь это побольней меня.
– Ничего. Даже хорошо, что ты так верно все понимаешь. Теперь нам легче будет. Самое трудное знаешь когда было?
– Знаю. Когда вы с матерью стали чужими и скрывали это от нас, держались так, будто ничего не случилось. Наверно, это было мукой для обоих.
– Мать у вас хорошая, славная.
– В том-то и штука. Оба хорошие, и оба не виноваты.
– А тебе хотелось, чтобы я был виноват?
– Нарушение правил: ниже пояса не бить!
– Ты начал, я только сквитал.
– Ну ладно, ладно, ты прав. Мне в самом деле стало легче. Давай поднимем мой «посошок».
Они расплатились, вышли к четвертой платформе, где стоял родной им поезд. Завтра в середине дня поезд будет в Ульяновске, а сын через два часа дома, у матери.
Они закурили из одной пачки и пошли к восьмому вагону. Над путями стояла полная луна, недвижная и яркая, как фонарь. А там, на Волге, она плывущая, большая и куда ярче.
Пять лет назад, во время последнего своего приезда домой, когда сыновья еще ничего не знали, а знала только их мать, он вышел с ней вот в такой же вечер сообщить последнюю новость – родилась Надька и он больше не может сюда приезжать. Они ходили тогда по берегу Волги, а над Волгой висла большая луна, спокойная и яркая. Прямо к их ногам от луны бежала по воде зыбкая серебряная дорожка, а ночная Волга была величаво-спокойной, дремлющей, а в прибрежных деревьях щелкали соловьи, и, подчиняясь этой красоте, они тоже говорили спокойно, очень спокойно, если не считать чувства глубокой печали и ясно сознаваемой непоправимой беды. «Мы с тобой как влюбленные, – сказала она грустно. – Как семнадцатилетние. И тихий берег реки есть, и луна, и лунная дорожка у ног, даже соловьи поют. Как в книжке о любви». А он вслух подумал, что, если бы эту прогулку заснять сейчас на цветную пленку или зарисовать, получилась бы в самом деле красивая и поэтическая картина. «А почему бы ей быть не поэтической, – сказала она. – Вроде мы остались людьми...»
– Знаешь, пап, о чем я думаю? Я думаю сейчас о том, что у нас удивительная, прекрасная страна. Не только потому, что в ней есть Волга, родная деревня, Москва, есть далекий край, который я уже сейчас хочу как-то представить и полюбить, потому что мне там жить и работать. Главное вот в чем: ты захотел стать журналистом – и стал, я захотел быть летчиком – и вот я летчик. А? Как ты смекаешь?
– Да, это – главное, – ответил отец и опять услышал то давнее, за что он всегда ценил ее и глубоко уважал: «Вроде мы остались людьми». И еще он подумал, что его дети либо сами поняли то, о чем он никогда им не говорил, либо другие объяснили им великий смысл понимания Родины. Доходчиво объяснили, прочно. А вслух сказал: – Постарайся стать хорошим летчиком. В любом деле, на любой работе надо быть безупречным специалистом, надежным работником – без этого нет счастья. И постарайся избежать личных потерь. Моих потерь.
– Наших, – поправил сын. – Не твоя вина, что только в тридцать лет ты стал дотягиваться до своей мечты. Вот если бы ты оставил ее... Постарайся не думать о пенсии и через годик приезжай ко мне в гости. Приедешь?
– Считай, что договорились.
А у вагонов остались уже одни провожающие – вокзальный диктор объявил, что поезд отправляется.
– Ну, ни пуха тебе, ни пера!
– И тебе. Не старей тут без меня!
Они обнялись и поцеловались.
И вот уже один стоял он на платформе, смотрел на уплывающие под луну красные огни последнего вагона и думал, что Валя скоро начнет беспокоиться, а Надька, привыкшая перед сном слушать сказки, отказалась спать до его возвращения.
Он много рассказал ей сказок, каждый вечер сочинял новую, но сегодня не будет сочинять, он расскажет быль. Добрую быль о молодом летчике, который едет по родной земле и думает о том, какая она большая и красивая и как хорошо жить на ней, особенно когда ты молод.
1971 г.
ПОД КОЛЕСАМИ
I
Над операционным столом опустили мощную бестеневую электролампу, придвинули белый металлический столик.
– Который час? – спросил хирург.
– Четверть одиннадцатого, – сказал ассистент.
– Опять задержусь, значит. А жена сегодня пельмени готовила. – Хирург посмотрел на Демина внимательными прищуренными глазами и кивнул ассистенту: – Привяжите ему ноги выше колен. У вас все готово, Анна Сергеевна?
– Готово, доктор, – сказала сестра.
– Добро.
У него был густой бас и доброжелательный взгляд, и весь он был большой и спокойный.
«Наверно, не так уж сложно, если он говорит о пельменях, – подумал Демин, – наверно, все обойдется». Скосив глаза влево, он посмотрел на рослого седеющего хирурга в марлевой полумаске и на его руки в желтых резиновых перчатках. Рядом с ним стояли молодой строгий ассистент в пенсне и худенькая старушка – операционная сестра. У изголовья нагнулась девушка в белом. В руках у нее была резиновая хирургическая маска.
– Наркоз, – сказал хирург.
Демин ощутил холодное прикосновение маски к лицу и незнакомый запах. Глаза ему закрыли полотенцем.
– Дышите глубже и считайте.
Дышать было неловко, он открыл рот.
– Один, два, три, четыре...
Множество мельчайших капель сеялось липкой мошкарой и забивало носоглотку. Душный влажный воздух закупорил легкие.
– ...десять, одиннадцать... двенадцать... тринадцать...
В глазах замелькали светящиеся точки. Как при больших перегрузках.
– Глубже дышите, глубже!
– Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. – Демин почувствовал усталость и раздражение.
– Считайте, считайте!
Это сестра говорит. А чего считать?
– Я забыл дальше. Какое дальше число?
– Девятнадцать. Дышите глубже!
– Двадцать... Двадцать один... Девятнадцать...
– Приготовились!
Это вроде хирург сказал. Что – приготовились? Перед глазами сплошная темная пустота. Нет, не темная, а черная, совсем черная. Ни одной звездочки вокруг, ни одной светлой точки. Только это не пустота, а плотная черная материя.
– Двадцать два. Тридцать семь...
– Начинаем.
Черная материя с треском разорвалась, полыхнуло яркое пламя, ударило в глаза, ослепило, Демин опрокинулся вниз головой и полетел, кувыркаясь, в горячую тесную бездну.
– Ампутации не миновать, – сказал ассистент.
– Подождем, – сказал хирург.
– Много размозженных тканей, признаки гангрены.
– Будем дренировать.
– Ноги выдернул, дьявол!
– Выше колен привяжите, говорил же!
– Здоровенный, не удержишь...
Они работали и говорили, но Демин уже ничего не слышал и не понимал, хотя его тело билось и вздрагивало на столе, когда узкий сверкающий нож хирурга исследовал его вздутую покрасневшую руку. Демин ругался самыми грязными словами, ударил ногой ассистента, который привязывал его, оцарапал молоденькую сестру, а потом как-то сразу ослабел и затих совсем.
...Солнце угадывалось желтым расплывающимся пятном, оно вращалось вокруг самолета в плотном тумане, вращалось непрерывно и быстро, потому что машина свалилась в штопор. Надо выводить, надо немедленно выводить, но руки онемели, и он не мог сделать ни одного движения. Высота стремительно падала. 1200, 1100, 1000 метров... Пора катапультироваться, но желтое пятно почему-то замедлило вращение. Ну да, оно останавливается. Вот оно совсем остановилось, молочный туман смыл плоскости и стал редеть. Вот он совсем растаял, и над головой явственно проступила лампа. Ну да, лампа. Обыкновенная электрическая лампа.
Он повернул голову в одну сторону, в другую. Рядом стояли люди в белых халатах и глядели на него. Они глядели и молчали. Демин тоже молчал и глядел на них. Потом повернул голову влево и увидел на столике длинную руку, забинтованную по локоть в белое. Он потянул руку к себе, поднял и положил на грудь. Рука была горячей и тяжелой, потому что ее резали. Теперь он вспомнил, что высокий мужчина в перчатках – хирург, он любит пельмени.
– Молодец, старший лейтенант, – сказал хирург. – Не тошнит?
– Нет, – сказал Демин, – не тошнит. Поспать бы мне. Двое суток не спал.
– Пьющий?
– Не откажусь.
Хирург улыбнулся.
– Проводите его в палату, сестра, и введите морфий, – сказал он.
Демину помогли подняться, хирург – уже без перчаток и маски – поддерживал его с левой стороны, а молоденькая сестра дала обнять себя за шею и погладила обнявшую ее здоровую руку.
В пустом коридоре было сумрачно и прохладно, пол жесткий и скользкий. Ноги ослабели и то разъезжались в стороны, то оставались позади.
В палате горел свет: Сергей и Ганечка ждали его.
– Отремонтировали, старшой? – приветливо спросил Сергей, когда Демин, потный и бледный, вытянулся на койке.
– Ты догадливый, Серега, – сказал Ганечка хрипло. – Ты, Серега, проницательный.
В палату возвратилась сестра со шприцем в руке, завернула рукав Демину и ввела морфий.
– Теперь отдыхайте, боли не будет. Спокойной ночи. – И, уходя, щелкнула выключателем.
В палате стало сумрачно. Свет уличного фонаря процеживался сквозь крону тополя и отбрасывал на пол красноватые блики. В открытую форточку наносило запах цветущей липы, заплывал отдаленный шум еще не заснувшего города.
– Спишь, старшой? – спросил Сергей.
– Стараюсь, – сказал Демин. Хотел повернуть голову и почувствовал, что затылок наливается тяжестью.
– Тебя где угораздило?
– Случайно. В отпуск ехал к матери, и на попутном грузовике...
– Да? – Сергей приподнялся на локте. – И я случайно. В карьере переломило позвоночник. Обвал. Если бы не вскочил сгоряча, ноги остались бы живые. И зачем я вскочил?..
– Теперь тебе труба, – прохрипел из своего угла Ганечка. – Не надо было вскакивать. Придавило, ну и лежи себе, не рыпайся. Гегемон! Рабочий класс!
– Заткнись, – сказал Сергей. – Деклассированный элемент, пережиток!
Из белого свертка торчала темная голова Сергея, подстриженная ежиком, блестели зеленые кошачьи глаза. Беспокойный, должно быть, парень.
До операции Демин не говорил с ним. Он пробыл в палате всего полчаса и познакомился только с разбитным одноногим Ганечкой. Сергей спал, укрытый по пояс, и запомнились только его белое сильное тело с гофрированной лентой синеватых шрамов по позвоночнику да ноги, прямыми палками вытянутые под простыней.
Ганечка сказал, что Сергей лежит девятый месяц и вряд ли когда встанет. У него парализована нижняя часть тела, ноги стали уже сохнуть. Он лежит голый, завернутый в пеленки, как новорожденный, ему подают судно в постель, и он стыдится, и вышучивает свою стыдливость, и называет себя животным. Но ему хуже, чем животному, он все сознает и вот даже не может помочиться самостоятельно. Ему вставили трубочку и отвели ее к бутылке, подвешенной у кровати.
Командир полка Рыжов тоже сильный и терпеливый. Он пролежал полгода в госпитале, выдержал четыре операции и все-таки вернулся в авиацию. И Демин выдержит, только бы вернуться.
И зачем он сел на попутную машину, когда можно было дождаться автобуса! Два года терпел, а два часа не мог. Мать узнает, слезами изойдет от жалости. Если бы тот пьяный дурак не сунулся со своей лошадью прямо под машину, ничего бы не случилось. Хорошо еще, тормоза сработали намертво, а то раздавили бы и лошадь. Впрочем, будь тормоза послабее, моторы не сдвинулись бы. И что это они перевозят моторы неукрепленными? А тот пьяный ошалел у телеги, руками машет, кричит. Таким не водку, таким воду мерой пить.
В город надо было сразу, сельский врач поглупел от старости. Заживет, сказал, вылечим. Вылечил! Две ночи не спал, ожидая его лечения. И затылок не поднять сейчас. От морфия, что ли? Надо считать «слонов», а то не уснешь... Один слон, два слона, три слона, четыре, пять... Закроешь глаза, представишь, и вот они идут, идут кругами, а ты считаешь. Шесть слонов, семь слонов, восемь слонов, девять. Можно десятками. Двадцать слонов, тридцать слонов, сорок слонов... Пятьдесят километров нельзя перед мостом, шофер, наверно, торопился домой... Шестьдесят слонов, семьдесят, восемьдесят, девяносто слонов, сто, двести слонов, триста, четыреста...
II
В палате стояли три никелированные койки, изголовьями к окну: две – вдоль стен, третья, на которой лежал Демин, – посредине. Между койками – белые тумбочки, возле них – по стулу. Половина помещения, от коек до двери, пустовала. Просторная палата, как казарма. Высокий белый потолок, холодные голые стены – бело кругом, как в плотной облачности. Только здесь прозрачная облачность, светлая.
Солнце косо било в окно сквозь крону тополя, и на полу играли серебряные зайчики. Весело, живо играли, – наверное, на улице было ветрено.
Сергей сидел на постели, подложив под спину подушку, почесывал мохнатую рыжую грудь и, наблюдая за Деминым, зевал. Голова у него была рыжеватой, а не черной, как вчера показалось Демину, это Ганечка был черный, а Сергей – рыжеватый.
– Ты всю ночь считал слонов, – сказал он. – Приснились, что ли?
А лицо широкое, мясистое, бабье. И голое какое-то.
– Приснились, – сказал Демин. – А ты часто не спишь по ночам?
– Я днем высыпаюсь.
– Напрасно. Лучше спать ночью.
– Кому как.
Рука ныла, горячая и мокрая. Демин поднял ее и с интересом оглядел. Сквозь белый слой марли проступали коричневые пятна, опухоль поднялась выше локтя. До выздоровления, пожалуй, не надо матери сообщать. И в полк тоже.
Второй парень, Ганечка, еще спал. Черная голова его со следами царапин на лице прижалась к костылям у изголовья; поверх одеяла лежал забинтованный обрубок ноги. До колена отхватили, кажется. Вчера он о Сергее все распространялся, а о себе ничего не рассказывал.
– Где это его? – спросил Демин.
– С поезда сбросили дружки, из тамбура. Только ты помалкивай.
– Почему?
– Вор он. Четыре срока отбыл. На завод устроился недавно, хотел завязать, вот они ему и завязали.
В хорошенькую компанию попал старший лейтенант Демин!
– Давно лежит?
– Шестой день нынче.
Демин еще раз поглядел на Ганечку и не заметил ничего особенного: обыкновенное лицо, тонкие, нервные черты, ниточки морщин у глаз – по виду никак не вор. И посапывает смирно, губы полуоткрыты. Вот только следы царапин и синяки да челочка на лбу. Кокетливая черная челочка.
Вскоре пришла сестра с градусниками и таблетками, потом санитарка принесла на подносе завтрак. Демина слегка тошнило, и он выпил только компот, а рисовую кашу предложил Сергею.
– Мне можно, – сказал Сергей. – Мне все теперь можно. Скоро домой поеду, к жене. Молоденькая она, музыкой бредит, а мне сейчас нянька нужна, хозяйка, а не скрипачка какая-нибудь.
– А она как?
– Да ничего. Девятый месяц ходит сюда, говорит, что уроки в музыкальной школе берет. Пускай, я тоже время не теряю. Книжку вот изучил по часовому делу, в часовщики готовлюсь...
Сергей ел, поглядывал в окно и рассказывал, какая у него красивая жена («Таней зовут, восемнадцать годиков только, а вот же, любит его, тридцатилетнего калеку, не бросает, хоть они и прожили только одну неделю!»), как много успел он поездить по свету – и на целине был, и на Курилах сайру ловил, и в Темир-Тау закатывался, и химкомбинат под Куйбышевом строил – и как понял наконец, что люди везде одинаковы, и решил, что надо прибиваться к своему берегу. И вот прибился здесь, в этом городе, когда узнал о строительстве большого цементного завода. Здесь же его родина, и зачем искать дальние стройки, когда под боком, можно сказать, растет такой гигант.
– Здесь я и Танюшку свою увидел, – сказал он, складывая пустые тарелки на тумбочку и вытирая рукой губы. – И вот что интересно: как встретил, сразу же подумал: а не жениться ли? Тридцать лет прожил, не думал, а тут сразу пришло. Почему?
– Потому, – проворчал Ганечка, скрипнув кроватью. – Бог, он жалеет страдальцев. Я вот снюхался со своей марухой и тоже сразу в голову: «Амба, завязываю!» И завязал...
Ганечка сидел на кровати, свесив голую ногу, и поглядывал на белый обрубок второй ноги, криво улыбаясь.
– Теперь все, – вздохнул он, – теперь завяжем и любовь. Каким я был, таким остался...
– Если любит, не бросит, – сказал Демин.
– «Не бросит»! И это говоришь ты, гордый сокол с греческим профилем! Обманчива внешность...
– Сергею трудней, а он верит, надеется.
– Цепляется он, а не верит.
– Трепло, – сказал Сергей. – Таня – жена мне, не забывай!
– Суду все ясно.
За окном трепетали на ветру листья серебристого тополя, качала ветвями, осыпая желтую шелуху цвета, старая липа. Лет по сто им, не меньше, а зеленеют и будут зеленеть еще столько же. Говорят, что липы живут более трехсот лет. Земля, что ли, к ним щедрее?
– Сына бы нам, – сказал Сергей. – Мечта моя – сын! Вы уйдите, как она придет. К обеду она обещалась прийти.
– Не маленькие, – сказал Ганечка и усмехнулся. – Только напрасно стараешься, весь низ у тебя неживой, смирись и забудь.
– Поросенок, – сказал Сергей. – Я знаю, что у меня живое, что неживое.
А лежит в пеленках, в бутылку капает, шланг тянется из него, как из машины. Господи!
Запахло чем-то острым. Ганечка чертыхнулся и зазвенел склянкой с пролитым лекарством.
Демин сел на постели и стал ощупывать руку. Боли почти не было, но раздавленная до локтя мякоть горячо ныла, а выше, из-под повязки, ползла краснота. Хорошо, если обойдется, а не обойдется...
– Доброе утро, товарищи!
Хирург, нагнув голову в белой шапочке, исподлобья оглядел палату и направился к Демину. За ним шла дежурная сестра, статная девушка с длинным некрасивым лицом и прической «под мальчика».
– Выспался? – Хирург пододвинул стул и сел возле кровати. – Чего же вы задержались, а? Или такой порядок в авиации? Надо было сразу сюда, а вы двое суток думали.
– Да сельский врач все... – сказал Демин.
– Сельский! Аварию тоже сельский врач подстроил? Беречь себя не умеете, а еще летчик! Ну-ка, полюбуюсь! – Он стал ощупывать кисть, разгибать и сгибать раздутые неподвижные пальцы. – Боли есть?
– Незначительные, – сказал Демин. – Поели вы вчера пельменей?
– Пельменей? – Хирург улыбнулся, вспомнив, что вчера действительно говорил о пельменях, чтобы отвлечь больного перед операцией. – Жена у меня мастерица готовить, – он помотал головой и причмокнул.
Сергей и Ганечка заулыбались.
– Ну, хвалитесь, что у вас? – Хирург придвинулся вместе со стулом к Ганечке.
– Все так же, – сказал Ганечка.
– А ты как думал? Так и будет, новая нога теперь не вырастет. Двадцать шесть лет практикую, не случалось.
– Я знаю.
– Ничего ты не знаешь. О знаниях не по словам судят, а по делам. Температуры нет? Хорошо. В одиннадцать на перевязку. И вы, старший лейтенант, тоже. Как ваша фамилия?
– Демин.
– Молодец, – одобрил хирург, – хорошую фамилию выбрал. А то я Мазилкина знал, художника. Разве это фамилия?
– А у вас какая? – спросил Демин.
– У меня? Страшнов у меня, но я тут не виноват.
Все заулыбались, а Страшнов, нахмурясь, прошел к Сергею и сел возле его койки. Сестра белой тенью следовала за ним.
Страшнов пощупал пульс у Сергея, удовлетворенно потер руки и стал рассказывать какую-то историю. У него было крупнобровое лицо, спокойное и открытое. Лет на пятьдесят лицо. Седые виски. Смеялся он весело, радостно. Двадцать с лишним лет среди людских страданий и вот не разучился смеяться.
Он рассказывал забавный случай из своей практики и глядел на Сергея с какой-то особенной теплотой и ласковостью. Сергей лежал неподвижно, закрытый белым, как в гробу, но тоже смеялся. Демин слушал его визгливый бабий смех и думал, что Страшнов особенно ласков с Сергеем и рассказывает ему анекдоты только потому, что не может его поставить на ноги, а других средств помочь и ободрить у него нет. Демину приятны их здоровые голоса, за которыми на минуту прячется их трагедия, и ему самому становится легче, он забыл о своей раздавленной руке и с любовью глядел в спину уходящего хирурга и верил, что все будет хорошо.
III
Пока сестра бинтовала Демина, Страшнов мыл руки и ворчливо говорил, что человек вообще беспечен и не рассчитывает свои действия. А он обязан все хладнокровно обдумать – каждый свой поступок и его возможные последствия. Мы живем в век техники, и есть люди, которые серьезно говорят, что человек тоже является подобием машины, только недостаточно изученной и строптивой.
– Проводить больного в палату? – спросила сестра.
– Не надо, – сказал Страшнов. – Готовьте инструментарий, мы отдохнем немного.
Он вытер руки и присел на кушетку напротив Демина, который сидел, откинувшись на спинку стула.
– Вы на грузовике разбились? – спросил Страшнов.
– На грузовике, – сказал Демин.
– На земле, значит. В небе уцелел, а на земле разбился.
– Разбиваются всегда на земле, – сказал Демин, вспомнив любимую поговорку полковника Рыжова. – Летают в небе, а разбиваются на земле.
– Правильно. Земля притягивает, она не может не притягивать. Все, что мы делаем в небе, делаем на земле. – Он помолчал, пристально посмотрел на Демина. – Познакомились с соседями? Добрые ребята, правда?.. Н-да, добрые. Крепкие. И все же вы веселей держитесь, подбадривайте их. Вам, может быть, придется еще трудней, а вы держитесь, слышите!
– Значит, ампутации не миновать? – спросил Демин, чувствуя, как лоб мгновенно покрывается потом.
– Ничего не значит, – нахмурился Страшнов. – Мы сделаем все возможное, и, если удастся, рука будет действовать. Между прочим, это зависит и от вас.
Страшнов подошел к окну, достал папиросы, посмотрел и опять спрятал в карман халата.
– Можно идти? – спросила сестра.
– Можно, – разрешил он. – Отдыхайте, Демин. Я зайду к вам сегодня. Попозже.
Сестра проводила Демина в палату, и он долго лежал, глядя в потолок, и слушал Ганечку, который рассказывал о своем последнем сроке, о чифире, который пьют вместо водки, о житухе в заключении. Он слушал Ганечку, а видел небо и аэродром своего полка. Он видел коробки жилых и служебных строений, бетонные плиты взлетно-посадочной полосы, ряды расчехленных самолетов и стремительную фигурку взлетающего истребителя, который с ревом мчится по бетонке, оставляя полосу пыли. Вот он оторвался от земли, взлетел и, набирая высоту, растаял в небе. Мощный гул турбины, удаляясь, перекатывался рокочущим громовым эхом, и в него вплетался голос Ганечки, который вспоминал о своем падении и первом аресте за украденную буханку хлеба в тяжелый послевоенный год.
– Только притырил, а тут «мусора» – и до свиданья, мама, не горюй, не грусти. Три годика. И я не обижаюсь, хотя мог: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата!»
– А потом? – спрашивал Сергей.
– А потом второй срок, о нем я рассказывал, а потом, когда ты в законе, схлопотать пятерку ничего не стоит. Вот помнится...
...Первый вылет на перехват «противника». До этого он летал только в ясные дни по кругу, летал в зону, много занимался в классах, и вот первый вылет по тревоге. Слева пристроился ведомый, они скоро пробили облачность и вышли на солнечный простор. Штурман наведения дал курс и высоту и следил за ними с земли. На рубеже перехвата Демин обнаружил цель, сообщил на землю и пошел в атаку. Это был условный противник, но атака была настоящей: «враг» умело маневрировал, Демин и его ведомый трижды атаковали, и, когда возвратились на аэродром, пленка фотопулемета подтвердила, что они справились с боевой задачей. В этот день он впервые, пикируя с большой высоты, испытал кратковременную невесомость. На несколько секунд он оторвался от земной колыбели, он не чувствовал веса своего тела, он не чувствовал земного притяжения...
Сергей рассказывал, что он тоже знавал голодные годы войны и послевоенного времени, но он подался в школу ФЗО, а потом все время строил, служил в армии, пахал целину, возводил заводы и комбинаты.
– Я тоже строил, только под конвоем, – сказал Ганечка. – Все мы строим.
Они заспорили о судьбе и счастье, о том, что, если повезет человеку, он чего-то добьется, а не повезет – махни рукой.
Спор их погас, когда в палату вошла сестра с некрасивым лицом и прической под мальчика. Она села на стул у кровати Сергея, спросила, не надо ли чего, и стала молча глядеть на его обнаженную грудь, поросшую золотистым волосом, и слушать письмо Тани, которое Сергей читал вполголоса.
– Мировая самочка, смак! – сказал Ганечка, когда она вышла. – Лицо великовато, как у лошади, зато тело – закачаешься!
Сергей назвал его поросенком и заявил, что Лида хорошая девушка. Лицо, правда, у нее не ахти, но разве все дело в лице?
Демина поташнивало, он встал, напился прямо из графина и опять лег. Ганечка принялся читать «Трех мушкетеров». Сергей в ожидании своей Тани трудился над книжкой по ремонту часов: шептал о шестеренках, камнях, анкерном ходе и, наверное, представлял себя в мастерской – лупа у глаза, белый с голик перед ним и эти камни и шестеренки, отсчитывающие время.
Таня пришла незадолго до обеда.
Белокурая, голубоглазая, она неслышно появилась в палате, и Сергей засуетился, затеребил руками простыню, прикрывая свои сухие ноги и не сводя с нее восторженного взгляда.
Он не обманывался относительно ее внешности, но ничего исключительного не было – крепенькая миловидная девушка, хорошо сложена, короткое платье в обтяжку, каблучки.
– Добрый день, – сказала она, глядя на незнакомого ой Демина и спиной прикрывая за собой дверь.
– Да ты проходи, проходи, чего ты! – засуетился Сергей.
Постукивая каблучками, она прошла к его кровати, положила на тумбочку сетку с кулечками и свертками и села рядом на стул, оглянувшись на Демина и мельком посмотрев на Ганечку.
– Это у нас новенький, – радостно сообщил Сергей. – Со вчерашнего вечера здесь. Познакомься: военный летчик старший лейтенант Демин.
Таня послушно обернулась, протянула Демину руку с яркими накрашенными ногтями – рука неожиданно крепкая, шершавая, – покраснела и назвала себя.
От нее исходил густой запах помады и духов, неприятно даже. Зачем это ей, такой молоденькой? И ногти размалевала, короткие обломанные ногти.
– Ну как там у вас? – торопил Сергей. – Скоро на каникулы? На улице сейчас хорошо, зелень, солнце!
– Хорошо, – сказала Таня. – На Волге пляж сделали, недалеко от пристани, загораем, купаемся. И на Свияге тоже.
– А ты вроде не загорела?
– Я? Так ведь экзамены сейчас, я загорю, вот кончатся экзамены, и буду загорать. Вчера мы в филармонии концерт давали, я исполняла соло на скрипке.
– И как?
– Хорошо, не беспокойся. На «бис» вызывали. А нынче утром начальника вашего видела, грамоту мне твою отдал. Завод, говорит, уже цветной цемент выдает.
– Цветной?! Ух ты черт, цветно-ой!
Сергей восторгался каждым ее словом и вопросительно глядел то на Демина, то на Ганечку. Демин не понимал его взгляда, он забыл об утреннем разговоре, и Ганечка, наверное, забыл, потому что листал книжку до тех пор, пока Сергей не сказал с укором:
– Что же вы!
– Сейчас, – сказал Ганечка и сердито стал надевать пижаму.
Таня вопросительно поглядела на Сергея, улыбающегося неуверенно и жалко, потом на Демина.
– Нам к дежурному врачу надо, – солгал, подымаясь, Демин, поняв наконец-то, чего от него хотят. – Мы на полчаса.
– Все эта... как ее... инъекция. Замучили. – Ганечка заторопился, стуча костылями.
У двери их догнал нетерпеливый голос Сергея:
– Ключ в тумбочке, что ли?
– В моей, – сказал Ганечка.
Демин оглянулся и увидел, как вспыхнуло лицо Тани.
Они вышли в коридор, достали сигареты и долго закуривали.
Ганечка еще не привык к своему положению и боялся выпустить из рук костыли, а Демин одной рукой тоже не мог управиться. Он держал коробок, а Ганечка чиркал спичкой.
Прикурили. Сделали по нескольку жадных глубоких затяжек.
– Торопится, – сказал Ганечка. – Ребеночка ему надо быстрее.
– Она же девчонка еще!
– Извините – законная жена. У нас человек человеку – друг, товарищ и брат. А она законная жена. Вдруг сбежит в скрипачки и других радовать будет, а не его нянчить!
Они вышли во двор и сели на траву в тени большого корявого вяза. Демин почувствовал слабость и привалился спиной к стволу.
– Сестра бы не застукала, – сказал Ганечка.
– Кого? – спросил Демин.
– Нас, кого же еще! – Ганечка нервно щипал траву тонкими пальцами. – Мы нарушили распорядок, а не он.
Мягкая и прохладная трава пахла солнцем. В дальних кустах, у забора, тонко тенькала желтенькая птичка. Веселая, беззаботная такая птичка. По аллее бродили ходячие больные из терапевтического, за столиком под желтой акацией грохотала костяшками домино шумная компания выздоравливающих.
– Человек произошел от обезьяны, – сказал Ганечка.
– Да? – невнимательно произнес Демин, думая о том, что происходит сейчас в палате.
– Да, – сказал Ганечка. – Скоты мы. Пока подгоняют стадо, идем вроде все вместе, а остались одни – и кто куда.
– Вряд ли, – сказал Демин.
– Вряд ли?.. Может быть, тебе больнее моя боль? Или ты отдашь свои ноги Сергею?
– Не то, – сказал Демин.
– Чего же ты кривишься, если не то! У тебя крылья, ты опять полетишь, а ему тридцать, ему жить надо как-нибудь.
– А ей не надо? В восемнадцать-то лет!
– Вот видишь – и она о себе! Каждый о себе думает, а другие – до фонаря. И ты такой же. И все мы.
– Ты делаешь обобщения на одном факте. Ты подумай.
– Я думал. С четырнадцати лет по тюрьмам думаю.
– Тюрьмы не самое удобное место для этого.
– Мы диалектику учили не по Гегелю, говорил пролетарский поэт Демьян Бедный.
– Маяковский. Но у него есть стихи и получше
– Пасую, пробелы образования. Дипломатом мечтал стать, но юность оказалась несговорчивой.
Почувствовав головокружение, Демин закрыл глаза. Если руку отрежут, даже простенький «як» будет недостижимым. Этот блатной очень откровенен. Но разве мечта Демина о космосе только его мечта? И все же это и его мечта, и он будет бороться за нее, как Сергей и Ганечка борются за возвращение к жизни.
Послышался дробный стук каблучков, Демин открыл глаза и увидел, что с больничного крыльца сбежала Таня. Она торопливо помахала им рукой, споткнулась и, поправившись, быстро пошла по аллее к воротам.
Они побрели в палату.
Сергей лежал, закинув руки за голову. Красное лицо его счастливо улыбалось, глаза сияли.
– Глубоко приветствую и поздравляю, – сказал Ганечка.
– Спасибо, – расплылся в улыбке Сергей. – Я же знаю, что у меня живое, а что неживое.
– Ты знаешь, – сказал Демин, чувствуя непонятную злость. – Ты все знаешь!
- А чего? – удивился Сергей. И, не дождавшись ответа, вскинул настороженные глаза на Ганечку.
– Рука у него разболелась, – сказал Ганечка, укладывая костыли в угол и садясь на постель. – Ты не беспокойся, Серега, блаженствуй, рука у него.
Вскоре санитарка с сестрой принесли обед, и все трое стали молча есть. Они ели старательно, хлебали громко, жевали сосредоточенно и не глядели друг на друга. Когда они поели и санитарка унесла посуду, делать стало нечего, и все легли. Они старались заснуть, но сна не было. Может, от духоты в палате, хотя форточка была открыта. Устав томиться, Ганечка достал из-под подушки «Трех мушкетеров», а Сергей зашептал что-то про шестеренки, пружины и камни.
Зашла Лида и сказала, что наступил тихий час и надо отдыхать. Она опять присела возле Сергея, поглядывая на его волосатое обнаженное тело и мускулистые руки. Ей было лет двадцать восемь или все тридцать, надежды на замужество уже исчезли, а Сергей лежал здесь девятый месяц и сочувствовал ей.
– Посидела бы со мной, Лида, – попросил Танечка.
– Я здесь привыкла, – доверчиво сказала Лида. – Я пойду, спите.
У нее была высокая грудь, длинные сильные ноги и тонкая талия, но только это у нее и было привлекательным.
– Какая баба пропадает! – сказал Сергей, когда она вышла. – Дураки мы и совсем не хозяева. Да от нее дети пойдут богатыри, и умница она, и работает хорошо. Мотыльки мы, на яркую рожу летим.
Ему не ответили.
IV
– К сожалению, мы очень мало знаем человека, в этом все дело, – сказал Игорь Петрович. – Медицину, в сущности, нельзя назвать наукой, слишком много у нас зависит от личных способностей врача, от его опыта. Если бы летчик поступил сразу к нам, мы спасли бы руку, а сейчас такой уверенности нет.
Страшнов нахмурился: «Мы, мы»! А это современное «мы» не что иное, как утонченное замаскированное «я». Вот, мол, я талантливый и современный, но я признаю, что и ты опытный и способный хирург, и вдвоем мы не допустили бы гангрены, как тот бездарный «ветеринар» из села.
– Ну, допустим, что это так, – сказал Страшнов. – А дальше?
Игорь Петрович улыбнулся:
– Человек – это биологическая система, и надо добиться, чтобы медицина стала точной наукой.
Опять кибернетика. Не боится быть навязчивым. Страшнов закурил.
Они сидели в ординаторской – Страшнов по-хозяйски за столом, Игорь Петрович рядом, на кушетке.
Это был уже не первый разговор. Игорь Петрович преследовал Страшнова кибернетикой: «забывал» у него в кабинете журналы с отчеркнутыми статьями и книги, «случайно» познакомил с инженером завода электронно-вычислительных машин, своим приятелем. Толковый инженер, интересный. Страшнов даже и подружился с ним и ходил на завод смотреть машины. Потом – опять-таки Игорь Петрович ускорил – в больницу прислали новейший аппарат искусственного кровообращения и диагностическую машину. Все врачи радуются: у нас теперь настоящая клиника, современная! Страшнову тоже показалась не лишней диагностическая машина, хотя всецело полагаться на нее нельзя. Как, впрочем, и на хороший аппарат искусственного кровообращения, который все-таки плох, потому что разрушает эритроциты.
– Я привык рассуждать конкретно, – сказал Страшнов. – Вот в четвертой палате у нас лежат три разных человека, и, значит, смотреть на них можно ник на три испорченные машины, так?
– Почти. – Игорь Петрович поправил пенсне, положил ногу на ногу. – В представлении кибернетика это действительно три очень сложные и принципиально одинаковые машины или, лучше сказать, системы, которые сейчас не могут выполнять те или иные функции, необходимые им самим и обществу.
– Значит, вор Ганечка не больше чем машина, которая заехала не туда?
– Именно так. Но, рассматривая его как машину, мы знаем, что это такая машина, которая способна самонастраиваться, саморегулироваться в зависимости от условий как внешних, так и относящихся только к данной системе или, если угодно, машине.
Вот как отвечают молодые ученые на твою грубость: «если угодно», «мы знаем», хотя угодно это ему и знает это он, а ты не знаешь – и получай по носу.
– Ясно, – сказал Страшнов. – Ганечка был молод, глуп, недостаточно стоек в нравственном плане и стал вором. А его ровесник Сергей не стал, потому что оказался более стойкой системой. Все ясно.
– Не совсем. Ганечка, разумеется, тоже биологическая система, и он располагает двумя типами программ: собственно биологическими и общественными, то есть человеческими. Следовательно, всякое воздействие отражается в данной системе двояким образом – кроме «животных» функций система выполняет работу по накоплению разнообразной количественной информации и в результате приходит к решению (а это уже качественный скачок) переменить направление, самоорганизоваться иначе, переместить себя в другие условия.
«Умничаешь, дорогой, умничаешь, доказать хочешь, что у тебя есть не только знания, но и убеждения, которые стали научной верой».
Страшнов усмехнулся:
– Это вопрос терминологии. Сказать проще, поумнел, постарел, устал мотаться по тюрьмам.
– Проще не всегда верней, – возразил Игорь Петрович. – И дело не только в терминологии. Поумнел, постарел, устал – это качественные определения, причем неточные, ими нельзя руководствоваться, не зная количественных закономерностей. Вот у больного Демина сейчас образовалась, как бы сказал психолог, остронегативная эмоциональная доминанта. Ну, а какова степень этой остроты, нам неизвестно. В энергосистемах, например, есть точные количественные показатели: сила тока – в амперах, напряжение – в вольтах и так далее, поэтому при аварийной ситуации срабатывают разные там предохранители и блокировки. Все это рассчитано и контролируется человеком. А у нас? Мы ампутируем руку, а летчик покончит с собой. Возможно это? Возможно, потому что ампутацией мы не снизим, а усилим ту эмоциональную доминанту, которая у него образовалась. Или этот... Ганечка. Он получил удар от своего прежнего мира, решение его должно только окрепнуть – не вернусь к прошлому! – но он готов отомстить за себя – он половину жизни провел в тюрьмах, и в нем живут навыки его прежнего мира. Может он ими воспользоваться? Вполне. Или Сергей со своей женой...
– Ясно, – сказал Страшнов. – Но вы забываете, что врач, по вашей же мысли, является только ремонтником этих живых машин, а строят и эксплуатируют их другие.
– Справедливо, – сказал Игорь Петрович. – Но кибернетика рассматривает общество тоже как систему, где возможен и строгий контроль, и отлаженный гибкий режим деятельности.
Страшнов вздохнул:
– Знаете, Игорь Петрович, в молодости я тоже считал, что человек – это прежде всего организм и его можно с некоторыми допущениями приравнять к машине. И не только я так считал. Человек – машина, общество – машина, незаменимых у нас нет, один винтик можно выбросить, другой вставить.
– Грубая социология, – сказал Игорь Петрович, поправляя пенсне. – Кибернетика не имеет с этим ничего общего. Между прочим, у нас ее называли антинаучной, идеалистической, причем совершенно бездоказательно.
– Почему бездоказательно? Отец любимой вами кибернетики собрал вместе Гиббса, Фрейда, святого Августина, еще кого-то и выдает это за философскую базу своей науки. А какая база, когда с бору по сосенке, эклектика.
Игорь Петрович улыбнулся: значит, Страшнов прочитал все же Винера.
– Дело не в философии, – сказал он. – Эйнштейн был махистом, но это не помешало ему разработать его знаменитую теорию.
– Разработать, может, и не помешало, это сказать трудно, а истолкованию помешало. И потом, в последние годы Эйнштейн не был махистом.
Страшнов встал, подошел с папиросой к окну: он любил курить в форточку. Стоишь, глядишь, как течет голубоватая струя дыма (будто из машины, черт возьми!), и отдыхаешь. От всего. И от взглядов, вопросительных или просительных («Ну как, доктор, встану я?», «Помогите мне встать, доктор, я жить хочу!»), и от работы (не мясник же, не отрезать поврежденные органы, а восстанавливать хочется), от разговоров, вот таких умных и модных разговоров, которые к тому же дельны, а стало быть, и неизбежны. Куда ты от них уйдешь? Игорь Петрович мальчик по сравнению с тобой, но и он по-своему ищет, вцепился вот в новую науку, он ведь умный и хорошо подготовленный мальчик, он верит, что именно кибернетика может стать панацеей от всех человеческих бед. А ты во что веришь, Страшнов, что ты ищешь?
V
Хорошие больницы, как кладбища, окружают прохладной густой зеленью. Где-то шумит буйный мир, а здесь лишь шелестит листва на деревьях, поют-высвистывают малые пичуги, перескакивая с ветки на ветку, и такое умиротворение, такая тишина вокруг, словно живут здесь не люди, а кроткие неземные существа.
И в самой больнице, в массивных каменных корпусах тихо. Неслышно ходят по застеленным коврами коридорам снежно-белые люди, неслышно разговаривают они, неслышно работают блестящими холодными инструментами. Только иногда глубокий стон или отчаянный крик выбросится из окна, протянет руки к зеленым равнодушным деревьям, к небу и обессиленным эхом затеряется, поникнет в густой зелени.
Наверно, здесь кончается жизнь.
Шум машин с отдаленного шоссе доползает сюда слабым, усыпляющим шорохом, этот шорох успокаивает, гладит, смиряет. И лежишь в прохладной шепчущей тишине, слушаешь дыхание спящих товарищей и думаешь о том, о чем прежде думать как-то не приходилось.
Здесь иногда кончается жизнь, которой ты радовался, здесь кончается радость, которая давала тебе счастье, здесь кончается счастье, для которого ты рожден.
А тебе только двадцать семь лет, ты не прожил и половины своей жизни, и вдруг из-за нелепой случайности тебе отрезают руку, и ты становишься инвалидом какой-то группы и не можешь летать, ты теряешь небо, а вместе с ним и счастье, для которого ты рожден. Твоя жизнь без будущего потеряет смысл, ты станешь ненужным и лишним, и, когда ты станешь таким, ты вдруг почувствуешь, что не можешь уйти из жизни достойно, как не можешь и остаться – ненужным и лишним. И ты будешь лихорадочно искать спасительное нечто, хотя бы какую- то возможность удержаться, ты с тревогой будешь оглядываться, ожидать помощи и поддержки и тогда поймешь, что раздавленный, неподвижный Сергей занят тем же. И Ганечка оправдывает его. Одноногий несчастный Ганечка, который тоже готов ухватиться за любую возможность спасти себя.
Весь тихий час Демин пролежал с открытыми глазами, он глядел на чистый белый потолок, по которому ползала черная муха, он старался разобраться во всем, но так и не разобрался, а муха все ползала и ползала кругами, и Демин подумал, что она больная, потому что она ползала с утра и ни разу не попыталась взлететь.
Он обрадовался, когда в палату вошла Лида и отвела его на перевязку.
Перевязку делал молодой хирург в строгом пенсне, который вчера ассистировал Страшнову. Он – сестра называла его Игорем Петровичем – сухо говорил о введении какой-то сыворотки, обязательно четыре штамма, о демаркационной линии (совсем военный термин), и Демин понял, что началась гангрена и руку спасти едва ли удастся. Раздавленная до локтя, она была багрово-синюшной, опухоль и краснота поднялась за локоть, от раны шел приторный запах.
Игорь Петрович наводил на него холодные стекла пенсне и говорил, что больного целесообразней перевести в отдельную палату и установить индивидуальный сестринский пост, но тут вошел Страшнов в халате с закатанными рукавами и сказал, что нет такой надобности.
– Не торопитесь, коллега, – зарокотал он густым своим басом. – Мы еще повоюем, мы сразу не сдадимся.
Он мыл руки и командовал Игорю Петровичу из своего угла:
– Сделать линейные разрезы, установить дренажи. Влажная? Ну что ж, будем делать сухой.
В раковине журчала вода, Демин слушал ее прохладный плеск и облизывал жестяные губы: его мучила жажда.
Когда сестра увела больного в палату, Страшнов сказал, отвечая на вопросительный взгляд своего помощника:
– Знаю, Игорь Петрович, знаю. Но сутки-двое еще продержимся, поверьте моему опыту. И переводить в отдельную палату не надо.
– Но там же безнадежный Сергей и этот... Ганечка, сами понимаете...
– А что делать? Руку, может, и не спасем, но людей... людей надо как-то поднять.
– Ну, это область воспитания.
– Да? А я все-таки думаю, что область лечения. Люди борются за жизнь, а мы агитацию примером, нормы морали...
– Что делать, рискнем. – Страшнов улыбнулся. – Ведь медицина наука не точная, кибернетика тоже помочь нам пока не в состоянии. Рискнем. Не забыли, что вам дежурить? Идите отдыхайте, работы, вероятно, будет много.
Он проводил Игоря Петровича, зашел в свой кабинет и долго стоял у окна, глядел на густую зелень больничного парка и курил в форточку.
В отделении не хватало одного хирурга, операционная сестра Анна Сергеевна просится на пенсию, жена с диссертацией все никак не развяжется, а ему надоела столовая. Быть бы в самом деле вот такой отлаженной машиной, какие видятся Игорю Петровичу, и не курил бы сейчас здесь, – исправная машина не станет работать на самоуничтожение, – не растирал бы рукой грудь возле сердца, не думал о разных Ганечках и Сергеях. Сколько их перебывало за годы его работы, сколько еще будет...
Брось, не оглупляй парня, Игорь Петрович вовсе не считает тебя такой машиной и понимает всю степень твоей сложности. Человеческий организм состоит из более чем трехсот миллиардов клеток, каждая клетка – из миллиардов молекул, прибавь сюда их бесчисленные связи, их функции и представь себе... Нет, такую машину даже представить нельзя. А ты еще забыл, что эта машина постоянно накапливает информацию, сносится с себе подобными машинами и со всем миром... Нет, невозможно. И электростанция, где все поставлено под контроль, не годится здесь для примера. Она построена человеческими руками, к тому же контроль там относителен, как в медицине: ведь до сих пор мы не знаем природы электричества, не знаем, что это такое, хотя используем его довольно успешно. Да, но вот ученые начинают ориентироваться в первооснове организма – клетке, раскрыт генетический код, доказана связь между этим кодом и синтезом белковых веществ в клетке... Ну, а дальше? Дальше... составить из трехсот миллиардов клеток различные структуры органов и тканей, и получится действующая система, которая будет заведовать травматологическим отделением, переживать за своих пациентов и курить у открытой форточки, досадуя (на старости лет постыдился бы), что вот у мальчика Игоря Петровича есть определенный взгляд на свою работу, и мальчик этот, между прочим, тоже кандидат наук, но вот он заявляет, что медицину пока нельзя назвать точной наукой, потому что здесь нельзя считать, нельзя пользоваться количественными закономерностями. То есть можно, но их мало, количественных показателей, качественными отношениями больше оперируем. И ты возражаешь ему, что человека, видите ли, опасно считать винтиком, это может привести к страшным последствиям. Правильно, справедливо, но ведь Игорь Петрович считает человека не винтиком, а самой сложном в мире машиной, которую надо знать, прежде чем ее регулировать. Ну, а ты чему уподобишь человека? Ах, ничему, у тебя человек – венец творения, сложнее и выше ничего нет! Седой ты черт, но ведь именно отсюда ты и придешь не к науке, а к богу, либо к сверхчеловеку, наделенному непознаваемыми качествами, особой волей, даром предвидения, предчувствий и еще многим, чему будут кланяться невежественные в этом отношении люди, стоящие ниже такого человека, и ты будешь кланяться вместе с ними. Разве такого не было?
Стоп, ты куда-то не туда поехал – грубая социология. И вообще, брось-ка философствовать, ты же практик, подумай лучше, не отделить ли Демина, как советует Игорь Петрович. Ведь есть свободная палата, Демину своей беды хватает, чтобы терзаться еще и несчастьями других. Возможно, и «негативная эмоциональная доминанта» исчезнет, потухнет постепенно – притерпится человек, смирится, и она потухнет. А если нет? Он мечтал о высоких скоростях, о покорении вселенной, он одержим своей мечтой, и вот на грани ее осуществления такое... Да, но на миру и смерть красна, говорят, и отнюдь не напрасно говорят. Впрочем, кибернетики, возможно, и не согласятся, точных данных тут нет, одни эмоции, которые Игорь Петрович называет помехами – вот как в радиоприемнике, когда ты настраиваешься на нужную волну, а тут мешают другие, ненужные тебе, и в атмосфере что-то происходит: грозы, северные сияния, магнитные бури...
Нет, ты не огрубляй, он говорил не в таком контексте. И Винер говорит о сходстве человека с машиной только в обмене информацией и в управлении, тождества он не допускает. Впрочем, и о различиях говорит мало, а в этом все дело.
Надо сказать Лиде, чтобы не отходила от Демина, и приготовить на всякий случай другую палату. И военкому надо сообщить, пусть поставит в известность мать Демина и командира полка.
VI
У Демина поползла вверх температура, его мучила жажда. Лида сидела у его постели, поила компотом и уговаривала Ганечку не мешать Сергею. Сергей лежал на животе, выписывая из книги по часовому делу какие-то цифры, а Ганечка сидел на кровати, глядел на Лиду и пел тоскливым, скулящим полушепотом:
Под кунгасом, под лодкой ночуя,
Потерял человеческий лик.
В сахалинскую землю дышу я,
А в глазах материк, материк...
– Не хандри, – уговаривала его Лида, – будь мужчиной.
Бьются волны Охотского моря,
Воет ветер, как черт знает как...
– Ганечка, пожалуйста, перестаньте!
– Пожалуйста! – Ганечка поднялся, придерживаясь за спинку кровати, сунул под мышки костыли и, черноголовый, узколицый, заковылял по палате, как подбитый грач. – Какое нежное слово «пожалуйста»! Почему вы не сказали его раньше? Пожалуйста!.. Я, Лидочка, родился слабеньким и нежным, я любил нежность и ласковое обращение, как любят все маленькие мальчики. Но у меня не было мамы, Лидочка. Я жил у бабушки, потому что мама меня бросила, а бабушка потом умерла, потому что она была старая, бабушка. А потом я немного вырос, пошел в школу, и тут началась подлая война, а фашисты ведь были неласковы, Лидочка, а подлая война оказалась долгой, а я хотел кушать, и мне не говорили «пожалуйста». Ты меня понимаешь, Лидочка? Есть такие слова: «В годину смуты и разврата не осуждайте братья брата». А меня осудили, хотя я тоже любил вежливость и хорошее обращение. Понимаешь, Лида?
Лида склонилась над Деминым, вытирая ему полотенцем вспотевшее лицо. У нее были широкие мужские брови и большие грустные глаза. Волосы – вьющиеся, черные, но неудачно подстриженные «под мальчика». Не надо бы ей стричься «под мальчика». А как сказать об этом? Женщины не терпят, когда замечают изъяны их внешности.
Демин знал немногих женщин, и это были случайные, краткие связи. Но именно потому, что ничего серьезного у него с ними не было, он и не доверял им, и в минуты раскаяния обвинял их, как соучастниц своих грехов.
Лида ушла в другую палату, и вскоре Демин совсем было задремал, но тут к Ганечке пришел посетитель. Молодой, яркий, как попугай. У порога он снял фетровую шляпу (в такую-то жару в шляпе!), галантно со всеми раскланялся:
– Привет, граждане!
Брюки отглажены, складки как ножи, улыбается. Чему он улыбается, кому?
– О-о, как у вас светло! И воздух особый, специфический!
– Возле меня особенно, – сказал Сергей и поправил бутылку с желтой мочой.
– Остроумно и мило. – Посетитель рассмеялся, запахнул халат, спрятав зеленый пиджак с цветастым галстуком, и опять зачем-то раскланялся.
Весь он был фальшивый и наглый. Бесцеремонно оглядев палату, он быстрым оценивающим взглядом скользнул по Сергею, поглядел на бледного Демина.
– Крушение надежд и биографий? И сказок о нас не расскажут, и песен о нас не споют.
– Балагур, – сказал Демин, глядя, как посетитель усаживается на стул у койки помрачневшего Ганечки.
– Мурзик, – уточнил Сергей. – Видно сову по полету.
– Не обижайтесь, девочки, я неудачно пошутил, извиняюсь, – посетитель показал в улыбке золотые зубы и повернулся к сидящему Ганечке.
– Битый гад, – тихо пробормотал Сергей.
Посетитель говорил с Ганечкой на непонятном языке. И Ганечка отвечал ему странными, бессмысленными словами. Мелькали «бура», «башли» и еще град непонятных слов. Ганечка сидел на постели, опустив голову, тупо глядел на толстый забинтованный обрубок ноги, и его черная, грачиная голова как бы просила пощады. А посетитель выкладывал из карманов конфеты в кокетливых обертках и говорил, смеялся, говорил. Дважды с угрозой мелькнуло слово «маруха».
О женщине, догадался Демин, может быть, о Ганечкиной девушке.
Посетитель мял в руке угол шерстяного одеяла и не умолкал ни на минуту. Руки у него были узкие и белые. Он погладил Ганечку по голове, поправил ему челочку на лбу и вышел, опять со всеми раскланявшись.
– Хорош? – спросил Ганечка с улыбкой.
Улыбка вышла фальшивой, ему не ответили.
Он расправил смятый угол одеяла, откинулся на подушку и долго лежал, уставившись молча в потолок. В холодный белый потолок с белым абажуром посредине. Больная муха ползала теперь по абажуру, спускалась на самый край, глядела на молчаливых людей внизу и опять ползала.
До вечера Демина еще раз водили в перевязочную, его лихорадило, он много пил и не мог утолить жажду.
– Если бы я столько пил, мне ведро надо было бы привязывать, – пошутил Сергей.
Пошлая шутка.
На ночь Демину дали каких-то капель и таблетку, а Ганечка попросил снотворного. Днем, проводив посетителя, он долго молчал и глядел в потолок, а потом притворился спящим. И вот сейчас, когда пришла дежурная сестра, он попросил снотворного и открыл окно, потому что в палате было душно.
VII
Было очень душно, и сгорбленная седая мать поливала его студеной водой из лейки. Ему стало холодно, он говорил, что хватит, довольно, он уж и так продрог, а она смеялась радостным и до жути чужим смехом и все поливала его. Тело у него стало пупырчатым, как огурец, он стучал зубами, а она все поливала.
Проснулся Демин от холода. Простыня сбилась в ногах, одеяла не было. «Должно быть, сползло на пол», – подумал он, и поглядел по одну сторону кровати, потом по другую. Одеяла не было. Голый Сергей сидел на постели, растирал тонкие бамбуковые ноги в золотистой шерсти и тихо ругался. Ганечка, согнувшись вдвое, сопел под простыней.
Уже рассветало, восток раскалился от близкого солнца, дверь напротив окна розовела мелкими пятнами.
Демин поднялся и здоровой рукой закрыл распахнутую створку окна. Забинтованная рука висела тяжело и не болела.
– Это не люди, а клопы, – бормотал Сергей, – их давить надо, а мы боимся пальчики испачкать.
– Думаешь, украли? – спросил Демин, ложась.
– Нет, пошутили! – усмехнулся Сергей. – От того гада любой низости можно ждать. Не зря он навещал нас вчера, мурзик. Да и этот хорош. – Он показал на Ганечку. – Одного поля ягоды.
– Не может быть, – сказал Демин. – Слишком нагло и непредусмотрительно.
– Не считай их дураками, они все предусмотрели. На этого не подумают, а тот мурзик, наверно, вчера же других навел, а сам уехал.
В палату крадучись, боком влез мужик с перевязанной кривой шеей и, вытаращив глаза, обрадованно пропел:
– И у вас! Вот эт-та история-a! И у нас четыре одеяла пропали. Проснулся я, а они пропали. И бритва электрическая у соседа пропала. Новая. И одеяла-то новые, на прошлой неделе со склада привезли. Старые хоть бы, а то новые, из чистой шерсти!
– Хватит причитать, – сказал Сергей. – Больше нигде не украли?
– Или еще где? – У мужика подпрыгнули брови от любопытства. – Не-ет, не должно бы. К соседям я заглядывал – все цело, и в других палатах цело все. Зачем больше-то им, и так хорошо. Семь одеял по четвертной да бритва – две сотни в один заброд.
– Ясно, – сказал Демин. – Иди, мы спать будем.
– И как ловко спроворили. Артисты, ей-богу, артисты! Я не почуял даже, и ребята не шелохнулись никто, пока не озябли. Холодно с открытым-то окном, раздемши. К утру холодно. А улов хороший, двести рублей в один заброд. Корову можно купить.
– Ты уйдешь нынче? – крикнул Сергей.
Мужик опасливо скособочил голову еще ниже, замигал красными глазами и поспешно повез больничные шлепанцы к двери.
Ганечка заворочался от крика Сергея, натянул простыню на голову. Демин вспомнил вчерашнего посетителя, разговор на тарабарском языке и Ганечку, который тоскливо и долго глядел в потолок, и потом попросил снотворного у Лиды и открыл окно. Может, в это окно и влезали.
Вскоре пришла санитарка, протерла влажной тряпкой тумбочки и кровати и, подоткнув халат, стала мыть полы. Уже уходя, она заметила пропажу, заохала и побежала к сестре. Пришла усталая, невыспавшаяся Лида, которая дежурила за подругу, постояла у порога и, уходя, сказала, что придется месяца три работать бесплатно.
– Сними с него простыню, – сказал Сергей Демину. – Сорви, хватит ему притворяться! – Голос его зазвенел до крика.
Поднялась черная, грачиная голова, скрипнула кровать.
– Ох-ха-ха! – сладко потянулся Ганечка. – По какому случаю шум, девочки? Вас обидели?
– Не финти! Где одеяла?
– Одеяла? Ай-я-яй, безобразие! Обижать инвалидов труда, калек... Кто посмел, какой мерзавец? Да я из него ливер достану! Я его научу, как свободу любить, с-собаку! Сестра, сюда!
Он сидел на кровати, вертел головой и не глядел на соседей.
– Не ори, – сказал Сергей, раздувая ноздри. – Сволочь ты! Если бы не ноги, я вчера уделал бы твоего мурзика, я чуял. Ах, черт, если бы ноги! И зачем я тогда поднялся...
– Девочки! – воскликнул оскорбленный Ганечка. – Да вы в натуре на меня тянете, да? Да вы что же это, а?
– Мы тебе не девочки, подонок.
– Девочки, – сказал Демин. – Наивные девочки. Вместе живем и даже не подумали, что человек может быть такой скотиной.
– Где жрет, там и гадит, – сказал Сергей.
– Кто скотина, кто гадит?! – Ганечка взорвался, сбросил на пол мятую простыню. – Пай-мальчики, чистюли, ханжи! По одному подозрению душить хотите, гады, по одному виду! Ганька вор, Ганьке нет веры – у-у, подлюги!
– Это ты подлюга, – сказал Сергей. – Ты со своих одеяла стаскиваешь.
– Я не стаскивал, – бешено прошептал Ганечка, – а вот ты, ты девчонку удержать хочешь, костылями своими сделать хочешь, нянькой, ребеночка ему, веревочку для жены! Это ты подонок и сволочь, ты!
– Не кричи, – сказал Демин. – Ты порешь чепуху.
Сергей сглотнул слюну и потянулся к тумбочке за сигаретами. Он подтянулся на руках, ухватившись за спинку кровати и волоча мертвые ноги за собой.
– Обидно мне, Демин, обидно! – простонал Ганечка. – Не уводил я это тряпье, не брал, не брал! Я же завязать хотел, а они...
– Врешь, – сказал Демин, чувствуя подступающую тошноту. – И ты врешь. А вчера философствовал, базу для себя искал.
– Да нет же, не мог я здесь работать, не мог! Эх, ты...
Вызванный по телефону, пришел в сопровождении Лиды Страшнов и стал спрашивать, как все произошло. Демин сказал, что, когда проснулись, одеял уже не было.
Потом хирург подошел к Ганечке, и тот сказал, что проснулся позже всех, ничего не знает и вообще глупо подозревать человека только потому, что в прошлом у него замарана биография.
– Вас никто и не подозревает, – сказал Страшнов. – Больница для вас пока дом, а свой дом глупо поворовывать. Как ваше самочувствие, товарищ Демин?
– Ничего, – сказал Демин.
– Температура?
– Вечером была тридцать девять, сейчас, думаю, меньше.
– Ночью смотрели?
– Смотрела, – сказала Лида, подавая Страшнову температурный лист. – Вводила антибиотики, как вы сказали.
– Добро, на перевязку. Ваше слово, строитель? – обратился он к Сергею. – Не бросил курить все же?
– Не выходит, – сказал Сергей, гася сигарету в спичечном коробке.
– Выйдет, если захотите. Жена музицирует?
– Играет. – Сергей вздохнул.
– Молодчина, – сказал Страшное. – Вы молодчина, вы сам!
Обойдя койку Демина, он встал над Сергеем и протянул ему обе руки. Сергей потупил соломенную голову.
– Молодец! – сказал Страшнов с чувством. – Вы посмотрите, Демин, человек почти год лежит без движения, а жену от любимого дела не оторвал! – Он пожал обе руки Сергею, Сергей смутился, покраснел до пота и ничего не мог сказать.
Ганечка, прищурясь, глядел с усмешкой на эту театральную сцену и молчал, а Демин глядел и думал, что хирург «восхищается» мужеством Сергея потому, наверное, что догадывается либо знает о колебаниях своего больного.
Страшнов действительно знал об этом, но сейчас, «восторгаясь» Сергеем, он думал о Ганечке и о летчике, думал о том, что кража одеял хлестнула их всех своей неожиданностью.
Кража была поразительной по наглости и бесстыдству, и вряд ли туг можно подозревать Ганечку. Однако и не думать о нем нельзя. Ганечка завязал, его преследовали за это и, возможно, кражей одеял хотят скомпрометировать, навести на него подозрение, а дождавшись, когда начнется следствие, озлобить и выбить у него последнюю надежду на возвращение к честной жизни.
– Вас кто-нибудь навещает здесь? – спросил Страшнов Ганечку, уходя,
– Я не скучаю, доктор, – ответил он. – Я в кооперативе не воспитывался.
– Герой-одиночка? Нашел чем хвастаться. С какого завода?
– С автомобильного, – сказал Ганечка. – Только на заводе не знают, что я здесь. В отпуске я, поехал к тетке в деревню. Недельный отпуск без содержания.
– Н-да, отпуск недельный, верно, и содержания мало, – скаламбурил Страшнов. – Ловко, однако, вас раздели, а? Две палаты, семь человек, и ни один не проснулся. Как вы считаете?
– Чистая работа, – сказал Ганечка.
Страшнов поглядел на него пристально, улыбнулся и вслед за сестрой вышел.
В ординаторской его ожидал Игорь Петрович. Волнуясь, то и дело поправляя пенсне, Игорь Петрович решил напомнить вчерашний разговор и нынешний случай с одеялами.
– Вы извините меня, – говорил он торопливо, – но я полагаю, что здесь существует определенная связь. Когда человек борется за жизнь, он находится во власти животных инстинктов, и обычные моральные нормы здесь не подходят. Сегодня мы получили этому подтверждение.
– Та-ак, – произнес Страшнов, чувствуя, что ему видно согласиться с этим мальчишкой, но и не согласиться с ним он не может.
Слишком уж гладко у него все вышло, как по учебнику прочитал. Тут вот угроза смерти, тут инстинкт самосохранения, и вот летчик живет надеждой сохранить руку, строитель боится потерять жену, а раскаявшийся вор опять ворует.
– Может быть, и так, – сказал Страшнов, – но я видел и другое. В войну, например...
– Война – не норма, ее законы не подходят для нашей жизни.
«Ну конечно, ты ее не видел и не знаешь, рассуждая об инстинктах. Ни одно животное не выдержит тех мук и лишений, которые человек может принять на себя добровольно. Хотя, разумеется, это не может быть нормой».
– Делайте обход, – сказал Страшнов. – Я буду в перевязочной.
Демин сидел уже там, и Лида снимала с его руки слипшийся бинт.
– Гангрена, – сказал Страшнов, глядя прямо в расширенные зрачки Демина. – Соглашайтесь на ампутацию.
Лида торопливо бросила окровавленный бинт в тазик.
– А если не соглашусь? – спросил побледневший Демин.
– Тогда мы вынуждены будем...
Демин покачал головой:
– Нет. Никогда не соглашусь.
– Я не вижу другого выхода.
– Нет, – сказал Демин. – Тогда незачем жить.
Лида поспешно взяла тазик и вышла.
VIII
– Я сегодня яйца крашеные во сне видел, – сказал Ганечка.
– Кто-нибудь явится, – сказал Сергей. – Я мастер сны разгадывать, Таня научила. У ней книжка старая есть, по той книжке.
Разговор сразу погас. О Тане здесь не забывали, но не говорили. И вообще ни о чем не говорили. С самого рассвета, когда стало известно о краже одеял, они обходились односложными «да» или «нет».
Демин лежал вниз лицом, накрыв голову подушкой. Он легко переносил восьмикратные перегрузки и знал, что существуют еще более тяжелые перегрузки, и готовился к ним. Но к таким он не готовился. Слишком уж мал выбор: либо ты безрукий калека, либо тебя нет.
Оставить матери записку, и все... Нечего тянуть, ждать чего-то. Можно и полковнику Рыжову написать. Мол, считайте, что запуск моей ракеты отложен по техническим причинам... Выпить бы чего-нибудь такого, чтоб сразу...
А мать не поверит, когда узнает, не сможет поверить. Столько лет готовился, с детства тянулся к небу... Она в самотканой юбке ходила, пока он учился, лапти на сенокос надевала, чтобы ботинки ему купить... Да и Рыжов не поверит.
– Естественное чувство, – сказал Страшнов. – Больше всего нас угнетает неопределенность, неизвестность, но едва примешь решение – всякий страх исчезает...
Когда он зашел? Что-то очень уж часто он заходит. Стережет меня, что ли?
Демин поправил подушку и лег на спину.
Страшнов сидел у постели Сергея и листал книгу по часовому делу. Измятая белая шапочка съехала ему на ухо, тесёмки халата на спине развязаны – наверно, куда-то торопился и зашел по пути.
– У меня есть приятель, очень умный и талантливый парень, – рассказывал Страшнов. – Он не особенно доверяет чувствам, принимает их только как показатель усиленной работы мозга. Вот, мол, человек попал в непривычное положение и начинает волноваться, нервничать, может совершить нелепый поступок, а потом приходит решение, он осваивается в новых условиях и успокаивается. Человек в это время похож на машину, которая работает с перегрузкой. Не знаю, насколько это верно.
И Страшнов рассказал, как он ездил на своем «Москвиче» в деревню к сестре и на обратном пути застрял в грязной долинке. Часа два маялся. Колеса крутятся на месте, мотор ревет от больших оборотов, машина вся дрожит, вибрирует, сцепление греется, горючего спалил полбака и обозлился как зверь. А виноват был сам: лопату не взял, привык к городскому асфальту, а возле дороги ни кустов, ничего такого под колеса. Потом уж пиджак свой сунул да плащ, выехал. Правда, измял одежонку, превратил в ком грязи.
– Вот жена, поди, дала разгон, – сказал Сергей.
– Не без этого, – улыбнулся Страшнов и рассказал еще фронтовой случай, когда он был хирургом полевого госпиталя и однажды немцы неожиданно так нажали, что пришлось срочно отступать с тяжелоранеными. Ужасная была суматоха, страшная, еле выбрались.
Ганечка елозил по кровати, вращал глазами, а когда Страшнов ушел, вскочил с постели и оскалил зубы:
– Чего он ходит, чего распинается?! Война, машины, перегрузки... Не уводил я его одеял, не брал, не брал, нет у него улик!
– С уликами ты уже попадал и опять вот лежишь, – сказал Сергей. – Ты сейчас гам улика, вещественное доказательство.
– А ты скотина! Ты-то какое доказательство!
– Не то, какое ты думаешь.
– Сволочь!
Демину было тошно, язык стал шершавым и жестким, как напильник, во рту высохло. Температура поднялась, что ли? Вчера она поднялась после обеда, а сегодня стало лихорадить с утра, и вот уже губы запеклись, не знаешь, куда себя деть. Быстрей бы кончалось все.
Он сел на постели, взял с тумбочки стакан с компотом, но не напился и налил еще кипяченой воды из графина. Неловко было действовать одной рукой, и он больше налил на тумбочку, чем в стакан.
– Ничего, – сказал Ганечка, – сейчас к Сергею санитарка придет, она вытрет.
Санитарка принесла судно и предложила Сергею свои услуги. Сергей стал устраиваться, она помогала ему, поддерживая под спину. Она приходила каждый день в это время и еще вечером, девятый месяц вот так она к нему приходила, и девятый месяц Сергей терпел свое унижение. Он стыдился нечистоты, запаха, голых, высохших ног и торопливо бормотал, что хорошо иметь персональное судно и постоянную санитарку при нем. Наверно, это была острота. Нет, надо кончать, кончать, чтобы не было с тобой ничего подобного!
– Спасибо, – сказал Сергей, закрывая ноги простыней.
– На здоровье, – улыбнулась краснощекая санитарка.
Должно быть, она чувствовала состояние Сергея, привыкла к своей работе и не допускала ни брезгливости, ни жалостливости. Она вытерла чистой тряпицей его тумбочку, взяла судно и вышла.
– Большие мы иногда сволочи, – сказал Ганечка. – Ничего не знаем.
– Это ты о себе? – спросил Сергей.
– О себе, успокойся. О тебе и говорить нечего, о праведнике.
Ганечка взял с тумбочки своих «Мушкетеров» и принялся было за чтение, но тут сбылся его сон: к нему пришел следователь. Только его не хватало сегодня! Сейчас скажет «здравствуйте, товарищи».
– Здравствуйте, товарищи!
До чего же все банально. Выучили формулу вежливости и твердят, не думая. Какое тут здоровье? Бодрые американцы приветствуют друг друга возгласом: «Делаешь деньги?» – и это еще глупей.
– Да мы знакомы, гражданин начальник, – сказал ему Ганечка с наигранной радостью. – Помните, прошлый раз вы домушников мне хотели пришить?
– Я ошибся тогда, – сказал следователь, присаживаясь на стул. – Я исправил это, извинился. Вас кто сбросил, свои?
– Что вы, как можно! – изумился Ганечка. – Мы джентельмены.
– Это видно.
– Поражаюсь вашей проницательности. Только я выпал сам, по собственному желанию: разочаровался в жизни и выпал.
– Можно отложить до другого раза. Я ведь пришел пока просто так, навестить. Узнал и пришел. Все-таки мы довольно близко знакомы.
– Тронут вашим участием, весьма тронут. – Танечка почтительно прижал руку к расстегнутой на груди рубахе и поклонился с кровати. – В благодарность вам, гражданин начальник, все расскажу, как на исповеди. Я человек прямой, эти нам не помешают. – Он показал взглядом на Демина и Сергея.
«Подонок. Извивается, как уж под вилами».
– Прошлый раз вы говорили, что вашей мечтой было стать дипломатом, – сказал следователь. – Вы не теряете времени.
– Благодарю вас. Итак, я выпал из тамбура вагона, не доехав к тете, ожидающей племянника на побывку. Между прочим, племянник хотел старушке покрыть дом, она очень его просила. Есть письмо, которое можно приобщить к делу.
– И племянник выпал?
– Именно так. С вами легко говорить. Племянник выпал. Была дивная ночь, звезды, прохлада, а в вагоне душно, и я захотел прогуляться. К сожалению, мне не повезло: я сорвался и висел на одной руке, пока не устал.
– Долго вы висели?
-Не могу сказать точно: забыл засечь время. К тому же было темновато. Но примерно минуты две. Может быть, три, пять, целую вечность.
– А поезд шел?
– А поезд шел. И ребята на аккордеоне играли. Веселая такая музыка, это уж я запомнил.
Демин слушал извивающегося Ганечку и видел летящий полями поезд, огни в вагонах, слышал музыку и перестук колес. Поезд стремился к станции и дольше, а мурзики никуда не стремились. Они влезли в поезд воровать, и им не нужна была станция. И Ганечка им оказался не нужен, потому что он хотел стать другим Ганечкой, а они боялись этого и выбросили его из вагона. А поезд шел.
– Что вы чувствовали, когда висели, думали о чем?
– Психологией интересуетесь, гражданин начальник? А вы сами попробуйте!
– Я не почувствую того, что вы. И они, – следователь кивнул головой в сторону Сергея и Демина, – чувствовали другое, когда попали в беду, ибо попали случайно.
«Нет, все-таки он не очень умный», – подумал Демин.
– А я попал законно? – спросил Ганечка.
– Вы должны были когда-то попасть, и вы попали.
– Люблю откровенных, с ними все ясно.
– Не любите вы откровенных, боитесь. Извините.
Следователь поднялся, запахнул халат, взял под мышку свою блестящую «молниями» папку и кивком головы попрощался со всеми.
В дежурке следователя ожидал пригласивший его Страшнов.
Ганечка откинулся на подушку и вздохнул облегченно.
– Значит, Страшнов не накапал ему, – сказал он, – Просто воспитывать ходит, на совесть надеется.
– А почему бы не надеяться, – сказал Демин. – За одеяла они с Лидой рассчитаются из зарплаты. А может, Страшнов один рассчитается.
– Из зарплаты?
– Не воровать же пойдут в другую больницу. Он врач, а не доносчик, он только лечит.
– Лечит? Хм, лечит... Ну да, лечит, благородное дело... Что ж, пусть лечит, пусть вытаскивает нас.
– Мудрец, – сказал Сергей. – Он четыре года на фронте пробыл.
– Да замолчи ты, хватит, заткнись! Думаешь, я не чувствую, что ли? Думаешь, я покрываю тех щипачей, которые меня сбросили? Да я бы все сказал следователю, но мы не капаем, мы рассчитываемся сами...
– И за одеяла?
– Они Маше грозят, они и на нее, подлюги...
– Вот и рви от них.
– К тебе, что ли? К такому-то скоту?!
– Это верно, – сказал Демин, облизывая черные губы.
– Чего ж неверно! Пока здоровый, он человеком был, выгодно было, а сейчас ребеночка ему, веревочку, жену привязать. А ты один попробуй прожить, один!
– И попробую, – сказал Сергей, бледнея. – Я попробую. А ты подонок и идиот.
– Нет, – сказал Демин, чувствуя знакомую уже тесноту внутри и злость. – Он трус. Ворует, а отвечать боится.
– А ты не боишься? Чего ты руку не даешь резать? Чего ждешь? Или концы отдать хочешь?! С-судья!
– Трус. На других оглядываешься.
– Не оглядываюсь. Я уже ничего не боюсь, это ты боишься! А меня судить лезешь.
У Демина закружилась голова, и он умолк.
Вскоре пришла Лида и повела его и Ганечку на перевязку.
Демину ввели раствор спирта в вену и стали обрабатывать руку. Он часто дышал, осунувшееся лицо побледнело, на лбу выступили градины пота.
Ганечка сидел на кушетке, глядел на него и икал. Багрово-синяя рука была страшной, хирург резал омертвевшую ткань, очищая от нагноения обнаженные сухожилия, и опять резал. Икота Ганечки усилилась.
– Дайте ему воды, сестра, – сказал Страшнов.
Ганечка пил, стуча зубами о мензурку, и не сводил глаз с Демина.
IX
После обеда Демину стало хуже. Часто лихорадило, резко поднялась температура, он ослабел и был в состоянии тихого полусна-полубреда. Временами он видел и слышал все, что происходило в палате, а временами забывался и, когда приходил в себя, долго вспоминал, где он находится, пытался восстановить провалы в сознании, слушал разговоры соседей и вновь забывался. Ему виделись обрывки картин из раннего детства, служба в полку, школьный учитель Иван Игнатьевич с палочкой и детским портфелем, наземные тренировки в аэроклубе, деревня, где жила его мать, знакомые колхозники...
Однажды он очнулся, услышав голос Страшнова:
– Вот он бредит, а ни одной жалобы, ни одного стона: делом человек занят, о жизни думает. В этом вся штука. Здоровые, мы можем сдерживаться, а вот так, без сознания – мы голые, все видно.
«Обо мне», – подумал Демин равнодушно и вспомнил трехлопастный винт на могиле командира эскадрильи Михайлова. Михайлов давно не летал на поршневых самолетах и разбился на реактивном, а на могилу почему-то поставили винт. По традиции, что ли?
Он опять забылся, а когда пришел в себя, услышал тихий смех и веселый, ласковый шепот. У кровати Ганечки сидели две девушки и парень в спецовке рабочего. Наверно, им звонил на завод Страшнов. Потом вошла сестра и увела девушку и парня, а вторую девушку, маленькую и кудрявую, как овечка, оставила на пять минут.
Ганечка сидел на кровати, несмело гладил девушку по руке, в которой она держала красные цветы, блаженно улыбался и часто без надобности поправлял челку. «Может быть, та самая Маша, – подумал Демин, – которой угрожают те щипачи. Наверное, она. И, чтобы ее не тронули, Ганечка согласился на кражу одеял».
Она спрашивала Ганечку, не жестко ли ему спать, досыта ли кормят, не режут ли под мышками новые костыли, а если режут, надо обтянуть фланелью.
– Ты не беспокойся, ты выздоравливай быстрее, – шептала она. – Я пошлю брата в деревню, и он поможет твоей тетке покрыть крышу. Ты не беспокойся. Надо было сказать, а ты поехал один и не сказал.
Она говорила только о Танечке и не сводила с него тревожных глаз. Вот и Таня так же говорила с Сергеем. Может, Таня любит его?
– Подай ему пить, Маша, – сказал Ганечка, заметив, что Демин хватает воздух пепельными губами.
Демин ощутил скользкую твердость стакана и прохладу, пролившуюся на грудь. Девушка склонилась над ним и одной рукой поддерживала ему гомону. Глаза у нее были круглые и блестящие.
Сергей лежал лицом к стене, и голая его спина и белой гофрой шрамов по позвоночнику приметно вздрагивала. Плакал, что ли?
Потом стало темно, а потом на тумбочке Демина появилась лампа под красным абажуром. Приходил Страшнов с молодым хирургом в пенсне, делали какие-то уколы, поили, уносили не то в перевязочную, не то в операционную.
Демин почему-то вспомнил комбайнера дядю Васю, который ругал его за быструю езду. Ну да, он любил скорость, любил ездить быстро, а волы ходили медленно, и ему надо было успеть разгрузить комбайны. Дядя Вася, вечно чумазый и пыльный, стоит ни выгрузном шнеке и машет ему метлой, а волы двигаются со скоростью пять километров в день. Они обмахиваются хвостами от оводов, крутят рогатыми головами и идут не в ногу, дергая дышло то в одну, то в другую сторону. Он полосует их кнутом, волы прибавляют скорость и приходят к комбайну галопом, а дядя Вася ругается и жалеет волов. Ведь у них ноги, а не мотор, нельзя их так гнать. А сам машет метлой. Если жалко, стоял бы да ждал.
– А потом что было? – спросил Ганечка.
– Потом ничего, – сказал Демин. – Школу окончил, в аэроклуб поступил, а потом в училище.
Ганечка озадаченно поглядел на него: он говорил с Сергеем, и слова Демина никак не вязались с их разговором. Но все же он попросил рассказывать дальше.
Демин стал рассказывать о первом полете без инструктора и о том неповторимом ощущении, когда ты оказываешься один в небе, летишь, и машина послушно повинуется тебе. И еще о том, какими маленькими кажутся сверху люди, а с боевого самолета, когда высота измеряется километрами, людей вообще не видно.
Он забылся и опять очнулся неизвестно когда, потому что потерял счет времени. Ганечка сидел у его постели и говорил Сергею, что кроме имени у него еще были клички: Дипломат, Рокфеллер, Беркут – хорошие клички, сам выбирал.
Сергей сказал, что Таня после окончания сельской школы хотела в музыкальное училище. Таня способная, лет пять пилила на скрипке в сельском кружке, а теперь вот учится по-настоящему. Как он будет без нее теперь, ну как? Обидно.
– Небо – это простор, – сказал Демин, – это пространство. Материя существует в движении, движение происходит в пространстве и времени. Скорость побеждает время, вечность побеждает скорость. А мы стремимся к вечности.
– Бредит, – вздохнул Сергей.
– Она давала мне пить, и она его любит, – сказал Демин. – Следите за временем и ремонтируйте часы. Они отмечают время...
Он слышал свои слова и долго падал куда-то вниз, а потом увидел в темноте Страшнова и перед ним Ганечку на костылях, который шептал, волнуясь:
– Я не наводил, доктор, я не соучастник, это они так подстроили. Честное слово, доктор! Я только знал.
– Возможно, – прогудел Страшнов. Он сидел у кровати большим белым привидением и что-то делал с рукой Демина.
– Одеяла будут, людей не будет, – сказал Ганечка. – Я не боюсь, доктор, я ничего не боюсь, но сейчас не могу их закладывать. Мы должны быть на равных.
– Этого я не понимаю, – сказал Страшнов.
– Я вам все расскажу, вы только поверьте мне!
– Поверить? – сказал Страшнов. – Я тебя лечу, и ты меня обворовываешь.
X
Полет проходил ночью. У Демина отказал радиокомпас, а дублирующий гиромагнитный компас куда-то пропал. Он шел по пеленгатору и даже не знал точно высоты, потому что летел под облаками и локатор не брал из-за малой высоты. Он летел ощупью, ориентируясь по увеличению или уменьшению пеленга, потом его вели посадочным локатором, поправляли с земли курс и высоту, и, когда он вышел к аэродрому, оказалось, что летит он днем.
Небо над аэродромом было чистым, светило солнце, и сидел он не в кабине реактивного истребителя, а на «яке», слабеньком аэроклубном «яке». За ним тянулся буксирный трос к оранжевому планеру.
– Я твой ведомый! – закричала Таня, размахивая скрипкой из кабины планера.
Высота была ничтожной, метров двадцать, на аэродромном поле колхозники косили траву. Среди них стоял по пояс голый Сергей, здоровый и веселый. Он взмахнул веревкой и накинул петлю на хвост «яка».
– Тяни! – закричал он толпящимся рядом людям. – Не пустим его!
В толпе Демин разглядел Танечку на костылях, следователя, плачущую мать и Страшнова. Страшнов стоял в белом халате и, запрокинув голову, глядел на него. По взлетной дорожке бежала Лида и показывала рукой на полосатую аэродромную колбасу: ветер был крепкий.
– Не улетит, – говорил Ганечка, обнимая следователя с папкой. – Ты не беспокойся, гражданин начальник, он нас любит.
– Обрежь веревку! – крикнул снизу Страшнов.
С ума сошел! Чтобы обрезать, надо к хвосту добраться.
– Держи скальпель!
Демин сдвинул фонарь назад и почувствовал в руке холодный нож. Теперь надо выбраться из кабины. Он стал вылезать, но ему мешал парашют, было трудно удержаться под ревущим ветром, а снизу мать кричала просительно:
– Не упади, сынок!
Мать была в широкой сборчатой юбке и темной шали, в руках у нее горел медный крест.
Демин добрался до хвоста и короткими ударами стал бить по веревке. Нож оказался тупым и не резал, а рвал скрученные волокна.
– Планер держи, Серега! – закричал мужик с кривой забинтованной шеей. – Обротай его, а то улетит.
Они бросали снизу вверх веревки, которые извивались змеями и хлестали по рулям, Демин отбрасывал их и бил ножом по затянувшейся петле. Он бил тупым ножом, он отмахивался от холодных гадюк, но одна рука у него онемела, а другой он отмахивался, а они все бросали, а он отмахивался и ударил рукой о кровать, а кровать была жесткой, и он очнулся.
Рука не поднималась, под мышкой вспухла железа величиной с голубиное яйцо; она болела, а рука не болела и была тяжелой и неподвижной, словно ее прибили к кровати. Над ним сидел Страшнов и что-то делал с рукой. Ему помогал молодой хирург в пенсне.
– Отрезали? – спросил Демин.
– Пока нет, – сказал Страшнов.
– Отрежьте, – сказал Демин.
* * *
В дежурке Страшнов, продолжая прерванный разговор, сказал Игорю Петровичу, что допуск посетителей в четвертую палату он разрешил в силу необходимости. Человек, может, и машина, но ему всегда нужна связь с миром, а Ганечке нужна вот так, – он чиркнул пальцем по горлу.
– Я понимаю, – сказал Игорь Петрович с улыбкой: очень уж энергичным был этот жест. – Но задерживать ампутацию опасно.
– И все-таки мы должны бороться до конца, ампутация – это последнее, что мы можем сделать.
– Борется сейчас только Демин, а те двое в стороне. Впрочем, положение у них похожее. Я где-то слышал или читал о таком опыте: привязали двух незнакомых собак в разных углах помещения, и, когда одну стали бить, вторая жалобно заскулила, хотя ей даже не угрожали. Опыт, разумеется, жестокий, но результат интересный, вполне согласуется с учением Павлова. Между прочим, Винер, высоко оценивает исследования Павлова, жаль только, что объединяет их с теорией ассоциации Локка, в сущности, механистической...
Игорь Петрович увлекся и не заметил, что Страшнов заснул. Он спал, сидя за столом, уткнувшись лбом в сжатые кулаки, и, когда Игорь Петрович заметил это, ему стало стыдно. Разглагольствует о Винере и Локке, а не подумал, что вчера Страшнов оставался один на все отделение. Его отправил отдыхать, а сам остался. И сейчас здесь. Двое суток. Очевидно, не для того, чтобы выслушивать его теоретические упражнения. Мозг отключился, в действие вступили защитные силы организма, и заснул...
В четвертой палате тоже спали все, кроме Ганечки. Ганечка вечером звонил по телефону и сейчас ждал. Если щипачи не придут, он не побоится мокрого дела, он рассчитается за все, и пускай тогда клеят ему любой срок, пускай вышка, он не отступит.
Щипачи пришли. Они плохо помнили Дипломата и Рокфеллера, но знали Беркута, которого не могли пришить втроем, и знали, что от него им не уйти. Он бросит все, восстановит старые связи и рассчитается с ними, чего бы это ни стоило.
В палате спали. Демин не бредил и дышал вроде спокойно. Врачи умеют сделать так, чтобы человек спал спокойно. Ганечка тоже уснул. Перед рассветом, когда щипачи все сделали. Он уснул сразу же и спал легко, будто лежал в жаркий день на траве в прохладной тени.
Разбудил их мужик с кривой перевязанной шеей. Он вбежал ошалелый, взволнованный, остановился посреди палаты и, кособоча жуликоватую совиную голову, стал рассказывать, захлебываясь:
– И бритва и одеяла целехоньки, как были. Ей- богу! Одеяла – на нас, бритва – в тумбочке... И у вас? Во-от эт-та да-а-а! Артисты! Ей-богу, артисты! И как они спроворили, ума не приложу!
– Они могут, – сказал Ганечка, зевая. – Они не то еще могут.
– Нам уж другие одеяла дали, а они вернули. Вот дурачки! Если рыбу в речку кидать, зачем ломить? Ей-богу, дурачки?
– Ну, ты, сундук! За ум тебе шею-то свернули? Дуй спать!
– И окошко-то ведь закрыто было, и разговаривали мы долго, а вот поди-ка... И чего они так, а? Совесть заела, что ли?
– Да ты заткнешься, мать твою...
Ганечка схватил костыль и, когда мужик, шлепая туфлями, выскочил в дверь, радостно засмеялся. Все утро он не мог унять своей радости, хохотал над «Тремя мушкетерами», называл их осликами, задирал Сергея, рассказывал блатные анекдоты.
Демин лежал безучастным. У него снизилась температура, как она всегда снижалась по утрам, но незначительно, и облегчения не наступило. Черты лица стали заостряться, лихорадочные пятна не сходили, он глядел перед собой отсутствующим взглядом, слушал дурачества Ганечки и ничего не понимал. Он как бы выключился из мира и жил отдельной от всех жизнью. Вряд ли это была жизнь, это было что-то другое – медленное, холодное, длинное. Оно не пугало Демина, ему все стало безразличным, пропали всякие желания, он о чем-то думал, но мысли, едва возникнув, расползались и пропадали, их заслоняли другие, тоже неопределенные и неуловимые, и, если бы его спросили, о чем он думает, вряд ли бы он ответил.
И когда его уносили в операционную, ему все было безразлично. Он видел озабоченные лица Сергея и Ганечки, они сидели на постелях и глядели на него, видел свою койку, скомканные простыни, одеяло на полу, но все это не имело к нему никакого отношения. В дверях над ним склонилось морщинистое маленькое лицо матери, и он не удивился и не обрадовался, а только отметил, что она стала меньше, усохла. «Да бог с ней, с рукой, – говорила она торопливо, – сам бы жив остался, бог с ней».
И только когда его положили на операционный стол, когда он увидел чистое небо с этого стола, он оживился и... потерял сознание.
XI
Солнце косо било в окно сквозь крону тополя, и на полу лежали серебряные зайчики. Они лежали неподвижно, они грелись, не шевелясь, – наверно, на улице было тихо.
Ганечка сидел на постели и махал руками, делая гимнастику.
– В здоровом теле здоровый дух, – сказал он, заметив, что Демин открыл глаза. – Двадцать часов ты проспал. Силен! Я думал, в ящик сыграешь.
Демин хотел поднять руку, но не смог: руки не было. Рукав рубашки пошевелился рядом, пустой и легкий.
– С мамашей твоей вчера беседовали, – сказал Ганечка. – Если бы у меня была мать...
Демин глядел на пустой рукав.
– Страшнов телеграмму ей дал, а военком привез на своей машине.
Демин слушал.
– Она скоро придет, – сказал Ганечка. – Она в нашем общежитии ночует, Маша ее увела.
Сергей спал, уткнувшись лицом в подушку. Одеяло и простыни сбились на пол, и он лежал совсем голый.
– Я его покрою, – сказал Ганечка, спустил ногу с кровати, подперся костылями и проворно заковылял к Сергею.
– Какая Маша? – спросил Демин.
– Подруга моя, – сказал Ганечка. – Любовь!
Он допрыгал до своей койки, сел и убрал в тумбочку вчерашние газеты с большими фотографиями и крупными заголовками через всю страницу: потом Демин прочитает.
Сергей проснулся и сел на постели.
– Фу-ух, – облегченно вздохнул он, протирая кулаками глаза совсем по-детски. – Приснится же такие! Здоровый был, никаких снов, а тут... На лошади будто ехал – деревянная лошадь, мочальный хвост – и Таню сбил. Сбил ее, а она смеется.
– Думал, вот и приснилось, – сказал Ганечка.
– Не так же я думал. – Сергей посмотрел на Демина, на смятый белый рукав поверх одеяла и отвел взгляд. – Сегодня она придет. Я вчера передал, чтобы пришла с утра.
– Хорошо, – сказал Ганечка.
Демин вспомнил вчерашний день, лобастое потное лицо Страшнова, острое пенсне ассистента. И еще себя, распятого на столе, вспомнил, но себя он видел недолго, один миг и со стороны, будто на столе лежал не он, а кто-то другой, а он стоял рядом и наблюдал.
Вместе с осознанием свершившегося он почувствовал облегчение, как это всегда бывает после напряженного ожидания, но с облегчением явилось страшное ощущение пустоты, будто вместе с рукой у него отняли весь мир. Этот мир был рядом, раздражал, требовал внимания и проникал в него независимо от его воли.
– Ребята были что надо, – говорил Ганечка. – Дружные, сильные, один к одному. Трое их было: Атос, Портос и Арамис. А четвертый был Д’Артаньян, самый смелый.
– Ну и что? – спросил Сергей.
– Ничего. Веселые были, друг друга в обиду не давали.
Вот так после пожара бывает: стоит на месте дома печь с обгорелой трубой, а вокруг только пепел, зола да груды тлеющих углей. Все сгорело дотла. Бродит по пепелищу хозяин, разгребает палкой золу и устало думает, что надо собираться с силами и начинать строиться заново.
– А этот Ришелье, кардинал ихний, культ личности насаждал, сам король его боялся. Правда, глупый был король, тряпка.
– Замолчи, – сказал Сергей, – без тебя тошно. Как я ей скажу, ну как?!
– ...Нерешительный и глупый он был, как тряпка. Королева его не любила, кардинал обманывал – так ему и надо. Зато мушкетеры... мушкетеры были огонь! Баб любили, вино пили и дела не забывали.
– Замолчи!
– А чего? Да ты не кривись, бродяга, ты же сам мушкетер! Скажи, что любишь Лиду, и все... Эх, Серега, любовь ты моя беспартийная! Все мы мушкетеры, кто сперва, кто опосля.
– Трепло, – сказал Сергей и накрыл голову подушкой.
– Выйду из больницы и сразу в заводскую кассу: а подай-ка мне, Марья Петровна, полкуска честных, трудовых! И Марья Петровна отсчитывает. И знаешь ли, миленок, что я делаю? Я покупаю десять будильников, кладу их в сумку, и тут мои щипачи – хрясь, хрясь их по черепам: рвите, гады, Беркут завязал.
...Дадут и преподавательскую работу, и в аэродромное обслуживание можно пойти, но разве он пойдет? Разве сможет он глядеть в гудящее небо и не жить там! «Перебиты, поломаны крылья, дикой болью всю душу свело...» Слюни. А разве сможет он жить без неба, он, его хозяин? И разве он, хозяин, оставит свое хозяйство без присмотра?
– И притащу я будильники тебе, вывалю на пол – ремонтируй, Серега, чини мое время в последний раз. И ты починишь, чтобы я не опаздывал на завод и следил за временем. Слышишь, Демин?
– Слышу, – сказал Демин и сглотнул подступавшее к горлу удушье.
– Вы поддержите, если раскисну, – сказал Сергей.
– Само собой, – сказал Ганечка. – Побриться бы нам, обросли все трое. Я схожу.
Не надевая пижамы, в одном белье он, стуча костылями, попрыгал в коридор и вскоре вернулся с краснощекой санитаркой, которая несла чайник с кипятком. Он развел мыло, наладил безопасную бритву и начал с Демина. Когда, часом позже, в палату зашел Страшнов, все трое лежали свежие и помолодевшие Страшнов так и сказал: помолодевшие и свежие.
Он сел у постели Демина и сказал, что, когда не побрит, он не только работать, сидеть спокойно не может. Да не только он. Военные, например, не терпят небритых лиц и нечищеных сапог. А ведь люди неизнеженные вроде. Впрочем, дело не в изнеженности, просто мы начинаем тяготеть к порядку, осознавать его необходимость. Порядок во внешности, в одежде, в поведении, в отношении к жизни. То есть порядок в смысле собранности, самодисциплины.
– Вы мне ноги отрежьте, – сказал Сергей, – мешают они только. Сиденье на роликах куплю, буду на заднице ездить, руками отталкиваться.
Страшнов встретил прямой взгляд Демина и опустил голову. Ну да, он виноват, он оказался беспомощным, это так. Врачу беспомощность не прощают, всем прощают, а врачу – нет. И хотя он не виноват, хотя никакого прощения ему не нужно, от этого не легче.
– Ладно, – сказал он, подымаясь. – Я попрошу для вас мотоколяску, Сережа.
– А мне протез, – сказал Ганечка. – На протезе я и без костылей смогу.
– Ладно, – сказал Страшнов.
А Демин ничего не просил, и Страшнов стоял у его кровати, ждал, и его пудовые от усталости руки висели вдоль тела, отдыхая.
– Тяжела она, сила Земли нашей, – вздохнул он, – очень тяжела, враз не оторвешься.
Демин не ответил.
– С таким грузом если поднимемся, если поднимем... И лишнее не выбросишь, не оставишь...
– Почему? – спросил Сергей, не совсем его поняв.
– Не знаю, – сказал Страшнов. – Было и так, что выбрасывали, а потом опять грузили. Торопимся мы, торопимся почему-то.
Демин хотел сказать, что потеря скорости в авиации означает падение, но не сказал. Ни к чему это теперь.
Страшнов постоял, подумал и, сутулясь и шаркая туфлями, вышел.
В ординаторской Игорь Петрович, небритый по случаю внеочередного дежурства и двух ночных операций, шелестел вчерашними газетами.
– Летают, – сказал он раздумчиво. – Смотрят на нашу Землю со стороны.
– Со стороны, – подтвердил Страшнов. – И Демина уже не видят. И больницу нашу. Никаких мелких предметов оттуда не увидишь.
– Да, но вот в этом же номере есть статья о структуре гена – предмет куда мельче.
Страшнов не ответил, сел рядом с ним на кушетку, достал папиросы.
– И самое удивительное, – продолжал Игорь Петрович, – заключается в том, что пока мы не видели песчинок, мы не могли подняться над землей, макро- и микромир взаимозависимы. Чем глубже мы в одном, тем выше оказываемся в другом – парадоксально! А между тем это закон, и его можно распространить дальше – на общество, например, на человека. А? Как вы считаете?
Страшнов закурил, выдохнул круглое колечко дыма. Лет тридцать назад он вещал не хуже Игоря Петровича, захлебывался общеизвестными идеями. И тоже умел работать.
– Я вижу, вы хотите пересесть на любимого конька, – сказал Страшнов. – Не старайтесь. Похожи мы на машины, похожи. Из меня вот дым кольцами, как из выхлопной трубы, у вас глаза будто фары за этими стеклами. И газеты у нас одни и те же, и столовая, и квартиры одинаковы, и работа...
Игорь Петрович сморщил лоб и заглянул Страшнову в лицо: иронизирует, сердится? Посмотрел прямо в глаза. И когда в черных зрачках, в зеркальном свете их увидел свое отражение, тихо засмеялся.
– Ну что? – спросил Страшнов дружески.
– Н-ничего, – сказал Игорь Петрович. – Просто так, посмотрел.
Нелепый ответ, глупейший, но иначе он не мог сказать. Произошло что-то непонятное: посмотрел и будто нажал на выключатель – щелчок, мгновенный контакт, и ощущение света, простора, легкости. А ведь они полгода вместе работают, и никогда этого не было. Странно. И сейчас могло не быть. Очень часто случается: человек рядом, а контакта нет. Почему?
Игорь Петрович смущенно объяснил свое состояние, и удивительное дело: едва он спросил, ощущение близости исчезло, Страшнов как-то потускнел, заскучал и, поднявшись, отошел курить к форточке.
– А я считал это самым важным, – сказал Страшнов от окна. – Я думал, что вот после трудной работы люди поглядят друг другу в глаза и увидят там себя. Понимаете, себя друг в друге?! А вы спрашиваете о каких-то контактах.
– Я хотел уточнить, – оправдывался Игорь Петрович. – Это очень сложное и тонкое явление, и мне хотелось узнать точно, выяснить как-то, вскрыть, препарировать, что ли...
– Вскрыть, препарировать... – Страшнов грустно улыбнулся. – Что ж, трупы мы и вскрываем и препарируем. Но ведь трупы, Игорь Петрович!
– Извините, я об этом как-то не подумал. Об этом серьезно надо подумать.
– Да, можно и подумать, – сказал Страшнов. – О многом надо подумать.
XII
Таню они узнали не сразу. В темном засаленном комбинезоне и облупившихся босоножках, она вошла стремительно и внесла с собой запах машинного масла и металла.
– Доброе утро, – обронила она на ходу, озабоченно глядя на Сергея. – Что это ты придумал? Ты с ума сошел, да? – Она выхватила из кармана смятую бумажку и бросила ему на кровать. На бумажке остались темные следы пальцев.
– Так получилось, – пробормотал Сергей, не глядя на нее. – Я люблю Лиду, нашу сестру, можешь считать себя свободной.
– Он любит! – Таня нервно засмеялась. – Зачем ты лжешь?
– Так вышло, – мямлил Сергей, не подымая глаз.
– Да ничего не вышло, зачем ты врешь?
Сергей поднял голову и растерянно поглядел на Демина, потом на Ганечку.
– Не врет, – поддержал его Ганечка неуверенно. – Лида ходит за ним, лечит. Девятый месяц...
– И вы туда же? Да как вы смеете! – Она резко обернулась, и Демин увидел строгое лицо рассерженной женщины. – Вы тут с ума сошли от безделья, вы ничего не знаете, а лезете, куда вас не просят!
В проеме открытой двери встал Страшнов, привлеченный криком.
– Вас кто пропустил? – строго спросил он. – В грязной одежде, без халата...
– Я прямо с ночной смены, Лида пропустила, сестра. Вы только посмотрите, что он написал, вы только посмотрите! – Она схватила бумажку и сунула озадаченному Страшнову. – И надо же было додуматься после всего!
Растерянный Сергей глядел на нее, как блаженный, и в глазах его стояли слезы.
– А почему со смены? – недоумевал Страшнов. – Вы же это самое... – он поводил рукой с воображаемым смычком, – музыка, концерты...
– На сборке я, – сказала Таня. – Коробку скоростей собираю. Вот дурак так дурак! И надо же быть таким дураком! Полгода я на заводе, руки отмачиваю, на маникюр и духи ползарплаты извожу, чтобы он не узнал, спокойным был, а он – «не хочу тебя связывать, я нашел свое счастье». Ничего ты не нашел, глупый ты человек!
Демин поглядел на ее грязные ладони и вспомнил крепкое пожатие, когда они знакомились, ощущение шероховатой, жесткой кожи. Ногти тогда были яркими, только накрашенными, а сейчас они не накрашены, и запах был парфюмерный, а не этот вот знакомый рабочий запах, и о концерте в филармонии она рассказывала как-то поспешно, смущаясь, – наверно, боялась проговориться об этих своих коробках скоростей. И не скоростей вовсе, так не говорят уже давно, говорят: коробки передач.
– Дела-а, – сокрушенно вздохнул в своем углу Ганечка. – Надо же так, вот дьявол, и надо же так! А мы думали...
Сергей, онемевший от счастья, сидел, привалясь голой спиной к кровати, и не вытирал слез.
– А как же музыка? – спросил Страшнов, возвращая Тане записку.
– На стене висит, – сказала Таня. – Как сюда отвезли этого дурня, так с тех пор и висит. Не могу же я и работать, и сюда бегать, и на музыку! Ведь надо что-то одно, если по-настоящему.
– Правильно, – сказал Страшнов. – Если по-настоящему, надо что-то одно, это правильно.
На военный аэродром не возьмут, подумал Демин, и вообще в армии не оставят. Гражданская авиация тоже станет сверхзвуковой, и его примут только в аэродромное обслуживание, но это все равно что из скрипача сделать барабанщика, и барабанщика не в большом оркестре, а ротного – тра-та, тра-та-там!
– Без халата нельзя, – сказал Страшнов. – Как вас только пропустили, не понимаю!
– Я Лиду попросила, я записку ей показала, и она пропустила.
– А я вот выговор ей дам, и пусть попробует тогда... Идемте. – Он взял Таню за рукав. – Никто порядка не соблюдает, никто. Идемте.
Страшнов рокотал добродушно, удовлетворенно.
У Сергея наконец развязался язык:
– Оставьте ее, доктор, на одну минуту!
– «Доктор»! – проворчал Страшнов, увлекая за руку плачущую Таню. – Наделают сами черт знает что, а потом – до-октор! Пусть наденет халат. И не больше пяти минут чтобы.
...На преподавательскую работу пробиваться надо, и училище, если примут, а не примут – в аэроклуб. Наверно, она любит его, без любви бы она не решилась, хотя ей, наверно, уже сейчас обидно видеть его немощь, и эту бутылку со шлангом, и сухие ноги, которые скоро отрежут, и его лицо, когда он просит, чтобы у них был ребенок, сын чтобы у них был, и оба они стыдятся того, что их любовь идет через унижение, хотя никакого унижения тут нет...
Будет зеленым аэроклубным птенцам, вчерашним школьникам, отращивать крылья, будет им говорить о земле, чтобы они, взмывая в небо, не забывали о ней, и будет радоваться чужой радостью. А может, и не чужой, потому что он не посторонний же для них останется, он будет для них вроде крестного отца, какие были в старые добрые времена и каких теперь называют по-другому – инструкторами, учителями, мастерами производственного обучения, профессорами и так далее.
– А я ведь думал, она артисткой будет, скрипачкой настоящей, – сказал Ганечка. – Ведь есть же и настоящие где-то, а?
– Сволочь ты, – сказал Сергей беззлобно.
– Сволочь, – грустно согласился Ганечка. – Только вот когда я раздевал людей, – ты слышишь, Демин? – когда я раздевал людей, мне всегда было обидно, что они не сопротивлялись, ведь на их стороне честность и справедливость, а их унижают, грабят, и они не сопротивляются, дрожат за свою жизнь. Они даже не думают, что я тоже трухаю, я ведь их не знаю и, если засыплюсь, могу потерять не костюм какой-нибудь, а свободу, жизнь могу потерять, потому что они мне не простят и навалятся всем стадом, а не один на один. Ты слушаешь, Демин?
– Слушаю, – сказал Демин, думая, что сейчас ребята, наверное, летают, потому что в такую погоду летать одно наслаждение.
– А ведь есть же и настоящие люди, а? Вот которые летают, изобретают... а? Ведь они не должны меня бояться один на один?
– Ты же их боишься, – сказал Демин. – И боишься потому, что один делаешь свое дело. А когда они делают свое дело, они не боятся, и они летают, выступают в театрах и делают все без боязни потому, что их много и они поддерживают друг друга.
– Надо подумать.
– И извиниться перед Таней.
– И извиниться перед Таней.
1965 г.
ПРАЗДНИЧНЫЙ СОН – ДО ОБЕДА
«Задушевная моя подруга Зоя Андреевна!
Долго я тебе не писала, моя голубка, а теперь вот со всеми хлопотами развязалась и стала свободная. Завтра начну передавать свой колхоз новому председателю, ты его знаешь – Венька Байстрюк, Алёнин сын. Такой парнина выдался, институт заочно кончает, откуда что взялось. Ты как чуяла, когда о нем заботилась да научала.
Вот и старые мы стали, Зоенька, пенсионную книжку я уж получила. Я ведь тоже летом могла уйти, да тут жнитво подошло, обмолот, а потом кукурузу надо убирать, корма заготавливать. Все бы хорошо, да погода выдалась ненастная, в дождь силосовали, и я боялась, не испортился бы силос. Год-то у меня последний, завершающий, и хотелось сделать как лучше, чтобы люди потом не корили, новый председатель не обижался: ушла, скажут, а в хозяйстве беспорядок оставила. Тут же и картошка подошла, сорок семь гектаров, надо копать. В райком вызывали, давай, говорят, Евдокия Михайловна, доводи последнее дело до конца, а потом уйдешь. Студентов дали пятьдесят человек из города и два грузовика от автобазы прикрепили. Если бы не эта помощь, не знаю, как и управились бы. Молодежи в колхозе мало, только школьники, а у семейных колхозников свои огороды, тоже убрать торопятся.
Ну теперь, слава богу, все кончила, скотина на стойловом содержании, дворы все – коровники, телятники, птичник – отремонтированы. Теперь можно и на покой. Зонтик куплю и буду разгуливать как барыня какая.
Утром мне звонил секретарь райкома Каштанов, спрашивал про тебя. Хорошо бы, говорит, и подругу твою пригласить, вместе вы колхоз подымали. Вот я и приглашаю тебя, дорогая моя Зоя Андреевна, – приезжай, голубушка, на мои проводы, посидим вместе в красном углу; может, в последний раз посидим, старые уж обе, а потом сходим к твоему Мише. Ты теперь не узнаешь его могилу, после картошки мы ее насыпали выше, дерном обложили, а на самом холме, на вершине, будет положена каменная плита с именами всех погибших солдат. Летом я ее заказала в районе, когда стала собираться на пенсию, вот со дня на день должны привезти, и ты увидишь, если ко мне соберешься. Приезжай, подруженька, обязательно приезжай. Я к самолету машину пошлю, а поездом надумаешь, тоже телеграмму дай, встретим. А ты потеплей оденься, погода сейчас ненадежная...»
I
Зоя Андреевна жила в подмосковном городе Люберцы и до нынешнего года вела физику и математику в средней школе. На пенсию ее проводили в июне, когда в выпускных классах закончились экзамены, но уже в августе, перед началом традиционных учительских совещаний, она почувствовала тоску по оставленной работе, а первого сентября не выдержала, пришла в школу, впрочем заявив директору, что пришла она как депутат горсовета. Только как депутат.
И, сидя в наизусть известном классе и наблюдая за молодой учительницей, поняла, что депутатские обязанности – ее счастье, ее спасение, иначе скучала бы сейчас в пустой квартире или во дворе, где старики постукивают костяшками домино, а старушки качают младенцев.
Писем от Евдокии Михайловны она ждала всю осень и уже сердилась, вспоминая, что прежде председательница отвечала аккуратней, а в первые годы их дружбы писала едва ли не каждую неделю. Но когда письмо наконец пришло, Зоя Андреевна обрадовалась, забыла свои нарекания и стала собираться в дорогу.
Стояла середина октября, по утрам подмораживало, и надо было позаботиться о теплой обуви. Старые кожаные ботики Зоя Андреевна после строгого осмотра забраковала – в магазин ходить еще можно, а для торжественного случая не годятся. Впрочем, и для гостей можно надеть, если хорошо почистить, но каблуки стоптались и чуточку перекошены, вряд ли будет удобно. Тем более люди, которые ее встретят, вовсе не заслужили снисходительного к себе отношения. И никакие другие люди не должны заслуживать такого отношения, если вы уважаете их и себя тоже. Это элементарно.
Зоя Андреевна много раз ездила к своей подруге и всегда старалась, чтобы на ней была лучшая обувь и приличная одежда. Даже в трудные военные и первые послевоенные годы, когда приходилось приезжать в ватнике и в калошах, люди видели, что ватник на ней аккуратно заштопан, калоши блестят, и юбка отглажена, – значит, человек не поддается трудностям, следит за собой и на него можно надеяться. Колхозницы, так те от одного ее вида становились бодрей, поправляли волосы и сбившиеся платки, перед едой шли к бочке мыть руки. Всегда она заставала их на работе – то в поле, то на ферме, – в праздники как-то не доводилось.
Утренней электричкой Зоя Андреевна отправилась в Москву. Там она купила соответствующие моде и своему возрасту хорошие сапожки на низком каблуке, а заодно и сумочку – тоже хорошую, под цвет пальто и как раз такую, которая больше подходит старой женщине. Оставалось совсем немного: взять билет на самолет и купить подарок Евдокии Михайловне. И еще купить цветов на могилу мужа. При каждой своей поездке в хутор Зоя Андреевна не забывала о цветах и всегда немного волновалась, покупая их.
Волновалась, вероятно, потому, что при этом вспоминала своего Мишу, который в праздники и нередко в воскресные дни приносил ей цветы, а в Первомай сорок первого года подарил великолепный букет южных роз – будто чувствовал, что это последний его подарок.
Зоя Андреевна закрыла глаза и сразу увидела Мишу: он стоял с цветами, большой, молодой, веселый, и говорил с улыбкой, что вот хотел купить вина, а попались опять цветы.
– У вас что-то случилось? – сочувственно спросила ее девушка из цветочного киоска.
– Что с-слу-училось? – спросила Зоя Андреевна и по своему голосу поняла, что плачет. Она поспешно вытерла щеки. – Нет, деточка, со мной уже ничего не случится.
А очередь позади оттесняла ее от окна, и следующая за ней женщина проворчала:
– Гражданка, вы или покупайте, или уступите место другим. Вы не одна.
Зоя Андреевна подобрала большой букет, заплатила деньги и пошла, держа в одной руке сумку с покупками, а другой прижимая к груди цветы, чтобы не растерять их в уличной толкучке, за подарком Евдокии Михайловне.
Вечно шумная Петровка стремительно текла двумя потоками, людской водоворот закручивался у дверей ЦУМа, выплескивался к портику Большого театра, бился и захлестывал входы в метро у Театральной площади.
Зоя Андреевна вдруг подумала (вероятно, потому, что стал брызгать дождь), а не купить ли Евдокии Михайловне зонтик? И едва пришла эта мысль, она сразу повеселела, заулыбалась, потому что зонтик был самой ненужной вещью для ее подруги.
Евдокия Михайловна, когда очень уж сердилась на своих колхозниц, особенно в трудные те годы, всегда грозила им, что уедет в город, купит себе зонтик и будет гулять под ручку с офицером по улицам, а они пусть тут копаются в земле и пусть на них кричит не понимающий ни уха ни рыла городской мужик, если они не хотят слушать ее только потому, что она баба, и своя, хуторская баба. А позже, с годами, когда былая красота Евдокии Михайловны увяла и колхозницы уже не боялись, что она выйдет замуж и бросит колхоз, она стала грозить им близкой пенсией и опять вспоминала зонтик, который символизировал жизнь праздную и беспечальную. Вот теперь для нее наступала такая жизнь.
С веселой улыбкой Зоя Андреевна зашла в ГУМ, выбрала модный зонтик, который в свернутом виде можно было принять за элегантную трость, и попросила завернуть в фирменную бумагу – для того, чтобы Евдокия Михайловна знала точно: подарок куплен именно в ГУМе, главном магазине столицы. Другие магазины в глазах Евдокии Михайловны не имели авторитета. Впрочем, она и не знала их, бывая в Москве один раз в пятилетку и всегда по колхозным делам. Красная площадь и ГУМ были для нее единственной почитаемой достопримечательностью. Правда, ценила она еще Выставку достижений народного хозяйства.
Зоя Андреевна вышла к площади Дзержинского, купила в предварительной кассе билет на самолет и дала телеграмму, что завтра утром будет в Волгограде. Потом спустилась в метро, доехала до Казанского вокзала и электричкой возвратилась домой.
Тетя Клава, соседка по коммунальной квартире, увидев ее с цветами и свертками, сперва подумала, что Зоя Андреевна собирается встречать гостей, и вызвалась помочь ей, освободив на время свой столик на общей кухне, а когда узнала, что Зоя Андреевна сама собралась в гости, заметно опечалилась: старушка жила одна и скучала без нее.
– Значит, к Дуне опять? – переспросила она. – Не совсем ли уж к ней надумала?
– Не знаю, – сказала Зоя Андреевна. – Вот съезжу посмотрю.
– А ты поклон от меня не забудь. Жалко, если совсем уедешь, одна останусь.
В том-то все и дело, что одна. А там все-таки могила мужа, Евдокия Михайловна встретит, Алена, Венька – давно уж весь хутор стал ей родным.
Утром тетя Клава помогла ей собраться и, провожая до автобуса в аэропорт, перекрестила и пожелала счастливого пути.
II
В Волгограде ее встретил не старый шофер Евдокии Михайловны, а крупный русоволосый парень, празднично одетый и радостный. Зоя Андреевна сразу заметила его, едва ступила на трап, – очень уж весело он улыбался, во всю ширину великолепного рта, и зубы дружно блестели один к одному, плотные, белые.
– Тетя Зоя! – кричал он, подняв к ней обе руки. – Зоя Андреевна-а-а!
А она его сперва не узнала. Не мог же Венька Байстрюк так измениться за три последних года. Хотя, впрочем, три года назад, когда она приезжала, Венька не вернулся еще из армии, и, следовательно, прошло четыре, нет – пять лет она его не видела.
– С приездом, тетя Зоя! – Венька сгреб ее и звонко расцеловал в обе щеки. – Ну здорово, хорошо, что вы приехали, тетя Зоя!
– Вениами-ин! – строго напомнила Зоя Андреевна и не удержалась от улыбки: очень уж радостным был Венька, снять бы тот давний запрет называть ее тетей, ни к чему теперь.
– Хорошо, Зоя Андреевна, – обидчиво сказал Венька. – А только все равно плохо, пять лет не видались. – Взял ее чемоданчик и сумку, оставив ей цветы, и совсем по-мальчишески похвастался: – А я вас первый узнал, а вы меня не узнали. Я еще в самолете вас увидел, через окошко.
– Не окошко, а иллюминатор, – поправила Зоя Андреевна.
– Да, да, через него. А когда эту лесенку подкатили и вы показались...
– Не лесенку, а трап.
– Зоя Андреевна! Вы совсем не изменились. – Венька сокрушенно покачал головой.
– А ты изменился, Вениамин. И к лучшему. Но все равно старайся говорить правильно – тебя лучше будут понимать.
– Я наловчусь.
– Ну вот, «наловчусь»! А еще председатель колхоза! – Зоя Андреевна посмотрела на модно одетого, отглаженного и улыбающегося Веньку и догадалась, что он играет в хуторского мужичка. И идти он старался неловкой походкой увальня, но эта нарочитость была заметна.
Ее Михаил был не меньше ростом, но темноволосый и нисколько не похожий на Веньку. То есть Венька не похож на него. А Алена тогда говорила что лейтенант, отец Веньки, в точности похож на Михаила и сын ее – «настоящий портрет отца».
По другую сторону вокзального здания стоял председательский «газик» с брезентовым верхом, но знакомого шофера там не оказалось. Заднее сиденье было завалено какой-то поклажей, покрытой мешковиной, выглядывал угол водочного ящика.
– Ты один приехал, Вениамин?
– А что нам, мастерам! – Он распахнул переднюю дверцу, галантно поклонился: – Прошу. Сам водитель, сам хозяин. Сейчас мигом домчу в город.
Венька сел на место шофера, фыркнул мотор, и они поехали.
Первый раз Зоя Андреевна увидела Сталинград весной сорок третьего года. Хоть и наслышалась она тогда о разрушениях и сама побывала под бомбежкой, когда немцы подходили к Москве, но то, что оказалось на самом деле, привело ее в ужас.
Города, собственно, не было. Были груды битого кирпича, ямы, скрученное огнем железо и уцелевшие коробки зданий с обрушенными потолками, с пустыми глазницами окон, с железными трубами, дымящими из полуподвальных этажей, где поселились люди.
Первые десять лет Зоя Андреевна ездила сюда ежегодно, и видела, как город оживает и растет у нее на глазах. Вот теперь он совсем вырос и стал другим, как недавний выпускник, превратившийся в студента.
– Вот универмаг, где взяли Даулюса со штабом, – сказал Венька. – В подвальном этаже, посмотреть можно. Остановимся?
– Не нужно, я все тут знаю.
– А набережную? Здесь же такая набережная, лучшая в стране!
– Поедем домой, – сказала Зоя Андреевна.
В сорок третьем она была здесь две недели и квартал за кварталом обошла все развалины, надеясь разыскать знакомых своего мужа. Наивно, разумеется, но ей так хотелось услышать о нем живом, прежде чем поехать за десятки километров в степь на его могилу и поверить, что Миши нет и никогда не будет на свете.
И она сразу поняла и поверила в это, едва увидела дотла выжженный хутор, который и хутором-то нельзя было назвать, потому что в голой овражистой пени, у разбитой дороги лежало большое пепелище с обгорелыми печными трубами да виднелись, как норы, редкие землянки, забитые ребятишками и старухами – мужчин не было ни молодых, ни старых, бабы в тот день перепахивали на себе поле, изрытое снарядами и минами.
Зоя Андреевна не была уверена, что Михаил погиб именно здесь: хуторов с таким названием в области числилось два, старый и новый, а в похоронной сообщалось одно название, без уточнений.
Помогла Евдокия Михайловна. Она уже тогда была за председателя и, собрав вечером у своей землянки весь колхоз, пустила по рукам фотокарточку Михаила.
Многие бабы и старухи помнили своих освободителей в лицо, некоторые помогали хоронить погибших. Но Михаила узнавали долго, боялись ошибиться, ссылались на то, что карточка «вольная», в гражданской одежде, пока Алена, юная разбитная бабенка, мать Веньки, которого тогда еще не было, он родился зимой, через девять месяцев после ухода геройского батальона, не заявила убежденно: «Он! В точности он! На лейтенанта моего похожий. Вон там мы его положили, у околицы. Его и еще восемнадцать бойцов».
В тот же вечер она сводила Зою Андреевну на могилу, они посидели рядышком у подножия холма, помолчали, тихонько поплакали. Война уже откатилась от этих мест, не слышно было орудийного гула, о котором Алена рассказывала с восторженным страхом, и только на западе тускло горело и изредка освещалось вспышками тихое дальнее небо.
– Тут столбик был с именами на затесе, – сообщила Алена, – да строчки смылись, химическим карандашом были написаны, а столбик кто-то вырыл тайком на дрова: землянки ведь сами не греются, а у нас ребятишки.
Алена тогда была одна, но она ходила на третьем месяце и причисляла себя к семейным вдовам.
Полгода спустя Зоя Андреевна, скопив и заняв денег, послала в хутор перевод, чтобы поставили хоть деревянный пока обелиск, но как раз в ту пору Алена родила Веньку, и бабы прислали в ответ лишь слезное письмо: памятничек они не поставили, а деньги извели – купили козу для Алены, у которой была грудница и молоко пропало. Хоть и нагульный младенец, а не погибать же байстрюку, все-таки сын освободителя хутора!
III
– Вот мы и в степи, – сказал Венька. – Через час будем дома. Тетка Дуня с матерью все глаза, наверно, проглядели.
Степь, прежде голая, изрытая оврагами и могильными холмами, давно и как-то незаметно, исподволь переменилась: овраги прикрыли деревьями и кустарником, в полях поднялись лесные полосы, грунтовые проселки стали профилированными, жаль, что не покрыты пока, но со временем, вероятно, покроют – сначала гравием, а потом и заасфальтируют. Все будет со временем. Жаль только, время идет быстрее наших дел, и вот уже двадцать пять лет прошло, четверть века, своеобразный юбилей, и все уже позади, а впереди только чужой хутор да могила мужа за околицей хутора. Впрочем, могила не чужая и хутор давно не чужой.
– Ты принял колхоз? – спросила Зоя Андреевна.
– Позавчера, – сказал Венька. – Большое хозяйство, не знаю, справлюсь ли.
Венька утих после встречи, первое возбуждение прошло, осталась молчаливая расположенность близких людей и внимание, с каким он следил за дорогой. Машина шла быстро, но ее не трясло на выбоинах, не заносило на крутых поворотах.
Справится он и с колхозом. Евдокия Михайловна не станет хвалить незаслуженно. И плечи вон какие. А в земляного мужичка играл, вероятно, от смущения, от радости: он давно привязан к ней, письма из армии писал и всегда называл тетей, хотя Зоя Андреевна ему и запрещала. Ну какая она тетя, не приникла она к этому имени, не довелось ей быть ни тетей, ни мамой, она просто учительница, строгая Зоя Андреевна, и ей нельзя слишком привязываться к детям: ежегодно от нее уходят десятки выпускников, и каждый пользовался не только ее знаниями, но и вниманием – как раз таким, какое необходимо школьнику для успешной учебы. Не больше. Потому что большее внимание вредно: они должны выходить в жизнь не цыплятами, привыкшими к наседке, а самостоятельными людьми, готовыми к борьбе и преодолению всяких трудностей.
И с Венькой она никогда не была сентиментально доброй, напротив – всегда, с самого первого дня требовательно учила: это хорошо, это плохо, будь таким, не делай этого.
– Вы что-то приятное вспомнили? – спросил Венька, заметив, что она улыбается.
– Тебя, – сказала Зоя Андреевна. – Ты горластый был и кусался, ты не помнишь этого.
– Помню, – улыбнулся Венька. – Я до самой школы кусался. Как ребятишки начнут дразнить, я зубы оскалю и за ними.
Хуторские ребята жестоко дразнили его тем, что он родился без отца: Приблудный, Байстрюк, еще какие-то клички, и Венька тяжело переживал свое горе и однажды не сладил с ним – в очередной приезд Зои Андреевны пожаловался. Она собрала ребят и сказала им, что отец Веньки освобождал этот хутор вместе с ее мужем, и вот муж ее погиб, а лейтенант не мог остаться здесь, потому что война еще не кончилась, и он ушел со своим батальоном и погиб, освобождая другие села и хутора. А потом поговорила с бабами.
Но Веньке помогли не разговоры, а дружба с этой строгой московской учительницей. В каждый свой приезд она заходила к Алене, привозила Веньке интересные книжки в подарок, а когда уезжала, Венька провожал ее вместе с матерью и председателем колхоза Евдокией Михайловной, как взрослый подавая руку на прощанье.
– А помните, как вы провожали меня из Москвы? – спросил Венька. – Целую инструкцию дорожного поведения заставили вызубрить, я и сейчас помню. Ну, правда, зато приехал я героем, ребята мной гордились: шутка ли, один из Москвы доехал, а они паровоза еще не видели!
Зоя Андреевна все хорошо помнила. Только она знает, какую выучку прошел за тот месяц каникул шестиклассник Венька Байстрюк, как дрессировала его Зоя Андреевна, приучая ориентироваться в незнакомой обстановке большого города, сколько раз специально «теряла» в Москве, давая возможность Веньке самому разыскать ее, а потом самостоятельно приехать в Люберцы из самого дальнего района столицы.
– С тех пор я в гору иду, – сказал Венька, улыбаясь. – Вот даже председателем выбрали. Не знаю, будут ли у меня такие же наставники и такие же инструкции.
– А ты нуждаешься в таких инструкциях?
– Не знаю. Евдокия Михайловна в последние годы нуждалась: пришла техника, денежная оплата, хозяйство стало многоотраслевым. А знаний у нее никаких – семилетка.
– Большой опыт – тоже знания. И потом, у тебя ведь не семилетка, институт заканчиваешь.
– Да, но у меня нет опыта, а институтских знаний, чувствую, совсем недостаточно.
– Быстро ты почувствовал, за два дня.
– Не за два, Евдокия Михайловна давно меня натаскивает, как только пришел из армии. Сначала бригадиром поставила, потом заместителем по полеводству. Но ее опыт, в общем, ограничен, она, если употребить военную терминологию, командовала ротой, а у нас теперь батальон или даже полк, да не пехотный, а механизированный.
– Едва ли тут подходит военная терминология, – возразила Зоя Андреевна. – Но если даже так, то и здесь и там – люди, они решают успех всякого дела, и Евдокия Михайловна отлично это сознавала.
– Правильно! – обрадовался Венька и пристукнул ладонью по сигналу на рулевой колонке. Машина как-то по-детски бибикнула. – И я об этом говорю. Но человек с машиной стал другим, он стал сильнее, усложнились его связи с производством, и любому специалисту, поскольку у нас коллективное производство, надо в первую очередь знать этого нового человека.
Зоя Андреевна улыбнулась, вспомнив его игру в мужичка при встрече в аэропорту.
– Наловчишься, – сказала она. И подумала, что Венька по-прежнему ненасытен к знаниям, хочет до всего докопаться и сейчас начнет критиковать вузы за одностороннюю систему подготовки специалистов.
– Может, и наловчусь, – ответил он с улыбкой, – но для этого потребуются годы, я буду экспериментировать на людях, а не на машинах, и за все ошибки будут расплачиваться в большей мере люди – здоровьем своим, нервами, неудачами на производстве и так дальше.
– Жениться не думаешь? – спросила она.
– Весной, – сказал Венька. – Она тоже институт заканчивает, медицинский. Вот закончит, и откроем в хуторе свою больницу.
– У вас нет разве? Давно собирались открыть.
– Врачебный пункт есть и стационар на пять коек.
За окном кабины показались знакомые места. Проплыл мимо большой крытый ток для временного хранения зерна (шифер на него помогла достать Зоя Андреевна через московские организации), мелькнула вышка водонапорной башни – здесь животноводы организуют летние лагеря, и вдалеке показался хутор: сначала крыши с крестиками телевизионных антенн, потом ровные порядки домов, притененные сквозной сетью голых осенних садов. Летом сады гак густы, плотны, что домов не видно, только крыши – белые, красные, голубые.
IV
Венька развернул машину у свежепобеленного дома с широкими знакомыми окнами и посигналил.
– Сейчас выбежит, – сказал он, выключая мотор.
В наступившей тишине послышался скрип раскрываемой двери, и из дома выкатилась Евдокия Михайловна, маленькая, еще больше располневшая, совсем седая. Она и не оделась даже, бежала в домашнем халате и шлепанцах, и Зоя Андреевна поторопилась ей навстречу.
– Зоенька, голубка моя! – Евдокия Михайловна ткнулась головой ей в грудь и заплакала радостно. – Вот и хорошо, вот мы и дома.
Зоя Андреевна погладила ее по вздрагивающей спине.
– Простудишься, выскочила раздетая. Приглашай в дом, что ли.
– Идем, идем, голубушка. – Евдокия Михайловна обняла ее за талию и, удивляясь, поглядела снизу ей лицо: – Зоенька, милая, а ведь ты растешь! – И засмеялась довольно. – Ей-богу растешь! Я по плечо тебе стала, вниз пошла, а ты растешь.
– Ты и была по плечо, – улыбнулась Зоя Андреевна. – Идем, простудишься.
– Нет, нет, и не говори, я под самый подбородок тебе была, а сейчас по плечо. Веня! – обернулась она к машине. – Захвати вещички. Не забыл, чего наказывала?
– Как можно, тетя Дуня! – Венька выволок через заднюю дверцу ящик с коньяком, потом появился ящик с шампанским, коробки тортов, кульки, свертки.
Широко живут, забыли о бедности.
А через дорогу перекликались женщины:
– Зоя Андреевна приехала!
– Кланька, беги Алене скажи: приехала, мол!
– Вениамин Петрович скажет.
И вот в доме уже не протолкнешься, с бабами набились ребятишки, зашли двое молодых мужчин, которых Зоя Андреевна не сразу узнала – молодежь так быстро взрослеет, меняется, – потянулись ровесницы старушки. Да, почти старушки.
Праздничную сутолоку встречи довершила Алена, вихрем пролетев сквозь толпу, – в просторном доме как-то сразу стало тесно от ее звонкого голоса, смеха, от ее бурной радости.
– Зоя Андреевна, учительница наша! – кричала она. – Сто лет тебе жить и еще двести, дай я тебя поцелую!
Алена стала будто пьяной от встречи, называла себя самой счастливой и весь хутор счастливым, и Зоя Андреевна радовалась тоже, обнимала всех вновь приходящих и видела, что они тоже рады и счастливы ее видеть.
Когда немного улеглось возбуждение и Евдокия Михайловна выпроводила всех, пригласив на вечер своих проводов, Зоя Андреевна, усталая с дороги и от пережитых волнений, прилегла на диван отдохнуть. Евдокия Михайловна с Аленой стали накрывать обеденный стол, между делом рассказывая хуторские новости. Они были как мать с дочерью, седая Евдокия Михайловна и завитая барашком Алена, румяная, белая.
– Ты и не старишься, Аленка, – сказала Зоя Андреевна.
– Какое не старишься, толстею, груди вон выпирают, все лифчики перешила. Эх, Зоя Андреевна, сватался тут ко мне один, да неловко, сына стыжусь. А такой мужик, так охота!
– Тебе всегда была охота.
– Всегда, – призналась Аленка. – Потому что одна всю жизнь, а чужой мужик – не потешка, а только насмешка. Да тебя еще стыдилась. Эх, сколько я потеряла из-за тебя, Зоя Андреевна!
Евдокия Михайловна засмеялась:
– Бывало, приедут шоферы на хлебоуборку, а вдовы вьются вокруг них, а она первая, как бес перед заутреней носится, а я и скажу вроде нечаянно: Зоя Андреевна, мол, обещалась к своему на могилу приехать. Они, голубушки, и потухнут.
Зоя Андреевна смущенно прокашлялась: и приятно и больно ей было это слышать.
– Еще бы не потухнешь! – сказала Алена. – За тыщи верст на могилу ездит, цветы мертвому возит – неужто не укор.
– Кстати, куда ты цветы-то засунула? – спросила Зоя Андреевна.
– Я в воду их поставила, в воду.
– Если бы не ты; я ей не только председателя, я ей и бригадиров бы нарожала, и механизаторов, и каких хошь специалистов. Выгоду упустила, председательница!
– А кормил бы кто? Ты рожаешь, а колхоз корми. Пока вырастут...
– А ты как хотела – родился и сразу в дело сгодился?
– Ну, ладно, ладно.
– Ла-адно! Строгие больно. А только я все равно воровала. Редко, а прихватывала.
– Знаю, – сказала Евдокия Михайловна. – С уполномоченным тогда связалась. Его ведь сняли за это.
– Хороший был, – вздохнула Алена.
– Хороший. И умел много. Пахать, косить, сеялку наладить, в кузнице ли чего – умные руки.
За столом они выпили по рюмочке за встречу, потом еще по одной за новую жизнь – для Зои Андреевны и Евдокии Михайловны это была жизнь пенсионерок, Алена через год-другой, глядишь, станет бабушкой. А в сорок третьем ей было всего девятнадцать лет
– А ты уж, наверно, привыкла? – спросила Евдокия Михайловна.
– Привыкаю, – сказала Зоя Андреевна. – Первого сентября не утерпела, ходила на занятия.
– А соседка твоя, тетя Клава, жива еще?
– Жива. Поклон тебе прислала.
У дома прошумела машина, Евдокия Михайловна метнулась к окну.
– Каштанов, – сказала она – А я боялась не приедет, инструктор у них из обкома.
Каштанов работал здесь четвертый год, и в последний свой приезд Зоя Андреевна его видела. Он тоже изменился за это время, пополнел и возмужал, а тогда совсем мальчишкой выглядел – из комсомола прислали, на омоложение партийных кадров. Евдокия Михайловна писала, что хозяйственный оказался, агроном по специальности, крестьянское дело любит.
– Очень рад вас видеть, – сказал он после общего поклона Зое Андреевне. – Весь хутор говорит о вашем приезде. Оставайтесь здесь, а?
Вошедший за ним Венька поддержал его:
– Оставайтесь, Зоя Андреевна, мы вас почетной гражданкой выберем.
– За стол, за стол! – выскочила Алена. – Стоят столбами, а тут гуляй в одиночестве.
– Успеем, мама, – сказал Венька, – праздник впереди. Мы по делу сейчас заскочили.
– Вечное у тебя дело, будто мы бездельники.
– Серьезное дело, – сказал Каштанов. – Мы должны торжественно передать ваш колхоз новому председателю.
– По рюмочке, – попросила Евдокия Михайловна. – Со встречей.
– Ну если со встречей...
Мужчины выпили и вышли во двор покурить, в ожидании, пока соберутся женщины.
На улице падал снег.
V
Прошел всего час времени, может, немного больше часа, а хутор совсем обновился, посветлел, будто принарядился к празднику. Улицы, крыши домов, гады, большое зеркало застывшего пруда у животноводческой фермы – все стало белым, а снег падал и падал густыми пушистыми хлопьями и уже заметно хрустел, уплотняясь под ногой, и пахло по-зимнему, и по-зимнему четко отпечатывались следы людей, идущих в зимней обуви.
– Будто специально к вашему приезду, – сказал Каштанов.
Он шел под руку с Зоей Андреевной, а по бокам их сопровождали хозяева – Евдокия Михайловна и Венька. Впрочем, Вениамин Петрович, его все здесь так называли.
– Теперь зима не страшит, – сказала Евдокия Михайловна. – А вот первые-то годы, помнишь, Зоя, одна солома. На корм – солома, на крышу – солома, спать – на соломе, топить – соломой, строить – опять солома. Вон сколько понаставили, больше двухсот домов. Солому с глиной перемесим, саман сделаем и строим дома.
– Весь хутор заново, – сказала Зоя Андреевна. – Тут одни печные трубы стояли.
– Ас лесом ты помогла, без тебя мы ни за что бы не построили.
– Ну зачем так, другие строились же.
– А что другие-то! И другие так – разве мало могил на нашей земле.
Зоя Андреевна вспомнила, как доставала лес, обивая пороги столичных учреждений, и промолчала. Не совсем так, разумеется, было, как считает Евдокия Михайловна, но среди просителей она не встречала тогда ни одного человека, кто хлопотал бы лично для себя: колхоз, совхоз, шахта, фабрика. Правда, использовали просители и личные связи, знакомства, может, «подмазывали», но не для своей выгоды. И когда в приемной Верховного Совета ее спросили, почему она хлопочет о далеком хуторе, она просто ответила, что там погиб ее муж. Он освободил хутор, а хутора, по существу, нет, дети умирают в землянках от голода и холода.
– А первую уборку после войны помнишь, Зоя Андреевна?
– Еще бы, меня тогда чуть с работы не выгнали.
Под предлогом экскурсии она увезла тогда весь девятый «А», где была классным руководителем, и полтора месяца они работали от зари до зари – сначала на сенокосе, потом на уборке хлеба. Родители готовы были ее растерзать, когда она возвратилась с ребятами в Люберцы. Правда, потом многие смирились, потому что Зоя Андреевна устояла и на следующее лето уже открыто уехала с классом в свой хутор. Лет семь или восемь подряд она ездила.
– И косилки она нам доставала, и сеялки, и грузовики ремонтировались без очереди. Да еще как – уйдут с лысой резиной, а приходят с рубчиками! Не бесплатно, конечно, да не в оплате дело.
Ну, это было позже и легче. В Люберцах есть завод сельхозмашин и авторемонтный завод, а ее тогда уже выбрали депутатом. Поглядели на ее многолетние хлопоты и выдвинули: все равно ведь бегает, пусть уж законно, как депутат, может, от ее активности и люберецким жителям будет теплей.
– Да, не везде у нас пока гладко, – сказал Каштанов. – И доставать приходится и проталкивать. – И засмеялся: – Вы, Зоя Андреевна, от колхоза пенсию требуйте, заслужили.
– А что, – сказала она, – и потребую. Почетным гражданством не отделаются.
Осмотрев мастерские и похваставшись порядком, п какой приведена техника после недавно законченных полевых работ, хозяева повели гостей на ферму. Зоя Андреевна не могла не удивляться, как расчет хозяйство и каким оно стало большим, – ведь почти с нуля начинали бабы, почти с нуля.
– Мы как куры: гребли, гребли под себя и вот нагребли колхоз, – польщенная похвалой, отвечала Евдокия Михайловна.
Каштанов поддакивал и кидал многозначительные взгляды на молодого председателя: гляди, мол, Вениамин Петрович, от тебя зависит теперь, каким станет колхоз в будущем, – приумножишь ты коллективное богатство или растеряешь.
На ферме главной достопримечательностью была кормокухня. Варочный агрегат для приготовления комбикормов сделали механизаторы по самодельным чертежам, которые привез Венька. В пригородном совхозе он увидел отличный кормоцех и с помощью механика сделал чертежи. После поездки в хутор выяснилось, что для постройки подобной кормокухни нужны варочные котлы. Промышленность таких не выпускала, в совхозе тоже использовали емкости с других производств. Венька съездил на силикатный завод и выпросил там отслуживший срок автоклав – им сейчас и гордилась Евдокия Михайловна.
– А подвесные дороги я огоревала сама, – говорила Евдокия Михайловна. – В других колхозах они лет десять как появились, а у нас давно, с сорок восьмого года.
Она хотела показать еще силосную башню и овощехранилище, но Зоя Андреевна озябла и запросилась домой.
– Не домой, а в клуб, – сказал Каштанов. – Посмотрим, как отблагодарит новый председатель за такое хозяйство.
Уже смеркалось, на столбах хуторских улиц и в домах вспыхнули разом яркие огни – заработала электростанция.
– Ну что ж, пошли.
И они пошли в клуб.
VI
Ночь была светлой, лунной, но луна вдруг сорвалась с неба, покатилась и пропала, а небо стало пустым и серым.
Зоя Андреевна проснулась, чувствуя головную боль. За окном чуть брезжил рассвет, и спала она... сколько же она спала?
«Бабы! – звенел в голове хмельной голос Евдокии Михайловны. – Она зонтик мне подарила, зонтик! Теперь вы меня не удержите!» А прямо в глазах плясала румяная и нарядная Алена:
Я иду, они пасутся,
Лейтенанты на лугу,
Тут уж я уж растерялась,
Я уж, я уж не могу!
Вероятно, это конец праздника, а начало было несколько чопорным, официальным и хорошо запомнилось. Каштанов сказал короткую праздничную речь, потом выступила Евдокия Михайловна и все время говорила, обращаясь к ней, а колхозники, особенно пожилые женщины, часто прерывали речь аплодисментами. Венька, то есть Вениамин Петрович, выступил вслед за Евдокией Михайловной и от имени колхозников заверил, что они постараются работать так, чтобы прийти к коммунизму досрочно. Он провозгласил первый тост, и ему весело захлопали, потом все встали, и над столами вспыхнул искристый хрустальный звон рюмок и бокалов.
Она старалась не пить вовсе, никогда она не чувствовала особого расположения к спиртному, но не выпить первую стопку было бы просто неучтиво, а потом провозгласили тост и в ее честь, а потом подходили чокнуться знакомые, и каждый просил пригубить хотя бы. А знакомыми были все – весь хутор.
Каштанов, помнится, уехал в двенадцатом часу, он еще показал на часы, когда колхозники стали протестовать, и заверил, что приедет завтра на второе торжество, – если уж праздновать, так праздновать все сразу. «Какое торжество?» – не поняла Евдокия Михайловна. «И не менее важное, – сказал Каштанов. – Закружилась ты с хлопотами, забыла, ну-ка вспомни, вспомни!» И Евдокия Михайловна вспомнила и обняла сидящую рядом Зою Андреевну. «Памятную плиту на могиле будем ставить», – сказала она. И опять хуторяне захлопали в ладоши, загомонили, и кто-то сказал напыщенную речь, смысл которой сводился к тому, что праздники нужны и живым и мертвым, поскольку мертвые живут в наших сердцах.
Завуч восьмилетней школы это говорил, вспомнила, именно он это говорил. Видимо, тоже захмелел, потому что, когда их знакомили, он производил впечатление основательного человека и потом интересно рассказывал ей о поисках, которые он вел со своими учениками, выявляя имена погибших при освобождении хутора. Больше года они вели переписку с военкоматами, штабами, Министерством обороны и сослуживцами павших, пока не выяснили имена всех девятнадцати человек.
Все прочее праздничного вечера спуталось. Расходились, кажется, во втором, если не в третьем часу ночи, были еще танцы, очень смешные и трогательные неумелостью танцоров, и пляски. Плясали не лучше, но старательней, добросовестней, будто работали. Впрочем, работали хуторяне куда красивей и непринужденней, а веселиться не умели долго, больше сидели за столом и пили, ели, говорили кто что.
– Ох, жива ли я, господи? – послышался страдальческий голос Евдокии Михайловны. – Зоенька, милая, ты живая? – И заскрипели тонко пружины старого дивана.
Значит, Евдокия Михайловна положила ее в свою кровать, а сама легла на диване.
– Чуть-чуть, – сказала Зоя Андреевна. – Анальгину бы, что ли, голова разламывается.
И вспомнилось, что домой их провожала почти вся колхозная компания, и здесь, дома, Евдокия Михайловна выставила ящик с шампанским и несколько бутылок коньяку, а закусывали тортами и конфетами. Никогда Зоя Андреевна не пила столько и никогда не предполагала, что способна к этому.
– Ох, господи, – стонала Евдокия Михайловна. – Как только утроба не лопнула! Никакого ума нету, постарели, а ума нету. – С охами и стонами она поднялась, нашарила выключатель на стене, свет больно ударил по глазам, Зоя Андреевна зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела: Евдокия Михайловна стоит босиком на затоптанном полу и вокруг нее лежат стулья, бутылки, коробки от тортов, пустой ящик. А Евдокия Михайловна глядит на этот разгром и качает головой:
– Ну развернулись мы, ну дали! Будто Мамай прошел...
И в голосе ее было удивление и восхищение, и стояла она в комически важной позе, уперев руки в бока, и разглядывала свою квартиру серьезно, будто впервые ее видела. И пожалуй, впервые видела такой, потому что всегда отличалась хозяйственной и бережливостью, скромностью, стремлением к порядку.
– Не таблеток нам, а рассолу, – сказала она в раздумье. – Да поядреней надо, да ковшом! Как мужики с похмелья пьют.
И, охая и постанывая, собралась, сходила в погреб и принесла в ведре капусты. Закрыв ведро марлей, сцедила в большое блюдо рассол, разлила в кружки и подошла к кровати:
– Будем здоровы, подруженька!
Рассол был крепкий, ароматный, не очень холодный. Зоя Андреевна сразу почувствовала себя ясней и решила вставать.
А Евдокия Михайловна уже убирала квартиру, замывала пол и радовалась, что коньяку выпили немного и шампанского осталось две бутылки, – видно, сыты уж все были, вот бабы и спрятали за комод.
Когда рассветало, пришла с фермы Алена, прямо в халате и с подойником, – как она поднялась в такую рань, как смогла работать?! – и потребовала рюмочку.
– А председатель мой лежит, – сказала она. – Весь день будет теперь хворать. Ну и хлипкую молодежь мы воспитали!
Евдокия Михайловна уже приготовила завтрак и усадила их за стол. После стопочки они совсем поправились, и Евдокия Михайловна, поскольку во всем любила порядок, стала выяснять, почему так много пили.
– Веселиться не умеем, – сказала она. – Работаем как лошади, а выпрягут нас, пустят на луг, и не знаем, что делать. Поглядим на молодежь, как на жеребят, поскачем рядом, ан нет – не жеребята, прошло время. И опускаем морды к столу – пить да есть.
– А я плясать люблю, – сказала Алена. – Неужто плохо пляшу?
– Плохо, – сказала Евдокия Михайловна. – Топаешь без толку, визжишь, руками машешь. На молотьбе ты, что ли?
Алена огорчилась и, желая переменить разговор, вспомнила, что видала во сне черную корову. Это – к печали.
– Да ладно, – махнула рукой Евдокия Михайловна, – какая у тебя печаль! Глядишь каждый день на коров, вот и пригрезились.
Зоя Андреевна рассказала свой сон, и обе они, Евдокия Михайловна и Алена, неожиданно встревожились и серьезно стали спрашивать, не появилась ли луна потом, после того, как пропала, а когда узнали, что не появилась, осталось пустое серое небо, в один голос заверили, что это не к добру, надо ждать какой-то большой неприятности.
– Ну, ты не беспокойся, – сказала Евдокия Михайловна. – Нынче воскресенье, а праздничный сон – до обеда. Если не сбудется до обеда, значит, никогда не сбудется. Давайте собираться. Скоро каменную плиту привезут, и пойдем на могилу.
VII
День выдался солнечный, ясный. Легкий морозец только бодрил и румянил щеки, снег под ногой хрустел весело, звучно, а по улице шли парами и группами нарядные хуторяне – все к правлению колхоза, возле которого стояли райкомовская черная «Волга» и рядом с ней грузовик с откинутыми бортами, убранный кумачом и зелеными сосновыми ветками.
Когда они подошли к правлению, грузовик уже уехал, и за ним потекла толпа. Райкомовская «Волга» осталась на месте – Каштанов ожидал их.
– Поедем или лучше пешочком? – спросил он после приветствия.
– Лучше пешком, – сказала Зоя Андреевна, прижимая к груди цветы и дыша на них: не прихватило бы морозом за время дороги.
Евдокия Михайловна ее поддержала.
– Не такие уж мы старые, – сказала она.
– Я подумал, что после вчерашнего... Крепко мы загуляли.
Если бы он знал, что было после его отъезда!
– У меня покойник любил, – сказала Евдокия Михайловна, – после праздника по ведру рассолу выпивать. Ну, немного ему привелось гулять.
Зоя Андреевна сказала, что ее Миша не пил и любил цветы. Сколько уж лет она ездит на могилу, а столько цветов не привезла, сколько он подарил ей за четыре года совместной жизни.
– А я отца не помню, – сказал Каштанов. – Он на третий день войны ушел и не вернулся.
Холм братской могилы за околицей хутора, как и писала Евдокия Михайловна, был насыпан выше и обложен дерном – это было заметно, несмотря на снег, по четким граням, которые образовывали несколько вытянутый прямоугольник. Плита была уже уложена и, как полагается в таких случаях, закрыта полотном. Две женщины сметали варежками следы, которые натоптали на снегу мужики, устанавливавшие плиту.
Могильный холм окружали плотной толпой хуторяне, но они сразу расступились, давая дорогу, и Зоя Андреевна, не дожидаясь официальной церемонии, подошла и, поклонившись, положила у края плиты свой букет. По толпе прошел молчаливый вздох.
Ярко, броско горели живые цветы на белом снегу. И эта горячая яркость среди холодной белизны напомнила о самом важном, самом главном, что было и есть в человеческой жизни.
Каштанов снял шапку и, склонив голову, начал тихо говорить. Он волновался и говорил вполголоса, но стояла такая тишина, что не только слово, даже короткий вздох был слышен в этом живом застывшем безмолвии.
– Хутор, за который вы пали, – говорил он, обращаясь к земле, – поднялся из пепла, вырос, и он станет еще краше, потому что мы помним вас, помним о том, что за него, за нас, за землю нашу вы отдали все, что могли. Мы, живые, не забудем этого. Сегодня мы всем хутором пришли к вам, чтобы сказать слова вечной памяти и заверить, что земля, за которую вы пали, будет всегда свободна...
Каштанов нагнулся и потянул за край полотна, стаскивая его и обнажая наклонно лежащую гранитную плиту, на которой крупно золотились солдатские имена. Зоя Андреевна сразу увидела фамилию «Сергеев», но имя стояло другое – Матвей и отчество было Трофимович, а не Тимофеевич. Волнуясь и не веря себе, она хотела спросить, но тут началось возложение венков, и плиту закрыли цветами, хвоей, лентами. На лентах венков тоже были надписи.
После речей майора из военкомата, который говорил, что советские солдаты выполняют свой долг до конца, и завуча, заверившего, что молодое поколение остается верным заветам своих отцов, Зоя Андреевна подошла к надгробию и, нетерпеливо раздвинув венки, перечитала все фамилии. Да, ее Михаила здесь не было, был незнакомый Сергеев Матвей Трофимович, а Сергеева Михаила Тимофеевича не было.
Чувствуя слабость и головокружение, она ухватилась за край плиты, чтобы не упасть, но золотые буквы уже качались и плыли перед глазами, колыхались венки, перевитые лентами, и праздничные лица хуторян, и ноги стали чужими и не держали ее...
* * *
«Задушевная моя подруга Зоя Андреевна! Две недели уж прошло с того несчастного дня, как мы тебя проводили, и вот пришло письмо от тебя, спасибо, не забыла. Вчера приезжал в хутор молодой парень из Сибири, ходил на братскую могилу: Сергеев Матвей Трофимович – его отец. Вот оно как вышло, Зоенька!
На старом хуторе я была еще раз, народ там живет бестолковый, поставили общий памятник, написали «Вечная память освободителям нашего хутора» и успокоились. А кто эти освободители, как их зовут, и горюшка мало. Вот теперь Каштанов приказал написать все имена.
Обидно, что твой Миша погиб там, а не у нашего хутора. Столько ты для нас сделала, родной всем стала, и вот... Как подумаю об этом, так и плачу. Всю жизнь, голубушка, ездила ты на чужую могилу с цветами. Вот он, твой праздничный сон-то, сбылся...
А все Алена. Сбила тогда всех нас с толку: «Он, в точности он, на лейтенанта моего похожий!» Ну и нам так показалось. А не подумали того, что для Алены каждый красивый мужик на ее лейтенанта похож.
Ну ты все равно, Зоенька, не убивайся, не закатилась твоя луна, а только на другое место перешла. И ты уж не забывай нас, голубушка, заезжай, когда на старом хуторе будешь, меня не забывай.
Я теперь места себе не нахожу без работы, сижу целыми днями дома, и каждый день годом кажется. Вот была бы ты рядом, мне легче было бы, а так на твой зонтик гляжу, как полоумная, смеюсь и плачу. Алена ко мне заходит редко, отелы начались, а Веньку совсем не вижу – у него дела, перестраивать задумал животноводство и кур уже всех отправил на убойный пункт. Надо, говорит, специализироваться на каких-то основных отраслях, а вы жили, как при натуральном хозяйстве: и коровы у вас, и овцы, и свиньи, и куры, и зерно. Ничего не поделаешь, Зоенька, он ученый, может быть, у него лучше получится, как знать.
А мне все равно обидно. Я ведь только об колхозе и думала и вот, оказывается, не так думала, детям нашим мало этого, и они все хотят переделать по- своему. Я не против, я своему хутору не злодейка, но вдруг у них не получится, Зоя? Что тогда? Вот сижу и думаю, мысли разные тревожат, и нет мне покоя.
А ты как живешь? Пропиши, не болеешь ли, а весной приедешь в наши края или нет? Ты приезжай, не забывай, мы для тебя все равно не чужие, как бы ни вышло...»
1968 г.
ЧТО, КУМА ЛИСА, ПЛАЧЕШЬ?
У околицы совхозного поселка, возле пруда с ветлами и тополями вольготно расположились на зеленой лужайке строения центральной пожарной службы: трехногая ветхая вышка, дежурный дом, депо для двух машин и одного конного выезда.
Солнце поднялось в зенит, и от вышки лежит короткая решетчатая тень. В эту тень и прислонил свой без крыльев над колесами велосипед начальник пожарной службы Артюхин. На вышке его племянник Славка рассматривал в морской бинокль поселок.
– Ничего не видать? – громко спросил Артюхин.
Славка не отозвался: он считал дома.
Артюхин подождал, снял форменную фуражку и помахал ею, остужая вспотевшее горячее лицо.
У раскрытых ворот депо лежали на лужайке дежурные шоферы Козловы, отец и сын. Оба в брезентовых робах, как и положено дежурным. Они только что выкупались, волосы еще мокрые, и вот улеглись на солнышке, сушат.
На двери дежурного дома висел большой амбарный замок: летом дом пустовал. Ворота конного отделения депо тоже были заперты – там стоял один старый ручной насос «Красный факел» да висело несколько огнетушителей.
Не дождавшись ответа, Артюхин поглядел вверх: загорелые Славкины руки, согнутые в локтях, почти незаметно вели вдоль поселка черные окуляры бинокля.
– Триста двадцать один, триста двадцать два, триста двадцать три, – бормотал вполголоса Славка.
– Ты што там считаешь? – начал сердиться Артюхин.
– Дома, не мешайте! Триста двадцать семь, триста двадцать восемь...
– Не считай. Пятьсот тридцать шесть домов и сто девятнадцать прочих построек. Ничего не видать, спрашиваю?
– Все видать, – сказал Славка, не отрываясь от бинокля. – Вот директорская «Волга» едет с поля... Плотники на обед пошли, под пазухой обрезки досок несут... А вон на вашем огороде чей-то теленок шастает. Сбегать прогнать?
– Не дури, ты на вахте. Не горит, спрашиваю?
– Нет, – вздохнул Славка, опуская бинокль.
– И не будет, – сказал Артюхин. – Не должно быть никаких пожаров. Никогда. Но глядеть надо в оба.
Осенью год исполнится, как Артюхин стал учить племянника терпению и порядку, есть уже кой-какие надежды, а все-таки проверить лишний раз не мешает. Вот приехал, а на огороде чей-то теленок лазит, все огурцы, поди, потоптал, стервец. Чего только Марфа там делает!
– Стой и гляди, – по привычке наставлял Артюхин. – Тебе жалованье за это платят, рабочим считают, и должен глядеть.
О Козловых он не беспокоился: Степан двадцать второй год на пожарке, при лошадях еще состоял, пока их не заменили машинами – беспокойно, кормить-поить надо, убирать навоз, да и силы-возможности у лошади слабые. Но и тогда Степан не подводил, а сейчас машина у него всегда на ходу, и сына Петюшку содержит в аккуратности. Петюшка ровесник Славке, из армии прошлой осенью вместе пришли, служили в одном полку, а люди разные. Утром Петюшка примет машину у сменщика, проверит и ложится у ворот с книжечкой – читает. А Славка будто жеребец стоялый – того и гляди из оглобель выпрыгнет, только вожжи ослабь.
– Главное в нашем деле што? – механически продолжал Артюхин, думая, что надо опять заехать к директору насчет вышки. – Главное в нашем деле работа, а не пожары. Профилактика. Зачем? А затем, штобы упредить стихию. Я двадцать три года здесь вкалываю, и вот плоды: четвертый год ни дыминки.
– Что же тебе медаль за такое геройство не дали? – спросил Славка. – Есть медаль «За отвагу на пожаре», в Дубровке брандмейстера наградили.
– Пускай. Только геройство наше не в пожарах, а в том, што нет их. Так я говорю, Степан?
– Эдак, – сказал Козлов-старший. – Какой от них прок, от пожаров, никакого проку.
– Всё знаете, – сказал Славка. – Правильные вы оба, мудрые, всё знаете.
– А ты не знаешь, – рассердился Артюхин. – Сколько раз говорил, не скидать форму на дежурстве, опять самовольничаешь! Тебе тут пляж или што?
– Или што, – усмехнулся Славка.
Артюхин взял за рога прислоненный к вышке бескрылый велосипед, сказал Козлову строго:
– Не отлучайся, Степан, гляди тут. Мне надо к директору насчет вышки съездить.
– Поезжай, поезжай, – сказал Козлов-старший. – Он такой, директор, не будешь донимать, не сделает. – И поглядел в плотную форменную спину начальника, закрутившего педалями: он-то знал, что не за этим поехал Артюхин, теленка сгонять поехал. А насчет вышки – это для важности сказано: вот, мол, такие дела я с кем решаю, с директором! Два года уж решают, а толку нет. Упадет скоро вышка – два столба-стояка ненадежны, крестовина одна сломалась, лезешь наверх, и вся вышка скрипит, ходуном ходит...
– Пап, расскажи сказку, – попросил Петюшка, зевая. – Или байку какую. – Он уж дважды прочитал приключенческий роман, а тут делать нечего, лежишь и лежишь. – Надоела мне книжка.
– Другую возьми, – сказал Козлов-старший.
– Библиотекарша в отпуске, вот вернется, возьму.
– Расскажи! – крикнул с вышки Славка. – Или для родного сына сказки жалко?!
Он навел бинокль на Козловых, глянул и опустил: очень близко, в самые глаза лезут их сивые головы. Зевнул. Лежат на травке, как цыплята, хорошо им, спокойно, всю жизнь лежать согласны. Лежать или сидеть, все равно.
Славка положил бинокль на лавку рядом с телефоном, поглядел на мертвое зеркало пруда. Искупаться, что ли? Можно бы искупаться, да вода в пруду тихая, теплая, неинтересно. Вот на Буг бы сейчас, на стремя! Прыгнешь с крутизны, вода студеная, будто кипятком ошпарит, тело сожмется, как пружина, силу почувствуешь, а поток уж несет тебя на камни, и берег далеко, и ты борешься с потоком, бешено работаешь руками и ногами, и глаза, как у ястреба, все замечают: и другой берег, и камни, на которые тебя песет, и пенный водоворот у камней, и все-все. А с берега старшина орет, испуганно: «Вернись сейчас же, утонешь – на «губу» посажу!»
– Ну ладно, слушай вот эту, – говорит Козлов сыну. – Шла лиса по дорожке, нашла грамотку, отдала попу читать. Поп читал, читал и говорит: «Ну, лиса, будет гроза, всех вас, зверей, перебьет...»
Этот старшина был вроде Артюхина: соблюдай устав, следи за порядком, слушайся командиров. Не послушаешься – наряды вне очереди, утонешь – на «губу». А как он посадит на «губу», если утонешь, вот ведь остолоп!
– Пошла лиса и заплакала. Навстречу – волк: «Что, кума лиса, плачешь?» – «Как же мне не плакать-то? Вот шла я по дорожке, нашла грамотку, отдала попу читать. Поп читал, читал и говорит: «Ну, лиса, будет гроза, всех вас, зверей, перебьет». Пошли они оба и заплакали...
Конечно, гражданская обязанность, долг. Славка соблюдал уставы, служил, восемнадцать поощрений и только шесть взысканий за все время. Это уж на последнем году службы, на третьем, а до того одни благодарности были...
– Навстречу медведь: «Что, кума лиса и кум волк, плачете?» – «Да как же нам не плакать-то? Вот шла лиса по дорожке, нашла грамотку, отдала попу читать...»
Потому что надоедает одно и то же три года. Выучил уставы, овладел всеми видами стрелкового оружия, первый разряд по скоростной стрельбе получил, на тактике за командира отделения действовал... ну, а дальше?
– ...Поп читал, читал и говорит. «Ну, лиса, будет гроза, всех вас, зверей, перебьет...»
Мог бы уехать к брату в город, а зачем? Одни и те же болты и гайки точить? Спасибо, он механизатор широкого профиля, самое место на пожарке. Самое высокое. Соблазняли трактором, да не соблазнили – стреляный воробей, до армии два года отстучал. Нынче – трактор, завтра – трактор, послезавтра опять трактор. С утра до вечера. Весной и летом. Плуги и сеялки. Кукуруза и пшеница. Грязный комбинезон и сапоги. Одна отрада – Алла, да и та чай без сахара: целовать целуй, а дальше не моги, пока не женишься. А ведь если женишься, тогда эта Алка на всю жизнь, каждую ночь одна и та же...
– Навстречу заяц: «Что, кума лиса и кумовья волк с медведем, плачете?..»
Дядька Артюхин толкует о порядке, о терпении: вот, мол, когда я начинал работать, тут один ручной насос «Красный факел» был, а сейчас две машины, пенная химическая установка, мотопомпы мощные. Ну и что? Пожаров нет, и стоит эта техника который год без дела.
– ...Пошли они четверо и заплакали. Навстречу пятый зверь – петух...
Пятый! Не пятый, а десятый раз, поди, рассказывает эту сказку, как не надоест. Петюшка лежит и рот разинул шире варежки. Вот если бы их дом загорелся, забегали бы они! «Петюша, сынок, живей!» – «Лечу, папа, за тобой лечу!..» Дядя Степан уехал, а у Петюшки мотор глохнет на полдороге. «Слава! – кричит. – Друг! Ты широкий профиль, помоги, век не забуду!» А Славке плевать, забудет он или не забудет. Капот мигом вверх, осмотрел – пустяки, на минуту дела. «А ну уступи место!» И Славка сам садится за руль, гонит, ревет сирена, разбегаются куры, гуси, ребятишки... Вот и дом. Пламя бушует вовсю, люди суетятся, галдят, а дядя Степан машину подогнал и растерялся: огонь ли ему тушить, добро ли свое из огня спасать. «Назад! – властно кричит ему Славка. – Раскатывай рукав, мать твою...» Мигом a оставил людей, заработали обе мотопомпы, и Славка включает пенную химическую установку. Поток пены разом поглотил огонь, отдельные очаги сбивают модой, еще минута, и конец. Только дымный пар стоит над пожарищем. Все восхищаются Славкой, бабы плачут и обнимают его, а из толпы выходит Алла и не сводит с него влюбленных глаз. «Сегодня!» – шепчет она.
– ...Ну ладно. Пришли в лес, сели в яму, сидят и ждут. День ждут, другой, третий – грозы все нет...
Вот черт, как размечтался об этом пожаре, сердце даже колотится, жарко стало. Надо искупаться.
– Петюшка, постой за меня, я искупнусь! – крикнул Славка.
– Погоди, вот дослушаю.
Сухо визгнули доски помоста, вышка угрожающе заскрипела, покачнулась, Козлов-старший опасливо вскочил:
– Иди, потом дослушаешь. Я воды отвезу, пока Артюхина нет.
Славка был уже на земле – опять съехал по стойкам. Плевал он на лестницу: обхватит руками стойку и вниз – жжик до крестовины; перехватится ниже и – жжик до другой. Стойки отполированные, старые, не занозишься. А с третьей – пять метров, прыжок – и ты на земле.
Славка разбежался и с ходу, цепляясь руками и ногами за ствол, как кошка, влетел на прибрежную ветлу, склонившуюся над прудом.
– Зверь! – покачал головой Козлов-старший. – Ничего не боится. Внизу кусты, сучки торчат всякие, мыслимо ли дело. Сорвется, и конец. Влезь, Петюшка, погляди, Артюхина не видать? А ты тихонько, не торопись.
Петюшка взобрался по скрипучей лестнице на вышку, взял бинокль, поглядел:
– Дома нет, а изгородь поправлена, и теленка не видно.
– Погляди на контору.
– Ага, там, в конторе: велосипед у терраски стоит.
– Ну тогда я поехал.
Козлов зашел в депо, заурчал мотор, краснобокая машина вынырнула из ворот и покатила к поселку, волоча за собой хвост серой душной пыли.
Петюшка повернулся к дороге спиной и перевел бинокль на ветлу. Славка раскачивался у самой вершины, его рыжий затылок был прямо перед глазами, загорелые сильные лопатки блестели от пота. Он держался одной рукой за вершину, а ногами стоял на тонкой, прогибающейся ветке. Вот обломится, и загремит Славка прямо на сухие кусты, как на вилы. Метров десять, наверно, высоты, если не больше.
Обломится, и будет лежать Славка, проткнутый, умирающий. Петюшка подбежит к нему: «Слава, друг!», поломает кусты, возьмет обмякшее тело на руки и бегом к машине. «Слава, потерпи, не умирай, я сейчас!» И, придерживая его на коленях одной рукой, уже гонит на полной скорости машину. Прямо к больнице гонит. Сирена ревет страшным завыванием, разбегаются куры, гуси, ребятишки, из окон выглядывают любопытные и встревоженные лица: что-то случилось?
А случилась драма – на руках Петра Козлова умер его друг и соратник по работе Вячеслав Артюхин. Медицина оказалась бессильной. И вот по праву друга Петюшка стоит у гроба рядом с Аллочкой, у Аллы зареванное лицо, припухшие губы, и она шепчет, как лунатичка, что всю жизнь любила одного Славку и никого больше не полюбит. Никогда. Он искал романтики, был честен, а она ему не верила.
Ветка прогибалась под ногами Славки, но он не замечал этого и все раскачивал ветлу, ожидая, когтя размах колебаний станет таким большим, что можно будет прыгнуть в воду на глубокое место. Здорово уже раскачал, как только держится.
Когда они будут возвращаться с кладбища, Алла с грустью заговорит о погибшей любви и втайне будет жалеть о той последней близости, которой не успел добиться Славка. Он как-то рассказывал Петюшке об этом и жаловался, что в самые такие минуты, когда ничего больше не надо, кроме этой близости, Алка говорит, что нельзя, отстань, вот, мол, распишемся, тогда все будет твое. Какая же это любовь – «распишемся»!
Вечерами Петюшка станет провожать осиротевшую Аллочку до дома после кино, она узнает, что давно любима им, он просто не хотел вставать на пути своего друга, он любил Славку, и поэтому после свадьбы они с Аллочкой повесят увеличенную карточку покойного Славки в новой горнице и первого сына назовут его именем.
Ветла раскачалась широко, и Славка, улучив момент, ласточкой полетел чуть не в середину пруда. Он не выныривал долго. Петюшка подумал, что у него перехватило дыхание, случилась спазма в легких, и придется теперь искать его тело, сети у рыбаков просить, но в этот момент вода у того берега будто взорвалась – Славка вымахнул, как бык, подняв стеклянный, сверкающий ворох брызг.
– О-го-го-о! – заорал он на том берегу.
Сухой горячий воздух не поддержал крика, не раскатил его эхом по пруду, эффекта не получилось.
Славка бултыхнулся в воду и, отфыркиваясь и шлепая ладонями, поплыл на эту сторону. Хорошо он плавал, быстро, ноги работали, как пароходный винт, и за ними оставалась пузырчато-пенная дорожка.
На берегу Славка помахал руками, отряхнулся по-гусиному и побежал, подпрыгивая и шлепая себя по мокрым ляжкам с прилипшими трусами, к вышке.
– Которые тут временные, слазь! – крикнул он.
Петюшка уже спускался ему навстречу: Артюхин запретил стоять вдвоем на аварийной вышке.
– А я боялся, что ты убьешься, – сказал ему Петюшка. – Ты ведь на самую вершину влез, а ветка под ногами то-онкая... Или утонешь. Ты долго не выныривал.
– Не первый раз, – усмехнулся польщенный Славка. – Я его вдоль перенырну, если захочу. – И потопал по лестнице: мокрые его ступни были словно в тапочках от налипшей пыли.
– Сильный ты. – Петюшка поспешно спрыгнул вниз. – Я вот самбо изучу и тоже буду...
Славка поглядел вниз и откровенно рассмеялся:
– «Бу-уду»! Фитиль ты есть, фитилем и будешь. Книжки тебе мускулатуру накачают, что ли? Ты скинь эту форму и ходи голый, на перекладине вон подтягивайся...
Петюшка поглядел вверх и обиженно пошел в тень, на травку. Был бы его отец начальником, может, Петюшка и снял бы робу, но все равно порядок есть порядок: вдруг начнется пожар, в трусах, что ли, поедешь, одеваться надо, время вести. Вон полицейские в книжках всегда начеку, и милиционеры форму не снимают, и военные. Каждый человек должен быть в своей форме.
Со стороны поселка послышался знакомый шум мотора, потом выкатилась из улицы машина. Долго копался, наверно, и соседу все кадушки налил. Каждый раз наливает, а в получку – бутылка.
Красная машина развернулась у вышки и задом вползла в раскрытые ворота депо. Пыль, поднятая ею, растекалась, оседала на завядшую от зноя сухую траву. Лежащий у своих ворот Петюшка уткнулся лицом вниз и прикрыл голову руками. Славка погрозил с вышки кулаком:
– Шабашник! Морального кодекса не знаешь, старый черт!
Козлов вышел из ворот улыбающийся, довольный, поглядел на вышку:
– Ты чего, Слава?
– Пыль не подымай, вот чего! Я только искупался, а он ездит тут, пылит... – Славка взял бинокль, навел его на поселок: – Артюхин на велосипед сел, сейчас приедет.
– И пускай едет, пускай.
– Вот приедет, и скажу, что ты воду на огород возил.
– Скажи, скажи. А потом будешь стоять всю вахту без подсменки.
Козлов сел рядом с Петюшкой, достал из кармана баночку с махоркой и сложенную гармошкой газету, стал сворачивать папироску.
– Не запугивай подсменкой, – сказал Славка. – Используешь казенную машину в личных целях и развращаешь молодое поколение этим. Смену свою развращаешь, шантажист!
Славке не хотелось говорить, но и стоять без дела было скучно. Он подождал, пока Козлов закурит и уляжется возле Петюшки, потом дурашливо вскрикнул и затопал босыми пятками по дощатому ветхому настилу. Вышка заскрипела, заколебалась – Козлов опасливо вскочил:
– Не балуй, не балуй, жулик! Вот я тебе...
– Ага, боишься! – Славка засмеялся, довольный. – Петюшка, сделай ему самбо!
– Жулик, – сказал Козлов, смущенно укладываясь на траву. – Змей подколодный. С ума скоро сойдешь от безделья. Заставить бы тебя работать, как мы с Артюхиным вкалывали, шелковым бы стал,
– Слыхали, – сказал Славка.
– Слыхал звон, да не знаешь, где он. Мы жили от войны к войне, голод видали и холод, умирали не раз. Думаешь, твоему отцу легко было умирать до время? Шшенок! Оденься, Артюхин едет вон.
Петюшка лежал рядом с отцом, подперев руками голову, и кротко глядел на дорогу. Велосипед Артюхина казался под ним игрушечным и вилял из стороны в сторону. Грузный Артюхин высоко поднимал раскоряченные колени, а педалей не было видно – их закрывали большущие кирзовые сапоги.
Петюшка всегда глядел на своего начальника с робким восхищением и почтительностью: спокойный, тяжеловесный Артюхин считался самым хозяйственным мужиком, и не зря в совхозе четвертый год не было ни одного пожара – все хлопотливые бригадиры и самые строптивые управляющие отделений слушались Артюхина и выполняли все его противопожарные указания.
У первых ворот Артюхин притормозил, распрямил ноги и вынул из-под себя велосипед.
– У-уф, жарища какая! – вздохнул он. – И што это жарища такая...
– Жнитво подходит, – сказал Козлов-старший, гася в земле папироску. – В жнитво завсегда такая жара.
Артюхин прислонил велосипед к воротам депо и снял вспотевшую от головы форменную фуражку. Мокрые седые волосы неровными прядями облепили лысеющий лоб, красное лицо было в крупных каплях пота.
– Не договорились? – спросил Козлов-старший.
– После уборки, – сказал Артюхин, – Все машины сейчас под зерно готовят, лесовозов нет. Сюда ведь бревна нужны, строевой лес.
– А потом скажет, после зябки. Любит он тянуть. Вот упадет вышка, тогда спохватятся.
– Я говорил. – Артюхин подошел к трехногой вышке, запрокинул вверх голову: – Славка, ничего не видать?
– Ничего, – проворчал Славка. – Тут всю жизнь ничего не увидишь.
– Слезай, сам погляжу.
Артюхин надел потную фуражку, поправил гимнастерку, согнав назад складки из-под ремня, и полез наверх. Славка спускался ему навстречу с одеждой в руках.
– Неслушник, че-орт! – проворчал Артюхин. – Пляж устроил.
Забравшись по скрипучей лестнице на площадку, Артюхин взял бинокль и внимательно оглядел совхозный поселок с желтеющими вокруг него хлебами. Ничего подозрительного не было. Телефон тоже молчал. Артюхин взял раскалившуюся на солнце черную трубку и сказал телефонистке, чтобы она соединила его с дежурными всех шести отделений. Дежурные были на местах и по очереди, как полагается, доложили, что все в порядке, нигде не горит.
Артюхин положил трубку, вытер вспотевшее ухо и присел на лавочку рядом с телефоном. В небе – голом, без единого облачка – плавилось солнце, дрожали и плыли в знойном воздухе белые, красные и серые крыши домов.
Славка лежал рядом с Козловыми, постелив на траву свое обмундирование, – сейчас уснет, стервец, на ночь сном запасается, чтобы до зари девок лапать.
Петюшка просил отца досказать какую-то сказку. Степан любит сказочки рассказывать, а сам опять воду на огород крадучись возил. Вон и следы машины остались на дороге, и ворота затворил, а прежде они были отворены. Что за человек? Ну сказал бы, предупредил, двадцать лет ведь служим вместе – нет, тихой сапой надо, тайком.
– Ну, вот пришли они в лес, сели в яму, сидят и ждут. День ждут, другой, третий – грозы все нет. Проголодались, ждамши. Что делать?
Опять про лису. А что делать? Директору, ему план надо выполнять, хлеб убирать, а вышка подождет. Не упала пока, ну и подождет. Три ноги – не две, не одна, постоит. А если не постоит?..
– Думали, думали – решили выть на протяжность: кто не довоет, раньше кончит, того съедим. Хорошо. Съели петуха. Съели, облизнулись и опять ждут. День ждут, другой, третий – грозы все нет. Завыли опять...
Артюхин убеждал директора, что о всяком деле надо думать загодя. Нынче она стоит, а завтра упадет, в любой момент она может упасть, вот хоть сейчас. Рухнет сразу, и прямо на Козловых, на Славку – она как раз в ту сторону наклонилась. Что тогда будет? Тогда конец будет, всем четверым конец. Артюхин разобьется с такой высоты, а тех раздавит бревнами.
– Съели зайца. Съели и опять ждут. День ждут, другой, третий – грозы все нет. Проголодались, ждамши. Хорошо. Завыли опять...
Хорошо! Артюхин представил, как он валится вместе с вышкой, – она страшно трещит, отлетают милые распорки, падают вниз доски – и прямо на нежащих внизу Козловых, на Славку. Степан успел вскочить, но его сбило стойкой, а у Петюшки и Славки выкатились от ужаса глаза, они видят этими белыми глазами, что конец, смерть, ничего не успеешь сделать, и падающий Артюхин знает, что ничего теперь не сделаешь, конец, и в этот последний миг он замечает, что загорелся крайний в поселке деревянный дом. Что это значит? А это значит, что теперь огонь пойдет по всему поселку, потому что со стороны пожара тянет ветерок, летят горящие головни, задымились и вспыхнули ближние сараи, а тушить их некому, поскольку на пожарке все погибли от несчастного случая – и дежурные шоферы Козловы, и Славка, и сам начальник пожарной службы Артюхин...
– ...а грозы нет и нет...
Вся центральная усадьба совхоза в огне, кричат обгорелые куры, гуси, ребятишки, воют бабы, суетятся мужики. «Где же Артюхин?!» – кричит директор. А пожар бушует вовсю, и к вечеру от поселка в пятьсот тридцать шесть домов и сто девятнадцать прочих построек остаются только обгорелые трубы да груды тлеющих углей. Приезжают пожарные команды из соседних сел, из района, только опоздали они: поселка уже нет, а на пожарке лежат четыре раздавленных мертвых трупа. «Почему так случилось?» – спросил следователь. А потому, что не отремонтировали вовремя трехногую вышку, ответит Артюхин, потому что не позаботились загодя. Артюхин? Почему Артюхин, ведь он же мертвый? «Ну да, я мертвый, как я забыл, меня скоро понесут в сосновом крашеном гробу, а за гробом будут идти погорельцы, поддерживая Марфу в черном платке и плачущего директора. А чего уж теперь плакать! Плачь не плачь, ничего назад не воротишь, беду не поправишь».
– Хорошо. Завыли опять...
«Тьфу ты черт, до чего додумался!» – Артюхин встал и расстегнул взмокшую от пота гимнастерку.
Сердце стучало в ребра глухо, тревожно.
– ...Съели и опять ждут. День ждут, другой, третий – грозы все нет. Проголодались, ждамши...
И Степан этот настоящий подлец: съели да завыли, завыли да съели, слов больше нет.
– Кого съели? – крикнул сердито Артюхин.
– Всех, – сказал Козлов-старший. – Кто был в яме, всех и съели. Друг дружку. Они ждали грозы, а грозы не было, вот они и съели. От голоду.
– Сволочь ты! – крикнул Артюхин. – Што ты талдычешь одно: съели да съели, зверь ты, што ли?
– Так ведь сказка такая! – Козлов озабоченно встал на коленки и поглядел вверх на Артюхина: за что он рассердился? – Эту сказку завсегда так рассказывают.
– «Завсегда, завсегда»! По-другому рассказать нельзя, што ли?
– Как же по-другому, если она такая. Отец мне рассказывал, отцу дедушка рассказал, дедушке – другой дедушка. Спокон веку так заведено, так и рассказывают...
Артюхин тоскливо поглядел вниз, где лежали разморенные его соратники, и опять сел на сухую горячую лавку.
Было жарко, нигде не горело.
1968 г.
ОТ ОБИДЫ ИЛИ ОТ БОЛИ?
На земле произошло что-то важное, и Федор проснулся с ощущением этого неизвестного, но важного события.
В доме стояла привычная предрассветная тишина. Глубоко и ровно дышала рядом Катерина, чмокал, уткнувшись в подушку, Фунтик, неспешно шли настенные часы. И радио еще молчало, и со двора доносились лишь редкие петушиные крики. Но ощущение новизны и важности наступающего дня не пропадало.
Федор открыл глаза и понял сразу, в чем дело. Комнату заливал мягкий молочный свет. Он ощущался даже сквозь сомкнутые веки, и, наверно, поэтому Федор проснулся до времени. Он осторожно сел на постели, придержав рукой Фунтика, и повернулся к окну.
– Ты чего? – проворчала чуткая во сне Катерина.
– Сейчас, – прошептал Федор. Перелез через нее, спустил с кровати ноги, нащупал валяные калоши на полу и встал.
За окном шел тихий снег. В предрассветном сумраке непривычно белыми стояли опушенные липы и кусты сирени, белой была земля, еще вчера устланная прикипевшей на морозе листвой, белым было и тихое низкое небо. Его даже и не замечалось, неба-то, а просто висел раздерганный белый пух и тихо, осторожно опускался, оседал на землю.
– Что там? – спросила, совсем проснувшись, Катерина.
– Зима, – прошептал Федор, – снег кругом. Целую ночь, видно, идет, ни пятнышка не видать.
Он открыл форточку, и снаружи пахнуло свежо, чисто, знобяще.
– Не простудись, – сказала Катерина, подымаясь.
– Я на минутку.
Катерина встала, оправила длинную ночную рубашку и подошла к окну. После покрова, на другой день тоже сорил снег, потом еще один слабый замерек был, а теперь, значит, совсем.
– Будто в обнову наряжается, – сказал Федор.
– Кто? – не поняла Катерина.
– Земля наша. Летняя одежа у ней износилась, и вот она зимнюю примеряет, белую.
Катерина не нашла подходящих слов для ответа и положила руку на плечо мужа. И тут они оба вспомнили, что вчера вечером крепко повздорили, поэтому Катерина и взяла в постель Фунтика, который обычно спал в своей кроватке.
Повздорили глупо, из-за малости. Катерина настаивала зарезать бычка Прошку, а Федор все откладывал. А чего откладывать, когда уж морозы устоялись, мясо не испортится, люди давно порезали такую скотину – и бычков, и свиней, и баранов порезали. Чего держать-то зря, корм только переводить. А Федор все откладывал. Днем из кузни его не вытащишь, вечером в клубный кружок отправляется – самодеятельность.
Катерина с особой мстительностью припомнила ему этот кружок, ради которого он, будто холостяк, уходит из дому, а потом назвала блаженным – это уж за Прошку. Она точно знала, что ему жалко Прошку, и вот оттягивает, на дела ссылается. С таким мужиком в церкву ходить, а не хозяйство вести, не семью. Вон и палисадник под окнами не как у людей: липы ему нужны, сирень нужна, цветочки. Есть, что ли, их, цветочки-то? А у людей сейчас моченые яблоки...
Все ему припомнила Катерина. И как из армии, дура, ждала его три года, и как жениться он потом полгода не решался – предложение не смел ей сделать, надо же, самой пришлось сказать! – и как теперь она мучается с ним, бугаем, а у него никакой к дому прилежности.
– Нынче зарежем, – сказал Федор, закрывая форточку. – За Митькой я сейчас схожу.
– Так я воду греть стану?
– Грей. Пойду скотине корму дам.
– Прошку не корми.
– Ладно. – Федор стал одеваться.
Изба заметно выстыла за ночь, и Катерина поторопилась затопить голландку. Кизяки у ней были припасены с вечера, а на растопку хранились в подпечке сосновые поленья. Она нащепала косарем лучины, положила немного поленьев, чиркнула спичкой и, когда лучина занялась, стала накладывать кизяки, ворча, что заботливые люди, такие, как Митька, дров запасли, а тут с кизяками каждую зиму маешься.
Федор уже собрался, приоткрыл дверь, но потом передумал и захлопнул.
– На зимнюю форму надо переходить, – сказал он, стаскивая у порога сапоги.
– Валенки на печке, – сказала Катерина.
Федор переобулся, прошел на кухню и, позвякав кружкой, – пусть Катерина думает, что он пить захотел, – впотьмах отыскал в столе хлеб. Надо Прошке дать кусочек, пусть поест перед смертью. Отломил горбушку, сунул в карман, вышел.
Еще в сенях он почувствовал свежий зимний дух, а открыл дверь, и сердце зашлось от легкости и красоты. Как раз в это время со станции дали свет, окна в избах будто распахнулись настежь, снег заискрился от света, а под столбами, на которых горели лампочки, словно кто-то невидимый поливал из лейки – это снежинки падали сверху. И чисто кругом, просторно, хорошо. Когда рассветает, далеко кругом видно, всю степь видно до самого края, где она сливается с небушком. Эх ты, степь моя, степь широкая...
Федор спрыгнул с крыльца в снег, – мягко, по щиколотку уже нападало, – дошел до хлева, оглянулся: на снегу остались четкие следы валенок, даже строчки дратвы видать, когда нагнешься поближе. Молодой снег завсегда податливый, мягкий. И хрустит сочно.
Заслышав шаги хозяина, мыкнул приветливо Прошка, заблеяли овцы, глубоко вздохнула корова. Надо во двор их выпустить, пусть походят, поглядят.
Федор открыл дверь – из хлева дохнуло парным теплом, смешанным запахом навоза и сена. А Прошка уже стоял у двери.
– Ну иди, иди, побегай, – сказал ему Федор и посторонился.
Прошка недоверчиво поглядел на него, потом сбычился в открытый дверной проем – бело впереди, незнакомо: он первый раз видел снег.
Если бы корму вдоволь, можно бы не резать такого молодого, только откуда они, корма-то, когда в том году сушь все лето.
– Иди, не бойся, – сказал Федор.
Бычок вышел, понюхал снег, оглянулся на Федора и весело взлягнув, пустился по двору, высоко вскидывая ноги и мотая головой. Радостно побежал, ошалело, дурачок, не знал, что последний раз бегает.
Федор выпустил во двор корову и двух овец, вычистил навоз и влез на полоскушу теребить сено. Корова осталась равнодушна к снегу, она была старая, материна. Мать летом померла и оставила ему и корову, и дом, и все, что было в доме. А овец они с Катериной купили на свои трудовые. Овцы тоже не бегали, стояли рядом с коровой и ждали, когда он сбросит им сена. А Прошка, дурачок, все бегал, как собака. То к крыльцу подбежит, то к пряслу, снег понюхает, лизнет и опять во весь мах – воле радуется, жизни.
Федор сбросил вниз сено, – пахнет-то как, будто лето вернулось! – спустился по жерди сам (лестницу надо сделать, Катерина голову проела за лестницу), поманил Прошку. Бычок подбежал и озорно, играючи ткнул его лбом в живот. Как человек! У него и взгляд вон человечий.
– Прошка, хлеба хочешь? – Федор потрепал бычка за уши и вынул из полушубка горбушку. – На, лопай.
Из дома вышла с ведрами Катерина – будто ждала, когда он Прошку кормить станет, зараза, ничего не скроешь! – и, конечно, увидела сразу хлеб. Глядеть ей больше не на что.
– Федя, без пользы ведь, хлеб только пропадет.
– Много ты знаешь. Пользы нет, зато радость, приятность...
– Блаженный, вот блаженный на мою голову! Сейчас же иди за Митькой, хватит откладывать! – И загремела с ведрами к колодцу.
В кого она такая крикливая, громкая? Мать воды не замутит, отец смирный, а эта – как пожарная машина. И ведь толковая баба.
Федор скормил бычку хлеб и пошел за Митькой.
Уже светало, на столбах погасли лампочки под жестяными абажурами, – как в городе лампочки, светло живем! – по улице проехал на санях конюх Торгашов с собакой, проделывая зимний след. Тоже радуется первопутку и хлещет лошадь кнутом. Хлестать-то зачем? Лошадь тоже рада снегу – мягко ей после мерзлых кочек, хорошо. И собака вон радуется, взлаивает. Эта по дурости, на других глядя. Всю зиму на морозе дрожать придется, конюхов дом караулить.
Дружок Митька жил рядом, через улицу. Он тоже убирал у скотины и после завтрака собирался колоть дрова. Во дворе лежали толстенные обрезки комлей, которые он не одолел в теплое время.
– Прошку я решил все ж таки, – сказал Федор.
– Уничтожить? – осклабился Митька радостно. Выпивку почуял даровую и обрадовался.
– Нет, – сказал Федор. – Зарезать на мясо. Зачем добро уничтожать.
– Теперь понятно, – засмеялся Митька. – А я думал...
– Балбес, – сказал Федор. – Нечего зубы скалить, идем.
– Что так рано? Или в темноте хочешь покончить, Прошкиных глаз боишься?
– Не твое дело, собирайся.
- А я не желаю невинную кровь проливать, – выпендривался Митька. – Скотина ведь не машина, у ней душа есть и все такое прочее.
– Сволочь, – подумал Федор любовно. – Моими же словами тычет, паразит. Надо придушить нынче на сцене, когда нападать станет, Антанта проклятая».
Митька был любимцем всей деревни: и потому, что баянист хороший и единственный, и потому, что самодеятельность в клубе ведет, скучать не дает, и потому еще, что парень он лихой, безужасный. Он работал шофером, возил любой груз в любую погоду, лишь бы колеса до земли доставали, часто бывал в райцентре, подбрасывая по пути колхозников на базар или по какой другой надобности, содержал самосвал всегда на ходу и дразнил Федора за его душевное отношение к скотине, Машина – не скотина, говорил он, поставишь ее, и стоит, корму не просит. Ты вот вздыхаешь над телком, над травинкой, а понять того не можешь, что телок травинку съест и за другой потянется, а телка ты съешь и на барана поглядишь. Эх, Федорушка...
Особенно незаменим был Митька осенью и в начале зимы: очень уж ловко резал он скот. Быка ли, свинью ли, овцу ли – зарежет и разделает с улыбочкой. Мастер, на бойне только работать. Овец, так тех облуплял мигом, будто раздевал их, подлец. Мастер, мастер... На все руки. И не пьяница, хотя выпивал часто при таком деле. Знает меру.
Федор тоже любил Митьку, но иногда хотелось прижать его, придушить, стукнуть по вертлявой отчаянной головенке. Почему? Может, Федор завидовал его дельности, безоглядности? Вряд ли, едва ли...
– Зарежем! – засмеялся Митька, хлопнув Федора по плечу. – Зарежем, Федорушка, когда хошь!
И скрылся в доме – побежал взять нож.
II
Они сидели за столом, ели селянку, и Митька рассказывал, как на прошлой неделе он резал борова у Торгашовых. Здоровенный такой боров был, пудов восемь, на колхозном фураже откормленный. Думали, такого и пятеро мужиков не удержат. А Митька подошел один, почесал его, боров и лег, дурак, похрюкивает, блаженствует. В такое время сунуть ножик в сердце – пара пустяков. Вот и Прошка тоже. Вытянул шею для чесанья, а тут и...
– Ешь, – оборвал его Федор, наливая по второй.
Катерина и Фунтик тоже сидели за столом. Катерина пускай, ладно, а Фунтику нечего слушать такие речи. Ему уж два года, понимает, Петькой пора звать, а то в деревне любят разные клички, так и останется на всю жизнь Фунтиком.
– Мясо нам Плоска плислал, да? – Фунтик держал в руках кусочек печенки и весело глядел то на отца, то на мать.
– Ешь, – сердито сказал Федор. – Ешь и не болтай за столом.
Катерина раскраснелась после стопки, благодарно глядела на Митьку за то, что снял с нее часть хлопот, и миролюбиво на Федора – все-таки решился, чадушко, решился.
– А я ему говорила, говорила: да сходи ты за Митей, говорю, он мигом сделает как надо. И правда, мигом вышло. Пуда на четыре будет, как думаешь, Митя?
– Верных, – сказал Митька солидно. – Четыре верных, без головы и без ног.
– На всю зиму теперь хватит, – радовалась Катерина. – Мы барана еще не съели да два гуся целые.
– Хватит, – сказал Федор, – надолго хватит. И нечего говорить про это. Едите? Ну и ешьте, а зачем говорить?!
Катерина и Митька поняли, умолкли.
– Объявленье написал? – спросил Федор Митьку.
– Когда? И объявленье пиши, и дрова коли, и Прошку твоего...
– Я расколю дрова, – сказал Федор. – В бригадном доме надо повесить и у ларька, пиши два.
– Артист! – засмеялась Катерина. – Митя хоть парень живой, веселый, а ты? Думаешь, как в кузне кувалдой – трах-бах!
– Ничего, – заступился великодушно Митька, – зато Федор слова выучил, всю роль наизусть знает.
– А ты рушником утрись, рушником, – угодливо сепетила Катерина, заметив, что Митька ладонью вытер жирные губы. Вытер и подмигнул ей.
«Красивый он все же, – подумал Федор. – Красивый и ловкий. Не зря его все любят».
Они вылезли из-за стола, Катерина стала убирать посуду, а Митька закурил дорогую сигарету с фильтром – из города привез. Шоферу это раз плюнуть, каждую неделю в городе, не в областном, так в районном.
– Дух-то какой приятный! – изумилась Катерина. А взглядом на Федора: хоть бы курил, что ли, мужиком в доме не пахнет. – Давно я такого духу не слышала!.. Тебе как за труды-то, Митя, на бутылочку или мясом возьмешь?
«Во-он она что вьется, – догадался Федор. – Хит-ра-а!»
– И на бутылочку, и мяса побольше, – царствовал Митька. – Какая же выпивка без закуски! Эх, Катя-Катерина, мы же свои люди, артисты! – Он подмигнул Федору: – А может, возьмем? Перед премьерой?
– Я тебе возьму, – сказал Федор. – На леваках зашибай, ты умеешь.
– Я все умею, Федорушка. Идем.
– Обедать приходите, – наказала Катерина, провожая.
На улице встретились сестры Ветошкины, Маня и Клавка, обе в городских сапожках и в цигейковых шубах, – передовые доярки. А коров, поди, на хромую тетку Пашу оставили, скотина потерпит ради праздничка.
– Митя, идем с нами! – крикнула Клавка.
– Днем-то! – засмеялся Митька.
– А у нас во-от что есть! – Клавка показала из кармана бутылочную головку.
– Умницы! – крикнул Митька. – Вечером, после концерта. Занавес сшили?
– Сшили, приходи.
А на Федора и не взглянула ни одна – вахлак, что с него.
– Женился бы, – сказал Федор. – Вон какие красавицы, упустишь. Я слыхал, они в город собираются.
– Для тебя все красавицы. Таких красавиц я знаешь в чем видел?..
– В чем? – спросил Федор.
– Не в шубах...
Дом у Митьки был пятистенный, шатровый, сени тоже срубовые, двор тесом обнесен, а не жердями, как у Федора, ворота двустворчатые – машине въезжать, подводе ли. Отец у него пчеловод, сестра Анютка на птичнике, мать за хозяйством глядит, за скотиной. Все работники, живут крепко, постависто. За домом сад взрослый есть, огород большой, в огороде Синька срубовая, по-чистому топится. Мясо, молоко, масло, хлеб, мед, яйца, яблоки – все свое. Свое и колхозное. Все кругом колхозное, все вокруг – мое. А в горнице радиоприемник «Сириус», комод новый, шифоньер, ковровая дорожка, стулья с гнутыми спинками и ковровые дорожки, будто в них счастье.
– А вы тапочки наденьте, а валенки на печку, – встретила их в прихожей тетка Дарья, Митькина мать.
– Я за колуном, – сказал Федор, – сейчас уйду.
– Обожди, – сказал, раздеваясь, Митька. – Подскажи, как написать повеселее, позавлекательней?
– Как? – Федор серьезно стал думать. – Ну... вот, мол, в честь праздника... это самое... драма.
– Завлекательно! – осклабился Митька. – Ладно, держи колун и действуй.
Во дворе Анютка кормила кур и топала валенками по снегу:
Я залетку своего
Работать не заставлю,
Сама печку истоплю,
Самовар поставлю.
Веселая девка, красивая. И кур любит без памяти. На птичнике у нее ворона живет ручная (кто-то подбил, а она выходила), воробьи кормятся, галки.
– Ты что, колоть чурбаки подрядился? – спросила она. – Увези ты их в свою кузницу, там сгорят. У нас дров на две зимы хватит.
И не жадная – на две зимы хватит! А Митька с отцом на третью запасают.
– Не расколешь, брось, Митька летом пробовал.
– Ничего. – Федор примерился, поднял колун. – У меня они станут сговорчивы. – И хрястнул колуном первый чурбак.
– Надвое! – поразилась Анютка. – А ну еще!
Федор ударил по другому и опять развалил кряж пополам. Сразу.
Анютка ахнула и побежала домой рассказывать.
Вот какую жену ему надо. Работали бы оба и сидели голодные. Катерина, она хозяйство крепко держит, хоть и не работает из-за Фунтика. Куда его денешь, если мать умерла, теща в Головкине живет, а яслей в бригаде нет.
– Здравствуйте, муженек дорогой! – сказала Нина Николаевна.
Федор обернулся: ух ты, какая нарядная! И зубы фарфоровые от улыбки все на виду, и глаза сверкают, как звезды. Красавица! Вот бы кого в жены, весь век радовался бы.
– Здравствуйте, Нина Николаевна, с праздничком вас!
– Матрена я, Матрена, роль свою не забывайте! Дмитрий дома?
– Митька? Дома. Я помню, Нина Николаевна, я свою роль наизусть знаю.
– То-то, не подведите меня. – И каблучками по крыльцу цок-цок-цок.
Федор глядел вслед и улыбался: вот ведь какие бабы бывают – куколка! Махонькая вся, стройная, точеная будто со всех сторон, а потом отшлифована до гладкости. Жена! Федор сознательный красноармеец, а она его жена. Матреной зовут, председатель комбеда. Федор защищает Советскую власть от врагов внешних, от Антанты, а Матрена в это время с кулаками борется, бедняков сплачивает в одну крестьянскую семью... Красавица. На жалованье только живет, на семьдесят рублей, хозяйства никакого – из города сюда приехала. Вон и ботики у нее холодные, и пальтишко легкое, осеннее. Одна учительница на всю школу. Правда, и учеников-то в деревне десятка два, не больше, но ведь четыре класса, какую тут голову надо, чтобы всех сразу учить.
Когда распределяли роли, Митька взял себе сознательного красноармейца, ее мужа, а Федор интервента должен был играть, американца. Не согласилась ведь Нина Николаевна. Нет, говорит, позвольте мне самой выбрать мужа. Я тяжеловатых люблю, крепких, как стены, надежных. А теперь смеется. И тогда, поди, смеялась. Все над ним смеются, как над дурачком.
Федор переколол дрова, сложил в кучу разлетевшиеся поленья и хотел идти домой, но тут вышли Анютка и Нина Николаевна. В руке у Нины Николаевны были скатанные трубочкой объявления. Не иначе Митька расклеить поручил. Умеет человек. Ей – объявления, Федору – колун, Анютке тоже какое-нибудь порученье дал.
– Ты куда, Анютк? – спросил он.
– К Ветошкиным. Митька велел занавес в клубе повесить.
Точно. И непутные сестры Ветошкины на него работают.
– До встречи на сцене! – помахала ручкой Нина Николаевна.
– До встречи, – сказал Федор, глядя ей вслед.
И вдруг вспомнил Прошку, растерянные его глаза, слезы в глазах. От обиды или от боли? Нет, боль сама собой, боль можно вытерпеть, а обида непонятна. Федор ведь рядом стоял, когда Митька почесывал у бычка под горлом, он рядом стоял, потому Прошка и доверился. Он так и не понял, за что...
III
Бригадир Митряев дядя Иван сказал со сцены короткую речь о том, что мы теперь имеем право на труд, на отдых, на образование, а также на пенсию, и велел снять шапки: клуб нынче протопили на совесть, чего париться в шапках. И одежу верхнюю надо снять, на коленки свои положить. Какое веселье в одеже?
А потом на сцену вышел Митька.
– Парадом командовать буду я, – звонко объявил он. – С праздником, дорогие товарищи!
И все сразу заулыбались, захлопали в ладоши, а ребятишки сидевшие у сцены прямо на полу, засучили ногами от восторга. Митька был в кумачовой рубахе с поясом, в широких сатиновых шароварах, в сапожках хромовых – артист!
«Плясать станет!» – пронесся по залу радостный шепот.
– Первым номером нашей программы – русская пляска. Исполняю я, аккомпанирует на баяне Дмитрий Ганин.
И опять все засмеялись, потому что Дмитрием Ганиным был тоже Митька. Он размашисто поклонился и побежал в закуток за сценой, где сидели потные от волнения артисты: Нина Николаевна, Федор, сестры Ветошкины, Анютка и два холостых тракториста – сыновья конюха Торгашова. Здесь же был и счетовод Громобоев, однорукий старичок в очках, бывший буденновец, который исполнял обязанности суфлера.
– Значит, как договорились, – сказал Митька, хватая баян. – За мной идет Анютка, за Анюткой вы, сестры, за ними вы, братья, потом опять я, а потом закатим драму.
– Хорошо, хорошо, – сказала Нина Николаевна, примеряя перед зеркалом красный платок.
Митька исчез, и тут же звонко и быстро заговорил баян, рассыпался по сцене дробный перестук каблуков. Молодец парень!
Федор в солдатских ботинках сидел на полу и обкручивал икры ног мешочными обмотками – сознательный красноармеец. Анютка зашивала ему будённовский шлем, который принес на время спектакля Громобоев, и шептала свой стишок. Сестры Ветошкины ахали у занавески на Митьку – как пляшет!
– Вы, Федя, поживей держитесь, – сказала Нина Николаевна. – Вы ведь идете на бой за новую жизнь, за мировую революцию, вы энтузиаст, бедняк, вам терять нечего, кроме цепей, а приобретете вы весь мир. Дух времени надо передать, атмосферу, понимаете?
– Понимаю, – сказал Федор.
– И я для вас не просто жена – я для вас верная подруга, товарищ по борьбе, соратник. Лаптей вот, жаль, не достала, нигде нет, придется в калошах. Договорились?
– Ладно, – сказал Федор.
В клубе будто опрокинули воз досок – колхозники хлопали своему любимцу Митьке. Заслужил, значит.
Митька вбежал потный, красный, поставил баян и выбежал опять – кланяться, объявлять следующий номер.
Следующие номера тоже прошли гладко. Анютка отбарабанила свой стишок про цветы, сестры Ветошкины спели две песни – про дельфина и про черного городского кота, которому не везет всю дорогу. Потом сыновья конюха Торгашова рассказали басню. Молчуны оба, а душевно рассказали, с выражением. Один был волк, а другой ягненок, и вот ягненка волк мытарил, мытарил разговором, а потом сожрал в лесу, гад.
Митька сплясал еще барыню и цыганочку, объявил перерыв на пять минут, чтобы переодеться, и наконец начали драму.
Первой вышла Нина Николаевна. Ее сперва не узнали, подумали, приезжая какая, но потом узнали – «учителка, – зашептали, – Нина Николаевна», – а ребятишки хором поздоровались, как в школе.
Массовые сцены, по замыслу Нины Николаевны, должен был играть зритель, и она обратилась прямо в зал, призывая озадаченных колхозников вступать в коммуну и не давать спуску мироедам кулакам, которые пришли сюда и думают, как бы половчее дать подножку новой жизни. А ведь хозяева теперь мы, а не кулаки.
– Голодранцы вы! – крикнул от порога один из братьев Торгашовых. – Калоши вон подвяжи, потеряешь!
– «В зале возмущение, шум, все оборачиваются с порогу», – шептал из закутка добросовестный Громобоев.
И правда, все теперь глядели назад, ребятишки вскочили с полу и вытягивали шеи, чтобы увидеть живых кулаков, а длинные братья Торгашовы стояли у порога, как воротные столбы, и костерили почем зря Советскую власть.
Здорово получалось, страшно даже. Нина Николаевна, то есть красноармейка Матрена, махала красным платком – она уж сорвала его с головы, – а братья Торгашовы остервенели от ругани и пошли, расталкивая колхозников и опрокидывая скамейки, через весь зал к сцене.
– Ироды, хулиганы! – неслось им вслед.
– Паразиты немилящие! Топают прямо по одеже...
– Сеня, дай ему, чего глядишь!
– Эй ты, сволочь, на тракторе едешь, что ли... Вот я сейчас!
– Они и на тракторах прямо по посадкам ездят, по молодым деревцам.
Жуткий шум поднялся. Но уже поняли, что так подстроено, и хотели увидеть, как пойдет дальше, а тут скамейки надо подымать, одежда попадала, с криком села на пол хромая тетка Паша, подсменная доярка, упал, изругавшись матерно в праздничный день, бригадир Митряев дядя Иван.
Будто по-правдашнему получалось. «Кулаков» дружно ругали, грозили вложить им после спектакля, а когда они потащили растрепанную учительницу со сцены, вдогонку им неслись настоящие проклятья и ребячий визг.
В общем, сцена удалась хорошо, «кулаки» победили, а смелые они оказались потому, что в село вошли интервенты во главе с Митькой – американцем.
В клубе сразу успокоились, когда увидели Митьку. Он был свойский, хотя и незнакомый сейчас, с холодком. И мундир на нем не нашенский, и фуражка, и язык заплетается, как у пьяного: хау ду ю ду, иес.
Митька похлопывал по плечам братьев Торгашовых и рассказывал им о богатой стране Америке, где скотину не режут, а загоняют в такую машину – Митька показал руками, какая она большая, – и вот с другого конца этой машины выходят колбаса, сосиски, сардельки, яловые сапоги, гребешки, студень, а также валенки разных цветов: красные, белые, черные – смотря по тому, какой масти была скотина.
– Неужто так? – разевали рты братья Торгашовы.
– Иес, – непонятно говорил Митька. – Все в дело идет: кожа – на сапоги, шерсть – на валенки, рога, копыта и кости – на гребешки, из хрящей студень делаем.
– Вот это да-а! – ахали братья Торгашовы. – И любую скотину загонять можно?
– Иес, – говорил Митька. – Если изрежем не ту, суем в машину гребешки, сосиски, валенки и все прочее, включаем обратный ход, и на другом конце выскакивает свинья или корова.
– Живая?! – Братья изумленно выкатывали глаза.
– Иес, – говорил Митька.
И в зале улыбались, переговаривались, хвалили своего любимца. Опять он был на своем месте, роль делового человека пришлась ему впору. Вскоре он поучал уже не Торгашовых, а весь зал – в пьесе крестьян опять собрали на сходку, – он учил деловому отношению к жизни, учил практичности, которой не хватает русскому человеку, учил жить. И выходило это убедительно, несмотря на протесты Нины Николаевны, то есть активистки Матрены.
Теперь она стояла у порога и кричала, что владыкой мира будет труд, но оглядывались на нее уже немногие, это был повторный прием, колхозники не боялись, что учительница станет опрокидывать скамейки, к тому же общим вниманием завладел Митька. Он снисходительно улыбался на ее лозунги и говорил, что главное, дорогая миссис (опять мудреное слово ввернул!), не революция и не труд, а умение получать выгоду из труда. Лошадь тоже трудится, а где ее выгода? У хозяина.
– Знает! – восхищались в зале. – Он свою выгоду не упустит.
– Надо жить так, чтобы всем было хорошо, – поучал Митька.
И это было правильно. Прихватит по пути баб на базар – и они довольны, и Митьке выгода – по пятьдесят копеек с головы. Станет резать скотину – и опять все благодарят, и плата особо.
– Вот мистеры кулаки не воюют, а работают, поэтому жены у них одеты и сыты. Где ваши супруги? – спросил Митька стоящих рядом Торгашовых. – Не эти ли милашки? – И пальцем в первый ряд, на сестер Ветошкиных.
– Эти! Эти! – гаркнули братья.
– Вот видите – королевы! А ваш муж плохой романтик, бросил вас, бедную, в одних калошах и без хлеба.
– Он революцию защищает! – крикнула активистка Матрена.
– Для чего ему революция – для калош? Их проще заработать.
Настала очередь Федора. Сознательный красноармеец, он пришел в разведку и все время наблюдал за врагами из-за занавески (зритель видел его голову в буденновском шлеме), что-то писал на листочке, а потом вышел через боковую дверь со сцены – не иначе как отправить донесение своим. Вскоре он опять пришел и уже не прятался в закуток, а стоял с решительным видом у двери и сердито глядел на Митьку. Его горячее сердце не могло терпеть захватчиков на родной земле, и пусть он погибнет сейчас от руки интервента, он не даст в обиду свою верную подругу и не позволит позорить Советскую власть!
– Я скажу, – выступил Федор вперед, показывая из-под шинели мешочные обмотки, – я объясню, зачем я делаю революцию, бандит заморский!
– О-о! – изумился Митька, трогая деревянный пистолет на боку. – Рад видеть большевика живым. – И кивнул братьям Торгашовым, которые тотчас взяли Федора под руки. – Ну-ну, скажи.
– Чего он скажет? – засмеялись в зале.
Федор смутился, забыл слова, не слышал горячего шепота Громобоева: «...против капитала... за мировую революцию, за всех угнетенных и обездоленных...»
– Я скажу, – тяжко дышал Федор. – Я все тебе скажу, гад. Ты зачем сюда пришел, а? Выгоду ищешь? А моя выгода не в калошах, не в гнутых спинках и шифоньерах. Я за такую жизнь стою, чтобы человеком быть, понятно?
– Иес, – улыбнулся Митька. – И как же это выйдет?
– Не так, как ты хочешь. Люди будут честные все, добрые, они свою землю не бросят, ухаживать за ней станут, любить. – Он вырвался из рук Торгашовых, оттолкнул их. – Они не станут ездить с плугом через посадку, у нас же степь, каждое дерево на чету, а тут на тракторах ездят. Опять же и фураж у лошадей воровать, а потом хлестать их кнутом нельзя. Совесть надо знать, бесстыжие морды!..
– Федя, Федька, не по тексту! – шипел Громобоев из-за занавески. – «Мы боремся за светлое будущее всех людей...»
– Правильно, – услышал Федор, – за будущее. Американцы тоже не одним брюхом живут, они тоже на нас глядят, весь мир глядит и всякую нашу удачу, ошибку учитывает. Будем мы хорошими, добрыми, все пойдут за нами, а разве тут будешь, когда на казенных машинах калымят! С улыбочкой ведь калымят, весело...
– Иес, – не дрогнул Митька. – А почему? Потому, что всем от этого польза и никакого вреда. Или ты хочешь, чтобы люди пешком в район ходили, раз автобуса нет? Я права могу потерять, – это же самосвал! – а я сажаю и везу, я для своих людей все сделаю.
– Занавес дайте, занавес! – Нина Николаевна пробивалась от порога на сцену.
– И к тебе я иду в любое время, – наступал Митька. – Я доброту делами делаю, руками вот этими, понял? Или мне тоже вздыхать, если вы такие честные? Я хозяин, мне дело подавай.
«Вот сволочь! – растерялся Федор. – Как с Прошкой: почешет дорогими словами, а потом в то место, где приятность, – ножом. И вроде все правильно, ничего не скажешь...»
– Или тебе теленка своего жалко? – добивал Митька. – А мне не жалко. Из теленка только бык вырастет, вот такой бык, как ты!
Под общий смех братья Торгашовы потащили занавес, грохнули деревянные ладони колхозников, и только из закутка вырвался хриплый от волнения крик Громобоева:
– Не сдавайся, Федька!
Его поддержали ребятишки.
1968 г.
ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Дождь лил трое суток подряд. Обложной и по-летнему спорый, он хлестал все время без передышки и столько начудоквасил, что не расхлебаешь и в неделю. Накатанные за лето дороги стали непроезжими, смирная Кондурча вышла из берегов и сорвала два мостика, дойный гурт, простоявший на калде без корма, убавил молока, жатва хлебов остановилась в самый горячий момент, и намолоченное зерно лежало на временных токах и мокло под открытым небом.
Межов уже не радовался и солнцу, когда на четвертый день собрался в поле. А солнце было по-летнему жаркое и веселое, а небо, неподвижное и глубокое, голубело в каждой луже, а лужи стояли сплошь и исходили по краям теплым паром.
На машине ехать было нельзя, и Межов из правления пошел через все село на конюшню. Пока шел, несколько раз оступался в лужи, дважды чуть не упал и уж еле волок туфли, которые от налипшей грязи стали похожими на лапти.
– Тротуар надо, Сергей Николаич! – крикнула от колодца старая вдова Пояркова. – Из досок бы сделать или городской, из асфальту.
– Вот когда на работу все ходить будут, – сказал Межов.
– Да у меня овца обезножела, Сергей Николаич. – Пояркова поспешно нагнулась, подхватывая коромыслом зазвеневшую дужку ведра, подождала и, подняв ведра, проворчала вслед Межову: – Успел узнать, косолапый бес. На работу! Когда ты титьку сосал, я уж работала. Пра, бес! Всех уж узнал...
Межов расслышал, но не ответил. Он работал председателем второй месяц и не знал всех людей своего колхоза, в котором насчитывалось более шестисот взрослых жителей, но Пояркову он запомнил.
На общем собрании, когда его выбирали в председатели, Пояркова выступила вслед за секретарем райкома и сказала, что хорошо, конечно, когда и ученый, и агрономом успел годок поработать, и комсомолец, но больно уж молодой. На такие должности меньше чем тридцатилетних нельзя ставить.
– Сколько тебе годочков-то, парень? – спросила она жалостно.
И Межов, стоя под взглядами сотен глаз, любопытных, настороженных, ощупывающих, сказал, весь пунцовый от смущения, что скоро пойдет тридцать первый.
– А когда скоро-то? – допытывалась вдова.
– Через пять лет, – сказал Межов под общий смех всего зала.
Наверно, он хотел сбить шуткой свою напряженность и смущение перед незнакомыми людьми, но тогда он не думал об этом. Он просто не выносил жалости, к тому же иронической, а Пояркова была мастерицей на это. Вот и сейчас она хотела вроде бы пожалеть, что он идет по такой грязи, и посоветовала сделать тротуары. Едкая баба, своеобразная. Да и все они своеобразные, непохожие, более шестисот разных, непохожих друг на друга людей.
Межов перепрыгнул очередную лужицу и пошел мимо дома кузнеца Антипина. Из подворотни высунулся на него, гремя цепью, косматый барбос и захлебнулся необъяснимо злым лаем. Межов наклонился, показывая, будто ищет на земле, чем бы ударить, и барбос мигом скрылся в своей подворотне. Трусоватый, а облаял ни за что ни про что.
– Верный, на место! – послышался за воротами властный хозяйский бас.
Тоже сидит дома, труженик.
Межов возвратился, толкнул ногой тяжелую калитку. Антипин под сараем точил мотыги. Мальчишка лет десяти вертел установленный на козлах наждачный круг, а Антипин точил. Из-под лезвия мотыги летели искры, в солнечном свете похожие на водяные брызги, наждак скоблил закаленную сталь тонко и пронзительно.
– Бог на помощь, – насмешливо сказал Межов, когда утих визг металла.
Антипин вроде бы не расслышал, пощупал пальцем острие мотыги, не спеша поставил ее в угол и взял вторую. Пока не кончит свое дело, не заговорит. У него и дом такой же, как он сам, хмурый, прочный. Наверно, не одну бутылку леснику споил, пока достал такие кряжи. И сад вон за двором развел, и огород... День и ночь готов здесь копаться, а как для колхоза, так восемь часов отстучал – и кузницу на замок.
– Значит, у тебя дело, а я здесь вроде туриста? – сказал Межов, не подавая руки Антипину, наконец- то соизволившему обратить внимание на молодого председателя.
– Картошку окучить надо, – сказал Антипин. – Сушь стояла, а вот теперь она отудобит.
– А уборка?.. Я совки велел тебе на прошлой неделе сделать – где они?
– Жести нету, кончилась.
– Кончилась! Если для себя, так вы и жести найдете и чего угодно.
– То для себя!.. – Антипин вздохнул, улыбчиво поглядел на Межова. – На колхоз-то, говорят, надейся, а сам не плошай.
– Ты не плошаешь!..
Межов круто повернулся, захлопнул тяжелую калитку и пошел грязным проулком к конюшне. Навстречу ему попались десятка полтора женщин и девчат с корзинками и ведрами в руках – несли из леса первые грибы. Наверно, с зарей встали, свою выгоду не упустят и здесь.
Увидев председателя, женщины остановились, озадаченные нечаянной встречей. Вины за ними никакой не было, на работу нынче не наряжали, но все же неловко шастать по лесу в будний день. Они сбились толпой у избы сторожа Филина, смущенно оправляли подоткнутые мокрые подолы, нахлюстанные в лесной траве, очищали от грязи босые ноги.
– Вечером на работу, – сердито сказал Межов, еще не остывший после встречи с Антипиным. – Пойдем на тока, в ночную.
– Ночью-то милуются, а не работают, Сергей Николаевич! – сказала, смеясь, Ольга Христонина, местная красавица, с первого дня безуспешно завлекавшая Межова.
– Вот там и помилуемся. Лопаты захватите. Деревянные.
– Какая же любовь – с лопатами?
Не отвечая, Межов пошел дальше.
– Строгий какой, не подступишься! – обиделась Ольга. – И ведь молодой, неженатый.
– Потому и строгий, что молодой. Вас на коленки посади, а на шею вы сами залезете.
«Тетка Матрена», – определил Межов последний окающий голос. На пенсию пора, а все еще скрипит на своем курятнике – совестливая. После уборки надо ей полный пенсион дать. А с этой Ольгой... черт знает что с ней делать.
Конюх Гусман, заспанный рябой татарин, лежал тамбуре на сене, закинув руки за голову, и мурлыкал непонятную песню на своем языке. В конюшне пахло кожаной сбруей, отволглым свежим сеном и дегтем. Как на курорте живет. И обленился вконец.
– Заседлай-ка мне Вороного, на тока надо съездить.
– Ага, Вороной! – отряхиваясь от сена, торжествующе заулыбался Гусман. – Как сухо, так машина, а как грязно, давай Вороной! Наша Вороной и по сухо и по грязно ездит. Эх, председатель!
Гусман любил лошадей и ревниво относился к машинам, оттеснившим живую тягловую силу. Сейчас он обидчиво намекал председателю на недавнее решение правления сократить поголовье лошадей наполовину. Справедливое, в общем, решение.
Межов очистил пучком сена размокшие туфли, выбросил грязный пучок за ворота. Гусман покрикивал в конюшне на лошадей: «К стенка! К стенка держись!». Вскоре он вывел Вороного, набросил на него новое казацкое седло, затянул подпруги и, лихо вскинув руку к мятой теплой шапке, в которой он ходил и летом, отрапортовал:
– Готова, товарищ председатель! Край земля едишь, все хараша будит.
Межов легко сел в седло, нагнулся, чтобы не задеть головой косяк ворот, и сжал стременами бока Вороного. Он слышал, как позади причмокнул и потом что-то крикнул Гусман, но застоявшийся Вороной уже вынес его из конюшни и, разбрызгивая лужи, стремительно мчал по мокрой, сверкающей траве в поле. Он скрипел селезенкой и просился в намет, но Межов не отпускал повод, и Вороной бешено рысил, подняв голову и отбрасывая с копыт тяжелые шматки грязи.
Просторно, солнечно и тихо было в поле. Зеленые ряды лесополос разделили степь на правильные желтые квадраты вызревших хлебов, и красивые эти квадраты были светлыми и печальными. Посреди них и на концах разбрелись и стали безмолвные комбайны, они стояли там, где их застиг дождь, а вокруг волновались под легким ветром хлеба и будто кланялись им.
Дальний полевой ток обозначился одинокой будкой сторожа и ворохами зерна, открыто лежащими под небом. Среди ворохов торчали, высоко подняв железные шеи, два зернопогрузчика, поодаль маячила тонкая труба передвижной электростанции. Где-нибудь здесь бродит и одноногий сторож Семен Филин, ковыряя своей деревяшкой отмякшую площадку тока. Ни черта ведь не подумает что площадку портит, старый пень.
Межов перевел Вороного на шаг и, нагнувшись с седла, вырвал с корнем несколько пшеничных стеблей. Колос был сухим и уже вымолачивался, но соломина еще сминалась, мочалилась при разрыве, не ломаясь. К вечеру проветрит, и наутро можно будет пускать комбайны.
С левой стороны дороги лежали необмолоченные валки ржи, прибитые дождем к земле. Эти надо немедленно переворачивать, иначе прорастут.
Возле тока Межов спешился, привязал Вороного за столб осветительной сети и позвал Филина. В ответ послышался короткий басистый лай. Наверно, спит, на собаку надеется. Межов пошел к будке сторожа, но дорогу ему преградил Вихрь, рослый пес из породы овчарок.
– Не узнал, что ли? – спросил Межов.
Вихрь узнал, помахал хвостом, но в сторожку не пустил, встав у приоткрытой двери. Межов заглянул в окошко – на нарах лежали в ворохе стружек новая деревянная нога и кривой нож, Филина не было. Куда-то запропастился и ногу даже не доделал.
– Где же хозяин? – спросил Межов собаку.
Вихрь дважды тявкнул в сторону села и опять уставился на Межова. Межов вздохнул.
– Значит, один ты за весь колхоз работаешь? Эх, Вихрь, Вихрь, остаться бы мне агрономом или в аспирантуру поступить, что ли. Ну пойдем, поглядим твое хозяйство.
Межов направился к ближнему вороху, и, едва наступил на площадку тока, Вихрь сердито зарычал: площадка еще не просохла, от ноги остался четкий след.
– Ясно, – сказал Межов. – Веди тогда сам, если ты такой бережливый да строгий.
Вихрь побежал впереди вдоль площадки и остановился у второго вороха, где лежали мосточком две доски.
Межов прошел по ним, нагнулся и сгрудил рукой мокрый пласт ржи толщиной пальца в два. Зерно под ним было сухое, но низ вороха схватился с мокрой землей, прорастал. А ведь семенной...
Пшеничные вороха, к которым Филин тоже постелил дощечки, оберегая ток, уже горели. Межов сунул руку по локоть и сразу вытащил: зерно было горячим и ощутимо отдавало прелью. Пшеницу убирали напрямую, сорняк отвеять не успели, и вот пришел этот подлый дождь. Пропадет, если сегодня же не провеять раза два.
Ячмень гоже грелся. Межов помял в горсти теплое зерно, понюхал и протянул его собаке. Вихрь понюхал и обиженно чихнул.
– Вот видишь, – сказал Межов. – А хозяин твой картошку, наверно, побежал окучивать, о себе только думает. Где хозяин?
Вихрь помахал хвостом и побежал к сторожке, оглядываясь и как бы приглашая следовать за собой. У сторожки он показал широкий след сапога и след деревянной ноги – круглые ямки. След уходил в сторону села степью. По залогу ударился напрямик, старый черт!
Межов съездил на ток второй бригады и, убедившись, что неотвеянное зерно тоже греется, отругал сторожа и возвратился в село уже в обед, разъяренный до тихого бешенства. Не доехав еще до конюшни, он услышал частый тревожный звон набата и хлестнул Вороного концом повода по шее. Одна беда не ходит, еще что-то случилось.
Нахлестывая жеребца, он рыскал напряженным взглядом по селу – признаков пожара не было, но по улицам бежал народ, и тревожный звон не утихал, торопил, созывал к себе.
Когда Межов подскакал к правлению, на площади перед ним уже собралась довольно большая толпа, посреди которой колченогий Филин колотил тележным шкворнем в кусок рельса, подвешенный на столбе.
– Чего трезвонишь? – крикнул Межов, наезжая на толпу.
– Хлеб горит, народ подымаю, – деловито сказал Филин и опять застучал по рельсу.
– Хватит, – облегченно сказал Межов, – поднял уже. Трезвонишь, а прийти в правление не догадался.
– Дожжик, когда придешь-то. Вот кончился, и пришел, да вас нету, а Метелин в третью бригаду, слышь, уехал.
Межов уже не слушал и обратился к толпе.
– Товарищи! – Он поднял руку и привстал на стременах.
– Как Чапаев! – послышалось из толпы насмешливое. Межов не выдержал:
– По домам своим сидите, мотыги точите, в лес грибками наладились, а хлеб дядя вам спасать будет?! Какие же вы, к черту, хозяева, если на обоих токах зерно греется! Ну, чего молчите?!
– Откуда мы знали, – проворчал кто-то в толпе.
– Не знали? А что дождь трое суток хлестал, вы тоже не знали?! Не крестьяне вы, что ли? Вот старик, – Межов показал на мокрого, грязного Филина, – за шесть километров на одной ноге пришел, а вы не чешетесь, пока гром не грянет, черти сиволапые! Председателей ругаете, а вы же здесь хозяева, вы сами...
– Ты не ори! – закричала из толпы тетка Матрена. – Ты скажи толком, рассуди, а не с бухты-барахты.
– Правильно.
– На ток-то сейчас не влезешь – грязь.
– Сейчас не влезешь, а к вечеру проветрит! – крикнул Межов, покрывая ропот непрерывно растущей толпы. – Если все выйдем, то мы в одну ночь перевеем и спасем зерно. Захватывайте с собой лопаты, ведра, мешки и собирайтесь здесь. Поедем часа через три-четыре. Шоферам бортовых машин быть здесь с машинами.
– Вот так сразу бы и говорил, а то чертыхается...
– Молодой, погорячился.
– Выйдем, председатель, все пойдем, не сомневайся.
– Неужто хлебу пропасть дадим – не маленькие, понимаем.
– Добро. Только все собирайтесь, другого наряда не будет.
Межов отогнал лошадь на конюшню, пообедал, поговорил со своей хозяйкой, молодящейся старой девой, которая отказалась идти в ночную, сходил в гараж к шоферам, и, когда возвратился, у правления уже опять гудел народ с деревянными лопатами, ведрами, мешками, бабы захватили на всякий случай даже вилы и грабли.
В толпе Межов разглядел и вдову Пояркову, и Ольгу Христонину в голубой кофточке, с накрашенными губами, и тетку Матрену, и конюха Гусмана с двумя сыновьями – школьниками старших классов – все село собралось здесь, затопив площадь перед правлением. И его хозяйка, обиженно поджав губы, пристала сбочку, слушая говорливую соседку.
На крыльце правления агроном Метелин, он же секретарь парторганизации, держал речь:
– А поскольку дело общее, артельное, не подкачайте. Кто с граблями и вилами, отделяйтесь – поедете валки переворачивать. С ведрами и лопатами – на тока. Поедем двумя партиями: кто на ближний ток, поедет со мной, на дальний – с председателем. Эй, Сережка! – крикнул Метелин шоферу, остановившему свой грузовик позади толпы. – Вези народ с граблями на ржаное поле.
– На одной машине не поместимся!
– Вон еще две идут. Васили-и-ий, рули сюда!
– По одной, бабы, по одной влезайте, не торопитесь.
– Эх, ногу-то закинула... Вот эт-та нога-а-а!
– Марья! Марью-у-ушка! Трубу у меня закрой – забыла.
– Отвернись, бесстыдник, чего выпялился!..
– Пошевеливайтесь, колхознички!
Площадь колыхалась и гудела разноголосо и весело, в кузова со звоном падали ведра, урчали машины, пыхая бензиновым дымком, тявкали, переживая общее возбуждение, собаки.
Межов пошел к машинам и, двигаясь сквозь толпу и встречая приветливые лица, с радостью понял, что он близок всем этим незнакомым людям и они понимают его заботы и тревоги.
На первых грузовиках уехало более полутора сотен человек, а площадь все еще бурлила народом – вышло все взрослое население. Только третьим рейсом грузовики смогли забрать последних, да и то две машины были явно перегружены.
На току уже хлопал движок электростанции, непросохшая площадка была покрыта брезентом и старыми мешками, зернопогрузчики выкатили на ветер для очистки пшеницы, а два зернопульта уже кидали в небо желтые струи ячменя. Семен Филин хромал между ворохами на новой деревяшке в сопровождении повеселевшего Вихря и по-хозяйски покрикивал на баб, лопативших рожь.
– К нам, Сергей Николаич, к нам! – крикнула вдова Пояркова, когда Межов спрыгнул с последней машины.
– Молодые с молодыми, – ответила ей Ольга, подхватывая Межова под руку. Она ехала с ним на одной машине.
– К нам иди, председатель, – пригласила тетка Матрена.
Вся обширная площадка тока кипела говорящими людьми, гудели очистительные машины, и этот слившийся, дружный шум звучал сладкой и радостной музыкой.
Межов сбросил на землю пиджак, закатал рукава рубашки и, взяв широкую лопату, встал рядом с Гусманом к зерномету. Машинка эта, величиной с табуретку, оказалась на редкость прожорливой, ее никак не удавалось завалить зерном, почти мгновенно взлетавшим в небо толстой пожарной струей. Даже ветер не сгибал ее, а сносил в сторону лишь сорняк и неотбитую полову.
– Сильный! – кричал удивленно Гусман. – Сильнее двух лошадь будет.
Над площадкой стояло облако пыли, сносимое на стерню, ревели предельно загруженные машины, пахло горячей прелью, а хромой Филин, взобравшись на ворох, кричал с безумной радостью:
– Жми, едрит твою в сантиметр, наворачивай, выручай Семку Филина! Эх соколы – вороньи крылья, задавим капитализьму!
Но и он недолго покрикивал, захваченный общим подъемом. Взял метлу, надел на плешивую голову мешок, чтобы не хлестало зерном, и начал сметать мусор с вороха. Ловко сметал, размашисто. А рядом, поминутно перекликаясь, суетились у соседнего вороха женщины.
– Сергей Николаевич, вызываю на соревнование! – крикнула Ольга, опрокидывая в пасть зернопульта ведро с ячменем. – Всю бригаду вызываем!
– Не возьмутся они, слабо! – поддержали женщины.
– Давай! – крикнул Межов, смахнув локтевым сгибом пот со лба и орудуя лопатой. – Гусман, не подкачай! Ребята, покажите-ка мужскую хватку!
На закате солнца приехал на лошади Антипин и привез два десятка легких совков. Он сложил их к ногам Межова и сказал, что он своему колхозу не враг, а верный и первеющий помощник.
– Только за жесть ты мне уплати, председатель, дом хотел перекрывать после жнитва.
– Ладно! – крикнул Межов весело. – Становись рядом, а то нас прижимают.
– Соревнованье? – Антипин усаживался в телегу. – Это можно. Вот лошадь поставлю к месту.
Он отогнал лошадь к будке, распряг, дал ей овса и возвратившись, встал рядом с Гусманом. Он быстро разогрелся в общей работе и кидал новеньким совком играючи.
– Дай-ка мне лопату, председатель, – попросил он, глянув на взмокшего Межова. – Совок возьми, он полегше.
Межов взял совок, а Антипин стал ворочать широченной лопатой. Зерномет заревел, струя зерна встала неколебимо, как шлагбаум, и у соседнего вороха бабы закричали обеспокоенно:
– Перегоняют, перегоняют! Филин, дядя Семен, иди к нам сметать.
– Ягодки вишневые, с радостью!
– И старуху забыл, кобель лысый!
– Семка, не охальничай!
– Пропал твой старик, Прасковья...
Лопатки у Антипина ходили под рубахой, как плиты, лицо почернело от пыли, и в электрическом свете, который неизвестно когда включили, ярко блестели белки глаз да зубы.
– Кончаем! – крикнул Межов, сгружая совком остатки зерна. – Молодчина ты, Антипин, мастер, а не работник.
– Эй, бабы, у нас все! – крикнул Антипин весело и смущенно. – На буксир, что ли, взять?
– Заканчиваем, нажми, бабоньки!
– Все! – выдохнул Антипин, бросая лопату. – Выключай машину.
Вскоре затих зернопульт и у соседнего вороха. Ольга прибежала донельзя грязная, черное лицо было в разводах пота, губы запеклись, кофточка потеряла цвет и стала серой, но Межову показалось, что красивей ее сейчас нет и не может быть на свете. Так ярко блестели ее фарфоровые зубы, так горячо горели большие глаза, и русая прядь, свесившаяся на щеку и забитая пылью, была такой родной и милой, что хотелось бережно поправить ее и сказать девушке что-то ласковое, нежное.
– Не по правилам! – кричала Ольга, наступая на Межова. – Так нельзя, вы Антипина приняли после уговора!
– А с вами работал Филин! – крикнул Межов, тоже забывая, что можно не кричать, машины затихли.
– Филин позже пришел, позже!
– На пять минут.
– Все равно. Он старик, и он только сметал, а у него, – Ольга схватила Антипина за руку, – у него вон какие лапищи!
– Добро, – сказал Межов. – Сейчас по второму разу начнем, и тогда глядите.
– Поглядим! – крикнула Ольга, убегая. – Давай, бабы, перекатывай таратайку.
Межов с Антипиным тоже перенесли свой зерномет и установили у края вороха. Зерно уже не пахло прелью, мусор отлетел, и работа пошла веселее.
– Слышь, председатель! – крикнул Антипин. – Ты не того, не надо платы. Мы люди свои, для колхозу не пожалеем.
– Какая плата? – забыл уже Межов.
– За жесть-то. На дом у меня хватит, а сени под тесом простоят.
С другого конца тока прибежал черный, как негр, и потный бригадир Кругликов и сказал, что они все закончили, два раза ворох пшеницы пропустили.
– Давай на помощь бабам! – распорядился Межов.
Вскоре прибежала Ольга и за ней пять девушек и дна парня.
– Бери их, председатель, нам лишнего не надо. Раз соревнуемся, значит, поровну надо.
С прибывшим пополнением они так загрузили зерномет, что он забился и встал. Прибежал механик и ругал Межова и его бригаду, и это вышло просто, никто не удивился и не обиделся. И Межов не обиделся, что механик костерит его на народе почем зря.
К полуночи работа была закончена, машины стихли, простучал и смолк последним движок электростанции. В лунном свете четко вставали крутые, похожие на пирамиды вороха отвеянного хлеба, и между ними толпились фигурки людей, собиравших инвентарь, одежду, подметавших площадку. Они и не подозревали сейчас, какие они сильные и красивые, не знали, что Межов любит их и гордится ими. Он больше не чувствовал одиночества, он был сейчас родной частицей дружного коллектива, он тоже был сильным и знал, что его любят и в него верят.
Закончив уборку площадки, люди веселой толпой повалили к сторожке умываться. Семен Филин нанял свое место у бочки, доставал черпаком воду и сливал на руки подходившим по очереди колхозникам. Они мылись с наслаждением, шумно отфыркивались, смеялись, брызгали водой друг на друга. Когда подошел Межов, его уважительно пропустили вперед, не слушая его протеста, весело загалдели, дружески подтолкнули к бочке.
– Мойся, председатель, чище, дело сделано!
– Крепкий мужик, хоть и молодой.
– Сразу видно крестьянского человека.
И эти откровенные похвалы радовали Межова, и он знал, что на работу завтра выйдут все и ни кто не будет жаловаться, что не отдохнул или не успел окучить свою картошку. Он твердо верил в них, а они верили в него, и это надо было как-то закрепить, упрочить. Он отозвал в сторону бригадира сказал ему, что людей как-то надо поблагодарить, сказать что-то хорошее, доброе.
– Зачем? – удивился легкомысленно Кругликов. – Ничего не надо, и так хорошо.
– Вряд ли, – заколебался Межов, чувствуя не утихающее волнение и благодарность ко всем этим малознакомым людям.
Когда все умылись и были уже готовы рассаживаться по машинам, Межов попросил минутку внимания. Его доверительно окружили, предложили встать куда-нибудь повыше, повиднее – на грузовик или вон хотя бы на телегу Антипина.
– Ничего, – сказал Межов, волнуясь, – у меня несколько слов.
– Валяй! – крикнул Филин с порога своей сторожки.
– Да ладно, чего там, поехали.
– Постой, человек сказать хочет. Говори, председатель.
– Вы сегодня хорошо поработали, – сказал Межов в наступившей тишине. – Очень хорошо, товарищи! Я искренне рад, что встретил такой дружный, такой спаянный общими интересами коллектив. Позвольте мне от имени правления нашего колхоза выразить вам благодарность за ваш самоотверженный труд и спасение общественного добра...
Договаривая последние слова, Межов вдруг почувствовал, что они падают в пустоту, что прежняя связь с людьми неожиданно порвалась и он сказал что-то лишнее, ненужное. Толпа немо стояла, ждала и была она сейчас далекой и такой же чужой, как в день его приезда. И лиц нельзя было разглядеть, потому что луна нырнула в облако, стало сумрачно, и в ним тягостном немом сумраке угадывались только тени людей. Когда снова стало светло, все потянулись к машинам, влезали устало, без шуток и смеха, кто-то из баб швырнул в кузов зазвеневшее ведро, на нее заворчали, чтобы не шумела, и так уж голова гудит от шума, а тут взбрыкивают.
– Потерпишь, – раздраженно ответили на ворчанье.
Межов узнал голос Ольги и удивился, что она уезжает с первым рейсом: она всегда старалась быть у него на глазах и сюда ехала вместе с ним, всю дорогу пела, а вот теперь... И хозяйки его рядом не было, и Гусман сел в первую машину.
Произошло что-то важное, непонятное и обидное, и, когда машины ушли, Межов направился к оставшимся колхозникам, которые расположились за будкой, на траве, ожидая своей очереди. Они о чем-то переговаривались, но, когда Межов подошел, смолкли, он ухватил только разочарованное: «...такой же, как прежний... начальничек, казенный товарищ...» Сидевший здесь же сторож Филин поднялся и заковылял к току, ворча, что площадку, пожалуй, испортили, завтра придется расчищать заново. За ним понуро поплелся усталый от беготни Вихрь.
– Завтра не наряжайте на работу, товарищ Межов, – сказала Пояркова, повязывая платок и заправляя под него волосы. – Отдохнуть надо.
– Так ведь комбайны пустим завтра, как же без вас?
– А это уж вам виднее, на то вы и хозяева.
Больше никто не сказал ни слова, но Межов почувствовал, что колхозники молчаливо поддерживают ее, считают ее своей, а он уж отделился от них, встал по другую сторону, и отделение это произошло не тогда, когда они вместе работали, смеялись и умывались, а после этой несчастной речи, когда он благодарил их за работу.
Межов отошел к будке сторожа, где Антипин запрягал лошадь, и закурил. Антипин, по обыкновению, молчал, не обращая на Межова внимания, но, когда запряг и сел в телегу, сказал, подбирая вожжи:
– За жесть вы мне, товарищ председатель, все ж таки заплатите, мне сени покрыть надо.
– Ты же говорил, под тесом простоят?
– Ну и что? Говорил. А теперь передумал.
– Да что вы какие сегодня все?! – обиделся Межов.
– Мы всегда такие, – сказал Антипин, сердито дернув вожжи. – Н-но, трогай, черт, задумалась, кнута захотела
И телега дернулась, застучала по невидимым ухабам, заторопилась в ночь, стуком своим говоря, что земля подсохла и завтра можно опять начинать прерванную дождем работу. Начинать почти заново.
1965 г.
ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА ГУЛЯЕВА
СООБЩИ ТАМ ТЫ ИЛИ НЕТ ТЧК ГУЛЯЕВ
Я прочитал телеграмму вслух, и рассыльная из почтового отделения засмеялась.
– Отвечать будете? – спросила она, скаля веселые зубы, молодые и белые. – Могу захватить, бланки у меня есть.
Видно, очень хотелось ей узнать, что я отвечу на такую нелепую телеграмму, вот она и предлагала свои услуги – чтобы потом посмеяться с друзьями и лишний раз показать свое фарфоровое богатство.
– Надо подумать, – сказал я.
– А чего думать, пишите: «Меня нет»! – И, подавая телеграфный бланк, опять засмеялась.
Тут же, в прихожей, я написал адрес Гуляева и сообщил два слова: «Я здесь».
Рассыльная взяла бумажку и сорок копеек и выпорхнула за дверь. Стук каблучков на лестничной площадке на миг замер – читает, – потом рассыпался мелкой дробью вниз до подъезда. Наверно, бежит и улыбается.
У Гуляева в молодости тоже, говорят, были кипенной белизны зубы – может, поэтому он и любит смеяться. Сейчас уж и зубов, поди, не осталось, а все не успокоится, деревенский хохмач. Надумал, видно, приехать и вот по-своему спрашивает разрешения, предупреждает.
Впервые я услышал о Гуляеве лет десять назад, работая в районной газете.
Как-то осенью в редакцию пришло письмо нашего селькора из Сосновки о том, что собака пенсионера Гуляева лижет чурбаки и что мы должны пресечь это безобразие, поскольку общественность Сосновки не обращает должного внимания на такой позорный факт. Идиотское, в общем, письмо. Когда редактор сказал о нем на летучке, я подумал, что селькор решил посмеяться над нами, районными газетчиками. «Собака лижет деревянные чурбаки...» Ну и черт с ней, пусть лижет, если ей это нравится. Может, она вегетарианкой решила стать, травой питаться, как коза, вот и пробует на вкус чурбаки, выбирает.
Однако наш мудрый, к тому же местный, проживший в этих краях сорок лет, редактор усмотрел в письме какую-то тему и послал меня в Сосновку «проверить факты». Провожая меня, кипящего от возмущения, он сказал, что сержусь я по своей молодости и неопытности, что задание ответственное и он надеется получить интересный материал. «Заодно и с хозяином собаки познакомишься, – добавил он с улыбкой. – Гуляева вся округа знает, четверть района».
Скажите, какая радость – знакомиться с владельцем собаки, которого знает десяток заречных деревень! И с автором идиотского письма. Всю жизнь мечтал! Хоть бы мотоцикл отремонтировали для таких знакомств, придется полдня тащиться по грязным проселкам.
Десять лет прошло, а я и сейчас не могу спокойно вспоминать об этой поездке. Мотоцикл у нас был М-72 с коляской – сильная, но тяжелая и донельзя истрепанная машина. Две передачи – вторая и третья – у него не работали, и, чтобы добиться какой-то скорости (ведь охлаждение воздушное, двигатель греется на малом ходу), я выезжал на горку, разгонял его на первой передаче и сразу втыкал четвертую. Двигатель натужно хлопал, дымил, задыхался от перегрузки, а я газовал, двигал рычажком опережения зажигания, подрабатывал муфтой сцепления и готов был бежать рядом, лишь бы он не заглох и набрал нужную скорость.
Сорок километров до Сосновки я преодолел тогда за три с лишним часа. Осенние проселки были разбиты и грязны, мне приходилось не раз везти мотоцикл на себе, и в Сосновку я притащился весь мокрый и грязный.
Селькор жил в центре, недалеко от базара, только и площадь перейти. Маленький такой, политичный мужичок с претензиями. И дом у него был тоже маленький и тоже с претензиями: на коньке прибита большая раскрашенная звезда, выше нее – шест с флюгером, а над серединой крыши, недалеко от дымовой трубы, поднимался еще один шест, из которого торчал металлический стержень громоотвода. Мол, знайте, тут не просто мужик обитает, а живет советский колхозник, не чуждый науке и технике. Рядом стояли дома куда выше, причем под железом, и если молнии ударить, то уж в них ударит, а не в эту приземистую хибару.
Селькор встретил меня у крыльца – видно, узнал редакционный мотоцикл: меня он не мог знать, поскольку я работал в районе всего два месяца.
– В магазин, понимаешь, собрался, – сообщил он, подавая мне руку. – Очень приятно познакомиться с новым коллегой. Шапку, понимаешь, я мог бы купить и позже, но он как раз туда пошел, и надо, понимаешь, посмотреть.
– Кто «он»? – спросил я, оглядывая свой заляпанный грязью плащ. И ботинки были в грязи, и брюки, и лицо, наверное. Я провел рукой по лицу – нет, вроде сухое. А руки дрожат от долгого напряжения, мотоцикл исходит паром, как загнанная лошадь.
Ах, с каким бы наслаждением двинул я этого ревнителя собачьего поведения по его сухой озабоченной мордочке! Шапку ему надо купить, собака чурбаки лижет – ах, сколько у него хлопот!
– Глина, понимаешь, – ответил селькор невозмутимо. – То есть Глина по-уличному, а по паспорту гражданин Гуляев. О нем я и писал в редакцию.
Вот как даже – гражданин. Уже преступником считает.
– А вас как по-уличному? – спросил я, не заботясь о такте.
Селькор поглядел на меня снизу, пристально так посмотрел, подозрительно. И смутился. Как-то хорошо смутился, по-детски, я пожалел о своей бесцеремонности.
– Понимаешь, – сказал он. – Я часто употребляю это слово, вот и прозвали Понимаешь. Идемте, а то он уйдет.
Сельмаг был неподалеку, и мы больше не сказали друг другу ни слова. Понимаешь деловито бежал впереди меня, часто поправляя вытертую теплую кепку с длинным козырьком, налезавшую ему на глаза, я отряхивался, как гусь, и сбрасывал на ходу грязь с плаща. Не на маскарад ведь приехал, а за материалом, «задание ответственное», представитель прессы, корреспондент, ох, господи!
В магазине были две бабы да крупный бородатый старик в полушубке и валенках с галошами.
– Он, – шепнул мне Понимаешь.
Знаменитый Гуляев (Глина) стоял у прилавка и вертел в руках большой бочковый кран, открывая его и закрывая. Бабы перебирали несколько теплых шалей с кистями.
Мы встали в очередь за Гуляевым. Он глянул сбоку на Понимаеша, прищурился в усмешке:
– A-а, старый друг! Привет, Понимаешь, привет. Давно не видались.
– Добрый день. – Понимаешь притронулся к козырьку своей теплой кепки и обратился к продавщице: – Мне шапку, пожалуйста.
А Гуляев уже повернулся к нам – рыжебородый великан с крупными, чуть тронутыми желтизной зубами, веселый, распахнутый весь, как его новый полушубок, – и, показывая кран, сообщил:
– Бражки наварил к празднику. Бочонок, понимаешь. И вот к нему кран – цеди, пей за сорок второй год новой жизни. Придешь выпить?
Понимаешь значительно поглядел на меня: каков, мол, тип!
– Напрасно отвернулся, – не отставал Гуляев. – Вместе мы эту жизнь налаживали. Как одна душа.
Понимаешь следил за продавщицей, выбиравшей шапки.
– Никогда мы одной душой не были, – сказал он.
– Вот те раз! – Краснорожий Гуляев громогласно захохотал. Зубы у него были почти белые, прочные, не сточенные временем: крепкая кость. – Да мы с тобой век не расстанемся, а ты – не были! Соратники, можно сказать!
Продавщица отобрала две черные шапки и неуверенно поглядела на Понимаеша:
– Не знаю, подойдут ли?..
– Пусть примерит, – сказал Гуляев, – голова у него с собой.
Голова Понимаеша, маленькая, седая, с длинным шрамом с правой стороны, подошла к первой же шапке, он расплатился, и мы вышли.
– Обмой покупку-то, – сказал вслед Гуляев и засмеялся.
– Вот такой он всегда, – сказал Понимаешь грустно. – Пристанет как мокрая глина, и не отлепишь. Прозвище это я ему дал, а он меня Понимавшем назвал. Давно уж, лет сорок, понимаешь. Вон, вон, она побежала, глядите! – Понимаешь показал в сторону сельского базара, куда бежала косматая лопоухая дворняга. – Вот сейчас увидите.
Собака пересекла площадь и остановилась за торговыми рядами, где стояло несколько деревянных чурбаков. Она обнюхала один из них, поднялась на задние лапы и стала лизать торец чурбака.
– Видите! – торжествующе сказал Понимаешь. – На них мясо рубят, вот она и лижет. И другие собаки разнюхали. Но это, понимаешь, один антисанитарный факт. А другой – мясо продают неклейменое: и гусей, и кур, и баранов. В-третьих, могу сообщить достоверно, понимаешь, что...
Мой материал прояснялся и обещал быть если не интересным, то дельным и содержательным. Понимаешь оказался вдумчивым наблюдателем.
Я побывал в правлении колхоза – дополнительные факты; зашел в сельский Совет – новые сведения; встретился с врачом местной больницы – выслушал целый обвинительный акт:
– Мы лечим, а они калечат. Молоко продается непастеризованное, воду берут из открытых водоемов и колодцев, биологические часы не соблюдаются, желудочно-кишечные заболевания летом...
Очень серьезный и даже интересный получался материал. Подвальная статья строк на двести пятьдесят.
Заночевать я решил у Понимаеша, но, возвращаясь из больницы, встретил директора школы Плакитина, с которым познакомился на августовских учительских совещаниях.
– Я вам кое-что о селе расскажу, – пообещал он, пригласив меня к себе. – Замечательное, знаете ли, у нас село.
Высокий худой Плакитин – ему было под шестьдесят – представлял собой яркий тип беспокойного племени сельских просветителей-подвижников, свято верящих в свое благородное дело и отдающих ему всю жизнь. Кроме преподавательской работы и обязанностей директора он выполнял массу общественных поручений, являясь депутатом сельского Совета, руководителем лекторской группы, председателем избирательных комиссий – не перечислишь всего. Но главным делом, своим жизненным призванием Плакитин считал краеведение. В этом я окончательно утвердился, оказавшись в его просторном пятистенном доме из крупных сосновых бревен.
Поначалу я даже не понял, что мы в жилом доме – скорее, сельский музей или исторический кабинет по изучению сельского хозяйства; все здесь было забито крестьянской утварью разных времен, предметами бытового и рабочего обихода, одеждой, обувью.
Одна половина дома с отдельным входом, разгороженная на две комнаты, была полностью оформлена как музей села Сосновка, во второй, жилой половине было его продолжение.
Плакитин завел меня в кухню, где хлопотала седая женщина, разжигавшая медный самовар, познакомил:
– Моя жена Серафима Григорьевна. Обратите внимание, в ней много булгарского: она коренная жительница, а здесь пять веков назад обитали волжские булгары, или болгары, как теперь произносят. Если помните по истории, столицей их был город Булгар Великий, его развалины сравнительно недалеко от нас, в Татарии.
Серафима Григорьевна засмеялась:
– Ты скоро меня как экспонат выставишь и табличку на шею повесишь.
– В этом нет необходимости, – серьезно сказал Плакитин, – но почему не продемонстрировать, если человек интересуется. А вот самовар прошлого века – труба уже прогорела, новую поставил и пользуюсь...
Продолжая объяснять и показывать, Плакитин повел меня в свой музей и прочитал целую лекцию о поселениях волжских болгар, показал древние топоры, наконечники копий, мотыги для обработки земли, черепки, кости.
Вечером мы сидели на скамейке семнадцатого века, пили чай из самовара прошлого столетия, и Плакитин рассказывал о нынешнем: об установлении Советской власти в Сосновке, о первой коммуне, о коллективизации.
Серафима Григорьевна, видно, знала эти истории наизусть и только снисходительно улыбалась. Правда, когда Плакитин стал рассказывать о коммуне, она обронила с любовной усмешкой:
– Активист ты был известный. Вроде Понимаеша. Если бы не Глина, вы бы теперь в коммунизме были.
– Напрасно иронизируешь: именно из-за Гуляева наша коммуна распалась.
– Их же все равно распустили.
– Распустили, но нашу прежде других.
Они заспорили, вспоминая свою молодость, и я узнал историю местной коммуны, организованной бедняками сразу после гражданской войны.
Председателем коммуны был единственный сельский большевик Понимаешь, бывший батрак, в заместители ему назначили недавнего красноармейца Гуляева, белозубого богатыря в кавалерийской шинели, а бумажными делами у них ведал Плакитин, молодой сельский учитель.
– Русская тройка, – улыбнулась Серафима Григорьевна. – Каждый день собрания, голосования...
– Допустим, не каждый, но часто, – сказал Плакитин, – Люди учились коллективно работать, жить – разве непонятно?
– Да понятно, я не об этом. Горячо уж очень взялись, веры много было, чистоты, бескорыстия. Как дети!
– Да-а, – вздохнул Плакитин, мечтательно прищурив глаза, – как дети. Славное время, незабываемое!
Дальше я узнал, что коммуна жила бедно, объединились в нее безлошадные крестьяне да батраки, инвентаря и тягла было недостаточно, государство большой помощи оказать не могло. Но жили дружно, последний кусок делили на всех, общие вопросы решали коллективно, открытым обсуждением и голосованием.
– А Гуляев такой человек, что любое дело может довести до абсурда и осмеять, если заметит непорядок, – рассказывал Плакитин. – Нашего председателя вызвали на губернское совещание по вопросу сева, а Гуляев важность на себя напустил и давай собрания созывать два раза в день: рано утром разрабатываем меню, после работы обсуждаем репертуар культурного вечера. И ведь меня уговорил, убедил: «Как же, говорит, кормить людей, не зная, чего они хотят!» Ну и голосовали: «Кто за то, чтобы варить щи и кашу, поднимите руку!» Всю коммуну собирали. А вечером опять: «Что будем играть на балалайке?» Бабы кричат: барыню, мужики – яблочко. Гуляев рад этому разногласию, заводит серьезное обсуждение, ставит на голосование. А у баб ребятишки, хлопот полно, не до обсуждения. Словом, задергал коммуну. А председатель, как на грех, задержался, половодье началось – две недели его не было. И что вы думаете? Он, этот Глина, председателя же и из партии исключил. Тот приехал, созвал собрание, чтобы обсудить план весеннего сева, а Гуляев выступил и говорит: вот, мол, товарищи коммунары, какой у нас председатель, уехал на три дня, а пробыл полмесяца. «Да я только на день к матери заехал, – объясняет тот, – половодье задержало». – «Ты же знал, что сейчас весна? Как же ты личное желание поставил выше общественных интересов?! Какой же ты после этого коммунист, какой большевик!..» И так расписал, что совестливый Понимаешь билет по его требованию на стол выложил, а мы проголосовали за исключение. Единогласно. Потом-то мы поняли и Понимаешь опомнился, поехал в уком партии, но там секретарь был строгий и отобрал билет совсем. «Если, – говорит, – ты отдал билет беспартийному собранию, то рано тебе его иметь, не дозрел еще».
– Ты про себя расскажи, – засмеялась Серафима Григорьевна. – Ловко он тебя надул с булгарскими захоронениями.
Плакитин смутился, обидчиво помолчал, но потом чувство юмора, видно, взяло верх, и он рассказал, как вскоре после войны он раскапывал со школьниками курган недалеко от Сосновки и как Гуляев дал ему подножку.
Раскопки уже приближались к концу и ничего не обещали, когда один из школьников обнаружил у подошвы кургана человеческий скелет на глубине двух метров и черепки глиняной посуды. Конечно, это была ценная находка. Плакитин дал сообщение в районную и областную газеты, а потом, когда рядом с этим захоронением были обнаружены конские черепа и кости, приезжал корреспондент областного радио и сделал большую передачу.
И тут грянул гром: проклятый Гуляев сообщил, что конские кости он сам перенес из старого скотомогильника, черепки тоже раскопал на сельской свалке, а человеческий скелет, оказалось, принадлежал конокраду, убитому за селом накануне революции.
– Вот ведь какой человек! – сердился Плакитин, заново переживая свой археологический позор. – Я об открытии мечтал, волновался, а Глина ночи не спал, чтобы это осмеять. Он и костерище нам туда подсунул, и черепки были такие старые, закопчены так искусно, что никаких сомнений... Ужасный человек, непонятный.
Перед сном мы вышли с Плакитиным во двор и услышали далекие переборы двухрядки и знакомый густой голос:
Светит месяц в полушубке,
На трубе чулок поет.
Она моя вон идет –
По стене верблюд ползет!
– Старуху свою веселит, – сказал Плакитин. – И опять на свой лад, по-гуляевски. Песню выбрал какую-то вертикультяпистую. Может, сам и сложил.
Я вспомнил разговор о бражке в магазине, – значит, Гуляев правду говорил, а не просто дразнил Понимаеша.
– Он всегда правду говорит, – сказал Плакитин. – Только правда его так повернута, что ее нельзя принять без смеха. Он под горой живет, рядом с Куркулем – есть у нас такой, дом у него как крепость, сад большой, – так он и того Куркуля терсучит. Прошлым летом бросил ему в уборную пять пачек дрожжей, чуть не утопил в дерьме. Оно взошло на жаре, забродило и весь сад-огород залило. А Глина с него же плату стал требовать: я, говорит, новый способ внесения удобрений показываю, на будущий год у тебя урожай подымется, вот посмотришь. А урожай и вправду поднялся на редкость...
Утром я встретился в правлении колхоза с молодым председателем, недавним выпускником сельхозинститута, который остался верен родному селу, и услышал восторженную оду старикам Сосновки.
– Замечательные люди, чудесные! – пел председатель. – Столько в них жизни, энергии, оригинальности! Вот хотя бы Понимаешь, селькор. Над ним вроде бы подсмеиваются, но вы не знаете, как его любят в селе. И знаете почему? Потому что он доверчив, бескорыстен, чист перед людьми. А Плакитин, наш директор! Ведь это его заслуга в том, что большинство выпускников нашей школы остаются в колхозе. Он своими лекциями, музеем, организацией культурничества всей интеллигенции, которую он возглавляет, сделал Сосновку историческим селом. Значимости ей придал, ценности. Даже Гуляев, – председатель невольно улыбнулся, – родной колхозу человек, хотя он вроде и не числится в активе, скорее наоборот. Однажды он уполномоченного из области так осмеял, что с тех пор к нам только специалисты приезжают, а разные там вдохновители, толкачи – боятся.
После такой аттестации не познакомиться с Гуляевым поближе было бы непростительно. И хотя свободного времени оставалось немного, я отправился к нему на Подгорную улицу.
Дом Гуляева если и выделялся среди других домов, то скорее своей бедностью. Крыша, правда, была тесовая, но уже ветхая, поросшая зеленым мхом, двор огорожен в три жерди, как загон для скотины, позади чернел огород с жухлой картофельной ботвой, и только в палисаде перед окнами догорал большой и ухоженный цветник. В Сосновке я таких не видел еще.
– Неужто ко мне? – спросил Гуляев, с улыбкой глядя, как я стараюсь открыть перекошенную калитку во двор. – Ударь ногой понизу, она и откроется.
Я ударил, калитка послушно распахнулась и захлопнулась за мной, отброшенная большой ржавой пружиной.
Гуляев сидел на крыльце с петухом в руках, рядом лежали куски жести, плоскогубцы, молоток.
– Вот петуха вооружаю, – сказал он как старому знакомому и кивнул на ступеньку рядом с собой: – Садись, я сейчас кончу. Клеветон писать приехал?
– Нет, не фельетон, – сказал я, – но вроде того. Где у вас собака? Опять на базар послали чурбаки лизать?
– Я не посылал, сама додумалась, – сказал Гуляев, протягивая мне петуха. – Подержи-ка, я вторую шпору ему окую. Забил куркульский петух, надо применить технику.
Большой петух с красным гребнем и длинными пламенными сережками больно клюнул меня в подбородок и оцарапал руку окованной шпорой. Гуляев подул на него: «Не серди корреспондента!» – и стал надевать на вторую шпору жестяной острый наконечник, вырезанный из консервной банки. Надев его с большой бережностью и серьезностью, обжал плоскогубцами края, чтобы наконечник не слетел, и выпустил петуха, сразу сердито закричавшего, во двор к курам.
– Вот теперь ты боец, – сказал он, разглаживая рыжую бороду и довольно скаля зубы. – Настоящий куриный жеребец! Конь! У меня в гражданскую такой же красный и бойкий был, ничего не боялся.
– Петух?
– Конь, какой же петух! Воевал на нем полтора года. – Гуляев погасил улыбку, вздохнул. – Умница был, только говорить не умел. Да и не стал бы он говорить, если бы умел. Об чем говорить? Смерть кругом, драка всесветная, разор... Вихрем его звали...
И с глубокой печалью – такой я не замечал в нем позже – Гуляев рассказал о Вихре, который бесстрашно нес его на пулеметы, сшибал грудью боевых коней из белогвардейской конницы, а однажды вынес его, раненного, с поля боя, которое осталось за беляками.
– Ночью разыскал меня, обнюхал, как собака, и лег рядом – залезай, мол, хозяин, поехали: понял, что не могу я подняться из-за потери крови. И к своим привез. А его днем пытались поймать и беляки и наши – не дался, меня искал.
Гуляев вытер повлажневшие глаза, улыбнулся грустно:
– Старею. Как баба расплакался. Но это я с похмелья, ты не думай. Бражку вчера пробовал, ну и напробовался до песен.
Я сказал, что песни у него своеобразные, как и он сам, – в Сосновке все говорят о его чудачествах.
– И Глиной зовут, – усмехнулся Гуляев. – Правильно, в общем. Они ведь не знают, что душа у меня как цыганка, скушно ей одно и то же видеть, вот она и стучится от человека к человеку.
– Чтобы их надуть, – добавил я.
Гуляев засмеялся:
– Нет, здесь у меня с цыганкой расхождение – просто повеселиться. Мне ведь от них ничего не надо, хлеб своими руками зарабатываю. Вот этими. – И вытянул перед собой руки, как экскаваторные ковши. – Валенки скатать, полушубок сшить, бочку сделать или там дровни, дом поставить – все могу.
В это время из сеней на крыльцо выскочила сухонькая злая старушонка и с ходу принялась отчитывать Гуляева, прицепившись к последним его словам:
– Бочку сделать, дом поставить! Болтун ты немилящий, родимец непутный, змей турецкий! Что же ты кадушку третий год починить не соберешься, уторы тряпками затыкаю! Завтра капусту солить, а ты бочонок для бражки своей сделал! Молчишь? Чего ты молчишь, сказывай?!
– Тебя слушаю, – сказал Гуляев мирно.
– И слушай! И добрый человек пускай послушает. Пускай узнает, какой ты есть антихрист, лодырь и зубоскал. Дом разваливается, на огороде ни одной яблоньки не посадил, калитка еще в войну перекосилась – пускай узнает!
– И в газету напишет, – сказал Гуляев, толкнув меня локтем.
Я вынул записную книжку, достал из кармана авторучку.
– В газету? – испугалась старушонка. – Зачем же в газету? Чай, мы не злодеи какие, работаем весь век, пенсию получаем по закону. Вы зайдите к нам, заходите, чего тут сидеть! Я и грамоты покажу – ему больше дюжины грамот дали, у меня тоже есть и грамоты и медаль.
– Пойдем, – сказал Гуляев, – поглядишь, как я живу. Потом в свой клеветон вставишь.
В доме, с прогнувшейся маткой и скрипящими скоблеными половицами, было чисто и бедновато.
Правда, в углу под иконами стояла гармонь, а рядом шкаф с книгами, но этим и исчерпывалось движимое имущество Гуляева. Стол был тоже скобленый, табуретки самодельные, вдоль стены стояла длинная старая скамейка, в углу – сундук.
Старушонка застелила стол клеенкой, принесла хлеб и блюдо соленых помидоров, поставила графин с бражкой, похожей на квас.
– Она слабенькая, – сказал Гуляев. – Я меду в нее добавил.
Бражка была ароматной, вкусной. Гуляев наливал себе в стакан, а мне, как гостю, дал пол-литровую кружку. Старушонка – звали ее Матреной Дмитриевной – тоже пила из рюмочки и все время нахваливала своего хозяина. Видно, хотела загладить недавнюю промашку.
– Он ведь и мастер на все руки, и не пьяница, как другие, это он к празднику наварил, и дом новый собирается поставить. Давно уж, правда, собирается, до войны еще хотел, да ведь денежки нужны немалые.
– Поставим, Матреша, поставим, – улыбался Гуляев. – Я тебе такие хоромы отгрохаю, как у барина Буркова. – И подливал мне в кружку: – Пей, это ведь квасок.
Мы выпили весь трехлитровый графин. Гуляев хотел налить еще, но я отказался, и он достал четвертушку медовой настойки – «на дорожку посошок». Душистый такой «посошок», сладкий, нельзя не выпить. И Гуляев казался радушным и добрым человеком.
Он проводил меня до калитки, просил заезжать в любое время и хохотал, глядя, как его петух с железными шпорами лупит большого и жирного куркульского кочета.
– Ах, молодец! Вот молодчина – только перья летят! Ах, злодей!
Под эти радостные возгласы я шел сельской улицей, счастливый от знакомства с Гуляевым, мечтал о своей статье и... пел песни. Говорят, что песни были веселые и шел я прямо, не качаясь, но я этого не помню. И как участковый милиционер отобрал у меня мотоцикл, на котором я катал по селу ребятишек, не помню, и что говорил по телефону из сельсовета своему редактору, и когда меня уложили спать на председательском диване, – ничего не помню. Сознание отключилось как-то незаметно и сразу, хотя я долго продолжал еще двигаться, говорить, действовать...
– Вот ты и познакомился с Гуляевым, – сказал на другой день редактор, подписывая приказ, в котором мне был объявлен строгий выговор. – За мотоциклом надо теперь посылать другого сотрудника, а в милиции клянчить твои водительские права. Я же говорил, что задание серьезное и ответственное. И статья твоя не пойдет, дадим за подписью селькора: ты потерял моральное право на критику.
Я покаянно молчал. Да, Гуляев провел меня, как мальчишку.
Провел так откровенно, что я даже не почувствовал подвоха. И молодой председатель колхоза обманул: заговорил меня, восторгаясь сосновскими стариками, и я даже не спросил его ни о чем, хотя заранее подготовил вопросы о бытовой культуре и санитарных требованиях, которыми пренебрегают в колхозе.
За три года работы в районе я не раз бывал в Сосновке, подружился с Гуляевым, и он признался, что напоил меня при знакомстве умышленно, чтобы я не мог «протащить» его в газете и не трепал зря его имя. Гуляев, бывая в райцентре, тоже всякий раз заходил ко мне – иногда домой, иногда прямо в редакцию.
В редакции он обычно садился к окну, брал нашу газету и читал вслух передовицы. Выберет нужный ему кусочек, вроде этого, и прочитает: «Вооруженные новыми знаниями, они идут на передний край трудового фронта, чтобы возглавить битву за высокий урожай и тем самым укрепить мощь...» И со смирением спрашивал: «Это про солдат? Нет?.. А я думал – про солдат».
Мы смеялись, но редактор на летучке говорил с раздражением:
– Пора кончать эту военизированную агитацию, тоскливо от нее.
Гуляев явно благоволил к моей молодости и, пожалуй, полюбил меня, потому что, когда я уехал, он узнал в редакции мой адрес и «прописал» мне последние сосновские новости, высказав пожелание иметь со мной «почтовые разговоры».
Он любил «шарахнуть» в народ шуткой, проказил, как мальчишка, и, хвастаясь этим в письмах, сам себя же и высмеивал. «Как-нибудь ты станешь жертвой своих шуток, – написал я ему однажды, – и я тебе не завидую: шутишь ты беспощадно и когда-то жестоко пересолишь». Он отвечал в том смысле, что бог не выдаст – свинья не съест, что такая у него судьба, натура такая.
С годами письма от него стали приходить реже и короче, в основном поздравления с праздниками, и в последнем, полученном месяц тому назад, он сообщал, что построил своей Матреше новый дом на том же месте, вот отделает его окончательно и тогда пригласит на новоселье. Может быть, своей телеграммой он именно об этом меня и предупреждал: мол, приготовься там, отпросись у начальства.
Но вечером следующего дня я получил новую телеграмму:
ПРИЕЗЖАЙ НА МОИ ПОХОРОНЫ ТЧК ГУЛЯЕВ
Телеграмму принесла та же молоденькая рассыльная с фарфоровыми зубами, я расписался в получении, но она не ушла, пока я не прочитал телеграмму вслух.
– Это уж глупо, – сказала она обиженно. – По-моему, тут и отвечать не надо: всяким шуткам есть предел.
– Да, шуткам есть предел и отвечать не надо, – сказал я. – Теперь надо ехать.
– Вы думаете, это серьезно? – Бровки рассыльной испуганно подпрыгнули.
Я вдруг почувствовал боль и непонятную обиду, увидев краешки влажных зубов, таких красивых, готовых обнажиться в улыбке. Надо ехать, обязательно съездить и убедиться самому.
– Он любил шутить и смеяться. Всю жизнь шутил и смеялся, – сказал я. – Но никогда никого не обманывал, смеялся всерьез, вправду.
– Интересно, – усмехнулась рассыльная. – Как это «смеяться всерьез»?
– А вот так: «Приезжай на мои похороны». Приедешь, а он лежит в новеньком гробу и улыбается. И не думайте, что он покончил с собой. Ему семьдесят лет, он просто умер, закончил земные дела, понимаете? Ну и до свиданья! Мне надо успеть на самолет.
Гуляев действительно лежал в сосновом крашеном гробу и улыбался в рыжую бороду – будто шарахнул в односельчан очередной своей шуткой и вот лежит, слушает, что о нем говорят.
В новом доме, высоком, светлом, пахнущем лесом и смолой, толпились нарядные мужики и бабы, у гроба стояли с черными нарукавными повязками длинный Плакитин и маленький, как подросток, Понимаешь; в изголовье сидела Матрена Дмитриевна в черном платочке и глядела остановившимися глазами на своего старика.
Он мало изменился за эти годы, озорной Гуляев, прибавилось только седины в бороде, да заметно полысел лоб, – лежал большой, рукастый, как поваленное дерево, и лицо было свежим, не тронутым смертью. Наверно, потому, что он совсем не болел и рухнул сразу, не осознав по-настоящему, что это конец.
– И в больнице-то не успокоился, – шептались в прихожей старые бабы. – В себя только придет, и насмешничает. Аньку-фельдшерицу на почту посылал два раза.
– Не этого вызывал?
– Его. В районе у нас работал. Давно уж работал-то. Попервости тогда напился здесь, песни орал, на мотоцикле ездил. Глина его и напоил.
– Неужто этого?
– Его.
– Форсистый, в плетеных туфельках, а мужиком глядит, постарел.
– Идет времечко...
Плакитина и Понимаеша у гроба сменили председатель колхоза, теперь не такой уж и молодой, и сосед Гуляева, кривоногий мрачный мужик – Куркуль, как его прозвал покойный.
Куркуль был в новом синем костюме в белую полоску, каких давно не носят, с поперечными лежалыми складками, – видно, только вынул из сундука. У гроба он стоял напряженно и глядел на покойника с затаенной мстительностью: новый дом Гуляева был выше и красивей, окна широкие, наличники украшены старинной народной резьбой – никакого сравнения с приземистой куркульской крепостью. Но возможно, я ошибаюсь и никакой мстительности он не таил. Ведь его сад цвел рядом, его бело-розовое благоухающее облако нависало над новым двором Гуляева, к тому же и самого Гуляева теперь не было, а Куркуль пребывал в добром здравии и стоял в праздничном мятом костюме у гроба своего недруга.
Я молча кивнул Плакитину и Понимаешу, и мы вышли во двор покурить. Оба они стали совсем седые, морщинистые, славные сосновские активисты, беспокойные старики. Веселый ваш «годок» Гуляев не убавил вам морщин, скорее прибавил, радуйтесь же его смерти, как избавлению от вечной настороженности, в которой он вас постоянно держал, вздохните с облегчением, улыбнитесь. Но вы горько опечалены.
Сутулый худой Плакитин, сложив длинные ноги, сел на ступеньку крыльца, выставив перед собой острые колени, Понимаешь примостился рядом.
– Как же это случилось? – спросил я.
Плакитин неожиданно всхлипнул и закрыл лицо руками, Понимаешь поперхнулся дымом.
Наверно, мой вопрос был неуместным, а может, тон укора, прозвучавший помимо воли, обидел их. Но я был озадачен: не верилось, что они искренне жалеют своего мучителя, но и подумать, что они играют роль скорбящих по обычаю, я не мог. И Плакитин, и Понимаешь были фанатиками искренности, они не могли играть, не умели, и вот они плачут, словно только сейчас, после вопроса постороннего человека, осознали, что Гуляева нет и никогда теперь не будет в родной Сосновке.
К дому подошли ребята с белыми сверкающими трубами и черными дудками – оркестр местного Дома культуры, неслышно остановился грузовик с откинутыми бортами. Плакитин и Понимаешь поднялись, поглядели друг на друга, вытерли покрасневшие глаза.
– Сейчас выносить, – сказал Понимаешь и кивнул приготовившимся уже музыкантам.
Сверкающие трубы протяжно и скорбно завели «Реквием», народ из дома повалил на улицу.
Мы пошли к покойному, которого уже собирали в последнюю дорогу: выносили венки, крышку, подводили полотенца под большой, длинный гроб. Вот он уже качнулся, завис на полотенцах и поплыл среди толпы, а покойник улыбался в рыжую бороду и готовился открыть глаза. Я как-то не верил сердцем, все ждал, что они откроются, заблестят весело, бородатый Глина сядет в гробу и засмеется на всю улицу, как он умел смеяться.
Старушки завели «Святый боже...», попадая в тон «Реквиему», гроб подняли на грузовик, убранный березовыми ветками, и траурная процессия, затопив улицу, двинулась в гору, где находилось кладбище.
Рядом со мной оказался мрачный кривоногий Куркуль, глядевший с торжественной печалью на машину с гробом.
– Добрый от вас ушел сосед, – сказал я иронически.
– Добрый, – с неожиданной жалостью ответив он. – Многим я попользовался от него, научился многому. Сад теперь удобряю этим самым... Дом тоже стану перестраивать, высокий сделаю, светлый. А забор – уберу: колючей проволоки купил две бухты, она легче, и все видишь.
– Отчего он умер? – спросил я.
– От глупости, – сказал Куркуль серьезно. – Он ведь никого не щадил, и себя тоже. Будто чужой себе человек. Построил дом и решил проверить, крепко ли. А неужто так проверяют? В нем, в жернове-то, пуды не считаны, не мерены.
И рассказал, что Гуляев, полностью закончив строительство дома, решил испытать его крепость. Он услал в магазин старуху, а сам в это время, пока она ходила, скатил с горы мельничный жернов на свой дом. Тяжелый жернов, на пятерых мужиков, но ведь покойник подымал лошадь на спину и тут думал справиться. Ан сплоховал: поднять-то поднял и скатить сумел, но что-то в нем лопнуло, оборвалось, и в два дня кончился. А в новом доме простенок вышиб с двумя окнами.
– В нем ведь, в жернове-то, пуды не мерены, не считаны, – повествовал Куркуль, – а гора высокая, разбег большой. Целый день я заделывал простенок и окна, с утра до вечера бесплатно горбатил, а он в это время умирал в больнице. Глина-то. До-обрый был человек, царство ему небесное!..
На могиле говорили прощальные речи: сначала председатель колхоза, потом Плакитин, затем Понимаешь.
Председатель отмечал многолетний труд покойного, говорил, что Гуляев никогда не давал в обиду свой колхоз, а если и смеялся, то никогда не делал это зря, – здесь, у могилы, надо, честно признать всем жертвам его насмешек, что они сами были виноваты.
– Да, да, этак, – вздыхали в толпе. – Не скроешься, бывало, все видал...
Плакитин трогательно покаялся в своих давних археологических претензиях и признался, что на мысль о краеведческом музее натолкнул его Гуляев, он верно угадал, что селу, из которого стала разъезжаться молодежь, надо ощутить свои корни и оживить их. А ему, Плакитину, как раз это дело по силам. Какой он археолог, если живет делами нынешнего дня? О своей Сосновке только и думает.
И поклонился почти до земли, уступая место Понимаешу.
На кладбище цвела черемуха и распускалась сирень, звенели майские птицы, радуясь солнцу и наступающему лету, стояли дружной толпой нарядные сосновцы и вспоминали живого насмешливого Гуляева, с которым надо держать ухо востро.
– ...Вот, понимаешь, когда сынок мельника кинулся на меня с гирей, а мужики были сердиты на нас, он один, дорогой наш товарищ Гуляев, не побоялся заступиться за меня, и хлеб голодающей Москве мы послали. Целый обоз, понимаешь, отправили на станцию. И во время коллективизации деревни на социалистические рельсы он меня разок защитил, понимаешь, – вот рубец на голове, глядите... А могло быть хуже, понимаешь, если бы не он. Правда, он тогда же и обсмеял меня, но это наше дело, понимаешь, и я сам был виноват. И за то, что он исключил меня из партии, я не обижаюсь: коммунист – высокое звание, его надо завоевать, понимаешь, надо много знать и уметь, а пока работать простым советским активистом. Вот так я думаю, понимаешь!..
В последний раз запели сверкающие на солнце трубы, заныли черные дудки оркестра, и скоро над Гуляевым вырос холм земли с русским православным крестом, покрашенным голубой краской.
– Даже в бреду шутил, теряя сознание, – рассказывала пожилая фельдшерица, когда мы возвращались с кладбища. – А когда мы положили к нему в палату парня из соседней деревни и тот спросил, долго ли еще лежать Гуляеву, он с улыбкой ответил, что осталось двое с половиной суток: ночь здесь, на койке, и двое суток дома, в гробу. Потом уж вечный покой. И улыбался при этом весело, без всякой тоски.
Фельдшерица рассказала, что в тот же день вечером, когда его привезли в больницу, он дал ей мой адрес и попросил послать телеграмму с таким смешным текстом. Она предлагала исправить, но он не разрешил. А на другой день, после получения ответа – очень он ему обрадовался, хвалил за краткость, – попросил послать вторую. За час до смерти послали: Знали – безнадежен.
– Часто он вспоминал вас, – рассказывала фельдшерица, – но когда бредил, то называл вас Колей почему-то.
Я торопливо закурил, ломая спички. Коля был его единственный сын, погибший в Отечественную войну, и Гуляев не раз говорил мне о нем, показывал довоенную фотокарточку. В сыне он особенно ценил искренность, радовался этой его способности, любил ее в людях.
– Он велел передать вам, – сказала фельдшерица, – что вы оказались правы и точно предсказали причину смерти. Он жалел об этом. – Фельдшерица поглядела на меня подозрительно. – Вы правда предсказали, или у него помутилось сознание?
Я вспомнил свое давнее предупреждение о том, что он станет жертвой своей же рискованной проделки, и сказал, что Гуляев, вероятно, бредил.
На поминках односельчане пили бражку, приготовленную хозяином для новоселья, и вспоминали его живого – весело вспоминали, будто он и не умирал для них.
Сосновка теперь благоденствовала, богатела, газетчики часто наезжали сюда за положительным материалом, и Понимаешь уже не писал о том, что собаки лижут чурбаки, потому что рынок оборудовали на манер городского, вместо открытых колодцев появились водопроводные колонки, и сосновцы мечтали о центральном отоплении и газе в каждом доме.
А во многих палисадах я видел цветники, сделанные по примеру Гуляева.
– Он и надо мной подсмеивался, – вспоминала сухонькая Матрена Дмитриевна, угощая поминавших. – В самое Москву перед войной возил – чай, помните.
– Помним, помним...
– Я ему толкую, дом надо поставить, а он меня – в Москву. «Погляди, – говорит, – пока молодая, плюнь на дом». И уговорил ведь. А я нигде дальше района не бывала, растерялась, он под землю меня затащил, в метро, – страшно, трясусь вся, и опять же – приятно: сосновская баба, а еду в чистой публике под самой Москвой!.. В ресторан водил, кушанья заставлял выбирать – смех. «Выбери, – говорит, – самое лучшее, чего ты не ела». Я читала, читала листки те и выбрала такое уж незнакомое, что и не выговорю – ткнула пальцем: это. Приносят, я понюхала, съела ложечку – батюшки, да это тыква! У нас дома ее полный сарай, на подлавке целый воз лежит, на всю осень хватит... А он заливается, хохочет на все помещенье...
Матрена Дмитриевна тихонько засмеялась, вытирая глаза, и захмелевшие односельчане засмеялись, заговорили, вспоминая каждый свое.
Гуляев жил, и память о нем была прочной и веселой.
1970 г.
АНГЛИЙСКАЯ ТРУБКА
В аудитории было тихо, как в спальне, где забыли выключить репродуктор. Скучный голос ровно, монотонно звучал в сонном зале, не получая отклика. Хозяин этого усыпляющего глухого голоса, пожилой профессор, стоял за кафедрой и не глядел на студентов, боясь увидеть осоловевшие лица и пустые места. Уткнувшись в бумаги унылым длинным носом, он читал о древних греках, которые при всей их культуре были, в общем, примитивными людьми по сравнению с нами, имели примитивные орудия труда, примитивное общественное устройство, допускающее эксплуатацию человека человеком, но, как справедливо заметил Маркс, они были все же нормальными детьми человечества.
Профессор коротко и боязливо поглядел в зал, не переставая говорить, и опять поспешно уткнулся в бумаги. Студенты не таясь читали книжки, писали письма, некоторые дремали. За передним столом Богданов и Павлов читали о древних греках по учебнику, который для них был, вероятно, интересней лекции
Профессор знал, что его не слушают, и уже привык к этому, успокаивая себя тем, что материал далек от современности и пробудить интерес к нему трудно, особенно если не обладать педагогическим талантом или ораторскими способностями. Профессор не претендовал на такие способности, он считал себя исследователем, но ему было досадно, что учебник молодого доцента с их кафедры студентам кажется более ценным, чем его лекции. И профессору жалко было себя, своего ученого звания, которое не доставляет ему ни радости, ни удовлетворения. Он просто работает, как работают многие, выполняет то, что он обязан выполнять по своей должности, получает зарплату, и все.
В молодости он отличался редким прилежанием к учебе, с медалью закончил школу, с отличием получил вузовский диплом, остался в аспирантуре. Шеф поручил ему разработку одного из разделов своей темы, он защитил кандидатскую, стал преподавателем, потом, во время войны, был в армии, а пятнадцать лет спустя ему как старому преподавателю ученый совет присвоил звание профессора.
Его не хвалили, но и не ругали, потому что все его работы были бесспорными и правильными, которым нельзя не верить. В ученых кругах его считали добросовестным исследователем и иногда цитировали, если для своих выводов не хватало надежного материала.
Ровный и скучноватый этот человек был незлобив и безобиден. Такой же была и его жизнь, безвредная, ровная, скучноватая. Исключение составляло время службы в армии. Этот островок размером в четыре года ярко зеленел среди сонного озера его одинокой жизни. Там были необычные встречи, смелые поступки, любимые дела. Но этот островок был единственным и уже далеким, как древние греки со всеми их достижениями и ошибками.
Когда послышался звонок, профессор покорно поднял голову от бумаг, увидел ожившие глаза и нетерпеливые лица студентов и разрешил перерыв.
Послышался грохот отодвигаемых стульев, говор, смех, веселая возня в дверях. После лекций им всегда хотелось говорить и двигаться – вероятно, для того, чтобы разогнать сонное состояние, в которое ими приходили уже при одном виде профессора.
В коридоре возле урны столпились курильщики. Профессор подошел к ним, достал сигарету, робко попросил огня. Он боялся студентов, боялся их живости и задиристости, но не пошел в учебную часть, потому что и коллеги его не любили.
Студент Богданов, самый веселый и бойкий из первокурсников, услышав его просьбу прикурить, отвернулся, обиженный тем, что и на перерыве этот нудный человек преследует его своими тусклыми чертами лица. Рядом стоял серьезный талантливый Павлов, который был старше всех на курсе и курил трубку. Он достал спички и подал профессору.
– Трубочку покуриваете? – спросил его профессор, чтобы отблагодарить за спички и сказать что-нибудь.
– Тонко замечено! – сказал вполголоса Богданов, не оборачиваясь.
– Да-а! – смущенно вздохнул профессор, затягиваясь и мигая красными глазами. – Помню, в армии была у меня английская трубка, такая трубка!..
Профессор, чувствуя подступающее сразу волнение, опять затянулся, поморщился, поспешно помахал рукой, боязливо отгоняя дымное облачко, потянувшееся к язвительному Богданову. Богданов уже стоял лицом к нему и ждал, когда будет удобнее подколоть этот рыхлый ученый том, собравшийся развернуть страницы своих мемуаров.
– Великолепная была трубка! – продолжал профессор с воодушевлением. – Весь наш хозвзвод месяца два обкуривал ее. Да, да, не меньше двух месяцев! Одному, знаете ли, трудно обкуривать хорошую трубку, вот я и позволял курить всему взводу. Кончится у солдата табачок, покурить ему хочется, вот он ко мне и обращается: «Дозволь, Иван Петрович, курнуть из трубочки», А мне это выгодно – пожалуйста, дозволяю. Табачок у меня, знаете ли, всегда был, потому что я продукты доставлял из города для нашего госпиталя и знакомый начпрод всегда выделял мне пачку-другую моршанской махорочки. Я и трубку на эту махорочку выменял!
Профессор с гордостью оглядел обступивших его студентов, будто приглашал подивиться, какой он ловкий, затянулся и, закинув назад седеющую голову, лихо выпустил изо рта сдвоенное колечко дыма. При этом он вспомнил, что в прошлом году рассказывал первокурсникам историю с трубкой, о они, так же как и эти, слушали его внимательно и завистливо, чего никогда не бывало на лекциях.
– Да-а, хорошее было время, незабываемое! – Профессор опять затянулся, выпустил одно за другим три сиреневых кольца и мечтательно закатил глаза. – Едешь, бывало, на своей Катюше, – смирная была кобыла, старая – сидишь на телеге и покуриваешь трубочку. Хорошо! Летом вокруг тебя зелень, солнце, тишина, птицы поют, потому что госпиталь наш располагался за городом, в бывшем доме отдыха, а места там были удивительно красивы. И вот едешь, покуриваешь и наслаждаешься жизнью. Где-то гремит большая война, а здесь, в глубоком тылу, все спокойно, красиво, уютно. Приедешь, продукты сдашь и отправляешься с Катюшей на конюшню. Распряжешь ее там, задашь корму и садишься где-нибудь в тени с трубочкой. А в зимнее время я ходил в теплушку к Матвеичу, сторожу конюшни. Интересный был человек, бессловесный, работящий. Он в одну зиму выучил меня уходу за лошадьми, да так, что на второй год меня уже назначили дежурным по конюшне. Дежурным, понимаете! А потом я целых полтора года был начальником конюшни, честное слово!
Профессор оглядел подозрительно студентов, боясь, что они могут не поверить его высокому назначению, и довольно улыбнулся: они верили и глядели на него с большим вниманием и интересом.
– Я, знаете ли, очень полюбил эту работу, легко она мне давалась, радостно. И лошадей я сразу полюбил, как-то почувствовал их, понял.
– И лошади вас любили? – спросил Богданов.
– Да, представьте, любили, – сказал профессор, сияя всем своим веселым теперь лицом. – Иду, знаете ли, по конюшне, а они из станков ко мне поворачиваются, мордами тянутся...
«Поцеловать хотят», – чуть не сказал Богданов, но удержался, глядя на счастливого профессора.
Строгий Павлов потягивал трубку и тоже слушал профессора с интересом.
– Они, знаете ли, по запаху меня узнавали, – продолжал профессор, ликуя от такого необычного к себе внимания. – Иду, попыхиваю трубочкой, а Катюша или еще молодой мерин Снаряд радостно ржут, зовут меня. Да-а, счастливое было время!
Только на третьем году лишился я своей трубки, а потом и конюшни. Пришел как-то к нам полковник, увидел мою трубку и попросил покурить. Вероятно, ему понравилось, потому что он решил оставить ее у себя. Я, говорит, только на один день, а потом отдам. Двое суток я маялся без трубки, все ждал, что принесет, и не дождался. Тогда я, знаете ли, рассердился и смело пошел к нему. Пусть он полковник и воевал, но он не имеет права реквизировать личную собственность солдата. Прихожу, а он мне и заявляет с этакой, знаете ли, беспардонностью: «Ты, солдат, другую себе достанешь, иди»! И выпроводил меня. Я даже заплакал от обиды. Ведь я шесть пачек моршанской махорки за нее отдал, полгода обкуривал, лошади к ней привыкли, а этот бессовестный человек отнял! «Другую достанешь»! Да где я ее достану, когда я на склад больше не езжу и махорку получаю по норме, неужели это трудно понять!..
Профессор бросил в урну сигарету и жалобно поглядел на студентов влажно заблестевшими глазами.
Студенты поняли его, они глядели сочувственно и жалели своего профессора.
– Надо было доложить по команде, – сказал Павлов серьезно.
– Я об этом, знаете ли, думал и хотел жаловаться, но Матвеич мне отсоветовал. Он, говорит, такой уж, этот полковник: что ему приглянется, не отстанет, пока не заберет, а жаловаться на него опасно, с конюшни может прогнать. Вы понимаете, конечно, рисковать конюшней ради трубки, потерять лошадей, которых я любил и до сих пор люблю, я не мог. Так и пропала трубка. Потом, месяца через два, он чуть было не отобрал у меня оловянную ложку. Ручка ему понравилась. Такая хорошая была ручка, узорчатая, сам я ее кислотой вытравил, посеребрил. Дай, говорит, посмотрю, как ты узор сделал. Тут я, знаете ли, возмутился и прямо заявил ему, что он побирушка, а я хоть и солдат, но имею ученую степень кандидата филологических наук, имею свои труды и не позволю себя обманывать всяким проходимцам. Он рассердился, хотел напугать меня арестом, но я не сдался. Тогда он стал умолять меня: «Хоть подержать дай, погладить хоть!» Но и здесь я остался тверд, хотя и крепко поплатился за это: полковник аттестовал меня на звание офицера, снял с конюшни и направил в штаб армии.
– И долго вы служили на конюшне? – спросил Павлов, выбивая трубку о каблук зеркально начищенного ботинка.
– Почти всю войну, – сказал профессор. – Если бы не этот полковник, может быть, я до конца бы дослужил, а тогда меня отправили в штаб армии и послали на лекторскую работу. Это уж было не то, совсем не то – лекции, доклады. Теперь, сами видите, опять здесь, в своем институте – работа известная, привычная, ничего нового. То есть новое-то есть, разумеется, но оно старое, поскольку занимаюсь я Древней Грецией.
– А другую трубку потом не покупали? – спросил Богданов.
– Нет, – вздохнул профессор, – Обкуривать ее долго надо, одному трудно. Это ведь на конюшне можно было, там возчики, конюхи... Да и не нужна она здесь, кому она нужна?
Прозвенел звонок, студенты побросали в урну потухшие сигареты и с сожалением потянулись в аудиторию. Профессор покорно пошел за ними.
Богданов и Павлов опять достали учебник, чтобы не терять времени зря, но им мешал еще не успокоившийся голос профессора. Они не слушали его скучных заключений о древних греках, не хотели слушать их, но голос еще волновался, дрожал и звал к себе. Они глядели на унылый нос профессора, уткнувшийся в бумаги, на его широкие оплывшие плечи, на крупные руки, сжавшие борта кафедры, и видели другую, необычную картину.
Они видели своего профессора на телеге, с вожжами в руках и с трубкой в зубах, радостного и счастливого. Такого счастливого и радостного, что даже лошади любили его, а начпрод ухитрялся из скудных запасов выделять ему дополнительную пачку махорки. И не какой-нибудь, а моршанской.
1962 г.
ПОВТОРНЫЙ ФИЛЬМ
Удивительно быстро они осваиваются в чужой квартире. Побывала несколько раз, и вот уже тахта стоит у батареи, кресло возле шкафа, на кухне что-то переставила по-своему и хлопочет, как хозяйка, щебечет, и все это выходит естественно, красиво и мило. И сама она мила и красива в этих коротеньких бриджах и открытой кофточке, удивительно, как мила и красива. У себя дома она держалась чопорно и недоступно, он никогда не видел ее в бриджах.
– Что ты ему скажешь, когда вернешься? – спросил он.
– А я сегодня не вернусь. – Она поставила кофейник на плиту, повернулась к нему и поцеловала в нос. – Какой у тебя мужественный, великолепный нос – греческий! Я для него сейчас в гостях у сестры. Поехала на два-три дня. К понедельнику вернусь. Ты не ожидал?
– Не ожидал. Я думал, ты числишься сейчас у подружки.
– Это сюрприз тебе. К Восьмому марта!
Он улыбнулся:
– Спасибо, но если он вздумает проверить...
– Он слишком чист для этого. Сидит сейчас над своими чертежами и мечтает о сыне. Просто невозможно, до чего он чист, крылья за спиной скоро появятся. Впрочем, на всякий случай я бросила сестре открыточку.
– Ты очень мила. Мила и предусмотрительна.
– Я знала, что ты оценишь. – Она села на пол и обняла его ноги, уткнувшись в них лицом.
Она любила вот так садиться у его ног и всегда ласкалась, прижималась лицом, шептала с томительным изнеможением: «Мои повелитель, мои хозяин, славный ты мой!» – такие приятные, ласковые слова, нежные такие, что руки сами тянулись к ней и переносили ее на колени, чтобы отблагодарить за нежность.
– А как ты договорилась на работе?
– Я отпросилась на один день плюс два выходных.
– Милая!..
Он поднял ее к себе на колени, и тут послышался звонок, тревожный, настойчивый. Она вскинула брови, вопросительно посмотрела на него – звонок не затихал, прося, жалуясь, умоляя.
– Кто-нибудь из приятелей, – сказал он. – Ты побудь в спальне.
– Надеюсь, не надолго?
– Я постараюсь, иди.
Она поцеловала его в щеку и бесшумно скрылась. Он пошел открывать дверь.
Вошедшего запорошил снег, особенно шапку – видно, сильный шел снег, либо он долго бродил по улицам, а отряхнуться у входа он, вероятно, не догадался Хозяин поспешно толкнул дверь, пропустив гостя, но замок почему-то не защелкивался, всегда он в такие минуты не защелкивается, черт возьми, и руки противно дрожат, а тут еще надо здороваться, обязательно надо поздороваться и что-нибудь сказать.
– Ну, здравствуй, здравствуй! Да ты проходи, я дверь закрою, никак что-то не закрывается, проходи на кухню.
Гость топтался в тесной прихожей возле вешалки и мешал закрыть дверь.
– Понимаешь, я на минутку, – бормотал он смущенно, – я на одну только минутку, извини за такое позднее вторжение, но я...
– Да ладно, проходи, о чем разговор! – Хозяин досадливо нажал плечом дверь, щелкнул замок. – Проходи, проходи. Может, разденешься?
– Да нет, я на минутку. Снег вот опять идет, весь в снегу, ты уж извини, надо было отряхнуться, а я не отряхнулся, я ведь на минутку, за спичками зашел, кончились спички, а соседей не хотелось беспокоить.
Его била нервная дрожь, а может, просто после холода он стал дрожать, оказавшись в тепле, и говорил он торопливо, смятенно, с надеждой заглядывая в лицо хозяину.
– Понимаешь, кончились спички, а гастроном уже закрыт, все магазины закрыты, и я решил к тебе. Ведь всего два квартала, я нечасто бываю, ты извини, пожалуйста.
– Да что ты, ей-богу, столько извинений по пустякам! – Хозяин вытер рукавом вспотевший лоб и прошел за гостем в кухню. – Есть у меня спички, вот на подоконнике, бери, о чем разговор!
А гость уже сел у кухонного столика и говорил, пытаясь унять дрожь, торопливо и сбивчиво, снег на шапке потемнел, и капли воды скатывались по мокрому меху, срываясь на воротник пальто.
– Понимаешь, хотел сварить кофе, что-то плохо работается, а сна нет, и гастроном закрыт, соседей не знаю, не хотелось их беспокоить, незнакомых, хотя мы живем девять лет в одном доме, здороваемся при встрече, и я думал, лучше на улице у прохожего позаимствую, но уже поздно, никого не встретил из прохожих, снег идет весь вечер, ты извини, пожалуйста.
– Да хватит тебе извиняться, держи! – Он бросил на стол коробок спичек и привалился к подоконнику, ожидая.
– Ну, спасибо тебе, большое спасибо, я знал, что у тебя есть всегда, ты такой запасливый, предусмотрительный, а я часто забываю по рассеянности такие вещи и чувствую себя неспособным к чему-то практическому, совсем бы пропал без жены...
Он даже не поглядел на спички, не прикоснулся к ним и не вставал, говоря, что он сейчас уйдет, спички возьмет и уйдет домой варить кофе.
– Спать уж теперь не уснешь, – говорил он, – а ночью хорошо работается, надо только сварить крепкий кофе. У меня жена обычно варит, ты ведь знаешь, вот в таком же кофейнике, как твой, у тебя его вроде не было, недавно купил, вероятно, и закопчен также с одной стороны, а?
– Да, недавно купил, точнее, подарили мне, – сказал хозяин. – Один человек подарил.
– Да?.. Ну вот, а жены сейчас нет, придется самому, хотя такой не сваришь, у нее вкусный получается, ароматный такой и золотистого, вернее, темно-золотистого цвета. Смотри, кажется, кипит, ты засыпай и убавь огня сколько можно.
Хозяин обрадовался тому, что можно заняться делом, и снял кофейник с плитки, привернул кран почти до отказа, оставив тонкие синеватые лепестки пламени, и стал засыпать кофе из банки.
– Вот теперь размешай и ставь, но не давай кипеть. Она очень ловко варит, я пробовал несколько раз варить, как она, только почему-то не получается. Она мастерица в этом, помнишь, какой она сварила, когда ты пришел к нам после свадьбы – удивительный, правда? И потом ты часто приходил, и мы всегда сидели на кухне и пили ее кофе. Очень вкусный, верно?
– Вкусный. – Хозяин повернулся к нему спиной, чтобы следить за кофейником.
Сейчас главное – уследить, не дать ему закипеть.
– Удивительный! У нее просто талант, и на все домашние дела у нее талант, хотя росла за мамкиной спиной, типичная горожанка, видимо, таково свойство всякого таланта – быстро схватывать и уметь, не обладая предварительной подготовкой. И шьет она хорошо, и вяжет, а вот училась слабо и в школе и в институте. Она хочет в аспирантуру, но я думаю, это от самолюбия, завидует подругам, хочет быть равной нам, хотя как-то странно думать, что она ниже тебя, например, или меня.
– Справедливо, – сказал хозяин, не оборачиваясь.
– Ты заходи, вот она возвратится, и ты заходи на той недельке, она ненадолго уехала. Сядем вот так же на кухне и... – Он потряс головой, разбрасывая по столу и по полу капли воды с шапки, и, удивленно мигая, оглядел кухню: столик, возле которого он сидел, свободный стул у плитки, холодильник, прижатый к раковине, полку с посудой. – У тебя точно такая же кухня, и стулья стоят точно так же, как у нас. Она всегда ставит один стул у плитки, и, если ей надо за чем-то следить продолжительное время, она садится возле плитки на стул. Ты заходи, когда она возвратится, ладно?
– Я постараюсь, – сказал хозяин.
– Заходи, она любит тебя. Знаешь, она всегда была рада твоему приходу, хотя и не показывала это, держалась как-то церемонно, чопорно, ты, вероятно, заметил. Последнее время ты совсем перестал заходить, и ее часто нет, к родственникам уезжает на выходной, к подружке вечером бегает, либо в кино. Видимо, у нее хорошая подружка, а я все работаю и не люблю говорить за работой, и ей, очевидно, скучно. Она, разумеется, поступает правильно, жаль только, что мы перестали видеться: днем оба на работе, а вечером она, по обыкновению, уходит. Понятно, она хочет, чтобы я ходил с ней, хотя и не говорит этого, очевидно, думает, что ее разговоры с подружкой не заинтересуют меня, а в кино редко получишь серьезную информацию. А?
– Да, я полностью с тобой согласен, – сказал хозяин, не слыша его слов, не понимая, зачем, для чего он столько говорит и не собирается уходить, получив свои спички.
– Ну вот, я знал, что ты согласишься, у нас часто совпадали точки зрения на самые различные вещи. Помнишь, в институте тот диспут, когда наш декан понес ахинею, а я не сдержался, поспорил с ним, и ты сказал мне потом, когда мы возвращались домой, что я прав, но не следовало спорить с идиотом. Справедливо, разумеется, но я все-таки думаю, что выступать следовало. Мы часто сами виноваты, что люди становятся подлецами – по нашей невнимательности, попустительству, небрежности. Ведь они, в сущности, очень одиноки, и достаточно проявить к ним элементарное внимание, чтобы они почувствовали себя в общем потоке и стали людьми, выполняя какую-то посильную работу. Помнишь, какие фортели выкидывал наш испытатель, решив, что он незаменим и работа конструкторов зависит от его добросовестности и риска?
Шапка на нем стала совсем мокрой, с пальто капало, и возле стула образовалась светлая лужица. Он уже не дрожал, справился с собой, но говорил так же торопливо, следя за хозяином и стараясь заглянуть ему в глаза.
Тот выключил плитку и опять прислонился к подоконнику, поставив ногу на стул. Он услышал последние слова о подлецах, зафиксировал их и вспомнил, как два года назад шеф, вызвав его к себе, сказал, что ему неплохо бы чаще смотреть на своего друга – титан, за все КБ один ломит. А об эффектном поступке с заменой испытателя, который быстро опомнился и не позволил этого сделать, шеф сказал с улыбкой, впрочем, любовно-снисходительной.
– ...У меня сейчас очень интересная тема, жаль, что ты перестал заходить. Знаешь, я как-то не могу работать один, не хватает близкого человека, хочется, чтобы он был с тобой не только в буквальном смысле, не рядом, но с тобой, – понимаешь? – и тогда хорошо работается.
– Тебе вроде всегда хорошо работалось, – сказал хозяин. – По-моему, первая премия тебе обеспечена, в КБ все об этом говорят.
– Говорят, но та работа уже в прошлом, я как-то о ней не думаю. Но если дадут, я буду обязан в первую очередь вам – тебе и ей. Ты не смущайся, я в самом деле не выношу одиночества, а работы было много, я два года сидел вечерами, и в то время приходил ты, а потом встретилась она, и мы сразу поженились – это ведь счастье, когда рядом верный друг и любящая жена, тут самая трудная работа шутя делается. А?
– Да, конечно, – сказал хозяин, думая, что шеф тогда был не прав, дело не только в дружбе и трудолюбии, просто таланту нельзя научиться, и поэтому он не мог поспевать, он все время был ведомым, а не ведущим, как его друг, и не выбирал направление, а шел по его следу, который проложил вот этот человек, с недавнего времени ставший его подчиненным, ведомым, хотя на самом деле он был и всегда будет ведущим...
– Жаль, что последние месяцы ты живешь затворником. Может быть, у тебя неприятности? Ты извини, но ведь мы друзья, и прежде мы всем делились откровенно, и выходило как-то легко, даже если случались серьезные неприятности. Помнишь ту историю с катапультой... Ну вот. Ты совершенно правильно и дальновидно тогда поступил, заявив следственной комиссии о своем несогласии с моей принципиальной схемой, а тебя понимаю. Ведь если бы меня отстранили, кто-то должен был довести нашу работу, а ты был единственным человеком, который знал ее с самого начала. Ведь так?
– Не стоит об этом, – сказал хозяин. – Давняя история, каменный век.
Тогда у него появилась возможность стать ведущим, после той истории, и он использовал эту возможность, но ведущим стал только номинально.
– Почему не стоит? Ведь наша конструкция оказалась самой удачной, ее взяли на вооружение, и нам не в чем упрекнуть друг друга. – Он замолк, услышав за стеной то ли осторожные шаги, то ли шуршание ткани. – У тебя кто-то есть или мне послышалось?
Хозяин встретил его взгляд чистыми глазами и улыбнулся вполне естественно. Гость смутился:
– Знаешь, в последнее время у меня что-то пошаливают нервы, и вот сижу вечером один, и мне то шаги послышатся, то еще какие-то звуки...
– Кошка, вероятно, скребется, – сказал хозяин.
– Ты завел кошку?
– Да нет, соседская забежала. Вечером забежала и сразу в спальню. Пусть, может, мыши есть, хотя вряд ли.
– Да, вряд ли. Откуда здесь мыши, в этих домах не бывает мышей. Вот мы ездили в деревню к моим старикам – помнишь, прошлым летом, после свадьбы мы с ней ездили? – там да, там они прописаны постоянно, и она ужасно боялась их шуршания и радовалась, когда мы возвратились домой.
Он сидел, ссутулясь, усталый, небритый, и глядел на друга с доверчивой откровенностью.
– Она умеет радоваться, так мило у нее выходит, и сама она красивая и милая, правда? Мы тогда возвратились вечером, я соскучился по своим чертежам, и она сварила мне черный кофе. Вот так же я сидел на кухне у стола, а она поставила кофейник, повернулась ко мне и поцеловала в нос. У тебя, говорит, мужественный, великолепный нос – греческий! Смешно, правда? А у меня самый ординарный нос, как у тебя, и все знакомые говорят, что мы немного похожи. Ты извини, что я так разболтался, по- моему, ничего предосудительного, тем более, что мы друзья и она к тебе хорошо относится. Чего ты прислушиваешься? Да выстави эту кошку, и пусть бежит домой. Впрочем, сейчас уже поздно, ее могут не пустить, а на улице холодно. Такой холод, никак не дождешься тепла, хотя уже март, пора бы отмякнуть, о весне напомнить – нет, зима, нескончаемая зима...
– Да, действительно, – сказал хозяин.
– А она любит тепло, уют, софу у батареи поставила, кресло дежурит у книжного шкафа, и мне приятно смотреть, когда она что-то делает или читает. Удивительно мило у нее получается! Дома она ходит в бриджах и открытой кофточке, и когда я свободен, она садится у ног на пол и зарывается лицом в колени: «Мой повелитель, – шепчет, – мой хозяин, славный ты мой!» Смешно, верно? Разумеется, смешно, и все-таки жаль, что последнее время она не говорит таких слов, ведь это такие приятные слова, в груди что-то расслабляется, тает, забываешь дневную суету, спадает напряжение, руки сами тянутся к ней, и сажаешь ее на колени, как ребенка, и... Ты не болеешь, дружище, нет? Что-то ты поморщился, как от боли. Не зубы беспокоят?
– А?.. Да, да, зубы, второй день что-то. – Он прижал ладонью щеку, пососал зуб.
Такое унизительное состояние, невыносимое, и ничего нельзя сделать.
– У тебя вроде хорошие были зубы, ты никогда не жаловался, или с возрастом приходят разные недуги? Впрочем, нам смешно пока говорить о возрасте. Тебе тридцать два, кажется?
– Тридцать три, – сказал хозяин, потирая щеку.
– Да, ты ведь на год младше меня, совсем забыл. Вчера еду с работы, и парень в автобусе, лет пятнадцати парень, называет меня дядей. Понимаешь – дядей! Справедливо, разумеется, и пора, пора нам вспомнить о возрасте. Да он и сам уже напоминает: на каток ходить перестал, в театры – только по праздникам, на футболе предоставляю вопить другим. И не жалею: хочется работать, работать. Помнишь у Пушкина: «...Давно, усталый раб, замыслил я побег, в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Хорошо, а? У тебя, впрочем, была сильная страсть – женщины, но вот и ты сидишь дома один, вероятно, много работаешь...
– Не очень, – сказал он.
– Жениться тебе надо, дружище, тебе жениться, а мне – породить сына. Это ведь здорово, когда рядом сын и любящая жена, я давно мечтаю о сыне, жаль, что она пока не хочет, говорит, надо подождать, ей ведь всего двадцать шесть, испортится фигура и так далее. Типичная современная горожанка. Нет, я не осуждаю, не думай, мне тридцать четыре года, она собирается поступить в аспирантуру, мы еще успеем с сыном... Я тебе не надоел своей болтовней?
– Ну что ты, сиди!
– Я сейчас уйду, ты и так, наверное, озадачен: такой молчун и вдруг ни с того ни с сего говорит и говорит. Сейчас я уйду. Понимаешь, иногда появляется потребность поговорить, а не с кем. Уйду, кофе сварю, за чертежи сяду. У меня что-то интересное получается, жаль только, отвлекаюсь беспричинно, отключаюсь и думаю о жене, которая уехала, о сыне, который не родился, о друге, который перестал ко мне заходить...
– Я зайду, – сказал хозяин. – Я постараюсь зайти.
– Не знаю, почему, но трудно сосредоточиться, отключаюсь как-то произвольно, независимо от того, устал я или нет, и в голову лезет разная чепуха, подозрения какие-то, и это досадно, оскорбительно, ведь она такая чистая, у меня нет никаких оснований усомниться в ее верности, а я все-таки сомневаюсь, чувствуя себя самым распоследним подонком. Может, мне следует перебраться со своими бумагами в общий отдел, а то на работе один и дома один. Впрочем, она скоро вернется. Она ведь уехала на два-три дня, в понедельник вернется, к сестре поехала. Сестра у нее на год младше, такая же красивая и милая, жаль, замужняя, ты мог бы посвататься. А? Тогда мы дружили бы семьями, работали, ходили бы в гости по выходным. Хорошо, а?
– Хо-орошо. – Хозяин с трудом подавил нервный зевок.
– Кофе пили бы. Кстати, у меня есть лимон, не составишь ли компанию?
– Что ты, поздно!
– Н-да, поздно, ты прав, уже поздно. А как было бы славно.
Он глядел на хозяина сочувственно и потирал щетину на подбородке. Шапка его стала подсыхать, мех торчал косицами, широко растеклась под ногами лужа: оттаяли ботинки.
Ему не хотелось идти домой, но он пойдет, сбросит мокрую одежду и, сварив кофе покрепче, начнет работать – медленно, трудно, но начнет и постепенно освободится от своего одиночества, забудется и даже станет веселым, ведь у него интересная тема, она оформится в совершенную конструкцию узла, сотни и десятки сотен узлов и деталей составят современную машину, которая со сверхзвуковой скоростью понесет людей догонять свое счастье.
Он встал, обеими руками поправил шапку.
– Тебя проводить? – спросил хозяин.
– Проводи, если хочешь. Но лучше не надо: там холодно, ветер и снег. – Он окинул взглядом тесную кухню и пошел к выходу. – Будь здоров и заглядывай, когда сможешь.
– Всего доброго.
Дверь захлопнулась, звонко щелкнул замок.
Хозяин постоял в прихожей, поглядел на закрытую дверь, за которой скрылась слегка сутулая, как под грузом, спина, и возвратился в кухню. Спички остались забытыми на столе.
– Господи, как же долго, я совсем измучилась! – Она смотрела на него с тревожным ожиданием. – Там все слышно, в спальне, каждый звук.
– Да, слышно, – сказал он, вставая опять у плиты и прислоняясь к подоконнику, – все слышно, даже шорох. Не понимаю, о чем думают строители.
– У них план, зачем думать. – Она опустилась на стул возле стола. – Кирпичные дома какую-то звукоизоляцию имеют, а эти... как они называются?
– Не знаю точно. Крупнопанельные, кажется, или крупноблочные. Их даже не строят, а собирают, монтируют. Впрочем, довольно быстро и надежно. Когда смотришь, картина кажется весьма впечатлительной, красивой даже.
Лужица на полу исчезала, впитываясь в трещинки меж половиц и подсыхая.
– Да, да, я видела однажды. Краном поднимают такой большой кусок стены, приставляют, как-то там закрепляют... Ты не знаешь, как они закрепляют?
– Кажется, там есть монтажные петли, и, кроме того, стыки заливают раствором цемента. Кажется, так.
– Да, да, именно так. И вот закрепят, а в этой стене уже окно, стекла вставлены, рамы покрашены, а потом сверху опускают плиту...
– Не плиту, а потолочное перекрытие, – сказал он, радуясь этому разговору.
– Верно, потолочное перекрытие, как я забыла! Я ведь читала в газетах и кино видела осенью. Помнишь, там еще этот играет... на цыгана похож... ну черный такой... как его?
– Помню, помню. Он ведь упал с лесов, но не разбился, а повредил что-то – ногу или руку.
– Нет, это другой упал с лесов, из другого фильма, там не дома строили, а завод или еще что-то, и он пел веселую такую песню, вот забыла только, какую, ты не помнишь?
– Верно, верно. Старая такая лента, давно вышла, я студентом ее видел или школьником.
– Нет, это я школьницей видела, а ты студентом уже был, в пятьдесят пятом она вышла или в пятьдесят третьем, очень гремела тогда. Не понимаю, почему прошлой осенью, когда мы зашли в этот «Повторный фильм», я зевала, и ты тоже скучал, никакого интереса. А ведь тогда я восхищалась, и все мы восхищались. Почему?
– Не знаю. Вероятно, потому, что е первых кадров все ясно, а они продолжают действовать, улыбаться, говорить.
– Да, да, все ясно, а они говорят и говорят. Заинтересованно так, добросовестно, хотя уже все ясно и не надо им говорить, а фильм еще не кончился, и вот они говорят и говорят...
1968 г.
МОТЫЛЕК
Я всегда думаю о нем как о герое, как о стойком, мужественном человеке, верном своему жизненному долгу и призванию. И невольно улыбаюсь: невзрачный он, рябенький, говорливый – сразу разлетаются привычные представления о героях и так называемых настоящих мужчинах.
Сидит Мотылек на перевернутом ведре над лункой, держит красными от холода руками игрушечную зимнюю удочку величиной с плотницкий карандаш и, следя за сторожком, сыплет легкомысленной скороговоркой:
– А зачем мне центральная усадьба, мотылек? Там ведь ни озера, ни речки, улицу асфальтом залили, воду из водокачки прямо в дома провели, печки собираются ломать. Я, мотылек, с рожденья рыболов, мне без речки нельзя, я свои Воробушки не брошу. Нельзя бросать без призора. Я мужик, в обиду никому не дам...
Трудно удержаться от улыбки, глядя на него, вознамерившегося заслонить своей фигуркой деревню, хоть бы и такую, как Воробушки, от возможных бед и напастей. И поверить в то, что он рожден рыболовом, трудно. Настоящие рыболовы – первый отличительный их признак – сосредоточенно-молчаливы, а этот трещит и трещит без умолку. Хорошо хоть вполголоса, а то бы всю рыбу распугал.
– Председатель у нас неглупый, он меня понимает, зря не неволит, а баба заладила одно: айда, Мотылек, на центральную, одичаем тут. Ну, не глупая? Одичать в родной деревце, где речка рядом, лес, в поле каждый бугорок наш, телевизир есть для интересу!.. Нет, плотва клевать не будет, айда к чапыжнику, там окуня возьмем. На мормышку тоже не пойдет, а на блесну – раздразним. Сменные блесны есть?..
В Воробушках я оказался по совету приятеля, ошалев от учрежденческой суеты, от бумаг и заседаний, от вечного шума большого города. Как все постоянное, шум становится привычным, но от него устаешь, и усталость эта со временем накапливается, гнетет, неутоленная потребность тишины становится безотлагательной. Для любого человека. В предвыходные и выходные дни все пригородные поезда забиты трудящимся людом – спасаются всяк по-своему: кто рыбалкой, кто лыжами, кто просто лесными прогулками.
Тишина здесь была идеальной. Деревушка в стороне от железной дороги, иных путей, кроме тракторного следа, не видно, массовый рыболов минует Воробушки по причине такого неудобного местоположения. Два часа шел я в полном безмолвии, будто обложенный со всех сторон ватой – белизна снега окружала отовсюду, даже облачное низкое небо было белым, деревья заиндевели, на еловых и сосновых лапах мохрились пушистые белые варежки. За лесом началось поле – тут белизна сплошная, мертвая. И в самих Воробушках я не услышал бы ничего, кроме скрипа снега под ногой, если бы не случай. Не знаю уж какой, трагический или комический.
Подходя к деревне, я заметил быстро густеющий дым над крайней слева избой и услышал хлопанье дверей и людские голоса. И хоть весь я взмок от ходьбы и еле тащился, в ногах, оказалось, еще были силы, чтобы понести меня довольно резво.
Горел дощатый сарай рядом с избой, заваленной снегом и поэтому безопасной в пожарном отношении. Когда я подбежал, здесь уже суетились два старичка и три старушки, приковылял с палочкой, держа в другой руке ведро воды, еще один долгожитель. Старички топтались на снежной тропке и бестолково размахивали костыликами, наспех одетые старушонки подымали со снега полуодетую старуху, вероятно, хозяйку сарая, которая выскочила из избы простоволосой и голосила одно и то же:
– Ва-силий! Ва-асярка-а!.. Господи оборони!..
От растерявшихся старичков я с трудом узнал, что в сарае остался хозяин, тот самый Васярка, которого кличет старуха. Он безногий, Васярка-то, объясняли они, вот, может, и того... Самогонку, поди, гнал к празднику, вот, стало быть, и того... А как вызволишь, когда огонь из самой двери пышет...
Лямки рюкзака у меня были стянуты на груди бечевкой, я стал ее развязывать, она затянулась, разорвать тоже не удалось, я полез в карман за ножом, но тут накатился торопливый треск «Беларуси», трактор, взревев, замер у избы, и с сиденья слетел легкий, быстрый тракторист. Он на бегу сбросил с себя полушубок, выхватил у старика ведро с водой, опрокинул на себя и бросился в огонь. Все это он проделал одним духом, не раздумывая. Через несколько секунд из пламени бухнулся в сугроб короткий дымящийся старик, за ним с грохотом вылетело сиденье на колесиках, потом выкатился вместительный бочонок, за бочонком – сам спасатель. Мотая головой и фыркая от дыма, он взлетел на трактор, развернул его, подкатил к горящему сараю и, соскочив, стал разматывать сзади трос. Я понял его намерение, помог захлестнуть трос за угловой столб.
В несколько минут тракторист растащил стены сарая в стороны, крыша рухнула на пламя, и пожар можно было не тушить, а просто заплевать с оставшимися стариками и старушками. Спасатель не пожелал триумфально завершить свое дело. Он надел на мокрую рубаху полушубок и укатил на другой конец деревни. Будто и не был.
Старушки восхищенно глядели ему вслед и качали головами («Как вихорь налетел!.. Безужасный – прямо в огонь!..»), старики старательно и сосредоточенно затаптывали валенками чадящие жерди и доски, простоволосая хозяйка катала по снегу своего безногого погорельца, на котором тлела ватная телогрейка. Ее проще было снять и затоптать, но старуха не успела догадаться.
Когда с пожаром было покончено и суета улеглась, мне сообщили, что Васярка, пьющий по причине потери ног на финском фронте, гнал в сарае самогон, поскольку старуха всегда против и в доме заниматься этим делом ему не разрешает. Он успел выгнать литра два, выпил там тепленького, закурил и бросил спичку рядом со своим капающим агрегатом. Тот и вспыхнул. Васярка хотел потушить, опрокинул ведро, а первач крепостью вышел как спирт, на полу щепки, доски, дрова – занялись сразу, и дорога к двери оказалась отрезанной. Да еще сиденье было отвязано, не уедешь. Охо-хо-хо!.. Вот теперь масленица пройдет всухую. Бражки, правда, в бочонке малость осталось, да это что, слезы. И сарая нет...
Я понял, что событие это нешуточное, разговоров и хлопот хватит надолго и останавливаться здесь нет и смысла. Надо подыскивать другую избу. Вынув из снега тяжелый свой ледобур, я отправился вдоль порядка, оставив старичков сочувствовать Васярке.
В деревне было всего семь дворов, перед каждым столбы с проводами осветительной сети, над крышами шесты телевизионных антенн, во дворах орут петухи. Не к перемене ли погоды? Если так, клева тогда не жди. К тому же водоем новый, мест не знаю. Впрочем, приятель говорил, что здесь живет незабываемый для него Мотылек, настоящий рыболовный профессор, в дневное время он всегда на речке. Вот устроюсь на квартиру, отправлюсь его искать.
Проходя мимо четвертого от края дома (двери двух предыдущих были заперты на палочку), я увидел на крыльце могучую, уже в годах, бабу, которая стояла, уперев голые по локоть руки в бока, и воинственно, как кулачный боец, ждала, пока я подойду. У крыльца суетились над плитой с крошками куры, которых она, очевидно, вышла кормить.
– Эк нагрузился-то! – усмехнулась она сверху. – Как верблюд!
Я еще не пришел в себя после тяжелой дороги, непредусмотренного бега и пожара, еще не высох от пота и шел без шапки, обмахиваясь ею. От головы валил белый пар.
– На постой возьмете?
– Рыбак, что ли?
– Рыболов, – уточнил я. – На двое суток.
– А я-то думала, что таких больше нет на свете.
– Каких это таких?
– Таких умных. Не зря же говорят: кто стреляет да удит, у того ничего не будет. Заходи, а то простудишься.
В доме, просторном, на две комнаты и кухню, она сняла с меня прикипевший рюкзак, оборвав бечевку, поставила на припечек и ушла за перегородку, где заливались в плаче два детских голоса.
Я повесил у порога на гвоздь полушубок и шапку, снял пудовые валенки с галошами и стал разбирать рюкзак, набитый рыболовным снаряжением и продуктами, чтобы пойти к водоему налегке.
– Отдохни, мужика дождись, чаю попьете, – сказала хозяйка, появляясь из другой комнаты с двумя младенцами на руках. На каждой руке – по младенцу.
– Внуки?
– Сыновья-а! – Она усмехнулась. – Внуки большие уж. Двое в школу ходят, третья этой осенью пойдет.
– А об уме говорила! – сквитался я, удивленный такой плодовитостью. Бабе не меньше пятидесяти, а она – двойню.
– Я не виновата. – Она села на скамью у окна, ловко выпростала из кофты громадные белые груди и накрыла ими младенцев, которые сразу зачмокали, засопели. – Муж это виноват. Четыре года до пенсии, а все неймется черту двужильному. Давай, говорит, Катенька, на второй круг пойдем, два плана выполним, а то дети разлетелись, скушно тебе. Нашел веселье!
Сказано было ворчливо, но с любовью и большой гордостью за своего мужика. Должно быть, такой же гигант, как она, если не хлеще. Колосс какой-нибудь, местный Геракл.
– Сгорел, поди, самогонный аппарат у Васярки? – спросила она.
– Сгорел. Бочонок с остатками бражки тракторист выкатил. И сиденье его спас. Отчаянный мужик, быстрый.
– Он такой... Значит, Васярка теперь утихнет до лета, черт безногий. Охо-хо-хо-хо!.. Беда с вами, с мужиками...
– А без нас?
Хозяйка улыбнулась:
– И без вас. Мой-то, правда, не пьет, а вот в войну одна оставалась с троими детьми, день и ночь горбатила и его уж не ждала: в сорок третьем прислали – «пропал без вести». А он после войны, через полгода, явился не запылился. Где, говорю, тебя черти носили столько время? Я, говорит, Катенька, другим народам помогал, партизанил у них. Как же, говорю, тогда «пропал без вести»? А это, говорит, Катенька, меня германцы в плен брали, да я убег, а наших властей там не было, вот и воевал безвестно. А его и там в плен забирали, опять не удержали, убег. Ей-богу, двужильный! Ранили столько раз, били, в рубцах весь, как драчливый кобель, и хоть бы что!..
Я слушал ее и уж поглядывал на дверь с интересом и нетерпением. Приятель говорил, что деревушка выморочная, пенсионная, а тут, оказывается, и герои войны живут, могучие ветераны, которые и на шестом десятке не теряют мужской доблести. Да и тот колхозный тракторист, который действовал на пожаре, безусловно, смелый и энергичный человек.
– Сейчас у него полсотни бычков, встает до свету, – продолжала свое хозяйка. – Одного корму не напасешься, а их ведь и напоить надо, и навоз вычистить, и подстилку сменить. Ну, правда, днем я пособляю. Старушку Митревну позову с ребятишками посидеть, а сама на телятник... Вот он идет, наш кормилец.
В сенях скрипнула половица, распахнулась дверь, и вместо дюжего мужика я увидел неказистого пожилого подростка, того самого удальца-тракториста, который орудовал на пожаре. Но я был окончательно сражен, поняв с первых же его слов, что передо мной Мотылек, рыболовный «профессор», так восхитивший моего приятеля. Един во всех лицах.
– О мотылек, да у нас гости! – воскликнул он с порога, разом оглядев и оценив разложенное мной рыболовное оружие. – Вот теперь веселее мне будет, а то один и один. Ну, здравствуй, мотылек, давай пособлю. – Сдавил угребистой железной рукой мою кисть, сбросил полушубок и шапку и сразу включился в дело: – Это не годится, эта не пойдет, сюда надо мормышку другую. Есть крупнее мормышки? Та-ак. И поблеснить можно, молодец, что взял. И мотыль есть? Ну, совсем хорошо, а то я на червяка ловлю.
– Он у нас мастер по этому делу, – оказала хозяйка. – В самый плохой день на уху принесет, а в хороший на полторы!
– Ты, мотылек, не болтай без дела, самовар ставь, на стол собери.
– Поставила уж, Парфен Иваныч, поставила, а собрать недолго, вот ребят уложу сейчас.
– Одежу сменную достань, в мокрой стою.
– Где тебя угораздило?
– На пожаре обливался, когда Васярку доставал.
– Сейчас, сейчас. Ты раздевайся пока, сейчас вынесу.
И я не очень удивился, что такая могучая и, кажется, своенравная, с характером, хозяйка послушно и уважительно стала исполнять распоряжения своего повелителя.
За завтраком и чаем Мотылек сказал, что на пожаре он заметил меня, хотел пригласить, да подумал, что все равно нам не миновать встретиться, чего время терять на разговоры. И так уж нынче припозднился, в другое время давно на речке, а нынче за сеном надо было съездить, солому для подстилки привезти, а тут еще Васярка. Тоже до свету свой аппарат разжег, паразит. Ну, правда, клева нынче не будет, к вечеру если, но сходить можно. Окуня подразним, ершей надергаем...
И вот мы на водоёме.
Мотылек не взял никаких снастей, кроме одной удочки да пустого ведра, которое ему служило сиденьем и тарой для рыбы. Удочка, впрочем, была у него «ловкая», дюралевая, с гибким стерженьком и сменными катушками. Из Европы, обронил он между прочим, и пообещал рассказать, как он ее достал.
Клева в самом деле не было по причине перемены погоды, и мы пошли на противоположный берег речки, поросший ивняком, в чапыжник, где и принялись «дразнить» окуня.
Мотылек просверлил несколько лунок в разных местах, глубина здесь была метра полтора, дно просматривалось, и, когда ляжешь над лункой и поиграешь в воде блесной, увидишь, как со всех сторон окружают ее полосатые, как тигры, окуни. Увеличенные толщей воды, они кажутся очень большими, стоят спокойно, шевелят медленно розовыми плавниками и с недоумением поглядывают, как извивается, кувыркаясь среди них, латунная рыбка. Иногда эта рыбка стукнет кого-то по голове или по спине, окунь недовольно отплывет, а тот, что посмелей, сердито схватит блесну широким ртом. И мгновенно возносится вверх, к великой радости рыболова. Сердце у меня в это время на миг замирает и пускается вскачь, а Мотылек шепчет в самозабвении:
– Ага, доигрался! Тут тебе не телевизир, вылупил глазищи-то, разбойник! Ну попрыгай, попрыгай на снежку, утихни... – И разъясняет мне: – Самки хватают. В бесклевье самец редко берет, а самки, они жадные на игру, как бабы, вот и попадаются. О-о, у меня все разбежались – где-то близко щука или судак, надо другую блесну. – Он мигом смотал леску, сменил катушку и опять склонился над лункой. – Если щука, сейчас сцапает... Ага, вот она, подходит, мотылек. Сейчас, сейчас... Не хочешь? А мы подразним тебя, поиграем... Так, так, смелее... Теперь прицелься и... Ах ты разбойница!
Мотылек вскочил над лункой, и у его ног забилась, взрывая пушистый свежевыпавший снег, зубастая резвая щучка. Добренькая щучка, килограмма на два.
Мне было завидно, и я тоже сменил удочку, но на крупную блесну перестал брать и окунь. У Мотылька после удачи тоже наступило затишье. Мы перешли на другое место, чтобы переключиться на ерша.
Речка здесь небольшая, с полсотни метров в ширину, спокойная, как все равнинные реки, но достаточно глубокая, до двух метров, а в омутах и до пяти-шести. Мотылек знал ее наизусть. Шагая по заснеженному льду, он на минуту приостанавливался и объявлял, что вот здесь живут лещ и плотва, завтра поймаем, а вот здесь опять окунь, но нам надо ерша, и мы пойдем дальше, через отмель, где обитают пескари. Ну, пескарь здесь мелкий, не стоит внимания, но бойкий, веселый, как комсомолец, на бесклевье можно половить.
Я шел за ним и ничего, конечно, не видел, кроме сплошной снежной белизны, мелкого кустарника на низменном берегу и полоски леса – на правом. Безжизненная тишина. Даже самолеты не пролетают. Будто иной, неведомый мир.
– Здесь, – сказал Мотылек и, бросив ведро и удочку в снег, стал сверлить лунку. – Ерш хороший, крупный, до полфунта, мотылек, уха будет царская. Садись рядом, сейчас я и тебе просверлю.
Он быстро просверлил почти метровый лед, потом сделал еще одну лунку и уселся на свое ведро.
– Ты как машина, – заметил я. – Тут одну лунку крутишь с отдыхом, сердце колотится, а тебе хоть бы что.
– Привычка. Опять же на воздухе всегда, не пью, не курю. У меня сын, тоже в Москве, инженером, машина своя, пешком разучился ходить. Тридцать лет, а уж брюхо наметилось, одышливость. Эх ты, говорю, мотылек, приезжай в Воробушки, я тебя за одно лето человеком сделаю. Как вы там живете только, на этом расейском базаре... Ага, попался! И мормышку заглонул, жадюга! – Он бросил крупного, встопорщившего перья ерша в снег и вновь наживил удочку. – Не клюет у тебя?.. А ты играй мормышкой-то играй, не лови на мертвую... Вот, опять!.. О, хитрый подошел. Червяка сорвал и сбежал. Ну, постой, мотылек, я тебя перехитрю...
Он ловил и разговаривал с ершами, с червями, со своей удочкой, будто они его приятели, и выходило это естественно, с трогательным простодушием и любовным вниманием. Позже я убедился, что он знал все повадки рыб, их капризы в бесклевье, но был не жадным, ловил лишь взрослую рыбу, как-то ухитряясь выбрать ее, отделить от молодняка. Если же все-таки попадалась молодая рыбка, он бережно снимал ее с крючка и опускал в лунку с напутствием:
– Беги, мотылек, домой и пришли ко мне отца-матерь, я им растолкую кой-чего. Ишь, распустили молодежь до время! Чего доброго, пить-курить станете, в большую речку сбежите...
– А скушновато тебе здесь, Парфен Иваныч, – сказал я, думая, что разговаривать так он стал, наверно, от одиночества.
– Бывает, – признался он. – Если бы не рыбалка, тоже сбежал бы, хотя навряд ли. Тут ведь и летом хорошо, зелень кругом, в лесу ягод полно, грибов, поле у нас доброе. Я кукурузу выращиваю и свеклу кормовую. А между делом – телят. На лето еще сто голов пригонят. Председатель смеется: ты, говорит, Мотылек, у нас комплексный звеньевой – животновод-механизатор-земледелец. А в звене я да баба моя. Ну, с техникой легче стало. Вот летом автопоилки поставим, транспортеры для навоза, грузовик мне обещают – я ведь и шоферить могу, – тогда не то что за звено, за целую бригаду справимся.
– И рыбу еще будешь удить?
– А как же! Тут я отдыхаю, силы коплю. Я, мотылек, даже в посевную на часок-другой на речку убегаю. На утреннюю зорьку. Да и с телятами не скушно, они ласковые, поговорить можно. Ага, перехитрил я тебя, мотылек!.. Вот это ершина так ершина! Не зря ты меня так долго водил. – Он вытащил действительно очень крупного, граммов на двести, ерша, стал восхищенно разглядывать, и каждая конопатинка его обветренного красного лица светилась счастьем. – А може, пустить? Больно уж красивый. От такого и приплод будет добрый. – Он осторожно освободил мормышку и пустил ерша в лунку: – Гуляй, жене привет передавай да больше не попадайся, мотылек!
Вот почему хозяйка-то усмехалась, когда говорима, что и в хороший клев он лишь на полторы ухи приносит. Я сказал об этом Мотыльку.
– Правильно, – подтвердил он. – Больше не ловлю, если из соседей кто не попросит. Ну, как у тебя, наловчился?
Я поймал с пяток ершей. Мотылек поглядел их и двух, которые еще не застыли, пустил обратно в лунку – расти.
Незаметно близился вечер, и Мотылек стал собираться домой.
– Надо ферму свою обиходовать, телятам на ночь корму дать. Ты сиди, вечером он лучше берет. Отдыхай. – И убежал, легкий на ногу, быстрый, крепкий, как копыл.
Перед заходом солнца клев действительно улучшился, до темноты я поймал еще десятка полтора крупных ершей (мелких отпускал) и, довольный, отправился на квартиру.
В Воробушках уже зажглись огни, тишина была уютной, вкусно пахнущей древесным дымом, теплом и ужином.
Хозяйка варила на кухне уху, поздние ее сыновья спали.
– Наработался? – Она вышла в прихожую посмотреть улов, похвалила: – Ничего для первого раза, умеешь. А мой и щуку принес, вот уху сварю, жарить стану.
Раздевшись, я сел на кухне пить чай, а хозяйка занялась щукой и самолюбиво, чтобы предупредить возможные мои недоумения, стала рассказывать о своем хозяине.
– Ты не думай, что я, такая здоровущая, по нечаянности за него вышла. Это на глаз он невидный, постарел, а молодой-то был!.. – Она покачала головой, улыбнулась, вспоминая давнее. – За мной два брата Аношины бегали, сыновья нашего кузнеца, умер он в прошлом году. Проходу не давали, сватались несколько раз. Пригожие оба, здоровущие, под матицу. И третий – он, Парфен Иваныч. Тут ведь до войны шестьдесят с лишним дворов было, и парней много, девок. А братья Аношины верховодили. Думаешь, испугался он, отступил? А ведь и я сама всерьез его не принимала – мотылек, удильщик, червяков ему копать, что ли, буду! Такая дура. Столько он из-за меня перенес. Уж потом разглядела, когда у них до страшного дошло... А ты наливай еще, с морозу завсегда много пьется, наливай, самовар горячий... Целое лето они собачились из-за меня, думала, убьют Парфена-то.
– Потому и вышла?
– Нет, не потому, любопытно стало: такой невидный, а упорный, стоит на своем. И драться умел, налетал на них, как петух. Первый налетал-то! А они столбы столбами, не согнешь, не свалишь. Излупят его, он отлежится и опять не дает им проходу. Даже рыбалку тогда забыл. А они, Аношины-то, вроде бы смеются, а поодиночке уж не ходят. Разок он встретил старшего, Ваську, в лугах, двое грабель об него обломал и в бег обратил. Я там была, видала все, задумалась. А к осени так остервенели все трое, что драки чуть не каждый день, до кольев доходило. Меня уж забыли, негодники, свататься бросили. Подруги смеются: у тебя, говорят, Катька, женихи удалые, а домой проводить некому, друг дружку караулят, убьют как-нибудь невзначай. Ну, пришлось выбирать.
– Не жалела потом?
– Аношиных? Не пришлось, слава богу. Первыми-то родами тоже двойня была, потом еще один, да и к Парфену близко пригляделась. Из-за этой вашей рыбалки его за мальчишку считали, а он и на тракторе управлялся, и комбайнером перед войной стал, шоферить выучился. Опять же, душевный, не пьет, работящий. Аношины-то ленивые оба были, а этот без дела не посидит, хозяйственный. После войны тут и за председателя управлялся, и за бригадира, и за тракториста. До свету все Воробушки обежит: «Митревна, за горючим!.. Матвевна, на картовки!.. Демидовна, в кузню нынче! Повышение тебе вышло: в молотобойцы определили...» Мужиков нет, Васька Аношин вернулся, неделю погулял и в Ярославль закатился, на завод. Еще двое пришли, те в Калязине устроились и дома свои перевезли. А он, Парфен Иваныч-то мой, из правленья и позавтракать не забежит – сразу на трактор, и в жнитво – на комбайн. И старшие сыновья с ним. А меня гонял, как лошадь: ты жена председателя, пример подавай!.. Охо-хо-хо-хо... Ты сам-то не из деревни родом?
– Из деревни.
– То-то, гляжу, говор у тебя не городской, окаешь...
Заметно утомленный, пришел с фермы Мотылек, не мешкая, разделся, умылся и за стол.
Мы выпили по стопочке за знакомство, а потом благодушествовали за ухой и жареной щукой, пили чай, и Мотылек рассказывал о своей удочке из Европы, на редкость «ловкой», удачливой.
Начал он с удочки, а рассказал про всю войну. Его Катенька сидела за столом напротив, облокотившись и подперев щеку ладонью, ласково глядела на своего мужика и улыбалась. Рассказ этот она слышала, наверное, не один раз.
– На другой день войны меня взяли, мотылек. Подуст как раз шел, плотва брала. Сперва учили два месяца, потом послали в действующую часть. Зенитчиком я работал. Ну, первый год, известно, самый трудный был, ранило меня два раза, один раз контузило – отлежался, зажило, как на собаке. Потом на станции Кочетовка нас разбили, попал я в Тригуляевские леса на формировку – это уж на другой год. Бросили под Сталинград. Там я наводчиком сорокапятки работал. Ну, мотылек, каша была! Разок вечером – за день мы восемь атак отбили – товарищ говорит мне: Парфеньк, погляди-ка, у тебя от шапки осталась одна подкладка, все сорвано. Я щупаю: да, правильно, одна подкладка, и шинельку посекло. А сам – тьфу-тьфу, не сглазить бы! – целый. Грязный только да царапины кой-где, будто с бабой повздорил.
– Ладно врать-то, – вмещалась хозяйка. – Когда это я на тебя руку подымала?!
– Еще бы на меня! На других-то подымают, не мы одни на свете, я в общем говорю, не сбивай. Да-а, целый я остался, видать, судьба такая. Потом, правда, зацепило в плечо, ну легко, в мякоть, я и с позиции не уходил. А народу там сгибло – тьма. Ну, чего говорить, повезло, мотылек, повезло. До самого конца там был и в наступление ходил. Уж потом четвертый раз ранило в ногу, повалялся в госпитале месяца полтора и опять на фронт.
В Донбассе, под Сталином, бились четыре дня. Танки пылают, как спичечные коробки, сверху бомбами нас глушат, пулями поливают, пехоте одно укрытие – в землю. Тут он нас окружил и забрал весь наш полк – мало нас осталось, человек семьдесят от всего полка, раненые с нами, боеприпасы кончились.
Пригнал нас в лагерь, ремни, обмотки посымал, и в сараи, за проволоку. Там тоже наши пленные. Говорит: за проволоку не хватай, мотылек, ток идет. А холодище, сидим на голой земле, соломки даже не бросили. Думаю: Катенька в Воробушках одна с троими, жрать, поди, нечего, а по перволедью сейчас и щука, и судак, и окунь, и любая рыба берет.
– Лебеду ели, – обронила хозяйка и растроганно вытерла глаза.
– Ну вот. Утром шумит: штейт ауф – вставай, значит, не кобенься. Мы, свежие, встали, а прежние кто падает, а кто уж век не подымется. Вес человека до двух пудов доходил, взро-осло-ого человека. Ей-богу, мотылек, не вру!.. Ну, отогнали ходячих в сторону, слабых и мертвых свалили, как дрова, в грузовики и увезли в степь, там в овраг покидали. И так каждый день, мотылек, каждый день. Надо что-то делать, думаю. Паек на человека – одна брюква и баночка пшена. Невареным жевали. Ослабнешь – ничего не сможешь, никуда не убежишь.
Недели через полторы переправили в телячьих вагонах в Чехословакию. Там рыли окопы, строили блиндажи, доты – не надеялся уж он на свою силу, про отступленье думал, мотылек. Я компанию себе подобрал из которых побойчее, посильнее. Узнали мы: где-то тут партизаны. Вот ведут разок на работу – конвой автоматчиков, овчарки, а у дороги стоит старый чех с тележкой. Я возьми и крикни: «Наши есть?» Он, видать, понял, головой тихонько эдак в сторону гор повел и рукой еще в ту же сторону – будто нос вытирал. Ну, все понятно, давайте, ребята, удирать. А нас четверо было, компания моя. Стали готовиться.
И вот выбрали ненастную ночь, дожжик со снегом полощет – бесклевая погода. Вырыли мы под проволокой лаз, на пузе выползли, слышим, немцы гаркают, наружная охрана. Отползли в сторону подальше, мокрые все, грязные и – в лес. Там через воду переходили – не то речка, не то большой ручей, неглубоко, по колено. Долго водой шли, чтобы собак сбить, ноги ломит, сводит от стужи, потом все время бежали и на рассвете к деревне вышли. Встретили мужика с топором. «Партизаны есть?» А он, мотылек, не говорит: айдате, мол, в деревню, там узнаете. А мы тоже ему не очень: вдруг предаст. Решили отрядить с ним одного – мне выпало, – а трое спрятались поблизости.
Приходим. Кирпичный небольшой дом, в доме чех в мирной одеже, на стене автомат, телефон есть. Вот ты, мотылек, и попался, думаю, вот тебе и капут. На полицаев нарвались. А он и правда полицай, только свой, для вида у фрицев служит. Ну, это я потом узнал. А сразу-то он автомат наставил, руки велел поднять и за дом вывел, к стене меня прислонил: испытывал, не подослан ли я. Чуть не застрелил. Ну, потом поверил, хлеба дал, компас, рассказал, как идти. А оружия не дал, сами, говорит, добывайте.
Ушли мы. В лесу наткнулись еще на трех наших беглых, капитана и двух солдат. Стало нас семеро. У них было два пистолета. Решили идти прямо к фронту, домой. Шли два дня, нарвались на немцев, потекли назад и попали прямо к партизанам. Они услыхали выстрелы и подумали, что немцы на ихний склад напали: рядом-то деревня была, а там у партизан хранился запас колбасы и крупы. Немцев, которые за нами гнались, они расколотили, продукты взяли, нас привели в отряд.
Горы, лес. Дали нам отдельную палатку, оба пистолета отобрали, покормили, а потом в штаб на допрос. Допросили и опять в палатку. Неделю ничего не делаем, лежим, кормят хорошо, а часового от палатки не убирают. Потом разбили по разным взводам, дали немецкие автоматы, обмундирование.
Вот так, мотылек, стал я работать партизаном. А в плену пробыл целый год, с ноября сорок третьего до октября сорок четвертого. Хотел через месяц убежать, а вышло – через год.
Чехи люди хорошие, в деревнях и накормят и укроют, многие жители были связными. Отряд у нас назывался «Липа», а командиром был Плахта. Почти тыща человек, чехи и русские. И словаки еще. Чехов всех больше.
Да-а, погуляли мы по тем лесам и горам, повоевали, мотылек, фрицы, поди, и в могилах поёживаются. Я подрывником был, а потом в разведке. Разок живого полковника мы в отряд приволокли, со всеми штабными документами. Он в легковушке ехал, мотоциклисты охраняли. И охрана не спасла. А сколько мостов подорвали, поездов с военной техникой и солдатами, про то фашисты лучше знают.
Отчаянным меня в отряде звали, говорили, что ничего не боюсь. Ну, это неправда – боялся, как не бояться. Только после лагеря я злее стал, да и фрицев маненько узнал. Ну, все равно кличка осталась, а Плахта разок поставил меня перед отрядом и говорит: расскажи партизанам, как ты страх преодолеваешь. А я не знаю как, молчу. «Вот, – подсказывает, – допустим, ты у моста, а там пулеметы замаскированы, часовые с автоматами. Что ты думаешь в это время?» Я, говорю, мотылек, в это время думаю, как бы к ним подобраться половчее, а то убьют. «Но тебе ведь страшно?» Как же, говорю, не страшно, еще бы! Не страшно было бы, прямо попер, а я выжидаю, высматриваю. «И страх у тебя проходит?» Нет, говорю, не проходит, только я об нем не думаю. «Значит, ты его преодолел?» Нет, говорю, не преодолел, а спрятал подальше. Ну, весь отряд хохочет и Плахта тоже. Да-а.
Плахта смелый был, мотылек, серьезный, зря на рожон не лез, но и не осторожничал. Зимой сорок пятого он решил сменить стоянку, и отходили мы открыто, мимо немецких патрулей – шли как чешская воинская часть с фронта на отдых. Одеты, конечно, честь честью, оружие тоже немецкое. В немецкой-то армии и чехи, словаки были, мотылек.
Фронт тогда уж недалеко был, на новом месте нам не повезло – окружили немцы и власовцы. Вырвались, не знаю как, при отходе меня ранили и опять взяли в плен. Доставили к офицеру: выдавай, мотылек, партизан – сколько людей, оружия, боеприпасов, где базы, какая связь и другое разное. Допрашивают, а тут – наши «илы» стаей. Расколошматили их крепко. Меня – в грузовик, трясли часа два, привезли в какой-то городишко. Я избитый, от раны ослаб, сознание мутится. Тут снова мне повезло – опять бомбежка. Фронт-то близко. Шофер отнес меня в сарай и бросил в солому. А там, мотылек, раненые власовцы лежали. После налета пришел врач с санитарами, перевязку сделал, подумал, видать, что я тоже власовец, в хорошую палату поместил и операцию сделал. Тут вышла у меня незадача. Когда просыпался я после операции, то проговорился, что партизан. А может, шофер сказал или офицер, меня и бросили, голого, опять в солому. До вечера лежал, вечером пришел фриц с автоматом, а с ним ялдаш. Ну, нацмен, значит, переводчик. Одели, повезли куда-то, да не довезли. У первого перекрестка нас остановили, подбегает солдат, шумит: «Русишь панцирен» – танки, значит, наши прорвались и идут сюда.
Ну, долго все рассказывать, мотылек, а только на другой день во время налета убег я. Правда, мало побыл на воле, слабый, уйти далеко сил не хватило, сцапали на другой же день. И очутился я в городе Ротенберг, в лагере. Как остался живой, не знаю. Там были разные нации, а освобождали нас американцы, плохой был, мотылек, память отшибли, забыл и Воробушки и Катеньку с ребятишками. Потом всех русских отделили, передали нашим, и очутился я в Праге, в госпитале. Ты вот, Катенька, ругалась и сейчас не веришь, зачем я тебе письмо не прислал, а я забыл про все мирное. Меня спрашивают, откуда да что, а я не знаю.
– Не ругалась я, Парфен Иваныч, я спросила только. Через полгода после войны пришел, и ни одного письма – как не спросить!
– Вот и меня там спрашивали, кто, мол, ты такой, откуда, а я не знаю. Как дурачок. Плакал даже. Когда заплакал первый раз, врач обрадовался: отойдешь, говорит, мотылек, вспомнишь, раз заплакал. И правда вспомнил. И знаешь, что сперва – рыбалку! Гляжу в окошко – зелень, птички щебечут, жарко, тихо. Спрашиваю ребят: какой месяц? Июль, говорят. Ну, думаю, вода цветет, клев плохой, но на ранней зорьке будет брать и лещ, и окунь, и плотва, а с прикормом – обязательно. И сразу вспомнил речку свою, Воробушки – все-все. И тебя, Катенька, будто рядом увидал. Обрадовался, засмеялся и от радости такой опять все забыл. Будто потерял. Ей-богу! Недели две ходил по палате, как дурачок, под койки заглядывал, постели подымал – искал что-то. А потом опять в голове стало развидняться, светлеть и скоро разведрилось совсем. Тут уж меня определили здоровым, и попал я в Особый отдел. Ни документов у меня, ничего.
Ну, кто да что, не верят, что я партизан, давай, мотылек, – бумагу. Правильно не верят, чего там. В войну и нечисти много поднялось, банды шастали, опять же власовцы.
Поехал я в тот городок, у которого наш отряд окружили, расспросил – и в другой городок, где штаб отряда был. Дорогой пилотку потерял, в штаб явился без пилотки. А штаба-то уж нет, дом один остался, там простые люди живут, они сказали, что отряд распустили, но здесь остался партизанский начальник штаба. Нашел я его, поздоровался, давай, говорю, мотылек, бумагу, что я партизан, а то меня Особый отдел терсучит. Начальник меня узнал, бумагу тут же написал, покормил и фуражку свою дает мне на голову. Носи, говорит, мотылек, на память, хороший ты был солдат. А у самого тоже ничего нет больше, дом пустой, семью фашисты сгубили. Ну, я отказался: пилотка, мол, лучше, на ней и полежать можно, не обессудь. Да-а... Тогда он сходил куда-то и принес мне эту самую удочку и дюжину катушек с леской. Веселись, говорит, не забывай нашу дружбу!
А разве забудешь, хоть бы и без подарка. До смерти буду помнить. Да-а. Ну, а все ж таки обрадовался я тогда – слов нет. Я ведь до войны простыми палками работал, фабричного удилища и в руках не держал, а тут из самолетного металла, из дюраля, легкая, с катушками! Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ну, вернулся, выправили мне бумаги и послали на склад, чтобы новое обмундирование мне дали, – в обносках я был. Старшина одежу хорошую дал и шинельку новую, а на ноги – старые бурки, сапог, говорит, нету. И шапку старую. Я уперся: ну нет, говорю, мотылек, новые давай.
И вот, мотылек, перед самой Октябрьской, за два дня до праздника, был я дома. В новых белых бурках пришел, в новой шапке, обмундирование и шинель тоже новые, с удочкой. И скажи ты, Катенька мне ни словечка за удочку! В другое время съела бы, а тут только посмеялась: умные мужики, говорит, для дома что-то везут, а мой из Германии с удочкой явился.
– Не говорила я про одежу, я за письма только ругала. Ни одного письма столько время!
– Говорила, говорила. А я тебе на это сказал: я, мол, мотылек, победитель, могу теперь и порыбалить. Забыла ты, Катенька.
– Може, и забыла, столько-то годов... Спать давайте, завтра опять вскочишь ни свет ни заря.
– Да, да, завтра надо пораньше, завтра леща возьмем, плотвиц. На улице мягчеет, ветерок с заката потянул. Стелись, Катенька.
Четверть часа спустя Мотылек богатырски храпел на печке, я лежал на раскладушке в прихожей, за тонкой переборкой поскрипывала люлька с пробудившимися младенцами. Немудрено пробудиться: храп стоял басистый, густой, с переливами, такого я еще не слышал.
Резвился Мотылек, впрочем, недолго. По полу зашлепали босые ноги, появилось впотьмах большое белое привидение, скрипнула печная задорга, и голос хозяйки урезонил Мотылька:
– Будет ржать-то. Что ты как жеребец, аль высоко привязали! Повернись на бок!
И тут же стало тихо, воцарился покой.
Утром Мотылек сказал, а его Катенька подтвердила, что храпеть он стал после фронта, после всех тех обид и лишений, а до войны золотой был во сне человек.
Ловили мы в этот день удачливо и леща и плотву, я обогатился новой информацией о пресноводных рыбах, о деревне и ее будущем. И радовался.
Мотылек не верил в исчезновение Воробушек, он планировал расширение своей телячьей фермы, он знал и любил эти земли, леса, речку и справедливо надеялся на лучшую их судьбу. Потому что здесь было хорошо. Потому что без земли, лесов и рек мы не можем прожить. И еще потому надеялся, что у него растут два сына. Но, провожая меня, все же серьезно наказал:
– Ты там в одном городе с начальством-то, сказал бы: так, мол, и так, мотылек, обратите внимание на Воробушки. А насчет механизации пусть не беспокоются: у меня старший сын инженер, летом приедет в отпуск, запрягу его, сделает...
1975 г.
ОДНИ
Каждый отвечает за всех.
Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех.
Антуан де Сент-Экзюпери
Они шли, казалось, целую вечность, шли чаще ночами, обходя деревни и села, минуя поселки, держась вдали от больших дорог. Первое время их подгонял грохот орудий и шум моторов, они бежали от жаркого огненного вала, который накатывался па них сзади и грозил накрыть, подмять под себя. Они бежали, не останавливаясь, а огненный вал неотвратимо приближался, зловеще ревел, и они уже не могли быстро бежать и уступили ему дорогу, по которой уходили вместе с толпой беженцев.
Они уступили дорогу тогда, когда гребень вала черной стаей самолетов с крестами накрыл их, подмял грохотом и воем бомб и разметал по степи обезумевшую от страха толпу. Вот тогда они и оказались рядом, четверо измученных, загнанных людей, убегающих от смерти. Они уступили дорогу ревущему огненному валу и шли вначале степью и только ночами, скрываясь на день в оврагах, лесных погадках и в стогах сена. Потом они шли лесами и уже избегали открытых мест, потому что огненный вал бушевал впереди, он обогнал их и стал удаляться и меркнуть, затихая. Только по ночам они видели красные вспышки частых зарниц и слышали сдержанный добродушный гул, похожий на раскаты далекой грозы. А потом опять стало тихо в лесу, тихо было и в небе, лишь изредка гудящей тенью проплывет над ними стая самолетов с крестами, и опять только небо, пустое далекое небо да деревья, поднявшие к нему желтеющие немые вершины.
I
Первым шел рослый красноармеец Иван Прохоров, потерявший свой «частично рассеянный и частично истребленный» полк у речной переправы. Прохоров был контужен в бою у той переправы, и, когда пришел в себя и стал соображать, оказалось, что идет он с толпой беженцев, поблизости нет его запыленной сорокапятки с облупившимся стволом, плечо не давит ремень карабина и жизнь вокруг него странно изменилась. У него звенела перевязанная кем-то голова, трудно дышала зашибленная грудь, еле прикрытая порванной гимнастеркой, и он плохо понимал, что рассказывает ему шагавший рядом бородатый черный цыган с золотой серьгой в ухе и гитарой за спиной.
Цыган тоже был молодой, примерно одного возраста с ним, потому что в черной с сизым отливом бороде не было седины и виски тоже были черными. Цыган говорил, что в его повозку попала бомба и он остался один со своей гитарой, а семья погибла вместе с лошадью. И жена погибла, и двое малых ребят, и жеребец Удалой, и повозка на железном ходу, и легкие сани, которые он возил с собой для зимы.
– Значит, прямое попадание, – уловив наконец-то смысл рассказа цыгана, определил Прохоров.
– Да, да, прямое! – обрадовался цыган, глядя на него большими блестящими глазами, – Я прибежал от реки, самолеты улетели, табора нет, ямы только дымятся, а у меня гитара и вот этот кнут! – Он хлопнул ладонью по голенищу пыльного хромового сапога, за которым торчал свернутый вокруг кнутовища ременной кнут, и странно засмеялся. На пыльном голенище остались следы пальцев.
– А я давно с тобой иду? – спросил Прохоров.
– Ты? – спросил цыган, улыбаясь. – Ты все время со мной идешь, с того самого дня.
– С какого дня? – спросил Прохоров.
– Со вчерашнего, – сказал цыган и вдруг остановился, побледнел, схватил его за руку и кинулся через дорогу в степь.
Беженцы заметались, сбившись на дороге, заорали отчаянной разноголосицей, и визг и крики разбегавшихся женщин и детей слились с воем и грохотом обвалившегося неба.
Они лежали вниз лицом, они вжимались в земно телами, а земля дрожала под ними и сыпалась па них сверху, с неба, покрывая их пылью и гарью. Комья земли падали на их беззащитные спины, и цыган дико взвыл, когда после мощного взрыва осколок ударил по гитаре и она звонко охнула и подняла своего хозяина. Цыган вскочил на ноги и, обезумев, стал бросать комьями земли в пикирующие самолеты. Он дико кричал, потрясал угрожающе кнутом и, наверно, был бы убит, если бы Прохоров не схватил его за ноги и не повалил рядом с собой.
Когда все стихло и они поднялись, чтобы идти дальше, вместе с ними поднялись еще двое, лежавшие рядом. Один был с седой бородкой старик в золотых очках, бледный и безмолвный, а второй – черноволосая девушка с узлом в руках.
Она была статна и красива, эта девушка, так кратка и божественно величава она была, что Прохорову, захотелось вдруг упасть на колени и помолиться на нее. Он давно забыл о боге, но сейчас ему очень хотелось встать на колени и помолиться, и он, наверное, встал бы, если бы не заметил в больших остановившихся глазах богини смертельного ужаса. Прохоров отвернулся и молча зашагал в степь, и они пошли за ним: цыган с гитарой, седой старик в золотых очках и прекрасная мадонна с узлом в руках, богиня, помертвевшая от ужаса.
Они шли весь остаток дня и всю ночь не останавливаясь, они могли бы идти и дальше, но старик стал отставать, богине мешал идти узел с вещами и Прохоров с цыганом ослабели без пищи и воды. Позади них в зареве пожаров дрожало и ворочалось кровавое небо, и они, торопясь, уходили от него, уходили на восток, туда, где небо было темным и неподвижным и могло прикрыть их своей домашней тишиной.
Там, под этим неподвижным небом, у Прохорова была родная Дубровка, томившаяся сейчас без него, своего создателя и хозяина. Старика в золотых очках звали студенческие аудитории, жаждущие мудрой книжной мысли, которую легко мог дать он, ее властелин. Молоденькая богиня несла с собой лучшую свою одежду – спокойное небо даровало бы ей достойного мужа и семью, необходимую для продолжения вечной жизни. А цыган в долгие дни своего непривычного сиротства думал о погибшей семье, видел бесконечные дороги, по которым кочуют его соплеменники, сидел мысленно у потрескивающих костров, греясь родным теплом таборной суеты.
Всех их манило неподвижное ночное небо, оно прибавляло им сил, и они шли, подгоняемые кровавыми сполохами с запада, шли на восток, откуда каждый день восходит солнце и начинается спокойная светлая жизнь.
Они шли, видимо, недостаточно быстро, потому что на четвертые сутки пути услышали раскаты грозы впереди себя, а вечером увидели, что небо перед ними, спасительное небо востока, тоже полыхает и ворочается. Теперь все вокруг них горело и корчилось в смертельных муках, и они остановились в отчаянии и страхе, чувствуя свое бессилие.
Идти было некуда.
II
Они остановились у речки перед большим селом. Жадно напились, сполоснули грязные руки и пыльные, потные лица. Потом разулись и опустили в воду ноги. Их жгло, горячие стертые ноги в студеной проточной воде, их жгло садняще и больно, но вместе с этой болью возвращалось ощущение жизни и себя в этой жизни.
– Нам надо познакомиться, – предложил тихо старик в золотых очках, засовывая худые мокрые ступни в женские туфли. – Меня зовут Яков Абрамович Альпеншток, я был преподавателем, профессором. А это Роза, моя дочь. Ты пойди в кустики, Роза, помойся, мы подождем.
– Хорошо, папа, – сказала Роза и неслышной тенью ушла в кустики неподалеку, оставив возле старика свой узел.
Прохоров впервые услышал ее голос и умилился нежности его и певучести. Даже картавинка не портила его, а только оттеняла красоту и звучность.
Прохоров вытер пилоткой настывшие до боли ступни ног, обернул их потными жесткими портянками и надел кирзовые сапоги.
– Прохоров Иван я, колхозник из Орловской области, – сказал он. – И еще артиллерист, наводчик истребительно-противотанковой батареи.
– Бог огня, – сказал старик, деликатно улыбнувшись.
– Что? – не расслышал Прохоров, потирая ладонью звеневшее неумолчно темя.
– Артиллеристов так называют, – разъяснил старик смущенно, боясь, что красноармеец не поймет и обидится. – То есть, простите, бог войны, я спутал.
– Понятно, – сказал Прохоров и поглядел на цыгана, который уже надел свои легкие хромовые сапоги и сидел на траве, ощупывая раненую спину гитары.
Цыган потрогал спущенные струны, проверил гриф и сказал с обычной своей ненормальной улыбчивостью:
– Будет играть, дырку заткнем травой. А? Как зовут?.. Меня зовут Дрибас, Роман Дрибас. А что?
– Хорошо, – прошептал старик, радуясь первой беседе, отвлекающей его от боли в ногах и успокаивающей тем, что он еще не утратил способности мыслить и поэтому был свободным и всемогущим.
– Тише! – предупредил Прохоров, и они все замерли, прислушались.
В кустиках плескалась и сдавленно охала Роза, виден был белый силуэт ее обнаженного тела. Над речкой полз тонкий молочный туман, и тело Розы, казалось, рождалось из этого белого тумана, подымаясь над ним. Как в той древней легенде о рождении богини из пены морской.
В селе не было огней, оно вставало темной безмолвной стеной, и на красном небе были видны лишь остроконечные треугольники его крыш. Оттуда не доносилось ни единого звука, но ощутимо тянуло гарью. Прохоров определил, что пахло сгоревшей старой древесиной и прелой соломой, и решил, что в селе побывали, а возможно, и сейчас есть фашисты. Надо было рискнуть, потому что без хлеба они больше не продержатся. После питья и короткого отдыха голод стал нестерпимым.
Прохоров ощупал не перестававшую звенеть голову и размотал марлевую повязку. На лбу была косая и, кажется, глубокая царапина, запекшаяся кровью, где-то в темени стоял тонкий нескончаемый звон, отдающий в затылок болью. Поглядев в сторону кустиков, где тихо плескалась невидимая сейчас Роза, Прохоров помочился в ладонь и приложил ее ко лбу, чтобы отстал присохший к ране конец повязки. И грудь еще побаливает. Где же его контузило? На марше при отходе танки их, помнится, не преследовали, переправу полк начал тоже вроде бы спокойно, а дальше – пустота, вплоть до той минуты, когда он увидел себя рядом с цыганом. Больше суток, оказывается, он шел вместе с ним и не знал, что идет, что остался живой, – все это время, как и те минуты, в которые его контузило, будто вырезали, он будто и не жил тогда, мастер истребления вражеских танков, бог войны. Вот паразитство! Мало того, что потерял свой расчет вместе с пушкой, но и личного оружия нет, бежит, как побитая собака, а рядом дико улыбающийся цыган да блаженный старик с дочерью. Тоже боги. На Розу хоть молись – настоящая мадонна с иконы, а старик, если снять с него очки, в точности Христос, только поседевший.
Прохоров сунул белую повязку в темных кое-где разводах в карман, чтобы не демаскировала, и поднялся.
– Пойду в село, – объявил он.
– А мы? – спросил старик.
– Ждите.
– Ты придешь? – спросил цыган.
– Дурак, – сказал Прохоров. – Как же я вас брошу!
– Тогда я с тобой. Я первый конокрад, я ничего не боюсь.
– Напрасно. Разве можно сейчас ничего не бояться? Посиди и подумай. Если до утра не вернусь, подавайтесь сразу в леса.
– Возьмите, пожалуйста, нож, – сказал старик и подал крохотный перочинный ножик, единственное свое имущество.
Прохоров взял ножик, серьезно подумал, сунул в карман гимнастерки и шагнул в воду. Речка у переката была мелкой, он перешел ее в сапогах, вылез на другом берегу и пропал в тревожной ночной полумгле.
Неслышно подошла дрожащая Роза, села рядом с отцом, прижавшись к узлу. После купанья ее тряс озноб. Дрибас поглядел на нее и хотел прикрыть полой своего пиджака, Роза испуганно и брезгливо отодвинулась.
– Согреешься, – сказал Дрибас обиженно.
– Не трогайте ее, – попросил старик. – Роза, достань плед и накройся.
Роза развязала узел и закуталась, притихла. Молча они стали ждать.
Пожар был далек и бесшумен, горело только небо, а черное, словно обуглившееся, село стояло безмолвное и враждебное. Ни одного звука не доноси лось оттуда, только у ног сонно журчала речка, обтекая кусты и булькая на перекате.
– Человек есть нечто, что должно превозмочь, – сказал старик вполголоса.
– А? – не понял Дрибас.
– Да, – ответил старик. – Вся история человечества есть история войн и непрекращающейся борьбы. Человек воюет насмерть с самим собой и с природой, которая его породила.
– Ты грамотный, – сказал цыган.
– Папа, тебе нельзя волноваться. – Роза наклонилась к цыгану и прошептала с досадой: – Он болен, извините.
– Ага, у меня тоже всю семью, – сказал цыган. – И повозка, и конь Удалой...
– Вот именно, – опять не удержался старик. – Все живое поставлено под угрозу гибели. И конца этому не видно. В человеке много зверя, а кто из них победит, человек или зверь, неизвестно.
– Всем надо жить. Я никому не мешал, ездил. Цыгане по всей земле ездят и никому не мешают. Куда я теперь поеду, на чем?
– Вот именно...
– Папа! – с укором сказала Роза.
Старик покорно опустил голову, а цыган лег на спину, выставив бороду вверх, и закрыл глаза. Роза тревожно смотрела на черное село, выступающее из красного неспокойного неба, и ждала.
Прохоров возвратился перед рассветом. Под пазухой он держал каравай пшеничного хлеба, а в руке короткую крепкую палку. Скорее почувствовав, чем заметив голодные нетерпеливые взгляды, сказал сердитым полушепотом:
– Там виселицы. До рассвета надо уйти подальше, а потом укроемся в лесу.
Они с поспешной готовностью поднялись и опять пошли за ним долиной речки – туда, где корчилось кровавое небо, отражая судорожную борьбу вечно неспокойной земли.
Остановились в лесу, в глухой чащобе, неподалеку, от которой просвечивало сквозь кусты стекло заболоченного озерца. Сели под деревом, поглядывая на Прохорова, подождали.
Прохоров достал перочинный ножик, надрезал каравай с двух сторон, разломил пополам и одну половинку отдал Розе.
– На завтра. Спрячь в узел.
Вторую половину разделил на четыре части, подал кусок старику, затем Розе, потом Дрибасу.
– И Он разделил хлеб и роздал его людям, – сказал старик с великой библейской кротостью.
– Кто? – не понял Прохоров.
– Христос, – сказал старик.
Роза ела жадно, держа хлеб обеими руками и ни на кого не глядя, торопясь. Цыган жмурился от наслаждения, улыбался и, прежде чем съесть свою горбушку в одну минуту, обнюхал, обласкал ее всю. Старик положил свой кусок на свежеопавшие багрово-глянцевые листья и стал осматривать сбитые босые ноги, худые и грязные. Рядом лежали старые дамские туфли, которые он надел по рассеянности, потому что уходил уже тогда, когда в город ворвались фашисты.
– Ты ешь, Абрамыч, ешь, – ласково сказал ему Прохоров. – Есть не будешь – не дойдешь.
– Не дойду, – сказал старик, ощупывая пальцем белые на грязных пятках мозоли.
– Я тебе лапти сплету, ешь.
Старик вяло стал жевать.
Солнце уже вышло на полдень, свиристела в кустах птичья мелочь, крякали на озере утки, готовясь к осеннему перелету. И небо над этим лесным покоем было тихое, глубокое, голубое.
Прохоров вспомнил родную Дубровку, неподалеку от которой начинался вот такой же добрый лес, потом жену, бежавшую простоволосой за вагоном на третий день войны, вспомнил маленькую дочурку. Ему стало жалко, что он тогда не взял дочурку на станцию и простился с ней в деревне, надо было взять ее вместе с женой на станцию. Ей хоть и два годика только, а она все понимала, по лицам взрослых угадала все, и обняла его крепким, неотрывным объятием. Он и сейчас, два с лишним месяца спустя, ощущал родные мягкие ручонки, обхватившие его шею. И еще он вспомнил тучные хлеба, которые не успел убрать и которые вряд ли убрали так, как следовало убирать хозяевам, вспомнил налаженную недавно жизнь колхоза, оставленного на суетные женские руки.
Цыган с тоскливой улыбкой поглядывал, как старик жует хлеб, и думал о том, что за линией фронта его мобилизуют в армию и пошлют убивать этих зверей, которые так легко лишили его вольной жизни на бесконечных русских дорогах. И семьи лишили, и повозки на железном ходу, и жеребца Удалого, которого он с веселой безоглядностью украл в богатом украинском колхозе.
Смятенный мозг старика почти не воспринимал внешнего мира. Он перебирал в усталой голове страницы любимых книг, заключающих бесценные сокровища человеческой мысли, и всякий раз возвращался к страшным картинам разрушения родного города и попрания того, о чем писалось в книгах. Умница Лессинг, талантливейший Кант, бессмертный Гете, пламенный Шиллер, гениальный Гегель. Боги, рожденные этим народом и забытые им. Самовлюбленный Ницше заменил им настоящих властелинов мысли, той мысли, которая не нужна животным. «Человек есть нечто, что должно превозмочь». Этот его Заратустра просто параноик, его пошлые сентенции апеллируют ко всему низменному в человеке и не имеют никакой ценности.
Прохоров приказал всем спать, а сам остался дежурным, потому что была его очередь.
Он ободрал поблизости несколько молоденьких лип, выстругал перочинным ножом кочедык и сел плести старику лапти. Он относился к старику с почтением грамотного мужика к ученому, любовно жалел цыгана, как оседлый человек жалеет кочевника или взрослый ребенка, и глазами старшего брата глядел на лежащую у ног отца Розу, впавшую в глубокий сон.
Ее смуглая библейская красота успокаивала Прохорова, как успокаивала несложная эта работа, и он не просто видел, он ощущал незнакомый древний лес на покойной земле так же, как солнце и вечное небо, как родные бескрайние поля, оставленные им в неурочный час, осененный тревогой и болью. Все это, наверно, и называлось Родиной, и в эти дни смятения и растерянности, в дни страха и позора отступления Прохоров чувствовал, что в нем подымается исподволь, заполняя все его существо, необъяснимое и великое чувство Родины, глубоко спавшее прежде в тени житейской суеты. И вместе с этим чувством приходила уверенность и готовность к большой и трудной работе, готовность не минутная, не та, которая возникает при первых звуках набата, когда ты выбегаешь неодетый и с пустыми руками, а большая, настоящая готовность к борьбе, в которой ты необходим и обязан сделать все, даже умереть, добывая победу.
Прохоров чувствовал такую готовность в себе и думал, что пробираться ночами по родной земле не только стыдно, но просто непозволительно, надо любыми способами достать оружие и объединиться с другими группами солдат и беженцев, которые вот гак же, должно быть, прячутся и бегут ночами, бессильные заступиться за свою землю и защитить самих себя.
Когда проснулись его спутники, отдохнувшие и опять голодные, Прохоров сообщил им свое решение, и они приняли его, как принимают необходимость – без восторга, но с решимостью.
Старик никогда не брал в руки никакого оружия или каких-то похожих на оружие предметов, кроме столового и перочинного ножа, цыган заявил, что хорошо владеет только кнутом, а Роза улыбнулась смущенно и виновато.
– Ничего, – сказал Прохоров, – научимся. Надо только держаться вместе и быть готовыми ко всему.
– Когда враг не сдается, его уничтожают, – процитировал старик суровые слова добрейшего русского писателя.
– Правильно, – улыбнулся Прохоров. – Лапти готовы, Абрамыч, обувайся и будь у нас политруком.
Лапти пришлись впору, старик обернул ноги платком, разорванным надвое, цыган, помрачнев, расплел на оборы ременный кнут, и политрук, с большой серьезностью изучив запеленатые ступни, привязанные к этой странной клетчатой обуви, потопал на месте, а потом прошелся перед своим подразделением.
– Дня на два хватит, – сказал Прохоров. – Идемте.
И они пошли дальше.
IV
На закате солнца, когда они сделали очередной привал, Яков Абрамович пожаловался на боль в горле. Должно быть, застудил, напившись из ручья студеной воды.
Лесной массив кончился, вторую половину дня они шли полями, хоронясь в лесопосадках и стогах сена, когда появлялись самолеты или машины на дальней дороге, и сейчас сидели в неубранном пшеничном поле вокруг Прохорова, который шелушил в платок Розы только что сорванные колоски. Вдалеке виднелась открытая со всех сторон степная деревня.
– У него воспалены миндалины и весь зев, – сказала Роза, глядя в распяленный, с множеством золотых зубов рот отца. – Что же нам теперь делать?
– У меня тоже вся семья, – забормотал Дрибас. – И жена, и повозка на железном ходу, и конь Удалой... И еще деточки, двое... Деточки вы мои-и-и!.. – Он засмеялся и заплакал.
«Приходит понемногу в себя, – подумал Прохоров, – еще неделька-другая, и совсем очухается мужик».
– Заглянем в деревню, – сказал Прохоров. – Вот стемнеет, и пойдем. Продуктами, может, разживемся, узнаем, где находимся. У меня тоже голова не утихает, звенит и звенит, паразитство!
– На лбу у вас, вероятно, останется шрам, – сказала Роза. – Глубоко разорвано и неровно.
– Осколком пропахало. Пуля ровней работает, если не разрывная. – И спросил, крепко ли пострадал город от бомбежек. Такой красивый ведь у них город. Прохорову всего один раз довелось побывать в Киеве до войны, и он сразу ему полюбился.
– Ужасно, – сказала Роза, глядя на понурого отца. Он сидел усталый, безучастный, часто дышал и моргал слезящимися глазами. Вероятно, температура. – Мама у нас погибла в первую неделю при налете. Ходила в гастроном и на обратном пути... Институт наш тоже. А мои подружки кто эвакуировался с родитёлями, кто в Красную Армию санитарками. Я не могла оставить папу. Ему стало плохо после гибели мамы, а потом его засыпало в подвале при бомбежке. В городе много разрушений...
– Ты ромашки ему нарви, – посоветовал Прохоров. – Вон рядом с тобой кусточки и чуток подальше. А вон – еще. Где хлеба реже, там и ромашка и разная сорная трава. Для полосканья ромашка верное средство. Отварить только надо и дать настояться. А шею завяжи ему какой-нибудь тряпицей.
– У меня галстук есть. – Роза развязала узел и достала пионерский галстук, который она носила недавно, работая пионервожатой в подшефной школе. – Давай, папа.
Яков Абрамович послушно вытянул шею, Роза накинула ему галстук, завязала под горлом и впервые за всю дорогу улыбнулась:
– Ты, папа, как настоящий пионер! – Погладила его по плечу и пошла рвать жухлую, а где и совсем засохшую ромашку.
– Это ходьба его так изматывает, – сказал Прохоров. – Ты не горюй, Абрамыч, привыкнешь. Еще денька два-три, и втянешься, привыкнешь.
Он сгреб в пригоршню зерно вместе с мусором и, ссыпая его опять в платок, стал дуть, отвеивая полому и остья. Столько хлеба погибло этим летом у него на глазах, вспомнить страшно. И мяли-то его солдатскими сапогами, пушками, танками, и жгли на корню, и бросали без призора под открытым небом – никому не нужен, будто конец жизни наступил. И вот эти поля тоже осыпаются, не дождались крестьянских рук. Прохоров видел кое-где сжатую серпами и косами пшеницу – выборочно сжата, где погуще и поближе к жилью, – значит, колхозов уже нет, транспорта, машин не осталось, запасаются кто как может.
В деревню они сходили благополучно и даже удачливо, но ничего утешительного там не узнали.
Молодая хохлушка, хозяйка уютной побеленной снаружи хаты на краю деревни, сообщила им, что вороги уже хозяйнувалы тут, выбрали своей властью старосту, щоб вин сгинув, выбрали яких-тось полицаив, маткам их трясця, и колгоспа вже нема, а ворог бежить за червоноармейцами до самой Москвы.
Она была явно испугана ночными гостями и откровенно призналась в этом: живет на краю деревни, чоловика нема, вот дытына двух с половиной рокив, Ганной кличуть.
Беленькая девочка, босая, в ночной рубашечке, спущенная с рук на пол, покамест мать прибавляла свет в привернутой керосиновой лампе, держалась за широкий подол матери, и обе они испуганно разглядывали гостей: очкастого старичка в красном галстуке, бородатого цыгана с блестящей желтой серьгой в ухе, смуглую большеглазую девушку и русоволосого красноармейца в порванной на плечах гимнастерке, большого, обросшего, с косым шрамом через весь лоб.
Красноармеец стоял позади всех, подпирая потолок у порога, и по тому, как пропускал он в хату одного за другим своих спутников, а затем вошел сам, хозяйка догадалась, что он здесь старший. Она сразу отнеслась к нему с уважительным почтением, пригласила всех за стол, подав ему не табуретку, а стул, на котором прежде сидел ее «чоловик», и, рассказывая, обращалась чаще к нему, а потом уж к старичку в очках и к девушке. На цыгана, едва увидев его застывшую оскаленную улыбку, она боялась смотреть.
Повечеряли остатками борща, гречневой кашей с молоком, пареной тыквой. И в дорогу хозяйка не поскупилась: дала целый каравай хлеба, две горсти соли, новый алюминиевый котелок и едва початый коробок спичек. Прохоров спросил, нельзя ли остаться где-нибудь здесь – не обязательно в этой хате, но в этой деревне – девушке и ее отцу: он старый, больной, ему трудно идти дальше. Хозяйка испуганно замахала руками, и Прохоров понял ее без дальнейших объяснений. Абрамыча и Розу трудно принять a людей другой, не еврейской нации, трудно поэтому, и в случае беды, выдать за своих дальних родственников, а прятать в малой деревне, где каждый человек на виду, невозможно. Тем более одинокой женщине.
– Вас одного можу сховаты, – предложила она с виноватой улыбкой, просительно глядя на громоздившегося над ней Прохорова. Плотненькая такая, румяная, чернобровая молодка.
– Нельзя, – вздохнул Прохоров с жалостью к ней. – Куда я их дену. Опять же красноармеец я, солдат, семью дома оставил, а война только начинается. Спасибо за ужин, за привет, нам пора идти.
Хозяйка торопливо сунула ему пиджачок своего мужа, чтобы прикрыть рваную, съеденную потом гимнастерку. Прохоров развернул примерить, и хозяйка тут же выхватила его обратно – застеснялась, что предлагает одежку с такого мелкого телом человека, каким был ее муж. Особенно в сравнении с этим богатырем. Будто детскую распашонку держал, а не пиджак взрослого.
Они вышли из уютной хаты в ночь и двое суток потом шли степью и еще двое лесом, делая редкие остановки для отдыха и сна да еще для того, чтобы вскипятить в котелке ромашку для больного Абрамыча.
V
Если бы они не вышли из леса, они не увидели бы этой страшной картины на дороге, по которой отступали войска и толпы беженцев.
Они уже стали приходить в себя и старались притерпеться к своему положению, и вот эта разбитая дорога, вздутые трупы людей и лошадей, остовы сгоревших машин, раздавленные повозки и ручные тележки, смешанная с землей домашняя утварь...
С Розой случился истерический припадок, а потом ее вырвало на этой зловонной дороге, перепаханной танками, она забыла свой узел и побежала назад в лес, увлекая за руку отца, который упирался и хотел показать ей место разрыва снаряда или бомбы, он не мог определить точно, удивительное место взрыва, которое потрясло его жуткой похожестью на солнце. То есть настолько похоже, говорил он с воодушевлением, стараясь удержать Розу и вернуть ее к тому месту, а она боялась и тащила его за собой, настолько похоже, что невольно пришла великолепная, блестящая мысль, впрочем требующая уточнений, но мысль важная, и ее хотелось немедленно развить для последующей реализации.
Дрибас побежал за ними, но у самого леса наткнулся в кустах шиповника на обнаженные тела двух молодых женщин с вырезанными грудями и оцепенел. Оба трупа лежали в бесстыдных позах и глядели кричащими стеклянными глазами в небо. Трава вокруг была истоптана, убита, звенели зеленые жирные мухи, на кустах висело порванное платье в коричнево-темных разводах высохшей крови.
Прохоров за два месяца боев нагляделся на трупы, но и ему было нехорошо. Он успел подобрать солдатский подсумок с гранатой-лимонкой в нем когда услышал приближающийся шум моторов. Оглянулся – Роза с Абрамычем были у самого леса, Дрибас стоял в кустах шиповника, потрясая кулаками. Прохоров сунул гранату в карман и, по-медвежьи косолапя, тяжело побежал к нему.
– Звери! – кричал Дрибас над поруганными трупами. – Волки бешеныя-а!
Прохоров схватил его за рукав и потащил к лесу, где скрылись старик и Роза. Цыган кричал и вырывался, чтобы вернуться назад, он кричал, что догонит зверей и перегрызет им горло, а сзади наплывал, приближаясь, грохот машин, и Прохорову пришлось ударить его, ударить крепко, чтобы он почувствовал боль и вспомнил о себе.
Они догнали старика и Розу и опять ушли в глубь леса и шли весь день и всю ночь, пока не победили тяжелой, мертвой усталостью тот недавний кошмар, встреченный на большой дороге.
Цыган вначале злобно ругался и скрипел зубами, а вспомнив свою семью, плакал; Роза думала о забытых вещах, стараясь этой потерей заслониться от недавнего ужаса; Прохоров жалел, что ничего не подобрал на дороге, кроме гранаты, хоть бы пистолет на первый случай, штык хотя бы или нож иметь для постоянного пользования, а граната будет вроде артиллерии, на особый случай. Старик думал о той поразившей его воронке от снаряда, которая была похожа на солнце. Это странное сходство рождало мысли фантастически смелые, они лихорадочно теснились в голове, он не замечал усталости, проверял эти мысли и обостренной интуицией ученого чувствовал уже тот возможный результат, который может изменить несчастный ход событий и вернуть землю к миру и созиданию.
Дважды они слышали в лесу человеческие голоса, но первый раз торопились уйти поскорее от страшного места на дороге и не остановились, а второй раз затаились и увидели группу оборванных красноармейцев, которые вполголоса разговаривали, отыскивая дорогу. Прохоров хотел их окликнуть, но Роза догадалась об этом его намерении и испуганной ладошкой закрыла ему рот, умоляя взглядом молчать: позже она объяснила, что очень боится солдат. Дурочка, конечно. Прохоров отругал ее: чего бояться своих красноармейцев, не съедят же принародно, не надругаются, соображать надо.
Утром Прохоров объявил привал до вечера.
Надо было отдохнуть, набрать для еды грибов и ягод и сплести новые лапти. У старика уж пятки выглядывали наружу, у бедолаги. Вот Роза молодец, ладно была экипирована, ловко. И туфли у нее физкультурные, легкие, и платье темное, не маркое, и красная кофточка поверх платья шерстяная, теплая, не простудишься ночью. А Яков Абрамыч, видно, как был в домашнем обмундировании, так и отправился. Лучше всех для летнего времени был экипирован цыган. Сапоги у него легкие, хромовые, штаны широкие, с напуском, рубашка вышитая, украинская, а поверх рубашки легкий тоже пиджак. Парубок, жених, а не беженец. Косматый только очень, голова не покрыта: фуражку потерял во время бомбежки.
Роза сидела грустная, подавленная.
– В узле-то одежу несла? – вспомнил Прохоров.
– Одежду, – сказала Роза. – Папин костюм и мое пальто. Да еще две книги. – Поколебавшись, добавила: – И столовое серебро еще.
– Жалко, – сказал Прохоров. – Надо было сказать сразу, мы вернулись бы. Дрибас вон тоже котелок оставил. Теперь и воду скипятить не в чем.
– Я боялась.
– Ты боялась, а я не заметил сперва, иду и иду. К вечеру уж хватился, что ты пустая идешь, без узла.
Они сидели прямо на земле у корявого старого вяза, отдыхали. Утро опять выдалось солнечное, тихое и теплое, погода будто жалела их и, жалеючи, щадила.
– Та яма по форме приближалась к кругу, – сказал старик. – То есть я имею в виду воронку от снаряда или бомбы, она была очень круглой, эта воронка, и от ее границ во все стороны, как лучи от солнца, растекались выбросы земли. Как лучи, понимаете? Это очень важно – место взрыва напоминает по форме диск солнца!
– Папа, тебе нельзя волноваться, – сказала Роза с тревогой.
– Да, да, разумеется. И прошу запомнить, что на Солнце происходит не что иное, как постоянные взрывы, то есть не вполне взрывы, а такие процессы, при которых происходит замена одного элемента другим, точнее – водород превращается в гелий, и в результате высвобождается громадное количество энергии. Понимаете? Эту энергию Солнце посылает нам в виде тепла и света.
– Зимой тепла нет, – сказал Дрибас, снимая с плеча бечевку с привязанной гитарой и укладываясь спать.
Прохоров тоже подумал о зиме, но не сказал, потому что почитал ученость Абрамыча и глядел на него с уважительной робостью, как на прорицателя.
– Не в этом дело, – досадливо сказал старик, поправляя одним пальцем очки. – И там и здесь мы имеем, грубо говоря, энергию взрывов, и вот в одном случае она дает жизнь, в другом сеет смерть. Это очень важно. Человечество стоит на пути к овладению законами солнечной деятельности, то есть в ближайшем будущем мы должны открыть мощные источники энергии, вы даже представить не в состоянии, насколько они будут мощны и неисчерпаемы. Любые жизненные потребности человека будут удовлетворены, любые!
Старик воодушевлялся с каждой минутой, ему было непривычно говорить сидя, и он, будто и не было суточного бессонного перехода, встал, опираясь о ствол вяза, и, несмотря на тревожные просьбы Розы успокоиться, продолжал говорить, словно находился он в привычной вузовской аудитории, а не в лесу, где его слушали косматый полудикий цыган, перепуганная дочь да усталый, оборванный красноармеец, который выгребал из карманов брюк мятые, раскрошившиеся грибы.
Прохоров глядел на старика с жалостью и смирением – маленький седой Абрамыч с красным галстуком на шее стоял сейчас над ними, как бог, он был всесилен, потому что видел спасение всего человечества и знал, как это сделать. Прохоров глядел на него и думал, что Абрамыча надо во что бы то ни стало сберечь и довести до наших в целости. Злобы на земле много, и жадности много, он правильно сказал, а как сделать, чтобы все люди скорее стали хорошими, неизвестно. А сделать это надо обязательно, иначе никакой жизни на земле не останется.
VI
После отдыха Прохоров хотел сплести старику новые лапти, а все «подразделение» послать за грибами и ягодами, но тут выяснилось, что ни один из его товарищей к лесной работе не пригоден. Дрибас никогда не собирал ни грибов, ни ягод, цыгане живут не этим, возле сел кормятся, возле городов, а Роза и Абрамыч сами городские люди, откуда им знать про грибы, наберут поганок, отравятся запросто.
Прохоров наказал никуда от этого приметного вяза не отлучаться, спать до его возвращения, взял у Розы платок вместо посуды и отправился.
К обеду он принес липового лыка для лаптей, узел грибов и два кармана орехов. Спутники его спали. Дрибас лежал, раскинув руки, как распятый, рядом со своей гитарой и храпел. Роза свернулась у ног отца, который сидел, прислонившись спиной к стволу вяза, и будто не спал, а о чем-то думал, закрыв глаза.
Прохоров пожалел их будить и сел рядом плести лапти. Кочедык в этот раз он выстругал ловкий, по руке, лыко тоже подобрал доброе, жаль только, размочить его некогда, ломается на крутых сгибах, но все равно работа шла споро. Покойник дедушка, пожалуй, похвалил бы его, мастером назвал бы. А он этих лаптей за свою жизнь сплел тьму, вся семья прежде в них щеголяла, и ребятишки и взрослые.
Прохоров расслабленно вздохнул. Бегать в этой обувке хорошо – легкая, на сенокосе удобство тоже большое, на жнитве, но крепости мало. Вот сапоги, тут дело другое, надежное, особо если яловые они да подошва двойная, со стелькой, да подковки поставить – износу не будет. Весной он справил себе такие, когда аванс на трудодни получили, а жене хромовые купил, теперь у ней двое, для будней и для праздников. Не скоро теперь дождешься праздников. Эти германцы так лютуют, что не дай и не приведи господь. В том селе, куда он в первый раз ходил за хлебом, три виселицы стояло, все три парные. Баба сказывала, что политрука утром повесили, раненный, попался, председателя сельского с тремя комсомольцами да еврея из беженцев. Простой, говорит, еврей-то, сапожник, портной ли. За что они их невзлюбили? И цыган тоже. Та же баба сказывала, что цыганский табор подавили танком вместе с детьми.
Прохоров тогда хотел рассказать Абрамычу и Дрибасу, но потом раздумал: пользы никакой, а вред обязательный будет при нынешнем положении.
Надо вот оружие добыть, без оружия какой ты солдат. И цыган только злобно улыбается, а дай ему оружие, золотой боец будет, не за один свой табор поквитается.
Первым проснулся старик. Прохоров заметил это, когда увидел, что тот протирает очки полой пижамы. Без очков он казался совсем растерянным, часто мигал выпуклыми слезящимися глазами и будто вспоминал что и не мог вспомнить.
– Разувайся, Абрамыч, – сказал ему Прохоров, – новые обуешь, а тем я пятки залатаю, сменные будут.
– Хорошо, хорошо, – сказал старик, надел очки и торопливо стал развязывать ременные оборы. – Весьма остроумная обувь, вы своевременно вспомнили.
– Нужда вспомнила, не я, – сказал Прохоров. – Держи! – И кинул старику новые лапти.
С тревожным криком вскочил Дрибас и разбудил Розу. Прохоров строго поглядел на него и стал высыпать из карманов орехи, чтобы разделить их на четыре кучки и есть с грибами. Сырой гриб есть безо всего опасно, а с орехами помаленьку ничего, орехи вместо хлеба пойдут.
– Сон какой видал, что ли? – спросил он Дрибаса.
Дрибас не ответил, помотал косматой головой с налипшими желтыми листьями и пошел к озеру умываться. Роза стала помогать отцу переобуваться.
– А потом обедать станем, – сказал Прохоров, развязывая узел с грибами. Их тоже надо было разделить, и есть понемножку, а то станет нехорошо.
Разделив, он стал чистить свои грибы и заметил, что у него отросли длинные ногти. С полмесяца, поди, не стриг, если не больше, и волосы – он пощупал тяжелый от неутихающего звона затылок – тоже пора укоротить. И наметившуюся бороду. Если не брить, как у цыгана вырастет, только русая, а не черная.
С пучком зеленого мха возвратился Дрибас, молча заткнул дыру в спине гитары и, усевшись на земле, стал ее настраивать.
Старик неумело обувал новые лапти.
– Ты пятку подтяни, пятку, – посоветовал Прохоров, глядя на белые в синих жилках руки старика. – Если пятку подтянешь крепко, никуда не денется... Во-от! А теперь с боков прихвати и вокруг ноги обору-то, вокруг ноги мотай...
Дрибас вздохнул, перебрал звучные струны гитары и вдруг застонал громко:
– Ах ты, воля, моя воля,
Воля вольная моя!
Воля – сокол поднебесный,
Воля – светлая заря!
Прохоров вздрогнул при первых его словах, поглядел на Розу и увидел, что она снисходительно поморщилась. А Дрибас пел от души, и столько сразу хлынуло тоски, столько горя забилось в низком и сильном его голосе.
Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я?
Знать, горячая молитва
Долетела до царя!
Склонивши голову и распустив по красному телу гитары черную бороду, Дрибас щипал обломанными ногтями струны и вдруг ударил по ним всей пятерней, встряхнул вороной своей гривой, и не старая песня, а целая река горечи захлестнула их знобяще-холодными волнами.
– Девятнадцатый век, – сказал старик, сняв очки и моргая выпученными глазами, – век радужных надежд и детской веры в близкое счастье...
Прохоров не сводил глаз с цыгана и со страхом ждал, что вот сейчас он ударит еще сильнее по струнам своей раненой гитары, и что-то случится тут необычайное, опасное. Никогда он не предполагал, что песня может принести такую боль, не думал, что эту боль может передать вот так один человек другому. И если утром он с религиозным почтением глядел на старика, поклоняясь его учености, то теперь точно так же он глядел на цыгана, боготворя его пламенное сердце.
А Дрибас уже не тосковал – он буйствовал в новой песне, он плакал, смеялся, угрожал, просил, требовал:
...Перережьте горло мне, перережьте вены.
Только не порвите серебряные струны!
Но гитару унесли, отняли свободу,
Упирался я, кричал: – Что же вы, не надо!
Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду,
Только не порвите серебряные струны!
Подавленный силой его чувства, Прохоров не следил за словами, не думал о них, а только с робостью глядел на Дрибаса и впервые не понимал, что же это с ним происходит. С ним самим, а не с этим черногривым, обезумевшим в песне цыганом. Вот паразитство, надо же так! Тягостные дни отступления, бегство, одиночество и отчаяние, голод, ощущение большой беды – все это навалилось сразу и сразу же, как ответ на это, поднялось острое чувство протеста, злости, необходимости действовать, а не ползти ужом и оглядываться на каждый шорох. Надо сейчас не сидеть, а идти немедленно, выходить поближе к селам, к дорогам и скорее достать оружие, иначе тебя подстрелят, как куропатку, либо ты сам подохнешь с голоду в этих глухих дебрях.
Что же это, братцы, не видать мне доли!
Ни денечков светлых, ни ночей, ох, лунных!
Загубили душу мне, отобрали волю,
А теперь порвали серебряные струны!
Дрибас не плакал – он рыдал, рыдал без слез, выкрикивая под свою дикую музыку жалостные слова и поминутно встряхивая вороной гривой.
– Национализм страшен, а фашизм ужасен, – сказал старик, не обращая внимания на цыгана. – На родине Гумбольдта и Геккеля появились «расовые» науки, на родине Эйнштейна и Планка создается «арийская физика»... – Он покачал головой.
– Ты не расстраивайся, – сказал Прохоров. – Не завоюют они нас, не сладят. А если, не дай бог, и сладят, так все равно земля у нас большая, народу много – переварим и рассосем, как татар в старое время.
– Они исповедуют мистическую космогонию Горбигера, – сказал старик. – Наш мир по этой теории – пещера внутри скалы, а звезды суть ледяные массы. Отсюда вся история космоса есть история борьбы огня и льда, а войны – явление нормальное. Фашисты будут воевать для того, чтобы приблизить наступление нового исторического цикла, когда произойдут глубокие мутации и на Землю вернется человеко-бог, чтобы пересмотреть свои творения. Некоторые из этих творений – цыгане, евреи, негры – выродились и являются не животными даже, а гораздо ниже. Гитлер убежден, что евреи – существа, чуждые естественному порядку природы.
– Я его удавлю, – сказал цыган. – На кнуте повешу, сволочь!
VII
На десятый или одиннадцатый день – счет времени точно никто не вел – они вышли к селу неподалеку от леса. Рядом лежал большой шоссейный тракт, и Прохоров подумал, что в селе наверняка есть фашисты. Солнце уже село, наступали сумерки, надо дождаться темноты, чтобы пройти туда за хлебом и узнать, что это за край.
Они стояли, затаившись в кустах на опушке леса, куда подходили картофельные огороды, разглядывали село с красной кирпичной церковью в центре, прислушивались.
Ничего тревожного вроде не было. Изредка без нужды и злобы тявкали собаки, заржала лошадь в ближнем проулке, стучали где-то у церкви топоры, донеслась оттуда же чужая лающая речь.
– Я сдохну от голода, – сказал Дрибас. – Чего мы ждем?
– Ночи, – тихо сказал Прохоров. – Пока не стемнеет, не пойдем. Там немцы, слыхал ведь.
– Боишься? А я пойду, хватит!
– И не думай, не пущу.
– A-а, пошел ты!.. – Дрибас перемахнул канаву и, не оглядываясь, побежал картофельными грядками к селу. За спиной его легко порхала в ритме бега красная гитара. Будто на концерт бежит, открыто, во весь рост.
– Ложись сейчас же! – прошипел вслед Прохоров. – Ползком же надо, по-пластунски... Ах ты, паразитство!..
– Смелый, – прошептала Роза, дрожа от волнения.
– Дурак он, дурак набитый! – досадовал Прохоров, глядя сквозь кусты на бегущего во весь рост цыгана. – Бежать-то зачем? Если в открытую решил, то шагом надо, а не бегом. Ах, паразитство! Вот сейчас заметят, и крышка...
– Вероятно, он не мог иначе, – заметил старик,
Дрибас миновал огороды, перескочил с ходу прясло в две жерди и побежал к хлеву, за которым вставала ближняя изба.
– Сейчас собаки зальются, – сказал Прохоров.
Нет, все было тихо, никакой тревоги пока не возникло.
Дрибас вышел из-за хлева к избе, вот он уже на крыльце, ждет. Постучался, поди, и ждет. А может, не стучал еще, а только прислушивается, решает, стучать или погодить. Вот уже скрылся за дверью. Значит, собак здесь нет и в соседях тоже повезло.
Прохоров велел всем сесть за кустами, и они стали ждать.
Было прохладно, знобко. Прохоров чувствовал, как под гимнастеркой взошли пупырышки гусиной кожи, Абрамыч дрожал в своей пижаме, Роза прижала рукой подбородок, чтобы не стучали зубы. Кофточка у нее шерстяная поверх платья, а не помогает – это уж не от холода, а от страха, от близкой опасности.
– Давайте поближе друг к дружке, – сказал Прохоров и пересел к старику, который оказался в середке, между ним и Розой. – Вот стемнеет, и я его приведу.
– Мы одни не останемся, – прошептала Роза.
– Не надо бояться, – сказал дрожащий Абрамыч.
Из избы, где скрылся Дрибас, вышел высокий мужик и с подозрительной поспешностью зашагал в сторону церкви. Оттуда по-прежнему доносился стук топоров и изредка слышались чужие громкие окрики. По вечерней заре хорошо раскатывается самый малый звук – погода, наверно, изменится.
– Я пойду, – сказал Прохоров. – Ждите меня здесь. Если заметите что-то тревожное, опасное, отступите к оврагу, который мы недавно проходили, и затаитесь, я вас там найду. Поняли?
– Поняли, – прошептала Роза.
Прохоров раздвинул кусты и, не поднимаясь с колен, нырнул в огород меж картофельных пожелтевших уже рядов с жухлой ботвой. Он полз быстро, спешил, разодранная во многих местах гимнастерка почти сползла с его плеч, в голенища сапог набилась земля. Неподалеку от хлева он поднялся и сделал перебежку прямо к избе. Ждать не было времени, тот высокий мужик сейчас, поди, уже у церкви, и торопился он туда не зря. Прохоров доверял своему чутью, оно редко его подводило.
Стараясь утишить рвущееся из груди дыхание, он на миг прислушался, вскочил на крыльцо и толкнул сенную дверь. В темноте он не разглядел, а скорее угадал расположение двери в избу, достал из кармана гранату и рывком распахнул дверь.
Дрибас лежал на спине посреди избы, опутанный веревкой. Лицо его было разбито, борода в крови, под глазом виднелся синий фонарь. Он злобно плакал и ругался, ворочал белыми глазами на худенькую бабенку, которая сторожила его с кочергой в руках. Рядом валялись щепки и сломанный гриф разбитой гитары.
Увидев обросшего красноармейца в драной грязной гимнастерке, бабенка в ужасе округлила глаза, раскрыла рот для крика, но Прохоров приложил палец к губам и показал ей загодя приготовленную гранату. Бабенка тихо ойкнула и, обморочно обмякнув, съехала с лавки на пол. Кочерга выпала у нее из рук.
– Это враги, звери, – хрипел Дрибас, силясь освободиться от стянувших его пут.
– Молчи, – приказал ему Прохоров. Достал перочинный ножик и в двух местах перепилил веревку. – Теперь вставай и дуй без оглядки в лес. Живо!
Прохоров торопливым взглядом обежал избу, увидел на припечке большой ватник, схватил его и выскочил на крыльцо вслед за цыганом.
Дрибас бешено выдирал из-под бревна у завалинки длинную корявую палку.
– В лес, сейчас же в лес! – свистяще прошептал Прохоров.
Но Дрибас уже вырвал палку и кинулся с ней в улицу. Прохоров в два прыжка настиг его и сгреб в охапку:
– В лес, дурак, убью! – Вырвал палку и подтолкнул его к огороду.
Убедившись, что цыган подчинился, Прохоров выглянул из-за угла избы в улицу и вдали, там, где она выходила к церковной площади, увидел виселицу, где суетились человеческие фигурки и стучали топоры. «Должно быть, к завтраму строят, нынче уж некогда, темнеет».
Прохоров подобрал ватник, брошенный в борьбе с цыганом, и открыто побежал к лесу. У самой опушки он разглядел в кустах красную кофточку Розы и вспомнил, что возвратился без хлеба. В избе наверняка была какая-то еда. Надо хоть картошки надергать немного.
Дрибас уже был в «подразделении», запаленно дышал и, всхлипывая, рассказывал, что его предал мужик, простой мужик, все пропало, кругом измена, конец.
Прохоров вырвал несколько сухих кустов, подобрал в подол гимнастерки десятка полтора довольно крупных картофелин и ссыпал их у ног своих спутников.
– Замолчи, – приказал он Дрибасу и стал надевать добытый ватник. В лад пришелся, будто на него шили. – Надо сейчас же уходить, а то прихлопнут, как куропаток. Идемте.
Они разобрали влажную, в земле картошку и заторопились лесом дальше, в обход села.
VIII
В этой лесной сторожке, километрах в пяти-шести от села, им не следовало бы останавливаться. Прохоров сознавал неразумность своего решения, но все они смертельно устали, и надо было сделать большой привал, чтобы попить свежей водицы и хорошенько отдохнуть. Картошку они съели сырой, на ходу.
Возле избушки лесника, рядом с дощатым сараем, в одной половине которого было сложено сено, а в другой еще не выветрился запах конского навоза, стоял на полянке колодезный журавель. Вода в колодце оказалась мягкой и вкусной.
Лесного объездчика, должно быть, не было здесь уже порядочное время: тропинка от просеки к сторожке взялась травой, а в самой сторожке стоял нежилой дух. Брошенное человеческое жилье дичает быстрее места обитания животных.
На остановку Прохоров сперва решительно не соглашался. Сразу после сумерек встала полная луна, а небо – без единого облачка, светлынь, и кордон расположен на полянке у самой просеки – подъезжай, бери их голыми руками. Единственная надежда: ночью фашисты не начнут поиски. Если сразу не начали, теперь уже не начнут. Подумаешь, бродячий цыган зашел в село. Таких бродячих сейчас, поди, немало. В том числе и красноармейцев. Неужто на каждого немцы станут устраивать облавы.
Прохоров не сердился на Дрибаса, скорее он жалел его за неразумность, но все же подумал про себя, что в одиночку он быстрее бы вышел к своим, а теперь твердой надежды на это нет. Цыган совсем необъезженный, ошалел после гибели табора, а может, всегда был такой. Роза боится каждого шороха, а старик, должно быть, тронулся умом – что-то все бормочет и бормочет сам с собой.
Надо было не отрываться тогда от общей массы беженцев или пристать потом к какой-нибудь такой же группе, хоть к тем красноармейцам, которых они слышали в лесу, но Роза очень уж боялась солдат, а Прохоров все надеялся, что передовая близко и они скоро сумеют выйти к своим.
Он потер поврежденный лоб – косая глубокая царапина покрылась коркой и местами отставала, – потер темя, откуда шел, отдаваясь в затылке, постоянный звон, и напился.
Они сидели на траве у колодца, рядом стояла отцепленная от журавля бадья с водой, к которой они по очереди прикладывались.
В лесу было тихо, почти бесшумно, лишь неподалеку кто-то маленький, может ежик, шуршал листвой да неожиданно близко мяукнула кошка, испугав их всех. Наверное, лесникова кошка: они не скоро покидают оставленное хозяевами жилье, ждут их. Вот и эта услышала людей и подает весть о себе.
– Кис-кис-кис, – поманил Прохоров и прислушался.
Кошка не отозвалась, но в траве у сарая блеснули в лунном свете две зеленые искры. Подойдет сама. Если не одичала совсем, то подойдет.
Старик что-то сказал вполголоса, потом повторил погромче.
– Ты чего бормочешь, Абрамыч? – спросил Прохоров.
– А? Я? – Старик смутился от неожиданности стороннего вмешательства и заторопился с объяснением: – Я уточняю главную мысль. Немцы поддались фашистской пропаганде только по своему легковерию, а пошли за ними по извечной своей почтительности ко всякой власти. Надо начать контрпропаганду и раскрыть глаза рядовому немцу и всему немецкому народу на действительное положение вещей...
– Они повесили бы меня утром, – сказал Дрибас. – Тот изменник, сволочь, говорил своей жене: «Вот пан офицер обрадуется повесить цыгана рядом с красным учителем!»
– А гитару-то зачем ты не снял, повеселить их хотел, что ли? – спросил Прохоров. Не мстительно спросил, не с ехидством, но так, чтобы Дрибас помнил о своей глупости и думал про своих товарищей, прежде чем подвергать себя напрасному риску.
– Забыл ее снять, – огрызнулся Дрибас.
– Среди фашистского офицерства наверняка много интеллигентов, – продолжал старик. – Первое слово истины надо обратить к ним, затем говорить с солдатами.
– Я спать хочу, – заявил Дрибас. – У меня все тело болит, я спать хочу.
– Ты умойся, – посоветовал Прохоров. – Кровь хоть смой.
– Не хочу умываться, я спать хочу, спать, спать!
Это уж был припадок, истерика, придется хоть до полуночи дать отдых. Но все же согласился Прохоров не сразу:
– Просека-то проезжая, колея вон видна. И ведет в сторону села. Нельзя нам здесь оставаться.
– Ты трус! – закричал Дрибас. – Мы бежим и бежим, как зайцы. Хватит! Хватит твоего командирства, не хочу, не могу, мы все не хотим!
Прохоров озадаченно поглядел на своих товарищей: сперва на Дрибаса, потом на Абрамыча, затем на Розу.
– Я устала, я не могу больше идти голодной, – сказала Роза и потупила голову. Она вспомнила извивавшегося меж картофельных кустов Прохорова, – такой большой, сильный, а ползет, как уж! – вспомнила открыто бегущего Дрибаса, черногривого, с горящими глазами, и сопоставление это было не и пользу Прохорова.
– Понимаете, в чем дело... – Абрамыч смущенно поправил пальцем очки. – Я не склонен к такому категорическому рассуждению, как товарищ Дрибас, нс хочу жаловаться, как моя дочь Роза, но я все же полагаю, что нам пора перейти к активным действиям.
Прохоров удивился: эти люди обвиняли его в трусости и бездействии! Его, прошедшего кадровую службу красноармейца, знающего и сильного, который уже на второй неделе войны был на фронте! И не бежал он, артиллерист Прохоров, никогда не бежал до сих пор, а больше месяца отходил с боями, не раз бывал на прямой наводке без всякого прикрытия, ходил в контратаки, знал рукопашный бой. Как же так, почему?.. И в голове стоит и стоит мучительный звон, не затухая. Или они чувствуют какую-то свою правоту, или от голода это, от усталости? Скорее всего просто отчаялись, а если и правы, то это правота людей, которые приняли опеку более сильного человека и сами не отвечают за свое положение, полагаются на красноармейца Прохорова. А он что, бог, что ли?..
Прохоров чувствовал к ним, беззащитным, не просто приязнь спутника, но сердечную жалость товарища по общей беде и большую за их судьбы ответственность. Куда они без него? Оставь в лесу – заблудятся, умрут с голоду, выведи на дорогу или к жилью – тоже пропадут.
Надо разуться, ноги совсем сопрели, гудят от усталости.
– Как же будем решать, Абрамыч? – спросил он.
Старик опять вздрогнул от неожиданности.
– Я? Вы ко мне? Я полагаю, что контрпропаганда в настоящей ситуации может сыграть решающую роль. Вы только представьте себе, товарищи, что может получиться... – И стал развивать эту свою идею, и уже видел себя во главе нового движения, чувствовал себя не просто отважным и смелым, но настоящим героем, благородным и несокрушимым, и все люди внимают ему и идут за ним, а в случае его гибели – война есть война! – само его имя станет знаменем для победителей, символом победы и вечного мира на земле.
Прохоров покивал лохматой, давно нечесаной головой:
– Ты у нас политрук, Абрамыч, правильно, думай. Все время думай. Только сейчас другой разговор: спать нам или идти дальше?
– А как вам угодно? – ответил старик полувопросительно. – Лично я не думаю спать, не хочу.
– Ладно, до полуночи отбой, – решил Прохоров и поднялся. – Спать будем в сарае. Сено там свежее, тепло будет, хорошо. И уйти, в случае чего, легче.
– А как вы определите время полночи? – спросила Роза. – У нас же нет часов.
– Узнаю, – сказал Прохоров. – Звезды вон есть, месяц... Идемте.
Сено в сарае, когда его разворошили для постели, запахло июньским цветущим лугом, солнцем, далеким раздольем мирной жизни. И Прохорову так захотелось упасть в копну, зарыться с головой в это чудо, чтобы не вставать больше никогда. Он потрогал заднюю стенку сарая, подумал и выбил ногой снизу одну, две, три доски. Они остались держаться на верхних гвоздях.
– Видали? – спросил Прохоров, хотя увидеть что-то в ночном сумраке сарая было трудно. – В случае чего, отодвигаем эти доски вот так – он со скрипом отодвинул доски и на их месте обозначился лунно-белый косой проход, – выскакиваем и сразу оказываемся в лесу.
– Понятно, – сказала за всех Роза.
– Тогда спите, я останусь за дежурного. Если все будет тихо, успею подремать и я.
– Славно! – воскликнул Яков Абрамович. – Я тоже отказываюсь. Я, знаете ли, не только из солидарности, я просто не хочу спать. Представьте себе, не хочу совсем. В детстве я однажды две ночи не спал. Соседские ребята натерли мне губы свиным салом, а у нас запрещалось есть свинину, вот я и не спал, переживал свой религиозный позор. Удивительно, правда?..
Роза, едва приклонив голову, сладко засопела, вслед за ней захрапел у другой стены сарая Дрибас. Яков Абрамович сидел рядом с Прохоровым у открытого дверного проема и смотрел на пустынную просеку. Залитая лунным светом, она была похожа на зеленый коридор меж высоких лесных стен, и зубчатые верхушки этих стен были контрастно четкими, рельефными, отбрасывая в небо светлые тени. Как нимбы.
– Значит, ваша вера запрещает есть свинину? – спросил Прохоров, стаскивая сапоги.
– Запрещает. Есть какой-то религиозный миф, что-то такое фантастическое. В детстве я слышал от матери сказку на эту тему, но вот не могу вспомнить. Что-то происходит с моей головой: вдруг вижу далеко-далеко наше прошлое. Или будущее. Мысленно, разумеется. Но в эти часы теряю контакт с настоящим, и мне кажется, что мысль в это время... как бы вам объяснить?.. ну, вращается на месте, пробуксовывает, не сообщая поступательного движения всей машине.
Прохоров размотал портянки и коснулся босыми ногами сухого сена – щекотно, колко, хорошо. Господи, как же хорошо-то! Вот так на сенокосе бывало: разуешься у речки после жаркого дня, после работы, ноги задубели, гудят – подойдешь к бережку и не купаться сразу бросаешься, а сядешь на травку и опустишь ноги в воду: остываешь. Благода-ать!
Ухают, озоруют, хохочут перед тобой мужики и холостые ребята в омуте, визжат и плещутся в сторонке бабы с девками, а ты сидишь и радуешься оттого, что в любой миг, вот прямо хоть сейчас можешь вскочить и сигануть с разбегу в эту веселую прохладную воду – чтобы превратиться в чистого, обновленного.
Хорошо это – быть дома и знать, что в любую минуту ты можешь сделать то, что тебе больше всего хочется.
Прохоров улыбнулся, пошевелил голыми пальцами ног и встал. Ничего, вешать нос еще рано. Мы на своей земле, и она так просто нас не выдаст.
Он вздохнул и пошел к колодцу мыть ноги.
IX
– А наша вера запрещает есть конину, – продолжал Прохоров прерванный разговор, чтобы не заснуть. – Сказка про это есть или былина, не знаю уж, как правильно назвать. О рождении Христа. Родился Иисус Христос будто бы в хлеве среди скотины, и пришлось ему полежать какое-то время в кормовых яслях. И вот подошла к яслям лошадь, стала есть сено, выдергивает его пучками из-под младенца, и нечаянно перевернула младенца вниз лицом, затрусила сеном. Младенец стал задыхаться, того и гляди, погибнет, но тут подошла свинья, разрыла то сено и перевернула младенца лицом кверху, спасла от смерти. Вот Бог-отец и проклял с тех пор лошадь, назвал поганой и обрек ее всю жизнь работать, а свинью отличил – гуляй без трудов, радуйся, нагуливай сдобное тело.
– Странно, – сказал Яков Абрамович раздумчиво. – Бог вроде бы отличил свинью, осчастливил, но если объективно, то жестоко наказал, разрешив есть ее мясо. Ведь все мы любим молодое мясо, оно качественней, и, следовательно, век свиньи резко укорачивается.
– Зато молодые всегда счастливые, Абрамыч. Погляди на людей: что ни моложе, то и веселее, радостней. И потом, свиньи ведь не работают, а лошадь весь век в хомуте и в хомуте. До старости. Охо-хо-хо-хо! И чего это он в ясли попал, сын божий?
– Зеваете? А вы поспите. У меня действительно бессонница, я подежурю, с вашего позволения.
– Ладно, часок-другой надо соснуть, а то глаза слипаются, никак не пересилю себя.
– Он не дома родился, Иисус Христос, – сказал Яков Абрамович. – В те дни, по Библии, кесарь Август повелел сделать перепись по всей земле, и вот люди пошли записываться, каждый в свой город. Пошли в Вифлеем и Иосиф с беременной Марией. Она была уже на последнем сроке и родила в Вифлееме. А места в гостинице им не нашлось, вот поэтому и лежал Христос первое время в яслях.
– А я думал, война была или смута какая. Тогда ведь тоже много воевали и зверствовали. Библию эту читать совестно, столько там разного зверства, даже младенцев резали. – Прохоров лег, не снимая ватника, рядом с Дрибасом, сунул босые ноги в сено. Сапоги с обернутыми вокруг голенищ волглыми портянками он оставил проветрить. – Ты за просекой гляди, Абрамыч. Она к селу выходит, а оттуда всего ждать можно. Я виселицу видел у церкви.
– Виселицу? Да, да, товарищ Дрибас говорил, что это для учителя, завтра будут казнить. Ужасно! Казнить человека, который нес людям свет разума, знаний. Не исключено, что эту казнь увидят и дети, его ученики, а не увидят, так непременно узнают о ней от взрослых. Самое ужасное, что мы тоже бездействуем. Знаем о казни и бездействуем. Мы никак не некем поверить в силу слова, хотя известно, что именно слово может и часто становилось самым сильным оружием. Ведь кто такой Гитлер? Прежде всего ловкий демагог. Только безудержной демагогией, обещаниями и наглостью он пробрался к власти, а мы выступим со словами правды и справедливости, и, я уверен, мы добьемся успеха у его же солдат и офицеров. Надо прежде всего развенчать их кумира, сбросить его с пьедестала. Вы сказали, просека выходит прямо к селу, товарищ Прохоров?..
Но Прохоров уже не слышал его. Он ничего не слышал и был самым счастливым, как в детстве, человеком. Он даже легкость испытывал такую же, беспечность и видел себя не взрослым, а мальчишкой, не считая это превращение чудом или сном – просто ему было легко и радостно бежать по сенокосному лугу, с узелком в руке.
Он бежал босиком, ноги слегка покалывало, в узелке был обед для отца, деда и матери, приготовленный бабушкой: вареные яйца. Почему-то одни только яйца, много белых крупных яиц и больше ничего, даже хлеба не было, даже соли. Забыла, что ли, бабушка?
А в другой руке он сжимал три монетки: две серебряных и одну медную. Бабушка велела отдать эти монетки деду. Маленький Прохоров боялся их потерять, сжимал руку крепко, и пальцы у него вспотели и онемели в кулаке. И рука, в которой был узелок, тоже устала.
Их сенокосная делянка примыкала к речке. У речки паслась большая черная лошадь, неизвестно чья. Завидев его, лошадь пошла навстречу, но он не знал ее и, остерегаясь, побежал берегом к шалашу, где сидели дед и отец с матерью.
Прохоров подбежал к деду, чтобы отдать ему монетки и остудить горячую потную руку, но сперва почему-то бросил под ноги узелок с яйцами. Узелок сам собой развязался, яйца покатились в разные стороны.
«Пусть они собирают», – сказал дед с улыбкой, и Прохоров, подавая ему монетки, увидел цыгана и Розу, которых принял за отца и мать. Оба они, Дрибас и Роза, сидели в обнимку и смеялись, глядя, как черная лошадь подбирает мягкими длинными губами яйца и, причмокивая, ест их, выплевывая скорлупу.
Маленький Прохоров тоже засмеялся, но не только потому, что увидел, как лошадь ест яйца и выплевывает скорлупу, а от удовольствия: руки его отдыхали, он сидел рядом с дедом и дед гладил его по голове, благодарил за монетки.
«Это сон, внучек, нехороший сон, – сказала ему бабушка. (Откуда она взялась, она же дома осталась?) – Остерегайся, милок. Лошадь – это ложь, что-то неправедное, злое; яйца – кто-то явится. С этой ложью и злобой».
«А монетки?» – спросил маленький Прохоров.
«Монетки, внучек, еще хуже. Мы ведь с дедушкой-то давно умерли, а дать что-нибудь покойнику – это к потере. Что-то возьмет у тебя дедушка к нам в могилу. Крови не видел?»
«Крови не видел, бабушка».
«Ну, слава богу. Значит, кровные твои родные пока в благополучии, об них не тревожься».
Потом Прохоров мельком увидел убитого командира батареи, который лежал у орудия, отгоняя зеленой веточкой от себя мух, и услышал мяуканье кошки. Он стал искать кошку, но так и не нашел, хотя мяукала она рядом.
Но это уж был сигнал из действительности: живая лесникова кошка, здешняя хозяйка, сидела безбоязненно у двери сарая, потому что дежурный Абрамыч ушел в село проводить контрпропаганду среди фашистов.
X
– Я буду говорить откровенно. Да, коммунисты ненавидят фашистов, да, их идеологии полярны, однако не коммунисты двинули свои армии на вас, не коммунисты руководствуются политикой захватов, не Сталин толкнул свою страну на путь агрессий...
Яков Абрамович торопливо шел и видел себя на широкой площади, перед ним застывшие шеренги фашистских солдат во главе с офицерами, рядом толпы советских крестьян, и все замерли, слушают его впитывают каждое слово истины, рожденной в муках большой тревоги за человечество.
Яков Абрамович объясняет вред лженаучной концепции Горбигера, человеконенавистническую суть расовой теории, истоки ненависти Гитлера к так называемым народам без родины – евреям и цыганам, которых фюрер обрек на истребление. Это же элементарно, эго доступно даже слабоорганизованному мозгу.
Разумеется, у немцев возникают вопросы о недостатке жизненного пространства и жизненной энергии, это вбивали им в головы много лет, и ответить не так-то просто. В конце концов, и захватническая война не прогулка, а жестокое, рискованное предприятие, сопряженное с большими потерями и лишениями для агрессора. Однако война, развязанная для перераспределения жизненной энергии, не добавляет ее, а уничтожает, наука и техника, обслуживающие войну, теряют смысл, а между тем только научный и технический прогресс способен изменить судьбу человечества к лучшему...
Выбрасывая перед собой то одну, то другую руку, Яков Абрамович почти бежал, приминая мокрыми лаптями росную траву – на просеке за ним оставался неровный темный след.
Он уже привык к пешему передвижению за последние две недели и сейчас не замечал усталости, несмотря на бессонную ночь. Его вела вперед благородная цель, он видел освобожденного от смертной казни сельского учителя-коммуниста, видел просветленные лица немецких офицеров, озаренные лучами подлинной истины, слышал радостные крики солдат, которые решили повернуть оружие против Гитлера, и за всем этим вставал вечный мир и реорганизованная на началах гуманизма и научно-технического прогресса жизнь человечества. Реорганизованная благодаря усилиям Якова Абрамовича Альпенштока.
Голова его горела, седые волосы влажными прядями облепили вспотевший лоб, ноги в мокрых лаптях дрожали от слабости, но Яков Абрамович этого не замечал. Он почти ничего уже не замечал постороннего, не имеющего прямого касательства к его задаче.
И лая собак он вроде бы не слышал, и на крики немецких солдат у околицы села не обратил особого внимания.
Когда его посадили в коляску мотоцикла и повезли к церковной площади в центре села, он воспринял это со спокойным удовлетворением, потому что именно на площади, перед всем народом и войсками собирался он открыть спасительную для всех истину.
А на площадь с новенькой сосновой виселицей посередине уже сгоняли народ, хотя было еще очень рано.
Мотоцикл остановился неподалеку от виселицы, унтер, переглянувшись с водителем, побежал докладывать стройному офицеру в пенсне, который распоряжался на площади.
Офицер выслушал унтера, коротко глянул на Якова Абрамовича и спросил, где был задержан этот старый жид в галстуке. Яков Абрамович понял их, он неплохо знал немецкий. Унтер ответил, что жида взяли у околицы села на дороге, ведущей в лес. Один из местных жителей сообщил им, что эта дорога ведет на лесной кордон, который сейчас заброшен, потому что лесник ушел вместе с Красной Армией. Офицер приказал проверить кордон, если он находится не очень далеко от села. Надо быть осторожней на оккупированной территории.
Яков Абрамович хотел сказать им, что кордон недалеко, километрах в шести, но хитренько засмеялся: пусть-ка фашисты сами доставят его спутников и Розу сюда – к этому времени Яков Абрамович своей речью повернет ход событий, и красноармеец Иван Прохоров вместе с отчаявшимся цыганом увидят, что может сделать их политрук, владеющий диалектическим методом познания действительности.
Возвратившийся унтер лихо запрыгнул на коляску позади арестованного, и мотоцикл рванулся к ближнему дому возле церкви. Из подвала дома в это время выходил в сопровождении автоматчика темноволосый парень, без шапки, босой, со связанными за спиной руками. Яков Абрамович догадался, что это учитель, и махнул ему из коляски рукой:
– Выше голову, коллега!
Учитель озадаченно поднял брови и, увидев старичка в пионерском галстуке, усмехнулся. Под глазами у него темнели синяки, пухлые губы были в запекшейся крови.
Мотоцикл остановился у крыльца.
– Скоро вы будете свободны! – крикнул Яков Абрамович в спину учителю и выпростал ногу из коляски.
Соскочивший унтер, глумливо улыбаясь и кланяясь, подбежал к нему и сделал рукой пригласительный жест:
– Biitte, Genosse Jude![1] – и, взяв Якова Абрамовича за шиворот, сбросил на землю.
Солдаты, стоявшие у крыльца, весело заржали.
Недолго им осталось быть скотами, уже сегодня они устыдятся своего неблаговидного поступка.
Яков Абрамович нащупал перед собой соскочившие очки, не вставая с четверенек, хотел надеть, но унтер вырвал их и спрятал в карман, а потом снял с него галстук и под общий смех солдат повязал на шею водителю. Яков Абрамович хотел заявить протест, но унтер уже впрыгнул в коляску, и мотоцикл, громко стреляя и дымя, укатил по улице в сторону леса. Солдаты тоже пошли на площадь, оставив Якова Абрамовича на попечение часового, стоящего у крыльца. Вероятно, в этом доме был штаб немецкой части или комендатура.
Яков Абрамович сел на нижнюю ступеньку, у ног часового, и стал ждать, незряче посматривая в сторону площади. Там еще некоторое время кричали солдаты и сгоняемые женщины, но потом все стихло, и донесся знакомый голос офицера, сопровождаемый гнусавым голосом переводчика. Яков Абрамович улавливал отдельные слова, но полностью речи расслышать не мог. Да он и не старался особенно, ибо ход событий, каким бы он до сих пор ни был, с прибытием Якова Абрамовича предопределен, и он сейчас работал над этим, он мысленно выверял будущую речь.
Голоса на площади смолкли, послышалась резкая команда офицера. Яков Абрамович догадался, что свершилось непоправимое, вскочил, но часовой грубым толчком бросил его обратно на ступеньку крыльца. Яков Абрамович хотел поправить очки, но их не было, он досадливо потер глаза и сел поудобнее. Что ж, пусть у фашизма одной жертвой будет больше, это только ускорит его поражение. Именно с упоминания этой свежей жертвы и надо начать свою речь. Сейчас же. Вот кто-то топает сюда, возможно, послали за ним.
И точно. Прибежал солдат с автоматом, крикнул часовому, что господин гауптман приказал доставить жида на площадь, и потащил Якова Абрамовича за рукав, приговаривая: «Schnell, schnell!»
Очутившись в окружении толпы перед виселицей, охраняемой солдатами, Яков Абрамович растерялся. Но судьба ему благоволила: он заметил только темный силуэт повешенного и не увидел ни обезображенного смертной гримасой лица его, ни босых вытянутых ног, ни качающейся рядом пустой петли, приготовленной уже для него самого.
– Товарищи фашисты! – обратился он по-немецки к офицеру и солдатам с автоматами. – Позвольте сказать вам...
– Ты еврей? – перебил его офицер.
– Да, я еврей, – сказал Яков Абрамович. – Я только хотел бы сказать...
– Повесим рядом, – сказал офицер. – Можешь говорить, это твое последнее слово.
– Вдумайтесь, поймите, остановите кровопролитие. Ваш великий народ забыл своих учителей, напомните ему, скажите, что все люди братья...
– Взять его! – приказал офицер. – Он коммунист, повесьте его рядом с русским братом.
Подскочили двое солдат с автоматами, схватили Якова Абрамовича под руки и, не обращая внимания на его протесты, потащили к виселице. «Вот так же когда-то обращались с Христом и с настоящими учеными, – подумал он, – а потом воздвигали им памятники».
Без очков он почти ничего не видел. Когда его поставили на табуретку рядом с повешенным и надели через голову веревочную петлю, он не различил перед собой ни одного человека – толпа была чем-то расплывшимся, серым, бесформенным. Он повернул голову в сторону леса, над которым взошло солнце, увидел его слепящий круг, но тут солдат выбил у него из-под ног табуретку, и яркий круг сразу стал воронкой от взрыва, которую Яков Абрамович видел у дороги и которая подала ему мысль о единой природе сил созидания и разрушения. В эту темную воронку он и полетел, не видя ее дна.
XI
Вся земля была большим цыганским табором, и в середине него, в самом центре, на высоком бугре стояла повозка Дрибаса, которого единодушно избрали вожаком этого мирового табора.
– Теперь только ты поведешь нас! – кричали со всех сторон внизу стоящие цыгане, русские, немцы, украинцы, евреи, негры, китайцы и другие разные народы. – Веди же, Дрибас, мы станем тебя слушаться!
Возле повозки была живая жена с обоими детьми, и все трое они плясали у его ног, прищелкивая пальцами.
Дрибас вдруг почувствовал себя легким-легким, отделился от земли и стал возноситься на небо. Все народы удивленно затихли, а сам Дрибас так обрадовался, что... проснулся и тревожно приподнялся на локте. А приподнявшись, увидел рядом спящую девушку.
Почти в то же время проснулся от шуршания сена Прохоров. Он спал на боку и, когда открыл глаза и удивился, что в сарае так ослепительно светло, тут же й увидел, как заспанный Дрибас, весь в сене, полулежит на локте и ошалело смотрит на спящую Розу.
Мягкость ли и теплота постели, крыша ли над головой, такая непривычная в последние недели, тому причиной, но спала Роза вольно, как дома, закинув руки за голову и разметав оголившиеся ноги. Платье на них задралось много выше колен, и Дрибас, едва увидел это обнаженное смуглое тело, такое ладное, тугое, с острыми под платьем холмиками грудей, подавился зевотой и не мог отвести завороженного взгляда.
Прохоров смущенно сел в своей постели и тронул спящую за локоть:
– Роза, Роза, вставай!
Роза, вздрогнув, сразу села, поспешно оправила платье, кофточку на груди и, потупившись, стала причесывать гребенкой взлохмаченные, в сене, волосы. Дрибас, вздохнув, отвернулся.
А Прохоров торопливо наматывал волглые от росы портянки, натягивал сапоги и виновато бормотал:
– Так проспать, так проспать... вот паразитство! Или уж мы умучились донельзя...
Взошло солнце, первые, самые бойкие его лучи просачивались сквозь деревья на поляну, на просеку, и там, где они проникали, росная серебряная трава зеркально вспыхивала, искрилась.
– И ведь до полуночи только решили, всего до полуночи, – терзался Прохоров, выглядывая осторожно из сарая. – И Абрамыч куда-то подевался. Ах ты, беда-то какая!
Прохоров обошел кругом сарай, сразу замочив росой сапоги, и увидел позади него обширное болото, которого вечером не разглядел. Значит, в случае опасности через пролом в стене выскакивать нельзя, надо подаваться через просеку. Слава богу, что такой необходимости пока нет. Надо быстрее сматываться отсюда.
Прохоров перебежал к избушке, осмотрел ее, обнаружив за сенцами обвалившуюся картофельную яму, поглядел, прислушиваясь, в окошко, потом зашел внутрь – Абрамыча в избушке не было. Вот еще наказанье на больную голову! Часового оставил, называется, дежурного, политрука! Ах ты, паразитство!..
Встревоженный Прохоров перебежал опять к сараю, у которого Роза громко звала отца: «Папа! Папочка, где ты?!»
– Чего орешь! Не в городе ведь, не у себя дома! – рассердился Прохоров. Но заметил в распахнутых ее глазах тревогу и смягчился: – Никуда не денется твой папочка, здесь где-то шляется, по своим личным делам.
А сам уже видел: от сарая к колодцу и дальше, через полянку, по просеке уходили утренние, уже не совсем свежие следы: примятая трава почти вся приподнялась, роса с нее была сбита не сейчас – прошло не меньше часа, если не больше, как протащились здесь лапти ученого политрука. Черти бы его подрали!
– Ушел? – спросил Дрибас, расчесывая пятерней бороду с приставшими к волосам сухими травинками. Он тоже заметил следы, но еще не понял, куда мог уйти старик и зачем.
А Прохоров вдруг вспомнил дурацкое бормотанье Абрамыча все про одно и то же: надо-де на фашистов настоящую пропаганду навести, повернуть их против Гитлера, и войне конец. Вот так-то думал, думал, поди, в одиночку, а к утру и надумал в село. Он и о виселице вчера как-то с раздумьем переспрашивал, вроде бы прикидывал уже что-то.
– Вы оставайтесь пока здесь, а я его поищу, – сказал Прохоров. Он надеялся, что рассеянный старик не выдержит прямого направления, свернет в одну из поперечных просек и по следу его можно будет обнаружить и догнать. Не такой уж он быстрый ходок, чтобы Прохоров не мог его настигнуть. – Я вблизи покружу, а вы сидите здесь, без нужды не маячьте снаружи.
– Я боюсь, я пойду с вами, – сказала Роза, умоляюще глядя на Прохорова.
– Нельзя, одному мне сподручней, быстрее. Где пойду, где побегу, и следы его со своими не спутаю, не затопчу. Ждите оба здесь. – Он проверил, в кармане ли граната, и, удостоверившись, что она на месте, предупредил цыгана: – Ты, Дрибас, ее не пугай, а то, знаешь... И следи за просекой.
– Не дитенок, – сказал Дрибас хмуро, без обычной своей улыбки.
Прохоров отметил эту хмурость в нем, подумал, что цыган близок к полному выздоровлению души, но все же прибавил:
– Я тут поблизости буду, я живо обернусь, так что ждите и не беспокойтесь.
– Возьмите меня с собой. Пожалуйста! – со слезами попросила Роза.
Прохоров не ответил, скорым шагом вышел на поляну к колодцу, и тут у него под ногами мелькнула кошка, перебежав ему дорогу. Прохоров досадливо плюнул ей вслед, перешел просеку и нырнул в лес. И сон нехороший видел, и кошка эта наперерез выскочила. Хоть возвращайся.
Он шел вдоль просеки, поглядывая на темные следы старика, шел быстро, почти бежал, ветки задевали и царапали его, норовя выхлестнуть глаза, он пригибался или отводил их с пути и наконец прибавил шагу и побежал. Он надеялся, что скоро настигнет старика и приведет его на кордон, а дорогой сделает ему головомойку. Это надо же удумать – с серьезным видом пойти уговаривать фашистов стать коммунистами! И о своих товарищах, поди, не вспомнил, поставил всех троих под удар. Двое там сейчас прислушиваются к каждому шороху, третий вот здесь обливается потом, ищет его. И поди, героем себя считает, паразит! Никакое это не геройство, а самая настоящая трусость, отчаяние, безысходность. За воротник его и на кордон, а оттуда сразу в лес, пока фашисты не накрыли. А может, он не в село наладился, может, еще какая блажь в голову стукнула? Ночь долгая, чего только не надумаешь...
Рассерженный Прохоров будто споткнулся, услышав отдаленный гул и мелкий веселый стук по лесу. Неужели немцы? Он не поверил себе, подумал, что это его постоянный звон в голове раздробился от бега, зачастил. Прохоров зажал ладонями уши и замер, вслушиваясь. В голове стоял прежний тягучий звон, а частый, мелкий стук пропал. Он разжал руки – отчетливый треск мотоцикла плыл к нему, а в небе нарастало гудение большой стаи низко летящих самолетов. Чудится, что ли?
Прохоров упал на живот, подтянулся к кустам у самой просеки и затаил дыхание. Мотоцикл трещал бодро, радостно, и треск его рос неторопливо, уже покрываемый гулом самолетов. Он осторожно отвел рукой веточку куста и уже близко, в полусотне метров увидел мотоцикл с коляской – блестят защитные очки водителя, в коляске скалит зубы автоматчик. Будто прогулка у них, не торопятся, не боятся, должно быть, еще непуганые.
Прохоров спрятал голову и инстинктивно вжался в землю – стая самолетов накрыла его своим воем, а мотоцикл обдал кусты бензиновой вонью. Прохоров выждал несколько секунд, раздвинул кусты и убедился, что мотоцикл проехал один, больше никого за ним нету. Самолеты гудели тяжело, натужно и летели, должно быть, к фронту, а мотоцикл через несколько минут будет на кордоне. Раненько встают, труженики.
Прохоров поднялся, еще раз оглядел пустынную травяную просеку со свежими бороздами мотоциклетных колес и следами Абрамыча посередине и побежал обратно к кордону.
XII
После ухода Прохорова Роза забилась в угол сарая и обложилась по грудь сеном. Как загородку перед собой возвела. Правда, было ей там уютно, мягко, сено источало приятный запах, но если придется спешить, не сразу выскочишь.
– Ты как курица в гнезде, – сказал Дрибас. – Гляди не снесись там. – И оскалился, замотал головой, вытрясая из волос застрявшее сено.
Пошутил, надо полагать. Иного и не услышишь. Это не Киев, не веселый круг беспечных студентов, не остроумные аспиранты с папиной кафедры. Если бы хоть на часок возвратиться туда!..
Настороженно следя за цыганом, она вытерла со щек слезы и промокнула платком глаза. Скорее бы пришли отец с Прохоровым, нет сил больше сидеть в таком обществе среди безлюдного мертвого леса.
Она так и не подавила в себе боязливо-брезгливого чувства к цыгану: дикий человек с серьгой в ухе, потный, волосатый, как животное. А теперь еще и этот ужасный синяк во весь глаз. Вчера, впрочем, она на какое-то время попала под влияние его романтически пылкого порыва, любовалась им, когда он бежал к селу. Даже с Прохоровым сравнила. Но уже сегодня, когда Прохоров разбудил ее и она, поднявшись, оправляла платье, цыган так мазнул по ней взглядом, что все в ней возмутилось – с досадой она поняла, что цыган смотрел на нее, сонную, с заголенными ногами. Прохоров тоже, вероятно, видел ее такой, но Прохорова она не боялась, он всегда был спокойный, большой, добрый, как нянька.
– Дрожишь? – осклабился Дрибас, показав в бороде белый, влажно блестящий набор молодых зубов. (Лет двадцать пять ему, не больше, это борода, вероятно, старит его). – Не боись, не трону.
– Я не боюсь, – бодро солгала она. – Чего мне бояться? Мы же полмесяца почти вместе идем, вот возвратится Прохоров с папой, и опять вместе пойдем.
– Боишься, я чую.
Он чует! Это уж само собой, животные чутьем живут, инстинктом. И еще улыбается своей безумной... впрочем, нет, сегодня это какая-то другая, осмысленная улыбка, но нет в ней ни веселости, ничего такого, одна безнадежность.
– Сам ты боишься, – сказала она с брезгливой насмешливостью и впервые на «ты», чтобы подавить свою боязнь.
– Тебя, что ли? – оскорбился Дрибас.
– Не меня, а вообще. Папы с Прохоровым нет, вот и боишься один.
– Ладно, сиди, курица. И запомни: Дрибас уже ничего не боится, он один, даже гитары нету. – Он развел руки, показал пустые ладони. – Видала? Ну и сиди, а я ухожу. – Он повернулся к ней спиной и решительно шагнул из сарая.
Он в самом деле чувствовал сегодня какую-то легкость, свободность от постоянно гнетущего его горя, ему хотелось действовать, хотелось быть самостоятельным, и странный утренний сон – вожак мирового табора, вознесение на небо! – не выходил из головы.
– Подождите, куда же вы! – Позади шумно зашуршало сено, Роза вымахнула наружу и крепко схватила его за рукав. – Не уходите, пожалуйста!
Зря он назвал ее курицей, не курица она – кобылица. Настоящая молодая кобылка с точеными ногами. И ноздри вот раздуваются – напугалась, дура.
– Не дрожи, – сказал он снисходительно, – я за сарай только, до ветру.
– Не обманываете?
– Пойдем со мной, поглядишь.
Она вспыхнула до самых ушей и бросилась назад, в свой угол.
Дрибас оглядел пустынную поляну с одиноким колодезным журавлем и пошел за сарай, на ходу расстегиваясь.
Обильная, как весной, роса окропила его с кустов, трава скользко скрипела под ногами, и скрип этот явственно слышался в глубокой, устоявшейся за ночь тишине. Такую тишину Дрибас знавал только в юности, когда их табор ходил по таежным селам Сибири да в заволжских бескрайних степях. Широко они кочевали, с размахом во всю страну.
Дрибас затаил дыхание, уловив тонкий, будто комариный, гул самолетов. Где-то далеко летят. Он оглядел отступивший здесь лес, и ему стало тоскливо. Прохоров не зря велел им дожидаться в сарае и без нужды не выглядывать. С этой стороны к кордону подошла, зеленая болотная трясина с желтыми, в гривках травы кочками и редкими кустиками, ни тропок, ни дорог нет. Значит, в случае беды выскакивай на поляну, прямо к просеке. А беду только от просеки и ждать.
Он застегнулся, осмотрел еще раз с тоской болото и пошел обратно. Навстречу ему, быстро нарастая, плыл уже басовитый множественный гул.
Роза сидела в своем гнезде, обложившись сеном.
– Бежим в лес, девка, – сказал Дрибас. – Мы тут как в западне, вот захлопнут ее, и конец.
Роза что-то сказала и упала лицом в сено: первая пара самолетов пронеслась над их головами, потом еще, еще и железный грохот моторов покрыл их, перекатываясь волнами. Вот так же низко и жутко гудели они в страшное утро у переправы и потом, на другой день, в открытой кругом степи, когда они встретились.
Дрибас в два прыжка достиг угла сарая, схватил Розу за руку и потащил за собой. Надо было спрятаться, убежать куда угодно, хоть в болото, но подальше от этого гула, от этого гибельного грохота. Но Роза испуганно закричала и стала отбиваться, и тут он услышал четкий треск мотоцикла, д самолеты уже схлынули, уплыли, унесли с собой спой оглушающий шум. Дрибас бросил Розу и прильнул к щели меж досок: на просеке тормозил, разворачиваясь сюда, мотоцикл с двумя немцами. Оба немца были зеленого цвета, оба с автоматами, на шее у водителя в защитных очках пламенела красная тряпка. Солдаты что-то весело кричали друг дружке и ехали прямо сюда. Сама смерть катила сюда, веселая, смеющаяся, молодая, в красном галстуке. И уйти от нее было некуда.
И в этот момент Роза отчаянно закричала.
XII
Прохоров услышал пронзительный, дурной крик Розы, подбегая к кордону. А когда бухнулся в кусты напротив поляны, не в силах больше бежать, запаленный, дрожащий от изнеможения, то увидел, что поправить ничего нельзя.
Мотоцикл стоял у крыльца избушки, которую немцы, должно быть, уже осмотрели, а сами они находились в сарае; вернее, один покрикивал в сарае, а другой стоял в дверном проеме с автоматом у живота. От просеки до них было больше полсотни метров, гранату можно и не докинуть. Или промахнешься, такой запаленный.
Прохоров вскочил, сделал перебежку вдоль просеки и опять упал. Теперь сарай оказался к нему почти торцом шагах в тридцати, не больше. Прохоров, сдавленно дыша, затаился у самой просеки, тиская в нотной ладони лимонку.
– Raus![2] – закричал в сарае один из солдат.
Другой, в дверях, – Прохоров разглядел, что это был нижний чин, унтер, – посторонился, и из сарая вышла Роза, неловко сутулясь. За ней тяжело тащился, опустив взлохмаченную голову, Дрибас. В спину его подталкивал автоматом солдат с красной повязкой на шее.
Прохоров все понял и вздохнул горестно: он не знал, что теперь делать. Вот сейчас посадят обоих на мотоцикл и увезут, а ты гляди вслед да тискай в руке беспомощную гранату. Не станешь же убийцей своих людей.
Унтер крикнул конвоируемым:
– Halt!
Роза сразу замерла, остановился покорно и цыган.
– Jüdisches schwein, – сказал унтер. – Hure, hat ihn mit ihremschrei verraten. Erschießen![3]
– Nich ja mit zu nehmen[4], – сказал солдат и дал две короткие очереди.
«Как скоро и просто! – пронзило болью Прохорова. – Сразу все разрешилось. Были люди – и нет их, недвижные трупы».
Дрибас, упавший лицом вниз, пошевелился и стал судорожно подымать голову, но солдат добил его в упор.
Этот последний выстрел и поднял Прохорова. Безмолвно выскочив на просеку, он с каким-то жутко-сладостным чувством застыл на мгновение перед удивленными немцами и, прежде чем они пришли в себя, швырнул гранату и упал в траву. Пропели над головой запоздавшие пули, за треском автоматов раздался взрыв, и вместе с этим взрывом что-то лопнуло в мозгу, посыпались комья земли и наступила тишина.
Непривычная это была для Прохорова тишина, особенная, с нехваткой чего-то непонятного. Он лежал в траве, напряженно прислушивался и никак не мог догадаться, что же настораживает в этой тишине, чего в ней недостает. Он осторожно приподнял голову, посмотрел перед собой и, убедившись, что оба немца лежат не шелохнутся, встал на ноги. Да, тишина была полная, плотная, как в хорошем погребе. Прохоров помотал головой и вдруг ощутил, что привычного звона, отдававшего болью в затылке, больше нет, он пропал, лопнул вместе со взрывом гранаты, и вот этого-то обжитого звона сейчас и недоставало его горячей, мокрой от пота голове.
Прохоров подошел к сараю и устало опустился на бревно у его стены. Рядом лежала на боку, неловко откинув одну руку и прикрывая обнаженную грудь другой, окровавленная, страшно оскаленная Роза, в ногах у нее лицом в землю уткнулся Дрибас. Немцы валялись в двух-трех шагах от них. У одного шея повязана красным галстуком Абрамыча. Прохоров сразу узнал его: один конец галстука забрызган синими чернилами.
Вот, значит, как вышло. Значит, Абрамыча теперь искать бесполезно.
Прохоров достал из кармана скомканный свой бинт и вытер им мокрое от пота лицо.
Недавний его сон, разгаданный во сне же бабушкой, сбылся в точности. Все три «монетки» он отдал покойникам. И лошадь вон железная стоит у избы. Оседлать бы ее да двинуть отсюда подальше, но Прохоров не умел управлять этой лошадью. Да если бы и умел, не пошел бы сейчас к ней: не было сил даже подняться, даже пошевелиться.
Пройдет много лет, Прохоров постареет, хлебнет всякого за свою нелегкую жизнь, но и после всех испытаний, после десятков лет физического труда, вспоминая, выделит именно этот день, вернее, это утро, когда он за один час устал до изнеможения и не мог, не имел сил подняться. И, рассказывая об этом, он в который раз удивится собственному спокойствию и равнодушию к своей судьбе в то утро, удивится, что он долго сидел над трупами Розы и Дрибаса и не думая о своей безопасности, о том, что в любую минуту сюда могут нагрянуть фашисты.
И когда наконец пришла эта мысль-предостережение, он тоже не торопился, взял только у немцев автоматы и рожки магазинов к ним и занялся похоронами своих спутников. В сенцах он отыскал тупую заржавевшую лопату, прикинул, что с этой лопатой на могилу потребуется целый день, и вспомнил о старой картофельной яме за избушкой. На очистку ее потребовалось всего несколько минут.
Устелив дно ямы пахучим лесным сеном, мягким, пышным, – может из-за него и проспали так губительно долго – Прохоров перенес туда трупы Розы и Дрибаса, уложил рядом, потом сходил к немцам и снял с солдата – у него был разворочен живот, а пахло почему-то бензином, от комбинезона, что ли? – красный галстук. Хватит, повеселился.
Возвратившись к яме, поглядел на своих покойников, подумал. Роза была страшной, с выкатившимися от ужаса глазами и распяленным в крике ртом. Рвущийся и сейчас крик застрял в ней в самый момент смерти, о которой она ничего не знала. А может, уже догадалась, может, галстук свой на немце признала, поняла, что перед ней убийцы ее отца.
А Дрибас был красивый. Даже вчерашний синяк не особенно выделялся на его смуглом волосатом лице, не безобразил его усталого спокойствии Должно быть, он знал о своей смерти, уже успел пережить свой страх перед ней. Может, именно в этом страхе он и кинулся на Розу.
Как досадно. Он еще мог бы стать солдатом.
Прохоров спустился в яму и переложил Розу головой в противоположную сторону. Пусть лежат валетом. Потом накрыл Дрибасу лицо тряпицей, которую нашел у него в кармане, а лицо Розы красным галстуком и засыпал могилу.
Вот теперь можно уходить.
Он оглядел пустой осенний лес, расцвеченный желтой, оранжевой, багряной умирающей листвой, безлюдный кордон с гиблым болотом и подумал, что теперь он отвечает только за себя. Один, как бог. Впереди были откатившийся фронт, который он догонит через месяц, тяжелые бои, ранение, фашистский плен, концлагерь, побег, партизанский отряд, опять бои, госпиталь, куда его доставят из этих же вот лесов полуживого, снова, фронт через полгода, известие о гибели семьи, потом, через год с лишком, долгожданная победа и... новый фронт, Восточный – в Маньчжурии.
Всего этого Прохоров, понятно, не знал. Он знал, что его землю, его Родину топчут сапоги чужеземцев, что эти чужеземцы не могут здесь распоряжаться не только потому, что они фашисты, убийцы, изверги, это само собой, а уже потому, что они чужеземцы, чужие, лишние и потому вредные для нашей жизни люди, они должны быть вышиблены отсюда, и сделает это он, Иван Прохоров, и такие, как он, солдаты. Больше некому.
Он рассовал по карманам и за голенища сапог рожки магазинов, закинул на плечо оба автомата и пошел в обход села на восток – догонять войну.
1972 г.
СОСНА
Она росла в массиве смешанного леса, среди берез, кленов, осин, вязов и лип. Все деревья здесь жили тесной семьей, их ветви переплетались друг с другом. А сосна выделялась. Ее загорелый коричневый ствол гигантской колонной вздымался к самому небу, высоко вскинув зеленую шапку вершины. Она поднялась над лесом на добрый десяток метров и видела далеко вокруг.
Она видела тихие осенние поля с копнами желтой соломы, реку, по которой бежали с веселыми криками белые пароходы; за рекой вставала темная цепочка леса, а еще дальше, где небо прикасалось к земле, дрожали в синеватой дымке Жигули. Далеко она видела.
А рядом под ней шептался полуобнаженный осенний лес. Неподалеку работали на лесосеке люди. Они валили деревья, обрубали ветки и сжигали их, а стволы увозили на вонючих ревущих машинах. Отсюда с сорокаметровой высоты ей все казалось маленьким: и ползущие коробки грузовиков, и юркие фигурки людей, и синие костры с лисьими хвостами пламени, и влажные свежие пеньки, похожие на шляпки грибов под росой, и даже распростертые тела деревьев, возле которых сновали люди. Они сейчас были похожи на суетных муравьев, которые не замечают ни голубого неба, ни прохладного воздуха с пахучим дымком костров, ни теплого, мягкого солнца. А ведь конец бабьего лета в лесу служит началом листопада. Погляди только на деревья внимательней и заметишь это даже сейчас, в тихий ясный полдень. А когда ударят заморозки и налетят холодные порывистые ветры, зашумит-загуляет тогда в лесу многоцветная лиственная пурга. Долго будет резвиться она, устилая пружинящий наст легким шуршащим золотом, а когда наконец утихнет, деревья окажутся раздетыми и их голым колючим веткам почудится декабрьская стужа, снег и мерзлая стеклянная тишина, в которой звонко трещит и лопается кора и ломаются тонкие сучья. И станут они тогда поглядывать на зеленую среди мертвых снегов сосну, станут удивляться, что у нее не желтеет от страха хвоя при первых заморозках, что она и веткой не пошевелит, чтобы сбросить ге, когда ударит суровая зима. Но не завидуют они сосне. Они терпеливо ждут наступления весны и тогда торжествуют.
Уже в марте лес начинает просыпаться, галдят и своей колонии грачи, устраивая гнезда, оттаивают па солнце тонкие ветки, отходят, прогреваясь, онемевшие стволы. А в апреле, когда сойдет снег, забурчит ручей в соседнем овраге и появятся подснежники, каждый прутик на ближнем тополе выпустит упругие кулачки почек. Достаточно одной теплой недели, и кулачки разожмутся в ласковые ладошки новых листьев, а там уж не удержать их. Вместе с тополем оживут клен и береза, липа и осина, потом проснется вяз и орешник и, наконец, покажет жесткие морщинистые листья недоверчивый дуб.
Береза убирается в эту пору как невеста. Сквозь зеленую сетку тонких листиков просвечивает ее белый ствол, и белизна эта, мягкая, теплая, живая, умиляет своей нежностью. А когда распустит она сережки, так во всем лесу не найдешь дерева краше. А деревья тогда очень красивы.
Прохладная молодая листва так зелена и чиста, столько в ней радостной силы, задора и свежести, что неудобно даже. Живи сосна еще двести лет, и она не решилась бы на такое безоглядное ликование. А вот тополь ликует. Его крупные гладкие листья блестят и трепещут на солнце с веселой наглостью, и в этом трепетанье слышится задиристый смех. Да и другие деревья не думают о предстоящей зиме. Зачем? Зеленеть так зеленеть! Пусть недолго, зато уж всеми ветками!
Что им длинная сосна с ее вечной щетиной. Бережет каждую колючку и свежей век не бывает. Вытянулась голым столбом, три ветки на вершине – дерево называется. Куда растет, чего надо?!
Буйно, напористо зеленеет весенний лес. К концу мая весь он загустеет прохладой, в кустах заверещат малые пичужки, запоют дрозды, заплачут от восхищения чибисы. Даже бездомная кукушка станет выкуковывать потерянным детям (где они?) долгий век. А тихими вечерами, когда с прогретых полян потянет густым ароматом ландышей и земляники, когда затихнут птичьи хоры, прозвенит-взовьется вдруг голосистая трель. Тонко, длинно, многократным слитным поцелуем прозвенит она, рассыплется хрустальной дробью по зеленой уреме, и на каждую дробинку откликнется новый голос. И грянет, забьется-заплещется со всех сторон ликующий соловьиный хор, и взлетит к затихшим вершинам страстное томление, и доверчивый лес онемеет весь, околдованный любовной песней. Стой, слушай, гляди!
В темной синеве уже прорезаются алые бутоны, еще полчаса-час, и по всему небесному пологу задрожат яркие соцветия звезд.
А когда из-за Жигулей выкатится удивленная луна и зальет все мягким лимонным светом, каждый листик на дереве затрепещет в светлом нимбе, на траву лягут причудливые тени, станут замолкать утомленные соловьи, и долгая тишина, полная грез о наступающем лете, установится в лесу. Редко прокричит во сне птица, хрустнет сучок под лапой ночного хищника, и опять прохладное дремотное безмолвие до самого рассвета.
С зарей лес начинает оживать, а когда появится солнце, чтобы взглянуть на сверкающие от росы деревья и травы, его встретит радостная птичья разноголосица. Польщенное и довольное, оно раскинет лучи во все стороны, обнимет землю, и земля зазеленеет в восторге пробуждения.
Каждый день в лесу кажется веселым праздником. Но это только кажется. С песнями птиц и шепотом листвы здесь ежедневно, ежечасно идет великая неутомимая работа. Глубоко под землю, в сырость и темноту ушли корни. Они прощупывают и обсасывают каждый колючек почвы, достают необходимые соли и воду, подают к стволу, а ствол гонит пищу к меткам и к вершине, формирует новые клетки, отпускает новые побеги и листья, а листья разворачиваются, дышат, растут, тянутся к солнцу.
С ростом дерева приходит забота о семенах, и вот клен выпускает крылатые семенные коробочки, отливает на солнце желуди дуб, развешивает зеленые гроздья тополь.
В заботах и делах незаметно пройдет лето. И вот уже курлычут в небе журавли, похолодали вечера, знобяще свежими стали утренние зори. А там повиснут над землей затяжные дожди, поржавеет непросыхающая листва на деревьях, разлетятся веселые птицы. И повторится прежняя картина. Но лес не будет жалеть растерянную листву. Зачем она ему, ржавая и мертвая? Размечи ее ветер, расстели под ноги, не жалей. Придет другая весна, вырастет новая листва, зеленая и свежая, под дождем. И, обнаженный, продрогший, будет терпеливо ждать, глядя на сосну, и неприютно станет в нем, и в голых прутьях засвистит студеный северный ветер.
Покачивая хвойной вершиной, пожалеет сосна голые деревья и будет зеленеть изо всех сил: пусть лес глядит и верит в будущую весну.
И деревья будут глядеть и всю долгую зиму будут удивляться, что она, голая и прямая, как палка, все еще зеленеет своей далекой вершиной.
Они не подозревают, как трудно быть вечнозеленой, сохраняя в то же время способность к долголетней жизни. Весной и летом, когда весь лес облачается в новый наряд, она не сбрасывает зимнюю хвою, чтобы вырастить новую, а экономно и бережно роняет только старые, ослабевшие хвоинки, заменяя их молодыми. И все лето она будет стремиться вверх, к солнцу, и в этом неудержимом стремлении будет сбрасывать нижние ветки.
За свою долгую, двухвековую жизнь сосна достигла исполинского роста и большой толщины, но почти не сохранила ветвей; только у самой вершины остались несколько лап да и те с редкой хвоей. Подталкиваемые стволом, они напряженно тянутся вверх, всматриваются в далекую солнечную голубизну и грустно шумят под верховым ветром. Небо еще далеко, а она уже стареет. Одеревенели гибкие когда-то корни, слабее стал приток воды и пищи, медленнее подымаются по стволу жизненные соки.
А прежде, в годы молодости казалось достижимым и солнце, и вечное небо. Стоило только расти быстрей, не жалеть сил, и тогда небо будет твое, можешь даже потрогать его ветками. Ах как хотелось его потрогать!
Славное, счастливое было время. Тогда рядом с ней росло еще несколько сосен, которых давно уже нет. Они росли весело, наперегонки, хотя и было нелегко в те далекие лихие годы. Сколько опасностей подстерегало их, неокрепших, сколько трудностей встретили они, выбираясь из чащобы чернолесья на свет, сколько мук перетерпели, чтобы только выжить!
Еще в детстве, когда они едва были по пояс соседнему кряжистому дубу, на молодые деревца напал беспощадный лесной вредитель – большой сосновый слоник. Личинок его они особенно не боялись, страшны были жуки слоника. Они выгрызают кору на стволах, которые, если вовремя не окольцевать, начинают исходить живицей, чахнуть, отставать в росте, и наконец деревья гибнут. Было обидно умирать от этих ползучих ничтожеств, но все же несколько молодых сосенок посохли. Оставшиеся деревья спас лесник.
Следующей зимой счастливые деревца сильно повредили лоси. Они любят мягкие молодые побеги, особенно зимой, когда нет никакого другого корма. Одну маленькую сосенку они обглодали начисто, а другие, потверже корой, повредили, и если бы не уход лесника, сосенки зачахли бы.
Позже, лет через пять, она и ближние две сосенки почувствовали угнетение оттого, что оказались под тенью старого дуба. Он был разлапистый, с густой, плотной кроной, и его тенистая опека чуть не погубила их.
Сосна неприхотлива к почве, может вынести самую жестокую засуху, но она не терпит тени. Липа, та может расти и сто и двести лет под пологом сосны, ели и даже дуба. Есть тепло, и ладно. А сосне подавай свет, подавай солнце, да не маленькое, не сквозь чужие ветви процеженное.
Дуб же навесился тогда над ними темным шатром, прикрывал от зноя и ветра, но его отеческое покровительство было тягостным, нестерпимым. И стали они слабеть, бледнеть, скуежились, как в крещенскую стужу. И тут их опять выручили люди. Они свалили дуб, обрубили и сожгли сучья, а ствол увезли куда-то.
Просторно, весело, светло стало сосенкам. Над ними впервые открылся лоскут неба, не затененный ни одной веткой. И был этот лоскут таким голубым, таким ярким и прозрачным, что им захотелось подняться и потрогать его ветками. Это желание стало заветной мечтой и крепло от года к году.
Они росли с радостной стремительностью, пока не почувствовали, что им стало тесно. Они были рядом, корни их переплетались, стало не хватать пищи. Наша сосна успела подняться выше и стала давить другие. Она совсем не хотела заслонять подруг, ей было скучно одной в выси, но они, не сумевшие подняться вровень с ней, слабели в ее тени. Она не хотела их гибели, но молодые корни брали все соки вокруг, всасывали и гнали их по стволу к вершине, которая взметнулась над подругами и заслонила солнце.
Сосны-недомерки мучительно переносили это покровительство, сбрасывали нижние ветви, чтобы быстрей вырваться на волю, но года через два выдохлись, ослабели. Тонкие, почти лишенные ветвей, они стояли, как подпорки, возле подруги и видели солнце лишь сквозь густую сетку ее ветвей. И это солнце было мягче, ласковей для них, слабеющих, и они медленно, без мук умирали.
Через несколько лет мужики срубили хилые деревья, вытащили их тела на просеку и увезли на лошади куда-то.
И вот сосна осталась одна среди чернолесья. У ней было много пищи, над ней голубело заветное небо и сияло солнце, она быстро пошла в рост и на двадцатом году перегнала взрослые клены. К тому времени она стала цвести.
Пора цветения была самой лучшей в ее жизни, самой счастливой, хотя цвела она сдержанно, почти незаметно. Ее соседи, тополь и береза, даже не предполагали, что она, всегда колючая и строгая, способна на такое веселое легкомыслие. Да и цветов-то вроде у нее не было. Это же не липа, от которой за версту несет медовым запахом и сама она в пору цветения размякнет вся, выпустит из-под листьев бисеринки цвета и стоит млеет, а по цветам ее ползают мохнатые шмели да пчелы.
Сосна и эту счастливую пору встречает одна. В конце мая – начале июня, когда установятся солнечные, погожие дни, почувствует она, глядя на буйно зеленеющие деревья, смутную тревогу, выкинет яркие свечки новых побегов и стоит не шелохнется, полная тайной радости. А среди посветлевших от напряжения хвоинок уже развернулась семенная почка, уже цвет есть, никем не замеченный, и лепестки, и пыльца – все, как у других деревьев. И сядет в ту пору на ветку тяжелый глухарь, тряхнет ее, и полетит легким облачком золотистая пыльца. Цветет сосна!
Шишки у нее появятся только через год после цветения, она бережно продержит их все лето и всю осень и не сбросит даже в ноябре, когда они созреют. Не то что другие деревья, которые в два месяца родят свои семена и беззаботно сбросят их на землю – авось прорастут. Целый год нянчится сосна со своими шишками, и только зимой, в феврале – марте, они станут опадать и их унесет куда-то хозяйственный бородач – лесник.
Сейчас, может, где-то стоят такие же сосны из ее семян, глядят на полураздетые лиственные леса и мечтают, как она, о вечном небе.
К сорока годам сосна вытянулась почти вровень с ближними высокими деревьями, но ей хотелось подняться еще выше и поглядеть, что находится за ними.
Зимы сменялись веснами, быстро пролетала летняя пора, косяки журавлей с тревожными криками тянули с севера осень. И снова наступала зима. Проходил год за годом, а она стояла на одном месте, глядела на одни и те же деревья, слушала одни и те же песни и жалобы. Однообразно, утомительно, скучно.
Но вот наконец поднялась она выше столетних берез, заглянула через них и удивилась: земля была необъятно велика и жил на ней не только лес. За лесом желтели поля с крестцами снопов, за полями дымилась река с парусными суденышками на ней, за рекой темнел такой же лес, а дальше, за ним, похожие на облака, вставали голубоватые Жигули. Широкой, светлой, просторной была земля. И вот тогда ей захотелось вырваться на волю, встать под солнцем и глядеть во все стороны, пока она не увидит все. А потом – перебраться через реку и лес, дойти до Жигулей и посмотреть, что находится за ними и дальше, за самой крайней дрожащей чертой, где земля смыкается с небом. Это желание надолго бы захватило ее, если бы не один случай.
В полуверсте отсюда, за опушкой леса, росла у дороги одинокая сосна. Когда-то, вероятно, в детстве она выбежала из леса и остановилась на зеленой луговине. Вокруг нее было много света, ей никто не мешал, и она росла на приволье, весело поглядывая на покинутый лес.
Она не тянулась ввысь, а пошла в толщину, в сучья, стала приземистой, нахохлившейся и совсем не думала о небе. Ей и так было хорошо. Зимой она одна зеленела среди снегов и не слышала треска раздетого леса, замерзающего без листвы, по веснам к ней прилетали чибисы и с плачем просились в прошлогодние гнезда, а солнечным летом любили здесь играть ребятишки. Они собирали на поляне вокруг клубнику, разглядывали в гнездах пискливых птенцов, лазали по ее корявому стволу, легко добираясь до вершины. Довольная и счастливая, она стояла под солнцем, раскинув толстые ветви, и млела и нежилась, истекая янтарной смолой.
Но прожила она недолго. В одну из осенних ночей ее вырвало с корнем, хотя была она приземистой и крепкой. Впрочем, многие деревья тогда в несколько часов стали буреломом.
Жуткой, нескончаемой запомнилась эта ночь. Тяжелые, низкие тучи еще с утра заволокли небо, а к вечеру поднялся сильный ветер. Он то налетал вихрем и срывал мокрую листву с деревьев, охапками взвивая ее к небу, то наваливался темной сырой массой и прижимал все высокое к земле. Позже ветер усилился и всю долгую черную ночь ошалело ревел над вздрагивающей землей. Растревоженный лес гудел басовито, серьезно. Иногда его гул разрывался треском падающего дерева, и был этот треск как отчаянный крик о помощи, и жутко слышался он во тьме сырой непроглядной ночи.
Утром стало видно, что погибли деревья на краю леса и те, что стояли на высоких, открытых местах, приняв на себя слепую силу урагана. Низкая сосна, выбежавшая из леса, тоже была вырвана. Ее корявое ветвистое тело с грязными вздыбленными корнями лежало на мокрой земле одиноко и жалко. Но не ветер здесь был виноват. Низкорослую сосну погубила тяжесть собственной кроны. Как большой парус, она взяла столько ветра, что корни не выдержали.
А лес стоял. Люди расчистили и вывезли бурелом, места погибших деревьев заняли другие – молодые и гибкие, и жизнь продолжалась.
Наша сосна совсем не пострадала, потому что была не одна. И еще потому, что имела крепкие, далеко разветвленные корни: ведь с ростом высоты увеличивается размах колебаний, именно поэтому погибли высокие деревья со слабыми корнями. Ну, а одиночные деревья, даже сильные, не могут так успешно противостоять стихии, как это делает лес или хотя бы группа деревьев.
Спокойно и уверенно жил большой лес. Хладнокровно встречал он удары стихий и не жаловался на свою судьбу, хотя жил он далеко не в хороших условиях. Часто в Заволжье наступала засуха, приходилось экономить каждую каплю влаги, но лес стоял. Когда из горячих астраханских степей задувал резкий сухой ветер, деревья встречали его сомкнутым строем, ветка к ветке. Суховей переваливался через лес, процеживался сквозь прохладную зеленую листву и хвою, но, процеженный, ослабевший, он был уже мягче и не так сушил изнывающие от жары поля.
Но однажды лес не справился с суховеем. С апреля до середины июля в Заволжье не выпало ни одного дождя, высушенная земля потрескалась, низкорослые жидкие хлеба на полях выгорели, поник обессиленно и лес. Свернулись и пожелтели листья, высох ручеек, слабо сочившийся из среза оврага, до времени сбросила невызревшие шишки сосна. В застывшем сонном воздухе не слышно было птиц, небо выцвело и подернулось мглой, солнце, которому прежде радовалась каждая травинка, сейчас стояло расплавленной сверкающей массой, выжигая все живое.
В эту пору и случилось самое страшное – лесной пожар. Начался он неожиданно, как-то сразу. Замелькал в дальнем березняке оранжевый юркий зверек, забегал по сухому лиственному насту, вскочил на деревья и вдруг загудел, задымился по вершинам. Часа не прошло, а уж горячее красное море колыхалось над лесом. Огонь перекинулся в ельник и забушевал с большей силой. Горящие еловые лапы перелетали по ветру через деревья, выскакивали на просеку и падали, и там, где они падали, жухлая трава синевато дымилась, а потом занималась белыми хвостиками. Огонь слизывал ее до земли, оставляя серый пух пепла. А море огня разливалось все жарче, в лесу стоял треск и шум падающих деревьев, орали сороки и чибисы, пищала птичья мелочь, бежали звери, кружились и квохтали в дыму глухарки.
Возможно, погибла бы в этом огне и сосна, но в лес набежали люди. Они выстроились у широкой полосы противопожарного разруба и стали валить деревья навстречу огню. Пожар на время был приостановлен, а к вечеру ударил долгожданный дождь. Он хлестал по дымящимся деревьям с густым шипением, и скоро над пожарищем встал молочный пар. Всю ночь колыхался он белыми волнами по лесу и только утром рассеялся.
Поднявшееся солнце увидело тоскливую картину: обугленные черные стволы стояли напряженно, подняв в отчаянии к небу обгорелые ветки, на земле как попало лежали скрюченные тела упавших деревьев, кое-где торчал черный кустарник. Все это было среди золы, угля, пепла – ни зеленой веточки вокруг, ми листика, ни цветка. Пусто, мертво.
Казалось, никогда не пройдет боль этой беды, но боль прошла, хотя страшная картина пожарища не забылась. Сейчас уже ничто не напоминает здесь о давней трагедии. Земля вновь покрылась травой и цветами, шумят взрослые деревья, гомонят птицы, заливаются по веснам нежные соловьи.
Терпелив и живуч большой лес. За эту живучесть и полюбила его сосна и уже не представляла себе другой жизни. Ей уже не хотелось выбежать в поле, чтобы жить одной, ей не нужны были ветви, как вязу или дубу, не прельщала пышная крона липы. Только ночное небо продолжало манить ее спокойной голубизной.
Она видела, что соседние березы, глядя на нее, тоже тянутся вверх, и это радовало ее, прямую и строгую. Теперь она жила с единственной целью – расти вверх и достать ветками небо.
Каждую весну, выбрасывая свечки новых побегов, она поднималась все выше и для устойчивости шире раздвигала в земле свои корни. Небо приближалось медленно, незаметно, но приближалось. Низкие осенние облака иногда проплывали над ней почти рядом, еще десяток метров, и они задели бы ее вершину, но это были лишь облака, а глубокая синева была за ними. Она вглядывалась в стаи пролетных птиц и видела, что и они не достигают еще неба.
И все же она росла. Правда, уже не с такой стремительной безоглядностью: с набором высоты она колебалась все шире и иногда боялась, что корни не выдержат.
Когда соседние березы стали мешать, люди свалили их и вырубили весь ближний кустарник, высасывающий ее влагу. Люди всегда помогали ей расти, заботились о ней, и сосна дивилась такому бескорыстному покровительству, не зная, чем его объяснить. Да и не особенно искала она объяснения. Она просто росла, ей хотелось больше солнца, света, она мечтала дотянуться до неба, а люди помогали ей в этом.
С годами ее рост вверх замедлился, но не остановился. Свое стопятидесятилетие она встречала могучим деревом с тяжелым каменным стволом и далеко взметнувшейся вершиной. Она теперь стояла высоко над лесом, и, чем выше поднималась, тем шире распахивалась во все стороны земля, отодвигалась дальше кольцевая линия горизонта, интересней становилась жизнь. Да и изменений на земле было много. По реке вместо парусных суденышек стали ходить большие дымящие пароходы с громкими гудками, позже она заметила на полях неуклюжие тракторы и машины, а потом высоко над лесом стали летать крупные гудящие птицы. Они не махали крыльями, как сороки, а парили, подобно орлам, и крылья у них блестели на солнце.
Высоко забирались эти гудящие громоподобные птицы, в самой синеве парили, и она с тоской поняла, как далеко вечное небо и как трудно достать его дереву, вросшему в землю.
Она уже начинала стареть, ощедренную грубую кору точил короед, она иногда прихварывала. Ее навещал – и до сих пор навещает – лесной врач – дятел. Он старательно выстукивает дерево, с умным видом приглядывается к нему, прислушивается, пробивает новые отверстия и достает вредителей короедов, но сосна недолго чувствует улучшение. После лечения своего доктора она отдыхает, потом короед заводится опять, и недомогания усиливаются. Трудно понять, чего больше дает доктор – вреда или пользы. Он много уничтожает личинок короеда, но сколько и дыр пробивает он на живом дереве, доставая этих личинок. Весь ствол у нее в дырках.
И уже трудно ей расти, трудно стремиться ввысь и зеленеть наперекор стихиям. Она глядит на полуобнаженный осенний лес, на пустые тихие поля с копнами желтой соломы, на зеркальную реку, по которой бегут белые пароходы, на далекие Жигули. А рядом ревут лесовозы, визжат механические пилы, слышатся треск и глухие удары падающих деревьев.
Она глядит на лесосеку и видит, как у края вырубки собираются мужчины, о чем-то говорят, потом направляются к ней. Один из них держит на плече механическую пилу. Весело переговариваясь, они подошли, положили у ее корня пилу и сели покурить.
Эти мужики уже не носили курчавых бород и длинных рубах, не обувались в лапти с цветными онучами. Они были бритыми и молодыми, носили ладные комбинезоны и крепкие рабочие ботинки. Только один – усатый, с ружьем – был в плаще и носил высокие сапоги. Это был лесник, потомок тех бородачей, которые берегли ее и помогали ей расти.
Неторопливо обошел он сосну, похлопал ладонью по ее стволу и, запрокинув назад голову, поглядел вверх. Шапка съехала с его головы и упала на коричневый хвойный наст. Он тряхнул косматой головой и засмеялся.
– Молодчина! – сказал он. – Хорошо росла. Теперь от тебя любой не откажется.
Он опять засмеялся чему-то, и мужики одобрительно заговорили ему в ответ.
– Крепкая вымахала!
– Кубов на семь, а то и на все десять потянет.
– Вот матки-то будут – на сто лет!
– Хороша-а-а!
Они хвалили, восхищались, прикидывали, сколько даст она полезной древесины и куда ее лучше употребить. Так вот почему они помогали ей расти! Им нужна была древесина, они беспокоились о ее теле и вовсе не думали о ее стремлении расти и достичь вечного неба.
А механическая пила уже гудела и нетерпеливо дрожала в руках одного из лесорубов. Вот он широко расставил ноги, нацелился и прижал к стволу визгливую острую цепь. Красновато-коричневые, а потом желтые хлынули струей влажные опилки и залили редкую траву у корней и ботинки лесоруба.
Сосна вздрогнула, оглядела в последний раз легкую осеннюю землю, далекие синие Жигули и лес, в котором она прожила двести лет. Деревья сбрасывали листву и готовились к холодам скорой зимы. На ближней лесосеке лежали вразброс и штабелями обрубленные тела их соседей, с которыми, возможно, будет лежать и она – в виде дома или другой какой постройки, нужной людям.
– Налегай! – закричал лесник. – Налегай разом!
Сосна пошатнулась, заскрипела и стала медленно валиться. Лесоруб немного не рассчитал и запилил дерево неровно. Падая оно повернулось на комле, хлестнуло по дальней осине, сломив ее натрое, и тяжело, со стоном рухнуло. Кажется, весь лес вздрогнул от падения сосны, вздрогнул и зашелестел глухо и печально.
А сосна лежала, вытянувшись во всю длину прямого ствола, далеко откинулась зеленая вершина и несмятые верхние лапы еще качались и глядели в распахнутое небо, которое они так и не сумели потрогать.
1966 г.
[1] Пожалуйста, товарищ еврей! (нем.)
[2] Выходи! (нем.)
[3] Еврейская свинья, выдала его своим криком, стерва! Надо прибить (нем.).
[4] Не везти же... (нем.)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
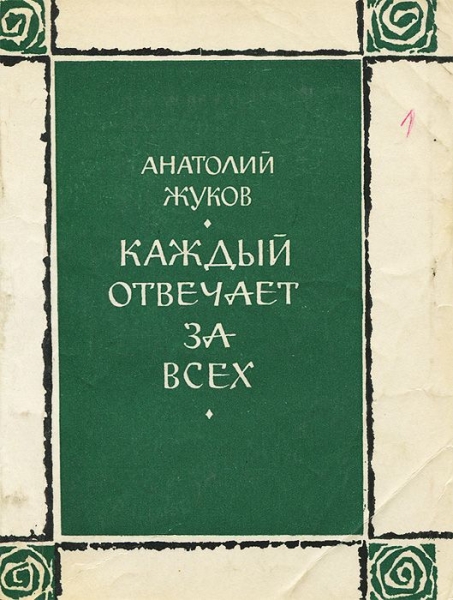





Комментарии к книге «Каждый отвечает за всех», Анатолий Николаевич Жуков
Всего 0 комментариев