Урок первый ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТА
1
Чем бы ни был занят коммунист, какой бы специальностью ни обладал, он прежде всего должен иметь дело с людьми, знать и понимать человека, как говорится, «уметь подойти к человеку». А это вовсе не так легко, как оно кажется, и от природы такое умение дается так же редко, как талант или гений. У нас нет, к сожалению, обычая рассказывать об этом умении по-настоящему, от глубины сердца, когда вручаешь партбилет новому члену партии. Обычно больше спрашивают, с чем он идет в партию, а напутствие делают более или менее одинаковое и часто очень формальное. Между тем тот, кто принял в свои руки впервые книжечку, знаменующую его принадлежность к самой передовой части человечества, должен непременно задуматься о своем новом положении в обществе и о том, какие новые качества в общем понятии «человечность», какие новые задачи в воспитании его собственного характера и какие усилия работы над собой входят отныне в сумму того, что он привык считать своим обычным нравственным долгом.
Помню, как я вступала в партию в первые дни отступления наших войск осенью 1941 года. Вся обстановка тех дней была особая, тревожная и приподнятая. Война охватила людей сразу, как пожар в доме, душевное состояние каждого как бы обнажилось и высветлилось, характеры стали сразу видны, как скелет на рентгеновском снимке, разница между ними сделалась резче и отчетливей. Нашим руководителям было очень некогда, и все же они сделали нам напутствие. Получая свою кандидатскую книжку, я услышала общие фразы о войне, патриотизме, долге члена партии. Последний как бы понимался сам собой и не был разъяснен конкретно, в условиях войны он похож был на долг каждого честного человека и сына своей родины вообще. Но когда я вышла на улицу, спрятав свою драгоценную книжку в мешочек на груди, жизнь тотчас же сама стала конкретизировать этот долг, вернее, поставила меня лицом к лицу с новой обязанностью.
Тому, что такое агитация и как надо агитировать, я никогда не училась, хоть и была в общении с людьми великой спорщицей, когда нужно было что-то защитить или опровергнуть. А тут первая задача, поставленная передо мной, как перед кандидатом партии, была стать агитатором, выступать перед людьми.
Москва лежала испещренная, как спинка марала, защитными пятнами красок на стенах, обложенная мешками с песком, исполосованная белыми бумажными лентами по стеклам окон. Небо над ней стояло дымное, окутанное пеленой взрывов. Завывали сирены, сгоняя людей в убежища. Утром, на позднем рассвете, как кусок льда в холодном сумраке неба, качался над площадями распластанный серебристо-голубой аэростат. Все повседневное отошло куда-то, сменилось огромнейшим биваком, чем-то временным, непрочным, исчезающим. А мы, часть писателей, должны были тотчас вмешаться в этот зыбкий мир неустойчивости, дав почувствовать людям, что вещи крепко стоят на земле, привычные формы советской власти были и остались гранитно-прочными, и душевная жизнь человека должна войти в берега незыблемо-твердого, незыблемо-стойкого мира, — мы были назначены агитаторами.
Выступать приходилось очень часто: и в полупустых аудиториях Политехнического, и в кинотеатрах перед экраном до начала сеанса, и в набитых до отказа мраморных коридорах и площадках метро после того, как завыла сирена… Но когда наступала передышка между профессиональной работой — писанием для газет, для тогдашнего Совинформбюро, для многотиражек — и выступлениями с агитационными речами — а такая передышка чаще всего бывала во время ночных тревог, — я жадно вчитывалась в книжки, которые нашлись у меня под рукой. То были книжки издания тридцатых годов воспоминания о Ленине работников Коминтерна и воспоминания о Ленине Надежды Константиновны Крупской. Мне страстно хотелось узнать и почувствовать по этим книжкам, какие качества коммуниста сделали Ленина вождем международного рабочего движения, почему и за что он стал так любим человечеством, каким свойствам его характера нужно научиться Подражать, и вообще, чем отличается настоящий коммунист от обыкновенного человека за вычетом его убеждений.
Тайна характера — это ведь и тайна поведения, ключ к тому комплексу, который влияет на вас в другом человеке, внушает доверие и уважение к нему, жажду за ним следовать; и это не рождается разумом, оно глубже разума, и оно связано как-то и с тем, каким ты сам теперь должен стремиться быть.
Сейчас такие раздумья во время ночных бомбежек могут показаться наивными. Но в те дни для вступившего в партию они были, мне думается, нередки. Жизнь перед нами как бы раскалывалась надвое, и хотелось понять и осознать до конца, куда вы вступаете. В низеньком подвале, где на все убежище горела одна-единственная ввернутая в стену лампочка, мало кто старался подсесть к ней, — предпочитали угол потемней, куда приткнуть подушку и подремать до конца тревоги. Да и подсев к ней, трудно было читать: так скудно горела лампочка. Но то, что я тогда прочитала, помечая для себя самое важное красными крестиками, я запомнила на всю жизнь.
Наступал отбой. Люди гуськом поднимались наверх, на чистый воздух холодного утра, и в эти необыкновенные минуты городской тишины особенно отчетливо, как-то первозданно отстаивалось в мозгу все прочитанное за ночь.
Прежде всего хотелось узнать из книг, как Ленин выступал перед людьми, какой урок можно было извлечь агитатору из его искусства влиять и убеждать. Общие фразы тут не помогли бы, общие определения, разбросанные во многих статьях и книгах, рассказы очевидцев, слушавших Ленина, тоже мало чем могли помочь, мысль должна была зацепиться за что-то очень конкретное, за какую-то уловленную особенность. В этом отношении маленькая, на плохой, желтоватой бумаге изданная книжка о впечатлениях зарубежных коммунистов в сложную эпоху распада II Интернационала и первых шагов III Интернационала оказалась особенно полезной.
Люди, привыкшие слушать множество социал-демократов и среди них таких классиков социал-демократии, как маститый Август Бебель, неожиданно знакомились с Лениным, о котором знали только понаслышке. У них было наготове старое мерило сравнения, был опыт всех видов красноречия с трибуны, и они не могли, впервые услышав Ленина, не подметить нечто для себя новое в его выступлениях.
Очень было интересно читать, например, как описал японский коммунист Сен-Катаяма, приехавший из Мексики в Советскую Россию в декабре 1921 года, доклад Ленина в Большом театре, на Всероссийском съезде Советов. Сен-Катаяма совсем не знал русского языка, он не понял ни одного слова в докладе; но глазами он воспринимал вместо ушей и то, как Ленин говорил, и то, как его слушали. Видно, это было для него и ново и непривычно до такой степени, что Сен-Катаяма, за три часа в продолжение доклада не понявший произносимых слов, тем не менее не утомился и не соскучился.
Вот его описание: «Товарищ Ленин говорил приблизительно три часа, не обнаруживая никаких признаков усталости, почти не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но он обладал чрезвычайным обаянием; когда он начал говорить, наступила гробовая тишина, все глаза были устремлены на него. Товарищ Ленин окидывал взглядом всю аудиторию, как будто гипнотизировал ее. Я наблюдал многочисленную толпу и не видел ни одного человека, который бы двигался или кашлял в продолжение этих долгих трех часов. Он увлек всю аудиторию. Слушателям время казалось очень кратким. Товарищ Ленин величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни».[1]
Тут еще тоже все очень общо. Но если особенность Ленина как оратора была нова для Сен-Катаямы, нам тоже кажется кое-что неожиданным в его зрительном восприятии. Образ Ленина — в рисунках наших художников, в памятниках скульпторов, в воспроизведении актеров — вошел к нам и остался зримо перед миллионами советских людей — с широким жестом. Жест этот, взмах руки, устремленной вперед, сделался как бы неотъемлемым от него. А у Сен-Катаямы Ленин «не прибегал к каким-либо жестам», он словно стоял неподвижно перед слушателями. И мало того, отсутствие жеста сочеталось у него с однообразной интонацией: три часа — без перемены интонации! И дальше. Звучащая для нашего советского уха как-то странно и неприемлемо фраза о том, что Ленин «как будто гипнотизировал» аудиторию. Совсем это не похоже на тот портрет, какой создали наши скульпторы и художники.
Но попробуем все же вдуматься, что именно поразило Сен-Катаяму в ораторском искусстве Ленина. По его собственному признанию, русского языка он не знал и, значит, ни слова из доклада не понял. Откуда же взялась его уверенность в том, что Ленин «неуклонно развивал свою мысль, излагая аргумент за аргументом»? Ясное дело, не имея возможности услышать смысл слов, Сен-Катаяма не мог не услышать и, больше того, не почувствовать глубочайшей силы убежденности, которою была проникнута речь Ленина. Эта убежденность ни на секунду не ослабевала, — отсюда впечатление неуклонного развития мысли; и она длилась, не ослабевая, не утомляя слушателей, целых три часа, — значит, в ней не было утомляющих повторений, а новые и новые доказательства (аргументы), следовавшие одно за другим. Уловив эту главную особенность в речи Ленина, Сен-Катаяма свой мысленный образ от нее невольно перевел в зрительный образ, может быть, по ассоциации «капля точит камень», и отсюда появился в его описании совсем непохожий Ильич живой и всегда очень взволнованный Ильич, — вдруг превратившийся у Сен-Катаямы в неподвижную статую без жеста, с монотонной интонацией, остающейся без перемен целых три часа.
Но Сен-Катаяма бросил еще одно определение, не дав к нему ровно никакого пояснения для читателя: Ленин «обладал чрезвычайным обаянием». Чтоб раскрыть тайну обаяния Ильича как оратора для массы слушателей, оставшуюся у Сен-Катаямы голым утверждением, очень полезно представить себе, к каким ораторам из числа самых авторитетных вождей в то время привыкли зарубежные коммунисты, то есть с кем мысленно мог бы сравнить Сен-Катаяма Ленина.
В воспоминаниях теоретиков и практиков революционного движения трудно найти (да и нельзя требовать от них!) что-либо художественное, переходящее в искусство слова. И тем не менее, вспоминая о Ленине на Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907 году, Феликс Кон, наверное, совсем не собираясь сделать этого, оставил нам почти художественный портрет Бебеля. Для меня, много жившей в Германии и короткое время учившейся в Гейдельберге, этот портрет был просто откровением, потому что мне пришлось часто сталкиваться у простых немцев с непонятной для русского человека чертой чинопочитания, каким-то особенным уважением к чиновничеству, к мундиру. На Штутгартский конгресс приехал глубоко почитаемый вождь Август Бебель. Идолопоклонства в немецкой рабочей партии не было. Сам Владимир Ильич писал об этом очень красноречиво: «Немецкой рабочей партии случалось поправлять оппортунистические ошибки даже таких великих вождей, как Бебель».[2] Но у верхушки социал-демократии в их партийном обиходе были некоторые внешние заимствования форм, принятых в кругах буржуазной дипломатии. Так, для целей выяснения «точек зрения» и для дружеских сближений устраивались «приемы», «чашки чая», встречи за круглым столом. «Такой банкет был в Штутгарте устроен за городом, — рассказывает Феликс Кон. — Пиво, вино, всевозможные яства пролагали путь к „сближению“… Как самый авторитетный вождь II Интернационала и блюститель традиций, Бебель на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращаясь ко всем со словом „Kinder“ („дети“), с одними отечески шутя, других журя, а иных наставляя на путь истины. Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц усиливала величественность этого обхода…»[3]
Ярко встает перед нами вся картина. Бебель несомненно был великий вождь (так называл его Ленин, так запомнился он студенчеству моего времени, сидевшему над «Женщиной в прошлом, настоящем и будущем»), и то, что я хочу дальше сказать, не в обиду его имени будь сказано. Но когда личное величие осознано как положение среди своих современников и человек стремится сочетать его с демократизмом, этот демократизм только подчеркивает разницу в положениях и «чинах» того, кто обходит собравшихся на «прием», и тех, кого он обходит. Формула «чтобы никого не обидеть» утверждает, как само собой разумеющееся, вышестояние одного лица над другим, и это могло проскользнуть у верхушек социал-демократии. Но можно ли хоть на минуту представить себе нашего Ильича в положении Бебеля, обходящим делегатов? Физически нельзя себе это представить. И нельзя его себе представить «окруженным свитой поклонников и поклонниц». В «чрезвычайном обаянии» Ильича как оратора, подмеченном Сен-Катаямой, в огромной его популярности среди сотен людей, затаив дыхание слушавших его доклад, было какое-то иное качество. Но какое?
Пойдем немножко назад во времени, и из Штутгарта 1907 года заглянем в 1902 год — в мюнхенские воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Верная соратница Ильича, как и сам Ильич, она очень уважала Плеханова; когда я в одной из своих работ («Фабрика Торнтон») поставила имя Плеханова рядом с Тахтаревым, Надежда Константиновна в письме поправила меня, указав, что Плеханов был одним из основоположников нашей партии, а Тахтарев — «революционер на час». Но вот что она вспоминает, когда они создавали «Искру»:
«Приезжали часто в „Искру“ рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние (курсив мой. — М. Ш.) между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить. А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение, — Плеханов начинал раздражаться: „Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я…“»[4]
Опять удивительно конкретный облик характера! Блеск остроумия, высокая образованность — все это отлично знал и видел в самом себе сам Плеханов. Он получал от своих больших качеств личное удовольствие, личное удовлетворение, как наслаждается талантливый актер, когда ему удается превосходно сыграть. В Цюрихе во время резкого спора с группой «Рабочего дела», приведшего к разрыву, спорщики волновались и переживали; дошло до того, что Мартов «даже галстук с себя сорвал». Но Плеханов «блистал остроумием». И Надежда Константиновна, вспоминая об этом, пишет, невольно дорисовывая данный ею раньше портрет: «Плеханов… был в отличном настроении, ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив».[5] Если в характере Августа Бебеля было немецкое соблюдение традиционности, обнаженное даже до некоторой наивности, то в характере личного удовлетворения самим собой, в черте, которую русский язык определил как «сам себе цену знает», у Плеханова уже не наивная традиционность, а индивидуализм большого таланта, видящего прежде всего свое «как», а не чужое «что». И все же мы только приблизились к ответу, в чем «иное качество» Ленина как оратора, и опять надо пропутешествовать из книги в книгу, на этот раз к впечатлению одного шотландского коммуниста, чтоб докопаться наконец до точного определения.
Шотландцы — очень упрямый народ с удивительно стойким, сохранившим себя несколько столетий без изменения национальным характером. Когда мы читаем В. Галлахера, делегата от Шотландского рабочего комитета на Втором конгрессе Коминтерна, то в его коротеньких воспоминаниях так и встает перед нами герой романов Смоллета, хотя герои романов Смоллета жили в середине XVIII столетия, а молодость Галлахера пришлась на XX век. Та же прямота и резкость, тот же разговор без обиняков и дипломатии — рубка по-шотландски, и то же умное наблюдение, соединенное с природным здравым смыслом. Без малейшего смущения, а даже как-то горделиво Галлахер признается, что на собраниях и комиссиях для выработки тезисов, «которые придали II конгрессу такое огромное значение в истории Коминтерна», лично он, Галлахер, «отнюдь не оказался полезным». Почему? Да потому… Но лучше не передавать своими словами, а дать слово самому шотландцу:
«Приехав в Москву с убеждением в том, что мятежник из Глазго знает гораздо больше о революции, чем кто-либо из наших русских товарищей, несмотря на то, что они переживали революцию, — я сразу же старался направить их на „верный“ путь по целому ряду вопросов…»[6]
Ну чем не герой Смоллета? Поучить уму-разуму русских большевиков! Но в этом чисто шотландском гоноре (наши ребята из Глазго! Это вам не кто-нибудь!) есть нечто куда более симпатичное и располагающее к себе, нежели удовольствие Плеханова от своих собственных качеств, и нет ни малейшего сомнения, что шотландская самоуверенность Галлахера понравилась Ильичу, может быть, вызвала у него, как и у нас, литературные реминисценции, разбудила в нем природный ильичевский юмор. С неподражаемой откровенностью Галлахер рассказывает дальше, что он был чрезвычайно раздражен «из-за непривычных» для него «условий питания» и в таком состоянии сделался невероятно обидчив. Узнав, что в книге «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» Ленин изобразил в «дурном свете» именно его, Галлахера, он чуть ли не набросился на Владимира Ильича:
«Я настойчиво пытался его уверить, что я не ребенок, а, как я говорил, „набил руку в этом деле“.[7] Многие из моих замечаний были сделаны на языке более вольном, чем обыкновенный английский». Это значит, что Галлахер набросился на Ленина по-шотландски, с горчицей и перцем, не присущими выдержанной английской речи. Как известно, английский язык самый вежливый на свете; ведь ни на каком другом языке, кроме, может быть, китайского, не додумались говорить «сэнк ю» (благодарю вас) тотчас в ответ на «сэнк ю» собеседника, для того, чтобы собеседник, получивший от вас «спасибо» на «спасибо», в третий раз сказал «сэнк ю», то есть свое спасибо на спасибо за первое спасибо! Шотландский язык, претендующий на то, что в Шотландии-то и говорят на самом чистом, первичном английском языке, таких тонкостей не знает. И вот представьте себе, читатель, разъяренного шотландца, осыпающего Ленина лексиконом, принятым «по ту сторону Клайда». Ленин утихомирил его коротенькой запиской: «Когда я писал эту маленькую книжку, я не знал вас». Но он не забыл ни самого шотландца, ни его фразы «на языке более вольном, чем английский». Когда через несколько месяцев приехал в Советский Союз из Великобритании другой коммунист, Вильям Поль, Владимир Ильич описал ему выходку Галлахера и, вероятно, мастерски передразнил того, повторив знаменитую фразу, в точности и с шотландским акцентом: Gallacher said he wis an awl haun et the game (Галлахер сказал, что он набил себе руку в этом деле). Сообщая об этом со слов Поля, Галлахер заканчивает свой рассказ: «Поль говорит, что он (Ленин) прекрасно передал акцент Клайдсайда».[8]
Мы должны быть горячо благодарны шотландскому коммунисту даже за один только этот драгоценный штришок бесконечно дорогого для нас юмора Владимира Ильича. Но мы обязаны Галлахеру несравненно большим. При всем своем ребячестве и шотландской задирчивости именно Галлахер сумел наиболее зорко подметить и наиболее точно передать основную особенность ленинских выступлений и бесед:
«Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине, я мог думать только о том, очем он думал, а он все время думал о мировой революции»[9] (курсив мой. — М. Ш.).
Вот, наконец, черта, за которую может уцепиться мысль. Видеть лицом к лицу Ленина, слышать его голос, может быть, не раз встретиться с ним глазами и, несмотря на это, все время не видеть и не слышать самого Ленина, не думать о нем самом, а только о предмете его мыслей, о том, что Ленин думает, чем он сейчас живет, то есть воспринимать лишь содержание его речи не «как» и «кто», а «что»! Таким великим оратором был Ленин, и так умел он целиком отрешиться от себя самого, перелившись в предмет своего выступления, что слушателю передавались вся глубина его убеждения, все содержание его мыслей, заставляя забыть о самом ораторе и ни на секунду не отвлечь этим внимания от существа его речи или беседы.
Представляю себе две формы реакции на два типа ораторов. К одному после его доклада подходишь с восхищением и поздравлением: «Как вы прекрасно, как блестяще выступили!» И к другому подходишь и говоришь не о том, как он выступал, а сразу же о предмете его речи, захватившем, заинтересовавшем, покорившем вас. Подчеркнув красным крестиком глубокие и бесхитростные слова Галлахера, я сделала для себя такой вывод: если аудитория начнет после твоего доклада хвалить тебя и восхищаться тобой, значит, ты плохо сделал свое дело, ты провалил его. А если разговор сразу же пойдет о предмете и содержании твоего доклада, как если б тебя самого тут и не было, значит, ты хорошо выступил, сделав свое дело на пять.
Таков был первый урок, почерпнутый мною из чтения во время бомбежек, и с тех пор, направляя свои внутренние усилия в работе агитатора так, чтоб по окончании доклада слушатели сразу заговаривали о его содержании, а не обо мне, я мысленно все время представляла себе образ Ленина-докладчика. Пусть при этом не удавалось достичь и стотысячной доли результата, зато сама память о полученном уроке была драгоценной; храня ее неотступно, воспитываешь у себя трезвую самооценку любого внешнего успеха.
2
Так был сделан первый шаг в познании особенностей Ленина как агитатора. Но секрет огромной любви к нему миллионных масс, любви не только разумом, но и сердцем, все еще оставался неопределимым. Правда, была уже вполне очевидна разница в том, как, например, почтительно следовала за Августом Бебелем «свита его поклонников и поклонниц», безусловно глубоко любивших Бебеля и преданных ему; и как — совсем не почтительно — кидались навстречу Ленину люди, чтоб только посмотреть на него и побыть около него. Часто наблюдая такие встречи в Москве в 1921 году, Клара Цеткин рассказывает о них в своих воспоминаниях:
«Когда Ленин заходил ко мне, то это было настоящим праздником для всех в доме, начиная с красноармейцев, которые стояли у входа, до девочки, прислуживавшей в кухне, до делегатов Ближнего и Дальнего Востока, которые, как и я, проживали на этой огромной даче… — „Владимир Ильич пришел!..“ От одного к другому передавалось это известие, все сторожили его, сбегались в большую переднюю или собирались у ворот, чтобы приветствовать его. Их лица озарялись искренней радостью, когда он проходил мимо, здороваясь и улыбаясь своей доброй улыбкой, обмениваясь с тем или другим парой слов. Не было и тени принужденности, не говоря уже о подобострастии, с одной стороны, и ни малейшего следа снисходительности или же погони за эффектом — с другой. Красноармейцы, рабочие, служащие, делегаты на конгресс… — все они любили Ленина, как одного из своих, и он чувствовал себя своим человеком среди них. Сердечное, братское чувство роднило их всех».[10]
В этих словах нет ничего нового, каждый, кто когда-либо писал о личных встречах с Лениным, неизменно отмечал то же самое — великую простоту, сердечность, товарищество Ильича в его общении с другими людьми. Можно назвать поэтому рассказ Клары Цеткин типичным. Есть в нем только одно, что немецкая коммунистка прибавила от себя. Не услыша этого, как личного признания от самого Ленина, не цитируя какого-нибудь ленинского высказывания в письме или разговоре, а как бы невольно беря на себя функцию психолога или писателя (который может говорить за своих воображаемых героев), она пишет про Ленина: «…он чувствовал себя своим человеком среди них». Если б редактор потребовал от нее на этом месте справку, откуда она это знает, или строгий «коронер» на судебном процессе указал ей, что свидетель не имеет права говорить за других о том, что другие чувствуют, а только за себя, что он сам чувствует, Клара Цеткин вынуждена была бы поправиться и уточнить свою речь таким образом: «Я чувствовала» или «я видела, что Ленин чувствует себя своим человеком среди них». Тогда нужно было бы доискаться, что же именно в отношении Ленина к другим людям (ведь не только простота и сердечность!) вызвало у Клары Цеткин такое признание.
Здесь мы оставим на время книжку воспоминаний и обратимся к другим источникам более общего порядка.
Когда вышло первое издание сочинений Ленина, у нас еще не существовало разветвленной сети кружков политучебы с широко разработанной программой чтения. Каждый вопрос в этих программах охватывал (и охватывает сейчас) много названий книг классиков марксизма, но не целиком, а с указанием только нужных для прочтения страниц, — от такой-то до такой-то. Считаю для себя счастьем, что я избегла в конце двадцатых годов этой пестроты знакомств с книгой по кусочкам и смогла прочитать Ленина том за томом, каждое произведение в его целостном виде. Правда, не имея ни консультанта, ни старшего товарища, который «вел» бы меня в этом чтении, я часто «растекалась мыслью» по второстепенным местам, увлеченная какой-нибудь деталью, и упускала главное. Зато детали эти мне очень потом пригодились. Одна из таких деталей, останавливающая внимание на первых же страницах «Материализма и эмпириокритицизма», помогает, мне кажется, понять очень важную вещь: связь индивидуализма в характере человека со склонностью его мышления к теоретическому идеализму. Владимиру Ильичу очень полюбилось одно выражение у Дидро. Начав свою полемику с Эрнстом Махом, он приводит полностью всю цитату, где Дидро употребил это выражение. Судя по сноске, Ленин читал французского энциклопедиста в оригинале и сам перевел цитируемое место. Речь идет о беседе Дидро с Даламбером о природе материализма. Дидро предлагает своему собеседнику вообразить, что фортепьяно наделено способностью ощущения и памятью. И вот наступает вдруг такой момент сумасшествия… Далее следует знаменитая фраза Дидро: «Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем».[11] Этот образ чувствующего фортепьяно, на клавишах которого (органах восприятия) играет объективный мир, то есть материально существующая природа, — и которое вдруг сошло с ума, вообразив, что в нем единственном заключена вся гармония вселенной, — захватил Ленина так сильно, что он не только процитировал это место, но и вернулся к нему снова, повторил его, развил и приблизил к нам, дав его читателю в несколько ином ракурсе. У Дидро ударение стоит на мысли, что фортепьяно вообразило, будто вся гармония вселенной происходит в нем (курсив мой. — М. Ш.). Ленин, издеваясь над «голеньким» Эрнстом Махом, пишет, что, если он не признает объективной, независимо от нас существующей реальности, «…у него остается одно „голое абстрактное“ Я, непременно большое и курсивом написанное Я = „сумасшедшее фортепиано, вообразившее, что оно одно существует на свете“».[12] Казалось бы, это опять та же цитата из Дидро, — но не совсем та! Ильич ставит знак равенства между «сумасшедшим фортепиано» и местоимением первого лица единственного числа «Я». Он как бы центрирует внимание не на второй мысли Дидро (что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя творцом гармонии вселенной, носящим весь объективный мир внутри себя, как позднее «Мировой Разум» Гегеля); он попросту выбрасывает эту вторую половину фразы, чтоб она не двоила внимания читателя, и подчеркивает первое утверждение Дидро, что «сумасшедшее фортепиано» вообразило себя одним на свете. И больше того, оно превратилось в «Я» с большой буквы. Но когда «Я» с большой буквы становится центром мира и оно существует в единственном числе, что же делается с бедным «ты», со всеми другими познающими субъектами? Не перестает ли каждое «Я» реально чувствовать бытие каждых «ты», не становятся ли эти «ты» для него лишь порождением его собственных идей? Так от крайнего теоретического солипсизма Беркли незаметно в уме читателя прокладывается мостик к крайнему практическому индивидуализму в характере человека, заставляющего его как бы не чувствовать бытие другого человека рядом с тобой с той же убедительной реальностью, с какой ты ощущаешь глубину и реальность своего собственного бытия.
Разумеется, все эти рассуждения очень субъективно-читательские. Но зерно истины в них есть. Именно от полноты своего материалистического сознания Ленин очень сильно ощущал реальное бытие других людей. И каждый, к кому подходил Ленин, не мог не чувствовать реальность этого подхода человека Ленина к другому человеку, а значит, не мог не переживать ответно свое человеческое равенство с ним. В материалистическом переживании бытия «ты» с той же силой, как бытия своего «я», есть совсем новое качество нашего времени, и каждый партийный руководитель должен стремиться воспитать в себе это качество. В памяти всплывают многие образы литературы, где как бы подтекстно, а иногда и в самом тексте проводится мысль, что далеко не все люди существуют реально, многие только «кажутся» для того, чтобы твое «я» прошло великий искус жизни… Когда в «Братьях Карамазовых» идет страшный рассказ о детях, безвинно переносящих чудовищные муки, и читателю как бы задается вопрос: за что? — опять возникает призрачное ощущение бытия некоторых живых существ, только «кажущихся», но не существующих реально. «Это, брат, не наши люди, это пыль, поднявшаяся… Подует ветер, и пыль пройдет…» говорит Федор Карамазов про сына Ивана.[13] Знаменитый самгинский вопрос у Горького «да был ли мальчик?», еще недавно служивший в нашей литературе своего рода метафизической проблемой, тоже порожден утверждением единственного «Я» на земле. А на западе! У немецких романтиков, в «Эликсире Сатаны» Гофмана, в огромном числе сегодняшних книг, не таких талантливых, но рожденных подводным течением идеализма, разве не выводятся наряду с действующим «я» люди-призраки, имеющие лишь подсобное существование? У Кафки эта призрачность существования «ты», подобно раковой опухоли, так чудовищно разрослась, что метастазы охватили даже его гиперболическое, огромное «Я» с большой буквы, и это «Я», герой Кафки, становится сам призраком, теряющим реальные очертания земного бытия. Так сошедшее с ума фортепьяно продолжает свое шествие в искусстве и мышлении современности. Пример с Кафкой особенно ярок для тех читателей, кто знаком с творчеством этого страшного выразителя крайней линии идеализма в литературе: Кафка удивительно сильно, до тошноты и головокружения (потому что это непривычно и несвойственно нормальному мышлению) показал беспомощность взаимоотношений между «я» и «ты», между субъективным сознанием и его призраком, как бы физическую невозможность для «я» добиться от «ты» прямого ответа на вопрос или прямого противодействия на действие, когда оно требуется по ходу романа.
Но вернемся из этого призрачного мира сошедшего с ума фортепьяно в живой мир нашей исторической действительности. Переживали ли вы когда-нибудь, читатель, особое счастье от общения с человеком, который, вы чувствуете, подошел к вам с тем выражением равенства, когда его «я» ощущает реальное бытие вашего «ты»? Это не так уж часто бывает на земле. Люди разны во всем, — не только по внешнему положению в обществе, но и по таланту, по уму, по характеру, по возрасту, по степени внешней привлекательности. Но в одном они равны абсолютно. В том, что все они реально существуют. И вот в присутствии живого Ленина и даже в чтении — одном только чтении его книг — каждый из нас испытал живое счастье утверждения реальности твоего собственного бытия, каким бы маленьким или ничтожным ни казалось оно тебе самому. Мне кажется, это одна из очень важных причин, почему людям было хорошо с Лениным и Ленину было хорошо с людьми. Один из членов Великобританской социалистической партии, побывавший в Москве в 1919 году, Д. Файнберг, определил это чувство как особое ощущение внутренней свободы: «…с каким бы благоговением и уважением вы ни относились к нему, вы сразу же чувствовали себя свободно в его присутствии».[14] А это значит, что вы реализовывали в общении с Лениным лучшие стороны вашего характера, то есть, говоря проще, становились при нем лучше.
3
Для вступающего в партию всегда очень важен вопрос о его старшем (по партийному опыту) товарище, секретаре парторганизации или парторге. С ним тянет посоветоваться, у него поучиться, ему поисповедоваться, и это очень естественно в том новом положении, в каком оказывается и перед самим собой, и перед обществом молодой член партии. Едва ли не самым тяжелым разочарованием в его партийной жизни бывает, когда этот руководитель оказывается простым формалистом, или даже себялюбцем, или равнодушным человеком, и, говоря с ним, вы чувствуете, что он внимателен только для виду, отделывается ответами, занят чем-то своим. Его формальное отношение может постепенно погасить в новом члене партии стремление по-новому, осознанней, ответственней относиться к своему делу и мало-помалу тоже заразит его формализмом. Так множатся ряды чиновников с партбилетами в кармане. Ученый, даже великий ученый, может быть плохим, никудышным психологом, глядеть мимо вас, не видя вас, слушать и не отвечать, принимать черное за белое, и за это с него человечеством не спросится, больше того, даже при полном отсутствии внимания к вам и понимания вас у такого ученого можно каждый день, каждый час учиться и расти возле него, учиться могучей концентрации ума, преклоняться перед самоотдачей всей жизни предмету своей науки. Но член партии, коммунист, если он руководитель какого-нибудь коллектива, не имеет права на полную самоотрешенность. Он обязан видеть и чувствовать людей, которыми руководит. И сказать про него, что он плохой психолог, это все равно как признать: он разваливает дело, не справляется с главной своей задачей. Можно ли научиться пониманию людей и общению с людьми по учебникам психологии и педагогики? Здесь я, пожалуй, разойдусь во мнении со многими. Мне кажется, не только нельзя научиться (да еще при том состоянии учебников, каковы они у нас и во всем мире сейчас!), а можно вдобавок и то верное, что практически, на опыте жизни получено, утерять и совсем запутать в голове.
Конечно, чтоб быть таким психологом, как Ильич, надо родиться Ильичем, с его громадной опорой на материалистическое сознание, с его превосходным воспитанием у таких родителей, как один из лучших русских педагогов, Илья Николаевич Ульянов, и одна из тактичнейших женщин, с ее огромной силой воли и умением создать бытовой и творческий режим в доме, Мария Александровна Ульянова. Но разобранным выше основным и как бы первичным свойствам его натуры, — полному отсутствию тщеславия и острореальному ощущению бытия другого человека, настолько же реальному, как ощущение собственного бытия, — можно всю жизнь стремиться внутренне подражать, и даже если это не удастся вам ни в какой мере, это станет вашей совестью, вашим вернейшим критерием в оценке характеров — вашего собственного и окружающих вас людей. Зато многим чисто педагогическим приемам Ленина, и особенно его способу постоянного изучения людей, можно каждому коммунисту научиться и, во всяком случае, необходимо знать о них.
Умение подойти к человеку, понять его, правильно сагитировать, выучить или дать урок выросло у Владимира Ильича в процессе постоянной, неутомимой работы с людьми, страстной потребности изучать людей, быть с ними, чувствовать их. Никогда не было у него равнодушия к человеку или невнимания к его прямым нуждам. Но, кроме прямой практики работы с людьми, Ленин всегда учился из книг, из художественной литературы тому, что такое глубинная психология людей. Мы знаем со слов Надежды Константиновны, что он буквально тосковал в Кракове по беллетристике и «разрозненный томик „Анны Карениной“ перечитывал в сотый раз».[15] «Сто раз» перечел роман, где выступает любимый герой Толстого Левин, с его крестьянской философией, где дается такой великолепный разрез современного Толстому общества, где без нарочитости, с величайшей правдой искусства раскрываются такие характеры, как страшный в своей сухой душевной наготе Каренин! Характеры иного общества, иной эпохи… Но мог ли бы Ленин так гениально увидеть в Толстом «зеркало русской революции», если б не перечитывал его многократно?! Школа психологии, открываемая подлинным искусством слова, очень много дала Ильичу в его понимании людей.
Каждый народ с огромной выразительной силой проявляет себя в своем языке. Владимир Ильич хорошо это понимал. Его работе с людьми много помогало постоянное, непрекращающееся изучение языков, на каких говорят люди. Об этом наши пропагандисты как-то мало задумываются. Между тем общение писателей с рабочими разных национальностей через переводчиков, объезд чужих стран и пребывание в них без возможности прочитать даже афишу на столбе, не говоря уже о газетах, — вещь для них тяжелая, все равно что стояние у запертой двери без ключа к ней. Хотя сам Ленин писал в анкетах, что плохо знает иностранные языки, но вот что говорят свидетели:
«Товарищ Ленин хорошо понимал английский язык (и говорил по-английски)…» (Д. Файнберг).[16] Ленин «совершенно свободно говорил по-английски» (Сен-Катаяма).[17]
«В 1920 году, когда происходил II конгресс Коминтерна, Владимир Ильич в своем выступлении подверг критике ошибки руководства Коммунистической партии Германии и линию итальянца Серрати. Пока речь шла о Германской коммунистической партии, Владимир Ильич говорил по-немецки, а потом, когда заговорил об ошибках Серрати, сразу же перешел на французский язык. Я была на этом заседании конгресса, которое происходило в Андреевском зале Кремлевского дворца. Вспоминаю тот гул, который прошел по залу. Иностранные товарищи не могли себе представить, что русский, который только что блестяще говорил по-немецки, так же свободно владеет французским языком»[18] (Е. Д. Стасова).
Но, свободно выступая с докладами и беседами на немецком, английском и французском языках, Владимир Ильич хорошо знал и итальянский, читал итальянские газеты. Осенью 1914 года, в страстной полемике с немецкими и прочими социалистами, санкционировавшими военные кредиты, Ленин противопоставляет им в статье «Европейская война и международный социализм»[19] итальянских коммунистов. Он цитирует несколько раз итальянскую газету «Аванти», давши на трех с половиной страницах своей статьи одиннадцать итальянских фраз, точнее, сто девять итальянских слов. По характеру этих цитат видно, что Ильич наслаждается высоким революционным содержанием, приподнятым музыкальной красотой языка. Для него это знание чужих языков, свободное употребление их отнюдь не простой багаж образованности. Через язык он постигает внутренний жест народа, особенности его реакций, его характера, его юмора; он ищет лучших путей к нему, лучшего взаимного разумения. Мы уже видели, как тонко подметил, а потом использовал он шотландские особенности английского языка Галлахера. Но не только четыре европейских языка знал Ленин. До конца своих дней он интересовался и языками братских славянских народов и продолжал по мере сил и времени изучать их. Как в приведенных выше случаях, знание языков помогало Ильичу сразу устанавливать контакт с англичанами и французами, так помогло ему знакомство с чешским языком и обычаями. Летом 1920 года приехал в Москву Антонин Запотоцкий. С волнением и в растерянности он ожидал приема у Ленина: как и о чем решиться говорить с ним? Но тревогу его как рукой сняло:
«Прежде всего оказалось, что он (Ленин. — М. Ш.) понимает чешскую речь… Беседу он начал вопросом, который наверняка ни одного чеха не привел бы в замешательство. Он спросил, едят ли еще в Чехии кнедлики со сливами. Он помнил об этом любимом чешском блюде еще со времени своего пребывания в Праге…»[20]
Приезжает в Москву болгарский коммунист Хр. Кабакчиев и привозит Ленину в подарок целую кучу брошюр на болгарском языке, которыми он очень гордится: вот какая у нас массовая политическая литература! В таких случаях интерес к подаренным книгам обычно потухает при виде незнакомого языка, на котором они написаны. Но мы можем сразу представить себе живого Владимира Ильича, с любопытством пересматривающего брошюры.
«А трудно ли выучиться болгарскому языку?»[21] — внезапно спрашивает он у Кабакчиева. Это не праздный вопрос. Ленин просит выслать ему поскорее болгаро-русский словарь. А через некоторое время, видимо, отчаявшись получить от Кабакчиева, Ленин пишет записочку библиотекарше с просьбой достать ему болгаро-русский словарь.
От изучения чужих языков — к изучению народа, и так буквально до последних дней жизни. Этого не должен игнорировать партийный работник, желающий изучить науку руководства людьми, умелого подхода к людям, понимания их и влияния на них. Еще и потому, может быть, что знание многих иностранных языков помогает открыть силу и красоту, особенности и своеобразие собственного, родного языка и получше владеть им в общении со своим народом. Ведь недаром Гете любил говаривать, что только знание чужих языков дает человеку возможность полностью понять свой собственный.
В годы, когда непосредственное воздействие живого Ильича еще не стерлось из памяти, М. Шолохов отразил стремление коммуниста овладеть иностранным языком. В «Поднятой целине» запечатлен образ простого и малограмотного партийного руководителя в деревне, жадно изучающего каждую свободную минуту английский язык, необходимый ему для «мировой революции». В те годы людям широко навстречу шло и наше государство, основав так называемые ФОНы[22] для партийных и творческих работников, — индивидуальное обучение иностранным языкам. К сожалению, мало кто воспользовался ими по-настоящему.
Огромное внимание уделял Ленин молодежи. Он учил никогда не бояться ее, внимательнейшим образом следил за ней, умел бережно относиться к ее самолюбию (Н. К. Крупская рассказывает, как он поправлял начинающих и молодых авторов совершенно для них не заметно), а главное обладал чудесным даром (или сам воспитал в себе выдержку) не раздражаться на ее ошибки. Сталкиваясь с чем-либо отрицательным, он не забывал припомнить или заметить одновременно и что-нибудь положительное в том же человеке. Организатор швейцарской молодежи в десятых годах нашего века В. Мюнценберг пишет после совместной работы с Лениным: «Его критика никогда не оскорбляла нас, мы никогда не чувствовали себя отвергнутыми, и, даже подвергая нас самой суровой критике, он всегда находил в нашей работе что-нибудь заслуживающее похвалы».[23] Мюнценберг называет такое отношение Ленина педагогическим, то есть направленным на воспитание кадров: «Без его непосредственной личной товарищеской помощи, оказывавшейся им с огромным педагогическим тактом, Международное бюро молодежи в Цюрихе ни в коем случае не принесло бы такой пользы юношескому движению в 1914–1918 гг.».[24] И он заканчивает свои воспоминания: «За свою пятнадцатилетнюю работу в движении социалистической молодежи я получил неисчислимо много от известнейших вождей рабочего движения, но не могу вспомнить ни одного, который бы, как человек и политик, стоял ближе к юношеству и политически больше влиял бы на пролетарскую молодежь, чем Владимир Ильич Ульянов-Ленин».[25] Надо отметить тут, что Ленин всегда подмечал лучшее в человеке — и это одна из главнейших черт, необходимых для педагога, а значит, и для коммуниста, работающего с кадрами; потому что строить свою воспитательную работу с людьми коммунист может, лишь опираясь на лучшие их черты, а не на худшие. Надежда Константиновна рассказывает: «У Владимира Ильича постоянно бывали… полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него».[26] В начале мая 1918 года группа финских товарищей, наделавших крупных ошибок и потерпевших в партийной борьбе полное поражение, шла к Ленину с повинной головой, сознавая со всей серьезностью собственный промах. Люди были уверены, что получат суровый разнос. Но Ленин обнял их и вместо разноса начал подбадривать, утешать, поворачивать их мысли к будущему, говорить о том, что предстоит им делать дальше.
Подобных примеров очень много, и, когда читаешь бесхитростные рассказы об этом, чувствуешь, что в проявлении такой чуткости вовсе не одна только ильичевская доброта: ведь когда нужно, Ильич умел быть беспощадно суровым. Но одним из серьезнейших оружий воспитательной работы с кадрами было у Ленина умение не только не подавлять у человека чувство его собственного достоинства, а, наоборот, пробуждать и укреплять его. С теми, кто имел это чувство собственного достоинства, Владимир Ильич общался как будто с особенным удовольствием. Как правило, это были русские рабочие, приезжавшие к нему в эмиграцию, крестьяне, которых «мир» посылал к нему ходоками в первые годы революции, те из ученых и творческих работников, которые, подобно Михайле Ломоносову, не желали быть холуями у самого бога, а не «токмо» у сильных мира сего. Между прочим, он очень ценил эту внутреннюю человеческую независимость у английских рабочих, которых изучал во время лондонской эмиграции буквально со страстью. Страницы, посвященные этому у Надежды Константиновны, просто обжигают при чтении. В английских церквах после службы устраивались своеобразные дискуссии, на которых выступали рядовые рабочие. И Владимир Ильич ходил по церквам, чтобы только слышать эти выступления. Он жадно читал в газетах, что там-то и там объявляется рабочее собрание, и он ездил по самым глухим кварталам на эти собрания, ходил в рабочие библиотечки-читальни, ездил на крышах автобусов, посещал «социал-демократическую» церковь в Лондоне, где священник был социал-демократ, чтобы изучить рабочую молодежь. Приезжие в Лондоне знакомились лишь с верхушкой английского рабочего класса, подкупленной буржуазией, но Ленин пристально следил за рядовым английским рабочим, сыном народа, проделавшего своеобразные революции, прошедшего через чартизм и создавшего «habeas corpus», эту заповедь личной человеческой независимости. Слушая выступления рядовых рабочих, Ильич говорил Надежде Константиновне: «Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий — сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает».[27] В них он видел «движущие силы будущей революции в Англии».[28] Надежда Константиновна прибавляет от себя: «На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич».[29] Классовый инстинкт рабочего, покоящийся на могучем чувстве коллектива, выработанный ежедневным совместным трудом, теснейшим образом связан с чувством собственного достоинства, несовместимым ни с холуйством, ни с заискиванием, ни с трусостью, ни с наглой самоуверенностью. Неизмеримая пропасть отделяет это спокойное и твердое сознание себя человеком от самолюбивого тщеславия, самонадеянности, самоуверенности, наглости, ячества. И надо тонко уметь различать эту разницу, если хочешь руководить кадрами и воспитывать людей. Если всем видам тщеславия надо давать отпор, стараясь искоренять их в членах партии, то людей со спокойным чувством собственного достоинства, людей с независимым и безбоязненным суждением нужно беречь в рядах партии как зеницу ока.
4
В прошлом был в наших творческих союзах метод воздействия на сделавшего ошибку товарища, получивший мрачное название «проработки». Мало кто найдется у нас, особенно из творческих работников, кто не перенес бы тяжело, за себя или за другого, эту проработку. Заключалась она в том, что совершивший ошибку подвергался весь целиком как бы моральному расстрелу не из ружья, которое поразило бы одно какое-нибудь ошибочное место в нем, а из пушки, ядро которой превратило бы его всего в пух и прах. При такой «проработке» не только не оставлялся признанным какой-нибудь нетронутый уголок присущих ему хороших качеств или хорошо сделанной работы, но и не допускались никакие голоса, которые вдруг прозвучали бы в момент «проработки» не в унисон с голосами обвинителей (ядро пушки), а с напоминанием о качестве в человеке, заслуживающем уважения. Если быть откровенным, мало кому из так «проработанных» товарищей пошли они действительно на пользу. Раздумывая над тем, почему у нас к ним все-таки время от времени прибегали, я, сама для себя, пришла к несколько еретическому выводу: они казались полезными и ведущими к укреплению нового общества, подобно тому как кризисы якобы ведут к укреплению капитализма. Совершивший ошибку рассматривался как симптом назревшего общего уклона в ошибку или выражение общего назревавшего недовольства — и совершенный моральный разгром его очищал атмосферу, как тайфун или шквал. Кризис, сокрушив отдельных капиталистов, давал капитализму в целом возможность двинуться дальше. И творческие союзы на «развалинах» одного «проработанного» начинали сызнова движение вперед. Я отнюдь не претендую на верность моего объяснения, я только упоминаю об этом как о личной попытке объяснить для себя самой метод «проработки». Так это или не так, но надо со всей решимостью и бесстрашием большевиков признать, что метод «проработки», осужденный нашей партией, делающий человека средством, никогда и ни в малейшей степени не был приемлем для Ленина. Он был по самой природе своей глубочайшим образом антиленинским. Абсолютно принципиальный в партийной борьбе, вскрывающий партийные ошибки до самого их дна, никогда не останавливавшийся перед тем, что мы называем «говорить правду в глаза», Ленин никогда не делал отдельного человека средством (что исключает всякую возможность педагогического воздействия на него), а всегда относился к человеку как к цели (с учетом его изменения, воспитания, роста). Вот почему унижение человека, такое глубокое унижение, при котором униженный сам перестает уважать в себе человеческое достоинство, есть самый отрицательный способ воспитания человека. Такое унижение (русский язык знает еще более сильное слово для него «уничижение»), такое уничижение ломает кадры, коверкает им нервную систему или воспитывает холуев, лицемеров, приспособленцев и подхалимов.
Я привела несколько примеров ленинского отношения к человеку в тех простых случаях, когда люди сознавали свою вину и нужно было бережно сохранить их веру в себя и силу для завтрашней работы. Но вот более сложный пример, когда требовалось как будто сохранить для партии дарование, считавшееся блестящим, человека с большим как будто литературным и политическим будущим и для этого избавить его от всеобщего осуждения таким авторитетнейшим органом, как III конгресс Коминтерна, тем более что вышеописанный товарищ и вины особенной как будто не проявил: написал совершенно правильную по содержанию брошюру, а только малость переборщил в ней, переборщил в тоне, в критике, в нападках… Я имею в виду интереснейший эпизод с немецким коммунистом Паулем Леви и позицию в этом деле Владимира Ильича. Мне кажется, каждый партийный руководитель, кто хочет быть подкованным в своей работе психологически и педагогически, должен не только прочесть, но прямо изучить страницы, посвященные этому эпизоду в воспоминаниях Клары Цеткин. С тех пор прошло свыше сорока лет. Объективный исторический анализ стер все сложности и тонкости, всю конкретность обстановки, существовавшей в тот год (1923), и, например, в нашей БСЭ, как и в новых учебниках истории партии, эпизоду с Леви дано скупое и сжатое толкование, а сам Леви попросту сброшен со сцены истории как заведомый ренегат и оппортунист. Но сорок лет назад все это не было так явно и понятно для каждого. Сорок лет назад факты представлялись несколько по-другому, а сам Леви еще занимал руководящий пост в молодой Германской компартии, и позиция его далеко не всякому была видна во всей ее двойственности. Вот почему весь эпизод с Леви, особенно во время войны, при тусклой лампочке бомбоубежища, произвел на меня такое сильное впечатление в трактовке его по горячему следу, сразу после события, устами старой, опытной немецкой коммунистки. Событие, взволновавшее все секции Коминтерна, было революционное рабочее движение (или вспышка) в марте 1923 года в немецком городе Мансфельде. За вспышкой последовали организация партизанских отрядов в округе и ряд вспышек и стычек с полицией в других городах. Вызвано это было невозможными притеснениями со стороны хозяев, вводом полиции на фабрики и заводы, обысками, арестами. Сейчас, когда прошло свыше сорока лет, стало особенно ясно, что буржуазия сама спровоцировала эти вспышки, желая заранее, до полной организованности рабочих, разбить лучшие их силы по частям. Тогда же с особенной силой видна была вторая сторона Мансфельда: недисциплинированность движения, его малая продуманность, плохое руководство, недостаточная связь с рабочими массами — словом, обреченность этого движения на провал. И оно вызвало резкую критику со стороны большинства коммунистов. В самый его разгар Пауль Леви выступил против него с острейшей критикой. Казалось бы, он наговорил массу верных вещей и был теоретически прав. Но… Перейдем к двум собеседникам — Ленину и Кларе Цеткин.
Клара Цеткин обеспокоена, она волнуется за судьбу Леви. Она знает, что, несмотря на справедливость его критики, он вызвал к себе отрицательное отношение Коминтерна. Осуждают его многие секции, осуждает особенно сильно русская секция. Ему хотят вынести публичное порицание, исключить из партии. Какими горячими словами она защищает его перед Лениным! «Пауль Леви не тщеславный, самодовольный литератор… Он не честолюбивый политический карьерист… Намерения Пауля Леви были самые чистые, самые бескорыстные… сделайте все возможное, чтобы мы не потеряли Леви!»[30] Словно предчувствуя, в чем будут заключаться обвинения, она их сразу же, еще до их предъявления, отрицает. Но Ленин совсем не поднимает этой «перчатки», не подхватывает тех легких обвинений, которые она перед ним отрицает. Он говорит о Леви (в протокольном рассказе Цеткин) так, как если бы думал вслух, — очень серьезно и с очень большим желанием понять и проанализировать то, что произошло, до конца и во всем объеме, не столько о самом Леви, сколько о партийной психологии в целом:
«Пауль Леви, к сожалению, стал особым вопросом… Я считал, что он тесно связан с пролетариатом, хотя и улавливал в его отношениях к рабочим некоторую сдержанность, нечто вроде желания „держаться на расстоянии“. Со времени появления его брошюры, у меня возникли сомнения на его счет. Я опасаюсь, что в нем живет большая склонность к самокопанию, самолюбованию, что в нем — что-то от литературного тщеславия. Критика „мартовского выступления“ была необходима. Что же дал Пауль Леви? Он жестоко искромсал партию. Он не только дает очень одностороннюю критику, преувеличенную, даже злобную, — он ничего не делает, что позволило бы партии ориентироваться. Он дает основания заподозрить в нем отсутствие чувства солидарности с партией (курсив мой. — М. Ш.). И вот это обстоятельство было причиной возмущения многих рядовых товарищей. Это сделало их слепыми и глухими ко многому верному, заключающемуся в критике Леви. Таким образом, создалось настроение — оно передалось также товарищам и из других секций, — при котором спор о брошюре, вернее, о личности Пауля Леви, сделался исключительным предметом дебатов — вместо вопроса о ложной теории и плохой практике „теоретиков наступления“ и „левых“».[31]
Как надо быть благодарными Кларе Цеткин за то, что она подробно записала эти слова Ильича! И как хочется думать и думать над ними, над тем, что такое партийная политика, что такое человек в партии… Необдуманное и скороспелое выступление немецких рабочих обошлось дорого и всей немецкой компартии, и всему революционному движению на Западе. Оно дало легкую победу буржуазии. Поэтому нужно было («необходимо» — по Ильичу) осудить тактику левых, сделать ее поучительным уроком. А тут примешался Пауль Леви с его брошюрой и помешал работе Коминтерна. Вместо общей проблемы изволь возиться с «проблемой Пауля Леви». Но уж, если на то пошло, в его как будто правильной позиции, в его как будто верных замечаниях есть как раз то самое «личностное», «субъективное», что сделало эту позицию и эти замечания неверными. Ильич говорит о критике односторонней, преувеличенной, почти злобной, не дающей никаких ориентиров на будущее, как о чем-то не только неправильном самом по себе, но и заставляющем заподозрить в Пауле Леви «отсутствие чувства солидарности с партией». Отрыв его от рабочей массы («желание держаться на расстоянии») приводит к отрыву от партии. Так личностное, примешиваясь к политике, делает порочной самое политику.
Приговор над Леви еще не произнесен Коминтерном, Леви еще не осужден, но в этом осторожном раздумье Ильича перед нами во весь рост встает сам Леви, как человек, обрекающий себя на исключение из партии, потому что он сам оторвался от солидарности с нею.
В словах Ильича есть и нечто большее, чем только относящееся к самому Леви. Есть скрытая внутренняя теплота к рабочим, восставшим с оружием против хозяев: неудачное, недисциплинированное, принесшее ущерб общему делу, а все же это восстание, исторический момент борьбы; пролилась кровь тех, кто эту ошибку сделал, и как раз им-то, ошибившимся, нет и не должно быть осуждения в большом плане революции: ведь без таких ошибок не могло бы быть и восстания победоносного. Этого не понял Леви, но это поняли «рядовые товарищи», не «держащиеся на расстоянии» от рабочей массы, и отсюда их возмущение против Леви.
Дальнейшая судьба Леви показала, с какой изумительной портретной точностью дан был этот человек в скупых фразах Ленина. Откуда же это безошибочное знание людей, давшее ему преимущество в оценке Леви перед старой, опытной немецкой коммунисткой? Казалось бы, она должна насквозь знать свои кадры, а Ленин, почти не встречавшийся с ними, — далеко уступать ей в этом знании. Между тем, вероятно бессознательно, Клара Цеткин, описав историю с Леви, обнаружила свою наивность и неопытность в оценке близкого ей человека, в то время как Ленин, мало знавший этого человека, безошибочно воссоздал его характер и судьбу. Чтоб выработать такой взгляд и оценку, надо пройти жизненную практическую школу Ильича его постоянное общение с рабочим классом, привычку в первую очередь думать о простом труженике, о его психологии, его отношении к людям, о его нуждах — и для выработки собственного суждения становиться на позицию «рядовых товарищей». До последних дней жизни сохранил Ильич эту способность никогда не «держаться на расстоянии» от народа, всегда чувствовать себя среди него, становиться на позицию рядового товарища.
В самом конце маленькой книжки, которую я брала с собой в бомбоубежище, есть рассказ…
В конце октября 1923 года Ленин, казалось, уже начал оправляться от удара. Он мог ходить, двигать левой рукой и произносить, хотя с большим трудом и неясно, отдельные слова. Но жить ему оставалось уже недолго меньше чем три месяца… Единственное слово, которым он владел твердо, было «вот-вот». И этим словом, внося в него различные интонации, он делал свои замечания по ходу бесед с ним. Когда в воскресный день конца месяца к нему приехали И. И. Скворцов-Степанов и О. А. Пятницкий, он вышел им навстречу, опираясь левой рукой на палку. А дальше пусть продолжает О. А. Пятницкий:
«Тов. Скворцов стал рассказывать Ильичу о ходе выборов в Московский Совет. Владимир Ильич невнимательно слушал. Во время рассказа т. Скворцова он одним глазом смотрел на рассказчика, а другим просматривал заглавия книг, лежавших на столе, вокруг которого мы сидели. Но когда т. Скворцов стал перечислять те поправки к наказу МК, которые вносились рабочими фабрик и заводов, — об освещении слободок, где живут рабочие и городская беднота, о продлении трамвайных линий к предместьям, где живут рабочие и крестьяне, о закрытии пивных и пр., Ильич стал слушать внимательно и своим единственным словом, которым он хорошо владел: „вот-вот“, стал делать замечания во время рассказа с такими интонациями, что нам вполне стало ясно и понятно, так же как это бывало раньше, до болезни Ильича, что поправки к наказу деловые, правильные и что нужно принять все меры, чтобы их осуществить» (курсив мой. — М. Ш.).[32]
Рассказ о выборах, как о чем-то уже предрешенном, Ильич слушает невнимательно и даже взглядом, обращенным к книгам на столе, показывает свое невнимание. Но когда речь зашла о голосе рабочих масс, об их нуждах, — все в Ленине встрепенулось.
Таков предсмертный урок Ленина, данный им каждому коммунисту. И пусть слышится нам его «вот-вот» всякий раз, когда совесть наша подсказывает нам главное, что надо сделать коммунисту, на что обратить внимание в работе с людьми.
Педагогика — это наука о росте человека, она обращена к становящемуся, развивающемуся, совершенствующемуся в человеке. Никакие старые понятия о доброте, о сердечности не покрывают и не составляют всей полноты того нового, с чем Ильич подходил к людям и что заставляло людей обращаться к нему лучшими своими сторонами, делаться с ним лучше. Этика Ленина всеми корнями своими уходит в глубину диалектико-материалистического сознания и ощущения мира, это новая этика материалиста, для которого бытие всех других людей существует так же реально, как и его собственное, и он верит в это чужое бытие, в его рост, в его живые, жизнеспособные стороны. Тут больше, чем обыкновенная старая доброта. И ответная любовь людей к Ленину неизмеримо больше простой ответной любви за простую, обыкновенную доброту.
1963–1964
Урок второй ПО СЛЕДАМ ИЛЬИЧА (Поездка в Нормандию и Бретань)
1
Передо мной была увлекательнейшая задача. Все дома в городах Европы, где Ленин подолгу жил; библиотеки, даже столы, за которыми он занимался; помещения, где происходили партийные съезды и конференции; кофейни и столовые, известные по деловым встречам большевиков, — все это изучено и отмечено, хранит о себе какой-нибудь материальный след — доску с надписью, фотографию. А вот места отдыха, куда Владимир Ильич в редких случаях чтоб побыть или побродить с Надеждой Константиновной на природе — спасался от нервного городского напряжения, эти места, за исключением, может быть, Швейцарии, изучены гораздо меньше. Среди них есть одно во Франции, где как будто не побывала нога советского очеркиста. И это местечко мне предстояло «открыть» для читателя… О нем, сколько знаю, имелась только страница в воспоминаниях Надежды Константиновны — и ничего больше.
Был 1910-й, очень тяжелый для Ленина год. Партию расшатывали внутренние разногласия, «борьба разных „уделов“ внутри партии», по выражению Ильича.[33] Ему приходилось, живя в Париже, вести острую борьбу против меньшевиков — «ликвидаторов» и «отзовистов», печатавшихся в органе меньшевиков «Голос социал-демократа», и группы Богданова — Луначарского, издавших свой фракционный сборник «Вперед».[34] Те и другие яростно нападали на большевистский центр, а Ленин, громя их, пытался в то же время наладить связь с Плехановым и плехановцами и объединить партию с наиболее здоровой частью меньшевиков, хорошо подкованных марксистски. Вот эта борьба за очистку и объединение брала у Ленина много нервной энергии, потому что к ее серьезной идейной стороне примешивалось много мелкого и мелочного, названного Лениным «склокой». В письме из Парижа Горькому на Капри еще 11 апреля он гневно жаловался, что к «серьезным и глубоким факторам» идейной борьбы примешивается нечто «анекдотическое»:
«Вот и выходит так, что „анекдотическое“ в объединении сейчас преобладает, выдвигается на первый план, подает повод к хихиканью, смешкам и пр. Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием „Буря в стакане воды“ и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из (падких на сенсацию) групп эмигрантской колонии.
Сидеть в гуще этого „анекдотического“, этой склоки и скандала, маеты и „накипи“ тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь в 100 раз тяжелее, чем было до революции.[35] Эмигрантщина и склока неразрывны».[36]
Если так обстояло в апреле, в весеннем Париже, когда зацветают каштаны и дышать становится легко, то уже в июле, в парижской невыносимой духоте и сухости, склока становилась и вовсе непереносной. Надежда Константиновна пишет в своих воспоминаниях:
«Склока вызывала стремление отойти от нее. Лозовский, например, целиком ушел во французское профессиональное движение. Тянуло и нас поближе стать к французскому движению. Думалось, что этому поможет, если пожить во французской партийной колонии». Замечательны эти простые строки: не куда-нибудь в глушь, в природу, в одиночество, а поближе к другим собратьям-партийцам, французам, чтоб присмотреться, как там у них, вне собственной мелочной «склоки». Но если у себя заедала вот эта «куча мелких делишек и всяческих неприятностей»,[37] то у французов оказалось не лучше: «Сначала поехала туда я с матерью, — продолжает рассказывать Крупская. Но в колонии у нас житье не вышло. Французы жили очень замкнуто, каждая семья держалась обособленно, к русским относились недружелюбно как-то, особенно заведующая колонией… Рабочих там почти не было. Вскоре приехали туда Костицыны и Саввушка — впередовцы — и сразу вышел у них скандал с заведующей». Колония находилась неподалеку от дешевого курортного местечка Порник. И тогда Надежда Константиновна, спасаясь уже от чужой «склоки», перебралась в этот маленький приморский курорт.
«Наняли мы с матерью две комнатушки у таможенного сторожа. Вскоре приехал Ильич. Много купался в море, много гонял на велосипеде, — море и морской ветер он очень любил, — весело болтал о всякой всячине с Костицыными, с увлечением ел крабов, которых ловил для нас хозяин. Вообще к хозяевам он воспылал большой симпатией. Толстая, громкоголосая хозяйка-прачка рассказывала о своей войне с ксендзами. У хозяев был сынишка, ходил он в светскую школу, но так как мальчонка прекрасно учился, был бойким, талантливым парнишкой, то ксендзы всячески старались убедить мать отдать его учиться к ним в монастырь. Обещали стипендию. И возмущенная прачка рассказывала, как она выгнала вон приходившего ксендза: не для того она сына рожала, чтоб подлого иезуита из него сделать. Оттого так и подхваливал крабов Ильич. В Порник Ильич приехал 1 августа, а 26-го уже был в Копенгагене, куда он поехал на заседание Международного социалистического бюро и на Международный конгресс».[38]
Чем-то удивительно непосредственным веет от этого рассказа, где Надежда Константиновна именует по привычке французских «патеров» польскими «ксендзами». Так ярко и весело образ Ильича не вставал перед нами ни в каком другом описании его летнего отдыха. «Гонял на велосипеде», «воспылал большой симпатией», «с увлечением ел крабов», «много купался», «весело болтал о всякой всячине» с теми «впередовцами», с которыми совсем недавно в Париже яростно воевал, и ко всему этому «море и морской ветер», которые, оказывается, Ильич очень любил… Видно, и впрямь Порник хорошо запомнился Надежде Константиновне! Но где этот Порник? Жив ли хотя бы парнишка, сын «громкоголосой прачки»? Сохранился ли домик «таможенного сторожа»? По словам Надежды Константиновны, Ленин провел в этом местечке полных двадцать шесть дней — срок нынешней санаторной путевки (от 1 до 26 августа). И тут начинается неувязка.
«В Порник Ильич приехал 1 августа», — сказано в «Воспоминаниях». Но «летопись», прилагаемая к каждому тому собраний Ильича, говорит другое. Под рубрикой 1910 года там сказано, что в Порник Ленин прибыл (или выехал туда из Парижа) 22–23 июля, то есть на девять-десять дней раньше.[39] Куда же делись эти несколько дней? Мне важно было как-то решить этот вопрос для себя, потому что он касался очень существенного момента, — дороги. Если ехать из Парижа прямо в Порник через Анжер и Нант, то поездка, при разветвленной сети железных дорог во Франции еще полвека назад, заняла бы всего несколько часов. А вот если ехать кружным путем, — кружный путь шел в Бретань через Нормандию и был самым обычным, самым естественным для туристов, прошлых и настоящих. Посмотреть только один крохотный Порник, совсем не типичный для Бретани, и не увидеть таких красочных ее мест, как Кемпер, как сказочный остров Киберон, как центр средневекового корсарства город Сен-Мало, а попав в Сен-Мало, не взглянуть на красавицу Нормандию с ее знаменитым на весь мир островком Мон-Сен-Мишель и столицей Руаном казалось просто невозможным. Решив побывать в Порнике и найти там следы Ильича, я страстно хотела ехать туда кружным путем, уверенная, что Ленин потратил лишние дни с 22 июля по 1 августа именно на этот кружный путь. Но данных для такой уверенности у меня не было.
И тут совсем неожиданно мне пришел на помощь собрат по газете «Известия» В. Полторацкий. Чуть ли не перед самым моим отъездом во Францию он отвел меня в сторонку и как-то таинственно шепнул, чтоб я «непременно, непременно побывала в Мон-Сен-Мишель, отыскала там ресторан „Мать-курочка“, а в ресторане спросила альбом посетителей, а в этом альбоме нашла французский автограф Ленина: „Спасибо за вкусную омлетку“, вот этот автограф заснять бы или выкупить!».[40] Сам Полторацкий не видел его, но он сослался на «достовернейшее свидетельство друга». Ничтожный шанс, но если правда, что Ленин побывал в Мон-Сен-Мишель, значит, он или заехал туда в 1902 году, по дороге из Парижа в Лонгви, где отдыхал в июне — июле с матерью и Анной Ильиничной; или — как мне очень хотелось верить — по дороге в Порник в 1910 году, если ехал туда кружным путем. Я не очень верила в автограф Ленина. Но мне казалось невероятным, чтоб Ильич, вживавшийся в страны и города, где ему приходилось бывать, постоянно искавший близости с простым народом, мог миновать, живя во Франции, такие места, как Вандея, не поглядеть, не прислушаться, не понаблюдать современных вандейцев, какими они стали. И как-то не вязалась с образом Ильича, неутомимого ходока, опытного путешественника, что он так просто сел в поезд и через пять-шесть часов был на берегу Атлантического океана, в то время как имел в запасе свободные дни, а вокруг…
Я развернула карту. Большой, изрезанный, как кружевная бахрома, полуостров — с частью Нормандии и Северной Бретани, омываемой рукавом Атлантического океана Ла-Маншем (там как раз бухточка Лонгви, где побывал Ильич в 1902 году), и Южной Бретанью, изглоданной самим Атлантическим океаном на юге, — лежит в кольце необыкновенно поэтических побережий. Каких только названий не надавали им: «Изумрудный берег», «Берег розового гранита», «Львиный», «Корнуэлльский», «Дикий» и, наконец, «Берег любви», тот, на котором прикорнул маленький Порник.
Быть может, самое интересное в путешествиях по Франции — это наглядное познавание истории. Когда-то на школьной скамье мы заучивали мертвые строки о переселении народов, о Римской империи, захватившей почти всю Европу и всюду понастроившей свои мосты, дороги, театры, о вторжении варваров в эту империю, о германцах и готах, кельтах и саксах, франках и фризах, о войнах между ними, о размежевании Европы среди них, о формировании стран и народов, которые известны нам сейчас — уже не из учебников — как французы и англичане, голландцы и немцы, итальянцы и швейцарцы. Но в путешествии вы вдруг замечаете, что «история» не проходит, а как бы «переходит» подобно тому, как детство человека переходит в его юность, а юность в зрелость, а зрелость в старость, и ребенок еще сохраняется в старике, как юноша в зрелом человеке. Корнуэлльский берег во Франции! Но ведь Корнуэлл есть и в Англии. Это ее название, ее побережье с «концом страны», Лэндс-Энд… Общность названий, сходство в языке, английские имена в нормандских городах, — а сама Англия в двух шагах, через Ла-Манш — и следы ожесточенной, не утихавшей, вспыхивавшей, как из тлеющих углей, борьбы, растянутой на столетия, между двумя соседями, Англией и Францией, ненависть ко всему английскому в памятниках Сен-Мало, в Руане, где англичане сожгли Жанну д'Арк, — родство в произношении, в отдельных словах, в названиях. Историк может прочесть тут о первичных истоках народов, переплетении их, цементировании смешанных событий в легенды, а легенд в традиции, подобно тому, как геолог в пластах пород и в вулканической магме читает историю Земли.
И еще потому интересно ездить по Франции, что вы тут почти не выходите из царства литературы и искусства. Биографии замечательных деятелей, цитаты из них, черты и жесты их на памятниках, бюстах, барельефах окружают вас почти на каждом шагу. Самые маленькие города любят играть в свои собственные игрушки — модели знаменитых зданий, панорамы знаменитых событий, коллекции местных чудес; почти всюду есть музеи и музейчики с восковыми фигурами исторических персонажей, приближающих к вам в искусных сценках главные события их жизни. Память не хочет уйти от прошлого, и это длительное, неумирающее, мостообразное восприятие всего того, что происходило с народом века и тысячелетия, постепенно переходит в воображение, в талант мифотворчества.
Уж, разумеется, современные народы, как и античные, не создают и не создавали своих мифов «из ничего»! И еще непременно почувствует турист преобладание — над мифом, историей и материальными свидетельствами власти художественного слова. Наверняка три четверти туристов во Франции ничего бы не пережили перед памятниками Жанны д'Арк без Вольтеровой и Шиллеровой «Орлеанской девы»; перед могучей скульптурой стрелка-отца и мальчика-сына в Альтдорфе или часовенкой Телля, этих чудесных местечек в Швейцарии, если б не «Вильгельм Телль» того же Шиллера, заученный еще в школе; или — перед стертым, облупившимся, старинным фасадом дома Тассо в Сорренто — без гётевского «Торквато Тассо»; а у нас, на родине, в изумительном Угличе, — без пушкинского «Бориса Годунова»…
Но если Владимир Ильич действительно проехал в Бретань кружевным побережьем Нормандии, он вряд ли давал своей памяти увлекаться историей. Надежда Константиновна писала: «…поближе стать к французскому движению». Нормандия и Бретань были в прошлом оплотом реакции, французской Вандеей, и Ленин в поездке, как и всегда, мог жадно интересоваться людьми, народом, злободневной политической современностью. Пытаясь хоть немножко, в меру сил и возможностей, поступать по-ленински, я выехала в этот кружный путь, держа в узде всю свою любовь к прошлому и к памятникам искусства; и чтоб удержаться от музейного восприятия столицы Нормандии, Руана (а его все гиды зовут городом-музеем), вооружилась последним номером газеты «Париж-Нормандия» и маленьким журнальчиком «Весь Руан» последнего выпуска.
2
Поздняя осень 1966 года — льет без конца дождь, словно серая сетка стоит перед глазами; холодно, выступают из берегов реки, наступает на берег океан, и это всего катастрофичней там, куда мы едем на быстрой французской «симке» (Simka). Пишу «мы», потому что спутник мой, представитель нашего агентства «Новости» в Париже, тоже заинтересован поездкой «по следам Ильича». Мимо, сквозь серую сетку, после выезда из предместья Сен-Клу, мелькают, как дети на параде, карликовые грушевые деревца с огромными, не по росту плодами; висячий туман над Сеной, цементные заводы — Ciments Français — и нескончаемые надписи на стенах: «Мир Вьетнаму!», «Вон, американцы!».
В развернутой и колеблющейся от быстрого движения газете — почти то же самое: антиамериканские манифестации против Джонсона, открытие в Нью-Йорке террористического заговора против коммунистов, запуск нового советского «Спутника» — все это с явно выраженной симпатией к левым политическим силам. Журнальчик «Весь Руан» локальней. В передовице негодование по адресу тех, кто утверждает, что «Руан — мертвый город». Приезжайте, — и выбирайте жизнь по своему вкусу, приглашает журнал. За этим следует длиннейший перечень всего того, что происходит в преддверии зимы 1966 года в столице Нормандии: дюжинами зрелища, концерты, выставки, ярмарки, фильмы, традиционный бал в Руанском университете, возобновление чтений об учении «хатха-йога», юбилеи, конференции. Университет объявляет во втором семестре дискуссию «Молодежь нашей нации». Казалось бы, злободневнейшая тема, но в заключение дискуссии обещан фестиваль «об эротике в кино», и фильмы «О любви» и «Моника» Бергмана, — должно быть, чтоб привлечь публику на серьезный доклад.
Еще событие, на этот раз писательское. Общее собрание нормандских писателей, отчеты — финансовые и моральные, — выбор делегатов для поездки на север и юг департамента, шефство над постановкой памятника участнику «Сопротивления» и под конец товарищеский обед в гостинице «Англетерр» все так похоже на наши собственные писательские дела. И вдруг в этом маленьком местном журнальчике, вряд ли когда-нибудь проникающем за пределы Франции, необычайная хвалебная речь по адресу «изумительного советского фильма „Огненные кони“». Тщетно стараемся мы припомнить, какой же это фильм у нас об огненных конях. И наконец находим подлинное его название, звучащее в латинской транскрипции так: «Тент забипих предков». И только ремарка «по роману Коцюбинского» объясняет нам, наконец, что речь идет о советском фильме «Тени забытых предков». Вряд ли подозревают скромные украинские постановщики, каких эклог удостоился в Руане их фильм, высоко поднятый даже над «Горящим Парижем», шедшим одновременно с ним. Над рецензией об «Огненных конях» стоят три звездочки и большая буква А (высшая оценка фильма), а в самой рецензии фильм аттестован как «не имеющий себе подобного, не похожий ни на какой другой, — все в нем свет, жизнь, краска — классические данные советской кинематографии, — праздник для глаз и для сердца».[41] Позднее в Руане я увидела очередь на него перед кассой кино. Руанцы, как и множество простых людей за рубежом, остро отзываются сердцем на тот непроизвольный советский оптимизм (утро века), каким, подчас независимо от воли авторов, пронизаны у нас не только счастливые, но и печальные фильмы; за рубежом оптимизм — вещь дефицитная. Стоило бы над этим задуматься тем спесивым критикам, чужим и своим, кто презрительно клеймит этот оптимизм как нечто «нарочитое» и «официальное».
Пока я перелистывала журнальчик, машина въехала в город-музей — и тут же стоп: в центре останавливаться негде. Мы обошли пешком весь Руан, компактный в своей архитектурной красоте; облазили три его жемчужины: собор Нотр-Дам, церковь Сен-Маклу и аббатство Сент-Уан; дали насладиться глазам старинными нормандскими домишками в деревянных, крест-накрест опоясывающих фасады переплетах, совсем таких, какими любовался Сергей Образцов в шекспировском Стрэтфордена-Эвоне, — сходство архитектур не случайно, ведь двадцать один год (1066–1087) Руан был столицей Англии.
От истории, сколько ни вертись, в этом клубке нормано-англо-французского сцепления удержаться было немыслимо. У аббатства Сент-Уан стоит массивная скульптура викинга Роллона, узкая (или кажущаяся узкой) в голове и плечах по сравнению с огромными слоновьими ногами, не ногами — стопами. Упершись ими в землю, он туда же, вниз, показывает толстым указательным пальцем: «Здесь мы останемся, господа и сеньоры». Все языческое, римское в Руане начисто смело в девятом веке норманнское завоевание. Потом пришли англичане.
Лет пятьдесят назад у нас часто ставили оперу «Роберт-дьявол». Эту оперу, как и старый балет «Корсар», недавно возобновленный в ленинградском Малом оперном, пришлось мне добром помянуть в Руане. Честно говоря, они были причиной того, что я не оказалась полной невеждой, а уже была подготовлена к тому, что был такой Роберт-дьявол, а «корсары» — вовсе не разбойники, не пираты, а нечто вроде партизан средневековья… В пятнадцати километрах от Руана стоит реставрированный замок Роберта-дьявола, личности вполне исторической, занявшей в истории Франции большое место: встретив красивую деревенскую прачку Арлетту, он прижил с ней сына, сперва называвшегося Вильгельм Бастард, а потом получившего другое имя: Вильгельм Завоеватель. О Вильгельме Завоевателе трудно не знать, он неистребимо входит во все учебники. Это он, завоевав Англию, на двадцать один год сделал Руан английской столицей. Но если одна французская крестьяночка, Арлетта, была косвенной причиной хозяйничанья англичан во Франции, другая французская девушка, Жанна из деревни Домреми в Лоррэни, помогла выгнать англичан из Франции. И за это в Руане, на площади Старого Рынка, англичане ее сожгли.
Мы пришли на площадь Старого Рынка уже порядком усталые. Площадь узкая — не развернуться, пожалуй, двум грузовикам. И на ней небольшой квадрат, опоясанный низенькой оградой. Просто квадрат, отличающийся от земли тем, что он покрыт чистым золотом, и чья-нибудь любящая рука всегда сменяет на нем простенький букет полевых цветов. Здесь была сожжена Жанна д'Арк. Возле стены подальше — ее памятник, маловыразительный и как-то модернистски-вытянутый в длину. А на углу — музей, который очень стоит посетить. Может быть, и наивный он, и непритязательный, но есть вещи и минуты, когда хорошо почувствовать себя ребенком. Излюбленные восковые фигуры, так часто встречаемые в музейчиках Европы, обычно бездарны, и смотреть их неприятно. Здесь это не так. В глубоких нишах вдоль зигзагов темного коридора музея представлены сценки из жизни Жанны. Сперва она пастушкой в Домреми слышит «глас божий», приказывающий спасти родину; потом — последовательные этапы ее удивительного подвига во главе французского войска, в окружении народа; потом тюрьма — допрос — сожжение, и, может быть, потому, что фигуры вылеплены не броско, краски не ярки, видимы они из глубины ниш, из темноты, откуда их выхватывает скупой сноп света, они производят сильное впечатление и на детей и на взрослых. С детским интересом рассматриваете вы и кукольную модель старого города Руана — тесно прижатые друг к другу треугольники домов, по-нормандски переплетенных деревянными поясками и окружающих знакомую площадь Старого Рынка, какой она была 30 мая 1431 года, когда на ней сожгли Жанну. Пятьсот тридцать пять лет назад! Какое еще событие подобной давности может так взволновать человека?
Нам в нашей поездке осенью 1966 года вообще посчастливилось на круглые даты: за четыре месяца до нашего приезда руанцы отмечали 360-летний юбилей Пьера Корнеля, отца французской драматургии, родившегося в Руане, а через месяц после нашего посещения руанцы отметят 145-летний юбилей другого великого земляка, Густава Флобера. Оперный сезон открывается здесь третьим руанцем, современником Корнеля, — композитором Буайльдьё, автором оперы «Белая дама». Дни смертей не считаются юбилейными, но все же удивительно, что ровно пятьдесят лет назад, чуть ли не день в день, в ноябре 1916 года, на руанском вокзале скончался Верхарн, хоть и не руанец, но влюбленный в Руан поэт. С такими традициями не мудрено местным нормандским писателям собраться в союз и проявлять необыкновенную активность. Сохранились и загородный павильон на берегу Сены, разделившей Руан на две части, — в этом павильоне Флобер писал «Мадам Бовари»; и старинное поместье Корнеля, — очень похожее своим общим обликом на Стрэтфорд, — где создавался «Сид». Охватить все это в несколько часов пешего хождения сделалось бы уже не наслаждением, а мукой. И мы поплелись напоследок в сумрак собора, где не было службы, и сели на скамью передохнуть.
Эти скамьи с пюпитрами, куда кладут молитвенники, и с приступочкой, чтоб опускаться на колени, белели в темноте множеством белых конвертов. Лишая какого-то верующего его достояния, мы взяли один конверт на память и уже в машине открыли его. В нем был листок с печатным текстом. Члены руанской диосезы приглашались помочь построить в новых городах департамента двадцать четыре церкви, «чтоб удовлетворить потребность горожан, утвердить среди них присутствие церкви, воспитать новое поколение верующих». На постройку недоставало девяти миллионов новых франков (после денежной реформы здесь всегда прибавляют «новых»). И кончалось воззвание литературной фразой: «Без церкви чего-то лишена жизнь человеческая».
Как всегда к концу дня, мы ехали из Руана молча. Мы ехали дальше, к океану, и на каждом шагу нам стали попадаться следы наводнения, о котором в те дни без конца писали газеты. Сама дорога не была затоплена (в Париже нас пугали, что не доберемся), но на полях, по обе ее стороны, серебрились язычки воды, которыми океан словно влизывался в сушу. Воздух был полон стоячими капельками влаги, осаждавшимися на стекла. Видеть уже ничего не хотелось, и местечко Понтерсон, для француза звучащее целым миром воспоминаний о рыцарях-феодалах и Столетней войне, для нас попросту было местом ночевки в очень скромной и почему-то очень дорогой дорожной гостинице.
3
Сейчас, когда я пишу эти строки, Мон-Сен-Мишель осаждается тысячами, десятками тысяч приезжих. Снимки во французских газетах показывают такие скопища машин на дорогах к нему, что они кажутся нашествием саранчи. Не потому, что сезон (Мон-Сен-Мишель — одно из европейских чудес для туристов), — сезона еще нет, март месяц, а потому что пролив Ла-Манш внезапно ушел. Он ушел очень далеко от берега, обнаружив дно на пятнадцать метров в глубину, со всеми его чудесами, — затопленным когда-то судном, океанической флорой и фауной. Археологи, зоологи, ботаники ринулись изучать все это, покуда океан не вернулся. А с ними примчались любопытные, чтоб посуху, пешечком, минуя дамбу, со всех сторон прогуляться к монастырю-крепости.
Мы же четыре месяца назад были в совсем другом положении. Ла-Манш тогда не ушел, а чересчур нахлынул на берег. Газеты писали об угрозе наводнения по всему северу Франции. Понтерсону, правда, ничего не грозило, но в гостинице все было сыровато и, как мне показалось, солоновато: постельное белье, скатерть, оконная занавеска. В гостинице, кроме нас, никого не было, и по дороге машин тоже не было. При всем утомлении я спать не могла — мне предстояло искать первый след Ильича. О Мон-Сен-Мишель — Горé святого Михаила — я ничего не знала, кроме того что это гранитный остров на океане, очень почитаемый верующими. К нему ведет с берега искусственная дамба, но в церковные праздники целые толпы паломников бредут туда по мелководью пешком, по колено в воде, обвязавшись для безопасности веревками. Монастырь на скале в оны времена монахи превратили в крепость и стойко защищали его от англичан. Все это было отчасти похоже на нашу подмосковную Троице-Сергиевскую обитель, тоже прославленную патриотическим подвигом в прошлом. Но при чем тут ресторан «Мать-курочка»?
От утомления, а может, и от волнения я не могла заснуть. Утром сквозь занавеску пробилось ослепительное солнце, и, когда мы выехали, все от него сверкало: асфальт, росинки на траве, листья. Впереди ничего видно не было, кроме очень прямой пустынной дороги, — ни Ла-Манша, ни острова. Я все спрашивала: где океан? Где Мон-Сен-Мишель? А дорога все шла и шла меж рядами деревьев, по скучной низменности без всяких «видов», тупо упираясь в горизонт. И вдруг горизонт словно опал. В одну секунду во всю ширину раздвинулось громадное величие океана. А в центре его, чудесно очерченный, невероятный, немыслимый треугольник, пронзающий верхним шпилем небо и ступенчато спускающийся к более широкому основанию, — остров, ни на что не похожий, может быть на сказку раннего детства про «чудо-юдо рыбу кит», на которой стоит со всеми куполами и колокольнями престольный град.
Это так неожиданно-прекрасно по своей четкости и неправдоподобию, что описать невозможно. Ни единой полутени, все графично, вычерчено, как рейсфедером, на эмалевой голубизне неба, на зеленоватой синеве океана. Машина уже ехала по мокрой дамбе, почти вровень с тихой водой. И вот мы внизу, на каменной площади, откуда начинается «восход» к монастырю-крепости, тысяча ступеней в стенах с бойницами, с площадками, овеваемыми ветром. Соленый ветер рвет волосы…
Впрочем, все это было еще впереди, а внизу, на первой узкой уличке острова, мы попали в ярмарочную слободу, точь-в-точь такую, какая в царское время окружала Троице-Сергиевскую лавру. Справа и слева шли лавчонки, прилавки, витрины с кучей всяких сувениров, петушков-шантеклеров, фигурок, картинок, ковров, значков, деревянной резьбы, нормандской керамики. Эта знаменитая сине-белая керамика на самом деле прекрасна, но ее кружки, кувшинчики, тарелки пестрели надписями, а надписи поразили нас — в этом культовом месте — своей крепкой похабщиной. Тут был французский площадной хохот, хохот Рабле. Самую скромную из этих надписей под женским круглым, как барабан, лицом — «Elle fait la musique sur son dot», — во всей ее двусмысленности я не решилась бы перевести для читателя на русский язык. Мы зашли в исторический музейчик Мон-Сен-Мишель — он мог бы рассказать нам интереснейшие вещи, мог бы опять напомнить о Жанне д'Арк, для которой «глас божий» олицетворен был «святым Михаилом» этого самого монастыря. Мог бы поведать о монастырском предателе, аббате Жоливé (в каждой исторической трагедии, как в «Отелло», непременно есть свой Яго!), не только продавшем монастырь англичанам в самый разгар войны, но и принявшем потом участие в сожжении Жанны. Мог бы… но ничего этого мы не услышали. Сторож-гид ждал со скукой, пока мы не наберемся группой, а это по малолюдью длилось долго, а потом тащил нас по темным комнатам, жалея зажигать свет, и едва плел что-то вполголоса.
Мы вышли оттуда с другого хода, так и не разобрав ничего, но зато сразу попали на блинный запах. Национальное нормандское блюдо, сладкие блины «crepe», пеклось прямо снаружи, на горячих сковородках. И вдруг в углублении над дверью я увидела нечто, заставившее меня забыть и музей, и керамику, и весь остров. Там была вывеска. На вывеске стояло: ресторан «Мать-пулярка» — пулярка, то есть упитанная курочка, курочка первый сорт, какую продавали в Москве, на Охотном рынке, до революции кухаркам богатых хозяев. Но дверь в ресторан оказалась наглухо запертой. Мы стали расспрашивать: «Где хозяева?» — «Они уехали на зиму». — «Можно их адрес?» — «Не известен их адрес…» Ресторан упирался в скалу, другого хода в него не было. Он был заперт, заперт безнадежно, и с ним заперт альбом для посетителей. Расспрашивая и роясь в каталогах, мы узнали, что «Мать-курочка» на весь мир знаменита своими омлетками. Был ли ресторан здесь в 1910 году? Даже раньше был. «Мать-курочка» тут с незапамятных времен…
Что же принес для моих поисков Мон-Сен-Мишель? Ни альбома, ни автографа Ленина повидать не удалось. Это не значит, что их не было. Но трудно допустить, чтоб записи посетителей за полвека уместились в одну тетрадь. Или — еще труднее — чтоб любопытным гостям показывали десятки или сотни тетрадей. Однако же «Мать-курочка» существует, прописана во всех гидах, знакома тут всем и каждому, а главное — существовала с незапамятных времен и на всю Францию славилась омлетками. Значит, это не выдумано. И, наконец, неизвестно, когда, в каком году таинственный «очевидец» видел этот автограф в альбоме «Матери-курочки», может быть, и не так отдаленно от 1910 года?..
Пора было ехать дальше. И все же я повесила нос, как бывает при первой неудаче. Мы опять миновали дамбу и повернули направо, покидая Нормандию для Бретани. Вдоль шоссе стелились затопленные поля. Проносились деревья в позе приседающих танцоров; их кроны, все до одной, были согнуты в одну сторону, как веники, под действием ветра с Ла-Манша. На каждом шагу — в названиях, в архитектуре — мы снова подмечали яркое сходство со староанглийским. Особенно в архитектуре. Если Руан показал нам лишь несколько старинных домиков, переплетенных темными деревянными планками крест-накрест, как в Стрэтфорде, то сейчас все встречные деревушки пестрели этими домиками-зебрами и особенно характерными трубами, когда-то поразившими меня в Англии: одна толстая, круглая поднимается высоко-высоко над крышей, а на ее верхушке, как ладонь с пятерней, рядком торчат несколько тонких дымоходиков, подобно растопыренным пальцам. И профиль у домиков какой-то бутылочный, словно приставлена им сбоку, наполовину разрезанная вдоль, гигантская бутыль с квадратным, выпирающим вбок туловищем и длинным жирафоподобным горлышком. Кривой этот, «бутылочный», профиль преследовал нас, пока вдруг сразу нормандская деревня не сменилась бретонской, и тут все пошло другое: современные домики, обязательно выложенные темным (темнее, чем белые стены) кирпичом, как узорной инкрустацией, вокруг окон, вокруг дверей, по ребрам углов — в шахматном порядке или елочками.
Мы опять примчались к «рукаву» океана. Мы въехали в бывшую столицу корсаров, Сен-Мало, и, бросив машину, бегом пустились на пляж. В Мон-Сен-Мишель нам не удалось побродить по самому берегу, подышать соленой океанской волной, и захотелось хоть тут, в Сен-Мало, вознаградить себя. Но пляжа в нашем понимании и тут не было, а были камни, мощенная камнями площадь, ведущая к воде, огромные каменные руины бастионов, каменные крепостные башни, камень стен, облепленных скользкой, мокрой зеленью времени, камень, камень, целые громады камня, в одиночку много раз противостоявшего набегам английского флота. Это о камни Сен-Мало, в бессилии глядя на них, тщетно бился Мальбрук, Mallborough, быть может, тот самый, о постыдном походе которого сложена у нас песенка. Со своим двенадцатитысячным войском он бесплодно покрутился, поджег кое-что и отплыл восвояси.
Жители этого «города камней» заслужили в книгах историков и в обиходе такое родовое (по городу) название, с каким не может соперничать чисто территориальное или, во всяком случае, ограниченное личной какой-то городской особенностью, прозванье жителей Парижа — парижанами, Руана — руанцами. Их кличка «малоинцы», или «малоэнцы», смахивает на что-то племенное, что-то национальное. И у Сен-Мало обособленная, самостоятельная история. У них был особый, частный флот, суда которого назывались «корсары». Эти «корсары» имели охранные грамоты от французских королей, разрешавшие им во времена войны под собственным командованием нападать на вражеские корабли, грабить их и топить. По сути дела, и корабль, на котором капитаном был молодой Дантес, будущий граф Монте-Кристо, был потомком тех же «корсаров». С кораблей название перешло на моряков. Я назвала их выше «партизанами средневековья». На европейский лад, по-своему, они ими и были. Но партизаны-корсары-малоэнцы в чем-то, где-то, даже в этом своем широком звучании городского прозвища, были, на мой взгляд, братски близкими другим могучим жителям крепости-порта — генуэзцам. И если генуэзец Христофор Колумб открыл Америку, то малоэнец Жак Картье «открыл» Канаду после Кабо. В 1535 или 1536 году он со своей флотилией из трех кораблей достиг «новой земли», завладел горой, которую в честь французского короля Франсуа Первого назвал «Королевской горой» — Mont Royal, а впоследствии «ройяль» (королевский) заменили звучащим более практично «реаль» — так возникла столица Канады, теперешний Монреаль. Где-то я прочитала во французских газетах, что к предстоящей Всемирной выставке в Монреале руанцы и малоэнцы льют у себя на фабрике что-то вроде стопудовой свечи, которая будет зажжена в честь Картье в таком же гигантском подсвечнике над выставкой. Дух авантюры, предпринимательства, «генуэзский дух» веет в Сен-Мало. Есть такое ребячливое свойство у человека: не успеешь что-либо узнать сам, как тут же хочется поделиться этим с другими людьми, чуть ли не лекцию прочесть, пока горит на языке и увлекает тебя только что узнанное. Кажется, нигде в мире так сильно не пробуждалось во мне это ребячье свойство, как именно здесь, в каменном Сен-Мало.
Мы вперебежку облазили все места, куда между камней добегала волна, добирались до берега, где в промежутках между набегом волн мальчишки шныряли за раковинами, подвернув штаны. Холодный ноябрьский ветер брызгами обдавал нас, а я все это время представляла себе, как бы, будучи гидом, повела советскую экскурсию по Сен-Мало.
Конечно, следовало обойти все башни, щегольнуть их названиями, повести в музей, но все это есть в путеводителях, а я бы начала с «Баскервильской собаки». Я бы сказала, что Конан Дойл, наверное, придумал свою тему под впечатлением Сен-Мало. «Собачья стража» — это бретоно-нормандская традиция, почти миф, — устрашающая ночная легенда, которой малоэнцы в ужас приводили англичан. На страже крепости они держали огромных одичало-худых догов, и эти доги днем сидели на цепи в специальной собачьей нише. Но наступала ночь. Мародеры, тайные пролазы, морские хищники, шпионы английского короля, подплывавшие к каменной крепости разведчики — все они, леденея от страха, удирали от призрачной гигантской собаки, спущенной ночью с цепи. Утром собак сзывали особым рожком, и огромные доги с красными, свисающими из пасти языками после ночной охоты за человеком сбегались опять к своей нише, где получали корм и цепь на шею.
«Собачью стражу» завели себе по примеру Сен-Мало и в крепости Мон-Сен-Мишель. Видение огненного баскервильского пса имело, мне кажется, исторические корни в английском ужасе перед догами Сен-Мало.
Показав туристам угрюмую собачью нишу, я бы повела их к памятнику Шатобриану. В далекой моей юности, на школьной скамье, я читала патетические страницы книги, которую сейчас назвала бы ультрареакционной: «Гений христианства» Ренэ де Шатобриана. Наша француженка задавала их нам заучивать наизусть. До последних лет я была убеждена в сугубой реакционности Шатобриана. Но, узнав, что он малоэнец, родился в Сен-Мало, имела терпение снова за него взяться, особенно за «Мемуары», целиком опубликованные посмертно. И нашла в них захватывающие страницы о Наполеоне… Этот «белый эмигрант», после французской революции служивший отвратительным последышам Бурбонов, вздыхал в тайных своих мемуарах («Мемуары из-за гроба») по вольному ветру родного корсарского океана, признаваясь себе в чем-то, похожем на понимание революции. И о каменной своей родине, об этом страшном в своих развалинах (Remparts) — авантюрном корсарском Сен-Мало, — он сказал нежнейшие слова, удивительные по женственной мягкости устарелого французского языка:
Combien j'ai douce souvenance Du joli lieu de ma naissance! (Какое нежное воспоминанье Я храню о красивом месте моего рождения!)Советские туристы, может, и рассердились бы на меня за то, что я всюду пристегиваю литературу и умаляю историю, но что такое история без художественного образа, сближающего ее с современностью?
Когда заполняешь каждую единицу времени глубокими впечатлениями, оно неизмеримо удлиняется. Это мы заметили по себе. Вот уже Мон-Сен-Мишель[42] и Сен-Мало позади, а нам все мало, все хочется еще и еще. И мы, не чувствуя усталости, забыв про ноябрь, решаем из Сен-Мало прямо по диагонали промчаться с берега Ла-Манша («рукав» Атлантического океана) на берег самого океана и успеть повидать до завтра легендарный Киберон и корнуэлльский берег.
Французский Корнуэлль, особенно на «Диком берегу», своими скалами и бухточками похож на английский. Бретонцы, как и английские корнуэлльцы, говорят на одном и том же языке (или диалекте) — корнуэлльском. Я надеялась поближе присмотреться к самому типу людей, к архитектуре домов, чтобы уловить еще сходства. Но времени, которого, казалось, было у нас в избытке, хватило лишь на переезд без остановок с одного берега на другой. В ноябре темнеет рано. В темноте мы пронеслись через город Ванн, где будем ночевать, и заспешили к острову, — верней, полуострову, узенькому клочку земли, — Киберону, о котором наслышались в Париже чудес. Есть в Англии на самом ее корнуэлльском кончике мыс Лэндс-Энд, «конец страны». Летом все его ложбины покрыты палатками туристов. Дикий ветер рвет их полотнища. Узкий мыс, вонзающийся в океан, словно зубами ощерился, — торчат из воды клыки скал, разбиваются о них пеной волны, спускаешься к берегу головоломными тропками, и кажется, тут всегда пронзающе холодно. Таким же хаосом каменных нагромождений открывается и корнуэлльский берег Франции.
Но погулять и увидеть все это поближе не удалось. Киберон показался нам совершенно плоским, чуть ли не в уровень с водой, или въезд в него был с плоской стороны. Зимой, да еще ночью, мы въехали в странные, мертвые улицы, лишь в двух-трех окнах слабо светившиеся. Мы прошли по набережной, в которую плескались, как рыбы в ночной игре, мелкие волны, чуть ли не хватая нас за ноги. Воздух был — не надышишься, соленый, пропитанный йодом, льдистый. В этой сплошной пустыне, где магазинчики глухо заколочены, машин, кроме нашей, ни одной, прохожих нет, и нет звука шагов, да и других звуков, кроме шлепанья мелких волн о набережную, в этой мертвой пустыне глаза наши с трудом нащупали полуосвещенное, жалкое на вид кафе под вывеской «Gare de la Bretagne» с полуоткрытой дверью. Вошли в него и порядком удивили хозяйку за стойкой, — молча она подала нам чашечки с густым, настоящим кофе, какого во Франции редко где выпьешь. Какие-то киберонцы в рыбачьих, в толстую клетку гарусных свитерах, облокотясь на стойку, лениво тянули винцо. В соседней комнате несколько парней развлекалось у автомата с прыгающими шариками, а две пары равнодушно танцевали под хриплую граммофонную пластинку.
И все-таки было странно хорошо, поэтически хорошо. Живут люди прямо в обнимку с океаном, каждую секунду готовым слизнуть их мысик, живут, должно быть, заработком летнего туризма, обслуживания чужих людей, а зимой вот так, в скуке и равнодушии, проживают этот заработок, неизвестно для чего оставаясь в пустом, мертвом городе… Впрочем, возможно, все это показалось нам, как сон снится. Едва отогревшись, мы опять вышли в город. Звук изменился: вместо шлепанья волн мы услышали отдаленный гул, очень солидный, полный осуждения, — это громадиной надвигался на нас океан, гудя, как обозленный гигантский жук, даже страшно стало. Обидели мы, наверное, своими невежественными мыслями и Киберон и киберонцев.
Вернувшись в Ванн, мы заночевали в первой попавшейся гостинице, которую и разглядеть не успели, а наутро я проснулась с чувством невыносимой тяжести — так бывает, когда знаешь, что вся твоя вчерашняя работа пойдет в корзину. Я понимала, легендарный Киберон не может быть плоским куском земли с единственным кафе. Чего-то мы вчера нахалтурили. И недаром гудел разозленный океан. Чего-то мы «недоучли», как любил иронически поговаривать Зощенко. Было еще темно. Внизу под комнатой двигался хозяин, готовил нам завтрак — наструганное завитушками масло, джем в баночке, хлебцы — хлебцев еще не принесли из булочной, и противный, пахнувший мылом кофе тоже еще не вскипел. Я выбралась тихонько на улицу, должно быть, далекую от центра Ванна, и села в скверике на скамью, мокрую от осенней хляби.
В руках у меня были толстые и тонкие брошюрки о Бретани, закупленные по пути, и я стала делать то, что надо бы сделать раньше: разыскивать в них Киберон. Позор обрушился на мою старую голову! Мы проморгали изумительные вещи! Во-первых, и въехали только на самую первую пядь земли Киберона, зашли в первое привокзальное кафе, где хозяйка, должно быть, угостила нас тем, что сама для себя сварила, оттого и показалось непохожим на обычную бурду в дешевых французских кофейнях. И «туристский заработок» у рыбаков! Да эти рыбаки налавливают на Кибероне сардины чуть ли не на всю Францию. И если б дело было днем, я могла бы побывать в удивительнейшем научно-лечебном институте, который французы окрестили, должно быть, из уважения к океану, даже не латинским, а греческим именем моря — институт «Таллясса» (или Таллята) — терапии, терапии водой океана, излечивающей артрозы, артриты и ревматизмы. Изгоняющей солью соль! За двенадцать километров от места, где мы вчера повертелись, был знаменитый «Дикий берег», нагромождение скал, утесов, лабиринтов, пещер и других чудес, для которых имеются специальные проводники. Еще что? Еще — и тут я совсем расстроилась, — еще Вандея.
Описание в гидах и брошюрах стало вдруг патетическим. И мне вспомнился наш Крым. Должно быть, как в Крыму при Врангеле, сюда, на Киберон, в 1795 году, удирая от революции, сбежались тысячи роялистов, чтоб погрузиться на суда, которые их вывезут в Англию. Вот они ждут, ждут на Кибероне, а океан, который почтен здесь греческим словом «Таллята», встал и не дает подойти кораблям к острову, а лодкам к кораблю. И все роялисты были захвачены войсками Конвента и расстреляны частью на Кибероне (там мы могли бы увидеть памятник на месте расстрела), частью в Ванне. В Ванне при этом в назидание республиканским потомкам приводится в гидах вандейский образец мужества: когда расстреливали группу роялистов с завязанными на спине руками, один из них попросил солдата снять с него шляпу, чтобы смотреть смерти в глаза. Но не успел еще тот исполнить его просьбу, как сосед-вандеец крикнул: «Не смей его касаться, ты не достоин!» — и, подпрыгнув, зубами сорвал с товарища шляпу. Как-то странно в современной Франции читать в бретонских брошюрах эти восхваленья геройства вандейцев.
Я все сидела и читала, забыв про завтрак. Я читала про историю Бретани, как она боролась в веках за свою самостоятельность, как добилась ее и была отдельным государством со своими герцогами и как присоединил ее к Франции не сам бретонский народ, а династический жест: бретонская принцесса, выходя замуж за французского короля, «подарила» свою Бретань наследному французскому принцу. Вот, может быть, тут в поддержку классовых интересов примешивалась и доля национальной «самостийности» Бретани, когда Вандея ощетинилась оружием против революционных войск Конвента? И, может быть, тут и припрятаны корешки той горьковатой, соленой насмешки, с какой французские поэты посмеивались над самым бретонским из всей Бретани городом Кемпером, который мы пропустили в своем путешествии? Баснописец Лафонтен в «морали» одной своей издевательской басни над Кемпером восклицает: «Упаси боже от поездки туда!», а другой поэт и философ, Вольтер, сказал о знаменитом бретонском критике Жане Фрероне, ядовитейшем на язык уроженце Кемпера, свои четыре строки, которым потом много раз подражали в аналогичных случаях:
L'autre jour, au fond d'un vallon, Un serpent mordit Jean Freron: Que pensez-vous qu'il arrive? Ce fut le serpent qu'il creva. (Однажды, в глубокой долине Змеей был укушен Фрерон. Что, думаете, случилось? Околела змея, не он.)За завтраком к моему унижению хозяин прибавил еще и от себя малую толику. Сев с нами за стол и узнав о нашем летучем посещении Киберона, он сокрушенно покачал головой: значит, и на Белль-Иль не попали?
На Белль-Иль (Красивый остров) мы, разумеется, не попали, туда надо ехать катером с Киберона, и днем, а не ночью.
«Pitié — жаль! — сказал он несколько свысока. — Вы там, в Москве, может, читали „Три мушкетера“? Слышали о д'Артаньяне? Знаменитый Фукэ, министр финансов Людовика XV, купил этот остров на уворованное золото. Там есть что посмотреть. Построил укрепленья, завел свой флот, обеспечил себе, одним словом, старость (хозяин по-военному сказал „retraite“ отступление). Но не тут-то было. Д'Артаньян сцапал его в Нанте, и пришел ворюге конец».
Возвращаться опять на Киберон и съездить оттуда на Белль-Иль, как он нам посоветовал, мы не могли. В этот день нам предстояло увидеть наконец предельную цель моей поездки — курорт Порник. И увидеть со свежими силами, не на закате, а в первую половину дня, чтоб остаться там до темноты. Единственное, что мы могли себе позволить, — это поскорей покончить с завтраком, заехать по дороге в Нант и посмотреть бретонский этнографический музей, способный хоть отчасти возместить нам тот красочный Кемпер, которого мы так и не повидали.
4
На полпути между Ванном и Нантом мы еще раз нюхнули воды, на этот раз речной. Небольшая с виду река устроила такое наводнение, что затопила окрестности и наплескалась вдоволь на дорогу. Зовут эту реку именем, видно, данным ей по горькому опыту веков: «Vilaine», а по-русски: «Подлюга».
Нант — большой индустриальный центр с портом на Луаре. Он был некогда столицей Бретани, а сейчас очень осовременился, застроился новейшими домами, вплоть до Ле Корбюзье, и чем-то при нашем первом беглом осмотре напомнил мне Милан. Мы быстро привыкаем к сочетанью старины и модерна в европейских городах, но трудней привыкнуть в них к неожиданной тяжести и великаньим квадратным размерам, словно ящик поставили на муравьиной куче, так называемых «замков» пятнадцатого века, нарушающих всякое представленье о связи или гармонии городских частей. В Милане такой квадратный «замок-дворец» с высоченными, мощной кладки стенами, проходными дворами, зубцами, башнями сразу делает современные улицы вокруг неуместно хрупкими. В Нанте этот ренессансный замок гораздо видней, чем в Милане, он сидит со своими двумя круглыми толстыми башнями у входа, в самом центре города и при этом «действует»: ров по-настоящему заполнен водой, мост через него поднимается и опускается, и вот что еще мы видели собственными глазами: когда пробил час закрытия (в замке размещены музеи) и нас «попросили» с его обширного, сыровато-зелено-осклизлого двора выйти вон из ворот, сторож поднял, буквально поднял огромнейший ключ, чуть ли не в одну треть его самого, и запер им за нами чугунные ворота. Неужели ключу свыше четырехсот лет и столько же замочной скважине? Или его искусственно возобновляют из музейных соображений?
В Нанте много замечательных скульптур и картин, для которых стоит пойти в музей, например, знаменитая «Мадам де Сеннон» Энгра — красавица в красном бархате спиной к зеркалу, с тусклым отражением ее спины в зеркале, — одно из классических чудес живописной техники. Но мы туда не пошли, как не смотрели и знаменитую гробницу короля Франсуа Второго в соборе Святого Петра. Мы сразу же побежали по мосту через ров в замок, где находится бретонский этнографический, или, как он называется, Народный музей. Залы в нем названы по буквам, и этих зал чуть ли не столько же, сколько букв в алфавите. Но зато посетителей, кроме нас, — никого. Разгуливавший без всякого дела черноусый бретонец-гид разговорился с нами и тут же рассказал всю свою подноготную. Он — торговый моряк, служил в Нанте на торговом корабле, но пришли немцы и все корабли в Нанте пожгли, а его отправили в лагерь неподалеку от Польши. Из лагеря он удрал, бежал в Польшу, приютила его польская семья — оказались партизаны. Они его переправили к русским. Служил, по его словам, «санитаром в госпитале у маршала Тимошенко в Бронницах», подучился русскому, а после войны вернулся в Нант. Все это он говорил привычным, сочиненным голосом. Я попросила его расписаться в моем блокноте, и «бывший санитар у маршала Тимошенко» что-то уж очень медленно, после раздумья, расписался: «Fernand Juilband». Но, кроме сомнительной биографии, он показал нам в музее кое-что интересное. Мы увидели тут бретонские домики с инкрустацией светлого фасада темными кирпичами, выложенными елочкой на углах стен, вокруг окон, вокруг дверей; предметы обихода и кустарной промышленности старого Кемпера — прялки с колесом, все виды плетенья из соломы — блюда, коврики; во всех видах дерево — шкафы, посуда, деревянная кровать, она же сундук с расходящимися стенками, и, наконец, жилая комната крестьянского бретонского дома с восковыми фигурами в национальных одеждах. Меня всегда удивляло наше выражение «заламывать шляпу». Откуда оно взялось, для чего нужно и как нужно шляпу на голове «заламывать»? Только в бретонском музее процедура эта оказалась осмысленной, точь-в-точь как перемена флагов на корабельных мачтах.
Несколько мужских восковых фигур бретонских крестьян стояли и сидели в комнате с черными фетровыми шляпами на головах. У того, кто сидел за столом перед миской, поля его шляпы были подвернуты (заломлены) с боков, справа и слева, как трубки. Другой, постарше, стоял с подвернутым кверху передним бортом шляпы, открывшим ему лоб. А третий, наоборот, с заломленным кверху задним бортом, обнажившим затылок. Оказывается, все это неспроста, а строго по семейному положению. Заламывать сбоку оба борта имели право только женатые; заламывать шляпу спереди — вдовцы; а сзади холостяки… Но в целом — и торфяные разработки, и выкуривание соли из океана, и глиняный круг для посуды, и деревянный ткацкий станок ничем особенным, узкоспециальным от старинного обихода других народов как будто не отличались и чем-то даже напомнили мне сходный музей в Эстонии.
И вот наступила минута, ради которой начата была моя поездка. Порник! От Нанта до Порника — рукой подать, а день еще только начался, и весь он целиком может быть отдан на розыски. Но кроме того, что Надежда Константиновна с матерью и впередовцами, Костицыными и Саввушкой, «решили перебраться в Порник и кормиться там сообща», а сама Крупская наняла, в ожидании Владимира Ильича, «две комнатушки у таможенного сторожа», — я ровно ничего не знала. Ни где эти две комнатушки, ни в каком они доме, и сохранился ли дом, и у кого начать о них спрашивать. С августа 1910 года прошло целых пятьдесят шесть лет и две мировые войны. В Москве нигде никаких подробностей о пребывании Ленина в Порнике, кроме странички воспоминаний Надежды Константиновны, узнать не удалось. Наши люди в Париже тоже ничего не знали и, кажется, даже не побывали в Порнике, по крайней мере в самом Порнике следов от их посещения не осталось. И все же я как-то твердо была уверена, что найду эти «две комнатушки у таможенного сторожа», и еще была уверена, что идти спрашивать надо не в полицию или в архивы, а в народ.
Теплый след Ильича, его личности, его дела не мог не остаться жить в народе, вот только нужно было решить, кого из народа первого взять за рукав и начать спрашивать. Но две вехи для поисков я сразу же установила. «Сообща питаться»… Питание на летнем отдыхе страшная вещь — по труду, какой нужно на него затрачивать. Конечно, главную заботу приняла на себя мать Надежды Константиновны. И тут на помощь ей во Франции должна была прийти благословенная лавка, именуемая «шаркютери» (Charcuterie). В словарях ее, как и подобную ей, итальянскую «салумерию» (Salumeria), переводят словом «Колбасная». Но и колбасные и гастрономы ни в какое сравнение с ними не идут. Это необычайно многогранные по ассортименту скопления всего жареного, вареного, печеного, изготовленного с гарнирами и соусами, — чего только душа пожелает; и домашние хозяйки могут найти там очень дешевые готовые блюда. В шаркютери маленьких местечек вроде Порника должны знать всех жителей, кто чем дышит и на что способен; в шаркютери могут легко указать стариков, помнивших, что было в их городе полвека назад. И шаркютери я приняла за первую «веху». Второй «вехой» была территориальная: таможня. Ясно, что таможенные служащие не могли селиться за тридевять земель от места своей службы, а старались быть поближе к нему. В приподнятом настроении, счастливая, словно еду на свидание с Ильичем, я уселась в «симку». Мы решили с моим попутчиком в Нанте не есть и ничего съестного не покупать, а заехать за провизией в Порнике в первую же шаркютери.
Мягкой ложбинкой, вдоль небольшой веселой речки пошла наша дорога все вниз, вниз к океану, окрашенная скупым, но все же солнцем, вдруг матово поплывшим над нами сквозь сеть облаков. Этой дорогой неминуемо должен был ехать Ильич, теперь уж наверняка мы двигались по его следам. От волнения и счастья близости к нему все казалось вокруг необычайно милым, приветливым, ушедшим от времени. Нас никто не обгонял и мы никого. Было по-зимнему пусто, воздух все свежел и свежел, сквозь окно доносился соленый ветер океана, и мы незаметно въехали в Порник, очень простой и скромный город, а наша речуга вдруг обрела набережную. И на этой набережной необычайно нарядно в лучах солнца засияла большая зеркальная витрина. В ней гордо стояла белая фарфоровая свинья, окруженная длинными блюдами с заливным и салатами. Над витриной белым по черному фону стояла огромная надпись: Charcuterie. А немного пониже и более мелкими буквами еще раз: Charcuterie du Port. H. Trébuchet. tel. 110.
Мне очень не хочется беллетризировать наше путешествие и передавать все последующее как приключенческий роман. Мне очень дорого все нами пережитое в Порнике. Кроме того, не я одна, а и спутник мой, Л. Морозов, проявил в наших поисках огромное упорство и неутомимость, и мы, как дети, могли бы поссориться: кто что открыл. Факт тот, что, купив на обед курицу и расплатившись за нее, мы с полчаса задержались в магазине. Хозяйка его, мадам Требюше, статная, высоколобая женщина, в белом фартуке и теплых ночных туфлях, узнавши, зачем мы приехали, посоветовала съездить недалеко, на горку — к местному художнику и журналисту, старику на пенсии, мсье Андрэ Баконнэ, который может нам помочь. Потом, узнав, что мы писатели, да еще из Москвы, она вызвала дочь — худенькую девушку в челке, с модно рассыпанными по плечам волосами, и представила ее нам — по отцовской линии — как правнучку Виктора Гюго. Хозяйка не сочиняла. В доказательство она принесла книгу, где имя Требюше было напечатано в связи с Виктором Гюго (я не успела как следует вчитаться в нее). Так и не удалось нам во Франции отойти от французской литературы, и на прощание мы познакомились с правнучкой автора «Les Miserables». От мадам Требюше, кстати сказать, я получила недавно дружеское письмо… Не сочинила она и о старичке пенсионере. Старик этот нам не только помог, но и решил нашу задачу.
Андрэ Баконнэ жил на крохотной площадке, высоко над городом, в первом этаже дома, на котором, видимо, по здешнему обычаю, тоже красовалась огромная надпись, на этот раз черным по белому: «Peinture. Vitrerie». (Живопись. Витражи.) Когда мы с трудом въехали на площадку, дверь его жилья оказалась запертой, и на ней висел замок. Мы было приуныли, но застрекотал мотоциклет, въехал, помогая себе пятками, румяный и круглый старичок, подошел к двери и попросту снял замок, оказавшийся «липовым». Мы вошли вслед за ним в явно холостяцкую комнату, с деревянным столом, пластмассовой тарелкой на нем (пустой) и оловянным прибором. Вокруг в беспорядке висели плакаты, картоны, изрезанная полосами бумага. Пригласив нас сесть, вдовец (или холостяк) мсье Баконнэ сперва расспросил, что нам нужно, а потом… и тут мы почувствовали, как дети в игре, когда ищут спрятанную вещь, — тепло, еще теплей, горячо, — просто ответил:
— Таможенника, только не сторожа, а смотрителя, звали мсье Додар (Dodard); их было два брата, Додара. Один сдавал свою половину дома постояльцам. Он потом умер. Его вдова, мадам Додар, продала дом мадам Пуалан в тысяча девятьсот двадцать первом году…
Мы едва успевали записывать в блокнот родословную дома, где жил Ильич: Додар, Пуалан. Но это еще не был конец французским именам. Заметно было, как Баконнэ охранял гражданское достоинство этих старых жителей Порника, всюду прибавляя «господин», «госпожа» и отвергнув существительное «сторож». Чуть позднее мы убедились еще в одном подчеркивании, но об этом позже.
— Мадам Пуалан имела двух дочерей. И теперь я вас подвожу к самой сути дела. Одну свою дочь она выдала за мсье Пэнбёфа (R. C. Paimboeuf) из агентства Кэно (Quénot), а другая вышла за здешнего учителя, он теперь тоже на пенсии, мсье Плэзанса.
Мы, торопясь, записывали: Пэнбёф, Кэно, Плэзанс…
— Да вы не спешите, сейчас мы сами туда поедем, и вы их увидите воочию. Мадам Пуалан умерла во время войны. Мсье Пуалан — сразу после войны. Теми комнатами, где когда-то жил вождь большевиков le grand Lénine, владеют нынче мадам и мсье Плэзанс.
Мы вскочили с места. Жив дом, уцелел! Существуют комнаты! Стало, как в игре, у самой находки, жарко. Но спокойный мсье Андрэ Баконнэ, тоже вставая, неторопливо продолжал свою речь:
— Чтоб навестить супругов Плэзанс, надо сперва побывать у мсье Пэнбёфа.
Через несколько минут наша «симка», дирижируемая горделивым Андрэ Баконнэ, остановилась у агентства Кэно, где, как водится, над витриной уже великаньими буквами, опять черым по белому, стояло «Agence Quénot». Сам мсье Пэнбёф, высокий и седоволосый, аристократического вида, прежде чем повести нас к своей belle-soeur, щедро раздал нам проспекты курорта Порника. Один из них был цветной. Вместо милого и простого местечка, уже ставшего нам, кроме набережной океана, хорошо знакомым, на нас оттуда глядели чуть ли не дворцы, кафе под тентами, шумные залы ресторанов с нарядной толпой, пляж, усеянный дамами, словом, это был какой-то совсем другой Порник. Кроме того, он оказался вотчиной знаменитого «Синего Бороды», маркиза Жилля де Ретца, имя которого упоминается рядом с опять вошедшим в моду маркизом де Садом. И развалины замка «Синего Бороды» где-то тут на горе, над побережьем. И гольф и казино (с игрой, — добавлено в скобках). Уж, наверное, ничего этого не было пятьдесят лет назад, кроме замка Жилля де Ретца.
Через тихие, узенькие, очень скромные улицы, где все от всего оказывается в двух шагах, мы прошли на ту, название которой (наверное, измененное с годами) — «Mon désir», «Мое желание». Эта улица, чтоб точней ее назвать, стала исполнением наших желаний. На ней мы увидели двухэтажный дом бретонского типа, инкрустированный в елочку, темными кирпичами на белом фоне по углам, вокруг окон и дверей, — такой же, какие мы видели по всей Бретани и в нантском Народном музее. На втором этаже с балкончиком на улицу были «две комнатушки», в которых Ленин провел двадцать пять дней августа в 1910 году.
Навстречу нам вышли мадам и мсье Плэзанс, она худенькая, улыбчивая женщина с морщинками вокруг добрых, прищуренных глаз; он в парусиновом рабочем пиджаке, с удивительным лицом, не только просто «интеллигентным», — лицом мыслителя. Оба преклонных лет, но полные жизни, довольные жизнью, с тем прекрасным, какое поколениями воспитывается у европейских народов, чувством самоуважения, присущего трудившимся всю свою жизнь людям. И они были на редкость приветливы к нам, искренни и гостеприимны. Выше я сказала о подчеркивании. Дважды — в агентстве Кэно и сейчас от мадам Плэзанс, говорившей нам о своем муже, мы услышали твердое, словно курсивом взятое для наших ушей, что мсье Плэзанс был всю жизнь учителем светской школы, светской, а не католической. Подчеркивание показывало, что это имеет здесь для их семьи большое, совсем не случайное значение, а как бы политическое и моральное. Ничего общего с иезуитами! И мы тотчас вспомнили рассказ Надежды Константиновны о мальчонке, сыне их хозяйки, которого иезуиты старались переманить в свою школу, а хозяйка, к великому удовольствию Ильича («воспылавшего к своим хозяевам большой симпатией»), восклицала: «Не для того она сына рожала, чтоб подлого иезуита из него сделать». Так и повеяло на меня временем, когда родной Ильич был тут, ходил по плитам, на которых мы сейчас стояли, сидел на балкончике…
— Не на балкончике сидел он, — сказала вдруг мадам Плэзанс, угадав мои мысли, потому что я смотрела наверх. — Тут раньше была лестница, спускавшаяся вниз прямо с балкона, и камарад Ленин любил сидеть на ступеньках с книгой или с тетрадкой на коленях. Пойдемте, я вам покажу, как они жили.
И мы долго ходили по «двум комнатушкам». Сейчас они, конечно, были заставлены приличной мебелью, — бахромчатые скатерки, резные тарелки и вышивки на стенах, большие стенные часы в резной круглой рамке, стулья в чехлах. Но теснота была все такая же, когда в них размещались трое: Надежда Константиновна, ее мать и Владимир Ильич. И тот же, густо оплетенный вьющейся зеленью, был внутренний кусок веранды с открытой стеной в сад, где они пили чай. А воду для чая нужно было нести из сада ведром из колодца, — и колодец был тот же, что пятьдесят шесть лет назад. Нести на второй этаж! Сколько раз делал это, помогая жене, сам Ильич. Мы прошли в сад и постояли в этом заросшем, запущенном, еще не вовсе облетелом уголке у обыкновенного круглого колодца с ведром на цепи. Мой спутник все щедро заснял — дом, комнаты, сад, колодец и милых хозяев, — их лица улыбаются сейчас с фотографии, как будто говоря мне: мы — французский народ, простой французский народ, но с убеждениями и с чувством достоинства, национального, классового или просто народного, воспитанного почти двумястами лет свободного дыхания.
Часы на фотографии, как тогда в жизни, указывают половину третьего. Время было расставаться с домиком. Я не сказала еще, что этот бретонский домик имел название «Les Roses» (Розы), написанное вверху на фасаде.
— Здесь было раньше множество роз, — сказала, прощаясь, мадам Плэзанс, — сейчас осталось от них только два куста. Розы мелкие, но хорошо пахнут. Вот увезите эту: она нынешний год последняя — в подарок от вождя большевиков.
Маленькая белая роза, протянутая мне хозяйкой, действительно сильно пахла, так сильно, что, уложенная в конверт, она пропитала потом своим южным, крепким запахом весь чемодан и даже сейчас, правда очень слабо, но еще дышит ароматом. Возбужденные и счастливые, мы помчались на «симке» к океану и наконец-то спустились на пляж, где Ленин «много купался в море, много гонял на велосипеде, — море и морской ветер он очень любил»… Не успела я очутиться на пустынном берегу, как тотчас нашла сухого краба и тоже спрятала его в конверт, он, однако же, скоро рассыпался в прах и не оставил после себя ничего похожего на засушенную розу. Все-таки было хорошо найти его. И хорошо бегать по камушкам, дышать зимним холодом океана, смотреть, как подбираются и лижут берег волны и опять уходят. Мы в Порнике. Мы нашли домик, где жил Ленин. И мы нашли его, справляясь у народа, от народа, через народ, как, по убеждению моему, только и нужно искать следы Ильича.
Но это не было последним уроком нашей счастливой поездки. Фраза Надежды Константиновны, которую я цитирую выше, не кончалась точкой после слов «он любил». Дальше идет запятая и новая, тоже еще не окончательная фраза: «весело болтал о всякой всячине с Костицыными». Задумайтесь: весело болтал. О чем? О всякой всячине. С кем? С Костицыными. А Костицыны были члены группы «впередовцев»! Путаники в теории, они мешали чистоте линии партии своими требованиями свободы философской мысли (от марксизма, добавлял Ленин), свободы богостроительства (хуже, чем поповство, добавлял Ленин), тайной приверженнностью к махизму, к эмпириокритицизму, открыто стоять за которые после работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», вышедшей в мае 1909 года, было уже не совсем удобно. С «впередовцами», как и с «ликвидаторами» и «отзовистами», которым «впередовцы» явно сочувствовали, Ленин яростно полемизировал в Париже. Это были представители той «левой фразы», которую Владимир Ильич органически ненавидел и не выносил. Той самой «левой фразы», которая на деле всегда вела и ведет направо, к реакции. И вдруг с членами группы «Вперед», рыцарями этой «левой фразы», Ильич искренне смеется, болтает о всякой всячине, проводит время по-добрососедски. Что это значит?
На лестнице, ведущей с балкона, той самой, где Ленин любил сидеть с тетрадкой и заниматься и которой сейчас уже нет, можно мысленно представить себе согнутую перочинным ножиком фигуру Ильича, погруженного в работу. Он любил так набрасывать свои мысли, согнувшись в три погибели, где-нибудь на приступочке во время конгрессов, на дачной лесенке. Над чем же тогда работал Ильич? Он писал одну-единственную статью, непримиримо острую, против группы «Вперед». Статья называется «О фракции „впередовцев“». Она была напечатана позднее (12 сентября 1910 года) в № 15–16 «Социал-Демократа». Ленин объясняет в этой статье, как всегда чеканно и просто:
«Объективные условия контрреволюционной эпохи, эпохи распада, эпохи богостроительства, эпохи махизма, отзовизма, ликвидаторства — эти объективные условия поставили нашу партию в условия борьбы с кружками литераторов, организующих свои фракции, и от этой борьбы фразой отделаться нельзя. Отстраниться же от этой борьбы значит отстраниться от одной из современных задач рабочей с.-д. партии». Однако — и какое замечательное «однако» имеется у Ленина в самом начале того же абзаца:
«Еще и еще раз надо повторить, что это лицемерие впередовцев объясняется не личными качествами Петра или Сидора, а политической фальшью всей их позиции, объясняется тем, что литераторы-махисты и отзовисты не могут вступить прямо и открыто в борьбу за дорогие им несоциал-демократические идейки».[43]
Политическая фальшь позиции не означает фальши характера. Она не касается у Петра или Сидора их личных качеств. С великой человечностью различает тут Ленин за фальшью политической позиции живого человека. И в свете этих ленинских слов такой простой и понятной становится веселая болтовня Ленина «о всякой всячине» на отдыхе с «впередовцами» Костицыными. А ведь бывало у нас, что ошибочная и фальшивая позиция целиком покрывала всего Петра или Сидора, словно перестали они быть живыми людьми со всеми их личными качествами. Перестали быть, а вокруг них, как вокруг зачумленных, вдруг образовывалась пустота. От них разбегались лучшие друзья-товарищи. И последний урок, полученный нами в Порнике, учит, что поступать так — значило поступать не по-ленински.
Мы уезжали из Порника в теплой волне любви к Ленину, словно и в самом деле повидались с ним, подышали одним с ним воздухом. Было так полно и хорошо, как в редкие минуты счастья, и верилось: придет время, когда все мы научимся не только мыслить, но и жить и чувствовать по-ленински.
Март — апрель, 1967
Ялта
Урок третий В БИБЛИОТЕКЕ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ
1
Было то самое «дождестояние» в Лондоне, когда мельчайшая влага не сыплется, а как бы стоит в воздухе, и газеты коротко, в графе о погоде, оповещают: «шаор».[44] Этот стоячий душ не беспокоит лондонцев; и зонтики, никогда в Англии не выходившие из моды — даже в эпоху плащей, — не раскрываются.
Я шла под таким шаором не своей дорогой, а совсем противоположной. Моей дорогой было бы доехать до станции метро «Тотенхем-корт-роуд», свернуть на Грэт-Рассел-стрит и через две минуты быть у цели. Но вместо этого, отнюдь не по ошибке, а после долгих ковыряний в мельчайших квадратиках многостраничного плана Лондона, озаглавленного «От A до Z», я очутилась на станции «Кингс-Кросс», зашагала по длинной и мрачноватой, старой диккенсовской улице Грэйс-Инн и свернула по Хольфорд-стрит к Рассел-сквер. Не просто шла, а словно ступала по зеркалу, оглядывая дома по сторонам и тротуар под ногами.
Этой дорогой, или почти что этой, — каждый день, с девяти утра — шел Владимир Ильич Ленин. Шел под дождем и солнцем, под снегом и смогом, при фонарях и при слабом лондонском утреннем свете, — должно быть, с такой же приятной зябкостью ожиданья или — хорошее русское слово — предвкушения, с какой торопишься на свиданье с чем-то любимым. Ильич очень любил место, куда он ежедневно уходил на половину дня.
Жизнь человеческая проходит. Она течет удивительно быстро. Но в памяти, как в несгораемом шкафу, долго хранятся ощущения пережитых нами прочных радостей, не теряя своего первоначального вкуса. Я уверена, что Ильич хранил в памяти ощущение своих занятий в библиотеке. Среди немногих личных часов счастья было счастьем для него занятие в знаменитой Ридинг-Рум — читальном зале Британского музея.
Надежда Константиновна рассказывает:
«Когда мы жили в Лондоне в 1902–1903 г., Владимир Ильич половину времени проводил в Британском музее, где имеется богатейшая в мире библиотека с прекрасно налаженной техникой обслуживания».[45] Он пристрастился к ней, полюбил ее настолько, что: «Во время второй эмиграции, когда разгорелись споры по философским вопросам и Владимир Ильич засел за писание „Материализма и эмпириокритицизма“ в мае 1908 г., он поехал из Женевы в Лондон, где пробыл больше месяца специально для работы в Британском музее».[46] Словно с улицы на улицу — из одного государства в другое, далеко не соседнее, — только чтоб засесть в любимой библиотеке!
Н. А. Алексеев добавляет к воспоминаниям Крупской о годах их первой эмиграции, как они «нашли себе две комнаты без мебели недалеко от станции городской железной дороги — Кингс-Кросс-Род» и как «в этих двух комнатах, для которых пришлось приобрести самую скромную меблировку (кровати, столы, стулья и несколько простых полок для книг), Владимир Ильич и Надежда Константиновна прожили все время до переселения „Искры“ в Швейцарию (весной 1903 года)».[47] Алексеев долго жил в Лондоне и считал себя «до известной степени старожилом», но Ленин, по всегдашней своей привычке предварять живой практический опыт общим и цельным знанием, полученным из чтения, — еще до переезда в Лондон внимательно изучил его план. И Алексеев вынужден признаться, что Владимир Ильич поразил его, старого лондонца, своим «уменьем выбирать кратчайший путь, когда нам приходилось куда-нибудь ходить вместе (пользоваться конкой или городской железной дорогой мы по возможности избегали по финансовым соображениям)».[48]
Вот почему и я, пройдя в первый раз по прямому своему пути, пустилась вторично по закоулкам. Мне хотелось угадать, где прокладывал Ленин свой «кратчайший путь». Англичане — народ надежный, не знающий того «бешенства превращений», каким окрестил некогда Сперанский любовь русского человека к постоянным переменам. За десятки лет, даже за сотни, сколько ни омолаживай здесь старую архитектуру, сколько ни воздвигай, как это нынче делают, умеренных небоскребов в самом сердце города — Лондон бережно хранит старые названия улиц, старые их очертания, — и все те же названия стояли на углах тех же закоулков, по которым сокращал себе Ленин дорогу от Кингс-Кросс до Бритиш-Мьюзеума. И хотя вместо станции железной дороги появилась станция метро, но в тех же местах, с тем же названием, с таким же назначением. А дождь все стоял и стоял в воздухе серебристой рыбьей чешуйкой. В его мельчайших штрихах, словно в штриховом пунктире Ван-Гога, проступили наконец передо мной величественные колонны одного из прекраснейших и любимейших зданий Лондона.
2
Я не была новичком в Британском музее. Несколько лет назад (чтоб быть точной — в 1956 году) мне пришлось поработать в его библиотеке. Сейчас я тоже пришла сюда не как турист, а как читатель. Те, кто ходит смотреть музей, понятия не имеют о разнице таких двух посещений. Чтоб иметь право заниматься в читальном зале Британского музея, нужны две солидные рекомендации, да и то, — если накопилось большое количество заявок, — вы не сразу получите входной билет. Первый раз мне очень помог Кристофер Мэхью, ведавший в те годы упраздненным нынче русским отделом «Британского Совета». А сейчас я привезла с собой рекомендацию директора нашей Ленинской библиотеки, Ивана Петровича Кондакова, и этой единственной рекомендации, как раньше — мистера Мэхью, оказалось достаточно.
Но в 1956 году увидеть место, где сидел и работал Ильич, и узнать толком, каков порядок занятий в знаменитом читальном зале (Reading Room), мне не удалось. Дело тогда шло о рукописи английского востоковеда Джона Хэддона Хиндлея, находившейся в отделе восточных манускриптов, где она, по молодости своих лет (почти современная!), выглядела младенцем, хотя и была в своем роде уникальной. Хиндлей перевел с фарси на английский труднейшую философскую поэму Низами Гянджеви «Сокровищница Тайн», и это был первый перевод поэмы на европейский язык. Нужен он был мне до зарезу, чтоб критически сравнить его с собственным стихотворным переложением «Сокровищницы» по подстрочнику покойного советского иранолога Ромаскевича. Этот большой ученый, дословно выполнивший свою задачу, создал такой легион туманностей, такое безбрежное море загадочных ассоциаций, такие зашифрованные ребусы, что не одна я, но и несколько образованных иранцев, которым я показала раздобытый мной подлинник, стали в тупик уже не перед подстрочником, а перед самим оригиналом поэмы.
Полюбив и переведя «Сокровищницу Тайн», я не бросила Низами, а продолжала изучать все, что о нем написано в Европе. За десятки лет европейские ученые проложили тропинки к его пониманью. Они шли в одиночку. Англичане облюбовали басню о двух совах из «Сокровищницы» и печатали ее много лет в детских литературных хрестоматиях; немцы (иранолог Хаммер) перевели немало кусков из его поэм. Гёте дал целый очерк о Низами в своем «Западно-Восточном Диване». Но полный перевод «Сокровищницы Тайн» отважился сделать только один Хиндлей. Весь невероятный, беспримерный в истории размах советской деятельности, — того, что можно назвать государственным решением чисто культурной задачи, когда созваны и связаны в содружестве виднейшие ученые и поэты, заказаны и оплачены полные научные переводы и стихотворные их переложения; и все это, под шефством лучших иранологов многих республик, издано с комментариями, иллюстрациями и даже, на родине Низами, с параллельными текстами оригинала и перевода, — весь этот размах словно вызвал великого поэта вторично к жизни. Рядом с таким размахом одинокие усилия западных ученых, часто нигде не находившие поддержки, казались каким-то «гласом вопиющего в пустыне». Но тем более привлекательным и заманчивым был для меня, углубившейся в Низами и не бросившей заниматься им по окончании юбилея, — одинокий перевод «Сокровищницы Тайн» Хиндлея, бескорыстный труд ученого, так и оставшийся в рукописи.
Написав в английской анкете, что я хочу ознакомиться именно с этим трудом, я получила входной билет для занятий в отдел восточных рукописей и прошла в небольшой кабинет, уставленный длинными столами с удобными пюпитрами для расстановки больших рукописных фолиантов. Память моя благодарно хранит часы, проведенные в этом кабинете, и удивительное внимание работника отдела, положившего передо мной не только желанного Хиндлея с его слегка выцветшим, но разборчивым почерком, а и огромный печатный том с библиографией находящихся в отделе армянских рукописей, — по фамилии он узнал, что я армянка, и захотел сделать мне приятное.
Повторяю, однако, что было это давно, свыше десятилетия назад. Отдел восточных манускриптов лежит в стороне от центрального читального зала. И мне даже краешком глаза не пришлось тогда увидеть сердце Британского музея — тот круглый зал, увенчанный высочайшим, как в византийском храме, просторным куполом, ту самую Ридинг-Рум, в которой ежедневно сидел и занимался Владимир Ильич Ленин.
Но зато вступить в него и увидеть его мне предстояло теперь в юбилейном году 1967.
3
Туристы, ежедневно тысячами посещающие знаменитый на весь мир Британский музей, связывают его обычно с сокровищами египетского отдела обоих этажей, с мумиями, с предметами античных и азиатских культур, остатками народов майя, греко-римскими, индийскими, персидскими, хеттитскими и другими древностями. Когда с путеводителем в руках они идут из комнаты в комнату, из галереи в галерею, им и в голову не приходит, что двигаются они по четырем сторонам квадрата вокруг укромно вместившегося в их центре и протянувшегося вверх на два этажа своеобразного круга в квадрате. Библиотека внедрена в музей необыкновенно удачно, с той редчайшей экономией и отжатостью пространства, каким вообще отличается архитектура этого великолепного здания. Двадцать раз посетив выставочные залы музея, вы можете ее попросту не заметить. Больше того, если вы обычный торопливый турист, вы можете даже и не знать о ней, не подозревать входа в нее и вообще ею не интересоваться. А ведь она — сердце здания. Она — ее собирательный нерв, от нее все росло и отпочковывалось. Ее история, полная национального своеобразия и в том, как она развивалась, и в том, как сами англичане о ней рассказывают, — чисто английская, ярко передающая английский характер, английский юмор, английские народные черты. Современному человеку может показаться странным, но людям моего поколения естественно думать, что в Британском музее главное — это его знаменитая библиотека, а предметы его коллекций это уже второстепенное и прикладное.
Люди моего поколения считали привычным и законным сочетание библиотеки с музеем под одной крышей. Студентами мы говорили: «Иду в Румянцевский музей». Это означало, что мы идем заниматься в библиотеку Румянцевского музея. За все годы моей молодости я, как и все мои товарищи по факультету, не знала и не интересовалась, что за экспонаты имеются в «Румянцевке» и есть ли они вообще, — единственным существующим для нас предметом в ней была книга. Поэтому фраза в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, что Ленин, не ходивший в Лондоне по музеям за исключением Британского, — и в Британский ходил отнюдь не для того, чтоб смотреть собранные там драгоценные коллекции, а влекла его «богатейшая в мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там научно работать»,[49] фраза эта воспринималась мною как нечто глубоко естественное. Когда, наконец, побывав в дирекции и получив на месяц свой пропуск № 1 399 533, я перешагнула впервые через порог Ридинг-Рум, меня, как воздухом, охватило особое чувство дома, куда вступаешь в новое свое существование, «у порога оставив туфли» — забыв все личное, мелкое, бытовое, несущественное, беспокойное, рассеивающее.
Кто хочет хорошо понять человека Ленина, вжиться в его характер, тому не миновать глубокого раздумья о роли библиотеки в сложной ленинской жизни.
Библиотека — это не только книга. Это прежде всего колоссальный концентрат спрессованного времени, как бы сопряжение тысячелетий человеческой мысли, перенесенной на пергамент, папирус, бумагу, для жизни в постоянстве, а не в текучести. Вы входите в храм Сбереженного Времени, чтоб приобщиться к этому великому постоянству в текучести, — как бы становитесь его частицей. Вы становитесь его естественной, органической частицей, потому что здесь нельзя читать без отдачи своей собственной творческой энергии для понимания и усвоения прочитанного. В библиотеке, как нигде, вы переживаете всю глубину знаменитой латинской формулы: «Do ut des», — даю, чтоб ты дал, — изрядно опошленной ее узкопрактическим пониманием.
Замечательно, что именно в Лондоне Владимир Ильич вспомнил об этой формуле в ее глубоком творческом смысле. Когда оставшиеся в Москве социал-демократы, которым посылалась нелегальная литература из Лондона для освоения, распределения, читки и комментирования в рабочих кружках, стали вопить «мало», «мало», «недостаточно массово», «недостаточно понятно», в то же время не утруждая себя освоением этой литературы, не вчитываясь в нее сами, не двигая ее в кружки, не комментируя, не разъясняя, не используя и сотой доли того, что им послано, — Ленин хлестнул по этой пассивности товарищей таким грозным и гневным окриком в своем письме к Ленгнику, каким гремел лишь в редчайшие минуты негодования на своих соратников: а «Сумели ли вы использовать те сотни, которые вам доставили, привезли, в рот положили?? Нет, вы не сумели этого сделать… увертка, отлыниванье, неуменье и вялость, желание получить прямо в рот жареных рябчиков» — и формула, выделенная Лениным в скобки, как бы для того, чтоб подчеркнуть ее безусловный, зависящий не только от данного момента, вечный смысл:
«(Никто и никогда ничего вам не даст, ежели не сумеете брать: запомните это)».[50]
Но библиотека не только концентрат времени, читальный зал не только связывает читающего с книгой. Читальный зал вводит читателей в творческую атмосферу сотен и тысяч других людей, читающих рядом с ними, смешивая воедино их сосредоточенные дыхания и невидимые флюиды токов их мышления. Если есть гипноз общего действия толпы на улицах, в театрах, на митингах, где люди заражаются друг от друга чувствами и поступками, то незримый и тихий взаимогипноз читателей в библиотеке, отрешенных от текучести жизни, ушедших в творческое освоение чужой мудрости, которую нельзя взять, не привнеся в нее частицу себя самого, — этот взаимогипноз очень велик и реален.
Есть в воспоминаниях об Ильиче два удивительных рассказа, на первый взгляд противоречащих друг другу. В одном Н. А. Алексеев рассказывает, как он встретил приехавшего в Лондон Ленина: «Владимир Ильич объяснил мне тотчас по приезде, что прочие искровцы будут жить коммуной, он же совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях. Предвидя, что приезжающие из России и из-за границы товарищи будут по российской привычке, не считаясь с его временем, надоедать ему, он просил по возможности ограждать его от слишком частых посещений».[51] Но вот, почти в это же время — за несколько дней до приезда в Лондон, Ильич остановился в Брюсселе. Его там встретил Н. Л. Мещеряков: «…я повел Владимира Ильича показывать город, учреждения рабочей партии, знаменитый тамошний кооператив и т. д. Когда мы вышли из кооператива, вдруг показались толпы рабочих… Ленин при виде этой толпы сейчас же оживился и обнаруживал большое тяготение примкнуть к демонстрации. Мне пришлось чуть не повиснуть на нем, чтобы как-нибудь замедлить его движение».[52] Читаешь — и почти видишь, почти физически чувствуешь непроизвольную тягу Ленина к толпе, к массе, чувствуешь физическое усилие Мещерякова оттянуть его, чтоб не попасть в неприятности на чужой земле. Как будто — противоречие. На самом же деле — слитное свойство характера: потребность сосредоточиться, быть с самим собой; и страстная тяга — быть с народом, в народе. Тут, может быть, и корни любви Ильича к библиотеке. Ты один, сосредоточен в себе, ничто и никто не отвлекает; а в то же время, — ты в волне умственных энергий огромного числа людей, работающих с тобой рядом.
Удачная архитектура Ридинг-Рум, его круг с большим диаметром, проходы, не в длину и ширину, а главным образом вдоль стен по кругу; его скамьи, расположенные радиусами от центра; стены, сплошь опоясанные полками, уставленные книгами, до которых помогают добраться удобные передвижные лесенки, а выше предела лестниц — вторые этажи, обведенные дорожкой с железными перильцами, — все это позволяющее множеству людей заниматься рядом, но не мешая друг другу, и множеству книг расположиться всегда очень доступным для читателя образом, — удивительно способствует и сосредоточенному одиночеству, и взаимослиянию творческих энергий читателей, — одновременному бытию с самим собой и в массе, подмеченному современниками у Ленина.
4
Я вступила в Ридинг-Рум не одна. Со мной был сотрудник библиотеки, мистер Фэйрс, специалист по русскому и румынскому языкам, с которым меня познакомили в дирекции. Мистер Фэйрс помог мне для начала разобраться, где выдают справки и куда идти, чтоб заказать и получить книгу: как и что писать на бумагах для заявок; где искать каталоги и как с ними обращаться.
Отдел для справок был у самого входа, а стол заказов и получения книг — в центре круга. Все как будто похоже на наши порядки, но есть разница: надо обязательно самому найти шифр книги и проставить его в заявке, а кроме того, — найти и проставить, тоже в заявке, номер занятого вами места.
Шифр найти очень легко. Здесь нет «карточной системы», туго набитых длинных ящиков с карточками на стержне, которые не так-то легко перебирать и удерживать на нужном для списывания месте. Вместо них — каталоги, огромные фолианты с крупно помеченными на корешках буквами, — тут же, рядами, под столом заказов; раскройте, и на широких белых страницах маленькие печатные наклейки броско, удобно для глаз, с оставлением белых пространств для будущих наклеек. Заполнив заказ, вы через полчаса уже сидите и занимаетесь.
Что до номера места… Я было размашисто прошлась вдоль скамей и сразу положила тетрадку на свободный стол. Но мистер Фэйрс покачал головой. Он подвел меня к круглому проходу вдоль стен, куда эти скамьи, ряд за рядом, выходили геометрией радиусов или, если хотите, музыкой струн, и указал на четкие отметки каждого ряда: латинская буква и цифра, буква и цифра. Оказывается, не каждый свободный стол — свободное место для вас; искать себе место требовалось не анархически, а в соответствии с заглавными буквами своего имени, как оно помечено на входном пропуске. И если все места в вашем ряду были уже заняты, вам следовало терпеливо ждать, покуда одно из них освободится, а не усаживаться за любой свободный стол.
— Мы не знаем точно, где сидел Ленин, — сказал мне мистер Фэйрс, давно угадав, какое именно место интересует меня в этом зале. — Он жил в Лондоне и работал у нас под именем «Якоб Рихтер» и, значит, сидеть мог примерно вот тут…
Мы подошли к двум рядам, недалеко от главного прохода в холл. Прошло шестьдесят пять лет. Но ряды по радиусу, буквы и цифры на рядах остались, вероятно, теми же, как и система рассаживания. Она идеальна для контроля и в то же время требовательна к читающему: чтоб заполучить свободное место в узком, предназначенном тебе буквенно-цифровом ряду, надо рано вставать. И Ленин, как мы знаем, уходил в библиотеку с раннего утра. Он любил точность и систему; в его лондонской комнате всегда был порядок. Современник пишет: «Всем известно, что Ленин вел очень скромный образ жизни как за границей, так и в России. Жил он невероятно скромно. Он любил порядок, царивший всегда в его кабинете и в его комнате, в отличие, например, от комнаты Мартова: у Мартова всегда был самый хаотический беспорядок — всюду валялись окурки и пепел, сахар был смешан с табаком, так что посетители, которых Мартов угощал чаем, часто затруднялись брать сахар. То же самое творилось и у Веры Засулич. У Ленина, напротив, был необыкновенный порядок, воздух в комнате всегда чистый. Если у него в комнате закуривали, он хотя в то время еще и не запрещал курить, но начинал морщиться, открывал форточки и вообще обнаруживал большое неудовольствие».[53]
Приходя в библиотеку, Ленин попадал в любимые им условия: точность, система, курить запрещено, воздух чист. Весь уклад Библиотеки Британского музея должен был особенно ему нравиться: при всей его сложной точности, этот уклад очень легко, словно играючи, запоминается. Никакой казенщины в правилах, — может быть, потому, что в них есть какой-то элемент изящества и непринужденности, как в правилах детской игры. Вы подчиняетесь ему легко, с удовольствием, а между тем он сразу и очень твердо организует вас, вводит или, как моряки говорят о своем судне, «кладет на курс», дает чудесное чувство целенаправленности.
Среди условий для занятий в Библиотеке Британского музея имеется одно, очень важное. Если нужную вам книгу можно легко достать в любой другой библиотеке Лондона, вам это укажут и адресуют вас туда. Есть ходячий рассказ об одном пожилом англичанине, десятки лет прожившем в Центральной Африке. Вернувшись в Лондон, он вспомнил о любимой своей книге, читанной в молодые годы в библиотеке музея, отправился туда и спросил себе входной билет. Узнав, что «любимая книга» старика была «Опыты» Бэкона, ему ответили, что он найдет ее в любой публичной библиотеке и может даже купить за шесть пенсов в десяти шагах от Британского музея. Получить право на место, осаждаемое сейчас сотнями ученых со всех концов мира, может поэтому лишь тот, кто нуждается в специальных книгах по специальной тематике, имеющихся и легче всего получаемых именно в Библиотеке Британского музея.
В этот приезд мне нужны были комплекты газеты «Таймс» за вторую половину восьмидесятых годов прошлого века. Кроме того, уже будучи в Лондоне, я прочитала в одной из воскресных газет обстоятельную рецензию на только что вышедшую книгу оксфордского историка Сетона Уатсона «Российская империя 1801–1917»[54] и загорелась ее прочесть. Старые газеты уже давно в огромных тюках, целыми вагонами были переправлены в газетное отделение Британского музея за полтора часа езды от Лондона. Но это относилось к газетам, выходившим до девятнадцатого века, и меня не касалось. А книгу Уатсона еще нигде, даже в продаже, получить было нельзя, и, спокойно заполнив свою анкету, я получила пропуск без всяких затруднений. Однако мистер Фэйрс покачал головой. Библиотека — да; но Ридинг-Рум — нет!
Для чтения газет в библиотеке специально имеется так называемая Periodical Gallery, Галерея периодики. Для чтения новейших, только что полученных, но еще не зарегистрированных и не внесенных в каталог книг нужно пройти в так называемую North Library, — Северную библиотеку. К той и другой ход был из Ридинг-Рум. Нечего делать! Пришлось мне каждое утро двигаться по окружности, верней, полуокружию прохода в круглой Ридинг-Рум, любовно поглядывая на радиусы ее именных рядов, уходящих к центру круга; и ровно на половине пути сворачивать в длинный коридор, слева от которого железная лесенка вела меня наверх, в Галерею периодики, а прямо в конце коридора были двери в Северную библиотеку. Так целый месяц и продолжалось, хотя все-таки, в ожидании позднейших своих заказов, я и посиживала иной раз в круглой Ридинг-Рум, читая взятые с полок интересные журналы.
5
Но прежде чем продолжить свой рассказ об Ильиче, его отношении к книге и чтению, мне хочется ближе познакомить нашего читателя с самой Библиотекой Британского музея. Англия не имеет ни одного учреждения более демократичного и в то же время более национального, чем эта библиотека. Жаль, мало у нас, — о наших двух огромных книгохранилищах Ленинской в Москве и Публичной в Ленинграде, — занимательно, без формалистики и казенщины рассказанных историй их возникновения, развития и быта. Те же, что есть, например, книга И. Романовского[55] о Ленинской библиотеке, малоизвестны. А ведь для читающего человека, в огромном большинстве случаев автодидакта, дающего себе «самообразование» подчас до конца жизни, даже и в звании академика, большая государственная библиотека больше достойна имени «Alma mater», чем университет. Сколько исторически интересного, яркого, как открытие, узнали бы мы о самих себе, о своих народах, об их выдающихся представителях, о хороших и смешных, трагических и дурных сторонах русской истории в описаниях наших двух библиотек и даже в том изложении, каким эти описания были бы сделаны!
Говоря «типично английское», наиболее характерное для английского народа, — я как раз имею в виду не только «биографию библиотеки», факты и списки имен, — а и способ самого изложения этих фактов. Об англичанах сложилось мнение, будто они самоуверенные гордецы, — но что такое настоящая гордость? Когда в 1958 году на выставочных стендах английского павильона в Брюсселе появились надписи: «Мы первые открыли то-то», «У нас первых сделано было то-то», «Впервые то-то и то-то придумано было именно в Англии», — то впечатление возникало не об английской гордости, а только о великобританском хвастовстве. Но когда в самой Англии, в ее книгах о своей стране, в ее массовых туристических гидах читаешь умную насмешку над собственными недостатками или серьезный укор за них самим себе, невольно проникаешься симпатией к английской гордости, той гордости, что родится из спокойного самоуважения.
Приведу для примера два больших справочника, писанных для чужого глаза и по своим задачам граничащих почти с рекламой. Об одном я где-то уже рассказывала, это огромный гид по Англии, очень дорогой, считающийся чуть ли не лучшим. В самом его начале с неистребимым английским юмором говорится: «Наша страна никогда не отличалась уменьем вкусно готовить, зато она славилась свежестью своих продуктов; приехав к нам сейчас, — вы увидите, что готовить вкусно мы не научились, зато продукты наши утратили свою свежесть». Глазам своим не веришь — сказать о себе этакое в туристическом гиде! А вот другой путеводитель — по истории Библиотеки Британского музея. В главе о начале движения за публичность библиотек сказано серьезно и укоризненно, уже отнюдь не с юмором: «Для такого большого города, как Лондон, открытие общей публичной библиотеки произошло очень поздно, гораздо, например, позднее, чем в Париже, где библиотека Мазарини открылась для публики в 1643 году, а Королевская, практически тоже уже доступная, формально была открыта в 1753 году».[56] Нации с меньшим чувством самоуважения наверняка написали бы о своей публичной библиотеке в подобных же обстоятельствах, как об «Одной из первых», или «В ряду первых библиотек Европы», или «Среди зачинателей публичного использования библиотек, наша…» и т. д. Что, впрочем, лишь на какую-то йоту неточности не соответствовало бы в данном случае правде, — Библиотека Британского музея была открыта всего на шесть лет позже Королевской в Париже (15 января 1759 года). Но все же — йота!
Черта эта, — очень маленькая, малозаметная для самих авторов, встречается в манере изложения английских книг, говорящих о себе и своем народе, очень часто. Я привела ее именно как манеру изложения фактов. Но еще больше национально-английского найдет читатель не только в манере изложения, а и в самих фактах истории Библиотеки Британского музея. Есть среди них вещи забавные, в чисто английском духе: еще в середине прошлого века, например, женщины (леди), допущенные к занятиям в библиотеке гораздо позже мужчин, — должны были приходить туда не иначе, как парочками. Почему? Потому ли, что, садясь за стол (а в библиотеке, как и в столовой, стол играет решающую роль), в комнате, сплошь наполненной мужчинами, женщина должна для приличия быть в защитном сопровождении другой женщины? Или еще забавный пример английской дисциплины: первые годы существования библиотеки, когда читальный зал был маленький и плохо проветривался, а допускались в него лишь «люди с положением», он частенько бывал пуст, но служащие (как правило, крупные ученые преклонного возраста) должны были высиживать положенные часы до конца. Однажды старый доктор Петер Тэмпльмен, заведовавший читальным залом, задыхаясь от духоты и видя, что зал пуст, вздумал было выйти на минуту подышать свежим воздухом. «Назад, сэр!» — громовым голосом закричал на него «опекун» или «шеф» библиотеки («Trustee» по-английски): довольно сильное выражение «назад» (get back) — но непременно и неизменно с добавкой «сэр'а». Самое страшное ругательство, произносившееся по-английски в самом яростном пылу драки, — неизменно вылетало из уст англичанина с этим хвостиком «сэр'а».
От таких забавных случаев, накопившихся в анналах библиотеки за два столетия, веет чисто английским духом, Диккенсом, Теккереем, — кстати, и Диккенс и Теккерей были в свое время завзятыми ее читателями. Но есть в истории Британского музея и нечто другое, тоже чисто английское, глубоко симпатичное во всех его проявлениях. Я не говорю тут о черте, присущей каждому публичному книгохранилищу, — раскрытой двери для бесплатного пользования сокровищами человеческого ума и постоянного, тоже повсеместного, интернационализма, то есть преимущественного доступа иностранцам: даже в Англии, вообще говоря недолюбливающей чужестранца, alien, — в Библиотеке Британского музея всегда есть для этого «нелюбимого» гостя вежливый и добрый прием. Не говорю тут и о неоспоримом факте широкой доступности читального зала для революционеров-эмигрантов, от итальянского антиклерикала-изгнанника Габриэля Россети, — и до Маркса и Ленина. Это все черты, можно сказать, общие, вытекающие из самого бытия книги, из общего гуманитарного настроения библиотек, их мировой переклички, их взаимообмена, их «национализации», то есть перехода на бюджет нации и бесплатности ими пользования. Но есть в истории Библиотеки Британского музея оригинальные эпизоды, в которых наглядно проявляется свой особый, только англичанам присущий, национальный характер. О двух из них хочется рассказать читателю.
6
Закончилась знаменитая кампания 12-го года. Наполеону нанесен удар. Союзные силы ездят друг к другу с дружественными визитами. В 1814 году царь Александр I приезжает в гости к английскому королю и желает осмотреть Библиотеку Британского музея. Начало века вообще славится тем, что правительства хвастают не только военными своими силами и блеском дипломатий, но и сокровищами высшего порядка. Большая часть европейских библиотек насчитывала со дня своего открытия почти два столетия. Испания хвастает своим «Эскуриалом», Бавария — Мюнхенской, Италия — Ватиканской, Лауренцианой, Амврозианой, Габсбурги — Венской, Польша — Ягеллонской… На весь мир прославлена знаменитая Вольфенбюттельская библиотека в Германии. Но Александру I хвастаться, особенно по сравнению с книгохранилищами, созданными еще в XVI веке, было нечем; подражая Наполеону, порядочно пограбившему Европу для Франции, он тоже изрядно пограбил: попросту перевез огромную польскую библиотеку из Варшавы к себе в Петербург. И вот теперь он ходит по Ридинг-Рум и осматривает британскую, сравнительно молодую, — ей было в то время всего пятьдесят пять лет.
По библиотеке водит Александра I один из тогдашних служащих, в виде исключения не из ученого звания, а бывший дипломат, Иосиф Планта. Царь критически осматривает книжное наличие и бросает замечание о «небольшом размере национальной библиотеки». Иосиф Планта по-французски (как велся весь разговор) отвечает: «Но, ваше величество, ведь все здесь оплачено!» (Mais, Sire, tout est paye ici!).[57] Сейчас о таком ответе царю-книгокраду, только что присвоившему «задарма» польское книгохранилище, сказали бы: «Здóрово!» Не знаю, попал ли этот эпизод в русские истории александровской эпохи, но в анналы Библиотеки Британского музея он попал.
А вот второй эпизод, еще более смелый, в еще более английском духе. В 1830 году выходит в Лондоне книга «Наблюдения над состоянием исторической литературы», написанная «острым на язык» (как его аттестуют сами англичане) антикварием, сэром Николасом. (Харрис Николас, заметьте, читатель, тоже «сэр», то есть лицо привилегированное). В этой книге он нападает на состав «опекунов» (Trustee's) Библиотеки Британского музея: «Там, где, как следовало бы ожидать, должны быть выбраны люди согласно их заслугам, нет ни одного лица, кто выделился бы в науке, в искусстве, в литературе; вместо этого они состоят из одного герцога, трех маркизов, пяти графов, четырех баронов и двух членов парламента! Это лишь добавляет к многочисленным другим примерам лишнее доказательство того пренебрежения (neglect), с которым относится к гению британское правительство».[58] Дело не только в том, что «острый на язык англичанин» замахнулся на консервативные порядки в национальной библиотеке. А в том, что и сейчас цитируются его слова с великим удовольствием и одобрением в официальном историческом очерке библиотеки, написанном ее сотрудниками тоже большей частью «сэрами».
Еще несколько слов — уже о сегодняшнем своеобразии всего, связанного с библиотекой. Всякий раз, когда в тихой Рассел-стрит вырастало передо мной за чугунной решеткой величественное здание Британского музея, я поражалась цыганской панораме вокруг него. У самого входа, на ступенях лестницы — толпятся десятки приезжих, главным образом молодежи, — с фотокамерами, чемоданами, рюкзаками. Копошатся, двигаются наподобие голубиной стаи, читают газету, часами сидя вдоль стен на складных стульчиках или на камнях. У входной двери в музей есть маленькая ниша с краном. Закусывая из бумажек, люди попросту подходят к крану и пьют, подставляя губы под водяную струйку. Тут же разгуливают бобби в белых перчатках, не обращая на эти «кэмпинги» у стен мирового музея никакого внимания. Никто не останавливает, не гонит молодежь, и я никогда не видела, чтоб после них оставался мусор…
Не знаю, имел ли Владимир Ильич представление об исторических английских чертах, которые я выше коротко описала, верней, о фактах, в которых эти черты проявились в истории библиотеки. Книга, мною цитированная, была издана почти полвека спустя после года работы Ильича в Ридинг-Рум. Мало кто из посетителей-туристов и сейчас знаком с нею: ведь книге этой, изданной в 1948 году, суждено скоро стать библиографической редкостью. Но самый «дух» библиотеки, ее широкое, умное гостеприимство, удивительно экономное использование пространства для удобной «укладки» ее фондов и каталогов, удивительная быстрота нахождения и вручения нужной книги читателю — все это, дважды упомянутое Надеждой Константиновной в воспоминаниях, как «удобство работы» и «прекрасно налаженная техника обслуживания»,[59] не могло не быть хорошо известно Ильичу и прочно им полюблено. Ведь и характеристика, данная библиотеке Н. К. Крупской, могла быть приведена ею только со слов самого Владимира Ильича.
Добавлю еще, что и особая любовь Ленина к Лондону в немалой степени вызвана была качествами библиотеки. А что за все время двух своих эмиграций он неизменно предпочитал Лондон, расставался с ним тяжело и нехотя, известно из писем и воспоминаний. Во вторую эмиграцию, как уже рассказано читателю, он попросту «сбежал» из Женевы в Лондон (в 1908 году), чтоб свыше месяца в Библиотеке Британского музея изучать книги по философии для «Материализма и эмпириокритицизма». А в конце первого пребывания в Лондоне, весной 1903 года, когда Плеханов настаивал и настоял на переброске печатания «Искры» в Швейцарию, Ленин настойчиво этому противился.
«Недаром я один был против переезда из Лондона»,[60] — писал он Алексееву, жалуясь на тяжелую атмосферу, сложившуюся для него в Женеве.
7
Когда я только еще во вкус входила своих чтений в библиотеке, мистер Фэйрс, не забывавший меня, поднес мне драгоценный подарок. Это были фотографии с пяти документов из «Департамента печатных книг» музея, связанные с работой Ленина в Ридинг-Рум. Правда, три документа были уже опубликованы у нас в 1957 году, известны они и по книге В. М. Семенова «По ленинским местам в Лондоне», — и все же осталось кое-что новое в них, о чем можно было бы поразмыслить.
Перепишу их для читателя такими, какими они лежат сейчас передо мной.
21 апреля 1902 года, то есть почти сразу же по приезде в Лондон, Ильич подает прошение директору Библиотеки Британского музея о выдаче ему билета для занятий в читальном зале. Он пишет, что приехал из России для изучения земельного вопроса. В свое прошение он вкладывает рекомендательное письмо от генерального секретаря Всеобщей федерации профсоюзов И.-Х. Митчелла. Своим тонким, необыкновенно ясным и разборчивым почерком Ильич пишет по-английски, строго в общепринятой форме обращения и подписи (см. рис.):
30. Holford Square. Pentonville W. C.Sir,
I beg to apply for a ticket of admission to the Reading Room of the British Museum. I came from Russia in order to study the land question, I enclose the reference letter of Mr. Mitchell.
Believe me, Sir, to be Yours faithfully.
Jacob Richter.April 21. 1902.
To the Director of the British Museum.[61]
Проходит целых три дня. Большой срок для английского обычая отвечать тотчас же. Почему такая задержка? Приложенная к заявлению Ленина рекомендация И.-Х. Митчелла как будто в порядке. Вот она, днем раньше написанная:
April, 20
Dear Sir,
I have pleasure in recommending Mr. Jacob Richter LLD. St. Retersburg for admission to the Reading Room. My friend's purpose in desiring admission is to study the Land Question.
I trust you will be able to comply with this request. Yours truly
I. H. MitchellGen. Secretary General Federation of Trade Unions (дальше неразборчиво)
168, Temple Chambers Templ…[62]Повторяя просьбу своего друга Якоба Рихтера о допущении его к чтению в Ридинг-Рум, Митчелл добавляет к имени Рихтера три буквы, означающие доктора юриспруденции, члена высоко чтимой в Англии корпорации юристов. Повторяет он и причину просьбы — изучить земельный вопрос. Почерк Митчелла довольно небрежен, а чин и адрес проставлены под самым письмом почти неразборчиво. Но причина задержки ответа дирекции не из-за этого. Заявления и рекомендации обычно требуется сопроводить не только служебным, но и своим личным адресом. Тут-то и оказалось «слабое место».
23 апреля он снова дает Ильичу рекомендацию, на этот раз сугубо официальную, не на бумажке с небрежным и неразборчивым почерком, а на печатном бланке федерации, не от руки, а на машинке, с печатью тредюнионов, изображающей двух мастеров в центре круга, с каким-то рабочим орудием в руках, и сам объясняет задержку:
General Federation of Trade Unions
Chief Office: 168–170,
Temple Chambers Temple Avenue
London, April 23d 1902
Sir,
With reference to my recommendation of Mr. Richter for admission to the Reading Room, the difficulty no doubt arises through the street where I reside (Voltaire Street Clipham) being only recently buitl, and may not yet be in the Directory. I now desire to repeat the recommendation from the above address. Here again however you may not find it correct: in the Directory as prior to December 1901 the address was 40 Bridge House, 181 Queen Victoria Str. E. C.: that address will be found in the Directory.
Trust this may be satisfactory.
Yours truly I. H. Mitchell[63]Получив новую рекомендацию от Митчелла, Владимир Ильич препроводил ее в дирекцию со своим вторым письмом 24 апреля:
Sir,
In addition to my letter and with reference to Your information N 4332 I enclose the new recommendation of Mr. Mitchell.
Yours faithfully Jacob Richter24. April 1902.[64]
А 29 апреля, спустя неделю после поданного заявления, Ленин пошел получать свой билет, приготовленный для него еще 25 апреля. Кроме него, получившего в этот день билет вторым по счету, первым, точней первой, расписалась Изабелла Мэри Гербель, жившая на Монтэгю-стрит, в Блумсбери, рядом с Британским музеем, а третьим, вслед за Ильичем, — Теодор Трэси Норгэйт. Они обязались соблюдать директивы читального зала и дали заверение, что им «не меньше двадцати одного года» — возраст, с которого стали допускать в библиотеку вместо прежних двадцати пяти лет.
Что же вычитывается из этой канцелярской переписки, помимо прямого ее смысла? Прежде всего более подробный адрес Ильича. До получения подарка от мистера Фэйрса я имела из мемуарной литературы только общее указание: жил недалеко от станции Кингс-Кросс. А вот, оказывается, сам Ленин написал свой адрес с абсолютной точностью: не так уж близко, в стороне от Кингс-Кросс, в доме № 30 по Хольфорд-сквер, в районе Пентонвильской тюрьмы. Это уже точное указание, и Ленин словно придвинулся, стал осязаемым, стал увиденным по достоверному месту жительства.
Во-вторых, что там ни говори, а в Лондоне шестьдесят пять лет назад можно было жить под любым именем и работать в государственной библиотеке, не предъявляя паспорта. Замечательно, что и сейчас, даря мне снимки с документов и показывая приблизительное место, где сидел Ильич, мистер Фэйрс совершенно просто, мимоходом, как нечто обыкновенное и отнюдь не предосудительное, упомянул, что Ленин «жил в Лондоне под фамилией Рихтера». Жил — и никто его не беспокоил.
В-третьих, тут, может быть, я слегка фантазирую, объясняя не совсем обычную манеру Владимира Ильича в английском написании буквы «и». Дело в том, что столбик английской буквы «и» (I) равносилен у нас прежнему русскому написанию так называемой «и с точкой», а в своем гордом прямолинейном одиночестве означает у англичан местоимение личное — «я». И пишется это «я» («ай») англичанами всегда с большой буквы, в то время как «вы» — второе лицо, вежливо проставляемое у нас с большой буквы (Вы), у англичан пишется с маленькой. Но навязчивый столбик «ай» не только пишется заглавною буквой, а и не может быть заменен в английской речи одним глаголом без «я», как у нас: «прошу», «говорю», «хочу». По-английски надо обязательно сказать: «Я прошу», «Я говорю», «Я хочу»; и в рассказе от первого лица это «Я» перед многочисленными обозначениями действия всегда торчит, как частокол, предваряя глаголы и надоедая своим повторением. Но пропускать и не писать его было бы в английском языке простой неграмотностью, и Ленин не мог убрать или уменьшить число своих «я» из коротенького письма. В первом же заявлении, состоящем из семи строк, ему пришлось употребить его три раза и притом не в середине (как бы мимоходом), а в самом начале речи: «Я прошу», «Я приехал», «Я включаю».
И вот теперь я подхожу к той маленькой странности Ильича, о которой упомянула выше. Дело в том, что «и с точкой» пишется с точкой лишь в маленькой букве, а когда она большая, то есть заглавная, ставить над ней точку не принято. Я не видела нигде и никогда ни в одном европейском факсимиле (автографе), чтоб кто-либо ставил над заглавной латинской буквой «и» (столбиком, похожим на единицу) неожиданно крепкую и явственную точку. Англичане пишут свое «Ай» — «Я» — всячески: большим рогом, хлыстом, полукружием, даже всякими закорюками и завихрениями, — но никто, нигде и ни разу, судя по личному моему опыту, не поставил над своим большим заглавным «и» точку. А вот Ильич в своих заявлениях директору Британского музея, красиво опуская заглавное «ай» под строку, всюду возносил над его головой отчетливую, крепкую, маленькую черную точку — i. Это удивительно, потому что до Ленина этого никто не делал. Каюсь, для меня, когда думаю и пишу о Ленине или когда его читаю, нет мелочи даже в самомалейшей мелочи. Все хотелось бы объяснить, понять, свести к целому. И тут мне начинает казаться: может быть, выросшее английское «Я» смущало Ленина, доставляло ему чувство неловкости, тем более, когда приходилось «вы» писать с маленькой буквы? Может быть, твердо, с нажимом ставя свою точку над этой вознесенной головой «Я», Ильич хотел поставить его в строй остальных слов фразы, как бы несколько приравнять его к остальному алфавиту маленьких букв?
Когда я поделилась моей догадкой с одним знакомым товарищем в Лондоне, он ответил: «Ну уж это вы принялись фантазировать». Хорошо. Если это совершеннейший плод фантазии, то почему же, почему во втором своем заявлении (от 24 апреля) Ильич, отлично знавший правила английской орфографии, взял да и написал (посмотрите сами!) слово «вашему», никогда не пишущееся англичанами с большой буквы, именно с заглавной, соблюдая русскую манеру:
«…to Your information»
«к Вашему сведению» —?!!
Можно тут увлечься и написать с три короба о механизме привычек в момент писания, хотя Ильич всегда отлично сознавал, что делает, но это ведь не объяснит явно не случайной, постоянно повторяющейся, отнюдь не общепринятой, а, наоборот, присущей только ему одному манеры ставить с нажимом черную точку везде над заглавной буквой «И», умаляя личное «Я» и вежливо относясь к «Вы».
8
Что же еще можно вычитать из подаренных мне мистером Фэйрсом документов? Самое главное: цель занятий Ленина в Ридинг-Рум. Он написал о ней очень точно: приехал из России, чтобы заняться изучением земельного вопроса; и Митчелл в своей рекомендации подтвердил, что Якоб Рихтер намеревается читать в библиотеке по земельному вопросу, только, как истый англичанин, снабдил эти два слова заглавными буквами.
Начало двадцатого века, время первой эмиграции Владимира Ильича, было для него очень напряженным, а для читателей произведений Ленина, писанных в те годы (1901–1903), исключительно интересным. Напряженным оно было, как у бойца передового фронта в момент боя: атакуя и отражая атаки на все четыре стороны, Ильич страстно боролся с приверженцами стихийной практики, — «экономистами» «Рабочего дела»; с левацкою фразой тех, кто получит позднее название ликвидаторов; с правеющими все более и более плехановцами, будущим лагерем «меньшевиков»; и с опасным дилетантизмом эсеров, бесшабашно возрождавших народничество и терроризм. Буквально мечом и стилетом сверкает проза Ленина в этих атаках. Ответственнейший момент в истории революции — создание программы молодой русской социал-демократической партии! Если мы заглянем хотя бы только в список работ Ленина, падающих на эти годы, мы увидим, как он бьется за точность теории, за выковку основных теоретических положений — в борьбе с бесконечными, осаждающими его со всех концов уклонами. Подобно скале среди встречных бурунов, встает его капитальный труд «Что делать?», казалось бы, сотканный из полемики «текущего момента», а на самом деле незыблемый во все времена, удивительно злободневный и для нашего времени. Свыше восьми статей «Материалов к выработке программы РСДРП». Огромное количество писем, ответов на письма, небольших статей в «Искре». «Аграрный вопрос и „критики Маркса“»; «Аграрная программа русской социал-демократии»; конспекты лекций «Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России». Наконец, брошюра «К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы», — около двухсот тридцати пяти убористых страниц только об одном аграрном вопросе. И уже по заглавиям можем мы догадаться, как много читал Ленин по аграрному вопросу и что именно мог заказывать в Библиотеке Британского музея.
Он подходил к своей теме очень широко. Всю западную литературу требовалось привлечь, чтоб показать положение земельного вопроса на Западе и у нас; отношение к нему марксистов на Западе и у нас; критику Маркса на Западе и у нас. Как всегда бывает у подлинного творца, вершиной этих огромных знаний, огромного чтения с карандашом в руках (как читал Ильич), глубинного освоения темы, рождается простота, солнечная простота, несущая в себе все краски спектра слиянно, — брошюра, адресованная простому малограмотному и вовсе не грамотному читателю — русскому крестьянину. Надежда Константиновна пишет: «Из работ, которые не нервировали Владимира Ильича в Лондоне, а дали ему известное удовлетворение, было писание брошюры „К деревенской бедноте“».[65]
Чтоб правильно понять всю ярость борьбы Ленина в те годы (1901 1903), нужно хорошо помнить лицо и суть направлений (или уклонов), с которыми он боролся, и поэтому ясно видеть, чем они грозили развитию революции на Руси.
Термин «экономисты» неудачен. Ленин принимал его с оговорками и ставил в кавычках. Дело в том, что слова «экономист», «экономизм» ассоциируются в головах у читателей с чем-то кабинетным, книжным, теоретичным и уважающим теорию. А на деле было как раз наоборот. «Экономистами», группировавшимися вокруг «Рабочего дела» и «Рабочей мысли», были те, кто считал главным практическую борьбу за экономические требования рабочих и шел в хвосте стихийного развития рабочего движения. По самой своей цели «экономисты» суживали деятельность революционера в России. По самой своей узости они ставили во главе движения кустарничество рабочих масс, действия самих рабочих, стихийные вспышки и стачки. Словом, все, что ограничивалось борьбой за улучшение жизни рабочего класса. И только. Такая узость губила все движение в целом, сводила его к буржуазному тред-юнионизму. Против такой узости Ленин метал свои молнии, подчас очень жестокие: «…на стоячей воде „экономической борьбы с хозяевами и с правительством“ образовалась у нас, к несчастью, плесень, появились люди, которые становятся на колени и молятся на стихийность, благоговейно созерцая (по выражению Плеханова) „заднюю“ русского пролетариата».[66] Не кустарничество, не одна лишь узкая борьба за лишнюю копейку от хозяев — рабочему движению надо было вдохнуть высокие политические задачи: свержение царизма, великую цель всенародного скачка из азиатского самодержавия в мир более свободных и развитых государственных форм; а для этого не плестись в хвосте у стихийности, а идти с проповедью социализма, «уметь устраивать собрания с представителями всех и всяческих классов населения, какие только хотят слушать демократа. Ибо тот не социал-демократ, кто забывает на деле, что „коммунисты поддерживают всякое революционное движение“, что мы обязаны поэтому пред всем народом излагать и подчеркивать общедемократические задачи, не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Тот не социал-демократ, кто забывает на деле о своей обязанности быть впереди всех в постановке, обострении и разрешении всякого общедемократического вопроса».[67]
Он обрушивается на тех, кого называет влюбленными в мелкое кустарничество, напоминая им о широте и героизме прошлого: «Вы хвастаетесь своей практичностью, а не видите того, знакомого всякому русскому практику факта, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности. Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах?»[68]
Он размаскировывает «экономистов» в самом главном — в неумении из-за пренебрежения к теории правильно решать даже практические задачи: «Эти люди, которые без пренебрежительной гримасы не могут произносить слово: „теоретик“, которые называют „чутьем к жизни“ свое коленопреклонение пред житейской неподготовленностью и неразвитостью, обнаруживают на деле непонимание самых настоятельных наших практических задач… это буквально такое же „чутье к жизни“, которое обнаруживал герой народного эпоса, кричавший: „таскать вам не перетаскать!“ при виде похоронной процессии».[69]
Он дает, наконец, ужасный по своей беспощадности портрет русского «экономиста»:
«Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря тред-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве, — борьбе с политической полицией, — помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь».[70]
Читаешь эти страстные бичевания — и в памяти невольно встает латинская классика, речи Цицерона против Катилины — по их построению, гневу, ледяному огню. Но Ильич — это Ильич, он не менее беспощаден к себе самому.
Выше я назвала произведения Ленина этих лет, 1901–1903, особенно интересными для чтения. Они особенно интересны потому, что Ленин, страстный полемист — в противоположность многим другим писателям-полемистам и даже в противоположность жанру литературной полемики, — с величайшей редкостью, почти в единичных случаях допускал то, что мы называем «личными моментами», — ссылку на какой-нибудь случай из собственной жизни, пример личного опыта, противопоставление себя: «а вот у меня», «а я в таких случаях», «мне приходилось» и т. д. Искать что-нибудь личное у Ленина — все равно, что искать иголку в стоге сена. По его книгам нельзя составить не только биографии, но даже хотя бы странички из его биографии. Однако в годы 1901–1903 эта поразительная скупость на все личное вдруг покидает Ленина.
Тотчас же после грозного обвинения в адрес «экономистов» он обращает это обвинение против себя: «Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе».[71] И дальше буквально пронзает читателя место, совсем непохожее на обычные страницы Ленина, место, содержащее внезапный, полностью открытый перед нами «личный момент», не защищенное ничем окно во внутренний мир Ильича:
«Я работал в кружке,[72] который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, — и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию! И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лжесоциал-демократов, которые своей проповедью „позорят революционера сан“, которые не понимают того, что наша задача — не защищать принижение революционера до кустаря, а поднимать кустарей до революционеров».[73]
В разгаре борьбы на все четыре стороны он, как мы видим, не щадит и себя, не ищет смягчающих выражений, беспощаден, свиреп на слова, бьет наотмашь. Не менее беспощаден он и к «сползающим» теоретикам — будущим меньшевикам. Плеханов в те годы — еще огромный авторитет для него, учитель. Но вот перед нами первый проект Программы партии, предложенный Плехановым. Слева — двенадцать параграфов этого проекта, справа замечания Ленина. Только два из двенадцати, очень коротеньких — седьмой в семь строк, десятый в пять строк, — остались у Ленина без критики; зато к первому параграфу Ленин делает пять замечаний, ко второму — пять, к третьему — три, к четвертому — два, к пятому — пять, к шестому — четыре, к восьмому — два, к девятому — одно (но какое!), к одиннадцатому — три, к двенадцатому — пять, — итого тридцать пять замечаний. В них поражают своей резкостью такие выражения: «весьма непопулярно, абстрактно», «к чему повторение?», «слишком узко», «надо назвать прямее. Непопулярно», — а всю десятую страницу параграфа девятого Ленин убил единственным словечком «nil» («nihil») — ничто, пустышка.[74] Можно себе представить, как обиделся Плеханов!
Необычайно поучительны сейчас для мыслителя и особенно для писателя эти страницы Плеханова с карандашными поправками Ленина. Перед нами от этих поправок плехановские страницы вдруг потухают, стираются резинкой, предстают небрежным наброском ума равнодушного, руки неряшливой, как если б для учителя русских социал-демократов содержание Программы партии не требовало особо точной формы, а было чем-то вроде официального канцелярского документа. А каждое слово Ленина — алмаз по стеклу, неоспоримый урок мастерства точной прозы. О втором варианте Программы, предложенном Плехановым, Ленин дал еще более резкий отзыв. Перечислив «четыре основных недостатка», проникающих собою весь проект и делающих его «совершенно неприемлемым», он заключает свою критику словами: «Проект постоянно сбивается с программы в собственном смысле на комментарий. Программа должна давать краткие, ни одного лишнего слова не содержащие, положения, предоставляя объяснение комментариям, брошюрам, агитации и пр.».[75]
Если Владимир Ильич не мог, борясь за точность формулировок, пощадить даже Плеханова, можно представить себе, как не щадил его алмазный резец многословия и пустословия вокруг важнейших вопросов теории. Казалось бы, борьба с какими-то миллиметрами. Но проводится водораздел между теми, кого поздней размежует съезд на большевиков и меньшевиков. «От упрочения того или другого „оттенка“ может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет», — писал Ленин в «Что делать?» еще до переезда в Лондон.[76] Тот или иной «оттенок» мог просочиться в программу в одном-единственном слове, как это было, например, со словечком «выкуп» в споре, возвращать ли крестьянам «отрезки» с выкупом или без выкупа. В ранней моей юности, еще подростком, мне довелось в дачном вагончике швейцарской железной дороги услышать этот яростный спор между соседями двумя русскими эмигрантами, и долго потом допытываться, что же это такое таинственные «отрезки»… Ленин всей силой логики обрушился на слово «выкуп» в «Поправке к аграрной части программы» в апреле 1902 года. Он считал, что допущение этого слова деградирует революционное значение возврата отрезков крестьянам до простой либеральной реформы. Он назвал выкуп равнозначным слову «покупка», а значит, носящим «специфический привкус пошло-благонамеренной и буржуазной меры». Он прибег к слову «пакость»: «Ухватившись за допущение нами выкупа, не невозможно испакостить всю суть нашего требования (а пакостников для этой операции найдется более чем довольно)».[77] Вчитайтесь: одно только «допущение» (а не прямой закон о выкупе), в результате которого одна только «не невозможная» (вместо «возможная» или «неизбежная») порча программы — иначе сказать, одна лишь щель для проскальзывания «оттенка» в программу — может повлиять на всю дальнейшую судьбу русской социал-демократии!
Я привожу все эти примеры, потому что за «словесной» борьбой стояла жизненно важная ленинская борьба, — как говорится, не на жизнь, а на смерть — за бытие социализма на Руси. Весь лондонский период жизни Ленина прошел в этой борьбе. Но, кроме леса «уклонов», среди которого приходилось ему прорубать дорогу, стеной наступали на Ильича личные на него нападки. Человека, вошедшего в нашу эпоху безмерно деликатным и скромным, чутким и добрым, простым и равным — и любимым за это как никто другой на земле, этого человека в чем только не обвиняли! В антидемократизме, догматизме, насилии над чужим мнением, желании диктаторства, зажиме критики, «литературщине»[78] и даже horribile dictu[79] — в создании культа своей персоны! Но на личные нападки Ильич отвечал почти равнодушно и даже с иронией. Когда кто-то спросил у него, что представляет собой группа «Борьба», он ответил репликой в «Искре», что это бывшие сотрудники «Зари», несколько статей которых редакция отклонила. Тогда они выступили в печати, «жалуясь на наш „недемократизм“ и ратуя даже… против Personencultus! Как опытный человек, вы уже из одного этого, бесподобного и несравненного, словечка поймете, в чем тут суть»,[80] — пишет Ильич и отсылает своего корреспондента посмотреть относительно «демократизма» в «Что делать?». Кстати сказать, «Personencultus»[81] — словечко немецкое. Переведя его у нас как «культ личности», мы лишили это слово его более узкого и мелкого смысла. В точности оно означает «персональный культ». Это далеко не совпадает со словом «личность», имеющим в нашем понимании более положительный и глубокий смысл, чем «персона», которая может и не быть личностью, а претендовать на культ по своему служебному положению. Применение этого немецкого словечка к Ленину было не только оскорбительно — оно было смешно по своей нелепости. Вот почему Ленин иронически назвал его «бесподобным и несравненным». Но личные нападки не могли все же, вплетаясь в идейную борьбу, не запутывать этой борьбы, не изводить и не мучить его. «Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью — „священный огонь“, которая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов»,[82] писала в конце лондонского периода Надежда Константиновна.
И все же, опять повторяю, Ленин любил Лондон, любил свое пребывание в Лондоне, свой стол в Библиотеке Британского музея, за которым так отчеканенно-ясно, так легко писалась его работа «К деревенской бедноте» сгусток почти годового чтения «по земельному вопросу». Когда вся группа «Освобождение труда» во главе с Плехановым стала настойчиво требовать перенесения «Искры» в Женеву и всеобщего переезда в Швейцарию, Ленин долго сопротивлялся. Он не хотел переезжать из Лондона в Швейцарию. И до самого конца «один только Владимир Ильич голосовал против переезда туда».[83]
9
«Личные моменты» в произведениях Ленина особо заметны как раз в этот лондонский период. Они помогают понять ту внутреннюю диалектику его писаний, какая попросту ускользает от читателя, прошедшего через старые формы нашей обязательной партучебы. Была у нас такая «выборочная» манера «задавать» Ильича кусками: не всю книгу, а «от — до». Работы Ленина делились для нас на места «более важные» и «менее важные», и читать надо было только самые важные — отмеченные группы страниц, иногда отдельные страницы книги и даже отдельные абзацы в страницах. Мне, например, казалось, что я наизусть знаю «Что делать?» — еще бы: «сдала на экзамене» (слово-то какое: «сдать»!). Но, прочитав перед занятиями в лондонской Библиотеке Британского музея тома 5-й и 6-й четвертого издания, убедилась, как эта особая внутренняя ленинская диалектика вся ушла сквозь пропущенные школьной партучебой страницы, словно рыба через слишком большие ячеи рыбачьей сети.
Особое, не всегда и не всем заметное качество произведений Ленина это, как я считаю, диалектическое соотношение знака времени и места, то есть фактора сугубо исторического, который нельзя отнести или применить ни к какому другому времени и месту без искажения его смысла, — и фактора абсолютно истинного, предельно правильного, который будет истинным и правильным в применении к любому времени и месту. Казалось бы, например, сугубо исторично все то, чего требовал Ленин от своих товарищей, оставшихся в России, в цитированном мною выше лондонском письме Ф. В. Ленгнику «Несколько мыслей по поводу письма 7 ц. 6 ф.», написанном вдобавок «не для печати». Но вот же формула «do ut des», извлекаемая из слов, взятых Лениным в скобку и как бы отделенных этим от текста: «(Никто и никогда ничего вам не даст, ежели не сумеете брать: запомните это)», как я уже показала читателю, носит вневременный, абсолютный характер.
В том же письме, кстати, есть еще одна драгоценная ленинская мысль, далеко выходящая за пределы времени и места и, к сожалению, совсем не обратившая на себя внимания наших издателей и редакторов. С течением лет мы всё ускоряем процесс погони за новыми авторами и новыми книгами старых авторов, считая как будто духовную пищу совершенно адекватной пище кулинарной, где свежесть продукции — требование каждодневное. Революционеры в России в самом начале века (1901–1903) тоже требовали от Ильича новых и новых брошюр новых и новых авторов, они называли то, что им шлют из-за границы, «старьем». Ильич яростно отвечает, опять же отделяя свои слова от общего текста тем, что опускает их в сноску:
«Это старо! — вопите вы. Да. Все партии, имеющие хорошую популярную литературу, распространяют старье: Геда и Лафарга, Бебеля, Бракке, Либкнехта и пр. по десятилетиям. Слышите ли: по десятилетиям! И популярная литература только та и хороша, только та и годится, которая служит десятилетия. Ибо популярная литература есть ряд учебников для народа, а учебники излагают азы, не меняющиеся по полустолетиям. Та „популярная“ литература, которая вас „пленяет“ и которую „Свобода“ и с.-р. издают пудами ежемесячно, есть макулатура и шарлатанство. Шарлатаны всегда суетливые и шумят больше, а некоторые наивные люди принимают это за энергию».[84]
Тоже как будто о конкретном случае времени и места. Но оглянемся, призадумаемся: пятьдесят лет жизни, как минимум, для брошюр, для учебников… Ну, а вершины советской литературы, сумевшие запечатлеть азы новой жизни общества, — разве не стали они сейчас недоступной редкостью, затопляемой все новой и новой литературой? И разве долгая жизнь одной хорошей книги старого автора, как пламя костра поддерживаемая переизданиями, не лучше, чем десять менее ценных, менее удачных книг новых авторов? Я, может быть, преувеличиваю, но процесс освоения хорошей книги не тысячью-другой читателей, а миллионными народными массами, был, несомненно, дороже Ленину, чем непрерывная погоня за новым и новым, неусвояемым, недолговечным, «макулатурным».
Освоение — процесс творческий. Он не должен, не смеет стать механическим. Вспоминается мне первое наше знакомство с Лениным, задолго до сложившихся форм партучебы. То были годы выхода первого издания его сочинений, в еще очень бедных, светло-палевых, гнущихся под руками обложках. Помню, когда раскрылись передо мною эти тома, я испытала не то страх, не то разочарование: все в них мне показалось движущимся, возражающим, отвечающим на возражения — сплошь полемическим, и только полемическим, и, честно говоря, я не знала, как это все уляжется в моей голове, да и как за это попросту взяться. Закончив в дореволюционное время историко-философский факультет, где главными моими учителями были идеалист Челпанов и юмист Н. Д. Виноградов, я привыкла видеть истины неподвижными, как звезды в ночном небе, все равно, даются ли они абсолютными у идеалиста или предметом для сомнения у скептика. Но тут «небо в звездах» закружилось над моей головой, мысли в ней сталкивались, как отраженные от удара мечом, рождались от других таких ударов, и было неизвестно, существуют ли они сами по себе, вне ударов и без ударов о чужие мысли, есть ли вообще абсолютные утверждения в сплошной полемике, как их искать, где их искать, что это за метод — полемически раскрывать перед человечеством новую систему?
И вот, очутившись впервые перед полемической манерой Ленина, я решила — с нахальством новичка — «оправдать» ее перед собой, ища какое-нибудь сравнение с прошлым, с классической философией. Мне уже было известно (и страшно нравилось!), что Ленин любил классическую латынь (мне тоже пришлось в свое время «сдавать» латынь и греческий), а кто-то из писателей, кажется, Сергей Третьяков, нашел даже в прозе Ленина сходство с латинским синтаксисом. И тут вдруг «звезды в небе» перестали надо мной кружиться и остановились. Я вспомнила Платона. А Федр, а Феэтет, а Симпозион, а Федон, а Тимей Платона, из которых человечество извлекло позднее стабильные истины, — разве они не были диалогами, ударами меча о меч, вопросами и ответами? А любимые мною «Беседы о торговле зерном» аббата Галиани, — разве не были они на границе диалектического материализма своими полемическими зигзагами вопросов и ответов? Разве в поэзии не выросла трагически из полемики человека с дьяволом, Мефистофеля с Вечно-Женственным, бессмертная вершина человеческой мысли — «Фауст» Гёте? Тот самый «Фауст» Гёте, томик которого, единственный из художественной литературы, кроме еще стихов Некрасова, взят был Ильичем в далекий путь своей первой долгой эмиграции? И вообще разве полемика — не главный метод для оттачивания своей истины, своей философской позиции с древнейших времен? Так, подкрепив себя Платоном, Галиани и вечной своей любовью к Гёте, я стала вчитываться в первое издание Ленина, со страницы на страницу, подбирая искорки от ударов его меча, выписывая их для памяти. И только многие годы спустя научилась понимать звезды-искорки в их глубокой связи с целым — со всем, что писал Ильич.
Я говорю с читателем откровенно, потому что лишь так можно говорить о чтении Ленина. В те годы, двадцатые, мы все были смелее в своем мышлении, и не только наедине с собой. Это были священные для меня годы глубокого увлечения молодежи и людей моего возраста теорией. Красота и увлекательность теорий была огнем, пожиравшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в специальных школах, какой была, например, Плановая академия, куда я поступила, чтоб переучиваться. Изумительная, музыкальная прелесть второго тома «Капитала» Маркса поглощала меня вечерами, как никакое другое наслаждение от искусства. Диалектический материализм в «обращении капитала» воспринимался как художественный, как фуги Баха. На кафедре математики читала в то время лекции профессор Яновская, а мы бегали слушать ее и пьянели от изложения математических тетрадей Маркса, где Маркс бросил мысль о «нуле», как не о нуле, потому что, если б ноль был только ноль, от него невозможен был бы переход к единице… Больно и жалко видеть, как далеки многие из современных молодых людей от этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!
Но виноваты в этом отчасти мы сами. Научить человечество мыслить по-новому, раскрыть перед ним все безмерное богатство идей Ленина — дело великого умения и великого горения. Есть времена, когда теория, всякая теория, мертвеет, слеживается в догму, превращается из яркого, пронизанного жизнью учения в сухой и черствый катехизис; есть времена, когда начетническое, неумное и равнодушное, слепое и начальственное отношение к теории, как к оружию для тормоза мысли, вызывает резкую ответную реакцию у людей и особенно у молодежи — против всякой теории, за стихийное «нутро». А у нас в России соблазны «нутра» всегда были особенно сильны. Они принимали формы бакунианства, эсеровства, анархизма, терроризма, нечаевщины, ухода с головой в практику, какой вырождается в «проповедь мелких дел», в тред-юнионизм, в постепенное схождение самого действия на нет, к положению, когда «гора родила мышь». И, наконец, еще хуже, еще опаснее: ухода в западные идеологии бессознательного и подсознательного, эти психологические синонимы стихийного.
10
Ставить знак равенства между подсознательным, бессознательным и стихийным может на первый взгляд показаться неверным или необоснованным. Но роднит их одно: они находятся вне сознания, за скобками процесса сознания. Та «внутренняя диалектика» в произведениях Ленина, особенно в период первой эмиграции, о которой я говорю выше, медленно подводит читателя к этому выводу.
«Что делать?» — неисчерпаемый источник мыслей — мы привыкли воспринимать как борьбу за создание организации революционеров, четко и твердо знающих теорию социализма и несущих эту теорию в массы. Но самый ход утверждений Ленина и особенности его борьбы за теорию изучались (если изучались) гораздо меньше. Между тем полное раскрытие всех логических путей мышления Ленина в этой удивительной книге, раскрытие брошенных им там и тут, как бы на ходу, идей, заключенных в сноски или скобки, могло бы, мне кажется, само по себе стать могучим философским оружием в нашем поединке с современной западной философией.
Есть один драгоценный, взятый из опыта, «личный момент» Ильича — в сноске, казалось бы, имеющей сугубо практическое значение, под текстом, тоже сугубо практическим, относящимся все к той же теме неподготовленности русского революционера к четкой организационной работе. Он, этот «личный момент», особенно близок нам, писателям.
«Как сейчас помню свой „первый опыт“, — пишет Владимир Ильич в этой сноске, — которого бы я никогда не повторил. Я возился много недель, допрашивая „с пристрастием“ одного ходившего ко мне рабочего о всех и всяческих порядках на громадном заводе, где он работал. Правда, описание (одного только завода!) я, хотя и с громадным трудом, все же кое-как составил, но зато рабочий, бывало, вытирая пот, говорил под конец занятий с улыбкой: „мне легче экстру проработать, чем вам на вопросы отвечать!“»[85]
В той же сноске он делает вывод из опыта, которого «никогда бы не повторил». Называя способ неподготовленного «внедрения в жизнь» и опроса самих рабочих «нелегальным», поскольку он запрещался и преследовался полицией, а чтение множества выходящих тогда и не запрещенных цензурой печатных книг «легальным материалом», Ленин разъясняет дальше: «…мы понапрасну тратим массу сил революционера (которого в этом легко заменил бы легальный деятель) и все-таки никогда не получаем хорошего материала, ибо рабочим, знающим сплошь да рядом только одно отделение большой фабрики и почти всегда знающим экономические результаты, а не общие условия и нормы своей работы, невозможно и приобрести таких знаний, какие есть у фабричных служащих, инспекторов, врачей и т. п. и какие в массе рассеяны в мелких газетных корреспонденциях и в специальных промышленных, санитарных, земских и пр. изданиях».[86] Значит ли это, что не надо «внедряться в жизнь», а лучше изучить вопрос по книгам? Нет, конечно. Необходимо и то и другое. «…следовало бы собирать и систематически группировать легальный и нелегальный материал».[87] Но слово «легальный» Ленин подчеркивает, и это к нему он пишет приведенную мной выше сноску, давая читателю заглянуть в интимный уголок своей памяти, где невольно заговариваешь от первого лица.
«Легальный», то есть печатный, материал Ленин выделяет и подчеркивает не потому, что считает его более важным, а потому, что «экономисты», с которыми он яростно спорил в «Что делать?», на первое место для революционера ставили стихийные движения самих рабочих, практическую борьбу их за лучшие условия труда, и отсюда естественно вытекал неизбежный эмпиризм «экономистов», снижение ими значения теории, малая теоретическая подготовка, иронический попрек «книжностью» в сторону Ленина и ленинцев. Подчеркнутое Лениным слово «легальный» означало не преимущество книги перед «опросом рабочих», а недостаточное внимание к книге у «экономистов», увлеченных потоком «стихийности» и «практицизма»: «…мы особенно отстали в умении систематически собирать и утилизировать его»,[88] — пишет Ленин о печатном материале в том же тексте. Опять это скромное, человечное, ленинское «мы», приписывание общего недостатка и себе, хотя сам Ильич еще в тюрьме и в далеком Шушенском настойчиво запрашивал и читал всевозможные статистические сборники, поглощен был этим «легальным материалом» и, главное, блестяще умел его классифицировать и использовать.
Но не только на книгу, как на источник общего, подготовительного знания перед «внедрением в жизнь», указывает Ильич «экономистам». В полемике с апологетами нутра и стихийности он напоминает им, что ведь теоретическое рождение социализма возникло отнюдь не из стихийности революционного движения, — социализм привнесен этому движению извне; и не самими рабочими, а мыслящей интеллигенцией и даже — Ленин не убоялся сказать — «буржуазной» интеллигенцией, поскольку никакой другой тогда еще не существовало.
«Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции».[89]
Высокую роль революционной интеллигенции как носительницы сознания Ленин подчеркнул в ответ на принижение роли теории у своих противников.
Казалось бы, спор этот носил чисто политический характер, исчерпываясь теми положениями, какие мы заучивали в нашей обязательной партучебе. Но присмотримся, прислушаемся, углубимся в читаемое. Ленин страстно спорит. Он наносит удары. И вдруг он останавливается и останавливает нас в чтении, целиком приводя главное обвинение противника против себя самого. Он не только приводит целиком это главное обвинение. Он его подчеркивает. Вчитайтесь, как вчитался в него сам Ленин:
«Обвинительный тезис „Рабоч. Дела“ (органа „экономистов“! — М. Ш.) гласит: „преуменьшение значения объективного или стихийного элемента развития“».[90] До сих пор «стихийность» противопоставлялась «экономистами» всем теоретическим формам сознательности. Но тут, в этой главной формуле обвинения против Ильича, его противники отождествляют «стихийность» уже с «объективным элементом развития». Стихийность становится самою природой, жизнью, приматом, а значит, чем-то противоположным сознанию. На одном полюсе — «субъект», «сознание», на другом — бессознательное, природа, объективный элемент развития.
Может быть, именно слово «объективный», отождествление стихийности рабочих масс с самой природой, с объектом — и остановило внимание Ильича настолько, что заставило привести все обвинение и подчеркнуть его. Понятие «объективный элемент развития», противостоящее сознательности, переводило спор из пределов конкретной политики в область чистой философии.
Но почему я пишу «Ленин остановился, Ленин останавливает нас у этого обвинения»? Потому, что приведя его, Ленин говорит:
«Мы скажем на это: если бы полемика „Искры“ и „Зари“ не дала даже ровно никаких других результатов, кроме того, что побудило „Р. Дело“ додуматься до этого „общего разногласия“, то и один этот результат дал бы нам большое удовлетворение: до такой степени многозначителен этот тезис, до такой степени ярко освещает он всю суть современных теоретических и политических разногласий между русскими социал-демократами.
Вот почему вопрос об отношении сознательности к стихийности представляет громадный общий интерес, и на этом вопросе следует остановиться со всей подробностью».[91]
Мы присутствуем тут при яркой вспышке той самой звездной искры удара меча о меч в полемике, когда проблема конкретного спора переходит в общую сферу философии, теряет знак исторического времени и места. Ленин охвачен «громадным общим интересом». Он считает, что «на этом вопросе следует остановиться со всей подробностью». И он останавливается. Стихийность не есть статика; стихийность — понятие динамическое. Стихийное движение рабочих масс — это переход от статики бессознательного, внесознательного в некий вид динамики. И Ленин как бы охватывает мыслью всю историю революционных рабочих движений в России от первых вспышек 60-х и 70-х годов. Тогда рабочие в знак протеста еще только «стихийно» бунтовали, разбивая и калеча орудия производства, машины; но стачки 90-х годов, когда сознание рабочих выросло, — это уже не бунты, а значительный шаг вперед в истории рабочего движения. Такой экскурс в прошлое понадобился Ленину как разбег для оформления гигантской мысли, общей мысли, абсолютное значение которой в полной своей мере раскрывается в наше время:
«Это показывает нам, что „стихийный элемент“ представляет из себя, в сущности, не что иное, как зачаточную форму сознательности».[92]
Знак времени, места, обстоятельств полемики отпадает в этой гениальной формуле, потому что Ленин пишет «в сущности», он говорит о существе предмета. Стихийность, движение бессознательного к действию, не противостоит сознанию. Оно не объект, а лишь начало субъекта, — стихийный элемент — это лишь зачаточная форма сознательности! Можно десятки диссертаций написать на эту формулу, заключенную Лениным в три строки.
11
Обернемся на Запад. Развитие философской мысли на Западе шло в последние десятилетия все к большему и большему утверждению стихийно-бессознательного начала. Когда прочитываешь новые философские работы, начиная с Бергсона, развитие человечества начинает казаться графиком перехода от «беспомощного» разума, ставшего как бы уже бесплодным, к неразработанному богатейшему океану бессознательного, «грядущему дню» философии. Тем же путем развивается западное искусство. В нем воцарился Фрейд. Что такое фрейдизм? О нем много писалось и пишется. Пытались писать и у нас. Не сказано было только самое главное: фрейдизм это вынесение на свет божий того, что великий инстинкт самосохранения человечества сумел тысячелетиями подавлять, вырабатывая предохранители в виде тормозов моральных, запретов юридических и ужаса физиологического перед недозволенным, грешным, чудовищным, приводящим к дегенерации рода человеческого. Раскопав в глубине человеческой психики атавистические отростки древних эмоций, связанных с кровосмесительством («эдипов комплекс»), загнанные в самую глубь беспамятства, Фрейд как бы одним взмахом свел на нет работу тысячелетий над самосохранением биологического вида человека — высшего создания природы, homo sapiens. И это вынесение на свет божий того, что человечество сумело, руководясь самосохранением, подавить, сделалось у Фрейда предметом изучения, провозглашено прогрессивнейшим, самоновейшим методом самопознания и психотерапии. Развязывание «подсознательного» — это, может быть, самая горькая и обесчеловечивающая нас катастрофа современности. Она приводит и к тому разорванному беспорядку в логике формы, какой стал обычной манерой крайнего западного искусства, и мнимо побеждает своей «стихийностью» опороченное временем ratio; логику разума. Мнимо — потому, что даже у гениальных творцов, соблазненных Фрейдом, таких, как шведский режиссер Ингмар Бергман, в итоге их творческих усилий жизнь обнаруживает не бездонность, а близкое дно, не стихийность, а худосочие обнаженной сексуальности, ее быструю исчерпываемость, ее безбудущность. Эта безбудущность характерна в самых сильных вещах современного искусства.
Бессознательное не бездонно. Оно не противостоит разуму, не имеет своего собственного «будущего», оно лишь почва для роста сознания, «зачаточная форма» сознания. Считать «бессознательное» особым, отдельным качеством психики, существующим вне разума, — огромная ошибка, новый вид того самого вечно меняющего окраску и форму хамелеона «идеализма», с которым всю жизнь боролся Ленин. Вот это и раскрывается в его простой и ясной формуле, в его удивительно здоровой, жизненной философии.
Но как же сам Ленин? Ведь были же другие времена и другие обстоятельства, где сам Ленин восставал против избытка рассудочности и теоретичности, где он цитировал знаменитый стих Гёте:
Сера, друг, всякая теория И вечно зелено дерево жизни.В том-то и весь секрет. Бессознательное, стихийность не есть прогрессивный результат развития бытия и мышления, «океан будущей философии», как это представляется некоторым философам и художникам на Западе, а только младенчество, утренняя пора, исток, зачаточная форма сознательности, по Ленину, и возвращаться к ней временами есть диалектическая потребность для разума, для развивающейся сознательности, как диалектически необходим отдых, как необходимо было для легендарного Антея припадение к матери-Земле. Но испытывающий, эксплуатирующий, исследовательский поход в «бессознательное», или «несознательное», как в материал для будущего нашей философии, использование его как новой, более прогрессивной ступени гносеологии — значит истощение и безумный перерасход того, что является истоком и питанием для развивающейся человеческой мысли. Взгляд на «бессознательное» как на что-то, противоположно разуму существующее, как на новый потенциал для построения философских систем грозит человечеству страшной минутой худосочия, когда лопата жестко стукнет о дно, а корень засохнет под деревом и «вечно зеленое дерево жизни» перестанет быть зеленым. Бессознательное надо сугубо беречь от истощения и загрязнения, как берегут люди источники питьевой воды и младенца во чреве матери, потому что оно зачаточная форма нашей сознательности.
Ленин часто припадал к истоку жизни. Его любовь к природе, постоянная тяга к ней хорошо известны человечеству. О любви его к «бессловесным тварям», животным, любви почти детской, говорят фотографии последних лет Ильича в Горках — с котенком, с собакой. Н. А. Алексеев рассказывает: «Великолепный естественнонаучный музей в Южном Кенсингтоне не произвел на него особенного впечатления, зато лондонский Зоологический сад весьма ему понравился: живые животные занимали его больше, нежели чучела».[93] Вечное младенчество и возвращение к нему временами свойственны каждому здоровому человеку. Непосредственного ребенка хранил в себе и наш Ильич. Лучший его портрет — гениальный портрет — оставил нам Горький:
«Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно „заливался“ смехом, иногда до слез… Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви».[94]
12
Дни моего чтения в Библиотеке Британского музея подходили к концу, и я дорожила в ней каждой минутой. Но вот утром в метро, подобрав забытую кем-то газету «Дейли миррор», неожиданно вычитала, что сегодня в Сохо, на Дин-стрит, там, где сейчас ресторан «Quo vadis»,[95] предстоит большое событие. Было еще только девять часов. Событие объявлено на одиннадцать часов. Но все равно, идти в библиотеку, садиться за чтение не стоило. Я вышла из метро, взволнованная и тем, что могла бы пропустить событие, и случайностью, подсунувшей мне вовремя газету, и развернула свой справочник «От A до Z». Сохо — это совсем близко, свернуть в первый же переулок налево по Оксфорд-стрит, прямо против выхода из моей станции Тотенхем-корт-роуд. Я прошла переулком в Сохо, старый знаменитый уголок Лондона, села в скверике против церкви св. Патрика и еще раз перечитала газету.
Товарищ мой по перу, Орестов, долго разыскивал в Лондоне квартиры, где жил Карл Маркс. Он поставил вопрос о помещении мемориальной доски на одной из них. Препятствие было не во властях города. Препятствие оказалось в независимости домовладельцев от властей города. Без согласия этих домовладельцев на стенах их домов нельзя было ничего вывешивать. Маркс жил во многих местах. Один за другим домовладельцы, где были его квартиры, отказывались «портить фасады». Согласился только ресторанчик, над которым в верхнем этаже Маркс снимал квартиру несколько лет подряд, где он писал «Капитал», где потерял двух своих детей. Сегодня и предстояло открытие мемориальной доски на фасаде этого дома, Дин-стрит, 28.
Долго высидеть в скверике Сохо было невозможно. Всего несколько шагов вело из него, по переулочку, на Дин-стрит. А когда я очутилась на Дин-стрит, сразу же увидела нужный дом. Ресторан под названием «Quo vadis» занял весь первый этаж. Его большие окна были парадно начищены, столики за ними в новых белых скатертях. На порог то и дело выскакивали официанты — не вылощенные джентльмены в форменных кителях, а что-то, как мне показалось, отчасти даже русское, опоясанное чем-то вроде фартуков, любопытные, молодые, быстроглазые парни.
К одиннадцати весь тротуар, всю улицу перед домом запрудили люди. Наверху, между вторым и третьим этажами, раскачивалась под ветром небольшая занавесочка, от которой вниз спускалась веревка. Толпа потеснилась. Пожилой человек прошел к стене ресторана. Это был профессор Андрью Ротштейн, хорошо знакомый советским людям директор Библиотеки-музея имени Маркса в Лондоне. Засуетились фотографы, нацелились фотокамеры Андрью Ротштейн дернул веревку, занавеска свернулась, и мемориальная доска, небольшая, круглая, с именем Маркса, годами его рождения и смерти и годами проживания здесь, открылась очень скромно, совсем не импозантно, даже не особенно разборчиво в надписи. Полилась английская речь профессора, очень внятная, очень доступная тем членораздельным, легко постижимым английским языком, каким говорят обычно русские, прижившиеся в Англии. Я радовалась, что слышу и понимаю, радовалась милым, незнакомым, но явно своим людям вокруг, тихому августовскому дню, тому, что попала вовремя, не пропустила и стою на улице, где когда-то тяжело ступал стареющий седокудрый создатель «Капитала», шла легкая Женни, бегали ножки их девочек…
Сблизились время и пространство. И было хорошо думать, что в центре между радиусами Дин-стрит, где жил Маркс, и Хольфорд-сквер, где жил Ленин, — совсем недалеко друг от друга — находился вечно молодой, нестареющий очаг человеческого познания, вознесенный над временами и политическими волнениями, открытый для пытливой мысли и прилежного изучения, гостеприимно встречающий своего и чужестранца, давший много счастливых часов Ленину — Британский музей с его бессмертной Ридинг-Рум.
Ноябрь — декабрь, 1967
Переделкино
Урок четвертый РОЖДЕСТВО В СОРРЕНТО
Дорогая мамочка! Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге. Двигаюсь отсюда на Капри ненадолго.
Крепко, крепко обнимаю. Всем привет. Твой В. У. Письмо В. И. Ленина матери от 1 июля 1910 года.[96]I. Генуя
1
«Доброе рождество» — Buono Natale, — как его называют итальянцы, наступает по всей Италии, да и по всей Европе, задолго до его собственной даты. Оно встретило меня уже в конце ноября, когда я спустилась из Швейцарии в Италию. Ехала я медленно, по-маленьку, с севера на юг, подолгу останавливаясь в попутных городах, захваченная, по правде сказать, совсем не этими городами, а своей большой темой, мерещившейся мне пока еще в тумане, — разрозненными цитатами, строками из чужого письма, тем притяжением случайностей, когда, как пословица говорит, — на ловца и зверь бежит. Вы глубоко задумались перед вступленьем в работу, вас крепко обняла, как страсть обнимает сердце, одна-единственная тема, пока еще вопросительная, нерешенная, совсем для вас новая, а со всех сторон, словно трава на колесо тележки, вдруг накручиваются и накручиваются подсказки, совпадения, открытия, неуклонно направляя мысль вашу к решению.
Я ходила по старинным улицам, рассеянно глядя на зазыванье витрин. Над улицами, на цветных полотнищах, огромные буквы оповещали «Buono Natale». Вечером зажигались тысячи цветных огоньков. Шла предрождественская ярмарка. Чего только не выставлялось в окнах! Крохотные деревца из марципана; громадины свечи, витые, в лентах, в блестках; переливы стеклянных шаров, гирлянды золотых цепей и волны серебристой паутины. Только деды в бороде и традиционных колпаках еще не появлялись, час их пока не пробил. Но улицы уже лихорадило этим длинным, на недели растянутым кануном праздника. Даже и то, что все было похоже на наши собственные елочные украшенья, навивалось как-то на колесо моих размышлений. Общечеловеческое, человеческое… Но вот поди ж ты! Такая невозможная — на первый взгляд — цитата. Она уже несколько дней, словно мелодия, ворочалась у меня в голове во всем своем неподобающем, еретическом смысле, — так, по крайней мере, мне тогда казалось под гипнозом усвоенных за десятки лет привычек мышления.
Почти полвека назад в Москве — полуголодной, холодной, полной восторженного чувства новизны и свежести восприятия мира — очень скромно, как всегда в те дни, отмечали пятидесятилетие Владимира Ильича. Московский Комитет РКП(б) устроил 23 апреля 1920 года собрание, на которое пригласили Горького, чтоб Горький сказал свое слово. Глуховатым голосом, немного с задышкой, сперва тихо, потом все громче Горький произнес это чудесное слово, начало которого, когда я перечитала его несколько лет спустя, помню, остановило, недоуменно обидело и — запомнилось с налетом чего-то еретического. Горький сказал:
«Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом. Русская история, к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот, например, Христофор Колумб… И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей, — людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону. У нас в истории был, — я бы сказал: почти был, — Петр Великий таким человеком для России.
Вот таким человеком только не для [одной] России, а для всего мира, для всей нашей планеты является Владимир Ильич».[97]
Еретическим в ту минуту показалось мне сравнение Ленина — Ленина! — с Христофором Колумбом. Кто такой Христофор Колумб, чтоб сметь его сравнивать с Лениным… Обида окрасилась негодованьем, недоуменьем по адресу Горького, а впереди, в Сорренто, ждал меня месяц работы над заключительной темой книги — главой «Ленин и Горький». Мне хотелось не просто написать эту главу, засев в Сорренто — самом оторванном от родины, самом одиноком в жизни Горького месте, где он писал «Клима Самгина». Мне хотелось для себя решить, что эти два человека дали друг другу, за что и почему полюбили друг друга и чем были нужны друг для друга. И вдруг такое неожиданное сравненье, еще при жизни Ленина сделанное Горьким. Генуя на долгом пути в Сорренто была первой моей остановкой, затянувшейся, может быть, потому, что цитата Горького, как ребус, требовала своей разгадки сразу же на первом этапе путешествия, в городе, где родился Колумб.
Я понимала, как у импульсивного Горького с его колоссальной памятью-копилкой могло возникнуть, а верней, подвернуться под руку, сравнение с Колумбом. Горький по-своему понимал людей, иногда совершенно не считаясь с историей. Замученного и раздерганного посетителями на Капри, тяжело переживавшего полемику и разрыв Ленина с Богдановым и Луначарским, Марья Федоровна Андреева убедила его поехать попутешествовать на север Италии, чтоб отдохнуть и набраться новых впечатлений. В Генуе, не успев выйти на привокзальную площадь, Горький столкнулся с огромной толпой народа, встречавшей поезд из Пармы с голодными ребятишками бастующих пармских рабочих. Он увидел, как итальянцы, тоже рабочие, разбирали в свои семьи детишек, чтоб их подкормить, а над ними на площади возвышалась статуя Христофора Колумба. И в своем ярком, сердечном очерке, в самом его начале и в конце, он связал эту статую с толпою рабочих: «…благородная фигура человека, открывшего Новый Свет…», «…на высоком пьедестале фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами: „Побеждают только верующие“».[98] Может быть, в этой романтической характеристике Колумба отразилась тогдашняя полемичность самого Горького, его заступничество за Богданова?
Генуя с ее дворцами и виллами, с сотнями разноцветных флагов в порту, Генуя Великолепная, раскинутая тремя этажами впритык к морю, представилась мне совсем другою. Она казалась городом особенного для Италии духа, городом генуэзца — предпринимателя, мореплавателя, открывателя и хапуги-филантропа с кающейся католической совестью. Если говорить в общеевропейском плане, то вся она, весь город, — это массивная каменная память огромных человеческих страстей, бешеного эгоизма и неустойчивой романтики.
В первый же день я вскарабкалась на второй этаж этого города, чтоб посмотреть странный средневековый памятник филантропии генуэзских грабителей — «Гостиницу для бедных», «Albergo dei poveri», — дворец, величаво сходивший ступенями в парк. Он оказался сейчас убежищем для престарелых. С каменных стен его гулких коридоров до сих пор глядят темные полотна старинной живописи, а сами коридоры голы. Служители в фартуках молча развозили по ним на тележках ужин, а по сумрачным углам, беззубо шушукая, сидели старики и старухи, — и старость была тут такая же унизительная, такая же ненужная для живых людей, как, может быть, жалкая бездомная нищета паломников, заполнявших эти стены несколько веков назад. Оттуда я пешком добралась до центра и у ворот Сопрано увидела домик Колумба, каменную глыбу без окон и дверей, похожую на каземат. Окна и двери в ней, впрочем, имелись, но поросли густейшим навесом каких-то мхов. Он был окружен высокой каменной стеной, заглянуть за которую мне удалось, только поднявшись на цыпочки; там был запущенный сад, где на четырех колонках, под красивым каменным перекрытием стоит бельведерчик… вот и все. Но нет, не все: надо еще сказать о колумбовых кошках.
В этом зеленеющем зимою саду мы вдруг увидели что-то необычное. Одна, две, три… кошки, самые разные, всех цветов, всех возрастов, не три, а тридцать, а может, и триста, в сидячем, лежачем, стоячем положении, серые, белые, дымчатые, черные, тигровые, с круглыми, как бусины, разноцветными глазами. Бездомные кошки в Италии любят развалины. Я как-то подцепила, снимаясь в Колизее, сиамского бродячего котенка себе на плечо. Но здешние, колумбовы, держались тут оседло, они были как дома. Подошел старый худощавый генуэзец в очках и шляпе; он снял перчатки, развернул бумажный пакет. Кошки начали вставать, потягиваться и медленно подходить к нему. И генуэзец стал их кормить сырыми рыбками, бросая их через ограду за хвост.
Ночью я долго не могла заснуть после первого дня в Генуе. Колумб, но ведь он даже имя свое не дал открытой им новой стране! Колумб, даже и не знавший, что он такое открывает… Даже и не хотевший открыть новую часть света, а мечтавший о новом ближайшем пути для выгодной морской торговли… Колумб…
2
Я проснулась с твердым намереньем хорошо изучить Геную.
Среди сынов, вылетевших из нее на широкое небо истории, был и такой, как демон-скрипач, Николо (ударение на последнем слоге!) Паганини; и такой, как мечтатель-интеллигент Джузеппе Мадзини, перевернувший страницу в истории своей родины — на дате ее объединения.
Сперва мы пошли разыскивать домик Паганини. По разным справочникам нам было известно, что находится он в переулке Гатамора, но, когда развернули план и стали его искать, оказалось, что переулок Гатамора ни на каком плане не числится. К кому бы мы не обращались с вопросами, все пожимали плечами. А наиболее услужливые посылали нас то туда, то сюда, и мы все время кружили и возвращались на прежнее место.
Мой спутник — сотрудник агентства «Новости» — был такой же упрямец, как я; чем недоступней казался неуловимый Гатамора, тем настойчивей мы повторяли всем встречным-поперечным на все лады его названье, пахнувшее Эдгаром По. Наконец какой-то мальчуган с лицом великого мореплавателя повернул нас спиной и подтолкнул, резко изменив наши вращательные движенья на прямолинейное вниз, под уклон. Взглянули — и обмерли. Перед нами была куча мусора; эта куча опускалась в овраг, весь забитый сломанными ящиками, кирпичами, бутылками, тряпьем, стеклом, всякой нечистью — совсем как мусорная куча Бофина из «Нашего общего друга» Диккенса. И на грязной облупленной стене, идущей вниз вдоль мусорной кучи, мы прочли магическое слово: Гатамора.
Держась друг за друга, стали мы спускаться вниз, пока не возникло перед нами нечто, как сиплый удар смычка по заржавелым спущенным струнам: дом, едва живой, на честном слове, нет, на железных канатах, обвязавших и поддерживающих его ветхие стены от паденья. Не дверь, а намек на дверь, забитую и тоже, как стены, охваченную цепью. Ниша над дверью треугольником, в форме избяного чердачка, с разбитым барельефом, когда-то, должно быть, прекрасным. И надпись, читаемая с трудом:
В этом доме
в день 27 октября года MDCCL XXXII
родился
украшение Генуи и наслаждение мира
Николо ПАГАНИНИ,
звуков своего божественного искусства
непревзойденный мастер.
Мы молча стояли и были счастливы, что сумели добраться до этого дома, которому вряд ли еще суждено простоять долго. И Паганини нам улыбнулся. Нагнувшись, я случайно подобрала кусочек разбитого барельефа: часть лица с округлой щекой, началом рта, носом и глазом, как будто смотревшим на нас. Над этим ущельем мусора — (нэвэрмóр — никогда — Гатамора) — взлетали вдали здания современных модерн, элегантные в своей прямизне, молодость города, как высокая сосновая поросль среди гниющих старых пней, — Генуя, подобно всем городам Европы, растет сейчас вверх сквозь память веков.
Разумеется (хотя бы ради доходной статьи от туризма!), все, что мы видели, будет восстановлено и, как старинная фамильная драгоценность, умеючи вкраплено в стройные струны новых высотных зданий, — и «каза» Паганини, и мрачный каземат Колумба, и башни ворот Сопрано. А все же — как жестоко ответили люди тому, кто был «наслаждением мира»: виденный мною в прошлом году безвкусный памятник на могиле Паганини в Парме; и сползающий в мусорную яму отчий дом его в Генуе…
Многие потом спрашивали: «Как это вам удалось отыскать дом Паганини? Мы бродили, бродили и никак, ну решительно никак…»
Да, мы с моим спутником отыскали его, и это было нелегко. Но, идя обратно, верней — осиливая мусорную кучу вверх, мы оба подавленно молчали. И чтоб хоть как-то освежить и высветлить впечатленье, отправились к Джузеппе Мадзини.
Сперва мы пошли по улице Бальби, сплошь уставленной дворцами. Шли, не жалея времени и стараясь удержать в памяти длительным оттиском всю величавую красоту этих дворцов, — внутренний дворик Палаццо Реале с его мозаикой под ногами и балюстрадой над лежащей внизу старинной частью Генуи, ее «подвальным этажом». Широкие ступени лестницы в университете, зовущие вас ступени, но охраняемые львами на ее выступах справа и слева. Вырезы окон со строгими орнаментами, с каменным кружевом гербов и надписей и с неизменными чугунными решетками на каждом окне. Решетки напоминали о несметных богатствах генуэзских дожей, о начальной, — грабительской, фазе капитализма, о далеко не мечтательном, далеко не идиллическом открытии Нового Света. Старая Генуя, плебейская, торговая, портовая, лежала внизу, и к ней, как ручейки, сбегали очень узкие — ослу с поклажей не повернуться, — темные и грязные старинные улички-щели без тротуаров. На углу одной из таких опускавшихся вниз улиц мы увидели дом Мадзини, с Музеем Рисорджименто.
Эти музеи «Объединения Италии» находятся почти в каждом крупном итальянском городе, потому что каждый внес свою долю борьбы в это историческое событие, один меньше, другой больше, а Генуя — как чуть ли не главная арена борьбы, — разумеется, большую, если не самую большую. Но когда мы вошли в музей, там было пусто и темно. Одинокий служитель продал билеты, и он же пошел с нами, последовательно зажигая и туша свет по мере нашего продвижения.
Из мрака оживали великолепные портреты Мадзини, Гарибальди, Гофредо Мамели, рукописи стихов Мамели, его маска, гравюры, газеты, автограф сицилийской прокламации Гарибальди, письмо Мадзини к графу Кавуру, написанное мелким выразительным почерком «человека букв» и оратора, с эмоционально взвивающимися концами слов. Вся история объединения прошла перед нами в боях, зажигаясь и потухая, — переговоры, переписка, воззвания… Но перед одним документом я остановилась. Вынув свой блокнотик, я старательно переписала этот документ для читателя. Он был составлен на немецком языке ненавистным для итальянцев австрийцем директором полиции, носившим такое же имя, как у Мадзини, только на немецкий лад, — Иозеф. А фамилия его была, как это ни горько, — чешская Ванечек. В то время, когда сами чехи вели борьбу против австрийского ига…
Но, может быть, я несправедлива к этому Ванечку. Дело в том, что, работая в архивах, я просто не могла не чувствовать всякий раз горячей благодарности полицейским, жандармским и прочим «охранным» писакам: не будь их канцелярской работы, множество ценнейших материалов пропало бы для писателя-историка. И австрийский чех-полицейский заслужил, мне кажется, сугубую благодарность. Ни один художник не смог бы оставить Италии такого портрета Мадзини, какой вышел из-под его пера. Если б Горький прочитал его «приказ», он, наверное, так же тщательно и с тем же чувством переписал бы его, как я.
Австрийская полиция разыскивала опасного генуэзского адвоката-революционера, еще в 1831 году основавшего революционный союз «Молодая Италия», — и верный слуга австрийской империи, губернский советник и директор полиции в Инсбруке, Иозеф Ванечек, издает в 1852 году подробное описание внешности Мадзини для задержания его на любой границе, ареста и доставки под строгой охраной. Вот опознавательные знаки Мадзини в этом документе:
«Возраст: около 55 лет; волосы — густые, седеющие; лоб: высокий и выдающийся, исключительно прекрасный (ausgezeichnet schön); брови черные, глаза — темно-карие, с мечтательным выражением; нос прямой, рот маленький, улыбающийся; борода серая с узкими, но длинными усами; подбородок острый, лицо продолговатое, цвет лица желто-коричневый, болезненный. У него глубоко сидящие глаза, его походка легка, хотя чуть сутуловата, руки и ноги пропорционально небольшие. Чаще всего одет он в черное. Он говорит слегка аффектированно тосканским диалектом, голос у него слабый, и курит он легкие сигары».[99]
Может быть, этот портрет, показавший Мадзини, как живого; а может, и пример Горького-очеркиста, описывавшего при своих поездках по Италии главным образом современных ему итальянцев — рабочих-мостовщиков, забастовщиков, прохожих, бродячих музыкантов, рыбаков, — нас тоже потянуло на живых генуэзцев. И, словно отвечая на душевную тягу, в гостинице нас ожидало письмо. Были мы от хождения по городу нестерпимо утомлены, ноги ныли, хотелось надеть ночные туфли и засесть пить чай в номере с запасенными вкусными пиццами (разогретыми лепешками-бутербродами). Но письмо было пригласительное, очень заманчивое:
«Se Loro desiderano incontrare un gruppo di intellettualli di sinistra… guesta sera alle ore 22 fino alle 23,30 si sará una tavola rotonda al Carabaga Club d'Arte…»
(Если хотите встретиться с группой левых интеллектуалов… этим вечером с десяти до одиннадцати тридцати будет круглый стол в художественном клубе «Карабага».)
И откуда только взялась у нас сила — снова отправиться поздно вечером в темную и неведомую сеть переулков далекой окраины Генуи, Сампьердарены! Мы даже передохнуть не успели, взяли и отправились.
3
Приглашение не было для нас неожиданностью. Еще только приехав в гостиницу и показывая наши паспорта, мы услышали от быстроглазого молодого портье, что у него есть знакомый скульптор-коммунист, продающий свои изделия приезжим… вот не хотите ли? Он тотчас написал нам адрес и сунул в руки. Левый скульптор, Гвидо Цивери, жил как раз на той самой пролетарской окраине Генуи, Сампьердарена, куда я все равно мечтала отправиться в первый же день. В Сампьердарена родился предмет моего очередного увлеченья, очень большой, очень интересный человек, которого Паустовский метко окрестил «конквистадором», — тоже один из завоевателей и открывателей современного генуэзского периода. И мы с моим спутником тогда же отправились в Сампьердарена.
Для Генуи — это совсем особое место, и если идешь туда пешком (мы всюду старались ходить пешком), минуешь как будто столетия. У начала пути широким змеиным зигзагом простирается над городом эстакада. Такие эстакады, для разгрузки уличного движенья возносящие дорогу наверх, на воздух, вместо спуска ее в подземные туннели, строят сейчас все чаще, начали строить и у нас, и, по правде говоря, всегда кажется, что они не столь разгружают, сколь утесняют улицу для пешеходов, шествуя по земле своими толстенными чугунно-бетонными ногами, и застят перед глазами и без того узкие уличные горизонты. Но генуэзская эстакада очень элегантна и кокетлива, она сразу вводит вас из музейной старины в век развернутой индустрии.
Проходя по ней, вы чувствуете порт невдалеке, слышите шелест жуков-машин над собой по сухому асфальту — и все дальше отступает город дворцов, все проще, мещанистей домишки вокруг, бедней магазинчики с дешевой дребеденью, простоватей люди, безвкусней одежда, — идти можно час и два, а все те же вокруг грязно-серые улицы с умирающими постепенно отголосками большого центра. Тише, тише… ни машин, ни гудков, ни топота, но в тишине каким-то странно-напевным тоном, словно в старинной, сейчас навеки уже исчезнувшей «шарманке», стеклянно-переливчато окликнет вдруг прохожий с противоположного тротуара вышедшую из дверей магазинчика толстуху хозяйку своим музыкальным «джорно» — здравствуй.
А мне мерещилось, что еще не было тут улиц. Семьдесят лет назад лигурийские волны омывали эти берега, застроенные лачугами рыбаков. И, купая в песке свои голые пятки, подвернув старые штанишки, здесь бегал сын бедняка-сампьердаренца, черный, как жук, носатый, с глубоким взглядом из-под тенистых ресниц, — будущий гений итальянской индустрии, создавший ее полвека спустя в том самом городе, где другой гениальный итальянец, тоже, как он, курчавый и глубокоглазый из-под тени густых своих итальянский ресниц, — Антонио Грамши, создал — в противовес ему, Итальянскую компартию. Но все это произойдет куда поздней того времени, когда Ленин полушутя-полусерьезно писал Горькому из Парижа на Капри: «…марксистов только нет в Италии, вот чем она мерзка».[100] Марксистов — и породившей их крупной индустрии.
Добравшись наконец до тупика, где стоял домик с надписью на дверях «Цивери», мы постучали. Высокий молодой итальянец в бархатных штанах и джемпере прямо скатился на нас с крутой лестницы и тотчас же, словно мы годы были знакомы, потащил к себе наверх. Открытая площадка над лестницей; пластинки темной керамики вдоль стен; низкие, мягкие кресла — он утопил нас в них, а сам взгромоздился на что-то твердое и сразу же, решительным тоном определил свою позицию: «Я принимаю всё у вас, всё, всё, всё, что в политике; но ваши взгляды на искусство — нет, нет, нет! Непостижимо, почему так отстаете, где корень? Откуда это?»
С места в карьер мы были, поскольку назвались москвичами, окрещены «конформистами». Но, говоря с нами ругательной скороговоркой (разговор шел по-французски), хозяин все время гостеприимно улыбался нам, и, как это ни странно, в ту же секунду, даже меньше, чем в секунду, между нами установилось то, что политики именуют словом «контакт». Беседа наша буквально разразилась, как разражаются грозы летом, — иного слова не подберу. Хозяин раз двадцать вскакивал, хватал книги с полки, перелистывал, совал нам. Раз двадцать хватали мы друг друга за пуговицу, за рукав, крича что-то одновременно. Над лестницей вынырнула стриженная под мальчика шатенка, каких встречаешь на наших поэтических диспутах. Она представилась художницей Ольгой Каза, директором клуба «Карабага». Пришла пора передышки и питья неизменного кофе. Потом Гвидо Цивери подарил нам три выпуска своего журнала, начинающегося не с первого, а с нулевого номера (Numero Zero — я вспомнила математические тетрадки Маркса!), — под названьем «Трое красных» (Tre Rosso). И тут же приглашение — встретиться еще раз в клубе. Вот в этот клуб мы теперь и спешили, усталые до одури. На самой, казалось бы, глухой улице Сампьердарена неожиданно возник ярко освещенный небоскреб. Внизу, в его холле, и расположился Клуб левых мастеров искусства «Карабага».
В первом же зале, куда мы вошли, была устроена выставка. Спустя год в Париже я видела такую же выставку под названием «Свет и Движение» (Lummiére et Mouvement) — последнее слово левого искусства, где вся материя живописи, — полотно, картон, уголь, краски, — уже исчезла, а предмет искусства создавала игра электричества с помощью электроники: на экранах или даже без них возникала сверкающая беготня цветов и света, в первую минуту интересная, но нестерпимая для глаз, если смотреть ее долго. В зале «Карабага» все это было проще и бедней, но принцип тот же: творческая воля художника заменена случайностью и физикой; игра музыканта на клавишах математической или импровизированной пробой клавиш теми, кто вовсе не умеет или не хочет играть. «В природе все уже есть, художник не может выдумать ничего такого, что уже не имелось бы в мастерской самой природы». Приблизительно так объяснял нам Цивери, бегая пальцами по какой-то «электронной» клавиатуре.
Но это случилось позднее, а сперва мы прошли через выставочный зал в другую комнату, где стоял круглый стол, а за столом разместилось человек тридцать молодежи. По стенам развешаны были картоны, изображающие уже вполне материальные квадраты и только квадраты — самых различных видов, с симметричными спиралями внутри и завитками, уходящими в их глубину. Произведения эти, как стояло в программе, принадлежали кисти падуанского художника Гаэтано Пеше, приехавшего с ними из Падуи в Геную. Мы попали на обсуждение его картин. Милая Ольга Каза тотчас поднялась нам навстречу, помогла раздеться и усадила. На столе стоял магнитофон. За столом сидел наш новый друг Гвидо Цивери и вел собрание. Возле него — критик с густо разросшимися волосами и бровями, в очках, держал речь с микрофоном в руках, — он делал доклад. А прямо перед нами, слегка вытянув ноги и спрятав руки в карманы брюк, сидел герой обсуждения, молодой человек с открытым бледным лицом, явно склонный к полноте, в безукоризненном костюме и красном галстуке навыпуск, — Гаэтано Пеше. Разговор шел по-итальянски и по-французски.
Докладчик долго объяснял философскую систему восприятия мира у Гаэтано Пеше в изысканно-запутанных и невразумительных терминах. Выступавшие то находили в квадратах эту «новую философию видимого пространства», то отрицали ее. Присутствовавший инженер-электроник робко осмелился спросить, каково содержание в этих квадратах, то есть, иначе говоря, что нового в смысле понимания пространства? Высокая мужеподобная студентка деловито предложила использовать все это в промышленности, в частности, может быть, в «Фиате»… Каждому, кто выступал, Гвидо Цивери давал в руки микрофон.
Я жадно смотрела на эту молодежь. Подобно нашей, подобно всякой молодежи во всем мире и молодой поре в жизни каждого человека на земле, — она горела своим великим, неистребимым стремленьем найти необычное, новое, не такое, как у стариков, как у прошедших поколений. Курили очень мало, меньше, чем на заседаниях пожилых людей. Одна-единственная бутылка с минеральной водой стояла возле докладчика, с одним-единственным стаканом. Студенты, может быть, мелкие служащие, артисты-студийцы, вот этот инженер с завода; все — крайних левых направлений в политике, крайних левых направлений в искусстве; и все — с теми честными, агрессивно глядящими на вас глазами юности, когда страстно хочется расчистить себе свое место в мире, выпихивая старое (нельзя занять уже занятое пространство!), противореча, опровергая, не соглашаясь, волнуясь неведомо отчего, от безграничного чувства жизни, подступающего к горлу. Что мне особенно понравилось — чистота атмосферы, совсем как в молодости моего поколения: ни на грамм эротики и секса, ни на грамм хулиганства, ни на грамм грубости. Мне казалось, я очутилась в самом начале века, в собственной студенческой среде.
Наконец дошла очередь до героя диспута, творца квадратов. Гаэтано Пеше приподнялся с ленивой грацией, сложил губы улыбкой — с ямочкой на полной щеке — и объявил, ошеломив всю аудиторию, что в его произведениях нет и не было ровно никакой философии пространства: он просто любит писать разные квадраты, какими их представляет себе… После хохота (громче всех хохотал сконфуженный докладчик) и аплодисментов, под жужжанье магнитофона, Гвидо неожиданно протянул микрофончик… мне. Я увидела, как вздрогнул мой спутник.
Застенчивой в таких случаях до одури в нашей собственной обстановке, особенно перед задиристой молодежью, мне вдруг, словно шестьдесят лет назад, неудержимо захотелось выступить. Я схватила микрофон и ринулась в бой, откуда только взялось у меня такое свободное обращение с французским математико-философским лексиконом! Гаэтано я назвала отсталым. После Эйнштейна, — объявила я с апломбом, — смешно барахтаться в симметрии. Пространство криво. Две параллельные встречаются. Его квадрат Эвклидов. Он не сумел преодолеть отсталость своего видения мира, он даже внутри — внутри — dedans! — самого квадрата видит пространство перпендикулярно, чертит его наивными законами симметрии, забыв о разнице правого и левого… И все это аккуратно, журча, как кот, записывал магнитофон — на память генуэзскому потомству.
Но тут вдруг я осеклась. Став еще бледнее, побледнев буквально как мел, медленно-медленно, как привидение, поднимался со стула Гаэтано Пеше. Улыбка его исчезла, ямочка на щеке выровнялась: «Вы считаете меня натуралистом? НАТУРАЛИСТОМ?» Набирая это страшное слово заглавными буквами, не сказал, а как-то проскрежетал творец квадратов. Мне почудилось, что я становлюсь гоголевским Вием. Еще секунда — и закричу: вот он конформист — мстя за нанесенную Гвидо Цивери мне самой обиду. Но через секунду все успокоилось, Пеше выдохся, магнитофон умолк, я начала прощаться, целуясь с женщинами, двадцать раз тряся руки мужчинам, обмениваясь адресами, приглашая в гости в Москву. Гвидо Цивери стал объяснять нам на прощанье выставку в холле. А потом милая молодая пара отвезла нас на своей маленькой машине в гостиницу.
4
И вот опять ночь без сна, — ночь без сна из-за сравнения с Христофором Колумбом. Но в хаосе дневных впечатлений, умноженных вечером в «Карабага», вставала какая-то новая нота, назойливая, вроде комариного жужжанья: а почему, собственно, не сравнивать Горькому Ленина, которого он знал лучше, чем я, отдаленная от него исторически целым поколением (двадцать лет!), — сравнивать с кем хочет и как хочет! Вечер в «Карабага» оставил во мне какую-то резкость оппозиции — самой себе. Новая нота была в повороте вниманья, — от цитаты из речи Горького — к тому, как я сама эту цитату восприняла. И дело тут было вовсе не в Колумбе.
Итальянские кровати в гостиницах жестки; и подушки, тоже очень жесткие, — лепешкообразны. Если вы не заснули сразу, то вам кажется, что мысли прямо натекают вам в голову, лежащую очень низко на этой лепешке, натекают, словно из дождевого желоба, и никак их не вытряхнуть. Воспоминанья, ассоциации, далекое прошлое, совсем далекое детство: родители разговаривают с гостем, няня слушает в дверях из освещенной лампадкой детской;[101] гость говорит, что патриарх страшно похож лицом на писателя Писемского, няня шепчет негодующе: как это мыслимо лицо духовное сравнивать с обыкновенным (няня произносит, как ей полагается, «обнаковенным») господином… Мыслимо, мыслимо… Спустя семьдесят пять лет за одним столом со мной сидит редактор, старый друг и человек не глупый. Карандаш его, пока он читает мою рукопись, наготове, — прикушен зубами, — и я вижу, как он ставит им птичку на полях. «Немыслимо», «не вяжется с Лениным»… очень мягко и дружески говорит он моей особе: «Вы пишете „окрик“ — нельзя сказать „окрик“ в отношении Ильича, это не его метод. Поставьте слово „возражение“». Я тогда здорово накричала сама на редактора. Я совала ему цитаты из ленинских писем: «…сегодня прочту одного эмпириокритика и ругаюсь площадными словами, завтра — другого и матерными»[102] или совет Горькому: «Наплюйте в харю упрекающим»[103] или — в бешенстве на того же Богданова: «Сам он есть минус (а не 0). Удивляюсь я, что в „Прибое“ голосуют за Богданова, не защищая его фальшивых пошлостей… Это не коллегиально. Вы забыли. Пишите. Объясните. Аргументируйте. А то голосовать без коллегиального обмена мнений. Трусливо. Дико. Пошло. Вредно. Пусть объяснят… ради чего они тащат в рабочую среду пропаганду гнили».[104] Как Ленин ненавидит! Даже нет восклицательных знаков — это от холодной иронии бешенства, это как удар кулаком по столу, а вы — Ленин «возражает», «возражение». Да тут тысяча криков, а не только окрик!
Я вертелась на плоской подушке, а мысли все лезли, миллионы примеров вертелись в голове, и опять наплыло в память: санаторий, те далекие годы, когда я, писатель, очутилась в одной палате со старой большевичкой, крупной работницей, хорошо знавшей Ленина. Вечером перед сном она, помню, перебирала свою седую косицу на ночь, доплетая ее, а я — не знаю, как к слову пришлось, спросила о речи Горького на 50-летии Ленина. «Уж и не любил же этих юбилеев Ильич, — сказала старая большевичка, — терпеть их не мог. Ну а Горький, большой писатель, занесся, конечно, размахнулся, — он всю жизнь размахивается. Христофор Колумб, — выдумал тоже Алексей Максимович!» Она тогда посмеялась, а я на нее уставилась. Ей в этом сравнении, хорошо знавшей человека Ильича, — почудилось смешное преувеличенье, гипербола, размах. Почему? Потому ли, что Колумб из глубины истории взирает сейчас на нас, как башня, как миф, как легенда? А Ленин для нее был еще живой и теплый, еще всегдашний — чудесный человек, гениальный человек, неповторимый, но — живой, теплый. И до чего человек!
Когда-то я для себя стала выписывать, как Ленин, подобно нам, грешным, звал людей уменьшительными именами в письмах: «Сафарчиком»[105] — Г. Сафарова, «Коллонтайшей»[106] — А. Коллонтай, а царя — «Николашей»,[107] как презрительно именовали жалкого Романова в те годы. И Ленин удивительно выдумывал слова — например, у него мне в первый раз встретилось слово «читабельный», «читабельны»[108] — а уж слово «министериализм» в применении к меньшевикам, «министериабельный негодяй» о циммервальдовце Роберте Гримме![109] Это все — в интимной переписке, — опять слышу редактора. И опять мысленно «возражаю» ему, если уж говорить о «возраженье» в этом страшном ночном кошмаре, когда одурело устал, а сна нет и мысли грызут мозг: «Почему интимной? Ничего не интимной, Ленин черным по белому пишет, живой Ленин: „Никогда ни за что не променял бы я резкой борьбы течений у социал-демократов на прилизанную пустоту и убожество эсеров и K°“».[110]
Прилизанность… и я встала и села на своей железной кровати. Милая Генуя, милые молодые люди, с которыми, расхрабрившись, вообразила себя чуть ли не студенткой. Дело-то не в Колумбе, не в сравнении, не в Горьком и даже, вот сейчас, не в Ленине, дело идет о моем собственном существовании, тоже человека на земле, какого ни на есть, но человека же. Что произошло со мною за истекшие несколько десятков лет, если я, как неграмотная орловская нянька (мы с сестрой звали ее ласкательно «нюга»), вот как эта нюга стала вдруг чувствовать «табу», расстояние между «светским господином» и «духовным лицом», воспринимать самого дорогого, самого любимого из людей, Ленина, как что-то не человеческое, над человеческое, с чем нельзя сравнивать никого другого, будь это архи-Колумбы? Что произошло со мною, человеком восьми десятков лет, потерявшим ощущенье живого бытия настолько, что воспринимаю просто живое, как ересь, возрождаю понятие «еретический»? Начинаю возводить условности, участвовать в создании мифа, делать из фактов жизни — мифологемы? Это корка — сказала я сама себе очень громко, потому что мне захотелось выговорить свою мысль вслух.
С годами человеческое сознанье обрастает коркой. Мы начинаем видеть вещи, как на остановленной пленке, застылыми в движенье. И это не высокая неподвижность искусства, когда остановилось то, что совершенно. Это остановка предмета в движенье, прерванность развития. Чьего? Моего собственного. Корка старости, корка отпада от жизни. Оттого что я выскочила со своей задорной речью на совещании молодых, я почувствовала в эту ночь как бы прояснение своих кристалликов, своего внутреннего зрения на простые и очень понятные вещи вокруг.
Закон времени для всех обязателен, он медленно, мазок за мазком, намазывает эти корки старости — они выглядят как штампы, как трафареты, как «модели» — модное слово современности, — модели, в которых, в сущности, закупорено остановленное на ходу развитие человеческого сознания. Мы суем эти штампы и модели потомкам, как заработанную нами историческую истину, — а потомки видят лишь корку, лишь катаракту на кристаллике, и совершенно неважен предмет их борьбы против нас, предмет их буйства, — важен самый факт вот этих «буйств» молодости, потому что приводят они объективно к соскабливанию корок. Растущий коралл — мягок; он затвердевает, когда перестает расти. Я записываю все эти рассужденья очень скучными фразами, может быть, спорными, но в ту минуту, когда они возникали в моем бессонном мозгу, я ими не думала, они горели, были похожи на какие-то картины. Однажды, когда воду из озера Севан еще не стали спускать и островок на нем еще был островом, а не выпуклой частью суши, я подсмотрела на нем из кустов, как змея меняла кожу. Змея была небольшая, в черной, шуршистой, разношенной какой-то корке, похожей на кольчугу. Она медленно, извиваясь и вздрагивая (дрожь ходуном проходила по всему ее телу, с головы до хвоста), вползала в узкую щель между двумя камнями. И пока вползала (видно было, что с трудом, против воли, насильственно, больно), части корки, словно лохмотья, соскабливались с нее и грязной грудой накапливались у входа в расщелину.
А с другой стороны расщелины показалось голое, розовое тело обновленной змейки. Этому телу было холодно от прикосновения воздуха, его обжигало солнце, но змея ползла и ползла, пока не выползла на траву вся и замерла, обновленная в свежей новизне бытия, — отдыхая от трудов, не двигаясь, вбирая тепло и жизнь…
Вот так надо нам уметь соскабливать с себя корку. Нельзя нам стареть и обрастать ею — слишком много еще дела на земле, слишком важно с живым трепетом осваивать прошлое, потому что прошлое — еще в росте, его нельзя останавливать на ходу, нельзя создавать из него штампы и «модели». А тем более — в работе о Ленине…
Так прошла у меня последняя ночь перед отъездом из Генуи Великолепной.
II. Болонья
1
Не знаю, почему… Нет, даже знаю почему, — но этот город я полюбила еще десять лет назад больше всех остальных городов Италии. В истории «Ленин — Горький» он играет, правда, роль микроскопическую и притом неприятную. Десятые годы нашего века для революционной русской эмиграции были годами «школ». В разных городах — в Париже, в Лонжюмо, на Капри открывались школы для рабочих из России, важные не только потому, что передовые рабочие должны были осваивать в них марксизм, но и для самих учителей, через учеников как бы соприкасавшихся с далекой родиной, с революционной массой. Нельзя жить человеку без общения, основанного на главной для тебя идее, главной для тебя работе. В Болонье тоже открылась такая школа, но, как и «каприйская», с преобладаньем «впередовцев»; и больше чем «каприйская» — ставшая фракционной.
Третьего января 1911 года Ленин написал Горькому: «Получил из Болоньи приглашение ехать в школу (20 рабочих). Ответил отказом. Со впередовцами дел иметь не хочу. Перетаскиваем опять рабочих сюда».[111] Сюда — означало в Париж, где Ленин организовал большевистскую школу пропагандистов; «опять» — потому что Ленин уже перетащил из каприйской школы к себе часть рабочих.[112]
Итак, Болонья в моей теме предстает со знаком минус и даже — после Вероны, которая хоть и упомянута Лениным только одной фразой, но с восклицательными знаками и охотой приехать: «Как я чертовски злился в Берне и потом!! Думаю: если Вы в Вероне… ведь я бы в Верону м о г приехать из Берна!!»[113] И все же — на пути в Сорренто — вторую остановку я сделала в Болонье.
Со времени «впередовской» школы утекло немало воды. Болонья не год и не два выбирает себе в синдаки (мэры) — коммунистов. В Болонье сразу чувствуешь хозяина-коммуниста, — больше заботы о городском быте, проще в гостиницах, дешевле и лучше в столовых и среди них — одна замечательная «Самообслуга» (Selfservice), каких нигде в Италии, да, пожалуй, и во всей Европе не сыщешь, потому что, бывая в этой столовой через промежутки двух и трех лет, всякий раз нахожу ее все на том же высоком уровне, отнюдь не ухудшающейся, как это происходит с самообслугами в Париже на Рю-Риволи и в Лондоне с Лайонсами. Короче говоря, в Болонье удобней жить. Я и приехала, чтоб пожить, подумать, порыться в прихваченных книжках. А жить в иностранном городе — это совсем не то, что приехать туристом.
Есть такое слово в ботанике «ареал» — полный смысл его я никогда не могла освоить научно, а только чувством, переводя на свой писательский язык: пространство, очерченное вокруг вас в лимите возможности вашего распространения. Ну, турист бегает; сегодня он тут, завтра — за десятки улиц; он — не на цепочке каких-то лимитов, а в букете звездочек путеводителя: то посмотреть, это посмотреть… Бегает, ест где попало, даже помоется, побреется где-нибудь на ходу, во встречных lavabo[114] — и все это каждый день разное, в разном районе. Для туриста европейские (и наши) города всегда — большие, хотя сами по себе они, может быть, и вовсе не велики.
Но для «проживающих» в городе — каждый город всегда очень маленький, даже если он необъятен, как Лондон. Вы проживаете с деловой целью (почитать, порыться в архиве, поработать дома за письменным столом); и цель становится вашим «ареалом», очерчивая вокруг вас лимиты вашего (максимум — районного или все того же транспортного) передвижения туда и обратно.
В Болонье, например, несколько лет назад я работала в музыкальном архиве Коммунальной библиотеки на площади Россини, а жила возле вокзала. Каждый день я ходила по одному и тому же маршруту, мимо тех же памятников, магазинов, киосков; забирала газету у той же стойки, того же продавца; обедала в той же столовой и все там же покупала себе неизменную югурту и пиццу на ужин — ясное дело, город замыкался для меня в небольшой круг и возникало не совсем приятное чувство своей «видимости» для окружающих. Вы встречали все тех же прохожих, и даже собаки, которых прогуливали хозяева, были все те же, на тех же улицах. Но если прохожие, продавцы, приказчики, пёсики сделались вам знакомы — себя вы тоже невольно ощущаете привычной и знакомой для них фигурой. И город кажется как дом, улицы как комнаты, и весь мир, вся планета-земля, кажутся, в сущности, очень тесными.
Закрыв сейчас глаза, отчетливо вижу длинную улицу Индепенденца, идущую, как и все улицы Болоньи, сплошным крытым портиком; подземный туннель-соттопассаджо, из которого выходишь на все четыре стороны: направо на улицу Уго Басси, где можно так вкусно пообедать в знаменитой «сельфсёрвис», — блюдом, которое тут, в Болонье, называют «тортеллини», в Турине «каполетти», в Венеции «равиоли», а у нас, по всему Советскому Союзу, — ушками, пельменями, колдунами, береками; выйдешь прямо — к гиганту Нептуну, попирающему фонтан; налево — на короткую улицу Виа Риззоли, а за ней к университету, к театру и к уединенной красоте дворца, где ютится архив имени Падре Мартини с узеньким читальным залом. Я, конечно, могла бы вдвое сократить этот путь, занимающий в целом двадцать минут, если б боковыми уличками без тротуаров пошла по диагонали от своей гостиницы. Но не было охоты сокращать. Вниманье цеплялось за каждую знакомую встречу, — помню в соттопассаджо лица бродячих музыкантов, пиликавших какой-то невозможный джазоподобный «модерн»; филателистский магазин марок, хозяин которого именовался по-русски и странным образом Марковым; — и живших в тот месяц, буквально живших в каменных проходах туннеля, лежа и сидя на своем ярком тряпье, цыган. А главное — мне каждое утро хотелось, пройдя по Виа Риззоли, сказать свое buona matina[115] двум болонским красоткам, башням Азинелли и Гаризенда, тоже как будто вам кланявшимся в своей удивительной архитектурной кривизне.
Каждый город, как человек, имеет свой характер. Еще в самый первый приезд сюда я купила у букиниста, под портиками университета, гравюру старой Болоньи семнадцатого века. Если б не тускло-кирпичный колорит самого города, не его равнинность и не ломко-песочная краска старости самой гравюры, я приняла бы Болонью за горную Сванетию. Ни в одном итальянском городе, да и нигде в мире не было ничего подобного! Старинная Болонья вся, как еж, ощетинилась в небо сотнями тонких игл-башен. Будто толпа трубачей трубила, задрав их кверху, множеством дудок-труб. Будто огромная масса молящихся воздела к богу свои худые, длинные руки. Думаешь, — ну и город, ну и характер, — возвышенно живет, возвышенно думает. А этот же самый город в то же самое время спрятал своих жителей от неба, как ни один другой город в мире. Все его улицы, круглым счетом все, — это крытые переходы, идущие бесконечными рядами портиков, поддерживаемых колоннами. Для пешеходов — ни дождя, ни снега, ни солнца, ни неба, ни зонтиков, ни плащей, — нынешние плащи-болоньи это принципиальный дождевик, лишенный капюшона, его заменяет пелеринка. Не нужен капюшон в Болонье!
Помню, я где-то писала, как в полном отчаянии от этой «спущенной долу», как люди глаза опускают, от этой уткнувшейся в землю манеры строить улицы портиками, я решила выбраться за город, чтоб подышать открытым над головой небом, дошла до «заставы» — ворот Сарагоцца, — чтоб подняться на гору к «святой» мадонне Сан-Лука, очаровательной церкви на горе, покровительнице Болоньи, — и вдруг ахнула: змеиными зигзагами поднималась к ней на гору все та же лента портиков, крытая в колоннах дорога! Портики идут три километра, шестьсот шестьюдесятью шестью арками на высоту около трехсот метров над уровнем моря. Вот и выбралась под открытое небо…
С веками, в результате войн и разрушений, почти все башни в Болонье исчезли, словно резинкой стерлись с гравюры; кое-где, может быть, и остались, но их закрыли новые многоэтажные дома. И только из этих сотен рук, воздетых к небу, остались два длинных пальца, один выше, другой ниже, прямой и наклонный, во всей выразительности их двоеперстия: Азинелли и Гаризенда. Но приземленность долу, глаза, опущенные к земле, портики, или аркады, как их чаще называют, — остались не тронутые временем.
Мне кажется, есть в этой архитектурной диалектике, в победе земного над небесным, что-то общее и с диалектикой истории самого города. Старейшие, рожденные в середине века, насчитывавшиеся когда-то единицами на весь мир, университеты Европы и особенно Италии унаследовали от прошлого несколько сумрачную теологическую черту даже там, где нет специальных кафедр теологии. Они так долго были под гипнозом формулы: философия — служанка богословия, что дальний отсвет этой давным-давно похороненной формулы все же таится, как тень в углах, в самой архитектуре старых университетских зданий, в латинских названиях их аул (аудиторий), в надписях, высеченных на массивных стенах, в решетках на окнах. А Болонья выбрала трезвый, реалистический путь образования очень смолоду, много десятков лет назад, и это придает ее интеллигенции особую, дорогую для нас черту.
В век увлечения техникой я всегда с большим уважением прохожу длинным рядом солидных зданий на Замбони — отделений знаменитого на весь мир университета: зоология, антропология, сравнительная анатомия, гистология, патология, гигиена, медицина (как искусство врачебное)… В прошлом Болонья славилась своими юристами; сейчас готовит врачей и хирургов. В то время как в Генуе господствуют инженер и техника, в Болонье — медицина и хирург.
Можно, разумеется, считать наш век инженерным веком, но даже если физике и технике удалось сдвинуть на второе место науки гуманитарные, они не смогли отодвинуть биологию, — и открытия в биологии не уступают по своему мировому значению и не меньше волнуют человечество, нежели открытия в физике. А это значит очень многое. Это придает техническому лицу эпохи смягчающее выражение великого социального гуманизма, а математико-абстрактному характеру мышления — живой материалистический оттенок.
2
Когда я поделилась всеми этими размышлениями с одним из своих болонских друзей, он сперва посоветовал мне уж не очень-то «идеализировать» и не увлекаться тем, что пишут в «гидах», а приглядеться к недовольству студентов, к студенческим демонстрациям, послушать рабочих, когда они ругают своего синдака за «подхалимаж» у кардиналов и Ватикана. Но потом он вдруг и сам загорелся и добавил от себя, что Болонья «все-таки передовая» — не только в медицине и в хирургии, а, например, в музыке:
«Где в Италии впервые была поставлена опера Вагнера? У нас, в болонском оперном театре. Он, между прочим, когда-то весь сгорел, а мы его полностью восстановили, каким он был при вашем Мысливечке. И сейчас намечается у нас в старом, оперном искусстве нечто новое. Сходите, обязательно сходите послушать премьеру „Турка в Италии“, мы тут впервые воскрешаем эту оперу совсем молодого Россини… Но не думайте, что с помощью трюков или зауми какой-нибудь или вывертов наизнанку. А впрочем, молчу, — интересно, что вы сами найдете».
Я решила — будь что будет — непременно пойти не на премьеру, конечно, а на скромный дневной спектакль в воскресенье.
«Будь что будет» — потому что с оперой были у меня связаны довольно конфузные воспоминания. Когда, не глядя ни в афиши, ни в газеты, лишь бы только попасть в миланскую «Ля Скала», лишь бы послушать в ней хоть какую-нибудь оперу, я уселась в первом ряду (почти одна в нем!) этого знаменитого театра и с трепетом взглянула на сцену, глаза мои встретились с другой парой глаз, крайне удивленных: с дирижерского пульта смотрел на меня Кондрашин! В миланской «Ля Скала» в этот вечер не опера шла, а концерт из произведений Шостаковича и Прокофьева, под управлением нашего дирижера… Другой «оперный» опыт произошел у меня в Неаполе и тоже пять лет назад. Желая во что бы то ни стало попасть на премьеру в театр «Сан-Карло», где в XVIII веке царил мой Мысливечек со своими лучшими операми, я рискнула заплатить за место в первом ряду огромную (тогда) сумму — десять тысяч лир, но не учла одного: в партер «Сан-Карло», в день премьеры, без вечернего туалета никого не пускали, а вечернего туалета у меня не было. С некоторым колебанием подошла я поэтому к кассе «Театро Коммунале» и, расспросив кассиршу, можно ли прийти запросто, в свитере, купила билет, неуверенная, поняла ли она что-нибудь из моих речей.
Наступило воскресенье. «Театро Коммунале», восстановленный точь-в-точь в том самом виде, каким он был двести лет назад, — уютно, боком стоит на маленькой площади. Люди в пальто и шляпах проходили по широким лестницам, празднично освещенным, и только снимали, как перед входом в церковь, у дверей в партер свои шляпы. Дамы в мехах (меха в Европе носят не столько из-за холода, сколько из снобизма) рассаживались рядом со мною, не снимая пальто. По мягкому ковровому проходу их всякий раз сопровождал на место человек восемнадцатого века: все служители были тут в белых чулках до колен в обтяжку, лакированных туфлях, коротких атласных штанах, камзолах и красных жилетах, словно век рококо надвинулся к нам из прошлого. Зал, воссозданный по рисунку 1756 года, уходил своим куполом высоко вверх, и хрустальная люстра бросала вниз очень мягкий, скользящий свет. Все в этом зале — от потолка до позолоченных орнаментов на ложах, от мягких кресел партера до многоярусной системы с галеркой, говорило о восемнадцатом веке, о родине оперного искусства, о той сказочной поэзии театра, которую мы знаем по нашей бывшей Мариинке в Ленинграде и по Большому в Москве; отсюда, из Европы, сверкающе праздничный тип этого театра начал свое странствование по всему миру.
Мне не пришлось конфузиться за свой свитер в демократической Болонье, — люди тут же, на спинках кресел, вешали свои пальто и шарфы, сворачивали трубкой плащи и, как в лондонских кино, совали их под сиденья; меха и брильянты никому не мешали, кроме тех, на ком они были. Я развернула программу. «Турок в Италии» написан двадцатидвухлетним Россини и первый раз появился на сцене «Ля Скала» в 1814 году. Тогда же он был освистан и жестоко провалился. Зрители приветствовали только певцов, а сконфуженного автора, сидевшего в оркестре за чембало (обычай, еще в то время не исчезнувший), никто не замечал.
На следующий день газеты презрительно писали, что «вульгарную буффонаду», вещь, которая еще туда-сюда сойдет в провинции, — нельзя ставить на столичных сценах. Так писалось на заре XIX века, называвшего вульгарной буффонадой вкусы и приемы прошлого, восемнадцатого века, любившего в опере выводить народ на сцене, портовую толпу, цыган, праздных девиц и подгулявших моряков, а также шум и гам толпы, любующейся если не балетом, так цирковой акробатикой. Пьесу Феличе Романи, легшую в основу оперы Россини, называли грубым площадным фарсом. Содержанье ее (фривольная горожанка отбивает у цыганки богатого приезжего турка, а рогоносец-муж горожанки страдает вместе с брошенным ею прежним любовником) — еще целиком в духе комедий конца восемнадцатого века. Только в виде новшества Романи вставляет в действие оперы сухой речитатив (secco — тоже отголосок века рококо!) некоего «Иль поэто», введенного в пьесу как ее автор, участвующий в игре, верней, руководящий игрой на самой сцене.
Но даже и в то время у Россини оказался один восхищенный зритель, только один-единственный, — зато какой! Итальянцы звали его по-свойски Арриго Бейль. И был это Анри Бейль, известный всему читающему человечеству как Стендаль… Я вычитала историю «Турка…» в программе, пока не начался спектакль, а после окончания его, неподвижно просидев два акта в течение почти трех часов, я мысленно благодарила судьбу за редкостное, освежающее наслаждение, снявшее с меня всякую усталость, потому что оно не только пережилось, как счастье, но и зажгло мою мысль.
Говорят, отцы и дети хуже понимают друг друга, чем деды и внуки. Если смена поколений исторически конфликтна, то пониманье через голову поколенья налицо не только в семьях, а и в культуре, в науке. С каким величайшим презреньем смотрел девятнадцатый век — «железный», по Блоку, на алхимию восемнадцатого, на его материализм, на его наивную музыку и наивные драмы Метастазио. А мы сейчас смотрим в лицо людям восемнадцатого, нашим «дедам», с любовью и пониманием, и химия нашего века отнюдь не смеется над алхимией… Но это к слову.
Что нового сделали болонский театр и его режиссер Альдо Трионфео на сцене с «Турком…» Россини, если добрый знакомый посоветовал мне пойти на этот спектакль, как на нечто передовое в опорном искусстве? Поняла я это далеко не сразу. И поняла, может быть, по-своему — не так, как сами постановщики. Прежде всего — тут действительно не было никаких трюков, все происходило просто и реально, как обычная драма человеческих страстей; не было попытки дать условную портовую толпу, условных цыганят и девиц, — но и подчеркиванья «реальности» их, как делали когда-то наши «художественники», тоже совсем не было. Поэт, — чудесный актер Альберто Ринальди, — в одежде эпохи молодого Гёте, с тем же отблеском восемнадцатого века на ней, как на самом театре, расхаживал по сцене с тетрадью и карандашом в руках, всматривался в своих героев, говорил сам с собой своим «secco», записывал в тетрадку и направлял действие — сперва к драматической кульминации, потом к счастливому концу. Во всем этом как будто не было ничего нового, а, наоборот, отдавало традицией совсем так, как чудесной, — драгоценной на мой взгляд, — традиционностью пахнут спектакли Островского, особенно «Волки и овцы», в исполнении на сценах приволжских театров, в Ярославле, Костроме, Ульяновске… Однако что же освежило и сняло усталость — и держало в неослабном внимании три битых часа? В чем обнаружился новый подход к опере?
Завязка и развязка «Турка в Италии» заключена была, по-моему, в центральной сцене встречи мужа-рогоносца и турка, влюбленного в его жену. Добродушный и смешной муж любит свою легкомысленную жену; влюбленный турок хочет откупить ее у мужа. Два характера необычайно ярко отразились и засверкали в музыке, сопровождаемые высоким реализмом жестов на сцене: восточный элемент этой музыки зазвучал для меня у Россини так знакомо, словно сам Россини наслышался наших дудуков и сазандарей. Родной для моего уха ритм весь перевоплотился в отрывистые, страстные движения турка, в ту цепь удивительно точных нюансов при вставании, сгибе ладоней, присаживании на корточках, мимике, какая неоспоримо передает для нас атмосферу и типаж Востока. Привычное россинневское острое стаккато, быстрая скороговорка (знакомая нам по «Севильскому цирюльнику») — и в ответ ей задушевные, чуть тронутые знаком вопроса европейские арии — создали удивительную сцену, где турок и муж-рогоносец разговаривают, не понимая друг друга. Турок хочет купить у мужа его жену за золото, считая это обыкновенной честной операцией. Муж не понимает, чего хочет турок, он не понимает, что можно купить человека у человека… И вдруг опера-буфф, написанная свыше полутораста лет назад, раскрывает в гениальной музыке и в глубокой игре певцов, что она вовсе не пустяк на один вечер, вовсе не чередование «номеров» на сцене, а настоящая интересная пьеса. Ее завязка — как я уже сказала — таит в себе и развязку. С легкомысленной жены спадает ее увлеченье, она тянется назад, к мужу, туда, где обнаружилось уваженье к ней, как к человеку, или, переводя на сухой язык наших дней, туда, где для нее — знакомый мир привычных социальных отношений.
Все это, повторяю, субъективное восприятие оперы. Но один вопрос всплыл у меня над всеми впечатлениями: условность искусства прошлого, скажем — опера XVIII века с ее типизированными персонажами, — была ли она условностью в восприятии этого искусства современниками или творцами самих этих опер? То есть сидел ли автор, грызя ручку, чтоб преднамеренно сочинить именно абстрактно-типовые фигуры, которые потом получили бы хождение, как типовые маски? И сидели ль зрители в театре, воспринимая зрелище именно как абстрактно-типовое, намеренно-условное? А не наросла ли «условность» и не возникло ли представленье об условности гораздо позднее, сквозь призму времени? Да и что такое «условность», все эти бесконечные споры и разговоры конца девятнадцатого века о масках, о «Comedia del Arte», о персонифицированных человеческих «качествах вообще», абстрактных типах, отвлеченных от конкретных множеств, как некие общие черты, связанные — по условной договоренности между собой (чтоб легче было строить выдуманную «реальность») — лишь — логической формальной связью? Короче говоря — существовала ли такая преднамеренная условность в эпоху, когда эти вещи, воспринимаемые нами нынче как условные, создавались? И не есть ли это аберрация позднейшего времени? Захваченная такими мыслями, я дошла вдруг до открытия, в чем новизна спектакля, созданного болонским «Театро Коммунале».
3
Я дошла до него не в театре и не сразу, а за своим шатким столиком в гостинице, где работала по утрам над привезенными с собой выписками. Я вздумала вообразить себя древним греком. Сижу я, древний грек, в театре и смотрю на всякие там «облака» и «лягушки» Аристофана. Вокруг меня хохот, и сама я хохочу до колик. Так было. Но разве мог бы древний грек хохотать над абстрактными облаками, связанными между собой формальною связью? Что ему Гекуба и что он Гекубе? Чтоб искусство — даже аллегорическое, даже замаскированное — могло задевать и захватывать зрителя, приводить его к резкой эмоциональной разрядке, оно должно покоиться не на формально-логических, а на конкретно-социальных связях, которые зритель узнает и которыми может заинтересоваться.
Новизна, с какой сумел болонский театр воскресить старика Россини, и заключается, по-моему, в том, что постановщик не поверил в «преднамеренную условность» далекого искусства прошлого. Он взглянул на шутливые, мелодраматические коллизии старой оперы, как на выросшие в тогдашней реальной обстановке и передавшие тогдашнюю реальную разницу двух социальных систем, которая и породила, в свою очередь, две конкретные психологии — мужа-европейца и турка, владельца гарема. Он, болонский театр, снял с наших глаз и слуха «чувство условности», словно катаракту, отнюдь для этого не прибегнув ни к каким навязчивым дидактизмам и натурализмам, а только глубже раскрыв текст и музыку, то есть то, с чем опера и была написана.
Выписки, привезенные мною в Италию, были главным образом из переписки Ленина с Горьким — и одно место, меньше всего известное и даже, кажется, не попавшее в сборники, посвященное ленинским высказываньям об искусстве, — неотступно стояло передо мной, когда я думала о болонском спектакле.
Напомню читателю, что самый достоверный свидетель жизни Ленина, Крупская, спустя шесть лет после его смерти, в мае 1930 года, в своем письме к Горькому оставила нам доказательство особой важности этой переписки: «Знаете, Владимир Ильич очень любил Вас… Когда Вы приехали, мне ужасно хотелось поговорить с Вами об Ильиче, попросту по-бабьи пореветь в Вашем присутствии, в присутствии человека, с которым Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо».[116] Горький, по словам этого письма, был человеком, с которым Ленин говорил о себе больше, чем с кем-либо. О себе — не значит, разумеется, что Ленин рассказывал Горькому о своем прошлом, своих чувствах, своих житейских радостях и горестях. О себе — по духу письма Крупской значит «раскрывал себя»: в сужденьях о людях, о работе, о событиях, то есть обо всем, что происходило, больше, чем перед другими.
И вот голосом этой большой внутренней интимности, когда Ленин спорит с Горьким, — очень осторожно, стараясь не травмировать его, а в то же время предельно точно, чтоб не оставлять его в заблуждении, — о непримиримом расколе между ним и «впередовцами» по философским вопросам, он неожиданно высказывается и об искусстве. Ловя с величайшим добродушием Горького на противоречиях («некругло у Вас выходит» — дважды в письме это словечко «некругло»), — Ленин вдруг сам высказывается что-то «некругло», словно самому себе противореча. Так как это место очень важно, а в цитате оно выглядит очень сложно, я остановлюсь на нем подробно.
Горький, силясь примирить дорогих ему людей, — Луначарского и Богданова, — с Лениным, а в то же время понимая, что он плохо разбирается в существе раскола и сам этот раскол не кажется ему уж очень необходимым или важным, — договаривается до фразы: «Людей понимаю, а дела их не понимаю». Ленин отвечает ему с той своей всегдашней стремительностью, с какой слова у него льются на бумагу: «Ошибаетесь Вы насчет теперешнего раскола и справедливо говорите: „людей понимаю, а дела их не понимаю“».[117] Написал это Ильич и тут же увидел, что не то написал, не то, что хотел, «справедливо»-то относится, собственно, не к самой фразе и даже… даже не то слово, а если подумать — наоборот! И около слова «справедливо» Ленин ставит звездочку, а в сноске пишет: «Добавление насчет „справедливо“: оговариваюсь. Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне». Если б он ограничился только этой гениальнейшей оговоркой, а верней, полным разносом признания Горького, полным отрицанием пониманья людей у Горького, раз тот не понимает их дел, — перед нами была бы законченная формула материалистической теории искусства. Но великодушный и деликатный Ильич захотел обстоятельней развить то, что он лично считал важным критерием искусства, и добавил: «Т. е. можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое».[118]
Поскольку я обещала читателю содрать с себя корку официального «страха божия» и не бояться впадать даже в такую «ересь», как разбор сказанного Ильичем, как если б он был обыкновенным человеком, я выскажу тут нормальное свое мнение, что Ильич вдруг добавленьем уничтожил сказанное раньше и как бы вместо оговорки — повторил Горького! Ну разве фраза «можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое» — не то же самое, что сказал Горький — «людей понимаю, а дела их не понимаю»? Совершенно то же самое, и если б Ильич действительно согласился с такой формулой, он не стал бы и оговорку писать. А он написал, и я повторяю ее, на этот раз прибегнув к собственному подчеркиванью: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
Сейчас объясню читателю, почему я придаю такое огромное значение мысли Ленина, сказанной в виде оговорки, — в ее первой части. Но до этого хочу попытаться объяснить противоречие, в которое тут впал сам Ленин. Может быть, он не мог позволить себе сказать крупному художнику, что тот не понимает подлинной психологии людей, если не вник в глубокий политический смысл борьбы, в которой эти люди участвуют, — и сказал это обратным ходом, переведя центр тяжести вопроса с «людей» на «борьбу», то есть на их «дело». Может быть, тут просто, от спешки, с какой добавлялась оговорка, произошли переползание смысла и синтаксическая перевернутость. Но что бы там ни было, факт остается фактом. Ленин прежде всего сказал (и этого топором не вырубишь): «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
Для меня это краеугольный камень эстетики Ленина, его понимание лепки художественного образа в литературе. Только лишь обличье человека, восприятие его по признакам, открытым для всех, — ну, скажем, — на улице, на скамейке в парке, на фотографии и даже — при разговоре, в гостях, в вагоне поезда (хотя и тут не остается человек без дела в прямом смысле слова, то есть без пассивного участия своего в каком-то общем движенье) — не может привести к глубинному пониманию психологии этого человека, а разве что к конкретным штрихам условного в целом портрета, — к «внешнему образу». Большой советский актер спросил у меня как-то: пробовали вы, сидя в театре, разгадывать для себя настоящий характер актера, каков он в жизни, когда видите его игру на сцене? Должно быть, он и сам, спрашивая это, не понял, какую глубокую и очень сложную вещь сказал, — ведь не только остроумная тренировка наблюдательности, а еще и дар диалектики нужны для такой разгадки, — поскольку «игра на сцене» — дело жизни актера…
Мы сами себя не очень знаем, мучаемся то неверием в себя, то преувеличеньем своих возможностей, — с тех незапамятных времен, когда древний философ выставил трудную задачу для нашего самоэкзамена: «познай самого себя». А мудрейший поэт человечества, Гёте, решил эту задачу очень просто, он ответил: начни действовать и ты сразу поймешь, что в тебе есть, на что ты годен. Ленин (как, кстати, не однажды) совпал тут — в своей формулировке познания людей — в точности с Гёте. Но только действие, дело он понимал глубже, не «общечеловечно», а по-марксистски, корнями, уходящими в экономику, в класс, в производственные отношения, а не только в одни производительные силы. Мне хочется привести тут пример, на который приходилось и в прошлом ссылаться.
Однажды чудесная советская писательница на большом собранье заявила, что художнику не надо знать экономические законы или торговлю, чтоб создать художественный образ. Я тогда ответила ей (экспромтом в ту минуту и много, много раз сознательно в последующие разы, как и сейчас): а как же лучший русский писатель после Пушкина, — Гоголь, — настойчиво просил у друзей и знакомых, когда засел за «Мертвые души», книг по статистике, экономике, о русском сельском хозяйстве? Отнюдь не потому только, что хотел знать последние данные о помещичьих усадьбах на Руси, по которым собирался поездить вместе со своим Чичиковым, это — само собой. И не потому только, что его интересовала механика взятия подушных налогов за крестьян у помещика. Это — тоже само собой, ведь он должен был знать, прекращается ли налог за «душу» сразу, как эта душа помрет, или надо помещику платить и за мертвого до новой «ревизской сказки», ведь на этом был построен весь его замысел, на это именно, как на удивительный казус, полный необыкновенных возможностей для романа, — обратил его внимание Пушкин. Но роль Гоголя, как великого творца-художника, вовсе не исчерпывалась этими, как мы их назвали бы сейчас, техническими моментами. Гоголь оставил нам галерею бессмертных художественных образов, — я не представляю себе ни единого грамотного человека в нашей стране, кто, прочитав «Мертвые души», при одном только упоминании имен: Коробочка, Собакевич, Манилов, Чичиков, — не представил бы их себе, как живых, с плотью и кровью той человеческой особенности, какую мы именуем характером. Как живых — а не внешне-условно.
Однако же разберемся аналитически, чем и в чем достиг Гоголь этой бессмертной передачи живого человеческого характера? Описаньем главного дела их встречи: купли-продажи. Уберите из романа страницы, где Манилов, в результате туманного «заумного» философствования, мягкотело отдает свои «мертвые души» — витающие в его мозгу где-то абстрактно — задаром Чичикову; вычеркните сцену, где, на первый взгляд, добродушная, но кулачиха до мозга костей, Коробочка, понимающая своих мертвых крестьян, как материальные трупы и кости в земле, изматывает Чичикова своей нерешительностью: «Право… мое такое неопытное вдовье дело: лучше я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам»; снимите у Собакевича, прожженного дельца, во всем любящего прочность, как он торгуется с Чичиковым: «Вам нужно мертвых душ? — …без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе» — и тут же запрашивает за мертвую душу аховую цену — сто рублей. Для него эти души, поскольку они понадобились, — товар, он перечисляет их качества: «Милушкин, кирпичник: мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного! А Еремей Сорокоплёхин!.. в Москве торговал, одного оброку приносил…».[119] И на все конфузливые напоминания Чичикова, что ведь это, так сказать, мертвые, «неосязаемый чувствами звук», «предмет просто фу-фу… кому нужен?» — он отвечает: «Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен». Попробуйте убрать все эти сценки торговли — и тогда образы, словно из камня выточенные в вашей памяти, вдруг сразу обмякнут, потеряют характер, станут более или менее общими, внешними. Бессмертно, в полноте характеристики, возникают они именно в момент купли-продажи. А вместе с ними возникает картина всей русской крепостной деревни до реформы, весь конкретный исторический уклад отсталой русской экономики. «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
4
Обратил ли Горький особое внимание на эту фразу в письме Ленина? У нас есть важные свидетельства. Весной 1930 года готовилось к печати новое издание воспоминаний Горького о Ленине. Но вот Горький получил уже упомянутое мною письмо Надежды Константиновны от 25 мая. И он делает вещь, показывающую, как глубоко отозвалось в нем это письмо, — он пишет 20 июня своему секретарю: «Я предлагаю задержать выпуск воспоминаний, потому что могу дополнить их теперь, имея в руках письмо Н. К. Крупской, в котором она свидетельствует, что со мною „Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо“».[120]
Чем же он хочет дополнить свои воспоминания?
В этот же год, 1930-й, Горький набрасывает хранящиеся сейчас в архиве «Заметки», где есть очень важное место о Ленине. Это место показывает, что Горький правильно понял Крупскую, именно так, как сказано мною выше: для Ленина говорить о себе — не значило делиться интимными личными горем-радостью, а полнее, откровеннее раскрывать себя в своих мыслях и суждениях о вещах. Именно в этом смысле напрягает Горький свою память, стараясь припомнить — чтоб не исчезло! — как раскрывался Ильич перед ним в своих внутренних настроениях, какие удивительные, необычные мысли высказывал. Он припомнил встречу с Лениным у Екатерины Павловны Пешковой 20 октября 1920 года в Москве. Я приведу ее почти всю. Начинает Горький сокрушенно, как исповедь-покаяние.
«Люди читали, учились, а я, начиная с 907 года, усердно копался в пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии. Это — тяжелая работа, но я должен был сделать ее для того, чтоб знать по возможности все, что может отравить, задержать рост революционного правосознания пролетариата. Сколько подлого и глупого прочитано мною! И остались непрочитанными умнейшие статьи Ильича, друга, учителя, так трогательно заботливо относившегося ко мне.
Когда у Екатерины Павловны я сказал ему об этом, он засмеялся и ответил:
— А — я? Гегеля не успел проработать как следует. Да — что Гегеля! Много не знаю, что должен бы знать. Я вовсе не оправдываю вас и себя тоже. Но ваше дело все-таки другое. Не по существу, а по форме. Дураком вообразить себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака. Вот — разница.
И — великодушно похвалил:
— Зато дела дурацкие вы знаете назубок. Слушая ваши рассказы, даже боишься: не успеет написать».[121]
Тут Ленин — за три с лишним года до своей смерти — с удивительной силой указывает разницу между политиком и художником. Чтоб создать художественный образ «дурака», писатель должен «дураком вообразить себя», а для этого — напитаться «дурацкими делами». Новая ли это мысль у Ленина? Впервые ли он так категорично делит («не по существу, а по форме») работу политика и работу художника? Нет, еще в самом начале их дружбы с Горьким, в разгар борьбы с идеалистическими тенденциями «впередовцев», Горький присылает в газету «Пролетарий» (которая, по мнению Ленина, должна оставаться абсолютно нейтральной к расхождению большевиков в философии) статью, излагающую взгляды только одного течения — богдановского, враждебного Ленину. И что же пишет Ленин Горькому, отклоняя его статью, в острую минуту, когда сам он «прямо бесновался от негодования», читая «эмпириокритиков, эмпириомонистов и эмпириосимволистов», — что пишет он писателю пролетариата? Вот что:
«Я не знаю, конечно, как и что у Вас вышло бы в целом. Кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии хотя бы идеалистической, Вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу».[122]
«Пролетарий», орган политический, должен идти своим, политическим путем, не печатая фракционного материала. Но художник, писатель Горький, может извлекать свой опыт из любого источника, хотя бы из идеалистической философии (Ленин даже подчеркивает — идеалистическую философию!), потому что он может извлечь для себя из нее нечто, необходимое в его творчестве, приносящее в итоге пользу рабочей партии, — огромную пользу, как пишет Ленин. Художник, чтоб создавать образы, должен осваивать почву, питающую эти образы, — иначе вряд ли будут они реальными.
Мне вспоминается тут, к слову сказать, письмо Блока, где, критикуя раннюю мою пьесу, он пишет мне, что для правильного изображения отрицательных персонажей надо в них «сатирически влюбиться». Это как будто «из другой оперы», но по существу исходит из того же глубинного понимания художественного творчества, огромной силы бесстрашного знания, знания до влюбленности, знания до перевоплощения в изображаемого человека. Политик, руководитель, стратег дураком вообразить себя не имеет права; он органически не смеет влюбиться в дурака — до самоперевоплощения в него; а художник должен и смеет, иначе он никогда не покажет дурака в искусстве.
Ленин широко понимает это, он широко открывает двери всяческой информации и всяческим «любвям до перевоплощения» — для творческого работника. Заметки, в которых Горький силился восстановить в памяти сказанное ему Лениным, говорят о профессиональном характере восстановленных слов, об отношении их к психологии творчества писателя и к так называемой специфике этого творчества. Но, кроме сказанного Лениным у Пешковой: «Дураком вообразить себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака. Вот разница», — Ленин добавляет (и Горькому кажется, что это из великодушного желания похвалить): «Зато дела дурацкие вы знаете назубок». Такое коротенькое добавление! А между тем оно в точности совпадает с ленинской формулой: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
Помню, когда я впервые, несколько лет назад, начала читать «Клима Самгина», я испытала странное чувство невыносимой сухости от непрерывного, бездейственного говорения множества персонажей, почти нигде не показанных Горьким во время их профессиональных, служебных, общественных занятий, то есть когда они что-нибудь делали бы, — а только в бесплодном словоговорении. Особенно это относилось к Самгину, молчаливо и тоже совершенно бездейственно пребывающему в центре словоговорения, иногда, не слушая собеседника, поглощенному в безостановочный самоанализ. Даже когда по ходу романа он должен поступить на службу в Земгорсоюз, в тексте появляется пропуск. Комментарий к роману говорит: «Объясняется этот пропуск тем, что Алексей Максимович, нуждаясь в каких-то дополнительных справках, отложил написание этих сцен, перейдя непосредственно к дальнейшему изложению».[123] Но и в первых трех книгах герои этой многонаселенной гигантской эпопеи почти не действуют, а только говорят; даже положительные образы, эсдеки (социал-демократы), проходят по страницам, лишь роняя слова.
Правда, в первой книге происходит событие, прямым участником которого становится Клим Самгин. Его товарищ детских игр, мальчик Борис, катаясь с ним на коньках, тонет в полынье. Клим ползет к ней, а из воды, моля о спасении, протягиваются ему навстречу красные, израненные об лед руки тонущего мальчика. Он — из трусости не доползает, не спасает товарища. Действие со знаком минус. Однако все же действие. И вот, в продолжение всего романа, эта реальная рука реально тонущего товарища медленно теряет свою реальность, принимая в воспоминаниях Самгина иллюзорный характер: «да был ли мальчик-то?» Реальный лейтмотив романа как бы переворачивается к вам спиной, становясь иллюзией… Сознательно ли избрал Горький такой прием для медленного развенчивания Самгина, не воплотившего себя перед читателем ни в одном акте человеческой деятельности, кроме серии любовных связей?
Тут невольно приходят в голову собственные слова Горького, как он, «начиная с 907 года, усердно копался в пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии», — и навстречу этому самопризнанию встает ответ Ленина: «Зато дела дурацкие вы знаете назубок». Не в великодушную похвалу, как подумалось Горькому, — это сказано было гораздо глубже и серьезней. Огромный книжный материал, — и притом односторонний, — глыбой навис над широчайшим полотном, призванным воссоздать не узкий круг, а несколько десятилетий важнейшей эпохи в русской предреволюционной жизни. И многие из нас, горячо полюбивших Горького, как любят свежий ветер, ворвавшийся в форточку, как раз в эти же годы, в эти же предреволюционные дни, молча спрашивали себя, вспоминая свои счастливые слезы над его страницами: где же тут Горький, создавший «Мать», «Страсти-мордасти», «Рождение человека», «Фому Гордеева»? Где тут биение сердца Горького? Его умение увидеть лилию на мусорной куче, свет в темноте?
Биографические «Заметки», в которых Горький силился восстановить сказанное ему Лениным, писались как раз в те годы, когда он заканчивал четвертую часть «Клима Самгина». Как известно, роман этот остался неоконченным… Но не совсем. И тут, как мне кажется, можно услышать отголоски сказанных Горькому ленинских слов.
В архиве Горького нашлись отдельные наброски и отрывочки, относящиеся к концу романа, доведенному до Октябрьской революции: сцены приезда Ленина в Петербург, Ленин в понимании народа, Ленин, каким он кажется интеллигенции и Климу Самгину; сцены финала, и, напоследок, даже конец, так и озаглавленный «Конец» с большой буквы, — очень страшный.
Я напомню его читателю, но сперва несколько слов об одном отрывочке.
В потоке имен гигантской эпопеи есть имя, как будто малозначащее: Любаша. Простая девушка, стихийно, по классовой принадлежности своей, тянущаяся к революционерам. Горький выделяет ее и вот что пишет о ней в своем отрывке:
«Любаша… померла. Скончалась. Не идет к ней — померла. Зря жила девушка. Рубашки эсерам шила и чинила, а ей надо бы на заводах, на фабр[иках] работать».[124]
Кто это говорит? Самгин? Нет, это говорит Горький, пожалевший действенное лицо своего романа. Он хотел бы дать ей настоящее дело, он чтит ее словом «скончалась», потому что Любаше, труженице, как-то не идет менее уважительное слово «померла». И вот мы подходим к сценке, озаглавленной «Конец»:
«— Уйди! Уйди с дороги, таракан. И — ох, тар-ракан!
Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот…
Ревел густым басом:
— Делай свое дело, делай!
— Порядок, товарищи, пор-рядок. Порядка хотите.
Мешок костей.
С[амгин].
Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.
Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает.
Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это, тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку».[125]
Тут все страшно. Почему «тар-ракан» в адрес Самгина? Не совсем обычное ругательство для униженья человека… Но приходит в память выраженье «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан»,[126] употребленное Лениным в письме к Горькому, — не оно ли всплыло из подсознанья писателя? И это убийственное «делай свое дело, делай» — трижды корень от «делать», наконец-то появившийся — для уничтоженья бездельника Самгина. И — грязный мешок с костями. Жутко расправился Горький с созданным им на тысячах страниц персонажем. Есть и еще одна деталь: не два глаза, только один глаз оказался открытым у мертвого. Врачи сказали бы, что эта асимметрия (один закрылся, другой остался открытым) встречается чаще всего у сифилитиков. Сколько нужно было ненависти к своему герою, чтоб, еще не дописав книгу, создать (сознательно? интуитивно?) такую деталь и набросать заранее такой полный, такой страшный его конец…
День уже угасал в Болонье, когда я вышла проститься с городом. Мне было отрадно, что и он, этот любимый мной город в Италии, чем-то вмешался и обогатил мою тему, которой я жила мысленно все эти дни.
Среди итальянских городов Болонья стоит особняком. Другие захватывают вас отдельными красотами — соборными площадями с их «дуомами» и «кампаниллами», всякий раз неповторимо разными, как во Франции, Падуе, Павии, Парме; громадинами средневековых замков-крепостей, давящих своей квадратной массивностью хрупкие современные улицы вокруг, как в Милане; остатками античных руин, словно зубами гигантов прорезывающими уличный асфальт, как в Вероне; перламутровым таяньем воды и неба и кружевными фасадами истертых временем дворцов, как в Венеции… Но Болонья — особая. Она — вся. То есть вся она целая, как бы из одного куска. У нее в центре, как на окраинах, один и тот же колорит багрового оттенка, как у заходящего при сильном ветре солнца.
Быть может, оттого, что в центре ее стоит статуя Нептуна, держащего трезубец, Болонья всегда напоминает мне что-то геральдическое, — старинные гербы на щитах и всякие символы-эмблемы на фасадах, печатках, гробницах, во всей их колючей витиеватости, в самоутверждении их остроконечных форм, — когда еще ничто смягчающее, ничто чувственное не коснулось этих жестких орлиных клювов, рыцарей в железных наколенниках, скрещенных мечей и пик. Но несмотря на колючий облик, — как хорошо и просто жилось в Болонье! И мне захотелось тихонько бросить монетку («на возвращенье») в дивный бассейн у ног Нептуна, как делают с фонтаном Треви туристы в Риме.
III. Сорренто
…Und wenn der Mensh in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich liede.
Goethe[127]1
Ехать на машине из Неаполя в Сорренто — сплошное мученье. Спутник, сидящий у баранки, начинает вас ненавидеть. Я раздумывала в дороге, почему. Откуда у водителя рождается ненависть к седоку? И поняла, что сам ты — сидишь и больше ничего, сидишь и думаешь, может быть, даже нос уткнул в прихваченную желтую итальянскую книжонку (дешевые детективы так и зовутся в Италии желтыми, джало). А водитель переживает драму непрерывной аритмии, худшей, чем сердечная. Дело в том, что все дороги на выезде из Неаполя, даже в раннее утро, почти в ночь, забиты машинами до полной непроходимости, как кишки. Двигаешься не только шагом, — счастливые пешеходы давно обогнали вас, и — вон они где, уже за поворотом! Двигаешься — толчками. Шаг вперед — стоп, два шага — стоп. И эта страшная аритмия длится час, и два, и три. С ненавистью косит на вас глаз водитель: захотела ехать машиной!
А мне действительно было отнюдь не плохо. Я сидела и думала. Отсутствие дорожных впечатлений справа и слева, спереди и сзади, почти не менявшихся у вас на глазах, не мешало, а помогало развитию мыслей. Я думала о двух людях, очень близких друг другу, но сознавших (или, может быть, только почувствовавших) степень этой близости лишь перед самой своей смертью. Вокруг, хоть и стиснувшее нас боками и носами автомобилей, было преддверие рождества; сама неистовость этого «движенья толчком» говорила о кануне рождественского праздника: на ежемгновенных стоянках ухитрялись пробираться к сидящим в машинах безумные лоточники со всевозможным удешевленным товаром; поперечные ленты плакатов кричали над дорогой: «Доброе рождество! Доброе рождество!» — а я думала о том, как два близких друг другу человека — умирали. Они удивительно умирали.
Я везла с собой, разумеется, не джало. В сумке у меня лежала свернутая тетрадь записей из нужных книг, которые, по толщине их, невозможно было захватить за рубеж. Записи эти и читать не стоило, я знала их наизусть, знала так, что глазами видела, о чем они говорят. Глазами видела, как первая из них писалась — с бегущими по щекам слезами у того, кто писал, потому со слезами, что и сейчас, читая ее, плачешь.
«Дорогой Алексей Максимович, похоронили мы вчера Владимира Ильича, писала Крупская Горькому. — …Около газеты, которую мы читали каждый день, у нас шла беседа. Раз он очень взволновался, когда прочитал в газете о том, что Вы больны. Все спрашивал взволнованно: „Что, что?“… И еще. В книжке Гильбо он нашел ссылку на Вашу статью о Ленине от 18-го года,[128] помещенную в Коммунистическом Интернационале, и попросил перечесть ему эту статью. Когда я читала ему ее — он слушал с глубоким вниманием…»[129]
Шесть лет прошло с тех пор, как Надежда Константиновна писала это, а слезы еще не были выплаканы — ни у нее, ни у тех, кто пошел за Лениным. 25 мая 1930 года она опять пишет Горькому: «…Когда Вы приехали, мне ужасно хотелось поговорить с Вами об Ильиче, попросту по-бабьи пореветь в Вашем присутствии, в присутствии человека, с которым Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо… И все вспоминалось мне, — я раз уже писала Вам об этом, — как Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал…»[130]
Спустя двенадцать лет после ухода Ленина умирал и Горький. Тот Горький, кто говорил сам о себе, что питает «органическое отвращение к политике»,[131] кого огрехи революции, непониманье необходимых ее жестокостей, злобные стенанья буржуазной интеллигенции, голод и неразбериха в Петрограде, уже не столице, но полном столичной мути, — оттолкнули от первых лет Октября, грозных, но таких захватывающе счастливых своей нравственной силой; Горький, кто отдалился от Ленина и большевиков, а потом, — вернувшись, в тридцатых годах был действенно с ними и, по словам Крупской, «по уши в политике, пишет горячие публицистические статьи, видит рабочих, сколько хочет»,[132] — этот живой, любимый Горький был при смерти. Вокруг его смертной постели тоже стоял мысленно советский народ. Но реально — был с ним один из самых тонких и умных врачей-физиологов, А. Д. Сперанский. Он дежурил у Горького в последние ночи и, когда Горький умер, напечатал в «Правде», чему был свидетелем в эти часы ночных бдений.
По его словам, умирающий «несколько раз вспоминал Ленина. Однажды ночью начал рассказывать о первой с ним встрече: „Я об этом не писал, да, кажется, и не говорил. Увиделись мы в Петербурге, не помню где. Он маленький, лысый, с лукавым взглядом, а я большой, нелепый, с лицом и ухватками мордвина. Сначала как-то все не шло у нас, а потом посмотрели мы друг на друга повнимательней, рассмеялись и сразу обоим стало легко говорить…“»[133]
Умирающий Ленин думал о Горьком, «подводя итоги жизни», и ему захотелось перечесть, что написал о нем Горький в своей статье. Умирающий Горький думал о Ленине, и ему захотелось высказать то, о чем он еще никому не говорил и написать не успел, — как они в первый раз встретились, один маленький, лысый, с лукавством в глазах, а другой — неуклюжий, большой, скуластый, как мордвин, поглядели друг на друга внимательней, — раньше «не шло», а тут засмеялись и все стало легко. У Ленина — через мысль, у Горького — через пластику образов, — такова удивительная предсмертная «встреча памятью» двух людей, кончающих жизнь. Она так знаменательна в биографии обоих, что хочешь углубиться в нее, подумать о ней, как о заданной жизнью загадке.
И прежде всего: о чем говорила статья Горького, написанная в июле 1920 года — еще при жизни Ленина — и тогда же, в 12-м номере «Коммунистического Интернационала» напечатанная? Что заставило тяжко больного, умирающего Ленина все свое внимание напрячь, слушая эту статью, и глядеть вдаль, в окно, как бы подводя «итоги жизни»?
Горький писал о Ленине, как о романтике, об утописте, о человеке, видевшем впереди чудесный мир счастья всего человечества: «…я не могу представить его себе без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей, о светлой, радостной жизни… Ленин больше человек, чем кто-либо иной из моих современников, и хотя его мысль, конечно, занята по преимуществу теми соображениями политики, которые романтик должен назвать „узко практическими“, но я уверен, что в редкие минуты отдыха эта боевая мысль уносится в прекрасное будущее гораздо дальше и видит больше, чем я могу представить себе. Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля…».[134]
Надежде Константиновне казалось: в эти последние часы жизни (оставалось ее, если судить по Летописи, подготовленной Институтом мировой литературы имени А. М. Горького, во всяком случае не больше, чем две трети месяца, а возможно, и несколько дней) Ленин, слушая статью Горького, подводил итоги жизни и думал об авторе статьи. Читателю сейчас, после знакомства со статьей Горького, кажется, что Ленин весь ушел мыслью в будущее, в светлый мир счастья человечества. Но возможно и третье, и это третье — вероятней всего, ведь Ленин захотел перечесть, что написал Горький о нем самом, о Ленине, написал еще при его жизни. Вряд ли, слушая слово друга о себе, представляя его словами свой путь человеческий, личный путь одного из миллионов людей, — если не «на отдыхе», то — перед вечным отдыхом, перед уходом в небытие, — не оглянулся Ленин на себя самого, не задумался о своем прошлом и о себе, как о человеке, мыслившем, боровшемся, страдавшем, любившем, чувствовавшем…
Могут возразить мне, что это лишь домысел, — и заглянуть в душу Ленина, когда он умирал, ни для кого невозможно. Однако есть очень веское обстоятельство в пользу именно этого «третьего». Читатель обратил, конечно, внимание на слова Надежды Константиновны «попросил перечесть». Статья Горького «Владимир Ильич Ленин» была прочитана Лениным уже три года назад, когда она появилась в печати. Сомнения в этом быть не может, потому что она тогда же вызвала у него очень бурную реакцию недовольства и специальное решение Центрального Комитета. Вот что пишет об этом А. А. Андреев в своих воспоминаниях: когда появились статья и вдобавок письмо Горького к Уэллсу (в том же номере напечатанное), содержащие, кроме высокой хвалы Ленину в первой статье, еще и неверные положения о русском крестьянстве, о взаимоотношении Востока и Запада, и т. д., в письме к Уэллсу, — Ленин был возмущен. Он «потребовал строгого решения ЦК, указывающего на неуместность подобных статей и запрещающего впредь помещать их в журнале. Такое решение по предложению Ленина было принято».[135]
В проекте этого решения имеются такие слова: «…ибо в этих статьях не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического».[136]
Мог ли Владимир Ильич забыть и это решение, и свою бурную реакцию на хвалебный тон статьи? Вряд ли. Почему же вдруг, спустя три года, тяжко больной, не могший ни говорить, ни читать, а только слушать, как читают ему вслух, захотел он снова воскресить в памяти слова о нем Горького? Ведь не для политически неверных мест, чтоб повторить мысленно свое осуждение? Не для недовольства «высокой оценкой», показавшейся ему в первом же чтении неуместной? Заглянуть в тот миг в его душу было нельзя, но Надежда Константиновна глядела в его лицо, — хорошее, задумчивое, отнюдь не возмущенное: «Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал…»
А ведь — вспомним — с каким огромным грузом на плечах должен был уходить Ленин из жизни! Он оставлял за собой созданный им, недостроенный новый мир и огромные трудности его сохраненья и развития; он знал, что за дверями ждут от него его верные соратники указанья, совета, помощи; он о каждом из них глубоко задумывался в последние годы, каждого как бы остерег и предупредил анализом его достоинств и недостатков о степени пригодности для революционной работы; и, наконец, он сердцем чувствовал, не мог не чувствовать горячую боль и тревогу дорогих ему — жены, сестры… сколько всего! А между тем — взгляд, уходящий вдаль, в окно, — словно не в будущее, а — в прошедшее, тишина памяти. Словно набег волны Времени поверх всего — поднял и понес память не от себя к миру, а от мира к себе, может быть, в первый раз с вопросом — какой я, какова прожитая жизнь, каким представляет меня воображенье художника, друга.
Горький тоже оставлял за собой груз недоделанного: был недописан «Клим Самгин», казавшийся ему самым важным трудом его жизни; он оставлял мир профессиональной работы, — все эти письма, требовавшие ответов, чужие рукописи, требовавшие прочтения, — соратников, выпестованных им людей пера. И в его жизни было много любвей, а вокруг — много привязанностей. Но мысль его обращалась перед смертью — к Ленину. Он не то чтобы «вспомнил его». Сперанский пишет: «Несколько раз вспоминал».
Я назвала эту предсмертную «встречу памятью» двух людей «удивительной». А ведь если подумать — удивительного в этом ничего не было. Удивительно, что этой дружбы-любви между вождем-политиком, отцом революции, и художником-самородком из народа, этой необходимости таких двух разных людей друг для друга — еще не коснулось большое искусство. И еще удивительней, — как до сих пор относимся мы к человеческому в биографии Ленина, покрыв непроницаемой шторкой то самое «окно вдаль», куда перед смертью смотрел уходящий взгляд человека — Ленина.
«Аскетически и мужественно», — написал Горький. Мужественно — да. Но «аскетически» — тут Горький ошибся! Ленин ненавидел аскетизм, он страстно любил жизнь. Он прошел через благодатную личную любовь. Он людей любил горячо, глубоко, влюбленно. Он даже о Марксе и Энгельсе страстно писал: «Я все еще „влюблен“ в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно».[137] Помню, каким откровением для меня была страница из книги Дридзо о Крупской. Там рассказано, как целомудренно-сдержанная Надежда Константиновна просто не выдержала, десятки раз читая книжки и рукописи, где на все лады повторяется, будто они с Лениным в селе Шушенском только и делали, что Веббов переводили. Переводили Веббов! Молодожены были, любили друг друга, все радовало в те дни, «молодая страсть» была, — эти два слова принадлежат ей самой, их приводит в своих воспоминаниях Вера Дридзо,[138] — а тут вдруг «Веббов переводили». Чувствуешь, как велико негодование этой сдержанной женщины, сохранившей в двадцатом веке все чистые черты революционерки прошлого века, если, не выдержав, произносит она «молодая страсть». Но ведь признаемся: чем другим занято было немало писателей, историков, исследователей, как не набрасыванием на пламенную жизнь величайшего человека современности, из года в год, для детей и для взрослых, домотканой кисеи: «Веббов переводили»…
Огромная жизнь прожита, но не аскетическая. Жизнь на отказах, да, на «отречении», — Entsagung по Гёте, — на том великом отказе от увлекательного, захватывающего, отвлекающего, личного во имя народного счастья, — великого творческого счастья главной любви, главной темы жизни. От «шахмат» — во имя политики…
Я вдруг очнулась от мыслей, как от прерванного сна. Словно внутренний толчок прервал их, хотя это был совсем не толчок, а как раз наоборот: плавный, легко шуршащий шелест ритмично летевшей машины. Мы выбрались, оказывается, из «толчеи непротолченной», — по выдуманному Надеждой Константиновной словечку,[139] — и мчались теперь по узкому берегу Неаполитанского гольфа. Справа синели воды залива, синели — не то слово. Синь была, не глядя на месяц декабрь, раскаленная, как на окалинах расплавленного металла, с затаенной краснотой огня. Солнце жарило не по сезону. Слева висели песочного цвета скалы с пыльной растительностью и яркой, тоже до боли в глазах, белизной редких строений. Флора исчезала, фауны не было — на всем залитом солнцем, как жидким золотом, побережье в одиночку катилась мячиком наша машина с подобревшим товарищем у руля. Где-то за ущельями осталась Помпея, миновали «Китайскую землю» Террачину. Ехать стало очень интересно. Я уложила тетрадь с выписками, по которым осторожно, словно дитя за руку, вела свои несмелые мысли, обратно в сумочку и стала глядеть по сторонам. Но тут — отступление.
Гётевский термин «Entsagung» и само упоминание о Гёте многим может показаться странным рядом с именем Ленина. Хотя сам Ленин — в случайных воспоминаниях — дважды упоминается рядом с именем Гёте, сперва — когда захватил с собой в эмиграцию среди немногих книг томик «Фауста» (видимо, на немецком языке), и вторично — когда попросил уже из эмиграции — выслать ему «Фауста» в русском переводе, но дело, разумеется, не в этих случайных упоминаниях.
Ленин был величайшим революционером нашей эпохи, а Гёте вошел в историю литературы как «консерватор». Но последнее верно лишь отчасти и притом в той же мере, в какой применимо и к Ленину, не раз требовавшему уважения к прошлой культуре, освоения всего лучшего в ней, сбережения ее, — и утверждавшему даже, что без такого освоения — коммунизма не построить. Не только от молодежи, то есть от тех, кто сел за школьную парту учиться, требовал этого Ильич. Замечательно, что он хотел этого от старых учителей, тех, кто будет учить новое поколенье — и к сожалению, слова его о учителях цитируются куда реже, чем речь к комсомолу. Вот что сказал Владимир Ильич на совещании политпросветов 3 ноября 1920 года:
«…цель политической культуры, политического образования — воспитать истых коммунистов, способных победить ложь, предрассудки… и вести дело строительства государства без капиталистов, без эксплуататоров, без помещиков. А как это можно сделать? Это возможно, только овладев всей суммой знаний, которую унаследовали учителя от буржуазии. Все технические завоевания коммунизма были бы без этого невозможными, и была бы пуста всякая мечта об этом». Пусть будут эти старые учителя «пропитаны недостатками капиталистической культуры», но все равно их надо «брать… в ряды работников просветительной политической работы, так как эти учителя обладают знаниями, без которых мы не можем добиться своей цели».[140]
Все это, однако же, лишь попутно. Главное, почему я не боюсь вставить имя Гёте в свои размышленья о Ленине, — потому, что в области мысли и Гёте был величайшим революционером. Он стоял на хребте двух эпох, когда средневековое, феодальное мышление еще не исчезло, и оно начинало перерождаться в кабинетную, абстрактную мысль идеалистической философии нового времени. А Гёте — вот в чем величие созданного им — стал на переломе этих двух эпох как бы маяком для эпохи будущего, ясным, трезвым, глубоким материалистом-диалектиком. Не аром его наследие дало огромный цитатный материал для Гегеля, Маркса, Энгельса. И часто, читая Ленина, я встречала почти дословное выраженье глубочайшей диалектической идеи, которая у Ленина восходила к Марксу — Гегелю, как к первоистоку, а у Гегеля восходила к высказанному у Гёте. В одной из десяти тетрадей Ленина по философии имеется отрывок, озаглавленный «К вопросу о диалектике», где Ленин как бы суммирует глубоко захватившее его у Гегеля соотношение релятивного и абсолютного, частного и общего, единичного (которое он называет «отдельным») и всеобщего. И Ленин, суммируя свои мысли, создает для себя такую формулу:
«…отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного».[141]
Если б Ленину попался в ту пору девятнадцатый том сочинений Гёте в издании Хемпеля (лучшем, на мой взгляд, издании Гёте) и он развернул его на странице 195, ему бросилась бы в глаза его собственная «суммирующая» мысль в лаконичном изложении поэта:
Что есть общее? — Единичный случай. А что есть отдельное? — Миллионы случаев.[142]Г. В. Плеханов, с которым Ленин, как с близким соратником, почти всегда боролся бок о бок в философских спорах,[143] выступая с ним вместе против Богданова цитирует (в примечаньях к своему переводу «Людвига Фейербаха» Энгельса) знаменитое шестистишие Гёте о познаваемости мира:
Вы должны, при изучении природы, Всегда воспринимать единичное как всеобщее; Ничего нет внутри, ничего нет снаружи, Ибо то, что внутри, то и снаружи. Так схватывайте ж без промедленья Святую открытую тайну.[144]И, процитировав, пишет: «В этих немногих словах заключается, можно сказать, вся „гносеология“ материализма…»[145]
А кардинальнейшая идея собственно ленинской философии, идея, без которой, в сущности, не было бы и марксизма, — что всякая теория проверяется практикой и практика является критерием теории, — эта идея ведь — сердце гётеанства, любимое дитя гётевского мышления. Гёте говорил об этом множество раз, он неоднократно к этому возвращался, как бы подчеркивая повторением важность и неизменность мысли: «Моим пробным камнем для всякой теории остается практика».[146] Но как тут не вспомнить раздел «Критерий практики в теории познания» в «Материализме и эмпириокритицизме», раздел, где Ленин вводит практику как критерий в самую основу гносеологии и громит идеалистов за отделение теории от практики; как не вспомнить и постоянные указания Ильича — практикой проверять теорию! До самых последних дней жизни делал Ленин эти указания. В последнем, что он написал, «Лучше меньше, да лучше», он наблюдает в советских, еще хаотических и не нашедших себя учреждениях «интереснейшее явление, как в общественной жизни величайший прыжок вперед соединяется с чудовищной робостью перед самыми маленькими изменениями».[147] Что означает такое несоответствие? Отрыв теории от практики, уход теории в абстракцию. Мизерная, трусливая практика (неумение внести ничтожнейшие практические реформы при полете прожектерской мысли под облака) — становится как бы критерием этой заоблачной теории, подвергает критике самый «прыжок вперед». Отсюда вывод: лучше меньше, да лучше. Когда, например, слишком много и легко разглагольствуют о пролетарской культуре, Ильич тянет «теорию» назад, применив «пробный камень практики»: «нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры, нам бы для начала обойтись без особенно махровых типов культур добуржуазного порядка, т. е. культур чиновничьей, или крепостнической и т. п. В вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего. Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать себе хорошенечко на ус».[148]
Сфера этих идей — материалистическая диалектика познания мира и проверка критерием практики всякой теории — не только марксо-ленинская, она и гётеанская сфера. И я останавливаюсь на ней так долго потому, что, как ни странно прозвучит это для современного советского уха, — личный мой путь к марксизму проложен был гётеанством. А так как все это вместе имеет и прямое касание к проблеме Ленин — Горький, я решаюсь начать издалека и обо всем, как на духу, рассказать читателю, не боясь утомительных, быть может, для него отступлений…
Мы подъезжали тем временем к Сорренто. Почему я вздумала провести рождественские две недели в Сорренто, хотя друзья настойчиво уговаривали меня остаться и под Генуей, и над Болоньей, где сулили «красивейшее в мире место», названное так самим Наполеоном? Сюда привело, как на свидание с чем-то единственно милым сердцу, — страстное желание быть ближе к месту моей темы и еще — несколько беглых фраз из воспоминаний М. Ф. Андреевой. Она писала: «Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, Неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя. Горький удивительно рассказывал. Он умел двумя-тремя словами нарисовать пейзаж, обрисовать событие, человека. Это его свойство особенно восхищало Ленина. Со своей стороны, Горький не переставал восхищаться четкостью мысли и яркостью ума Владимира Ильича, его умением подойти к человеку и явлению прямо, просто и необыкновенно ясно. Мне кажется, что именно с того времени Ленин нежно полюбил Горького. Не помню случая, чтобы Ленин сердился на него. Горький любил Ленина горячо, порывисто и восхищался им пламенно».[149] В этих немногих словах большая артистка сумела ярко противопоставить две индивидуальности, сохранив эмоциональный оттенок их отношенья друг к другу. И кроме того Неаполь, Везувий, Неаполитанский музей, исхоженные и мною вдоль и поперек… И ко всему прочему — происхождение самого слова «Сорренто», от древнего латинского корня «улыбка»; уже несколько лет оно как бы улыбалось мне. Я никогда раньше не жила в Сорренто, но несколько раз проезжала его. И до Октября, и после, — на старом фаэтоне и в современном автобусе; и случалось все время так, что это было ночью или поздно вечером с торопливой необходимостью добраться на ночевку в Амальфи или назад, в Неаполь. Мне запомнились погруженные в черноту спящие улочки, неожиданно ярко освещенные витрины магазинчиков и настежь раскрытые двери этих магазинчиков, прямо в ночь, с выставленными наружу необыкновенной красоты изделиями — парчой, кружевами, деревянными ящичками с цветной инкрустацией, керамикой, фарфоровыми статуэтками. Туристы хищно набрасывались на них, а издалека откуда-то шел монотонный гул, — это Тирренское море металось у берегов взад и вперед.
С тех пор воображенье хранило почему-то Сорренто, как прибрежную деревушку, полого идущую к морю, где можно сидеть на песке и подставлять голые ноги воде морской. Но сейчас, при дневном свете, все это оказалось иллюзией. Никаких берегов — словно сорочье гнездо на голом дереве, — в будний день и вне сезона — Сорренто закинуто на крутые скалы, совсем пусто и чудовищно скучно. Обойти его, со всеми пригородами и ландшафтами, можно было в первый же день, а заглянуть вниз, в те места под скалами, где ютилось нечто вроде тряпичных обрезков, — отдельные чуть вытянутые за язык у скалы крохотные кусочки «пляжей», куда спуски были только искусственные, значило вдохнуть чуть ли не трупный запах устойчивой зимней сырости и мокрой осклизости каменных стен, спускавшихся вниз. За две недели я ни разу не побывала внизу у моря, зато море затягивало мой горизонт с трех сторон, когда я выглядывала из окна своей комнаты. Получить ее удалось сразу, и очень дешево, в отеле второй категории, то есть выше среднего. Мы въехали на машине куда-то прямо к каменной балюстраде, за которой необъятно синело море, исчерканное белыми хвостиками пены от ветра, редкого здесь даже зимой. Справа — нас перепугала вывеска отеля-люкс «Империал Трамонтано». Слева, скромнее, — отель с гомеровским названием «Сирена». Там я и остановилась. Поскольку почти все время, за вычетом рождественских праздников, я жила в этой «Сирене» одна, мне думается, скромная моя плата поддерживала общее отопление в ожидании настоящей гостевой публики.
Если б не работа, делать в Сорренто мне было бы решительно нечего, но зато работа моя получила сразу же неожиданную помощь. Рано утром, проснувшись от воя ветра в оконных ставнях и типичного запаха английского завтрака (бэкон энд эгс!), единственно для меня одной, я быстро вскочила с жадным чувством исследователя. Какой-никакой, а город был новый. Сколько раз потом пришлось мне повторять эти «открытия» первого дня, и сейчас, закрыв глаза, я их отчетливо себе представляю. Вот я выхожу из «Сирены» на площадь-сквер, где стоит, прямо перед «Сиреной», дом, где родился Торквато Тассо. Фасад его так обветшал, что стал похож на аквамариновый цвет моря, усиленно стертый школьной резинкой. Доска — со стихами Тассо к «Сирене»… Но эта «каза» (дом) закрыта, и, по-видимому, только постояльцы «Империала Трамонтано», расположенного в парке за ее «спиной», могут иметь к ней доступ вне сезона. Сколько я ни просила черноглазых портье как-нибудь свести меня туда, их жаркие обещания так и остались втуне… Дальше, на скверик выходит католическая школа, и каждый день озорные ребята играют тут во время перемены, метая по всем направлениям увесистые мячи. С опаской иду по узкой щели к центру — тротуаров нет, машины влезают в щель непрерывно, иногда с двух сторон, и пешеход, чтоб не быть раздавленным, должен вскакивать на ступеньки лавочек. А лавочек много, очень провинциальных; до субботы и воскресенья, когда наезжают туристы, никакой россыпи «сувениров», хотя на удивительный, уникальный фарфор, — жанровые сценки и портретные статуэтки, сделанные в единственном числе большими художниками и стоящие многие тысячи лир, — вы всегда можете любоваться в окнах. Ни один из этих шедевров поражающей тонкости и раскраски не был куплен за две недели моей отсидки в Сорренто.
Узкая щель называется Страда Тассо, а школа — Святого Павла. Центр пройти из конца в конец, от статуи святого Антония, патрона Сорренто, до статуи Тассо — минута, не больше. Сперва я не стала смотреть «достопримечательности», а разговорилась со старым извозчиком, сидевшим на облучке очень задрипанной коляски. Дело в том, что в Сорренто было много изящных беговых дрожек с очаровательнейшими лошадьми и элегантными веттурино, похожими на берейторов, — подступиться к ним было страшновато. А вот этот, пробудясь от старческой дрёмы, радостно разговорился со мной о «Массимо Горки». Хотя и на извозчичьих колымагах в Италии есть счетчики, мы ударили с ним по рукам за тысячу лир. И поехали на виллу, где Горький жил несколько лет, начиная с 1924 года, и где писал «Клима Самгина». Ехали все вверх и вверх почти шагом, а старик сидел на облучке вполоборота ко мне, как на дамском седле, и рассказывал по-итальянски о Горьком. Единственное, что дошло до меня из его рассказов, — это «Madre», «Madre», — «Мать» Горького, любимая, популярная у простого итальянского люда и тесно связанная с именем писателя. Не раз слышала я это любовное «Мадре», сопровождаемое доброй улыбкой, от носильщиков в Риме, от газетчиков и портье в Болонье и от официанта, носившего мне еду, в моей «Сирене». Вилла, где жил Горький, имеет мемориальную доску на стене — и стоит высоко над городом. Воздух там горный. Старик повел меня вокруг нее к уступу, где любил Горький сидеть на солнышке, на легендарном «камне Торквато Тассо».
Горький любил Сорренто, ходил летом на хвостики пляжей купаться — и других с собой звал. В июне 1931 года, ведя беседу «с молодыми ударниками, вошедшими в литературу», он не без гордости рассказал им: «В маленьком городе Сорренто в 1924 году на одной улице было написано: „Вива Ленин“. Полиция закрасила надпись желтой краской. Написали красной: „Вива Ленин“. Полиция закрасила бурой. Написали белой: „Вива Ленин“.
Так и написано по сию пору…»[150]
Сколько времени длилось это «по сию пору» — не знаю, но сейчас надписи нет. Обжившись, я почувствовала особое зеленое очарование этого городка — он весь мандариновый, словно это не город, а плантация. Маленькие кудрявые мандариновые деревца окаймляли все улицы и желтели в эту зиму неслыханным обилием плодов. На рождество их увесили электрическими свечками, и под цветным огнем мандарины кругло сияли, как золотые шары елочных украшений. В два-три дня все тут стало мне родным два убогих кино, дешевенькое кафе, в котором я часто встречалась и обменивалась любезными приветствиями со стариком извозчиком, — он пил у стойки бурый кофе, а его кляча стоя спала у входа. Стали родными и, признаться, порядком опостылели, — и единственная элегантная улица Корреале с надписью «зона тишины» (Silenzio), где расположились богатые виллы и отели; и стена, тянущаяся чуть ли не на квартал, за которой помещались конюшни и школа верховой езды, — оттуда тянуло любимым мною теплым запахом лошадиного пота. И другая стена, уцелевшая от XV века, cinquecentesche. Вокзал окружной везувианской дороги — по ней придется уезжать в Неаполь… Казалось бы, откуда здесь придет помощь в работе? А помощь пришла.
На третий день, идя по Корреале, я уперлась в здание муниципалитета, где находился уже осмотренный мною музей всякой всячины, и вздумала прочесть огромный список имен на мраморной доске, помещенной на фасаде музея. Это были имена всех знаменитостей, побывавших в Сорренто. Надев острые очки, кого только не насчитала я в этом списке: конечно же, первым — Гёте. За ним Байрон, Берлиоз, Альфред де Мюссе, Сент-Бёв, Ламартин, Теодор Моммсен, Лев Толстой, мадам де Сталь, Фридрих Ницше, Томас Рид, Анатоль Франс, Марион Крауфорд… Я читала и читала, потом начала перечитывать сначала, но нет: того, кто прожил в Сорренто несколько лет, нашего Максима Горького, в списке не было! Почему? За революционность? Но ведь он знаменит в Италии больше, чем три четверти перечисленных имен…
Рядом со мной кто-то пригласительно закашлял. Я увидела старичка, прилично одетого, со шляпой в руке, он, видимо, снял ее из вежливости, желая приступить к разговору. Должно быть, уж очень был у меня советский вид — старичок сразу угадал, кого я ищу и не нахожу. Встретясь со мной глазами, он как-то предположительно начал: «Massimo Gorki?» И тут же докончил: «Горький, мне кажется, приехал позже, чем вывесили доску. Горький в Сорренто — это уже наше с вами время, gentile signora, — наше время, nostro tempo…»
Я поблагодарила и пошла домой с чувством внезапного озарения. Наше время! Не сразу даже до конца понятно стало, какая помощь пришла ко мне.
Читатель, может быть, заметил, а скорей всего, не заметил (как и я сама), что, работая над темой «Ленин», я мыслила и жила в прошлом, в той отодвинутости времени, когда мы, люди пера, или, как нас окрестили, люди буквы (литеры), воспринимаем его исторически. А воспринимать время исторически — это значит чувствовать себя отсутствующим (или, точней, не присутствующим лично) в той эпохе, какую стараемся описать. И еще одно наблюденье, может, и не ускользнувшее от читателя, — он, во всяком случае, волен его тут же проверить: есть такой жанр, кроме романа, который естественно было бы назвать «историческим», поскольку он говорит о прошлом, — это мемуары. А между тем нет в мире, и абсолютно быть не может, таких «воспоминаний», которые писались бы «исторически». Дело в том, что в них стержнем (или осью) сидит живое человеческое «я», вокруг которого и вертится материал, сразу становящийся не фактами истории, а фактами жизни. Пока жив сам мемуарист, живет и поживает его «я», — жив и материал вокруг него, пульсирующий кровью сегодняшнего дня, хотя бы описывался мемуаристом день вчерашний и позавчерашний. Только после смерти стержня, то есть — самого мемуариста, факты его жизни, мертвея, уходят в историю. Наше время!
Я шла домой, занятая внутренней перестройкой, происходившей в моем сознании. Цифры 1924–1936, от переезда Горького в Сорренто и до его смерти в Москве, стояли перед глазами с яркостью зажженной иллюминации. Но вот они стали тускнеть, и вместо них загорелись 1905–1924, годы, охватывающие мою тему, годы знакомства, дружбы, конфликта и предсмертной близости Ленина и Горького. В них было одно, о чем раньше я как-то совсем забыла. В них был тот непреложный факт, что годы эти были и моей современностью, я сама жила в эти годы, — пусть в их начале мелкой, обыденной жизнью еще несмышленыша, но в том же времени и пространстве, в той же приблизительно обстановке. Память, как шахматные фигуры на доске, начала тотчас же услужливо передвигать передо мной кадры, открылось светящееся окошечко в прошлое, — год 1905-й, Москва, мне семнадцать лет. Зима, баррикады в том переулке, где мы с сестрой, отпущенные на рождественские каникулы из пансиона домой, таскали от тетки с ее милостивого дозволения какие-то старые ведра и заношенные матрацы на стихийно громоздившуюся баррикаду. Зима 1906-го — делегаты из реального училища Фидлера в нашей гимназии Ржевской… и лето в Швейцарии, то самое лето, когда в дачном вагончике я подслушала русский разговор о непонятных «отрезках». И мы с еще молодой моей матерью поднялись — из Montreux или Glion'a, уж не помню, — мы тогда жили в Лозанне, — на самую вершину Rocher de Naye, шли целый день, а заночевали в гостинице, чтоб, как принято, восход солнца встретить… Rocher de Naye! Спустя десять лет, в декабре 1916 года, Ленин писал Инессе Арманд в Кларан: «Гуляйте по горам на лыжах около Rocher de Naye».[151] Значит, будь я сознательней, учись и вращайся в другой среде, я могла бы при своих выездах за границу встретиться где-нибудь с Инессой и вдруг — чего только не бывает в жизни — на улице, в вагоне, в лесу, на прогулке, в Париже, в берлинском Тиргартене пройти мимо небольшого, простого на вид, в скромном пиджаке, в котелке — величайшего человека эпохи, которого мне предстояло на всю жизнь заключить в сердце и разуме; — и которого я никогда, ни разу в жизни не видела. Выезды мои до революции в зарубежные страны — Швейцарию, Австрию, Германию, Францию совпадали во времени не только с годами эмиграции Ленина, но и с местами его жизни на чужбине, а я — так близко — ничего не знала и не увидела. Может быть, создадут в математике такую отрасль, которая рядом с теорией вероятностей разработает теорию «утерянных возможностей»…
Писать о Ленине, переходя с девяностых годов в эпоху собственного сознательного существованья, значило — изменить метод показа времени. Эпоха придвинулась с большой дозой требовательности и ответственности. Ленина увидеть не пришлось. Но Горького я знала и видела, и тотчас же вошли в работу отсветы лично пережитого, отзвук человеческих голосов тех лет, панорама пейзажей и городов, опыт современника, и не привлечь его в работу уже стало невозможно. Мне много раз приходилось отказываться от просьбы написать воспоминанья о Горьком — они казались такими незначительными, так мало было личного общения. Но знала я Горького длительно, протяжением жизни, хотя личное наше общенье и было ничтожно. Знала его и той молодостью знания, когда — с тысячами других современников почувствовала свежий ветер его прихода в литературу, — а это уже некий плюс перед густо насыщенными личным общением воспоминаниями тех, кто знал Горького только уже зрелым. Я была свидетельницей того смешного высокомерия с примесью зависти, с каким относились к нему в годы 1908–1912 в среде декадентов. И, наконец, я лично встретилась с ним в 1920 году и уже не переставала изредка видеть его вплоть до лета 1936-го, когда пришлось вместе с товарищами по перу постоять в почетном карауле у его гроба…
2
В начале девятисотых годов, как любят писать учебники, дышать становилось душно, и эта политическая духота чувствовалась даже теми, кто не участвовал в политике и ничего о ней не думал. Но я хочу быть искренней. Я не помню — на протяжении всей долгой жизни, — чтоб новое поколенье, новая молодежь человечества выходила на так называемую «историческую арену» пессимистически, — молодежь в массе. Молодость сама в себе носит потенцию счастья: биологически — от нерастраченности сил, нервов, органов восприятия; душевно — от сознанья большого времени жизни впереди. Это как шахматный игрок в самом начале соревнованья.
Вспоминая себя на пороге жизни, — не в одиночку, а с однолетками вокруг, завистливо думаешь, до чего же мало значили тогда всевозможные личные невзгоды, жизнь впроголодь, прогорклая котлета в студенческой столовке, спанье на верхней багажной полке в бесплацкартном вагоне третьего класса, муки занятий с балбесами, оторванная подошва. Даже то, что нависало извне, — избиение демонстраций, увольнение студентов из университета, арест любимых профессоров и писателей, имело в себе нечто от счастья или от эйфории, — подъемное желанье протеста, борьбы. Главное же — это подъемное чувство сливало с массой, выводило на широкий простор из комнатного мирка.
В кругу, где я училась, не было профессиональных революционеров. Но все равно, мы что-то делали для революции, мало в этом разбираясь: бегали по самым дорогим московским магазинам, таинственно требуя у хозяев-кассиров «жертвовать на революцию», — и гордо отрывали нумерованный листок от эсеровской книжки с бланками для расписок; молча, без вопросов принимали у неизвестно кого связки неведомой нелегальщины и совали их под матрац, пока не придет за ними такой же молчаливый человек. Но среди всей этой подъемной, божественно увлекательной суеты явление Горького было наиболее ярким. Приход его в литературу мне напоминает сейчас косые лучи солнца вечером, когда тень человека удлиняется и сам человек, возникая на пустой дороге, заслоняет горизонт и кажется гигантской фигурой. Он был ни на кого до него не похожий. От него веяло незнакомым человечеством, словно с другой планеты. Люди в его книгах были тоже огромные, как он, по чувствам и характерам: речи их необыкновенно смелы и пронизывающи, любовь — ошеломляющая в своей откровенности, в прямоте показа. Горький, один, вдруг занял всю литературу. Помню, как всем нам хотелось бродить, помогать рождению человека на больших дорогах, греться у костров, своими глазами увидеть бедного калеку в ящике, собиравшего жуков и кузнечиков… мир людей, о которых думалось с дрожью, но они высокой своей человечностью заставляли нас плакать, и слезы текли при чтении — они и сейчас начинают течь, когда перечитываешь «Страсти-мордасти». Таким свежим, смелым, сильным открылся моему поколенью молодежи новый писатель со странным именем Максим Горький. А уж «Сокола» и «Буревестника» мы знали наизусть.
Потом пошли годы спада. Изменился весь тон в газетах, в разговорах. Усилилась у знакомых студентов критика философии Маркса. Я тогда понятия не имела ни об «экономике», ни о «философии» Маркса, но в памяти цепко удержала фразу знакомого, казавшегося до крайности авторитетным, очкастого армянина, студента по фамилии Амиров, ходившего к нам с сестрой в гости: «В политэкономии дальше Маркса никто не пошел, но в философии Маркс слаб, философия — слабое место марксизма». Это звучало безапелляционно, частенько повторялось в разных местах, где собирались студенты. А у нас, на Высших женских курсах Герье, в Мерзляковском переулке, в доме, подъезд которого утиным носом вылезал на угол Поварской, тоже начались новшества. Перед аудиториями, на площадке лестницы, расположился книжный киоск. Странные книги, точней книжки, листовки, брошюрки по копеечке, по пятаку отказавшись от расхода на конку, можно было раскошелиться на них, — до того необычными были их названья: «Агнец божий», «Оптина Пустынь», «Философия Отцов Церкви», «Логос в понимании старцев», «Когда все мертвые воскреснут». Необычны были названья не столько сами по себе, сколько в сочетанье с именами авторов — Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Николая Федорова, Льва Тихомирова и чаще всего Михаила Новоселова, творца и составителя всей этой «религиозно-философской библиотеки», отрывочков, снабженных, кажется, им самим выдуманными названиями. Он и сам, Новоселов, стоял возле своего киоска, невысокий, кругловатый мужчина с лицом Пиквика и слегка подмасленными со лба жидкими волосами клопиного цвета. Помню, как, протянув мне книжку Льва Тихомирова, он ласковым голосом сказал: «Ознакомьтесь, если не пугает вас имя бывшего террориста», — и не захотел взять за нее три копейки. А я, признаться, с благодарностью принимая даровую книжку, не знала этого Льва Тихомирова ни как «до», ни как «после» его появленья в кругу «православной» философии.
Новоселов был московским уловителем душ, с типично московским оттенком черносотенного славянофильства. В Петербурге тяга к религиозным вопросам окрасилась несколько западнически. Две фразы, точней, два стиха в поэзии встали эпиграфом к этим годам спада и опустошенности. Брюсовское:
О, закрой свои бледные ноги.[152] —и гиппиусовское:
Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете.[153]Ритмически они закрывали еще недавно звеневшие нам колоколом ритмы «Буревестника». Они делали прежние ритмы примитивными, наивными, безвкусными. Они импонировали своей таинственной необычностью.
Помню, как, сидя на тумбочке в нашей с сестрой комнате, почти лишенной мебели и окна, и свесив вниз худые, как палочки, ноги в элегантных серых брюках, наш частый гость, Владя Ходасевич, снисходительно объяснил нам смысл этого непонятного брюсовского стиха, состоявшего из одной-единственной строчки: «Бледные голые ноги на ремесленных фигурах богоматери, по всем проезжим дорогам Польши, например, — это натурализм, опошление культа Мадонны, — брюсовский моностих выразил пасквильность, нечистоплотность натурализма… О, закрой свои бледные ноги! — это целая философия, целый бунт в искусстве!»
Ну а гиппиусовское «Мне нужно то, чего нет на свете» неожиданно ранило мою собственную душу. В эпоху спада среди окружающей молодежи вспыхнула эпидемия разочарованья, безнадежности, неверия в пользу человеческих действий на земле. Факт стал принимать очертанья неубедительности, условности, вроде кантовской вещи в себе. И несравненно реальней, несравненно желанней всего фактического вставала в душах потребность чуда, вера в чудо. Я прочитала первую книгу стихов Гиппиус (вторая, уже по просьбе самой Гиппиус, печаталась под моим собственным шефством в московском издательстве «Альциона» у тогдашнего издателя Кожебаткина) и выучила ее наизусть. Мне казалось: евангельское «у неимущего отнимается и то, что он имеет, и отдастся имущему много», которое я понимала, как имение высшего духовного богатства, обладание высшей духовной реальностью по сравнению с духовным убожеством «нищих духом», — целиком применимо к этой книге. Нечто вроде физического закона — огромная масса, притягивая к себе, — нарастает, мелкая пылюга — окончательно распыляется… Вот почему не удалась революция! Ей не хватило веры. Нельзя идти в революцию, не обладая высшей реальностью, богом в сердце! Революция с богом в сердце — вот о чем поют эти стихи с их новым, изломанным, спиральным ритмом! И я, выкарабкавшись из уловительных сетей Новоселова, села строчить письмо своему новому божеству. Пишу эти — с теперешней моей точки зрения просто чудовищные — строки о безмерном одурении тогдашнего моего внутреннего мира, потому что оно было типовым, показательным для времени и моего круга. Из песни, как говорится, слова не выкинешь, а песня у меня начиналась одуряющая. Божество отозвалось на письмо. Оно позвало в Питер, к тем, кто собирается делать «религиозную революцию». И договорившись с дирекцией курсов, что буду приезжать на семинары и на экзамены, не посещая лекций из-за глуховатости, — я наскребла денег на «максимку» (так звали самый дешевый и самый долгий поезд из Москвы в Питер) и поехала на новый этап своего духовного становленья.
Это не мемуары, и писать, как я пребывала у Мережковских в роли своеобразной девочки-послушницы, как участвовала по вечерам у них на чтениях Евангелия и самодельных молитвах, как написала первую свою книжку прозы, вышедшую в «Альционе» под двусмысленным для читателя названием «О блаженстве имущего», я здесь не буду, это никаким концом не связано с моей темой. Но о главном, что было с ней связано, расскажу. Одной из моих «негласных» обязанностей у Мережковских, живших тогда втроем в доме Мурузи на Литейном, — сухонького, маленького, с блестящим черным пробором Дмитрия Сергеевича Мережковского; слегка инфантильного, барственно-крупного и выхоленного, с голубыми навыкат глазами, Дмитрия Владимировича Философова и самой Зинаиды Николаевны Гиппиус, очень высокой и тоненькой, с русалочьим взглядом из-под пышной русой прически и хрипловатым, от вечного курения душистых папиросок, голосом, — одной из моих обязанностей у этой троицы было доставление им, на предмет религиозно-революционной пропаганды, самых настоящих рабочих (как нынче сказали бы: от станка), разочарованных «неудачей 1905 года». А эта обязанность привела меня на Гагаринские курсы, где в то время читались студентами общеобразовательные лекции для рабочих.
Группа слушателей захотела познакомиться с предметом, не входившим в программу курсов, с «древнегреческой философией». И этот предмет был предложен мне, поскольку я числилась на историко-философском факультете. Предложение было отчасти конспиративное. Читать нужно было на дому у рабочих, с осторожностью. Главой группы стал путиловец, рабочий Кузьмин. Я сразу увлеклась предметом. Набросала тезисы. И, по всегдашней своей страсти к преждевременным обобщеньям, ринулась вперед к новой, обобщающей идее своих лекций, конечно — собственной, — новые идеи слетались в ту пору к моей голове такими же стаями, как голуби в Венеции на площади Святого Марка.
Все было прекрасно и реально в этом эпизоде моего питерского житья, реально, хоть и сопряжено с тайной. Вечером заходил ко мне всякий раз новый рабочий, и мы выходили в темную сырость старого Петербурга, садились на конку — рабочий не позволял мне платить за себя — и ехали не знаю куда, ехали долго, на окраину. Выходили уже в другую темень, где зажженые глаза окон глядели не со второго и третьего этажей, а словно из-под земли, подслеповато, из деревянных домишек, и шагать надо было осторожно, оглядываясь. Каждый раз встреча была назначаема в новом месте. И каждый раз повторялось одно и то же: прибранная комнатка со столом на середине, табуретками вокруг. Садились не все, остальные стояли, набиваясь в комнату. На стол озабоченная, приветливая женщина ставила стакан чаю с сахаром и печенье на блюдце, говоря: «Кушайте, не стесняйтесь». Я разворачивала бумажку с конспектом. Никогда с тех пор не испытывала я такого «счастья отдачи» от живого своего слова, от лекции, от выступленья на собраньях, как в те часы. Вокруг были внимательные, удивительно хорошие человеческие лица. А перед моим умственным взором возникали Гераклит и Пифагор, Демокрит и Эпикур, Платон и Диоген… И осенившая меня общая «идея» вдруг придала курсу какой-то особый для рабочих интерес. Идея была не из учебников, не из Куно Фишера, не из Виндельбанда, а из собственной моей авторской головы: древние философы свою философию всегда проводили в жизнь.
Я так с нее и начала свой курс, — эпикуровским изречением: нет пользы в медицине, не лечащей тело, как нет пользы в философии, не очищающей душу, не влияющей на поведение человека.
Особенно яркими примерами служили для меня киренаики, гениальный философ счастья Аристипп, материалист Эпикур, циник Диоген. Я видела их перед собой, когда о них говорила. Видела тяжко больного Аристиппа с его кровавой рвотой и невыносимыми болями, худого, как скелет, в хитоне, с венком на блеклых, развитых, ставших ломкими от болезни и потерявших блеск локонах — в саду под портиком у входа, в кругу друзей, с пиалой вина в исхудалых руках, вина, запрещенного эскулапом. Силой воли, я говорила — силой своей идеи, — он заставлял себя не чувствовать боль, побеждать болезнь, отодвигать смерть. Он был убежден, что цель человечества — счастье, а быть счастливым — значит вкушать наслажденье, питать свои органы чувств, давать главному из них, ощущенью, живущему во чреве, — его законную, природой назначенную пищу; и вот он, хоть и терзает его болезнь, — смеется над своей болезнью и живет — согласно своей философии, наслаждаясь даже больным, истерзанным телом. Ученики и друзья, восхищенные Аристиппом, поднимали пиалы в честь безмерной победы духа над телом, идеи над материей… Но Эпикур был совсем другой, — Эпикур был здоровяк и мыслитель, учившийся у Демокрита. Термин «эпикурейство» — зря спекулируют его именем, — свое содержанье термин украл у Аристиппа. А Эпикур жил нормальной жизнью, проповедуя материализм, как единственную истину. Он был, в сущности, образцом нормального человека, сына природы. А вот циник Диоген, — «цинизм» тоже вошел в обиход человеческой речи, хотя тоже с другим, наслоившимся за тысячелетия оттенком, — Диоген проповедовал философию полного пренебрежения к чувствам, к потребностям тела, к его капризам; он требовал полного, безоглядного опрощения, наготы телесной и духовной, — и совершенно опростился сам, отказался ото всего, нагишом залез в бочку, таким и остался в памяти человечества, проповедником опрощенья из пустой бочки. Не то важно, что философия эта примитивна, смешна в своей наивности и категоричности, а то важно, что философ, проповедуя ее, сам жил по своей проповеди, теорию превратил в поведение, теория в античной древности не отрывалась от практики…
— Слово с делом у них не расходилось, — вставил вдруг один из моих слушателей. Рабочие не только не скучали, не только не путались в лесу терминологии из-за моей школярской привычки приводить ученые термины, они преспокойно разбирались в них и откликались не на одни лишь образы и картины, а и на главную мою идею; и они прекрасно поняли историзм первых философских учений греков. Когда лекции кончились (на смерти Сократа) и я гордо произнесла «вот какова была древняя греческая философия», — главный заправила этого «сверхпрограммного» курса, путиловец Кузьмин, как бы подвел итог:
— Начало они положили правильное, — ну а как впоследствии пошло развитие мысли, можете вы вкратце изложить?
Я, помню, остановилась. Привыкнув мыслить прежде всего образами, я вдруг увидела целую пчелиную башню ячеек, в которых сидели философы девятнадцатого века. То было особое мышление, уходившее вглубь, мышление сидячей жизни, мышление о мышлении, паутина — отнюдь не обязывавшая, не звавшая жить по себе, — и невозможно было жить по ней… хотя пессимист Шопенгауэр, например, мог бы, конечно, застрелиться, чтоб уйти в мировую волю, но он любил играть на скрипке… Гартман, — но Гартман одной рукой написал свою диссертацию, а другой рукой сам себя анонимно опроверг. Вообще… Я смутилась, я любила в те дни Гегеля и страстно изучала его, упиваясь страницами «Логики» и «Феноменологии»; по уши увязала и в «Критике Практического разума» Канта. Мне казалось: вот сейчас совершу какое-то предательство в отношении своих любимцев. И я вяло промямлила:
— Потом наступила эра исследования самого процесса человеческого мышления, очень важная эра.
Обратно я всегда ездила одна, меня лишь доводил кто-нибудь до конки. Но на этот раз маленький черномазый человек в картузе и промасленных рукавах, стоявший во время лекции в самых дверях, сел со мной рядом на скамейку. Меня строго предупреждали о «шпиках», которыми кишела тогда наша жизнь, и советовали ни с кем не говорить вне своей лекции. А маленький человек ерзал, желая заговорить, и наконец сказал: «Были, товарищ, и в наши времена философы, у кого теория рядом с практикой шла. Слышали, может, про философию Карла Маркса?» Я ответила, отодвигаясь от него: «Политика меня не интересует».
Но то было предохранительное вранье, — на всякий случай, если черномазый в промасленных рукавах окажется шпиком. А в мыслях у меня всю дорогу и дома весь оставшийся вечер фраза эта перекликалась с другой фразой — о философии Маркса, будто философия эта — слаба. Кто и когда так сказал? Студент Амиров после неудачной революции 1905 года? Не потому ли, что мозги его съедены пассивной, созерцательной, размышляющей по своим пчелиным ячейкам философией девятнадцатого века? Не потому ли и называет он философию Маркса слабой, что она активна, как в эпоху древних греков? Интересно, что это за философия? И почему я все повторяю, как попугай, «неудачная революция»? Вон мои слушатели — живые, интересные, заинтересованные, далекие от нытиков-интеллигентов. Раз есть такие, как можно говорить «неудачная», — для них уж наверное что-то удалось в ней… Я незаметно сползала в «ересь» из позиции скромной послушницы. И ни одного из моих милых слушателей не привела тогда к Мережковским.
Переживаемое не проходит даром, оно незаметно наслаивается на вас, покуда количество не переходит в качество. Через два года перо мое, раньше благоговейно выводившее «О блаженстве имущего», настрочило резкую рецензию на новый роман Гиппиус. Роман носил название «Чертова кукла», и в нем, как чертовы куклы, как куклы в руках у зла, деревянно-ходульными были выведены марксисты-большевики. А рецензия моя называлась «Театр марионеток», и в ней я написала, что сам этот роман — ходульно-деревянный, искусственный, с марионетками в руках у автора, порожденными незнанием людей и жизни… Рецензия, напечатанная в «Приазовском крае», стала одной из причин резкого разрыва с Мережковскими и благополучно увела меня из Питера назад, в Москву.
Прошли годы — несколько долгих лет ученья и бродяжничества, проведенных под знаком Гёте, годы первой империалистической войны и новой революции. И вот я опять перебралась из Москвы в Питер и стою с пятью красивыми, купленными в Гейдельберге тетрадками, исписанными еще молодым, бисерным почерком, у многоэтажного дома на Кронверкском проспекте, тщетно выискивая «парадный ход» с улицы. Не найдя его, прошла в ворота, поднялась по черной лестнице и, постучавши, оказалась в большой полупустой кухне. Высокий человек, насупленный, видимо, очень недовольный, не сразу показался в дверях.
Есть одна фотография от 1920 года, снятая в Петрограде, — Горький, Андреева, Уэллс. Горький и Уэллс сидят, а Мария Федоровна стоит за ними, облокотившись на спинку стула Горького. Удивительно не типичное, разлаженное какое-то лицо у Горького на этой фотографии, а глаза печальные, с острым внутренним недовольством и каким-то стеснением. И еще есть, такой же нетипичный, — рисунок художника Н. А. Андреева от 23 июня 1921 года, где Горький дан остро, в три четверти, с заостренным кончиком носа, почти лысым черепом и — злым, пронизывающим недоверчивым взглядом, сузившим почти до точек зрачки.[154]
Вот такое лицо было у Алексея Максимовича, — недовольство, стеснение, тяжелая внутренняя печаль, когда я увидела его первый раз в жизни, — зимой 20-го года, в его тогдашней питерской квартире. За рукав проведя меня из кухни в свой кабинет, Горький первым долгом излил свое недовольство: что это за унижение паче гордости, манера приходить к человеку с черного хода, когда есть обыкновенная входная дверь, — нельзя так, нельзя унижать себя, достоинство надо свое беречь… Пока он так отрывисто, — усаживая меня, опять принудительным жестом за плечо, — и сам усаживаясь, — обрушивал на меня свои нравоученья, не давая слово сказать, я поняла, что «слово» вообще не стоит говорить, все равно он может не поверить мне. Я, разумеется, в жизни своей никаких различий между «черным» и «парадным» ходом не делала, шла, куда попало, а тут просто не отыскала дверей к нему и вынуждена была пойти со двора, чтоб расспросить кого-нибудь. Расспросила первую встречную старушку — и пошла, куда она показала пальцем.
Подождала, пока отрывочные фразы кончились резким переходом к другому тону:
— Ну как? Устроились? Слышал — в «Доме искусств» — там много интересных молодых писателей. Что у вас в руках?
В руках у меня была рукопись «Путешествия в Веймар», проделанного мной перед самым началом первой мировой войны пешком, из Гейдельберга в Веймар. Я собиралась просить Горького устроить эту мою книгу в издательстве Гржебина или вообще, где это возможно. Кроме нее — ничего не было у меня для печати, а нужно жить.
Горький взял одну из моих тетрадок, перелистал ее без особенного интереса, о чем-то, видимо, совсем постороннем задумался, потом закрыл тетрадь, отложил ее и опять сказал:
— Ну-с, я слушаю.
Об этой первой встрече с Горьким я долго мечтала; и что именно собиралась сказать ему — долго повторяла в уме. Я хотела рассказать, как важно сейчас, перед новой эпохой философии, все огромное явление Гёте, которого у нас совершенно не знают; как важно воскресить его, снова о нем заговорить, и притом не о поэте, а о философе, мыслителе Гёте, очень близком новому нашему миросозерцанию… Хотя сложившаяся десятками лет его совершенно неверная, искаженная репутация мешает этому. Мыслей накопилось множество, они друг друга теснили, я была уверена, что изложить их — не хватит назначенного мне часа. Но вот — сижу, вижу чуть припухлые в веках горьковские печальные глаза, повисший ус, такое знакомое по фотографиям и рисункам, такое родное простонародное лицо, — а слова куда-то попрятались, в голове пусто и не могу ничего путного сказать. Горький мне помогает, вдруг назвав совсем незнакомое имя:
— Лихтенштадт много поработал над Гёте, рекомендую прочесть, обязательно поищите и прочтите.
О Лихтенштадте я услышала впервые, записываю его фамилию на обложке одной из своих тетрадок и прорываюсь наконец к своей главной фразе: книга моя о Гёте может показаться не марксистской, я еще очень плохо знаю Маркса, а когда она писалась, почти вовсе не знала, но с тех пор очень много…
И тут Горький сказал вещь, положившую конец нашей первой с ним встрече. Сухо и коротко он прервал меня словами:
— Я не марксист.
Что потом говорилось — не помню. Я была сбита с толку и смущена. И мне, грешным делом, показалось, что Горький, как раньше с черной лестницей, так сейчас — понял меня превратно, подумав, может быть, что я пытаюсь с марксизмом своим так же сознательно, с особой целью войти к нему «с парадного хода», как сознательно и с особой целью самое себя привела к нему с черного. Вот и не получилась у нас встреча с Горьким, первая и единственная, где мы разговаривали с глазу на глаз. Горький, так хорошо знавший людей, совершенно не понял меня. А я, хранившая нежно в памяти «Страсти-мордасти» и «Мать», — отшатнулась от Горького.
В 1965 году вышла книга, очень помогающая хорошо понять Горького и любовь к нему Ленина. Это семьдесят второй том «Литературного наследства», содержащий неизданную переписку Горького с Леонидом Андреевым. Трудно найти еще пример в мировом эпистолярном наследии, где было бы больше блеска, остроумия, веселой молодой жизнерадостности и — драматического развития конфликта двух разных индивидуальностей, сперва как будто растущих из одного и того же корня (реалистического понимания искусства и революционного отношенья к самодержавному русскому строю); потом — не сразу, а ступень за ступенью, трещина за трещиной раскрывающих чуждость этих друзей друг другу, — одного, настоящего самородка из народа, для которого его позиция в искусстве и политике была продиктована классом и коренилась в глубине сознанья; другого — бунтовщика лишь по видимости, по молодости, с натурой по сути путаной, с воспитанием и бытом богемно-мещанским и с двигательной пружиной поведения — тщеславием. Читая, как Горький постепенно отодвигает от себя Леонида Андреева, как Леонид Андреев делает вид, что не видит реальных причин для этого; и как Горький — проницательно замечая, что друг его только притворяется не видящим, не понимающим глубины расхожденья, а сам отлично понимает и видит, — все-таки жалеет его, все-таки еще остерегает и поучает со своей горьковской неподражаемой суровостью — читая все это подряд, испытываешь наслажденье, как от трагедии Еврипида.
В мутной общественной атмосфере декадентских лет, среди множества «малых сил», унесенных модой, опустошенностью, разочарованьем, отчаянием, скукой, любопытством, стихийной тягой к беспочвенному, безответственному забвению всего того, что еще годы назад казалось традицией русских классиков, потребностью народной совести и главным делом передового русского человека, — фигура Горького-борца, вставшего во весь рост наперерез мутному течению, такая фигура не может не покорить читателя, не привлечь к нему сердце, не обнадежить, не стать его духовной опорой. Замечательная эта переписка. Горький, в занятой им общественно-политической позиции, а не только по силе и яркости своего самобытного таланта, был настолько выше окружающей его среды, что не заметить его и не полюбить Ленин просто не мог, «Максим Горький» была та самая «практика» в области литературы, существование которой подтверждало марксистскую теорию.
Заметил Горького Ленин еще в 1899 году, когда в письме к А. Н. Потресову похвалил в журнале «Жизнь» беллетристику, а беллетристикой этой были пять глав «Фомы Гордеева» и ранние рассказы Горького. В 1901 году, вспоминает Е. Д. Стасова, «В. И. Ленин очень интересовался всем, что выходило из-под пера М. Горького. И мы, работники партии, старались держать Ленина в курсе того, что писал Горький. Так, его рассказ „О писателе, который зазнался“, появившийся в Петербурге нелегально, был переписан В. Ф. Кожевниковой и мною химическими чернилами между строк диссертации К. А. Крестникова „К морфологии крови при свинке“».[155] Выраженье «писатель, который зазнался» так понравилось Ленину, что он употребляет его в «Что делать?», в главе о псевдолевацких требованиях «свободы критики» и обвинениях ядра партии в «догматизме». В последующие годы Горький и Ленин подходят друг к другу все ближе и ближе, хотя личной встречи у них еще нет. Горький посылает деньги за границу на издание большевистского органа, еще не будучи в партии. Он уже свой. Он перенес крещение арестами. В январе 1905-го М. М. Литвинов видит, как в одном вагоне с ним, из Риги в Петербург, жандармы «тащат» арестованного Горького. И, наконец, этот медленный, все усиливающийся процесс сближения писателя с большевиками завершается вхождением его в партию во второй половине 1905 года. И все это время продолжается его переписка с Леонидом Андреевым.
Но если крепнет и мужает голос Горького в его письмах к другу, хотя он не пишет ему о своих политических связях; если чувствуется за критическим тоном какая-то твердая почва, идейная и позиционная, а не только простой профессионализм, — то все особенности мышления Горького, поздней обнаруживающиеся в конфликте с Лениным по поводу Богданова и «богостроительства», остаются при нем, остаются с самого начала, со дня вступления в партию, и, думается мне, дойдут во всей своей силе до того сумрачного питерского часа, когда я приду к нему через кухню и услышу его сухое и твердое: «Я не марксист».
Вот Горький вступил в партию, он необычайно горд этим. Он будет, как ребенок, счастлив возможностью побывать на Лондонском съезде и долго потом вспоминать это. Он уже встретился с Лениным, — произошла та самая знаменательная для него встреча 27 ноября 1905 года в Петербурге, о которой он с нежностью будет говорить Сперанскому за несколько часов до смерти.
И после такой встречи, решающей в его жизни, вот что пишет о себе Горький Леониду Андрееву в ответ на его очередное туманное письмо:
«Судишь ты обо мне не очень глубокомысленно. Я социал-демократ, потому что я — революционер, а социал-демократическое учение — суть наиболее революционное. Ты скажешь — „казарма“! Мой друг — во всякой философии — важна часть критическая, часть же положительная — даже не всегда интересна, не только что важна. Анархизм — нечто очень уж примитивное. Отрицание ради утверждения абсолютной автономии моего „я“ это великолепно, но ради отрицания — не остроумно. В конце концов анархизм мертвая точка, а человеческое „я“ суть начало активное…».[156]
Здесь, хоть и в отрывочной форме, отражающей естественный поток его мыслей, дан весь Горький сначала и до конца, даже с его упрямой привычкой употреблять множественное «суть», где надо ставить в единственном числе «есть». Весь Горький — с его кажущейся наивностью, а в то же время с его удивительной верностью своим убеждениям, точней — характеру своего мышления. Думаю, что лучше, полней, искренней Горький о себе нигде не высказывался, нежели в этих строках, писанных в медовый месяц его пребыванья в партии. И потому очень стоит остановиться на них, разобраться в них, представить их себе яснее.
Как некогда «Человек — это звучит гордо», у Горького с настоящей, торжественной гордостью звучит «Я социал-демократ, потому что я — революционер». Но он понимает, что революционеры и революции бывают разные, а поэтому приводит определение для «социал-демократического ученья»: оно — наиболее революционное. Почему «наиболее» — не объясняет, хотя речь идет об «учении», а тут уж непременно нужно бы объяснить. Но знание своего друга и его, андреевских, собственных вкусов и воззрений — сразу подсказывает ему тут, что именно должен возразить Леонид Андреев: «Казарма»! Социал-демократизм мерещится туманно революционной русской интеллигенции, для которой 1905 год пришел в обличии ликующего, стихийного восстания, импровизации уличных баррикад, импровизации форм управленья, Советов, — как льющийся поток звуков под рукой гениального пианиста-импровизатора, — социал-демократизм для этой интеллигенции, во всей «сухости» своей дисциплины, во всей «категоричности» своих требований, во всей строгости своего жизненного устава — мерещится именно скучной, обязательной, насильственной казармой, как Гиппиус мерещился он куклой в руках у Дьявола. И тут бы Горькому раскрыть великие идеи Маркса, весь новый гуманизм, который целостно, полностью, приращенно, implicite, то есть как бы целиком уже содержащийся в практике большевиков, представляет новую грандиозную страницу в книге истории человечества, меньше всего похожую на «казарму». Но вместо этого Горький сразу как бы соглашается с Леонидом Андреевым, лишь снисходительно объясняя ему что «во всякой философии — важна часть критическая, часть же положительная — даже не всегда интересна, не только что важна». Не обращай на это вниманья — как бы поучает он Леонида Андреева, боящегося «казармы». Важна критика, важно отрицание!.. Но тут опять встает на пути его мышления заминка. Горький спотыкается об анархизм. Ведь куда проще — анархизм из рук вон революционен, анархизм вовсе как будто лишен «положительной части», он весь с головой и хвостом укладывается в критику и отрицание… Но нет! Горький не хочет сползать неведомо куда, он не анархист, он в социал-демократической партии. Словно говоря с самим собой (как это часто случается в его письмах к Андрееву), словно рассуждая и споря внутри себя, как в шахматы играют сами с собой, Горький отвечает себе: анархизм — нечто очень уж примитивное. Отрицать ради утверждения полной, абсолютной независимости своего человеческого «я» — это великолепно (это, как ты, друг Андреев, хочешь в своих драмах), — но отрицать для отрицанья — бессмыслица, «не остроумно». И тут Горький подходит к гениальному выводу, ярко озаряющему и весь жизненный путь его, и весь его внутренний мир, и — объяснивший мне всю степень любви к нему Ленина именно за это, за наличие этого в Горьком… Он пишет: «В конце концов — анархизм мертвая точка, а человеческое „я“ суть начало активное…» Тут даже и «суть» простишь ему! Тут даже и все остальное простишь ему! Да, человеческое «я» — начало активное! Да, оно противостоит всем пассивным философиям мира, всему, что ведет к мертвой точке. Да, да, в человеческом «я», как в главном фокусе, природа заложила свою кульминацию роста, движения, преодоления, стремления, познавания назовите, как хотите, — великий хоботок действенного процесса, заключенного для человека в вечную проблему «смысла жизни». А проще сказать — человеческое «я» это то, что живет, это жизнь в наиболее интенсивной — сознательной — ее форме, — в росте. «Человеческое „я“ — начало активное», — эта формула Горького сильней, содержательней и потенциальней, на мой взгляд, чем повторяемое на все лады «Человек — это звучит гордо».
На протяжении всех лет дружбы Ленина с Горьким было у них много не только расхождений во взглядах, не только споров, но и фактического «принятия мер» против появлений в печати обоюдных взглядов, отрицавшихся то одной, то другой стороной. Мы уже видели, как Ленин «принял меры», потребовав специального постановления ЦК, чтоб статьи, подобные горьковской «Владимир Ильич Ленин», не появлялись в журналах, «как неуместные». Ленин, несмотря на просьбу Горького возобновить выход «Новой жизни», — оставил эту просьбу без внимания. И больно читать, когда на просьбу самого Ленина в январе 1916 года помочь издать его брошюру, где он «старался как можно популярнее изложить новые данные об Америке, которые… особенно пригодны для популяризации марксизма и для фактического обоснования его», просьбу, сопровождаемую фразой, от которой сжимается сердце: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры»,[157] ответа, по-видимому, от Горького не последовало, и, во всяком случае, в издательстве «Парус», куда она была послана и где Горький был почти хозяином, — брошюра Ленина «Капитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки» не появилась. Она была напечатана только в 1925 году, в 22 томе первого ленинского собрания. Но самым жестоким, на мой взгляд, в истории этой дружбы — и самым характерным для непонимания Горьким марксизма — было письмо Горького к Пятницкому, предупреждавшее, чтоб Пятницкий не издавал в России «Материализма и эмпириокритицизма»:
«…Относительно издания книги Ленина: я против этого…» (Дальше идут объяснения, почему «против», с комплиментами по адресу Ильича, — он боец, он назовет дурачками своих противников, издающих эту книгу.) «…Спор, разгоревшийся между Лениным — Плехановым, с одной стороны, Богдановым — Базаровым и K°, с другой — очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, противная сторона — исповедует философию активности. Для меня ясно, на чьей стороне больше правды…».[158]
Это Ленин и Плеханов, марксисты, — проповедуют исторический фатализм! Хотя и ребенок знает, — а тем более должен знать член социал-демократической партии, что «философы до сих пор только объясняли мир», а существо философии Маркса — в задаче «преобразовать мир». Ленин «фаталист», создавший передовой отряд преобразователей мира, перевернувший страницу в истории общества! «Фаталистично» учение о свободе, предполагающее в человеке величайший самостоятельный акт его «я» — сознание необходимости! И рядом — компания эпигонов умирающей философии девятнадцатого века, эпигонов, не сумевших даже понять Гегеля, перешагнувших через Гегеля, — вся пресловутая «философия активности» которых заключалась в изготовлении «и нашим, и вашим» окрошки, где можно было бы залить противоположность между идеализмом и материализмом растворителем — домашним русским квасом. Я понимаю, как бешено мог ругаться Ленин. Но, ругаясь бешено, во всю мощь своей кипучей натуры, Ленин никогда не поднимал руку на Горького, на свою любовь к Горькому. В четвертом «Письме из далека», в труднейшее для Ленина время, сразу после Февральской революции, в марте 1917 года, — земля горела у него под ногами в Цюрихе, и каждым нервом своим он тянулся в Россию, — и тут даже не смог он устоять перед Горьким, перед его улыбкой. А разбушеваться по-ленински было за что:
«Горькое чувство испытываешь, читая это письмо, — пишет Ленин о послании Горького после Февральской революции Временному правительству и Исполнительному комитету, — насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо-милой улыбкой и прямодушным заявлением: „Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди“. Нелегко спорить против этого.
Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.
Но зачем же Горькому браться за политику?».[159] Максим Горький в своем обращении к февральскому правительству выразил, по мнению Ленина, «чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием рабочих».[160]
О том, что делалось с ним в это время, мы можем представить себе по массовым чувствам обывателей, по стихийному доверию толпы, по влюбленной вере в Керенского, охватившей не только гимназисток и «мелкую буржуазию», но и часть рабочего класса, и многих, многих в нашей собственной среде. Горький поверил в Февральскую революцию. А Ленину надо было поворачивать рычаг истории к Октябрю и все силы партии, все силы сознательных рабочих — грудью бросить на руль, на рычаг, отягощенный напором масс в другую сторону. Надо было повести «упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу» с «обывательскими предрассудками», — чтоб из русла буржуазно-республиканских иллюзий повернуть Россию в русло социализма. Гигантские усилия тех месяцев еще не нашли себе художника в их полный рост. А Горький, такой нужный именно тогда, такой любимый товарищ, чье усилие могло бы стать решающим для студенчества и для интеллигенции, — в эти именно месяцы ушел из партии. Он считал, что не время еще социализму на Руси.
В гениальной горьковской формуле об активности человеческого «я» — недостало расшифровки понятия «активности», как ведущей, направляющей ход истории вперед, положительной силы, противопоставленной «мертвой точке анархизма». Горький остался верен «критической стороне» своей философии. Мы знаем, что всей своей последующей жизнью — учителя и собирателя советских писателей, гневного публициста против врагов нового общества, верного помощника партии — он искупил свою ошибку. Но и тогда — ошибавшегося, недовольного, больного, которому «жить противно», Ленин любил Горького. Он настолько любил Горького, что — занятый по горло, 31 июля 1919 года, в нечеловечески трудной, напряженной обстановке яростной войны с интервентами и голода в стране — нашел время и силы ответить на озлобленное «критическое» письмо писателя, измученного петербургской жизнью, так мудро и так подробно, как только отец мог ответить сыну. Привожу отрывки из этого письма Ленина, говорящие и сейчас совести каждого творческого работника:
«…Если наблюдать, надо наблюдать внизу, где можно обозреть работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне, — там не надо политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только наблюдать. Вместо этого Вы поставили себя в положение профессионального редактора переводов и т. п., положение, в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя, положение, в котором все силы ухлопываются на больное брюзжание больной интеллигенции, на наблюдение „бывшей“ столицы в условиях отчаянной военной опасности и свирепой нужды.
Вы поставили себя в положение, в котором непосредственно наблюдать нового в жизни рабочих и крестьян, т. е. 9/10 населения России, Вы не можете; в котором Вы вынуждены наблюдать обрывки жизни бывшей столицы, из коей цвет рабочих ушел на фронты и в деревню и где осталось непропорционально много безместной и безработной интеллигенции, специально Вас „осаждающей“. Советы уехать Вы упорно отвергаете.
Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и „весьма противно“!!! Еще бы! В такое время приковать себя к самому больному пункту в качестве редактора переводной литературы (самое подходящее занятие для наблюдения людей, для художника!). Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать не можете. Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника, — в Питере можно работать политику, но Вы не политик. Сегодня — зря разбитые стекла, завтра выстрелы и вопли из тюрьмы, потом обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих, затем миллион впечатлений от интеллигенции, столичной интеллигенции без столицы, потом сотни жалоб от обиженных, в свободное от редакторства время, никакого строительства жизни видеть нельзя (оно идет по-особому и меньше всего в Питере), — как тут не довести себя до того, что жить весьма противно.
Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира, мстящей бешено за ее свержение. Естественно. За первую Советскую республику первые удары отовсюду. Естественно. Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового…
…Высказал Вам откровенно мои мысли по поводу Вашего письма… Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку, и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно.
Крепко жму руку Ваш Ленин».[161]Огромным накалом воли полны эти строки. Как удар колокола, утверждающий, подтверждающий, звучит дважды ленинское «естественно», образец его ударного стиля, где словесность и письменность слиты в одно. Для Ленина бешеная месть буржуазии за ее свержение — это естественно. Первые удары со всех сторон на первую Советскую республику — это естественно. Гремит гром, сверкает молния, идет буря — это естественно, как сама природа. Ильич целиком в борьбе, в своей революционной стихии, он стал ликующей, направляющей, победительной силой самой истории, как бы ставшей природой.
Ну, а Горький, тот, кто пел навстречу буре, когда ее еще не было, кто звал ее — «пусть сильнее грянет буря»? Горький был тем, за что до конца жизни любил Ленин Горького, за что он не только прощал его, уча и наставляя, как отец сына, но и за то любил он Горького, и в этом глубочайшая разгадка их взаимоотношений, их дружбы — до «встречи памятью» перед смертью, — что он был ему жизненно нужен. Горький был большим, настоящим художником.
Вчитаемся, как перечисляет Ленин обстоятельства жизни в Питере, столице, потерявшей свою столичность. «Зря разбитые стекла», «выстрелы и вопли из тюрьмы», «сотни жалоб от обиженных», «обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих»… В стремительном вихре письма это все несется, как клочки бумаги, легкий мусор, брошенные черепки из покидаемой, уже пустой квартиры. Оно сдувается ветром истории в небытие. Оно несущественно, оно видится Ильичу в потоке ослепляющего света Грядущего, которое очистительно, грозными шагами идет в мир и завтра станет реальностью.
А теперь представим себе, как этот звон разбитых стекол, выстрелы, вопли, жалобы обиженных воспринимает Горький, стоящий в самом центре потрясенного города и, как радиоантенна, принимающий всеми нервами, всем восприятием художника, — особой, сугубо-чувствительной человеческой организацией, — стоны страданья, шум обрушивающегося старого мира, случайность, ставшую хозяйкой расстроенного, неслаженного, потерявшего ритм оркестра, случайность, оправданную народом в жестокой пословице «Лес рубят — щепки летят». Художник никогда не оправдывал горя человеческого. Не важно, кто они, откуда. Люди. Люди — не щепки. И люди к нему — к художнику-антенне — кидают свои жалобы, свой скрежет зубов. Горький становится голосом протеста человеческого, в своем роде фигурой старинного романа Жан-Поля Рихтера «Зибенкейзом, адвокатом бедных». И — для Ленина, к Ленину, — обвинителем за сумасшедший оркестр страданья, все равно какого, но — человеческого. Он не желает покидать Петербург, не желает ехать за границу, не желает плыть по Волге на пароходе с Надеждой Константиновной, как предлагает Ленин. Больной, измученный, он отвечает «нет, нет, нет» на все предложенья Ленина. И вот он становится «полпредом» уходящего, старого, страдающего мира, а вместе с этим — помощником, собирателем, организатором всего, что осталось в нестоличной столице талантливого, ценного, умного. Пайки для ученых, квартиры для бездомных, дрова для квартир, собаки для Павлова, грандиозная система кормленья интеллигенции кормленья не только тела, но и духа, — в невиданного размаха издательстве «Всемирная литература». И тут же, на ходу, он успевает обогатить зашедшего к нему писателя незнакомым (но таким родным и нужным впоследствии) именем Лихтенштадта.
Ленин был великим диалектиком, ненавидевшим все стоячее, и особенно остановившееся, обезжизненное слово. Надо понять и помнить его гениальное рассуждение в письме к Инессе Арманд:
«Люди большей частью (99 % из буржуазии, 98 % из ликвидаторов, около 60–70 % из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова. Заучили слово: „подполье“. Твердо. Повторить могут. Наизусть знают.
А как надо изменить его формы в новой обстановке, как для этого заново учиться и думать надо, этого мы не понимаем».[162]
Ленин остался таким же до самой смерти — и судя по всему, что вынес он на своих плечах с 1917 года, от Брестского мира и до нэпа, указанные им «60–70 % из большевиков» — нисколько не уменьшились, если не возросли числом. Во всяком случае, в тех последних трудах своих, которые он уже не может писать, а только диктует, — он тот же могучий и гибкий диалектик. В 1923 году 4 и 6 января он диктует статью «О кооперации». Разговор о кооперации до революции вызывал у большевиков «законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение», — но изменилась обстановка, она стала новой, все средства производства в руках у народной власти, а «улыбки» у 60–70 % все те же. «И вот не все товарищи дают себе отчет в том, какое теперь гигантское, необъятное значение приобретает для нас кооперирование России… В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа есть все, что нам нужно…».[163] До самой смерти, уже потеряв возможность держать ручку в руке, он учит огромный процент товарищей, чуть ли не две трети, пониманию диалектика, необходимости думать, переосмысливать слово при каждой перемене обстановки.
И Ленин — в органической связи с прирожденным даром диалектического мышления — глубоко, до самозабвения любил жизнь, «вечно зеленое дерево жизни». Жизнь была для него великим корректором. Уроки жизни он схватывал сразу и охотно говаривал, получая их, что «ошибался жестоко». Так оно вырвалось у него однажды в письме Горькому:
«Прав был философ Гегель, ей-боту: жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется».[164]
Вот этим жизнелюбием, связанным с гибкой диалектичностью мышления, Ленин любил Горького, тянулся к нему. Ошибутся те, кто думает, что в своей с ним переписке один только Ленин учил Горького и был односторонне нужен Горькому. Вчитавшись в каждое слово этой переписки, начинаешь чувствовать, каким необходимым был мятущийся, отступающий, упрямый, впечатлительный, яркий Горький для Ильича, обтачивавшего свои мысли об эту дружбу, об ответы, казалось бы, такого несхожего, разного, чуждого человека, — политику нужен художник, как воздух, как хлеб, как правой ноге нужна левая; давным-давно какой-то философ сказал, что, двигаясь, мы последовательно падаем, и если б не было левой ноги, человек падал бы в одну сторону, а если б не было правой — в другую — и только потому, что он падает то на одну, то на другую — получается движение вперед. Может быть, это сильно сказано, — чересчур. Но мне думается, будь Горький другим, не ошибайся он в 1908-м, в 1917-м и, может быть, не один раз до и после. — Ильич не смог бы любить его так, как любил, заряжаясь, настаиваясь, оттачиваясь от своего спора с ним.
И тут я опять подхожу к последней их «встрече памятью» у порога смерти.
Не только перед одной Надеждой Константиновной, но и перед каждым из нас, жизнью связанных с Ильичем, должны встать веред глазами это лицо и этот взгляд, когда Ленин слушал и смотрел в окно куда-то вдаль… «В последний месяц жизни», писала Крупская Горькому, — значит, зимой. Когда в окно видны заснеженные деревья, но сквозь ветви все же проглядывает даль, быть может, аллея парка в Горках, быть может, дальний просвет между елей. Зима, птицы не поют, скованы льдом сосульки, не слышно сквозь стены треска мороза, тихо. Надежда Константиновна читает спокойно, не повышая голоса, чтоб не взволновать больного. Она читает статью Горького:
«…Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля…»[165]
И тут, мне кажется, углы губ Ильича чуть тронула едва заметная улыбка. Доказательств нет. Единственный свидетель, Крупская, об этом ни слова не сказала. А улыбка мерещится мне, когда закрою глаза, когда, медленно ступая в очереди, всматриваюсь в неподвижные черты, скованные, в вечной тишине Мавзолея. Улыбка чуть-чуть, — должна была быть. Почему Владимир Ильич вдруг вздумал прослушать давным-давно знакомую, порядком обозлившую его статью старого друга? Ведь не для того же, чтоб обласкать себя волной хвалебных слов на прощанье? И не для того, чтоб проверить, правильно ли он тогда возмутился статьей?
Я вхожу теперь в область догадок. И каждый, кому дан ключ в эту область, имеет право в нее войти. Ключ — любовь. И ключ этот дан мне в руки.
…Гм, гм… мог сказать себе Ильич. «Краткому, характерному восклицанию „гм-гм“ он умел придавать бесконечную гамму оттенков от язвительной иронии до осторожного сомненья, и часто в этом „гм-гм“ звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни»,[166] как написал о нем Горький после его смерти.
Что же мог бы он выразить этим «гм-гм» сейчас? В последние годы, вот и в это лежачее, насильственно-неподвижное время, ему, бойцу, сильно не хватало своего старого спора с другом; он, боец, скучал без полемики. Он хотел коснуться, дотронуться до этих строчек, зарядку получить, отпрянуть от них, чтоб горячее дыхание жизни, «живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется», — окропили его своей живой водой, раз уж врачи запрещают споры, свиданья, а встать, на лыжах пойти туда вдаль — нельзя и уже никогда нельзя будет. Возможно, он этого не думал ясно. Возможно, это шевелилось где-то в душе, в инстинкте, — без слов. Но толчок и — отпрядывание: живительный контакт с противником в споре тотчас произошел.
Гм-гм… «аскетически и мужественно». Неверно формально: аскеза несовместима с мужеством, бегство от жизни — трусость, а не мужество. И фактически неверно… никогда он не был аскетом. Он был борец.
Говорят, перед уходом из жизни проплывают перед глазами образы прожитого с детских до последних дней. Какие образы проплыли тогда перед взглядом Ленина, устремленным вдаль? Он глядел в заснеженную аллею парка. Недавно по этой аллее шел кузнец с глуховской фабрики — удивительный старик, словно сошедший со страниц раннего Горького. Кузнец крепко обнял Ленина и все твердил: «Я рабочий, кузнец, Владимир Ильич. Я — кузнец. Мы скуем все намеченное тобою», — и плакал старик.[167] Тепло народной любви охватило Ленина… Они, глуховцы, привезли вишневые деревца для посадки. Это хорошо — деревца, природа. И может быть, память унесла его далеко-далеко, к подножию Ротхорна, в швейцарскую деревушку Сёренберг, где втроем они бродят по лесу, собирают грибы — грибов уйма была… И его уголок в саду, рабочий стол, счастье работы.
Много позднее Крупская расскажет в своих воспоминаниях: «Вставали рано, и до обеда, который давался, как во всей Швейцарии, в 12 часов, занимался каждый из нас в своем углу в саду. Инесса часто играла в эти часы на рояле, и особенно хорошо занималось под звуки доносившейся музыки».[168] Теплая волна музыки, смешанная с благоуханием леса, белых грибов, сухих, мшистых ложбинок под солнцем, — гора «Красный Рог» — Ротхорн, белые альпийские розы…
Ленин умел ненавидеть в борьбе, как это свойственно человеку. И Ленин умел любить, как это свойственно сердцу человеческому. А если б этого не было, если б был он аскетом, — человечество не могло бы так горячо полюбить его самого, — родного и близкого, нужного и своего, как оно любит Ленина сейчас.
Ялта.
28 мая 1968 г.
Примечания
1
«Ленин и международное рабочее движение». Партиздат, М., 1934, с. 139–140. «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». Госполитиздат (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). М., 1957, т. 2, с. 628.
(обратно)2
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 409.
(обратно)3
«Ленин и международное рабочее движение», с. 9.
(обратно)4
«Воспоминания о Ленине». М., 1933, с. 45.
(обратно)5
«Ленин и международное рабочее движение», с. 144–145.
(обратно)6
«Ленин и международное рабочее движение», с. 144.
(обратно)7
У Галлахера сказано «game» — в этой игре. (Он имел в виду революцию. — М. Ш.).
(обратно)8
То есть берегов реки Клайд, около Глазго. — М. Ш.
(обратно)9
«Ленин и международное рабочее движение», с. 145.
(обратно)10
«Ленин и международное рабочее движение», с. 77–78; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 469–470.
(обратно)11
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 31.
(обратно)12
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 36–37.
(обратно)13
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы, т. 1, Гослитиздат, М., 1958, с. 241.
(обратно)14
«Ленин и международное рабочее движение», с. 51; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 3, с. 207.
(обратно)15
«Воспоминания о Ленине», с. 208.
(обратно)16
«Ленин и международное рабочее движение», с. 55; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 3, с. 208.
(обратно)17
Там же, с. 141; там же, т. 2, с. 629.
(обратно)18
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 320.
(обратно)19
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 8.
(обратно)20
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 535.
(обратно)21
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 532; «Ленин и международное рабочее движение», с. 126.
(обратно)22
ФОН — факультет общественных наук. — Ред.
(обратно)23
«Ленин и международное рабочее движение», с. 25.
(обратно)24
Там же, с. 24.
(обратно)25
Там же, с. 30.
(обратно)26
«Воспоминания о Ленине», с. 64.
(обратно)27
«Воспоминания о Ленине», с. 56.
(обратно)28
Там же.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
«Ленин и международное рабочее движение», с. 74–75; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 467–468.
(обратно)31
«Ленин и международное рабочее движение», с. 73; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 466–467.
(обратно)32
«Ленин и международное рабочее движение», с. 156; «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 2, с. 677.
(обратно)33
Письмо В. И. Ленина к А. М. Горькому от 14 ноября 1910 года. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 1.
(обратно)34
Напомним читателю, чем были в то время так называемые «отзовисты» и «впередовцы». В своей статье о «впередовцах» и о группе «Вперед», написанной в 1914 году, Ленин так определяет оба эти течения: «…впередовцы… были склеены из разнородных антимарксистских элементов. Этих элементов, в смысле идейных течений, было два: махизм и отзовизм…
„Махизм“ есть та философия Маха и Авенариуса, с исправлениями Богданова, которую защищали этот последний, Луначарский, Вольский и которая прячется в платформе „Вперед“ под псевдонимом „пролетарской философии“…
Отзовисты были против участия в III Думе, и события показали ясно, что… на деле их точка зрения приводила к анархизму». — В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 355–356.
(обратно)35
Имеется в виду революция 1905 года. — М. Ш.
(обратно)36
В. И. Ленин. Письмо А. М. Горькому от 11 апреля 1910 года. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 250–251.
(обратно)37
Письмо В. И. Ленина к А. М. Горькому от 14 ноября 1910 г. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 1.
(обратно)38
«Воспоминания о Ленине», с. 162–163.
(обратно)39
Счет там и тут идет в одном и том же календарном стиле.
(обратно)40
Ильич любил яичницу. Надежда Константиновна похвалилась однажды, что умеет готовить десять сортов омлетки.
(обратно)41
«Tout-Rouen», 29 octobre — 11 novembre 1966, p. 50.
(обратно)42
Кстати, недавно я прочла в «Литературной газете», как один из наших писателей разделался с этой исторической святыней французского народа, назвав ее коротенько по-панибратски «Сен-Мишель» и заметив мимоходом, что это крохотный городок на маленьком островке.
(обратно)43
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 318. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)44
Shower.
(обратно)45
«Воспоминания родных о Ленине». Госполитиздат, М., 1955, с. 204.
(обратно)46
Там же. (Выделено мной. — М. Ш.)
(обратно)47
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 215–216.
(обратно)48
Там же, с. 217.
(обратно)49
«Воспоминания о Ленине». М., 1933, с. 55.
(обратно)50
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 46, с. 271. «Несколько мыслей по поводу письма 7 ц. 6 ф.». Написано в феврале, позднее 12, 1903 г., послано из Лондона в Киев. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.).
(обратно)51
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 216. (Выделено мной. — М. Ш.)
(обратно)52
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 221.
(обратно)53
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 222.
(обратно)54
Hugh Seton Watson. The Russian Empire 1801–1917, Oxford, 1967. «The Oxford History of Modern Europe».
(обратно)55
И. Романовский. Книга и жизнь. Очерки о Государственной библиотеке имени Ленина, изд-во «Московский рабочий», 1950.
(обратно)56
The British Museum Library. London, 1948, 388 p., p. 31.
(обратно)57
The British Museum Library, Ch. III, p. 57.
(обратно)58
Там же, p. 90–92. (Выделено автором, — М. Ш.)
(обратно)59
В первом случае в «Воспоминаниях о Ленине». Партиздат, 1933, с. 55; а во втором — в «Воспоминаниях родных о Ленине». М., Госполитиздат, 1955, с. 204.
(обратно)60
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 219.
(обратно)61
30. Хольфорд-сквер. Пентонвиль У. С.Сэр,
Я прошу о входном билете в Читальный Зал Британского Музея. Я приехал из России, чтобы изучить земельный вопрос. Я прилагаю рекомендательное письмо г-на Митчелла.
Заверяю вас, Сэр, в полной преданности,
Ваш Якоб Рихтер.Апрель, 21. 1902
Директору Британского Музея.
(обратно)62
Апрель, 20.
Дорогой Сэр,
Я имею удовольствие рекомендовать м-ра Якоба Рихтера, доктора прав (из С.-Петербурга) для входа в Читальный Зал. Намерение моего друга, ходатайствующего о допущении, — изучить земельный вопрос.
Я уверен, что Вы сможете удовлетворить ходатайство.
Ваш искренне И.-Х. Митчелл.Генеральный секретарь Всеобщей Федерации тред-юнионов
168, Тэмпл Чэмберс Тэмпл… (обратно)63
Всеобщая Федерация тред-юнионов.
Главная контора: 168–170.
Тэмпл Чэмберс, Тэмпл-авеню,
Лондон, апрель, 23.1902.
Сэр,
С моей рекомендацией м-ру Рихтеру для допуска в Ридинг-Рум трудность, без сомнения, произошла из-за улицы, где я живу (Вольтер-стрит, Клапам), только недавно застроенной и, может быть, еще не попавшей в справочник.
Я теперь желаю повторить мою рекомендацию — с упомянутым выше адресом. Вы можете опять не найти его правильным по справочнику, поскольку до декабря 1901 года адрес был 40 Бридж-хауз 181 Куин Виктория стр. Е. С: этот адрес и остался в справочнике.
Надеюсь, это объяснение удовлетворит Вас.
Ваш искренне И.-Х. Митчелл. (обратно)64
Сэр,
в дополнение к моему письму и к Вашему сведению № 4332 я включаю сюда новую рекомендацию мр. Митчелла.
Ваш искренне Якоб Рихтер.24 апреля 1902.
(обратно)65
«Воспоминания о Ленине», с. 67.
(обратно)66
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 107.
(обратно)67
Там же, с. 83. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.).
(обратно)68
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 107.
(обратно)69
Там же, с. 105–106.
(обратно)70
Там же, с. 127.
(обратно)71
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 127.
(обратно)72
В. И. Ленин имеет в виду возглавлявшийся им кружок петербургских социал-демократов («стариков»). На его основе в 1895 году был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». — Примечание редакции Собраний сочинений, там же, с. 498.
(обратно)73
Там же, т. 6, с. 127. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)74
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 195–202.
(обратно)75
Там же, с. 238.
(обратно)76
Там же, с. 24.
(обратно)77
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 239–240. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)78
До этого додумался Л. Надеждин в брошюре «Канун революции» (у Ленина упомянуто в т. 6, с. 154. — М. Ш.).
(обратно)79
Страшно сказать (лат.).
(обратно)80
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 359.
(обратно)81
«Личность» в русском понимании этого слова больше соответствует немецкому «Persönlichkeit», а не «Person», означающей «особу», «персону».
(обратно)82
«Воспоминания о Ленине», с. 66.
(обратно)83
Там же, с. 66.
(обратно)84
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 46, с. 270 (сноска).
(обратно)85
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 152 (сноска).
(обратно)86
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 152 (сноска).
(обратно)87
Там же, с. 152. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)88
Там же.
(обратно)89
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 30, 31.
(обратно)90
Там же, с. 29. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)91
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 29.
(обратно)92
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 29–30. (Подчеркнуто Лениным. — М. Ш.)
(обратно)93
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, с. 218.
(обратно)94
М. Горький. В. И. Ленин. — М. Горький. Собр. соч. т. 17, Госполитиздат, М., 1949–1953, с. 30.
(обратно)95
«Камо грядеши» (куда идешь).
(обратно)96
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, с. 315.
(обратно)97
М. Горький. Собр. соч., т. 24, с. 204. См. там же примеч., с. 544.
(обратно)98
М. Горький. Сказки об Италии. — М. Горький. Собр. соч., т. 10, с. 11 и 14.
(обратно)99
«Genova Mazziniana e Garibaldiana». 1849–1860. Saga Genova, 1960, 33.
(обратно)100
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 13.
(обратно)101
Как стареют слова! Нынче написать просто «детская» (Kinderstube) может показаться уже непонятным. А добавлять «комната» — громоздко.
(обратно)102
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 148.
(обратно)103
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 162.
(обратно)104
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 263.
(обратно)105
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 290.
(обратно)106
Там же, с. 92.
(обратно)107
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 155.
(обратно)108
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 155.
(обратно)109
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 443.
(обратно)110
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 81.
(обратно)111
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 14.
(обратно)112
Из каприйской школы в Париже во главе с рабочим Н. А. Вилоновым выехали сперва шесть человек, а потом и остальные. См. о школах в эмиграции брошюру: Н. В. Нелидов и П. В. Барчугов. Ленинская школа в Лонжюмо. Из-дво политической литературы, М., 1967.
(обратно)113
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 210.
(обратно)114
Общественных уборных (итал.).
(обратно)115
Доброе утро (итал.).
(обратно)116
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы». Изд-во АН СССР, М., 1961, с. 219–220.
(обратно)117
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 221.
(обратно)118
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 221. (Курсив Ленина. — М. Ш.)
(обратно)119
Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 5, Госполитиздат, М., 1953, с. 55, 106, 107 и др.
(обратно)120
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 446.
(обратно)121
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 316.
(обратно)122
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 143. (Курсив Ленина. — М. Ш.)
(обратно)123
М. Горький. Собр. соч., т. 22, с. 556–557.
(обратно)124
М. Горький. Собр. соч., т. 22, с. 551.
(обратно)125
М. Горький. Собр. соч., т. 22, с. 552.
(обратно)126
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 154.
(обратно)127
…И если человек немеет в скорби, — Мне бог судил сказать, как я страдаю. Гёте, «Торквато Тассо».Goethe's sämmtliche Werke. Zwölfter Band, Reclam — Verlag, s. 126.
(обратно)128
Описка самой Надежды Константиновны: 20-го года.
(обратно)129
Журнал «Октябрь», июнь 1941 года, с. 20; «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 218–219.
(обратно)130
Журнал «Октябрь», июнь 1941 года, с. 22.
(обратно)131
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 257.
(обратно)132
«М. Горький в воспоминаниях современников». М., Госполитиздат, 1955, с. 40.
(обратно)133
«Правда», 20 июня 1936 года.
(обратно)134
«Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, с. 1932–1933.
(обратно)135
Журнал «Коммунист», 1956, № 5, с. 56. (Подчеркнуто мною. — М. Ш.) Мотивировка Ленина — «неуместность подобных статей… в журнале» — говорит о том, что возмущение его вызвано было не только «неверными положениями», но и хвалебными фразами Горького в его адрес.
(обратно)136
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, с. 429.
(обратно)137
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 378.
(обратно)138
Вера Дридзо. Надежда Константиновна Крупская. Госполитиздат, М., 1958, с. 20. Вот полная цитата из Крупской: «Мы ведь молодожены были, — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти». «…А он — „все Веббов переводили“».
(обратно)139
«Воспоминания о Ленине», с. 156.
(обратно)140
Н. К. Крупская. Ленинские установки в области культуры. Партиздат, М., 1934, с. 21–22; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 404–405. (Разрядка моя. — М. Ш.).
(обратно)141
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 318.
(обратно)142
Was ist Allgemeine? — Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? — Millionen Fälle.(Goethes Werke. Hempel-Ausgabe. B. XIX. S. 195.)
(обратно)143
Ленин поправлял Плеханова, когда тот ошибался (в книге «Материализм и эмпириокритицизм», например, см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 155 и дальше).
(обратно)144
Goethes Werke. Hempel-Ausgabe, B. II. S. 230. (Перевод мой, дословный. — М. Ш.).
(обратно)145
Г. В. Плеханов. Соч., т. VIII. Государственное издательство, М. — П., 1923–1927, с. 387.
(обратно)146
В. О. Лихтенштадт. Гёте. Государственное издательство, СПб, 1920, с. 387.
(обратно)147
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 400.
(обратно)148
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 389.
(обратно)149
М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1961, с. 98–99.
(обратно)150
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 303.
(обратно)151
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 339.
(обратно)152
В. Брюсов. Избранные стихи. Academia, М., 1933, с. 157.
(обратно)153
З. Н. Гиппиус. Собрание стихов, 1889–1903. Книгоиздательство «Скорпион», М., 1904, с. 2.
(обратно)154
Первое фото я видела в книге: М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. (Изд. 1961, с. 304.) А рисунок Андреева в книге: «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы».
(обратно)155
«М. Горький в эпоху революции 1905–1907 годов». Изд-во АН СССР, М., 1957, с. 71.
(обратно)156
«Литературное наследство», т. 72; «Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка». Письмо Горького Андрееву от 2… 5/15… 18 марта 1906 г. Изд-во «Наука», М., 1965, с. 265.
(обратно)157
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 170.
(обратно)158
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 42.
(обратно)159
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 48–49.
(обратно)160
Там же, с. 49. Позднее, в 1933 году, в письме к И. А. Груздеву Горький отрицал, но, правда, не очень убедительно, существование такого «обращения» и приписал его выдумке иностранной прессы. См.: М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 303.
(обратно)161
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, с. 25–27. (Курсив Ленина. — М. Ш.)
(обратно)162
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 242–243.
(обратно)163
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 369–370.
(обратно)164
Там же, т. 47, с. 219.
(обратно)165
«Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, с. 1932–1933.
(обратно)166
«В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», с. 262.
(обратно)167
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 3, с. 369.
(обратно)168
«Воспоминания о Ленине», с. 237–238.
(обратно)




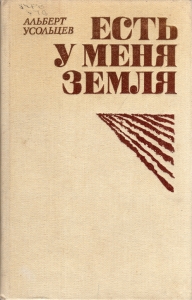
Комментарии к книге «Четыре урока у Ленина», Мариэтта Сергеевна Шагинян
Всего 0 комментариев