Николай Богданов ВЕЧЕРА НА УКОМОВСКИХ СТОЛАХ Комсомольские рассказы
КАК НА СЪЕЗД ЕХАЛИ
— Больше всего на свете полюбили мы тогда собрания и заседания, — так начал свой рассказ Гришуков о приключениях деповских ребят в первый год революции. — Бывало, хлебом нас не корми, дай только собраться, избрать президиум, секретаря, председателя, и пошли «ставить вопросы на попа»: «Есть ли бог, а если нет, то почему?», «Что такое любовь?», «Когда будет мировая революция?» и так далее. Любой вопрос могли обсудить, по каждому высказать мнение. Свое мнение! Судьбой-то нашей, бывало, никто не интересовался, не то что мнением, а теперь мы сами судьбы решаем. Последние стали первыми.
Прежде нашего брата отовсюду в шею, а теперь мы, красная молодежь, опора будущего. Нас туда, нас сюда, нам слово дают: товарищ такой да товарищ сякой — делегат, депутат, уполномоченный. Мы ведь не сами по себе — представители. У нас свой союз есть — социалистической молодежи.
Это нам винтовки доверены Совет охранять. Мы бандитов бьем. Мы власть на местах укрепляем. И голодно и холодно бывает, и вражеская пуля стережет из-за угла. Все нипочем. Пробудились, творим историю.
И хочется нам привлечь всю молодежь, объединиться. Встрепенулись, когда услышали — собирается в Елатьме первый уездный съезд красной молодежи.
И не стало у нас другой мечты, как на съезд, на съезд!
Отцы-матери отговаривать: куда в этакую даль, мальчишки, за семь верст киселя хлебать! Чего вы там не видали? Медом, что ли, вас манят? Зимнее время, одежонка плохая, на путях банды…
Старыми понятиями иные еще живут, не знают, что для нас мед, какая одежа нам душу греет. А нам даже странно, что мы раньше без таких интересов жили. Прозябали, конечно. И как это в других странах люди без революции обходятся? Скучно там молодежи, чем дышать?
А нам — свежий ветер в лицо. Что ни день, то новое. Вот и съезд — это же праздник, всему миру свидание и великая цель. Союзов стало как грибов после революционного ливня. Тут и наш социалистический, рабочий, и ЮКи, ШТУКи, и даже СММ — союз монашеской, или монастырской, что ли, молодежи. Был и такой. Создали его послушники знаменитого Саровского монастыря. Надоело горюнам, что их святые монахи под видом послуха эксплуатируют вовсю, не соблюдая ни божеских заповедей, ни восьмичасового рабочего дня.
Всех революция пробудила, отовсюду молодые голоса. Да только звучат по-разному, не получилась бы какофония какая-нибудь. Вот и задумали мы спеться на один мотив, желательно — Третий Интернационал.
Тревожимся, как оно там произойдет, в Елатьме? Город без рабочей прослойки, гимназический. Революционных традиций нет. Недавно отличился белогвардейским восстанием. Получили указание — избрать одного делегата от пяти. Избрали. От слесарских учеников — меня, от литейной — Леньку, от паровозников — Максима и Гришку и, конечно, нашего главного говоруна Сергея Ермакова.
Делегация идейно сильная, но небольшая. Не остаться бы в меньшинстве при решении главных вопросов. И задумали мы привлечь рабочую молодежь из Еремши. Решили заехать по дороге в это заводское село да и прихватить оттуда ребят побойчей. Слыхали, там тоже социалистический союз есть.
Прибежали на постоялый двор, нашли еремшинских возчиков из артели «Красный металлист» — они для своего производства на нашей станции полосовое железо получали — и сняли перед ними шапки:
— Подвезите, дяденьки, нашу делегацию к вашим ребятам!
Посмеялись ямщики: чего это на Елатьму собрались мы через Еремшу крюк-то ведь верст пятьдесят с гаком! Ничего, для дела революции никакой гак не страшен. Когда объяснились — поняли, решили подвезти. Только на одежонку нашу посмотрели с сомнением:
— Ах, делегаты-депутаты, не поморозить бы вас, фрукты дорогие!
А потом поснимали с себя волчьи тулупы, закидали нас, укрыли, свистнули — и пошел.
Кони — битюги, гривы до пят, ход машист. Ямщики — богатыри, бороды лопатами, груди колесом. Лошадки как заржут — снег с крыш сыплется, кучера как гаркнут — двери в избах растворяются.
Что твои Заляпины: как при выезде из одного села запоют удалую, так в другом селе слышится. Отворяй, народ, околицы, кто там встречный, сворачивай! Еремшинская ямщина обозом идет. Лучше не связываться. Известно, у еремши: «Тот не коник, что избу не стронет», «Тот не ямщик, что коня на спине не утащит».
Сотни лет казенной гоньбы эти голоса ставили, веками буйна силушка ямщицкая вырабатывалась. Во времена царя Петра, когда по его указу тульские кузнецы в темниковских лесах, на болотных рудах железодельные заводы поставили, из отставных драгун погорластей приписаны были к ним ямщики. Чтобы они то царево железо для ядер и пушек, для ружей и якорей из темных лесов на светлые реки без устали мчали.
И велено было, дабы не блазнить лесных татей, иметь езду не тихую, по обычаю купцов, которые едут с товаром, хоронясь, а громкую, с бубенцами, колокольцами, глухарями. А ямщина добавила: с песней. Чтобы никакие разбойнички и с начальством не путали, заслышав удалой, раздольный напев.
Вот мы с какими потомками на первый наш съезд поехали. С такими не пропадешь.
На постоялом дворе, во время дневки, вынули нас из тулупов, бережно, как стеклянных. Усадили с собой за стол. Все ямщики достали из плетеных кошелей по краюхе хлеба, по луковице. У каждого оказалась деревянная ложка, завернутая в вышитое полотенце. Старшой, сивый старичина с красным обветренным лицом, достал большую деревянную чашку.
Ямщики накрошили в нее хлеба, нарезали лука, а старшой вылил в окрошку штоф водки и, перетряхнув, обождал, когда хлеб пропитается.
Одолжив у хозяйки постоялого двора две ложки для нас, он понюхал тюрю и, довольно усмехнувшись, сказал:
— А ну, делегаты, сыграем в чашки-ложки!
И, перекрестив еду, первый подал пример.
— Мы водки не пьем, — робко сказал Сережка.
— А нешто мы пьем? — строго посмотрел на него старшой. — Мы ее едим! Нам, ямщикам, пьянство в дороге от дедов заказано. Вот что.
— Ты ешь, ешь, ямщицкой тюрей не брезгуй.
— Согревательная пища. В обед поешь — до ужина греет!
— А коль середке тепло, и краешки играют. Оттого наши ямщики хотя и не пьют, а всю дорогу поют.
Уговорили нас возчики.
Заправившись такой пищей, мы всю дорогу проспали, как на печке, тюря нас изнутри грела, тулупы — сверху. Проснемся, глотнем снежку от жажды и опять спим. Не заметили, как вот она и Еремша.
Красиво раскинулось заводское село по обоим берегам громадного пруда. Смотрим: на льду детвора на коньках резвится, а из-подо льда водопад бьет. Да какой! Целая речка, синей радугой изогнувшись, свергается с высоты плотины в кипящее, пенящееся бучило. Гремит, ревет. Столетние дубы, вбитые в русло, как частокол, шатает. Ярится река — работы просит.
Когда-то огромный дубовый вал крутила. А он подымал большущие молоты. Плющили они железные чурки в лист. Из тех листов первые пароходы клепали в Сормове.
А теперь что: замки, шпингалеты, угольники. Для мелкой скобянки такая силища не нужна. Шумит река бесполезно. Тратит зря силу на буйство, как еремшинская молодежь, бывало, до революции на кулачные драки.
Ох и большие же здесь бывали ледовые побоища на масленицу! Одна слобода на другую — ломовая на кузнечную. Зачинали малыши, вступались подростки, за ними парни, а под вечер, после работы, выходили на лед поразмяться бородачи.
И начиналась потеха. У кучеров в кулаках вся сила, у кузнецов — в плечах. Как вдарят — гул идет! Не будь меховых шапок да рукавиц, так никакие бы крепкие головы не выдержали.
На эти побоища, бывало, как на спектакли, купцы из соседнего Кадома жаловали. Помещики из имений съезжались. Пари держат, подбадривают, угощают любимцев силачей крепкими настойками. Стравляют рабочий народ себе на потеху.
Так бы оно и дальше продолжалось, да повернула революция рабочий кулак на буржуйскую голову. Нашла и еремшинская молодежь, куда девать буйну силушку.
Вот он, барский дом, над прудом, весь огнями горит.
Но не помещичий бал в нем, а вечер рабочей молодежи. Не кисейных барышень кружева, не золотые погоны кавалеров освещают лампы-молнии, а пролетарские лица. Ввалились мы, и сразу — митинг.
Вышел на трибуну Сергей Ермаков. Доложил существо вопроса.
— Послать делегацию на красный съезд! — так решают еремшинцы единогласно и тут же устраивают выборы. Одного от пяти, согласно инструкции, но по своему обычаю. Тянут ребята жребий из шапки: кому выпадет счастье, тот и поедет.
Накрошили два десятка бумажек, по числу членов Союза молодежи, на четырех написали «на съезд», и вот четверо счастливцев, развернув трубочки, оказались избранными.
Но Сережке этого мало, решил для формальности проголосовать. И по своей ораторской привычке провозгласил:
— Итак, товарищи, разрешите вышеназванных ребят считать передовыми представителями еремшинской молодежи. Кто за это, поднимите руки!
В ответ — молчание. Не поднимаются руки. Не поймем почему.
Вдруг в тишине один парень возвещает басом:
— Ище чего захотел? Здесь дураков нету. У кого это рука подымется посчитать себя перед всем светом отсталей своих товарищей? Эдак не пойдет!
И весь зал как грохнет:
— Неправильно!
Звонили в колокольчик, свистели, шикали всем президиумом, наконец успокоили массу, и, утерев пот со лба, Сергей извинился:
— Конечно, все вы передовая рабочая молодежь, товарищи, это ясно. Но… делегат потому и делегат, что он должен быть кем-нибудь избран. Давайте согласимся послать этих ребят, одного от пяти, согласно инструкции.
— Либо никого, либо ехать всем вместе!
— К шутам инструкцию!
Бушует зал, как еремшинский пруд в половодье. Растерялся Сергей. Перешептывается со старшими товарищами, еремшинскими большевиками, сидящими в президиуме. А те его предупреждают, посмеиваясь:
— Да, не терпят у нас ребята выскочек, если кто перед товарищами загордится, сразу по шапке бьют. Это надо учесть. Если мы четверых из всей массы выделим, их сейчас же, не отходя от клуба, вздуют!
— Нельзя же послать всех вместе — двадцать человек! Такую ораву даже и не прокормят, — ужаснулся Сергей.
Засмеялись еремшинские в президиуме:
— А если мы их отправим на своих харчах? От такой дружной команды беды на съезде не будет.
И что же? Уговорили.
На радостях подхватили ребята Сережу и давай качать до тех пор, пока не уронили.
Радуются все возможности в городе побывать, людей посмотреть, себя показать, а рабочие-металлисты им деловые наказы дают:
— Вы там, кстати, небольшое дельце проверните, насчет электричества. Пошлем с вами пару монтеров: помогите им динамо с парохода снять. Привезете — честь вам и хвала, поставим на плотине электростанцию.
— Главное, лампочек там этих постарайтесь достать, которые без керосина светят, — наказывает какой-то старик, черный лицом от железной пыли-копоти. — На пароходах такие видал. Вот бы нам в дома!
— Ишь чего захотел, жукарь!
— Ему подай, чтобы старуха и варежки вязала при электричестве, вот буржуй!
— Нет, братцы, оно не для шуток, а для большого дела пойдет Станки крутить — вот!
— Ну ладно, ладно, пущай динамо везут, тогда на месте разберемся.
В конце концов решают: выдать делегатам на двоих по тулупу, а также сковородок, вьюшек, подков, гвоздей и прочих скобяных изделий для промена на харчи.
Наутро собрали обоз. В розвальнях новые кошевки. Свежее сено накрыто овчинными одеялами.
Ничего еремшинцы для своей молодежи не пожалели. Снарядили ребят под лозунгом «Знай наших». На всех новые рубашки, валяные сапоги с узорами, шапки заячьи, рукавицы овчинные. Ребята мордастые, коренной еремшинский пролетариат. И вдруг видим, один интеллигент ковыляет, в пальтишке и даже в очках. Что за птица? А это, оказывается, сын доктора. Как быть? Испортит все дело! Оказывается, он с детства с рабочими ребятами играл и по дружбе они его в свой союз молодежи приняли. Правда, с годичным кандидатским стажем. И все потому, что отец его, эксплуататор наемного труда, держит в своих когтях трудящуюся девушку как домработницу.
— Очень нужный нам парень, грамотный, все резолюции наизусть пишет! На съезде пригодится, — говорят делегаты.
— Ладно, с совещательным пройдет, сажай его, чтоб не замерз, где потесней компания, — командует Сережка.
А вслед за интеллигентом еще одно чудо: громоздится на сани с променным скобяным товаром, предназначенным нам на харчи, старик в длиннополой шубе, в бобровой шапке, как у боярина. Кто таков, зачем? А это главный казначей артели Савва Исаич. Доверенное лицо.
На каждую подводу в кучера снаряжен бородач с обрезом.
На весь обоз две гармонии. Под каждой дугой колокольчик. На хомутах бубенчики. На сбруе глухари. В хвостах и гривах ленты. А над дугами кумачовые флажки.
Вот так красная молодежь на свой первый съезд ехала.
Летим, гремим, звеним; на морозце и полозья саней, как скрипки, поют.
И чем дальше, тем больше людей набирается, катимся, народом обрастая, как снежный ком с великой горы.
Правда, не без шуток.
В одном селе наш обоз за свадебный поезд приняли. Шустрый дьячок церковные двери открыл да так на паперти с разинутым ртом и остался. В другом — сочли за гулливую банду. Околицу на запор, заслонили стогом сена и поверх дуг — залп из ружей.
— А ну, не замай, держи около!
Хорошо, время было дневное — объяснились:
— Мы красная молодежь! На съезд едем!
При огнях подкатили к большому селу — первому ночлегу. Здесь неожиданно проявил себя Савва Исаич.
В одном из больших домов шел не то митинг, не то собрание. Тогда ведь и в деревнях пустых вечеров не бывало. Оживился Сережка: ему бы только где выступить!
Выскочил из саней — и к трибуне разогреться с мороза.
Самыми красивыми словами доводит идею объединения всей красной молодежи в один союз. С лету добивается резолюции — послать на съезд делегатами местных ребят от сохи. Приветствует нас крестьянский народ.
И вдруг вылезает ему на смену Савва Исаич в своем поповском длинном пальто, снимает боярскую шапку и говорит:
— Уважаемые крестьяне, бывшие мужички, поручено мне, между прочим, пользуясь подходящей оказией, напомнить вам, что задолжали вы нашей артели «Красный металлист» немалую недоимочку, а именно…
Раскладывает перед собой толстенную бухгалтерскую книжищу, надевает на слоновый нос очки и начинает вычитывать:
— Гвоздочков, вот тут записано, столько-то ящиков брали, пшена не давали. Подков столько-то дюжин наши кузнецы наковали, а натурой за них не собрали. Полведерников, подойников, железных рукомойников опять же приобретали, а мучицу до новою урожая задержали…
Вычитывает и бороду при каждом подсчете гладит.
Повытянулись лица мужичков.
— Савва Исаич, да ведь это должок еще времен царских!
— Позвольте, товар-то делан рукой пролетарской! Честью прошу!
— Где же ты раньше был, казначей?
— Ждал, поди, пока соберешь продотряд? Ишь появился с какой гвардией. За горло хочешь взять? Это что же получается, эй, солдаты!
Солдаты, известно, всему делу голова. Выскакивают и в протест:
— Никаких царских долгов! Без аннексий и контрибуций! Долой!
Обрезы у них под шинельками затворами гремят.
Шум поднялся ужасный. Вот как дело обернулось: вместо рабоче-крестьянской смычки получается стычка! Тянем за полы Савву Исаича, а он знай свою бухгалтерию проповедует:
— Должок, должок за вами… Еще вот шестеренки для молотилок… А вот…
Наконец стащили мы его с трибуны и выпустили Сережку. Уж он агитировал, агитировал, бил себя кулаком в грудь. Насилу успокоил волнение масс. Охрип, волосы вспотели. И в результате такая была резолюция:
«Ежели они действительно делегаты — напоить, накормить и на дорогу харчей дать».
Народ оказался гостеприимный. На ночь разобрали нас по домам. Везде угощение, всюду разговор душевный, какие на свете новости, как будет дальше, о планах жизни.
Попали мы с Сережкой в какой-то дом к хозяину выдающегося ума. Под образами стопка книжек. А вся чистая горница кадушками с медом заставлена.
— Вот, — говорит, — юноши, самое праведное богатство, добытое честным трудом. Желаете, каждого из вас обучу, как стать богатым, не эксплуатируя чужого труда. Поступайте ко мне в ученики, будете счастливы, как Ваня.
И представляет нам застенчивого кудреватого паренька в белой домотканой рубашке.
— Второй год обучается у меня Ваня пчеловодству, а на третий год получит в премию бочонок меда на свадьбу, хе-хе-хе! Женится, заведет себе пчельник и будет богатеть, богатеть… Так ведь, Ванек?
Парень кивнул кудреватой головой.
— Да, позавидовать можете такому человеку, в жизни у него полная ясность. Вот и вам бы так пчеловодному делу обучаться. Куда вы едете, зачем? Почему в дороге, в тревоге?
Налила нам хозяйка жирных щей, поставила пирог с кашей, налила медовой браги. Любо нам стало, и пошли рассказывать про все тревоги. Как Советской власти помогаем, как ловим контру, как стреляют в нас из-за угла.
Пчеловод только ахает:
— Ай-яй-яй, страшно! Ай-яй-яй, беды какие, слышь, Ваня? Ой, не сносите вы головушек! Не доживете до свадеб, как вот ученичок мой! А дальше-то будете как, неужто всю жизнь в такой канители?
— А как же, подрастем, в Красную Армию пойдем, беляков бить. Побьем дальше пойдем, за мировую революцию…
— Погибнете, — пугается пчеловод, — погибнете.
— А нам не жалко! Нас много таких! Какие-нибудь да останутся, наше святое дело продолжат, чтобы не было эксплуататоров на земле! — задорим старика.
— Да ведь какие эксплуататоры, меня вот тоже так обзывали не раз, а кого я эксплуатирую? Только пчелу! Но это нам и бог велел.
— А Ваню? — шутит Сережка.
— Ах, да какая же это эксплуатация? Ваня — мой ученик, добровольный помощник. Он от меня больше пользуется, чем я от него. Верно ведь, Ванек?
Кивает кудрявый, а сам к нам льнет:
— Ну, а чего дальше-то, ребята, как это будете мировую революцию-то делать?
— А уже она делается. В Германии, например… Опять же в Венгрии.
Мы за словом в карман не лезем. И так это все любо, что и бабушка с печки слезла, и девчонки не спят — дочки пчеловода. А у тихого Ванечки глаза звездами горят.
Понравились мы в семье пчеловода. Почти до свету проговорили. Все жалели нас, опасались за молодые наши жизни, уговаривали остаться: дела нам всем хватит на пчельнике.
И старик просил, и хозяйка заботилась, и дочки ласково за руки брали. Ну, ей-ей, чуть не соблазнились мы с Сережкой, кабы не пролетарская наша закалка.
Мы-то не соблазнились, а вот Ванюшка соблазнился. Тронулись мы на рассвете, смотрим, что-то в наших санях лишнее, тесновато как-то в плетеной кошеве. Хвать-похвать, а это лишний пассажир. Кто же это к нам вскочил зайцем? Глядь — Ванюшка! Вот тебе и раз — это он с нами собрался мировую революцию делать, не побоялся опасностей и от своего благодетеля тайком сбежал.
— Куда же ты, Ваня, от такой тихой жизни?
— Пока на съезд, а там видно будет, — тряхнул кудрями парень.
— Да ведь никто не выбирал тебя, Ваня. Чей же ты представитель?
— А я сам от себя буду.
— Сам себе делегат?
Хохочут ребята, но парня не гонят. Как его обижать, он не просто в чужие сани вскочил, закатил перед тем два бочонка меду, свое жениховское приданое. Все, что заработал за труды свои, не пожалел ради будущего!
— Это, — говорит, — в общий котел: чай пить будем на съезде.
Прихватили мы его с собой не то всерьез, не то для забавы.
Мчится наш поезд санный, колокольцы звенят, глухари гремят, железные подреза, как скрипки, поют. Оркестр, да и только! Морозная пыль из-под копыт. Ветерок на спусках.
Мы и поем, и шутим, и, спрыгнув с саней, с конями перегоняемся. А Сергей Ермаков, как руководитель делегации, уму-разуму учит казначея нашего Савву Исаича, чтоб он на собраниях зря не болтал. Сорвет нам предсъездовскую политику.
— Ничего, — усменулся в бороду казначей, — припугнуть мужичков старыми грехами не вредно, добрей к новому станут.
Второй ночлег наметили мы за Окой: там от банд поспокойней. Но попалось на пути большое красивое село Навра: внизу заливные луга, по горам дремучие леса. Взлетаем в околицу, намереваясь проскочить мимо, но не тут-то было.
— Смотри — крашены дышала, видать, еремша пришла?
— Колокольчики-бубенчики, еремшинские птенчики.
— Знаменитые кучера, с горы кубарем, а в гору пешком! — шутят деревенские.
— Эй, не замай: что у навринца на языке, у еремшинца в кулаке, отвечает наша ямщина.
— Известно, в Еремше ребят не родят — на наковальнях плодят, кованые башмаки, железные кулаки, — смеются навринцы.
— Узнают петуха по крику, Навру — по вру!
— Ладно, побасками сочтемся, далеко ли путь держите?
— На съезд молодежи! На красный съезд!
Так перебрасываемся шутками с ребятами молодыми, с бабенками удалыми, придерживая коней, чтобы собак не давить. И чуем, что-то в селе пахнет жареным. Почему-то не в субботний день бани топятся над ручьем. Бабы на крылечки босые, в подоткнутых юбках выскакивают. Что за уборка, к какому празднику готовятся?
Поводит длинным носом Савва Исаич и спрашивает:
— Что это у вас за праздник, каких гостей ждете?
— Да вас, Савва Исаич, кого же! — кланяются ему старики, снимая шапки, как до революции.
— Ай слух раньше нашего звона дошел? Вспомнили про долги — решили угощеньицем откупиться? — усмехается казначей.
— Да уж угостим гусями, пирогами, жаркими баньками.
— Так-так, дело доброе, — приглаживает Савва Исаич бороду и нам своими большими, как у совы, глазищами подмаргивает: вот, дескать, что делает правильная политика, стоило в одном селе долговую книгу предъявить, как в другом — честью кланяются. Без всякого спору об аннексиях.
Кучера наши тоже носы по ветру, коней ко дворам и объявляют постой.
Нам бы на съезд поторопиться, а Савва Исаич агитирует насчет баньки.
— Останемся здешнюю молодежь всколыхнуть! — поддержал Сережка.
Ладно, всколыхнули. Ниспровергли руководства какого-то местного культпросветского кружка, под аполитичным названием «Рассвет», где захватили власть поповы сыновья. Мы переименовали его в «Красный рассвет». Избрали и здесь двух делегатов от сохи.
После официальной части объявили вечер смычки рабочей и крестьянской молодежи с музыкой и танцами.
Как сел за рояль сын доктора да как ударил по клавишам, так из-под пальцев только что живые птицы не вылетали, а звуки играли, звенели и пели на разные голоса: и ручьями журчали, и громами разговаривали. Старался интеллигент.
Но странное дело: веселья не получилось. Что-то было не так. Девушек, например ни одной. Куда девались? Да и сельские ребята какие-то робкие, настороженные. Словно ждут чего-то, а чего — неизвестно.
Так и разошлись по домам в какой-то неопределенности… Но горячие пироги, жареное и пареное мясо, сладкая медовуха несколько поуспокоили нас. И мы заснули в чистых горницах не хуже кучеров наших, всласть попарившихся в навринских банях. Спим чистые, невинные, как младенцы. И вдруг пробуждает нас ржание коней, топот ног, хлопанье дверей, злая ругань. И больше того — толчки и пинки. И непонятный вопль наших хозяев:
— Караул! Ратуйте! Медведь!
Какие там медведи? Чуем, терзают нас какие-то политические противники.
— Вот вам за красный съезд!
— Бей докрасна, кто чужое ест!
Дают тумаки, бьют и приговаривают.
Вначале мы растерялись, а потом, как раздался крик «наших бьют», поднялись, как от трубного гласа, все еремшинцы — слесари, токари, паяльщики, молотобойцы, бородатые кучера и даже старина Савва Исаич с полатей сиганул.
Уж если еремшинец, воспитанный с детства на товариществе, заслышит «наших бьют», он на такой призыв не только с полатей, с того света явится.
Высыпали мы из тесной избы на широкую улицу и при лунном сиянии увидели странную картину. Куда ни глянь — всюду, как привидения, еремшинцы, выскочившие в нижнем белье, схватились с неизвестными в шинелях и полушубках.
Не ожидая отпора, смешались неизвестные бандиты. Попробовав еремшинских железных кулаков, схватились за оружие. Но выстрелы только разъярили драку. Как ухватят бородачи-кучера такого нахала за руки, за ноги, раскачают да о бревенчатую избу со всего маха кинут. И лежит потрясенный бандит безучастно. Где уж драться, слово-то бранное и то произнести не может, молчит, только звездам подмигивает.
Окончилось ужасное побоище к утру. Изрядно помятых бандитов перевязали еремшинским способом, как буянов: посовали в мешки, под шеями бечевками завязали так, что торчат одни головы — усатые, бородатые, лысоватые, чубатые — и вращают глазами.
— Ну, чьи вы, откуда свалились, гости незваные? — спрашиваем их.
— Это вы таковы, мы-то званые! — очухавшись, отвечают бандиты. — Для нас были бани топлены, медовухи варены. А вы раньше нашего заявились. Нахально! Чужой пар выпарили, чужую брагу выпили. Вот мы и били вас.
— Интересное дело, — догадывается наш руководитель Сергей Ермаков, как же это вы так, товарищи навринцы, готовили пир для банды, а угостили красную молодежь? За кого же вы, за красных или за белых?
Молчат навринские старики, глаза в густых бровях прячут лукаво. Дипломаты!
— Знаю я их, навринцев, — вступается Савва Исаич, — двойственный народ. Они еще и при старом режиме двум богам молились. И святым угодникам в церкви свечки ставили к образам, и нечистым лешим в лесу корки хлеба на пеньки клали.
— А как же, — смиренно оправдываются навринские старики, — живем на краю лесов муромских, исстари привыкли и власть почитать и ублажать разбойничков.
— Да ведь это же не разбойники, а бандиты!
— Известно. Благодарствуем за избавленьице!
— Избавленьице… Вы-то избавились. А вот нам-то каково — кому руку прострелили, кому ногу, у кого глаз подбит, у кого нос на сторону… Как же теперь на съезд нам явиться? — ругается Ермаков, прикладывая к синяку под глазом медные пятаки и пряжки.
— То-то и оно, — соглашаются навринцы, — сильна была банда, нешто бы мы своими силами с ней управились? Спасибочко вам, выручили. Только уж не выпускайте их на волю — как доедете до Оки, так в полынью да и под лед. Мешков не жалейте.
Оказывается, в ночной стычке одолели мы банду знаменитого Медведя, царского офицера Медведева, не признавшего Советскую власть. Набрал он всяких отщепенцев и бесчинствовал в здешних лесных местах. Облагал окрестные села и деревни данью. Обязывал по очереди кормить, поить, угощать хмельным, парить в банях. Непокорные села на дым пускал.
Вот почему и пахло в Навре жареным. Вот отчего и девчат молодых не было, всех невест в ожидании банды навринцы по другим деревням отправили.
— Ай, ловко они нашим заездом воспользовались! Ахти мне, — причитал Савва Исаич, разглядывая шубу, порванную пополам, шапку, в навоз втоптанную. — В чужой драке всю одежу спортил! Что я старухе скажу?
Ему-то еще ничего. Еремшинские ребята огорчились куда больше. Докторского сына у них тяжко ранили. Не повезло интеллигенту: получил сразу две пули в живот.
Лежал в санях, накрытый тулупом, и извинялся:
— Вы простите меня, товарищи. Все настроение вам испортил. Досадная случайность. Не расстраивайтесь, пожалуйста, подумаешь, что значит один совещательный голос… обойдетесь…
Но эти слова еще больше терзали ребят.
— Потерпи до Елатьмы. Довезем, а там у тебя дядя доктор, вылечит.
Всю дорогу сани от толчков берегли. И на руках внесли в приемный покой. Там всем потерпевшим раны, царапины перевязали, и они явились на съезд, как с войны.
Елатьма нас встретила с почетом. А как же — впереди летела слава победители Медведя. С ним уездные власти всеми вооруженными силами справиться не могли, а мы его, как кота в мешке…
И надо сказать, убили позором. По всем деревням, на которые он страх наводил, провезли мы белобандита. Старухи на его голову помои выплескивали, мальчишки, вскочив на запятки саней, изловчались окропить несвятой росой. Девчата, видя такое поношение, стыдливо хихикали, гремели хохотом мужики.
Хозяевами вошли мы в бывший купеческий дом, овеваемый красными полотнищами со словами: «Привет, привет…» Мандатная комиссия сразу признала нас. Каких же еще нужно делегатов? Даже Ванечка — белокурый беглец, и тот пришел, оформили. Приняли и его дар — две бочки меда.
Попытались проскользнуть за нами и делегаты СММ, мы их на последнем перегоне нагнали и до города подвезли. Кормясь подаянием, они пешью, как побирушки, шли. Но не повезло им. При виде их монастырских подрясников вся комиссия на дыбы:
— Вы что, поповское влияние желаете протащить? Не выйдет!
— Смилуйтесь, — канючили Саровские послушники, — ведь мы ж самые разугнетенные пролетарии. Над вами уже буржуев нет, а над нами еще монахи царствуют. Они наверху попоют-покадят да за трапезы, а мы внизу, в сырых подвалах, киснем. Из ворохов медных денег, накиданных верующими в тарелки и кружки, серебряные монеты выбираем от зари до зари! Погибаем! За лучшее будущее бороться хотим!
— Борцы! Вот если бы вы прикатили на реквизированной игуменской тройке, мы бы вас прямо в президиум… А так…
…Чем окончился наш первый уездный съезд, известно. И спорили мы до хрипоты. И чай пили по вечерам до поту с Ванюшкиным медом. И за самоваром мирились. В конце концов решили — вступить в Российский Коммунистический Союз Молодежи, кратко наименованный РКСМ, и впредь зваться комсомольцами.
С такой резолюцией разъехались по домам делегаты, а еремшинцы еще и с подарком.
Пока мы вопросы обговаривали, Савва Исаич не зевал. Узнав, что всем делегатам полагается казенное довольствие, казначей променял всю скобянку на мед, на масло. Где нужно, подсластил, где нужно, подмаслил, и с одного реквизированного купеческого парохода так тихо увез динамо-машину для выделки электричества, что елатомские обыватели только через три года хватились.
Попытались машину вернуть, да не вышло. И то сказать: зачем оно им, электричество, танцы да балы проводить? Елатьма — городок мещанский, обывательский. Еремшинцам динамо нужнее: станки двигает, гвозди бьет, подковы кует. Не бесполезно теперь бойкая еремшинская речка гремит, вырабатывает энергию.
ПЕРВЫЙ ЗАЯЦ
— Эх, мальчик, — сказал встречный охотник, увидев меня с ружьем, — за лихое дело взялся: пока первого зайчика убьешь, ты у отца корову простреляешь — на порох и дробь разоришь.
Вот и не угадал, по всем статьям промазал. Отец у меня с германской не вернулся, корову давно мать на базар свела, а ружье было снаряжено совсем не по зайцам. Не до охоты мне было. По сиротству на все лето, с весны до осени, нанимался я в подпаски, а в зиму служил рассыльным в волостном Совете. Приходилось бегать с повестками по всем окрестным селам. И чаще все напрямик, знакомыми пастушьими тропами. Как же тут без ружья, того и гляди, нарвешься… Ведь со всех сторон только и слышишь: там Антонов у коммунистов на груди звезды вырезал, здесь Антонов советских служащих смертью казнил.
— А тебе, голяку, как куренку, кишки сапогами выдавят вот ужо! прошипела соседка, которой я вручил повестку в суд, как самогонщице.
Ничего я не ответил. Пришел домой, отыскал за печкой кусок свинца, положенный еще отцом, и давай орудовать. Растопил его в чугунке, разлил по дыркам в сырую глину, обкатал шершавые кругляки утюгом на сковородке, набил их в патроны с полуторамедвежьим зарядом, взял на плечо отцовское ружье, вдарил в цель и, уверившись, что могу попасть в дверь погреба прямо с крыльца, лихо свистнул:
— Врешь, живьем не дамся, сам Антонова уложу!
Не знал я еще тогда, что это не сам он вокруг гуляет, а его подручные. У каждого своя банда, и всяк называется нарочно Антоновым, чтоб непонятней и страшней было.
Соседка недаром каркала: только лишь запахло весной и наступило раннее половодье, как Антонов этот тут как тут. С полой водой из леса вышел. И такое пошло раздолье, держи головы! Только и знаю, ношу по приметным домам устные повестки, стучу в окно и выкликаю:
— Коммунисты, в волсовет! Активу дома не ночевать!
И тут же собираются коммунисты и Советской власти активисты и кто с винтовкой, кто с наганом, с гранатой, а то и просто с дробовым ружьем идут потемну на сборные пункты — в каменную школу, на кирпичный завод, либо в волость — где назначено.
Поначалу я дома ночевал. И вот однажды прихожу и вижу: мать маленькому Яшке и сестренке Парашке на шею крестики вешает на шнурочках… А старшей сестре, красивой Надьке, которая меня вынянчила, щеки сажей мажет.
Обернулась ко мне и просит:
— Ушел бы ты, сынок, от греха из дому.
Тут понял я: Антонов близко, бабы, они все раньше всех знают и по-свойски от бандитов сохраняются.
Я ничего не ответил, засопел только и стал собираться. Верно ведь, из-за одного человека зачем всем пропадать? Только оглянулся напоследок на родные стены и вижу, как красивая Надька без спросу цап моего Ленина со стены и дерет.
— Не смей! — заорал я. — Ветеринарова утирка!
Надька отшатнулась. Нехорошо обидел я свою няньку. Но за дело. Как-то подсмотрел я, что она с ветеринаром целовалась. Этот лошадиный доктор все норовил заехать на ночевку в наш бедный дом, когда бывал в волости. И все глазел на мою красивую сестру, когда она подавала ему вынутое из сундука утиральное полотенце. С тех пор невзлюбил я ветеринара да и зол был на Надьку.
Чуть не плача, снял я со стены портрет Ильича, скатал в трубку и, ничего больше не взяв из дома, с ружьем за плечом зашагал в волсовет.
А там уж полный сбор. Коммунисты, сочувствующие, мужики из комитета бедноты все помещения забили. Теснота, многие явились с женами и детьми.
Завидел меня наш председатель Лука Самонин и засмеялся:
— Смотри-ка, наш молодой актив явился. Вишь, на миру и смерть красна!
Оглядел народ, почесал бороду:
— А ну, православные, валите в церковь, за каменную ограду, под защиту дубовых стен и святых угодников!
Взошли мы в церковь. Лампадки, свечки зажгли. Расположились кто как. Святые угодники на нас хмуро смотрят. А жена Луки села на приступках алтаря, у царских врат, и ребятишкам варежки вяжет. А детишки ее на ковре играют и в подворотню алтаря заглядывают.
Кто оружие проверяет, кто вздремнуть старается. А в общем, скучно как-то.
— Эх, собрание, что ли, устроить!
Устроили насчет излишков хлеба у кулаков и распределения семян среди бедняков. Потом поснимали шапки и спели «Интернационал», а подсмотревшие это старушки по селу шепотом пустили:
— Коммунисты о непришествии Антонова молебствуют. Конец им приходит…
Вот и моя очередь подошла на колокольне дежурить. Забрались мы туда со стариком Шанежкиным, главным крикуном в комитете бедноты.
— Меня, — говорит он, — ежели даже живьем жарить будут, все равно идею не предам. «Да здравствует коммунизм! — кричать стану. — Наш бог Ленин!» И ты, Алешка, не предавай.
А мне какой интерес? Смешной дед, право, ему уже давно на погост пора, а он смерти все еще боится. Озирается по сторонам и дрожит, трусится.
— И что за туман такой, что за сырость, все косточки пробирает. Овражки, слышь, шумят, а реки еще лед не взломали. Такой туман у нас бывает, когда выльются в луга Цна и Мокша, сольются в одно море, вот тогда и поется: «А и пал туман на сине море…» Да уж скорей бы, тогда очутится наше село как на острове, никакие банды к нам не пройдут. А сейчас им самое время, пока лед не тронулся, из лесов выскочить и нас врасплох захватить… Кто ж нам сейчас на помощь придет? Ни конному, ни пешему через зажоры проезду-проходу нет. Хоть Лука и сообщил в уезд и волость, да где там! Им самим оборона нужна… Ох, туманы мои, растуманы, давай прислушивайся, парень, глазом-то ничего не видать. Сладка нам, Алеша, Советская власть, да горька кулацкая напасть… Чу, не идут ли?
Примолк и стал глядеть в туман. А мгла такая, что глаза ест. Аж слезы текут, и ничего нам не видно. Но слышно — идут. Сильно грязь хлюпает.
— Ох и скучно мне… В набат, что ли, вдарить!
И к набатной веревке руку тянет старый звонарь. Вдруг впереди голос часового:
— Стой, кто идет?
— А кто спрашивает?
И молчок. Только оружие пощелкивает, затворы говорят. Шанежкин по винтовой лестнице, подстелив полу шубы, на своих салазках скатывается тревогу объявить, а я в туман нацеливаюсь. Пока меня убьют, я какого-нибудь бандита сам уложу!
Наши из церкви выползают, у ограды оборону занимают, а в тумане наши часовые и ихние передовые друг друга щупают:
— Эй, с ружьем, ты местный аль пришлый? Как фамилия председателя Совета?
— А тебе на что? У нас хоронит и венчает поп!
— Поп? А Советская власть у вас есть или кончилась?
Туман вдруг рассеялся, и с колокольни завидел я островерхие шапки.
— Наши! — заорал я да как вдарю в мелкие праздничные колокола: «Ах вы сени, мои сени»…
И въехал в ограду церкви отряд. Все кони по брюхо мокрые.
— Жив, Самонин? — кричит Климаков и обнимает нашего Луку, не слезая с коня.
— Пока жив! — смеется бородатый.
— Принимай гостей! Проездом на фронт у вас задержались, мост и полотно река Цна размыла. Вот наш Янин ихнего командира и уговорил: потренируйтесь, мол, пока на наших мелких бандах… Это, мол, хорошо: ваша молодежь, глядишь, немного обстреляется!
— Банда мелкая? — спрашивает командир в кожаной черной тужурке, с желтой коробкой маузера на ремне.
— А кто ж ее считал! Туман пал, ни черта не видно!
— Прекратить трезвон, — командует командир, — это нас демаскирует!
— Ни черта, пущай думают за рекой, будто это наши кулаки банду хлебом-солью встречают.
Засели наши вместе с гостями за планы-карты и рассуждают, куда и как разведку послать. По всему выходит, что из кадомских лесов должны бандиты искать переправу где-нибудь у Липовки либо у Кошибеева. Тут заспорили. Один говорит: у Липовки им сподручней переправиться, а другой — скорей, говорит, на Кошибеево рванут и оттуда на спирто-водочный завод.
— Лучше всего бить их на переправе, из ручных пулеметов, — говорит кожаный, — пока они не рассеются в цепи. Надо искать это место.
А как его найдешь в тумане? В Кошибеево взялся проводить разведку старик Шанежкин. На Липовку никто не берется.
— А вот Алешка, — говорит Лука, — он с закрытыми глазами вас до Липовки доведет.
Выделили мне двух конников. Взяли они лошадей в повод, и пошли мы краем оврага, впадающего в реку Сатис, чуть не напротив Росстани, там, где старинный курган мордовский.
Конники — ребята ловкие. Сапоги на них кожаные. Шинели подвернуты. Карабины новенькие, и седла на конях так и блестят. У одного на шее бинокль. Да разве чего увидишь в таком тумане, того и гляди, на сучок наколешься.
Потому и идем не дорогой, а мимо, чтобы на бандитский дозор не напороться. Шли мы без разговоров и ступали почти неслышно. Рядом ревела вода в овраге, как сто медведей, разминающихся после сна в берлогах.
Ох и страшен был играющий овраг! Завалы снега громоздились, как горы. А под ними, роя пещеры, ворчали ручьи, впадающие в главное русло. А по дну мчалась бешеная рыжая вода, перекручивая деревья, перекатывая камни, обрушивая подтаявшую землю и глыбы снега. Иной оползень как запрудит поток, так весь овраг вздуется горой. И вдруг прорвет, вода ухнет. Тут берегись, если на пути окажешься, так и подхватит и завертит!
Шли мы, придерживаясь края оврага. Отбегали, когда вода лизала нам ноги.
Над нами неслись на север крикливые гуси, свистели крыльями утки, вились невидимые чибисы. И вспугнутые шагами, поднимались и отбегали в сторону мокрохвостые линючие лисы.
Местность становилась все ниже. Пора бы и кургану быть, но что-то вокруг было все ровно и какие-то кусты, которых здесь вроде не было, стали попадаться все гуще.
Вдруг показалась Цна.
Потоптались мои конники перед желтым, всгорбившимся льдом, попробовали его сапогом и конским копытом и решились:
— Веди вперед, с усами!
Почему это я представился им с усами? Ну, да раздумывать некогда. Перевели они коней по одному. И пошлепали мы лугами, по междуречью. Шли быстро — опасаясь, как бы вода в луга не вылилась: отсюда не выберешься. А туман проклятый окутывает мокрым холодом, лезет за шиворот, леденит грудь и спину. Дышать трудно. Как под водой идем. Все мутно, все мокро: земля, снег и воздух.
Так и заплутать можно, заблудились бы мы, кабы не держался я приметных тропок. И уж совсем было я подумал, что скоро дойдем до хутора, под названием Монашки, на котором прежде монастырская молочная была, да вдруг стал замечать, что вода по низинам вспять бежит, не к Мокше, а нам навстречу. И с каждым шагом ее все больше. И вот уж из овражков проливается в луга. И туман навстречу все гуще клубится. В дрожь меня бросило от догадки.
— Конница, — говорю, — садись на коней, крой обратно, беда идет, Мокша из берегов вышла! Широким потоком льет. Оттого и туман бежит, что верховая вода пришла с юга, она теплей нашей. К вечеру все это будет на дне моря!
— Ну, ну, не трусь, доведем до конца разведку!
— А чего доводить, и так ясно, засела теперь банда в Липовке, нет ей проходу.
— А почему в Липовке?
— А вы послушайте, как там грачи суматошатся и собаки на чужих брешут. Вишь, хрипло как, аж устали, столько там чужих, что всех не облаять!
— Ишь ты, хлюст козырей, мал-мал, а догадлив, — посмеялись конники и начали поучать, что не так это легко, по догадкам добывать точные сведения о противнике.
Тронулись дальше, на галочий грай, ведя коней в поводу, и вдруг схватились за оружие. Из тумана на нас хлюп, шлеп, и смотрим — заяц. Мокрый, грязный, озабоченный такой. Скачет себе через ручьи мимо, на нас ноль внимания, словно у него свои дела поважней.
Чуть не стрельнул я, да вовремя опомнился: ведь мы в разведке.
— Бери его живьем, ишь отсырел, едва топает!
Расхопырили конники руки, а он — в сторону. Я за ним, он от меня. Я шустрей, он кубарем в овражек. Туда, сюда, чуть за шкурку не хватаю, вот-вот ложей ружья зашибу. Зашел в меня азарт. Вот, думаю, на всю нашу гвардию жаркое. То-то любо-весело будет, когда здоровенного русачину из разведки принесу.
Я его ловлю, а он не дается, не хочет быть жареным. То в рыхлый снег сиганет, то в оттаявшую пашню. Он выскочит, а я завязну. Из грязи ноги едва тащу, на лаптях — целые култышки. В ручье ополощу — и снова за ним. Бегали мы, бегали, и оба устали. Заяц на бугорок сел, с лап грязь обкусывает, а я тоже передышки прошу, оборки у лаптей перетерлись, портянки размотались. Так сидим, вроде оба переобуваемся, друг на дружку посматриваем. Оглянулся я: где же конники? Не видать, не слыхать. Только туман клубится, словно кто мокрыми губками мне щеки трет. Крикнул легонько, свистнул. Без отзыва. Так сердце у меня и оборвалось. Скорей за ними, глядишь, по следам найду. Ткнулся вправо, сунулся влево. Что за черт, кругом оттаявшая пашня, откуда она взялась в лугах? Ноги вязнут, тону, как мышонок в дегте.
Вдруг — шлеп-шлеп-шлеп! Ага, да это ж мой заяц! Давай хоть за ним, одному-то совсем страшно. Кое-как из трясины вылез и по слуху за косым шлепаю. Не вижу его, а только слышу: тяжело дышит. А сам думаю: «Пропал, совсем пропал, как это я конников потерял? Как их найду? Как обратно в село вернусь?»
Мне бы теперь хоть зайца добыть. Вот, мол, за ним побежал и потерялся. А иначе какое у меня оправдание? Да не так-то просто его добыть. Поймать — сил нет, застрелить — нельзя.
Вода все шустрей идет, прибывает. Чуть с зайчиного следа собьюсь, так все по колено да глубже. А заяц метит стежку каким-то чудом посуху. Как же мне его убить? Ведь это проводник мой! Глядишь, на какой-то бугор и выведет. Знать, матер, умен, не раз попадал в половодье, звериные бедовые тропы знает.
Увижу его и шепчу:
— Топай, топай, косой друг, вот слово даю, стрелять не буду, пока из потопа не выведешь!
А у самого мысль: «А как же теперь конники? Что с ними будет? Ох, не найдут путей, зальются!»
Тревожусь, а сам все за зайцем слежу. Кабы не оторваться, кабы мне длинноухого проводничка не потерять.
Одежда в тумане отсырела, обувка размокла. Ружье стало тяжелым — хоть брось. Вот уж не иду, а качаюсь. И заяц словно в понятие это берет. Оглянется, сядет на задние лапы и губами дергает сочувственно.
— Ладно, ладно, — говорю, — топай на четырех, я на своих двоих как-нибудь не отстану.
А какой не отстану! Так и тянет на четвереньки опуститься. Никакой мочи нет! Не будь подо мной мокрого снега, холодной воды, так и повалился бы. До смерти хотелось хоть на минутку прилечь. Вспоминаю рассказы про замерзающих, как им всегда перед смертью спать хочется, и жуть меня берет. В ушах почему-то шум и звон, и в голове кружение.
Худо мне до слез. От сырого тумана, от ледяной воды холод уже под самым сердцем. И нет сил руками себя похлопать, поплясать, согреться. Душа холодеет, и чую: кончаюсь. Истаиваю, как свеча. Смотрит на меня заяц все жалостней. Уши даже уронил, или ослаб тоже, или огорчается. Видит, как паренек молодой зря погибает в расцвете жизни. Не от бандитской пули, не от кулацкого ножа, а вот так просто — от сырости. Туман его съел.
— Нет, — говорю, — косой, не сдадимся, шагай, выводи на сухое! На сухом я полежу немного и очнусь. Вот, ей-богу, честное комсомольское…
То ли я бредил это, то ли действительно заяц мне подмигнул, и вдруг скок в туман и пропал. Нет его, и даже лапами не шлепает. Собрал я последние силы, рванулся за ним и вдруг чую ногами твердую землю. Ни рыхлого снега, ни бегучей воды, а бугорок, твердый, обсохший. Так и повалился я на него. Земля, милая! Оттаявшая, но сухая, и веет в лицо теплом. Полежал я на ней, прижавшись щекой, и отошел немного. Прихожу в себя и соображаю, что же это? Откуда такой ровный бугорок в пойменных лугах тянется валиком? И вдруг осенило. Да ведь это же старинные осушительные канавы! Когда-то монашки по дареным монастырю бросовым лугам силами верующих эти канавы провели. И болотины осушили, и вот, видишь, меня спасли, того не зная. А заяц мой где? Э, брат, обрадовавшись сухому, далеко отскакал! Разве теперь догнать? Ну ладно, свое дело сделал, на сухое вывел, как я его и упросил, и за то спасибо. Прощай, косой, скачи, брат, до заячьего стану, а я уж теперь не пристану.
Встал я, подправил ружьишко и легко зашагал по гребню канавы. Куда она меня выведет? На хутор Монашки? Или к Кошибееву? Где теперь юг, где север? Туман вокруг, как вата, кажись, схвати рукой и сожмешь в комок. Даже звук глушит. Лают где-то собаки, а справа ли, слева ли, понять не могу.
Ну ладно. Главное — не пропасть пропадом, а там разберемся.
Только я так подумал, гляжу — впереди словно чьи-то пальцы мне путь показывают. Вот наваждение, да это же заячьи уши! Опять он впереди! Почему не удрал? Остановился и поводит ушами, как приуставший конь.
При виде косого знакомца я так развеселился, что растопырил руки и побежал на него.
— Вот теперь я тебя поймаю!
Не бить, не стрелять — в шутку! А он, горюн, вообразил, будто я всерьез. Прижал уши, как сиганет прочь и — бултых в воду! Оказывается, путь нам преградил разрушенный мосток через протоку. Шибко бежала по протоке вода, пенясь и ворча, крутясь воронками. И в этих воронках мелькали, то скрываясь, то показываясь, заячьи уши.
Не задумываясь, сиганул я на помощь утопающему, сам провалился по грудь, но ухватил его за скользкие уши и вытащил на другой берег. Дух у меня захватило, шутка ли, в ледяной воде окупнуться! Мокрый весь, а заяц мокрей меня. Дрожит, бедняга, шерсть слиплась, похож на драную кошку. Одни кости, да ребра, да живот, как шар с пуговичками. Ба, да это зайчиха! Чую, как бьются в животе у нее зайчата… Глядит мне прямо в глаза, словно за детей просит. Не убивай, мол. И такой разумный у нее взгляд, и ничуть глаза не косят, смотрит прямо.
Сердце у меня затеплилось, стыдно как-то стало, в щеки бросился жар. Завернул я ее в мокрую полу пиджака и побежал.
Забыл совсем и про банду и про разведку. И даже про конников, каюсь.
И вдруг под ногами плетни, заборы. Навозный запах в лицо. Туман, словно занавеска, разорвался, и над самым ухом испуганный голос:
— Стой!
Перед глазами оружие, мокрые шапки, незнакомые лица.
— Чей такой? Откуда?
Враз сгребли меня за шиворот и потащили к допросу. Ну, ясно, на хутор Монашки я попал, и прямо в объятия банды. У коновязей кони с подвязанными хвостами. Во всех сараях люди. В людской избе, видать, штаб. На крыльцо выходит ужасного вида рябой бандит и, зло нюхая туман, плюется не глядя, куда попадет. Знать, главный здесь, самый важный. Может, сам Антонов? Жаль, ружье-то у меня забрали…
— Что, лазутчик, попался? Я говорил — это ловушка. Мы, вся головка, здесь, а масса наша главная рекой отрезана. Вот теперь, ежели прижмут нас к этой полой воде красные, так нам и амба! Спасайся вплавь через Мокшу, по льдинкам, как волки! Эх вы, стратеги!
И так страшно ругается, что даже покрывается потом.
Другие ему так и эдак объясняют, что все, мол, обойдется. Пустая нечаянность.
— Знаем мы эту нечаянность! А может, измена! Откололи от массы и завели… Ух, отправлю вот в штаб Духонина! — И рвет на себе ремни, на которых висит оружие, как норовистый конь сбрую. И ноздри раздуваются зло и страшно.
— А ну, говори, кто тебя послал? Где ваши?
И, сбежав с крыльца, хватает меня когтистой рукой за ухо. От такой резкости я спотыкаюсь, повисаю на своем ухе, как на вешалке, руки у меня разжимают подол пиджака, и под ноги ему выкатывается зайчиха.
До чего же испугался ее страшный бандит! Так и отскочил, как от змеи или от брошенной гранаты!
Все бандиты расхохотались. Вытянул он ближайшего плеткой с досады и как заорет:
— Обыскать не могли как следует? Почему заяц? Зачем?
Тут и остальные стали в тупик.
— Вот разложить его да всыпать горячих, так он расскажет, что и к чему! — заявил, приближаясь ко мне, противный человечишка с голым бабьим лицом и тонкими губами. Поверх хромовых офицерских сапог у него были широкие мордовские лапти.
И взял меня за плечо жесткой рукой. Ну, настал мой последний час. Пусть мучают, бандюки, ничего не скажу.
Поднял я глаза к небу. Ничего там нет, только грачи вьются тучей. Эх, не разорять мне больше ваших гнезд, не таскать пестрых яиц в картузе, не побаловать меньшую братию вольной яишенкой…
Так стою, как истукан, не слышу ни ругани, ни вопросов. И вдруг доносится до меня знакомый чей-то голос. И что-то напоминает он мою сестренку-няньку.
— Да это же глупый мальчишка! Воители, постойте! Уши ему надрать, и все, чтобы без времени не охотился! Зайцев надо бить, когда шкурка годна, когда зайчихи не котятся. А ведь это что выдумал — ловить зайцев живьем, за уши, когда их половодье загоняет на острова, на тесные места! Есть такой дурацкий обычай у наших ребят. Давно я с этим борюсь. А ну-ка, дайте мне его в руки, чертова браконьера!
Чую, отрывают меня от бандитов, и тут я узнаю: да это же ухажер Надькин — ветеринар!
— Ага, — говорит, — вот ты мне где попался! Сейчас мы с тобой расквитаемся за все твои пакости!
Грозит мне, а у самого глаза смеются. Хватает за шиворот и, наддавая подзатыльники, волочит к околице.
— Беги домой и не балуй! Скажи матери — ружье отняли, и поделом, не шатайся на охоту не вовремя!
Бьет и приговаривает.
А главный бандит кричит вдогонку:
— Эй, ветеринар, принимай четвероногих младенцев! Зайчиха жеребиться собирается! Ха-ха-ха!
Берет мою зайчиху за уши и кидает нам вслед.
Хватает ее ветеринар, сует мне в подол и шепчет:
— Беги!
Подхватывает меня, как ветром. А он вдогонку:
— Чтобы выкормить мне зайчат на жарево всех до одного! Так и скажи Надьке!
— Что, ветеринар, ай знакомый твой баловался по зайчишкам-то? спросил его потом главный бандит, распотешенный всей этой историей.
— Да, из нашего села мальчишка. Сын веселой вдовы… Сами понимаете.
Бандит подмигнул ему и, расправив усы, еще громче захохотал.
Опасаясь, как бы не догнал меня пулей рябой бандит, подхватив зайчиху, чесал я по большаку прямо на Кошибеево что есть духу. Откуда и прыть взялась.
У кошибеевских околиц схватили меня снова, только теперь уже наши, конный патруль. Быстро представили к начальнику. Узнал он меня враз:
— Да… Все, что ты говоришь, похоже на правду, но куда же ты девал двух товарищей — конных и оружных? А? Ты выкатился к нам, как новый гривенник, а они затерялись, как иголки в сене? Как же могло случиться? Ну-с?
Еще раз рассказываю я всю историю. Не верит.
— А чем докажешь, что это не вранье?
— Парень-то наш, честный, не к чему ему врать, — заступается Лука.
Не верит командир:
— Ну, что же, в расход тебя? Сейчас или после, когда судьбу погубленных тобой бойцов узнаем?
— Да как же, дяденька командир, — расплакался я, как мальчишка, — а зайчиха-то при мне. Вот она!
Озадачила моя зайчиха всех, даже сердитого начальника. Стали думать, гадать, а потом порешили.
— Веди, — говорит, — оголец, наш авангард по этим самым осушительным канавам в тыл бандитам, как ты говоришь… Выведешь правильно, отрежем их от переправ, тебе награда: лучший шелудивый конь. Раз у тебя в знакомцах сам ветеринар, он его вылечит. А если ты соврал, если ты предал революцию — будешь ты проклят на все времена… И ты, и все родичи твои, и все поручители… Ничего нет на свете подлей измены!
И при этих словах зубами скрипнул от злости. Наверное, представилось ему, что его молодые красные бойцы, изменой преданные врагу, испытывают теперь все муки бандитской казни. Вырезают им красные звезды на могучей груди, выкалывают ясные очи.
И у меня от представления такой картины мурашки по спине пошли. А вдруг попались ребята по своей оплошности?
Беда! Задрожав всем телом, попросился я домой — переодеться в сухое, попрощаться с родней.
Пока готовился отряд, пока обертывали оружие полотенцами, чтоб не звенело, а копыта коней мешковиной, меня под конвоем повели домой.
Мать сидела неподвижно, уронив руки. Красивая Надька, поджав губы, не подняла глаз. Она пряла. Гудело под ногой колесо самопряхи, и веретено то опускалось до полу, то взвивалось к ее ловким пальцам.
Часовые жгли губы папиросками, залюбовавшись ею.
Меньшие мои братишки лепили из хлебного мякиша человечков и, посолив, поедали. Играли в людоедов, сказку про которых прочла им грамотная нянька.
Жалко мне их, а в то же время не страшно, ведь если погибну по-честному — за отца им будет Лука Самонин, за братьев — наши комсомольцы! Вот кого не подведу я ни за что на свете!
Сам достал я себе сухую одежду, переобулся. Устроил на печке зазябнувшую зайчиху и, поручив ее ребятишкам, ушел, шепнув Надьке:
— От ветеринара привет!
Вскинула глазищи и только.
Отряд изготовился. Команда:
— По коням!
Командир подхватил меня и, посадив впереди себя на седло, сказал:
— Ну, хлопец, не подведи!
А потом всю дорогу молчали. Ничего не говорили, только пальцами я указывал, а он рукой команду подавал. Прямо через канаву, через сломанный мост. Вперед. Одни — вправо, другие — влево…
А потом: «Кто идет?» Сабельный лязг. Выстрел. «Ура!» Взрыв гранат. Ругань. Командир дал шпоры. Конь вынес нас на берег Мокши. Туман вдруг рассеялся, и мы увидели, как из лесу выплывают навстречу черные, свежесмоленые дощаники, полные конных и оружных.
— Пулеметы к бою! — приказал командир.
Пулеметчики выросли как из-под земли. Уложили ученых коней своих наземь и, приладив к седлам ручные пулеметы, ударили чуть повыше воды.
Свистели пули. Кружились в разливе расстрелянные дощаники. Прыгали на льдины кони и, подхваченные рекой, уносились в туман. Лязгали сабли в сараях, в огородах, на сушилках. До последнего дрались главари банды, не давались живьем.
Ну, да ведь без масс долго не повоюешь. Перещелкали их наши всех наперечет. Ветеринар после сосчитал и сказал:
— Все! Сколько коней, столько было и людей. Кони, как видите, все серой вымазаны стоят, а всадники в грязи лежат… Могу доложить, что я специально устроил лечение конского состава, чтобы задержать банду, не пустить ее с плацдарма на простор.
— Похвально, похвально, — сказал красный командир.
Он почему-то избегал на меня смотреть, сколько я ни заглядывал ему в глаза. И, хотя были мы в одном седле и могла нас навек породнить одна пуля, чего-то он от меня все отстранялся. Наверное, неловко было из-за конников. Затерялись они действительно в сене. Лошади их спасли. На высоком месте к стогам вышли. Там их и отрезал разлив. Такая была высокая вода этой весной, что даже потопила незатопляемый остров. Вот пришел за ними дощаник, и видят гребцы — чудо! На вершине стога военные кони стоят и знай себе сено жуют. А под ними конники лежат, укрылись и спят, как праведники…
И смех и грех! Как же гневался командир на неудачу своих разведчиков, а все-таки предо мною слово свое сдержал — позвал ветеринара.
— А ну, — говорит, — товарищ, выберите лучшего коня с точки зрения пригодности к плугу…
Короче говоря, конь этот теперь у нас. Ветеринар вылечил не только коня, но и меня — здорово я простудился в этой заварушке.
Простил я ему подзатыльники и все его подходы к Надьке. Шут с ними! Сами разберутся, где огонь, где вода, не маленькие.
Такая-то вот была охота. Не только я корову не прострелял, лошадь в безлошадный дом приобрел. А на первого зайца дробинки не истратил. Взял живьем.
Где же теперь этот заяц, ушастый проводник мой по заливным лугам? У нас, в доме. Заяц бы, может, и убежал, а то — зайчиха. Куда ей от детей? Полное решето зайчат. Вся сельская детвора так и шныряет к нам через порог. Кто морковь несет, кто репу. Уж очень смешно ушастые малыши хрустят, губами шевелят.
Кто моему рассказу не верит, пусть зайдет и сразу убедится. Зайчата в решете. Справа от двери, под лавкой.
И веселый паренек рассмеялся вместе со слушателями. Кто же мог ему не поверить, когда он рассказал известный нам всем факт!
ПЕРВОМАЙСКАЯ ЛОДКА
Началась моя дружба с Советской властью на рыбалке. Поначалу я ехидно усмехался: смотрю, идет наша «власть на местах» босиком… Два удилища на плече и рубаха распояской. Вот в каком виде шагает по лугам ни свет ни заря председатель уездного исполкома!
Даже чибисы, на него удивляясь, громче спрашивают «чьи вы?», а в кустах, как подойдет, сразу замолкают мелкие пташки. Гроза уезда!
«Займет, — думаю, — мое приваженное место, и слова не скажешь».
Взял я и шагу прибавил. И он поторопился.
Спустились мы, словно вперегонки, к реке. Цна течет тихая, теплая, и от воды парок струится, как от парного молока.
Размываю лески, а у самого руки дрожат. В тишине слышно, как лещи и язи губами чмокают… Из омутов высовываются, тину отплевывают… проснулись. Чу, сейчас пойдет самый клев!
Занял свое заветное место. Втыкаю удилища в берег, набираю на руку семь колец волосяной лески и кидаю подальше. На каждом крючке выползок в палец толщиной… Живой, шустрый, сам рыбе в рот вползет.
Кошу глазом — сосед мой закидывает не по-нашенскому. Кладет лески у самого края берега, удочки на берег и сам от воды за куст хоронится и садится на сухую кочку. И замечаю, червяков надевает маленьких, красненьких, бантиком… На насадку, как и мы, плюет.
«Ну, — думаю, — не поможет. Чего это около берега? Лягушек тебе портфелем ловить, а не лещей таскать…»
У меня дело ходко пошло. На окуневую стайку напал. Один за другим с ходу рвут. Вымахну на берег, щетинятся, толстые, глазастые… Крючок вынимаю — нарочно на весу подольше держу: смотри, мол, начальство, как тебя простой парень облавливает! А всего уезда председатель сидит, смотрит на свои поплавки, трубочку покуривает, а на кукане у него — хоть бы малявка.
Неловко мне стало, ведь власть-то наша… Уступлю-ка я ему свое место.
Вымахнул окунище, самого большого, показал ему и шепчу:
— Эй, рыбак… давай на хорошее место… потеснюсь!
А он мне пальцем грозит с левой руки, а правой рукой к удилищу тянется.
Гляжу я и глазам не верю. Правый пробочный поплавок у него идет против течения… Тихо так, незаметно, а движется. То торчал пером вверх, а то лег на воду и скользит потихоньку сам собой.
Протер я глаза. Верно, идет поплавок против воды. Сердце у меня так и екнуло — да ведь это, по всем приметам, крупный лещ берет! Схватил губами насадку, приподнял грузило и идет раздумывает, сразу проглотить али в омут затащить, подальше от берега, и там в спокойной яме съесть.
Не успел я подумать, а он концом удилища — вжик! — и подсек его. Орешина в дугу свилась…
Потом он конец удилища — раз! — книзу и по воде, по течению, чтобы его водой сбило… И верно. Сбивает леща водой. Вижу: появляется со дна светлый, широченный, как лопата. Хвостовым пером шевелит, а совладать с собой не может. Тянет его волосяная леска за толстую губу к берегу, а вода идти помогает.
И не успевает лещина опамятоваться, заходит рыбак по колено в воду, подхватывает его пальцами под жабры и выкидывает на берег.
Вот это улов! Все мои окуни его одного не стоят.
Продевают ему, милому, под жабры таловый куст, заплетают для верности этот куст ведьминой косой и закидывают удочку снова на то же место, под бережок.
А второй лещ уже на другой снасти сидит. Потянул наживку побойчей и сам засекся. И тоже, как доска, к берегу пришел.
И третий лещ таким же манером подвешенный на куст оказался.
Я как с раскрытым ртом на первом леще затормозил, так до третьего все и стоял, забыв про своих горбатых окуней…
Солнце пригрело, жаворонки запели, и клев прекратился.
Подошел я к председателю всего уезда, будто бы его не угадав, как к самому простому рыбаку, и говорю:
— Закурить с удачи не угостишь, браток?
— А чего же, — говорит, — угощу, браток: табачок самосад, курнешь сам не рад… — Раскрывает передо мной кисет.
Беру я щепотку, а сам говорю:
— Тактика у вас ничего… подходящая.
Закурили. Он опять трубку, я самокрутку.
Посмотрел он на меня и вдруг спрашивает:
— Ты что, куришь или балуешься?
— Балуюсь.
— Ну смотри, не мой ты сын, я бы тебе ижицу прописал с этим баловством. У тебя, самокрута, в твоих легких пеньковой пыли полно. Тебе свежий воздух, как молоко, пить надо, а ты дым глотаешь!
Я даже поперхнулся. Почему он определил, что я у канатчика самокрутом работаю, колесо кручу, которым веревки вьют? Я Лопатина много раз на митингах видал, а он меня откуда знает? Мало ли нас, ребят, таких, как я, у канатчиков батрачат?
Глядим друг на друга, молчим. Только у обоих дым из ноздрей идет.
Вдруг, откуда ни возьмись, Еремка-рыбачок. Старый-престарый, борода, как мох, а как прозвали «рыбачок», так все и зовут. Скользит в своей лодчонке-душегубке. Нахлобучил войлочную шляпу на одно ухо и знай из-под крутояра, из-под кустов, щук выдергивает. Наставил там скрытные жерлицы и, пока мальчишки не набежали, торопится все снасти проверить.
Увидел я эту картину и не вытерпел.
— Эх, — говорю, — товарищ начальник, вот бы мне такую лодку! Вот до чего одолела меня думка — вся душа трепещет!
А он глаза прищурил и говорит.
— У меня, — говорит, — то же было… Скучал-скучал, да у кадомских, у сомятников, и угнал… Шкурой рискнул, ведь за хороший ботник, как за кражу коня, могли душу вытрясти… — Сконфузился и говорит: — Молод был, глуп был…
Взглянул на солнце и заторопился, давай удочки сматывать:
— Пора, парень… Тебе веревки вить, мне уездные дела закручивать…
Посмотрел на мой улов.
— Возьми, — говорит, — одного леща… Мне два в обе руки, а третьего тащить несподручно…
Ну, раз несподручно, чего же, думаю, тут помочь можно. Взял я у него одного леща. От такой удачи я бы и сам одного отдал.
— Окуни — это, — говорит, — вам уха, а лещ на жарево.
Так и принес я в тот раз такой улов, что на всю нашу ребячью артель хватило.
Работал я у канатчика Житова не один, таких, как я, с десяток было. Хитрый был этот Житов. Ни с чего веревки вить начал. Когда в нашем городе от войны да от революции все производство канатов нарушилось, он в исполком пришел и ну кричать:
— Наша веревка со времен Петра Первого на всю Россию славилась и Европу захлестывала! Царица Катерина нам герб с веревкой на щите выбить велела. Мы, — говорит, — теперь за ради революции это забыли, а нам надо советской красной веревкой мировую буржуазию душить!
Ну, такими красивыми словами и опутал уездное наше начальство. Сам Лопатин на его удочку поддался.
Разрешили ему пеньку по кулацким кладовым собрать, старые крутильные колеса, где отыщет, использовать. А рабочую силу охотой набрать, без всякого принуждения.
— Нам, — сказал Лопатин, — конечно, нашей веревкой мировую буржуазию не захлестнуть, она от нас далеко… А вот своим злодеям, кулакам-эсерам, мы ей нос утрем. Пусть не орут, что мы все с мужика… Мы нашему мужику на всякую хозяйственную надобность веревок навьем…
Житов быстро извернулся. Пакли навез целую гору, и все задарма. А потом объехал окрестные села и вызнал, где какие сироты, безотцовщина. Набрал нас, таких, как я, мальчишек, оставшихся после германской войны без родителей, и вот тебе артель.
Какая артель? Житов у нас хозяин, а мы на него, как на кулака, за одни харчи работаем.
Жизнь моя была надоедливая. За крепость в руках, за широту в грудях приставили меня к колесу. День-деньской знай верти, знай крути лубяное колесо на деревянном ходу в дощатом сарае.
Пыль вокруг ядовитая, во всем воздухе висит, словно за солнечные лучи зацепилась.
Ребятам-тянульщикам немного лучше. Они хоть ветерком обдуваются. Навяжут каждый на брюхо пуд пеньки, вьют-сучат из нее нитки и от меня, из лубяного сарая, словно раки из норы, задом пятятся.
А я знай колесо кручу, нитки эти в веревку свиваю на барабане.
Они хоть песни поют, глотки прочищают, а мне и песню послушать скрипучее колесо мешает.
А здорово ребята поют.
Граня полуслепой — от оспы у него глаза только мутный свет видят — уж так жалостно поет, таким кенарем заливается, что бабенки выйдут к колодцу, ведра поставят, руками белые щеки подопрут и так со слезами на глазах слушают, пока их злые старухи либо соскучившиеся мужья к делу не призовут.
Ох, да ты, соловушек, горький ты лесной, Ох, да ты не пой, рано ты весной. Эх, да ты не пой, эх, да не свисти, Моего сердца больше не грусти…Хорошие знал песни — старинные, душевные.
Ну и другие ребята подтянут. Все скорей время идет. Нужда забывается. Легче веревка вьется.
Разные были у ребят голоса. Одни, как шмели, басовито гудят. Другие, дисканты, трели дают, словно пастушьи тростниковые жалейки.
Один я у колеса как привязанный… Не на радость достались мне от отца руки крепкие да грудь высокая.
Посмотрю в щели сарая, солнце и то не пробивается, пыль мохом висит. Небушка перед глазами видно кусочек из сарая, и то мутное. И солнце мутное, будто пеньковую нитку через него тянет…
Эх, жизнь моя, привязанная к колесу!
Только и радости, что убежать до рассвета на речку.
Пока хозяин наш не проснулся, пока все ребята, как коты, храпят.
Вот бы мне лодку, легкий кадомский челночок… Тут бы я окрылился, ожил. Уехал бы на остров. Шалаш бы поставил. Да в субботу на воскресенье на ночевку. Собрал бы наших ребят-тянульщиков, перевез в шиповные заросли.
Любо там из можжевельника костер разжечь. Из ершей уху сварить. Щук на вертеле на угольях нажарить… Ночью песни петь, балагурить. Веслом месяц ловить…
Кто захочет, споет, кто станцует, кто какую сказку расскажет. Поживем хоть денек, как при будущем коммунизме, когда, говорят, все самое трудное за людей машины будут работать, а сами люди развивать каждый свой талант… Мы это, конечно, на митингах слыхали… Что хорошо сказывается, не так просто делается. Душа в небушко, а живот к хлебушку.
Вот и работаем на Житова за харчи. Ведь все люди мне говорят: ох, парень, красная девица, берегись лубяной пыли, опадут твои щеки, померкнут твои глазки, сожрет тебя чахотка, подточит, как яблочко наливное точит шершавый червяк…
Лежу я в сарае на грудах конопли, с головой дерюгой укрываюсь, а сон нейдет. Судьбу свою обдумываю. Доживу ли я до будущего? Глаза закрою, и кажется мне, лежу я на острове, плещется рядом Цна-голубка голубой волной, а лодочка-душегубочка трется об меня черным носом и любо так пахнет свежей смолкой.
Так осень подошла, за ней зима. Переобулся я из лаптей в подшитые валенки. На пропотевшую рубаху овчинный полушубок накинул, а в жизни изменения нет. По-прежнему веревки вью.
Одна мечта греет — лодка.
Всю зиму не давала покою. А к весне, как зажелтели в лугах озера средь белых снегов, как потянуло свежим воздухом от засиневших лесов, как пошла над нами перелетная птица, совсем мне стало невмоготу.
Хожу сам не свой, а помочь некому.
Появились у нас в ту весну первые комсомольцы. Комсомолами их тогда звали. Стали организовывать рабочую молодежь. Но вышла у них со мной осечка.
Когда подошли, как к эксплуатируемому подростку, я их, прямо скажу, не так понял.
— Ладно, — говорю, — завлекать вы меня завлекаете… А можете вы меня от колеса оторвать? Будете кормить-поить?
— От эксплуатации, — отвечают, — защитить можем. А вот насчет кормить-поить… У нас в комсомоле ведь не производство.
— Ну, — говорю, — комсомольская работа на своих харчах меня не устраивает…
Так мы тогда и разошлись с нашими комсомольцами.
Завелся у меня в ту пору знакомый из другого звания. Пришел как-то, попросил из льняных ниток бечевки для переметов и подпусков свить. Пирогов принес ребятам и с мясом, и с луком, и с кашей. Застарелые немножко, но ничего, нашим животам, черным хлебом не избалованным, впору пришлись.
Оказался наш заказчик учащимся бывшей гимназии, теперь школы второй ступени. Он на ученого учится, а отец у него в селе в Сумореве в дьячках, служитель культа. Вот откуда и пироги. С приходу собранные притащил. Ну и нам тех пирогов частица досталась по щучьему велению.
Свили мы ему лески, съели пироги, и тем дело кончилось. Да вдруг встречается мне этот Зоська в полном расстройстве чувств.
— Эге, — говорю, — ты что нос повесил, али отец пирогов мало присылает?
— Шутки шутишь, не видишь, человек в беде?
— Какая, — говорю, — может быть беда у всегда сытого человека?
— А та беда, что в школе окно разбил. Учительский совет не ставит мне отметок, пока не вставлю стекло, а денег у меня нет. На пироги стекло не выменяешь. И вообще, — говорит, — если я с сопроводительной такой бумажкой явлюсь на каникулы, выпорет меня отец. А хочется, — говорит, — мне домой, аж живот болит. Ведь у нас, — говорит, — на Мокше разлив, как море… Все рощи в воде стоят. И лодка меня ждет. И ружье. И подсадная кряква…
Тут я встрепенулся:
— Ну, а если я тебе помогу окно вставить, поможешь ты мне лодку добыть?
Молчит.
Не верит, думаю. А у меня как раз случай насчет стекла подходящий. Наш хозяин, эксплуататор Житов, заставил меня к пасхе зимние рамы вынимать. Целый день мы с хлопцами работали, все заусенцы на пальцах пообдирали. Выставили четырнадцать рам и все снесли на чердак его дома.
И нам за это ничего не было, пообещали объедков с пасхального стола.
Ну, и тогда я в виде платы взял и вынул из этих рам стекло и вставил в разбитое Зоськой окно, а ему сказал:
— Больше не шали, блинохват!
А он вместо радости опять хмурится.
— Как же, — говорит, — я с тобой расплачусь? Ведь у нас, — говорит, лодки официально не продаются.
— Ну, — говорю, — это дело твое… И я это стекло неофициально купил…
Прошло несколько дней, прибегает ко мне Зоська веселый. Обнял за плечи и шепчет:
— Едем, друг, ко мне на праздник. Отец за успешное ученье разрешил приехать не одному, а с товарищем.
— Ну да, харчи-то у вас даровые.
— Не смейся, — говорит, — мать тоже согласна и пишет, чтобы только я выбрал погостить какого-нибудь интеллигентного мальчика…
— А я сойду за интеллигентного?
Оглядел он меня с ног до головы:
— Теперь не в костюме дело… Теперь многие интеллигентные тоже пообносились… Сойдешь, пожалуй. Вот только манеры у тебя…
— А что, — говорю, — манеры?.. Я, например, совсем даже безобразными словами не ругаюсь.
— А носовым платком умеешь пользоваться?
Признался, что не приходилось. Дня три он меня обучал по-интеллигентному сморкаться. Ничего, приспособился. Платки он мне у знакомых девочек достал.
Пошел я к хозяину, снял шапку, окрестился на передний угол и возопил, как учил Зоська:
— Отпустите, Прохор Матвеич, к дальним родственникам на праздник святой пасхи, век бога буду молить…
Ну, нашему троглодиту, как обозвали его комсомольцы, такое мое обращение по нутру пришлось.
— Вот, — говорит, — редкий в наше время уважительный к религии отцов юноша…
Отпустили меня на праздничные пироги. Хотелось мне их попробовать на месте, не черствыми. Про сытую жизнь попов-дьяконов только слышал. Теперь мог в нее влезть, как поросенок в корыто, по самые уши.
А дело-то оказалось не так просто. Дьяконовские достатки — это не то, что поповские. У них ведь тоже классовая борьба. Народ опевают вместе, а барыши врозь. Попу, как главному эксплуататору, от всех доходов большая часть, а уж что останется, то делят дьячок, псаломщик, пономарь-звонарь и прочая мелочь. И на этой почве бывают разногласия. Да еще какие! Беда!
И угораздило нас с Зоськой явиться в тот самый час, когда дьякон с попом затеяли междоусобицу. Дворы у них были рядом, препирались всеми семействами, через забор. Так ругались, что даже поповские гуси дьяконовских через забор шпыняли.
— На, выкуси равную долю! — совал в щель жирный кукиш поп.
— Лучше свиньям, чем вам! — кричала попадья и сыпала в корыто пироги, собранные во время праздничного обхода.
— Караул! — кричал дьякон, не в силах стерпеть, что поповы свиньи попирают копытами дары прихожан, и лез на забор, а попов работник осаживал его, спихивая обратно метлой, направляя ее прямо в личность.
Дьяконица вопила, дети ее плакали, поповы дочки визжали.
При нашем приезде все сразу утихло. Застыдились поповы дочки, застеснялся поп, утихомирилась попадья. Я стоял, разглядываемый со всех сторон, а Зоська утешал потерпевших родственников.
— Ничего! — говорил он. — Не тужите, мы это дело поправим, вот со мной представитель… красной молодежи, он все расследует! Он восстановит все по правде!
Это уж так всегда, когда попадаешь из центра на периферию — растешь в глазах окружающих.
Услышав, что я какой-то «представитель», поповская команда пошла на перемирие. Дьякону просунули через забор корзину крашеных яиц, мешок сдобы и полмешка бумажных денег в придачу.
А нас с Зоськой позвали за поповский стол — разговеться.
И вот тут повидал я и поедал такого, что не мог предположить и в раю. Стол был как сахарная гора. На белой скатерти изображен кремль с церквами, орлами, башнями. А поверх этих картин пасха розовая, пасха белая, пасха желтая. Куличи — как самовары. А самовар весь серебряный, выше паникадила. Яйца — как самоцветы, и все в зеленой траве. Свиные окорока бумажными кружевами убраны. Поросенок на серебряном блюде лежит и, довольный, усмехается, держа в зубах соленый огурец. Индейка жареная, голова из яблока, а вместо хвоста веер. А вокруг — печенья, варенья, соленья и много такого наставлено, что даже не знаю, как и назвать.
Поп сидит, распустив на обе стороны бороду, как бог Саваоф, попадья богородицей, а дочки — ну чисто ангелы! Все в белых кипенных кружевах, по щекам золотые локоны, губки бантиками, глазки вприщур, только что крылышек нет.
И в бутылках у них не просто самогон, а разных цветов наливки, настойки, сладкие, густые.
Вон какой рай могут себе устроить буржуи и на этом свете, не дожидаясь, пока попадут на тот.
Грешен, захотелось мне в тот час стать попом.
И как же нас угощали, как улещали! Все чинно, благородно, на «вы».
Досадно было, что нет второго живота. Столько же на столе всего осталось, когда отвалиться пришлось.
И на последний вопрос — не желаете ли еще чего? — икнул я, вытер руки об штаны, чтобы не замарать скатерть, и, пожав попадье пальчики, так что она ойкнула, интеллигентно сказал:
— Окончательно мерси — больше не проси!
А потом были игры. Понравилась мне веревочка с поцелуями. До чего же у поповых дочек губки пухлые!
Так играем мы в поповском доме, беды не чуя. За окном колокола тилизвонят, гармошки пиликают, парни и девки озорные песни поют. И вдруг стрельба из разных оружий!
Высунулись мы с Зоськой: что за чудеса — по улице словно ряженые, кто в шубах, кто в лаптях, кто в хромовых сапогах. Пешими, верхом, в санях-розвальнях. Не то пьяные, не то чумовые — из винтовок в колокола палят, из обрезов собак сшибают.
И вот уже какие-то лохматые, с черно-красными бантами на папахах на поповском крыльце.
— Принимай, батя, гостей из всех волостей!
Ворвались они в дом, и видим — бандиты. А деваться нам некуда, поздно. Стою вместе с девчонками и чую — голова моя от тела отделяется. Скажет сейчас батя: вот он, «представитель красной молодежи», и душа вон.
Попадья — ни жива ни мертва. А поп не теряется — берет нагрудный крест, благословляет незваных и ради праздничка Христова всех просит к столу.
Как засели они, как навалились, не то что едят, жрут, проще говоря. Без разбору. Кусок пасхи в рот, за ним ломоть ветчины. Горчицу намазывают на хлеб. Куличами давятся. Поповские наливки из горлышка пьют, а попу наливают свойского самогона, который одним запахом с ног сшибает.
Обувь у них оттаяла, с худых сапог, с лаптей, с валенок грязная жижа течет.
Распарились, поскидали в один угол ватники, шинели, полушубки, а с оружием не расстаются.
Вот насытились они, задымили самокрутки, и рябоватый плюгавый бандит в папахе и во френче говорит громовым голосом:
— Ну, батя, уважил! Теперь проси, чего хочешь… Кто тебя обижал? Кто в бога не верует, сообщи, вздернем!
Покосился на меня поп, ну, думаю, пропал. А попова дочка меня заслонила и отцу страшные глаза делает.
Усмехнулся батя и говорит:
— От нас самих все неверие идет… Неразумие пастырей губит стадо.
— Ясней, батя, ясней, где коммунисты, сельсоветчики, прочие сочувствующие?
— Что там коммунисты, — заминает вопрос поп, — когда между нами, священнослужителями, ладу нет. Где это видано, чтобы дьякон восстал на отца благочинного, звонарь на пономаря, просвирня на церковного старосту?
— Просвирня, ах, вихорная, пороть!
— Дьячок? Всыпать ему горячих!
И распоясавшиеся бандиты, поняв поповский намек, тут же устроили всему селу потеху. Затащили дьякона и просвирню в церковную ограду и на высоких могильных плитах, заголив им одежду, стали пороть.
Попадья упала в обморок. Дочки подняли плач. Зоська выбежал, ухватил главного бандита за руку и укусил, за что и был выдран за уши.
Насмеявшись над дьячком и просвирней, атаманы собрали народ у кооператива, оделили девок конфетами, пряниками и приказали себе величанье петь. Залезли на колокольню и на мелких колоколах выкомаривали плясовую и под эту музыку заставили всех плясать.
Кто уклонялся, давали плетей, били рукоятками наганов, потом поили до одури самогонкой.
Такую закрутили карусель, что и нарочно не придумаешь. Все были пьяны, не пьянел только корявый главарь. Усмехался, посматривая ястребиным глазом, притопывал кривыми ногами, будто ему весело, а сам присматривался к мужикам, выбирал, что одеты побогаче, и говорил:
— Ничего, пусть хлопцы пошутят. Наскучались в лесу. Вырвались, что телята из хлева. Без убытков не бывает прибытков. Вот станцию заберу — все возмещу! Добра там много. Готовьте подводы да и лодки! Как только река взыграет…
Река взыграла ночью. Поднялся ветер, хлынул первый дождь. Лед взгорбился, поломался, и заиграла, зазвенела Мокша льдинами, заглушая трезвоны прибрежных колоколен.
Не спал народ. Бандиты гуляли, опохмелялись, целовались и дрались с кем ни попадя. Смех и слезы. Не спали и мы с Зоськой.
— Вася, — шептал он мне, — Васенька, если я за отца не отомщу, мне жизнь не в жизнь! Зарежу, зарежу перочинным ножом этого главного бандита. Или подожгу дом попа!
Поджигать я ему не посоветовал, а пырнуть бандита ножом было не так-то просто — этого замухрышку окружали такие здоровяки, что одним щелчком нашего брата с ног сшибить могут. И оружием обвешаны, и плетки в руках.
— Обожди, — утешал я его. — Отомстить я не против, но с умом надо.
И лезли мы, незаметные в толпе прочих мальчишек, во всю эту катавасию, глазея во все стороны, как на ярмарке.
Пока вояки его гуляли, бандит Ланской не зевал. Исподволь собрал всех рыбаков, отобрал у них невода-сети, велел все пригодные-непригодные челноки, лодки конопатить, смолить. К походу готовить. Запылали по берегу костры, зашипела смола, застучали деревянные молотки, вгоняя в пазы паклю.
— Ну, Зоська, — сказал я, обняв друга, — ты не плачь, не тужи, выбирай лодчонку покрепче и давай сматывать удочки. Явимся раньше бандитов в Спасово и за все отомстим…
— Да, конечно, готовят они беду. Если не предупредить, захватят город с налету под самый Первомай.
— Вот то-то!
Шепчемся, а сами глаз с реки не спускаем. До чего же страшный ледоход! Льдины, бревна, деревья мчатся в водоворотах. От света костров вода пенится кровью.
Ужасно по такой воде в лодке пускаться, как на тот свет. Но резня в городе страшней будет. Сколько людей побьют! Родни у меня там нет, а дружки остались. Вспоминаю Лопатина и вижу его в руках бандитов, и по сердцу холод идет.
— Не испугаемся, Вася, а? Подождать бы, пока лед пронесет!
— Тогда бандиты раньше нас явятся, Зося.
— Эх, и верно! Ну, Вася, была не была…
— Давай, Зоська, решайся. Наших упредим…
— Всыпят они бандитам!
— Да уж погорячей, чем твоему отцу!
И ноги ведут нас мимо костров во тьму, где сверкают свежей смолой перевернутые рыбацкие челноки, лодочки-душегубки.
Рыбаки стучат, конопатят. Бандиты песни орут, самогон допивают. Атаманы вдоль берега похаживают, по голенищам плетками себя постегивают, им на станцию налететь не терпится.
На краю, подальше от огней, у овражка, стронули мы с места одну лодочку, перевернули, измазав в свежей смоле пальцы, и скользнула она в воду с тихим плеском. Прыгнул я на корму с веслом, украденным у рыбаков, а Зоська с багром.
Течение отнесло нас от берега, и челнок завертелся волчком. Воткнул я весло, хотел править, но льдины захватили его, как звери в зубы, и сразу наполовину сжевали. Зоська ткнул багром в бревно, высунувшееся из-под льдин, но оно вывернулось и ушло под воду вместе с багром. А когда оно снова всплыло, Зоська и выдернул свой багор.
Бешеная вода стремилась вперед с такой силой, что лодчонка наша, душегубка, летела мимо крутых берегов, как на воздусях, на пенных гребнях.
Нас крутило, вертело, и огни рыбацких костров мелькали со всех сторон. Ветер трепал по разливу дымок и угощал нас вкусным запахом смолы.
Вот огни костров пропали. Выглянул белый глаз луны. И мы увидели такое раздолье, что дух захватило. До самых далеких лесов, до темных холмов играла и пенилась вода и неслась неудержимо, дико в неоглядную даль.
Мы включились в разлив, отдались его буйной волюшке. Наше дело одно правь вперед, без оглядки.
Зоська крючил багром, я правил веслом, и лодка неслась, обгоняя неуклюжие льдины. Работалось весело, я разогрелся, даже волосы липли ко лбу.
Над нами пролетали стаи гусей, обдавая свистом крыльев, и, гогоча, садились в спокойные луговые затоны.
А кругом такой простор, что петь хочется.
Зоська на носу, я на корме, и словом не перекинемся.
Вдруг глядим — такое диво: встанет впереди бревно стоймя — и нет его, встанет другое и тоже куда-то нырь вниз.
Мы рты разинули.
— Ледяная перемычка! — догадался Зоська.
Вода бешено рвалась под лед, но не могла его поднять. Бежала поверх, обегала широкими лугами и затопляла их еще больше.
Льдины громоздились друг на друга и образовали затор. Иные ныряли под лед — вода затягивала их туда и колотила ими ледяной упрямый панцирь снизу. Точно играя, они ловко становились торчком.
Я сообразил, что может нырнуть под лед и наша лодка, и пальцы у меня стали непослушны.
— Зоська, назад! — заорал я, холодея от страха.
Зоська понял и кубарем скатился ко мне. Лодка задрала нос, у самого бучила приостановилась, как бы раздумывая, и вдруг легко скользнула по верху льда, в прогалину между глыбами.
Я перекрестился.
Зоська покосился на меня и опять уселся на носу с багром.
Впереди по льду гладко бежала веселая зеленая вода, а под ним бились и скреблись затянутые водой бревна и льдины.
И вот-вот он треснет, раскрошится — и, как семечко, хрустнет наша лодка, попав в такое столпотворение.
— Работай, черт! — крикнул мне Зоська. — Крестись веслом!
Я заработал, мы опять завертелись, и душегубочка, словно поняв наш страх, понеслась ласточкой.
А впереди стали гулко лопаться льдины, и в трещины вымахивала рыжими фонтанами вода.
«Попадешь на трещину», — подумал я. И тут же что-то дернуло, душегубка встала стоймя, меня ударило в голову, ноги скользнули, и я, хлебнув противной воды, пошел под лед… Сердце у меня дрогнуло, я обмяк и даже не карабкался.
Вдруг что-то твердое ухватило меня за шиворот и потянуло вверх. Я ухватился рукой за багор.
Зоська стоял по колени в затопленной лодке и удил меня из трещины. Мимо, бурля, бежала равнодушная ко всему зеленая вода.
Стоя в этой воде, мы подняли лодку, перевернули ее и, поставив снова, уселись и понеслись, отчаянно работая веслом и багром, дрожа от холода и страха.
Но вот неподнятый лед кончился, течение пошло ровней, и мы вздохнули свободно.
От меня шел пар. Мокрая одежда прела. Я ежился.
Лодка шла сама, местами набегали боковые речушки, и нас подхватывало веселей.
Только вдруг, смотрим, из боковой речушки выползает с шорохом серая рябая каша.
Что такое?
Луна скрылась и оставила нас в раздумье. Шорох приблизился, и мы напряглись, слушая его.
— Дрова, дрова идут! — тыкал Зоська багром напиравшие на лодку поленья.
И впрямь, из какой-то боковой речушки уплыл швырок и заполнил всю поверхность. Река одеревенела!
Лодка влезла в самую гущу, и мы застряли. Дрова стискивали нас, лезли под лодку, выпирали ее из воды.
— Ну, что будем делать, пропадать? — спросил Зоська, когда мы, опустив руки, сели после бесполезных попыток плыть дальше.
— Черти, и кто их упустил! — дрожа и синея, цедил я.
— Не дрова, а саргассы, — ругался Зоська.
— Погибнем, — скулил я.
— Ведь досаднее всего — погибнем от холода в дровах.
— Будем ждать ледяного затора; поднимется водяной вал — все расчистит, так и продерет, а больше нет ходов нам! — И Зоська стал слушать, что творится в ночи.
Дрова совсем выперли лодку наверх, и мы сидели, как на карусели.
Луна ехидно подмигивала, а меня от холода сводило в три погибели.
Зоська, положив на руки синее лицо, все слушал…
Смертельная судорога схватила меня костлявыми ледяными пальцами, я не мог больше вздохнуть и только выдавил:
— Зоська, кончаюсь…
Он уселся на меня верхом, стал трясти, больно бить ладонями по щекам, и когда я заорал и стал сопротивляться, он лег на меня, отогревать.
Вдруг дрова под нами заскрипели, заколыхались.
— Прорвало затор. Лед идет — теперь держись!.. — догадался Зоська.
На нас надвигался грохочущий и звенящий вал. Дрова вдруг всколыхнулись, и нас качнуло, как на качелях.
— Ух, расчистит… Держись! — ликовал Зоська, стоя с багром на носу.
Луна выглянула опять, и я увидел Зоську, всего голубого, с косматыми волосами, и багор его казался длинным и диковинным.
Нас подбросило на гребень волны, и вдруг я увидел льдины. Угловатые, обломанные, они разрезали дровяной затор, грозя раздавить нашу душегубку.
Когда огромная ледяная гора приблизилась к нашей лодке, Зоська кошкой прыгнул на ее зазубренный край, поддел багром лодку, я выпрыгнул к нему, и мы стащили лодку на лед и стали танцевать.
— Вези, матушка! Но-о!.. — понукал громадину Зоська.
И радостно было нам смотреть, как расступались перед льдиной проклятые дрова.
Скоро льдины, расчистив путь, пошли, плавно покачиваясь, по полноводью, и, зараженные их буйной силой, мы почуяли себя богатырями.
Зоська стоял на краю льдины, упершись багром, и, выпячивая грудь, пел, а я махал веслом и подвывал что-то дикое, куражился.
Блаженствовали мы недолго.
Течение стало бурливей. Шум усиливался.
Мы глянули и пристыли к льдине.
Впереди косматилась, бесилась река, прорывая новое русло, скакала зверем по неровному дну и, ставя ребром, перекатывала льдины, как огромные мельничные колеса.
Наша глыба дрогнула, качнулась и завертелась в дикой пляске. Вдруг я почуял, что мы куда-то летим.
— Держись! — орал Зоська.
Я опомнился, когда почувствовал, что мы спокойно плывем. Зоська сидел и шевелил губами, ничего не понимая. Льдины под нами не было.
— Бери багор, — ткнул я Зоську. — Видишь, Цна подошла!
Мы подплыли к слиянию рек.
Теперь вверх до станции — пустяки, десяток километров, а по заливным лугам еще меньше.
— Эй, работай!..
Молча отдуваясь, мы погнали лодку на синеющий лес, за которым наше Спасово.
Навстречу плавно шла тихая вода Цны, и совсем не было льдин.
Лишь порою шуршали о лодку кустарники и взлетали вспугнутые птицы. Однажды проплыл куст — весь усеянный соловьями, как бубенчиками.
Мы так устали, что я не чуял рук. Вдруг навстречу нам выплыл кустистый островок. На нем чернели остатки сенного стога.
— Обогреемся? — предложил я, и приятно поежился при мысли о ласковом огоньке.
Зоська направил лодку к островку, и, когда она носом коснулась берега, от нас в кусты шарахнулись какие-то тени.
— Зайцы! — смекнул я. — Потеха!..
Зоська выскочил и вразвалку пошел в глубь островка. Я хотел побежать за ним, но что-то удержало меня. Вглядевшись, я увидел, как с обеих сторон, охватывая Зоську, ползли серые лохматые тени.
— Назад! — заревел я. — Волки!
Зоська свалился в лодку, я отпихнулся багром и услышал, как жалобно заскулили голодные волки, провожая нас.
Мы долго гребли, боясь оглянуться.
У самого леса увидели еще островок. Но вылезти не решились. А так захотелось затеплить костерок, обогреться.
Вскоре мы очутились в затопленном лесу.
Плыть было страшновато. А вдруг заблудимся?
Луна спряталась. А на закате вдруг запылало зарево, просвечивая сквозь лес.
— Пожар! — ужаснулся Зоська. — Спасово горит! Опередили нас бандиты!
Мы выгребли на опушку и увидели станцию, расцвеченную огнями.
— Да ведь нынче Первое мая! — вспомнил я.
Мы заработали быстрей, правя на огни.
Они горели все ярче и ближе, но у меня стало шуметь в голове, руки задеревенели, не держали весла.
— Веселей! — подбадривал Зоська.
Я выбился из сил, ворочая тяжелым веслом, а станция все дразнила светом, но не приближалась.
Когда надвинулся на нас чугунный мост и громадины дамб, я ослаб совсем.
Лодка стукнулась о крутой берег.
Зоська выскочил первым, втянул лодку до половины, снял шапку, стал отирать грязное лицо и вдруг тихонько повалился на бок.
— Что ты, что ты? Ведь доплыли! — тормошил я.
Он бормотал что-то несуразное, и глаза его были совсем шалые.
«Ничего, в тепле отойдет», — подумал я и, накрыв его своим пиджаком, побежал в одной рубахе к станции, где сияли огни в честь Первого мая.
В исполкоме был народ, шло торжественное заседание. Я пробился к президиуму и не своим голосом крикнул:
— Товарищ Лопатин, из лесов Ланской вышел!..
Тут я зашатался и мог бы упасть, если бы не поддержали. Поднялся шум-говор. Меня окружили встревоженные люди. Чего-то спрашивали, я что-то отвечал. И все было как в тумане. Вдруг на меня нашло просветление. У стены напротив ясно разглядел я какого-то страшного взлохмаченного паренька в моей грязной рубашке. Я говорил, а у него раскрывался рот. Лопатин касался его головы рукой, а я чуял ее холодок горячим лбом.
«Да ведь это я самого себя вижу», — догадался вдруг я, и так мне стало страшно, что ноги подкосились, упал и больше ничего не помню.
Пропало все — и Лопатин, и страшный кто-то в зеркале.
Сколько я проспал, не знаю, меня разбудил весенний шум.
Я долго карабкался из-под кучи чьих-то шуб, пальто, шинелей, кожанок, наваленных на меня, и, когда высунулся в окно, увидел знакомую картину.
По мостовой тесной толпой шли грязные и встрепанные бандиты во главе с Ланским. А по сторонам, дразня их и улюлюкая, бежали озорные спасовские мальчишки.
Бандиты шли налегке. Оружие несли только коммунисты да комсомольцы-чоновцы.
И мне стало очень досадно, что я проспал бой, который окончился нашей победой.
* * *
Про то, как мы с Зоськой предупредили налет, скоро забылось, а вот про то, что мы угнали лодку, стали говорить на всех улицах.
Прибежал я в исполком.
— Товарищ Лопатин, ведь узнали, пальцами тычут, как же быть-то? Ведь отберут у меня лодку!
— Что, испугался? — говорит Лопатин. — Мне в свое время за лодку здорово всыпали. Ничего, обойдется. Никифоров! — крикнул он в канцелярию. — Пропиши ему мандат!
«Пропадай лодка!» — задрожали у меня коленки.
Я глянул на дверь — заперта. Глянул на окошко — второй этаж… Не имел я тогда понятия, что такое мандат… Вот он, всегда при мне!
…Закончив рассказ, парнишка похвалился бумагой, и мы прочли, полюбовавшись подписью Лопатина и красной печатью с серпом и молотом:
— «Дан сей мандат на полное владение лодкой системы „душегубка“, черного цвету, горячего смоленья, комсомольцу Куликову Василию…»
— Хотел я сказать, что ошибается насчет комсомольца, а слова в горле застряли… — пояснил Василий.
«…Дается эта лодка в именной подарок в день Первого мая за геройское проплытие препятствий и предупреждение банды. А все изменнические собственности рыбаков села Суморева за помощь бандитам на эту лодку отменяются».
— Значит, добился ты своего? — спросили мы паренька.
— А как же, всей артелью на первомайском подарке разгуливаем каждый выходной.
— Что, по-прежнему колесо крутишь? А Житов как, эксплуатирует?
— Ну где ж ему, у нас ячейка своя, окорачиваем… А работать, как же, работаем, веревки-то надо кому-нибудь вить. Вот мы и вьем. Пока машину не придумали.
— А что с Зоськой?
— Сильно болел. Воспаление легких, насилу доктора отходили. Встретил я его при выходе из больницы, обнял и заявил, как меня ребята уполномочили:
«Хотя ты и сын служителя культа, но ты парень свой, на деле проверенный, иди к нам в комсомол, примем!»
Вот и вся история с этой разбойной лодкой.
СШИБИ-КОЛПАЧОК
Желаете знать, как съездили мы с Сережкой к разбойникам? В знаменитый Сшиби-Колпачок? Что ж, про эту командировку есть что порассказать.
Сшиби-Колпачок! И откуда только название такое взялось — нарочно не придумаешь. Есть про него несколько сказок. Одна гласит, будто здесь — на пересечении двух дорог — с Шацка на Муром, с Касимова на Темников давным-давно поселились разбойники.
Грабили проезжих купцов, помещиков и дворян, разбивали даже царскую почту. До того были отчаянные — кресты с богомольцев снимали. Приглянувшихся купчих ли, дворянских дочек себе в полон брали. Не брезговали и богомолками. Если которая молода-красива, и ее под крыло. И которые им покорялись, тем наряды и бархат и дорогая парча.
И так иным полонянкам нравилась развеселая разбойная жизнь, что многие из них удалыми разбойницами сделались.
И поскольку разбойнички оставляли при себе невест самых отборных, только за красоту, в Сшиби-Колпачке и до сей поры наикрасивейший женский элемент из всей округи. Это уж точно. Это можем подтвердить мы с Сережкой.
И пролили те разбойнички на перекрестке дорог, посреди лесной трясины, столища слез людских, что возник на месте разбоя соленый родничок, и поставили над ним атаманы часовенку. И в той часовенке повесили икону, на которой изображен святой Микола Мириклийский, отводящий меч палача от главы разбойничка.
Богато жило село. На разбойные деньги в нем знаменитые трактиры атаманы открыли. И даже воздвигли церковь — всю из столетних дубов срубленную.
Обожали разбойнички пышно венчаться. Попа держали из себя видного, как оденут его в ризы с золотом, с каменьями — есть на что посмотреть.
Дьякона держали с таким басищем, что от его возгласов лошади от церковной ограды шарахались, сами тати, мастера разбойного посвиста, на колени падали.
Любили разбойнички с честью и хорониться. Потому и притч завели большой и даже регента.
Мужской хор был — на Москве бы и то слыл первейшим. У разбойников голоса зычные. У разбойниц — ангельские.
Сколько на Сшиби-Колпачок было наветов, налетов, наездов — и ничего! От всякого начальства щедро откупались разбойники.
Прослышала про них сама царица Катерина. И направила вершить над ними суд самого неподкупного губернатора из немцев. Русскому этого дела не доверила. Умна была — считала, что в каждом русском губернаторе — поскреби его — сидит разбойник.
Велел немец запрячь колымагу, надел мундир со всеми орденами и тронулся наводить порядок. Лесом да гатями растрясло губернатора. Умаялись кони и напротив часовенки стали. Не смогли колымагу из трясины выдернуть. Форейторы в деревню за народом побежали, а немец посмотрел на часы и увидел, что настало время спать, достал полосатый колпак, как у них в фатерланде полагалось, накрылся пледом и захрапел.
А разбойные ребята тут как тут. И впереди главарь их — Рубцовый Нос. В плечах косая сажень, на голову выше самого высокого, в руке кистень, за кушаком пистоль заряженная, за голенищем ножик вострый.
Увидал царского губернатора немецкого образца и засмеялся — больно уж на нем колпак чудной.
Немец от его ржания проснулся, надулся индюком да как загрохочет:
— Здр-раствуй-пр-ращай, черт побир-рай! Почему дорога такой пар-ршивай? Эйн, цвей, дрей, запрягайсь! Как деревни звать?
Разбойные ребята за животики схватились.
— Эй ты, барин, кошку жарил, зовут нашу деревню Сшиби-Колпачок! смеются разбойники, на колпак его с кисточкой глядючи.
— Ага! — обрадовался немец. — А ну давай мне сшибай колпачок. Вот я вас!.. Живо!
Как тряхнул его Рубцовый Нос кистенем по маковке, так и сшиб колпачок. И полетел он на ореховый куст, а немец в трясину…
С тех пор и прозвали разбойное село Сшиби-Колпачок, для смеху. А полосатый колпак стал даваться тому атаману, который выходил на ночной разбой. Чтобы его по такому головному убору свои в темноте отличать могли.
Хранился этот колпак, переходя из рода в род, от главаря к главарю, тайно. И по этому колпаку знали разбойники, кто у них самый главный…
Всю эту сказку вспомнили мы с Сережкой, когда послал нас уком в знаменитый Сшиби-Колпачок с инспекцией. Образовалась там дикая ячейка, назвавшаяся красномольской, а слух ее называл разбойничьей. В канун уездного съезда должны мы были все такие молодежные организации проверить и взять на учет.
Выдали нам мандаты. Сунули мы в один карман корку хлеба, в другой наганы-браунинги и поехали от села до села на деревенских подводах, согласно гужевой повинности.
На последнем перегоне назначенный нам возчик долго ладил телегу, вздыхал, шептался с бабой. Менял новые колеса на старые, ременные вожжи на мочальные, обрядился в худой армяк и подковыренные лапти и наконец, нахлобучив дырявую шапчонку, хлыстнул немудрящую клячку, и мы поехали.
Ехал он не торопясь, как за смертью. А как въехали в лес, все чаще стал оглядываться. И когда подошла гать — узкий бревенчатый настил в один следок, — вдруг соскочил с телеги и, передавая Сережке вожжи, сказал:
— Тут теперь все пряменько, не собьешься. Погоняй! Погоняй, милок, погоняй… Я чуток промнуся.
И не успели мы оглянуться, как он исчез, словно леший.
— Вот тебе и промялся! — сказал Сергей.
А в лесу в ответ как захохочут.
— Ничего, — сказал я, ощупывая в кармане наган, — это филин.
— Куда же мы без мужика лошадь-то денем? — оглянулся Сережка.
— Сдадим в сельсовет, и ладно, — ответил я, стуча зубами от нестерпимой тряски. (Бревна гати ходили под колесами телеги, как живые.)
— Ну и местность! — вздохнул Сережка, оглядывая заболоченный лес с сухими рогатыми деревьями.
— Одно слово — разбойная. Вон смотри — и часовенка на родничке «угодниковы слезки»…
Из-под старинного черного сруба, украшенного покривившимся крестом, вытекал ржавый ручеек и, просачиваясь под гатью, бежал к большущему ореховому кусту.
Глянул я и обмер. На нем не то сорока качается, не то полосатый колпак с кисточкой!
Сгоряча хлыстнул я конягу что есть силы. Она подскочила со всех четырех ног, как-то дуром рванув телегу в сторону, и телега, соскочив с гати, влипла в трясину по самые ступицы.
С испугу мы подобрали ноги и некоторое время сидели молча, боясь слезть с телеги. Лошаденка наша испуганно прядала ушами и вдруг заржала так жалобно, что у меня сердце сжалось.
В ответ на ее ржанье ореховый куст зашумел, заколебался, из-за него вырос громадный детина, без шапки, в домотканой свитке, лихо накинутой на одно плечо. Оглядев нас сверху, спросил басовито:
— Гей, что за люди? Куда путь держите?
— Из города мы… В Сшиби-Колпачок! — ответил я, взводя курок нагана прямо в кармане.
Сережка сунул обе руки в портфель и, притаив в правой браунинг, левой достал мандат, ярко забелевший в сумерках дремучего леса.
— Это что, мандат? — спросил другой голос, еще басовитей.
И от часовенки к нам шагнул другой парень, еще повыше и подюжее первого, в широченных лаптях, какие носят лесовики.
— Мы из укома! — решительно выпалил Сережка.
— Из укома? — хором повторили парни. — Не к нам ли? Не в нашу ли ячейку?
— К вам, к вам, — обрадовался Сережка.
— Ну вот, — осклабились богатыри, — чего же вы молчали, мы бы вас сразу вытащили! Тут ведь и совсем завязнуть можно!
— А где же вы были, мы вас не видели.
— Мы тут дежурили, да того… вздремнули немного… Пока конь не заржал.
Подойдя с двух сторон, богатыри шутя выдернули нашу телегу из трясины и поставили на настил легко, как игрушку. Один повел лошадь в поводу, другой пошел сзади, подталкивая плечом телегу, когда она застревала.
Вскоре мы увидели околицу, высоченный плетень с острыми кольями, похожий на древний разбойничий палисад… И услышали странный вопрос:
— С чем тащите?
Из-за околицы вышло двое парней в войлочных шляпах, в лаптях и зипунах, накинутых на плечи, отчего они казались еще дюжее…
— Слышь ты, из укома ж это!
— Уком едет!..
— А мы-то их ждали! А мы-то! Ну, здравствуйте! — Парни распахнули широко околицу, и свитки свои, и ручищи.
— Гони, што ль, ребят обрадовать!
Один подскочил к нашей коняге, шлепнул по заду ладонью, крикнул, и клячонка наша, сложив уши, понесла. Ребята бежали рядом, пыль столбом, жучки, шавки замелькали вокруг, оглашая улицу лаем. С таким триумфом подъехали мы к поповскому дому, освещенному веселым, щедрым огнем. Не преувеличиваю — нас внесли в дом прямо на руках.
* * *
— Ешь, пока не посинеешь; рукой мотнешь, вытащим! — хлопнул меня по плечу один здоровяк, которого я успел отличить по его мясистому носу с рубцом поперек.
Стоявшие кругом одобрительно захохотали.
Перед нами на дубовом столе дымились горшки жирного варева. На деревянном блюде лежали куски свинины и целая баранья нога. Вот откуда-то из боковой двери втащили две здоровенные корчаги и стали цедить пенную брагу в старинные ковши. Тогда все молодцы расселись вокруг нас за стол, а двое девиц, толстенных, как бочки в юбках, стали обносить.
Я не успел опомниться, как передо мной очутился объемистый пенный ковш.
— За приезд товарища укома! — гаркнули парни и подняли ковши.
С трудом осилил я объемистый ковш. Брага, густая и терпкая, сразу ударила в голову, перед глазами пошел туман, а сидевшие вокруг стали шире, толще и страшней. Я попытался оглядеться.
Рубленный из векового дуба зал. В одном углу черным лесным озером рояль поблескивает, в другом увидел я пирамидку винтовок, а в переднем растянуты красные полотнища, и портреты вождей улыбаются и, кажется, укоризненно качают головами.
Я протер глаза и пошарил вокруг, ища Сережку. Вот его рука в моей.
— Сережка, куда мы попали?
— В селение Красная Свобода, по старому Сшиби-Колпачок, — ответил мне наш деревенский ямщик, вдруг очутившийся за столом.
— Откуда ты взялся, дядя? Ты же сбежал у орехового куста?
— Было дело, трухнул маленько, — ответил ямщик, — думал, промеж вами стрельба произойдет… А оно вон каким макаром дело-то обернулось. Ну тут я и отыскался!
— Хитрый, черт, постой, а где Сережка Ермаков, я спрашиваю?!
— Насупроть-то, глянь!
Я глянул: напротив парень — косая сажень плечи, одна ручища ковш поднимает, а другая кулачище сжимает:
— Да здравствует комсомол. Ура!
— За нашу ячейку пей все враз! — толкнул меня Рубцовый Нос.
— А Сережка-то где?
— Да насупроть, с Перстнем рядом.
Я прищурил глаза и вижу: действительно, у этого дуба под мышкой жмется чуть заметный Сережка… И вдруг вылезает Сережка из-под своего соседа и пытается тоже рявкнуть. Но пищит как комар:
— Комсомольцы не пьют!
— Не шуми, брагу можно!
Я увидел Сережку опять внизу, а вверху, над ним, пенные ковши. После второго я почувствовал себя здоровее и толще этих дубатолов, и, когда хлопнул меня по плечу Рубцовый Нос, спрашивая, гожа ли брага, я не скособочился, а тяпнул его по спине так, что он крякнул.
— Живем, брат, с такой брагой!
— С хмельком да с медком ладно!
— Русского для гостей, русского!.. — заголосили с конца стола.
— А ну, пошли в главную залу.
— Эй, крали, уважим гостей танцами!
Парни подхватили нас, и мы очутились в большой горнице. И видим — в ней полно разбойниц. И все одна другой краше и нарядней.
Бусы, косы, ленты. Полусапожки серебряными подковками звенят.
Как села одна глазастая за рояль да как ударила по клавишам, встряхнув косами, так и бросило нас в пляс.
Чего-чего не переплясали мы. Тут и «русская», тут и «барыня», тут и «сукин сын камаринский мужик».
Помнится, пытались мы танцевать даже вальсы. Но невозможно. Разбойницы до того жарки, до того пышны, что в объятиях с ними нам становилось невмоготу, душно.
Не раз выводили нас разбойницы на свежий воздух и не раз возвращали обратно.
Глотнув вечернего ветерка, я немножко приходил в соображение и различал на стенах горницы кистени, ножи, старинные пищали…
И виделся мне среди пляшущих самый здоровенный, самый высоченный с полосатым колпаком на кудлатой голове — Рубцовый Нос.
Чем дальше, тем больше все стало казаться мне, что перенеслись мы с Сережкой куда-то в древние времена к разбойникам, описанным в чудесной книжке «Князь Серебряный».
И когда среди буйного веселья кто-то возгласил: «Эй, Ванюха, слышь, Перстень, посмотри, каких спекулянтов приволокли!» — я не выдержал и гаркнул:
— Сарынь на кичку!
В ответ мне раздался веселый рев и ужасный хохот. И больше ничего не помню. Третий ковш браги свалил меня с ног.
* * *
Нос мне пощекотала соломинка. Я чихнул и проснулся. От моего чиха поднялся и Сережка. Мы лежали на груде свежей соломы. Солнце озорно играло в разноцветных стеклышках поповской веранды. Задорно пели петухи. И где-то рядом крутилось точило и раздавалось разбойное: вжик-жик!
При этом звуке мне вспомнилось вчерашнее веселье — ножи-кистени на стенах горницы, Рубцовый Нос, пенные ковши и пляски разбойниц.
— Сережа, это мы не во сне?
— Нет, в Сшиби-Колпачке, — мрачно отозвался Сережа, вынимая из волос соломинки.
— А не в Сшибе-Ковшичке? — попытался пошутить я, ощущая некоторое головокружение.
— Я два ковша выдержал, а на третьем…
— Третий был роковым, — подтвердил я.
Мы помолчали, прислушиваясь, как во дворе для чего-то точат ножи булатные.
И вздрогнули, когда на веранду вошел парень. Но вид у него был весьма мирный. В одной руке кувшин молока. В другой буханка хлеба. И слова обыкновенные:
— Комары вас тут не заели?
— Нет, мы их не почуяли, то ли они нас не нашли.
Парень улыбнулся и, почесав рубец на носу, ушел.
А во дворе: вжик-жик, вжик-жик.
Выпив молока, густого, душистого как мед, и закусив хлебом, сладким как пряник, мы осторожно выглянули с веранды и наконец выяснили, что это был за звук. Наши вчерашние знакомцы вострили косы на точиле, укрепленном среди развилин могучего дуба.
Завидев нас, они повесили косы на сучья дуба и окружили веранду, улыбчивые, лупоглазые.
— Ну как, выспались, укомы?
— Не побудили мы вас? Извиняйте. У нас завтра покос… А здесь как раз отменное поповское точило!
…Любуемся на ребят, что за молодцы, рослые, могучие, все как на подбор. Ни вчерашних разбойничьих ухваток. Ни вчерашней дикости. Видно, брага нам в голову ударила и многое померещилось.
Секретаря действительно зовут Ванюхой по прозвищу Перстень. Рекомендуется нам Иваном Перстневым. Обыкновенный паренек в красной сатиновой косоворотке, в брюках галифе и в лаптях с высоко навернутыми онучами.
Заходим в поповскую горницу.
Вот он, дубовый стол, за которым пировали. Вот они, дубовые скамьи. В переднем углу портрет Калинина. У входа пирамида винтовок. А у стены поповский рояль, на котором вчера наигрывали в четыре руки поповские дочки. Или это мне снилось?
Расселись по лавкам красномольцы, и Перстень принялся за доклад о работе ячейки.
— Перво-наперво должен сказать, ошиблись мы в названии — надо бы именоваться комсомольцами, а мы назвались красномольцами — так понятнее, красная молодежь, красномол… Будем просить уком принять нас в союз и именовать как полагается. Опять же есть упущение в бумажном деле. Протоколов мы не вели. Но, ежели надобно для отчета, сейчас напишем все сразу, сколько полагается.
— Ладно, канцелярству научитесь. Ты про работу давай, — сказал Сережка.
— Работа у нас одна — помогаем Советской власти, как и должна красная молодежь. Продразверстка нами собрана на все сто. Дезертирство вырвано с корнем — вот они винтовочки, — почитай все бывшие у зелененьких… Антирелигиозный дурман изжит окончательно. Поп в другой приход сбежал, так мы его поприжали, а поповы дочки, отказавшись от родителя, строят вместе с нами новую, красную жизнь. В церкви, как водится, клуб. В поповском доме наша ячейка.
А теперь строго проводим в жизнь декрет о приостановлении спекулянтства.
Тех спекулянтиков, которые из Мурома в Шацк за тамбовским хлебом тянутся, неся свои скобяные поделки, хватаем и товар реквизируем. А тех, которые с Касимова на Арзамас тащат мануфактуру, за мордовским пшенцом топают, подвергаем тому же.
Нелегкая эта работа — иные так до оружия дело доводят, иные лесом обегают. Но таких случаев, чтоб мы упустили, все-таки не было. Имущество это зря у нас не идет: сшили сельским сиротам рубахи и штаны и прочую одежу. А на остальное винтовок у бывших солдат наменяли, количеством десять штук, гранат — кучу. Наганов — дюжину. И даже… пулемет. Он сейчас в починке…
— А граждане к вам как?
Перстень махнул рукой:
— Они без нас дышать не могут! За такой ячейкой как за каменной стеной. Ни тебе — бандитизма. Ни тебе — продотрядов. А кроме того, мануфактурки, хотя плохонькой, беднеющим-то выдавали, то да се… Село у нас дружное. Когда по призыву Советов в мордву ходили кулацкое восстание усмирять, так пошло мужское население, расколотили это восстание враз.
Нет, мы у села как любимое дите! У нас почему в ячейке всего шесть ребят? Потому что не сами шли, а селом выбирали, самых, значит, отборных… плохоньких не допущали.
— Это как же?
— А так, как вышел с докладом товарищ Климаков о союзе красной молодежи перед всем сходом, так мужики и решили — что если тому быть, то как следует. Ребят, мол, надо образцовых выбирать, если по-нашему красна девица — значит, красавица, то красный парень — значит, богатырь! Ну и выбрали… Лезла мелочь разная — так не пустили. Выбрали ребят настоящих, ядреных, чтобы действительно! У села мы как дите на материнских руках.
Сережка еще что-то спрашивал, а я про свое.
— А зачем, — говорю, — у вас, ребята, ножи вчера на поясах и длинные рубахи?
— Это мы с покоса вернулись, кончали вчерась поздно, захотели бражки выпить и даже ключи с поясов и бруски не сняли.
— А колпак?
На это многие улыбнулись, а Рубцовый Нос, это он вчерашний, хитро подмигнул.
После доклада о работе повел нас Ванюха Перстень убедиться в их достижениях, посмотреть клуб. Показавшаяся вчера мрачной церковь, рубленная из мореного дуба, поражала своей дикой красотой. Резко выделялись ее резьба и узоры на солнце. Кресты на ее куполах были не железные, а из дубовых горбылин. Их трудно было сшибить, и ребята повесили флаги прямо на них. Внутри церкви было светло и просторно. На месте алтаря груботесаная положена сцена, и прекрасный бархатный занавес спадает зелеными волнами. Через весь зал стоят скамьи, тоже крепкие и грубые, а на клиросе — рояль и на рояле две гармонии. Больше ничего особенного не было.
— Только что начали устраивать, — как бы оправдывались ребята, всего раза три играли.
— Чего же вы играли?
— «Власть тьмы» играли.
— Сами?
— С учителем, он у нас, поди-ка, интеллигентный.
— А народ как?
— Ревели бабенки до слез, а мужики так стражника избили, хотя не до смерти, а водой отливали Никишку. Говорили ему, черту, сразу грим снимай, а он замешкался. Спектакли у нас до сердца доходят, народ у нас с сердцем.
* * *
Когда вечерняя прохлада стелилась с лугов, полная мятного запаха скошенного сена, Серега сел писать отчет о ревизии ячейки, а я пошел прогуляться.
Село стояло на холме среди болотистых лесов, как крепость, замыкая одну-единственную дорогу, идущую с севера на юг. Небольшая сырая луговина вся была устелена холстами для отбелки. По ним, резвясь, бегали босоногие ребятишки.
И вдруг я увидел пожилую женщину, припустившуюся с ними вперегонки. Она бежала, оглашая окрестность дурным криком. А за ней бежали два парня, грозя дубинками и увещевая:
— Стой, не беги, все равно догоним!
Я не успел понять, в чем суть, как женщина, набежав на меня, тут же упала на землю.
— Не отдам, не отдам — хоть убейте!
— Это что, кликуша? — спросил я подбежавших ребят.
— Спекулянтка. Из-под Шуи на Арзамас кусок мануфактуры тащит. На пшено, ишь, менять.
Верно, женщина прижимала к груди какой-то сверток, как ребенка.
— Ну, пойдем! — Ребята взяли и поволокли.
Заинтересовавшись, я пошел за ними. По дороге, дожидаясь, стояла еще кучка каких-то людей. Среди них как начальник — Рубцовый Нос. Перед ним человек с детской колясочкой. Они горячо о чем-то рассуждали.
— Я же рабочий, а ты крестьянин, должны мы друг друга понимать?
— А спекулянничать не могешь!
— Друг, — брал его за плечо человек с коляской, — друг, я же тебе говорю, не дает нам фабрика зарплаты, кроме натурой. Берем мы себе отпуск и честно идем поменять этот ситчишко на мучку, на крупку, а вы нас клеймите эдакими словами… Ну легко ли так?
— Я этого не знаю, мне давай бумагу!
Человек с детской колясочкой приложил руку к сердцу, Рубцовый Нос не дал ему говорить дальше.
— Пойдем в сельсовет, там разберемся.
Человек вздохнул и покатил свою колясочку, в которой лежали свертки ситца и кульки наменянных продуктов. За ним поплелась беглянка и еще несколько других.
— Вот четвертая партия за день, откуда-то из-под Иваново-Вознесенска. Издалека и все беспокойные. Упрел, — сказал мне Рубцовый Нос.
Изловленных привели к помещению ячейки, и не успел я оглянуться, как они очутились за какой-то крепко захлопнутой дверью в подвале дома. Я бросился искать Сережку.
Он ходил по веранде и чесал себе маковку, морща нос.
— Сел я писать отчет, и сам не рад.
— А что?
— Пришел Перстень и потребовал им его прочесть.
— Ну и что же?
— Не умею я писать хвалебные оды, вот и хожу.
Я рассказал Сереге о своей прогулке в луга и о том, как ловят «спекулянтов» здешние красномольцы и каких.
В подтверждение моих слов мимо окна проплелась та самая женщина без свертка, еще кто-то и человек, уж теперь без колясочки. Мы с Серегой бросились искать Перстня и наткнулись на него в коридоре. Он шел с каким-то рыжебородым мужичищей, побольше его, а впереди Рубцовый Нос катил колясочку, полную сверточков и разных предметов.
— Разве так можно? — завопил Серега. — Вы что, не отличаете рабочих от спекулянтов?
— Потише, потише, друг, — остановил его рыжебородый мужик, — я здесь власть на местах. Декреты мы знаем без вас: у нас даже не как у прочих, а без обиды — у кого что отберут — десять фунтов муки и на дорогу ковригу печеного хлеба. Обиды тут не должно быть.
— Все равно грабеж — с десятью фунтами или без них…
— А хошь ты за такие слова к нам в темную угодить? Милости прошу! Рыжий ехидно осмотрел нас и добавил: — У нас бы таких плохоньких близко до ячейки не допустили, а то: инструктора укома!
После этих слов Рубцовый Нос двинул колясочку, она заскрипела, поехала, и все, миновав нас, удалились в одну из комнат.
Когда мы собрались уезжать, пришел Ванюха Перстень и позвал нас за собой в ту самую комнату.
— Вот, — сказал Перстень, — это вам в уком наши членские взносы: как нет у нас денег, то возьмите натурой.
Перед нами лежала груда мануфактуры, куски сукна, несколько часов с цепочками, сапог хромовых и даже серебряный самовар.
Мы озадаченно переглянулись.
— Ничего-ничего, забирайте. Этот товар буржуйский. Серебряный самовар-то буржуй тащил! А кусок сукна — бывший купец волок.
— Нам и положить-то такие вещи некуда.
— Мы вам уложим, ребя, тащи!
Двое парней стали ухватывать и тащить нашему ямщику все добро.
— Хоть самовар-то оставьте! — молил Серега.
* * *
Как же легко мы вздохнули, когда миновали тряскую гать и выехали из леса! Солнце! Рожь волнуется. Ласточки летают. Милые! Позади топь и трясина, позади «угодниковы слезки» и ореховый куст, перед нами же шестьдесят ровных покойных верст стелются до самого нашего укома. Вот показалась мирная полевая деревушка, вся потонувшая в зеленых коноплях. Ни одного деревца — только скворечни тянутся к небу, качая смешными, растреснутыми головами.
— Теперь доедем, — облегченно вздыхает Сережка.
— Заранее не загадывай, — ямщик чешет маковку кнутовищем, — они народ того… Чего-то много вам надавали, боюсь, опомнятся, нагонят да отымут!
И только он это сказал — тут же с лица сменился.
— Едут, братишки, едут! — заголосил он.
Привстал на облучке и заколотил неистово конягу. И тут сквозь закрутившуюся пыль увидел я выметывающиеся изо ржи черные и рыжие гривы лошадей.
— Сто-ой-ой-ой! — несся вокруг нас крик.
— Пропали! — сказал Сережка.
Я оглядел его в последний раз, и так запомнился его милый утиный нос, большой лоб, всегда веселые раскосые, теперь прищуренные глаза и кепка, сдвинутая на затылок.
— Прощай, Сережа!
Рожь по краям дороги раздалась, и нас окружил табун облепленных кашкой и васильками коней. Перед глазами замелькали Рубцовый Нос, Перстень, и еще, и еще.
— Забыли мы, слышь!
— Отчет-то почитать забыли!
— Товарищи, — опамятовался Сережка, — вот ваш отчет, читайте и знайте, мы за вас по гроб жизни, крепкая вы ячейка!
Перстень взял бумагу и прямо с лошади стал читать «доклад».
— «О ячейке села Свобода (по-старому Сшиби-Колпачок). Таковая ячейка встречается в моей практике впервые. Ребят более крепких и спаянных я не видал. Оригинален метод, каким составляется ячейка, — ребят в нее выбирают сами граждане по принципу — самых удалых и красивых, называя красномольцами. Живут и работают красномольцы не покладая рук во славу Советской власти и себе на пользу. Славные дела их невозможно пером описать, надеюсь кое-что изложить устно, по приезде в уком…»
Красивее Сережка написать не сумел, но с них хватило и этого.
— А докладать так же будешь? — спросил после прочтения Перстень.
— Ну что ты, неужто как по-другому можно?
— То-то…
И вот в результате всех этих приключений привезли мы с Сережкой такой доклад, что не могли его прожевать укомовцы всем миром на трех заседаниях. И каких только нам вопросов не задавали! И каких только резолюций не предлагали!
И насчет количества выпитых нами ковшов пенной браги спрашивали, и по существу плясок с разбойницами. А уж по поводу привезенных нами членских взносов — мануфактурой, одеждой, душистым мылом, дамскими туфлями, офицерскими сапогами и прочим реквизированным у спекулянтов самым разным имуществом — столько было разных острот, что мы с Сережкой как караси на сковороде вертелись.
Целое паломничество к нам в уком открылось. Как в музей люди заходили поглазеть на экспонаты.
Про красномольцев-разбойников по всему городу уже сказки рассказывали. Рубцовым Носом детей пугали.
Вот после всего этого и поставь вопрос о приеме этой дикой ячейки в союз, о названии ее комсомольской!
И без того нас враги-обыватели костили-честили, не хватало, чтобы обозвали разбойниками.
Как тут быть, что делать? Думайте, укомовцы, думайте. На то в руководство избраны.
Думали, думали ребята, головами качали, правильного решения так найти и не могли.
Жаль, товарища Янина не было — председателя. Этот бы правильно решил. Он все села знал, какое чем дышит и чем от других отличается. Но его вызвали в Тамбов.
И вдруг сама жизнь все решила-вырешила.
На самое последнее заседание ворвался вдруг начальник ЧОНа[1] Климаков. Он всегда врывался. Его вопросы не терпели отлагательства. То восстание кулаков в мордве, то нападение кулацких банд на Шацк, то приближение антоновцев к линии железной дороги. И всегда дело кончалось поголовной комсомольской мобилизацией и выездом в угрожаемый район с оружием в руках.
Итак, врывается Климаков в кожаной фуражке, в красных галифе, бьет себя по сапогам плеткой и хочет что-то сказать, но приостанавливается, заслышав интересный разговор.
— Так-так, продолжайте, продолжайте, — говорит он сдержанно, винтовочки есть у них, гранаты и даже будто бы пулемет?.. Так-так, нам нужны такие разбойнички… Сшиби-Колпачок, Сшиби-Колпачок… очень подходяще!
— Да что ж тут подходящего? — возмутился наш секретарь Потапычев.
— А то подходяще, — сказал, отчеканивая по-военному каждое слово, начальник ЧОНа неустрашимый Климаков, — что угрожает нам не какая-нибудь лапотная банда, а части регулярной бывшей красно-казачьей дивизии изменника Миронова! Получена депеша. Вот!
И с треском вынул из-за обшлага бумагу.
— Вот так камуфлет, — сказал, закусив губу, Потапычев, — а все наши главные силы на помощь саранским коммунистам отправились.
— Ему дал жару наш бронепоезд в Саранске, а он решил дать нам жару здесь. Вы читайте, читайте. Уходит, гад, от разгрома тремя колоннами. Уводит своих казачков на Дон кружными путями, по-волчьи… И одна конная часть рванула через темниковский лес… По разбойничьим местам. Мимо Сшиби-Колпачка. Да и завернет как раз на нас…
Все притихли, воображая коварный план мироновцев, — на станции у нас поживиться было чем. И фураж, и мука, и прочее довольствие на складах… И прямой путь на Тамбов в объятия к Антонову. Волк волка чует издалека!
Выждал Климаков и предлагает — он всегда предлагал:
— Прошу полномочий использовать революционный энтузиазм вышеназванных красномольцев для борьбы с казачьей контрреволюцией. Других вооруженных сил у меня под рукой нет!
Мы призадумались.
А товарищ Горбунов тихо произнес:
— Что ж — используйте против стихии стихию!
— Вот-вот, как при лесном пожаре — будем гасить огонь встречным огнем! — подхватил весело Климаков, любитель опасных дел.
И тут же, окинув взглядом нашу молодежь, остановил свой взор на мне.
— Представителем укома поедешь? — ткнул он в меня указательным пальцем.
Конечно же, как не поехать, какой комсомолец откажется побывать в деле с самим Климаковым. Позор трусу, слава герою. Я вскочил с места и очутился у него под рукой.
Пока нам заготавливали мандаты, Климаков носился по двору укома, покрикивая:
— Бекетов — зыбку! Катя — гранаты! Федя — листовки!
Бекетов — это был шофер удивительного автомобильчика, который слушался одного его. За зыбкость прозвал его Климаков зыбкой. У Кати, нашей уборщицы, хранил он в каменной нише гранаты. А Федей звался старый типографщик, у которого были припасены листовки, на все случаи подходящие.
Вот и сейчас он принес охапку желтых, как осенние листья, листовок с огненными словами:
«Трепещите, тираны! Вооруженный народ не пощадит вас!»
И еще что-то такое. По какому случаю она была напечатана, все давно забыли.
Нам все равно, что там ни написано, — была бы погрозней. Как же это проезжая на автомобиле, не разбрасывать по селам листовки? Без этого нельзя.
В одночасье машина была укомплектована, и мы помчались.
— Ну, держись, парень, поехали с орехами… — хлопал меня по плечу Климаков радостно, словно вез на свадьбу. — Так ты говоришь — разбойнички? Лихие, удалые, молодец к молодцу! Знаю-знаю сшиби-колпачковцев. Народ там статный, рослый, красивый и озорной — я те дам! Там деды и прадеды век пошаливали, при царе живали по принципу «грабь награбленное», как же им в революцию не пошалить!
И, прикусив язык на ухабах, выжидал ровной дорожки, чтобы сказать еще какую-нибудь шутку.
Он весь горел от нетерпения. Для него было мучительно ожидание драки — такой уж был характер. Если надо подраться, то уж поскорей, да и дело с концом.
По каждой встречной деревне проносились мы в дыму и треске мотора, в лае собак. И долго по нашему следу в клубах пыли ловили детишки разлетающиеся листовки.
— Для главного дела-то оставь, — удерживал мою щедрую руку Климаков.
Вскорости вскочила наша зыбка на гать, ведущую к Сшиби-Колпачку. Тут мы слезли и пошли пешком. Думаю, не нашлось человека, который пережил бы тряску по неотесанным бревнам на автомобиле.
Вот он, шатучий мостик, вот она, часовня, вот и ореховый куст. И, здрасте, — навстречу дежурные красномольцы.
— Наше вам с кисточкой!
Наверное, это от знаменитого колпака у них пошло.
— Революционный привет! — гаркнул Климаков таким зычным голосом, что потомки разбойничков оценивающе засмеялись.
Меня, конечно, обняли, как давно своего, бражника. Как по обычаю — с кем пображничал, с тем побратался. Ведь и главный-то ковш называется «братина».
Долго ли, коротко ли, очутились мы на паперти церкви, а перед нами все население Сшиби-Колпачка. Все пришли, начиная от старых стариков, слезших с печек, до младенцев на руках у матерей.
За красным столом — президиум. Со звонком, графином — как полагается. И товарищ Климаков разъясняет текущий момент революции.
Слушают — не пискнет младенец. Тишина. Только эхо отзывается на пламенные слова Климакова. И среди них такие:
— И идет тот изменник белый офицер Миронов по старой катерининской дороге. Громит Советы. Грабит церкви. Не щадит мужицких дворов. Известно, белые казаки — грабители. У них за каждым воякой в обозе телега с награбленным добром следует. И запасной конь…
При этих словах по толпе словно ветерком подуло, загудела толпа будто лес.
Ну, а потом Климатов бросал лозунги, я кидал листовки. Неслись крики «да здравствует» и «ура».
А к вечеру в результате нашей работы у церковной ограды выстроилось пешее ополчение сотни на две. Командовали им видавшие войну старые солдаты. Отдельно построился молодежный конный отряд под командованием Рубцового Носа.
С правого фланга стоял пулемет. Тот самый, про который ходила легенда. Он в грозный час оказался налицо. Чистенький, смазанный, заправленный пулеметной лентой.
Климаков не спрашивал, откуда он взялся, а только любовался его тупорылой мордочкой.
Воинственным здесь оказался народ — даже бабы вооружились косами да вилами.
Поповы дочки обрядились сестрами милосердия.
* * *
Подъезжая к чернореченским гатям, мироновцы и не думали не гадали, какая им уготована встреча. Деревни по пути попадались тихие, мирные. Никаких красных отрядов, никаких стычек. Приободрились казачки-изменники и ехали как на ученье, с песнями.
Так, убаюканные тишиной, втянулись они в темниковские леса, и вскоре застучали кованые копыта военных коней по бревнам знаменитых гатей.
Справа заболоченный непроходимый лес, слева топкая лесная трясина. Впереди узкая просека, и по ней одна-единая дорожка из набросанных поперек дубовых бревнышек. Неприбитые, непритесанные, все, как живые, ходят ходуном. Дробным говором под копытами говорят.
Непривычные к таким дорогам, казацкие кони ушами прядают, оступаются. Всадники песню бросили, по сторонам озираются. Строй сломался. Растянулись цепочкой попарно. Тишина сердца томит. Сороки, слетевшиеся к дороге, бормотаньем души тревожат.
Людей будто нет. Опасности ждать неоткуда, а становится изменникам как-то не по себе, и чем дальше в лес, тем все более сумно.
Неизвестная опасность хуже всего.
Закралось в души набедокуривших изменников нехорошее предчувствие. И недаром.
Товарищ Климаков — старый солдат, хватка у него воинская. Диспозицию такую, применяясь к местности, составил, что любой стратег позавидует. Потому что к воинскому уменью присоединил он революционный энтузиазм.
Согласно диспозиции позволил он белоказакам пройти до шатучего мостика нетревожно. Мимо множества наших засад, расположенных вдоль гати на дубах и под дубами. Состояли они из пеших охотников.
Замыкал эту ловушку пулеметный отряд, спрятавший своего «максима» в часовенке, что на опушке. И тут же в зарослях орешника на вырубке хоронился молодежный конный отряд, нацеленный для преследования бегущих. А что изменники побегут, в этом товарищ Климаков не сомневался.
Автомобиль с Бекетовым замаскировал он на выходе из леса в орешнике, а сам остался с ополчением у шатучего мостика. Здесь, поперек гати, раскидав бревна настила, вырыли канаву и заранее подпилили два высоких дерева, две зеленые осины с дрожащей листвой.
И вот, как только подъехали притихшие казачки к роковому месту, так ошарашило их необыкновенное представление. Вдруг, без видимых причин, дрогнули, закачались придорожные осины и повалились встречь друг другу, перегородив дорогу.
— Стой! — раздался зычный голос.
И из-под кущ только что упавших осин вырос перед изменниками комиссар. Как на картинке: в кожаной фуражке, в красных галифе, перепоясанный маузером.
Не грозя оружием, не ругаясь, простер товарищ Климаков руку и отдал приказ:
— Складай оружие, граждане казаки! Путь окончен!
От такого видения конные чуть не опешили.
Остановились и смотрят на Климакова, как на привидение. Тут один казачок постарее, вижу, крестится, снимает с плеча карабин.
— Осторожней, папаша! — замечает ему Климаков. — Вы окружены.
И в подтверждение его слов из часовенки как пустят поверх верховых очередь, так сбитые с верхушек деревьев ветки птичками полетели.
И тут бы оробелые вояки и побросали оружие. Но были среди них матерые белогвардейцы. Да и сознание вины против Советской власти тоже среди них было сильно.
— К бою! Вперед! — раздались команды.
И Климаков, не будь дурен, так же неожиданно исчез, как и появился. Рванулись было иные, что порезвей из мироновцев, да завалились с конями в канавы. Задние открыли стрельбу не спешиваясь, думая взять красных шумом. Не тут-то было: вступили в дело наши стрелки-охотники, и каждая их тщательная пуля находила свою цель.
Отхлынули было назад казачки, а там пулемет дорогу метет.
Заметались изменники по зыбкой гати. И конно воевать нельзя, и с коней сойти казакам страшно. А сдаваться им хуже смерти. Комиссар-то — он вон какой…
Известно — когда деваться некуда, тут каждый храбр. Послушались казаки команд своих начальников и пошли на штурм, желая пробить дорогу через Сшиби-Колпачок. Изучив маршрут по картам, офицеры их знали, что там дальше большак идет через лесные полянки. Там есть где развернуться.
Лезли изменники как черви. Страшные, грязные, в тине. В руках карабин, в зубах обнаженная шашка. Штурмующих поддерживал огонь винтовок.
Один завал взяли. Другой взяли. И каждый раз с рукопашным боем. Потеряли мы много храбрых стариков. Почти до околицы дошли изменники, а там одни бабы с вилами.
Видит Климаков — могут прорваться, выскочил и — раз-раз — гранатами! Он швыряет, а я подаю.
Отшатнулись казачки.
А в это время заиграли им трубы отбой.
Увидев гибельные потери от огня наших охотников, офицеры решили уходить, пробиваться всеми силами назад.
И пробились ведь черти, пулемет наш заставили замолчать, пулеметчиков порубили. Но какой ценой? Вокруг часовенки грязь была кровавого цвета. Среди побитых рядовых казаков несколько офицеров насквозь простреленных валялось. Убитых и раненых коней полна гать. Все бревна шашками, карабинами усеяны. Дорого им достался путь бегства.
Выскакивали они из ловушки кучками и по одному. Весь свой обоз бросили. Все награбленное имущество. Даже запасных коней, притороченных к возам, не взяли. Утекали кто как мог, у кого лошадь резвей.
При виде такой картины не устояли и наши доморощенные конники. Гикнули, свистнули и под командой Рубцового Носа и Перстня ударились в угон.
Хорошо было сшибать с коней разрозненных, ловить и бить изменников в одиночку. Да не знали удалые красномольцы, что рассеянная казачня быстро в кучу сбивается. Это у нее старая тактика.
Увлекшись погоней, не расслышали наши молодцы, как играли трубы сборы, как собирались беглецы на зов своих есаулов, как звучали офицерские команды.
И взяли их казаки в сабли с трех сторон. И в такой они были злости, что изрубили наших ребят до неузнаваемости. Мстили за поражение, за убитых дружков, за потерянный обоз и брошенных коней.
Родные матери потом не сразу угадать могли своих порубленных сыновей. Жестоки казацкие сабли.
Когда стали мы с Климаковым составлять реестр потерь и трофеев, сколько я ни выкликал имен и фамилий по списку дикой ячейки, — ни один красномолец не отзывался. Вырубили их мироновцы начисто.
И осталось от всей ячейки одно лишь наше с Сережкой воспоминание да две плакальщицы — поповы дочки.
Мироновцев, как известно, ждал бесславный конец, Сшиби-Колпачок великая слава. Покупать трофейных коней к ним потом из далеких далей приезжали. И сейчас еще там возят лес на казацких военных повозках, хороши они — на железном ходу. Мальчишки щеголяют в казачьих фуражках и гимнастерках. А иные девчата любят щегольнуть в офицерских хромовых сапожках. В Сшиби-Колпачке народ крупный, лесной, ногастый. Только на женскую обувь трофейные сапожки и подошли. Невестами село это и сейчас славно — все парни туда тянут, своих-то женихов там поубавилось.
Ну, вот и вся история. Скажу лишь, что приехал я с побоища весьма огорченный. А тут еще в самый последний момент вышла у меня с Климаковым большая неприятность.
Ехал он обратно темней тучи. Во время боя не поспел в своей зыбке догнать зарвавшихся ребят и остановить вовремя.
И, когда выскочил с автомобилем на простор из топких мест, все уже было кончено. Погнался еще за казаками, дымя и грохоча на машине, погрозил им кулаком и вернулся.
И вот, когда мы ехали обратно и несколько поуспокоились, я, желая поднять настроение, сказал:
— Все правильно, товарищ Климаков, ты использовал энтузиазм красномольцев на пользу революции. А лучше, — говорю, — было бы, если бы истратили мы на белую казачню настоящих комсомольцев?
Тут его как взорвало:
— Что значит настоящих, не настоящих? А ты можешь сообразить, какое в этих ребятах сгибло будущее! Каких людей недосчитается светлое царство коммунизма!
Я растерянно замолчал.
— Ну вот, — сказал решительный Климаков. — Подумай об этом в одиночестве, — и высадил меня из зыбки.
Так и шел я от самого Темгеневского городка пёхом. Вот как нехорошо получилось. Выезжали вместе, а вернулись врозь — кто на колесах, а кто на своих двоих.
Короче говоря, пришел я в уком с таким предложением: принять красномольскую ячейку села Свобода в Российский Коммунистический Союз Молодежи посмертно.
Мое предложение было принято.
НЕУГОМОН
Пропал Тарасыч. И как-то поскучнели наши вечера. По-прежнему собирались мы у старинного камина в барском особняке, захваченном комсомолией. Сдвигали поближе к теплу укомовские столы. Забравшись на них, рассказывали разные байки, страшные и смешные, как в ночном. И каждый раз вспоминали Тарасыча. Любили мы озорника. Весел был даже в горе. Смеяться мог натощак. В мороз ходил в кожаной куртке нараспашку, в дождик в разорванных сапогах. И ничего, посмеивался.
К нам на огонек никогда пустым не являлся. То принесет кулек воблы: «Ну, давай угощайся вся команда». То горсть орехов на стол вывалит. А то полный карман семечек. И, конечно, не забывал поддержать наш негасимый огонек. То пакли, пропитанной мазутом, за пазухой притащит — на разжигу. То какой-нибудь чурбак или доску от обывательского крашеного забора. Однажды притащил здоровенный дубовый крест.
— Вот, — говорит, — ребята, шел мимо кладбища, вижу, такой ценный материал зря истлевает на купецкой могиле. Давайте предадим его горению. Ускорим естественный процесс революционным действием!
Вот какие речи мог говорить этот деповский мальчишка, нахватавшийся образованности на митингах.
Тарасычем звали его для солидности. Такая у нас появилась мода называть друг друга по отчеству. Довольно зваться Кольками, Петьками, Ваньками.
Мы теперь Иванычи, Петровичи, Митричи, так нам больше нравилось.
Пропал наш Тарасыч не случайно. По собственной инициативе, можно сказать. Знал, на что идет, когда вызвался поехать инструктором в Мердушинскую волость, в лесную глушь.
Одного нашего посланца там чуть не убили, прострелили ухо для острастки. Один бандит оттягивал, другой стрелял. А второго агитатора связали, засунули в мешок и сплавили к нам обратно, вниз по течению реки на небольшом плотике, водрузив плакат с позорными словесами.
Не принимала комсомольского влияния эта капризная волость, да и все. Уже вся карта уезда была испещрена красными кружками, чуть не во всех селах сумели мы организовать ячейки, а в Мердушинской волости никак «белое пятно».
— И все-таки мы ее завоюем! — стукнул кулаком по столу Тарасыч после горестного рассказа Петровича, как его ночью вязали, как в мешок совали, кулаками уминая. А кто, что — неизвестно.
— Кулаки мягковатые были? — спросил дружка Тарасыч.
— Вроде не очень жесткие. Большие, но пухловатые…
— Ну вот, значит, не настоящие крестьянские. Поповы дети какие-нибудь, может, лавочника сельского сыновья… Значит, сплоховал ты. Не сумел опереться на трудовую массу! — сердился на него Тарасыч. А потом заявил: — Посылайте меня! Я их, чертей, проману! От меня так просто не отделаются.
Выдали ему мандат на право организации комсомольских ячеек. Командировочное предписание с правом пользоваться конным транспортом от села до села. Оружие, конечно. И харчи на дорогу — только талонами, — в наличии продуктов не было.
Нахлобучив покрепче кожаную кепчонку и приняв серьезный вид, как перед дракой, вскочил Тарасыч на попутную подводу какого-то базарника и уехал.
И больше мы ни его не видели, ни о нем не слышали.
Дозвониться туда не было почти никакой возможности: в Совете преобладало кулацко-эсеровское засилье. И они все делали, чтобы связь работала лишь на них. Нужно им — они всегда дозванивались. А когда у нас появлялась необходимость звонить — связь обязательно портилась. Ну что тут делать? И вот однажды с большим трудом нам удалось дозвониться до мердушинского волсовета. Долго в трубке шипело, свистело, и наконец мы услышали в ответ:
— Нет, никакой инструктор РКСМ не заявлялся, не было здесь таких!
Стали подумывать, что Тарасыч погиб. Ставили вопрос о посылке чоновского отряда. Что ни вечер у нашего камина, то шуток меньше.
И вот однажды, в канун базарного дня, вдруг на огонек — гости. Постучал в окно кнутовищем какой-то бородач, весь заиндевевший, желая обогреться, и вошел не один, втащил, как охапку сена, какого-то замороженного паренька.
— Комсомолы? — спросил бородач, звеня сосульками на усах. — Ну, значит, ваше добро, примайте.
И вывалил на пол незнакомого паренька, который, почуяв тепло, стал разлеплять посиневшими пальцами смерзнувшиеся веки. Он посидел некоторое время на полу, где меньше от двери дуло. Не пытая, не расспрашивая, мы растерли ему руки, ноги. Засунули в рот горячую картошку. Прожевал. Значит, отойдет, жив будет. Бородач, задав лошади корму, вернулся с охапкой сена и мешком овса. Подстелив сенца, подложив под голову овес, тут же стал похрапывать… А мы принялись за свои прерванные байки.
Митрич рассказал, как они с Тарасычем сорвали однажды пасхальную обедню. Подговорили поповского сына Серафимку набить отцу кадило заряженными самодельным порохом шутихами вперемешку с ладаном. И что из этого вышло, когда поп, раздув кадило, стал помахивать на верующих…
Лукич рассказал, как старшие братья Тарасыча, слесари-изобретатели Иван да Василий, в голодный год свои семьи отличной выдумкой прокормили. Заимели неразменный самогонный аппарат. Один брат вез его на салазках от села до села и жадным кулакам за хлеб-сало продавал. А второй, вырядившись милиционером, тут же следом шел и отбирал. Брат ему те избы, в которых оставлял аппарат, мелком метил.
Так бы весь уезд обошли, не возрази им Тарасыч.
— Побаловали, братаны, и хватит, — сказал он, — а то я вас в Чека!
Побили они его, как старшие, а все же занятие бросили. Побаивались озорника, знали его принципиальность.
Рассказали еще какую-то историю, еще. И вдруг подмороженный паренек так оттаял, слушая наши побаски, что и сам заговорил:
— Это что, ребята, вот у нас недавно случай был…
— Какой такой? А ну, расскажи!
— Смешной или страшный?
— Да как сказать, он и смешной и страшный… — замялся паренек.
— А ты сам-то чей, откуда?
— А я сын учительницы из села Мердуш.
Так и подскочили мы, услышав зловещее название. И вцепились в паренька. Трясем за плечи:
— Друг, дорогой, как тебя звать-то? Коля?.. Не встречал ли ты нашего Тарасыча? Инструктора по организации сельского комсомола. С мандатом. С оружием. Боевой такой парень!
— Инструктора? Тарасыча? Нет, таких у нас что-то не слыхать. Я бы знал, если бы инструктора или уполномоченные какие были. Нет, нет. Возможно, он в другую волость проехал. Видит, что у нас ему делать нечего, ну и поехал дальше…
Приуныли мы, стали слушать его весело-страшную историю без особого интереса. Все про какого-то почтаря да про его подходы. Вот, мол, скончался у нас летом престарелый волостной письмоносец. И никто не хочет занимать вакансию. Кому охота за дензнаки кривые дороги топтать? Обувь себе дороже. Стон идет по деревням: нет ни от кого писем. А без них жизни нет. По всей Руси народ разбросало — революция. Муж там, жена здесь, сыновья в разных сторонах. Кто воюет, кто кочует. Не спится тому, кто и дома ночует. Стар и млад писем ждет. Особенно девчата. У каждой невесты о почтаре сердце томится. Почему письмеца от суженого не несет.
Спит в могиле старый почтарь. Лежат в волости груды писем. Бедствие.
И вдруг нашелся добрый человек. Надел форменную фуражку, повесил через плечо кожаную суму.
Как завидели его в первой деревне, так не только девчат, ребят, молодых бабенок — старушек и тех с завалинок словно вихрем подняло.
Облепили почтаря, а он куражится: молодой.
— Эй, не замай. Письма без марочек! Так не отдаются. За каждое штраф. Со старушки — пряничек-медовушка, с молодушки — медовый поцелуй!
Смех, визг, шутки. Наскучавшиеся по жениховским весточкам девчата его в щечки, молодые солдатки в губки — зависть парней берет! А он видит, что дуются иные, как индюки, и для них занятие дает: хочешь получить письмо танцуй, парень! Вот так и прошел по деревням новый почтарь. Ел-пил в богатых домах, спал-посыпал на кулацких перинах. Пешком не ходил, каждая попутная подвода его сама подхватывала, завидев сумку с письмами.
И только везде и слышал:
— Милый, родной! Нет ли весточки от сынка? Нет ли чего от муженька?
Со всеми был ласков. И вскоре по всей округе необходим стал, как к посеву дождь, к уборке солнце. И надо сказать, не было письмоносца скорей и ловчей в доставке телеграмм, повесток и писем. Тут же, без запинки, каждую весточку мчит. Большаком, проселками, с попутчиками, верхом, на велосипеде. Да, велосипед приобрел. Нашел где-то в поломанном виде да так ловко починил, что машина поехала, только ногами крути!
Парень веселый, сметливый, безотказный. Кому письмо написать пожалуйста. За труд не сочтет. Кому заявление какое властям, и это может. Хоть в уездный земельный отдел, хоть в Москву к самому Калинину.
И вскоре так в это дело вжился, что знал в деревнях не только каждого человека — все семейные тайны. Ну, словом, покорил народ. Старушки за него бога молят, старики самогонку пьют, девчата припевки поют:
Почтальонок — наш миленок, Милей милого дружка, За его невестам вести Хоть сережку из ушка!Влюбилась в него молодежь. А он озорник. Иной раз такое учудит, что потом вся окрестность смеется.
Однажды шли с гулянки из соседней деревни три закадычных дружка: сын мельника — толстенный, как куль муки, сын лавочника — пухлый, белый, как крендель, сын лесника — дубина стоеросовая. Все — известные лоботрясы. Любили свататься, гулять, а жениться не торопились. Так их и прозвали «женихи». Идут женихи и вдруг видят, под шатучим мостиком сидит почтарь разулся, портянки на перилах сушит, а ноги мочит в воде. Студит ноги и приговаривает:
— Ох, ноженьки-ноженьки, надоели вам дороженьки… Плотик, что ли, связать, чужое добро по воде пускать. Напишу-ка я плакат, пускай плывут куда хотят… — И гладит пузатую кожаную сумку.
Подглядели его действо подвыпившие дружки, решили проучить. Подкрались и хвать за руки:
— Ты это чего задумал? А знаешь, что бывает за писем недостав?
— Эге, — отвечает, — не много ли тут застав? Нечего приставать, когда человек сел устав. Не видите, ноги лечу? А может, я и ходить-то к вам не хочу! По буграм да лесам, а ну вас к бесам!
А надо сказать, втемяшилось им недаром. Отцы этих лоботрясов в город ездили — докторов подкупать, ждали теперь документов, освобождающих их сынков от призыва. Парням не терпится в сумку почтовую заглянуть. А она на замочке.
— Парень-то ты говорок, да смотри, будет ли от того прок!
— Тоже мне стращалки, верещат, как немазаные прялки.
— Ну, ну, поговори еще! Мы не таких окорачивали!
— А вы не пугайте, а то вот завернусь на обратный маршрут. Маршрут у меня кольцевой, сделаю Жуковку начальной, а вашу деревню концевой. Жуковским письма к утру, а вам на третий день к вечеру — нос утру!
— Ой, не шуткуй, почтарь!
— А что вы мне сделаете?
— А вот сгребем да и доставим силком.
— Вы-то?
— Мы-то!
Он от них. Они за ним. Схватили и поволокли вместе с сумкой. Ребята здоровущие. По очереди на закорках и доставили до сельсовета. Знай наших! Усадили за стол — пусть при свидетелях все до одного письма раздаст.
Вот же было на селе смеху, когда обнаружилось, как они постарались на свои головы. В сумке у почтаря лежали для их отцов судебные повестки по поводу взяток. В тот же вечер смешливые сельские девчонки пустили про то прибаутку:
Наш почтарик-кольцевик Ходить пешью не привык. Вместо резвых жеребцов Объезжает женихов!Облетела смешная байка всю волость. Начальник почты и тот рассмеялся, сняв очки. Но предупредил:
— Будь поаккуратней, ты лицо официальное. А именно: почтальон. Государственный служащий!
— А я официально вам заявляю, ничего такого не было, просто ноги натер и попросил подвезти. Парни здоровые, хорошо доехали, они пешью, а я верхом.
Шутки шутками, а вскорости получилось и всерьез.
За проделку на него кулачье не обиделось — посмеялись отцы над своими недорослями и сказали:
— Вы почтаря не извольте трогать. Смотрите, сорвете доставку писем вас мужики по приговору общества выпорют на сходке при народе.
Бывало и такое — учили в иных деревнях озорных парней по-свойскому, несмотря на все права молодежи, данные революцией. Власть на местах: как народ распорядится, так и быть посему.
Прощали забавнику-почтарю многое. И то, что он с девчатами по укромным углам шепчется. И то, что мальчат-батрачат то на рыбалку уведет к кострам, то на какое-то гулеванье на всю ночь.
Обижаться на него начали недруги из-за доставки газет. Заметило кулачье, что стал он распространять по деревням «Правду», «Известия», а больше того — «Бедноту».
Раньше газеты только в сельсоветы попадали, иногда в комитеты бедноты. А теперь, глянешь, в той хате, в другой мужички из свежих газет самокрутки вертят.
Где берут, откуда? А это почтарь принес. По подписке. Распространял он газеты, как хотел.
Вот ночует в избе на полатях и слышит: дед с бабкой ругаются. Тычет бабка деду в глаза его несознательностью. Другие, мол, на сходках и про то и про се, а он все молчком. Голоснет, как все, а своего интереса не отстаивает. Если у них три сына на фронтах — один в конных, другой в пеших, третий матрос, — на сколько душ им надел должны дать? Не им ли первым должны хлеб пособлять казенной машиной жать? Да их за таких сыновей должны не в такой вот избе, а во дворце содержать.
Кряхтит старик:
— Газет не читаешь… Знаешь, как и без нас властям трудно.
Почтарь тут как тут:
— Правда ваша, папаша, много теряете, не читая газет. Желаете, вашу беду поправлю. Выпишу вам «Бедноту».
Дед, оказывается, не забыл еще, как обучился грамоте, хаживая в городе печи класть, и вот уже очки на лбу и при сбежавшихся соседях вычитывает новость за новостью, о всех мировых делах. У подписчика «Бедноты» на дому клуб не клуб, а изба-читальня полная.
Или вот зайдет на посиделки. Содержит избу для них молодая бабенка, муж где-то на фронтах. Девчата пряжу прядут, а ребята одно дело знают лезут обниматься.
А то займутся в карты играть на поцелуи. Чего глупость да безделье не выдумают!
Смотрит-смотрит на это почтарь.
— Эх, — говорит, — некультурно!
— А откуда нам взять культуры-то?
— А вот из моей волшебной сумки. Желаете, могу выписать по почте музыкальный инструмент и к нему самоучитель.
И действительно, выписывает: кому балалайку, кому гитару и ноты к ним и песенники. Слышь, уже звенит на посиделках красная песня «Провожала Ваню мать, провожала».
И вот не понравились кое-кому такие его подходы к действительности. Начинают на дорогах встречать его разные хмурые личности: ты, мол, почтарь, того — поостерегись на деревни газеты таскать, от них нам один вред. Особо от «Бедноты». Если еще хоть одну газетину в нашу Жуковку или там в Пеньки занесешь, споткнутся твои ноги на нашей дороге.
А он в ответ на такое воспрещение переходит с дороги на тропку и доставляет газеты окольным путем.
Летом — по межам, осенью — по жнивьям, где враги — по овражкам, где недруги — по кустам.
Думали, зима его окоротит. Ничего подобного — купил себе у старого лесника лыжи и пошел. Кулачье с обрезами его на дорогах стережет, а он по снегам напрямик жмет. Раз в Жуковку с горы, как на крыльях. Шасть в Пеньки из лесу, как тать. И никогда по старому следу. Каждый раз в любое знакомое село с необъезженной стороны вкатывается. Чтобы злыдни не подкараулили где-нибудь у сараев, у гумен.
Влетел в село и сразу в народ. Где мальчишки с горы катаются почтарь среди них.
— Дядек, дай на лыжах скатиться!
— Почтарек, а ну махни с нашей крыши — до трубы снегом занесло.
Почтарь и детей уважит. С крыши на потеху кувырнется. Через ручей перемахнет. Скатиться даст. И на улице у него все приятели.
Прошмыгнул в деревню — и сразу на свет, где посиделки.
— Здорово, почтарик — живые новости! Ну, садись, говори, что там еще на белом свете сделалось. Где какая революция? Где наши буржуев бьют?
Почитает из газет выдержки. Даст журнальчик — картинки полистать. Подарит новой песенкой — и здесь у него все друзья.
В глаза кулачью смеется — нельзя его при народе убить.
Одураченные им парни, где-то у гумен его караулившие, являются на посиделки злые, щеки красные, уши примороженные, а он им фитиль к носу:
— Где вы, кони мои вороные, запропастились, пришлось вместо вас запрягать в лыжи зайцев!
Хохот в избе — стены ломит. Бревна трещат. Весь авторитет у «женихов» вышибает. Никто их не может принять всерьез, а все только на смех.
Ну и, конечно, они в долгу не остались. Мельники, лавочники да лесники — люди богатые. То ли они наняли за хлеб да за сало каких-то чуждых людей, то ли из другой волости прислали им против него подмогу, только подкараулили все же почтальона. На шатучем мостике. Заприметили, что трудновато ему перескакивать напрямик через лесной, никогда не замерзающий ручей. Когда в село бежит, он еще резв, с разбегу его перескакивает. Тот бережок повыше, а этот пониже. А когда обратно идет, чаще всего скатывается по мосточку.
На этот раз силенки паренек совсем порастратил. Учили его девчата весь вечер танцы танцевать. И никак он не мог раньше полночи выбраться: то с одной, то с другой в обнимочку.
Девчонки к нему одна другой ласковей. Чем не женишок растет! Один, как дубок на горе, любой завидно такого сироту в дом взять.
Закружили его девичьи чары, опомнился только, когда луна взошла.
— Красавицы, мне же в Жуковку нужно. Имею срочную телеграмму. Плыть да быть!
И как ни уговаривали — скользь на лыжи и ушел.
Ни страсти про напасти, ни толки про волка — сумку на плечо и исчез, только снежок завихрился.
Скатился по овражку, хотел пойти напрямик, да вспомнил, что по пути еще два оврага. А ноги не идут, что-то заплетаются слегка. Сбиваются на танец. Усмехнулся он и решил: сверну на дорогу. Ночь глубока, мороз жесток. Никого нет.
Вышел на накатанный наст, следы полозьев, как зеркальные, блестят. Лыжи по ним сами катятся, только палками подправляйся. Вот здорово! Любо ему, не нужно и ноги переставлять.
Летит почтарик, еще девичьим теплом овеянный, и перед глазами его то одно милое лицо, то другое. Хороши девчонки здесь, ласковые. Так и хочется оглянуться — мысленно послать привет.
Забылся паренек, что не простой он почтальон, а особый. Ослабил бдительность, да и попал в беду.
Вкатился на шатучий мостик без острастки, встрепенулся, завидев, что дорога-то занята опрокинувшимся возом с сеном, да поздно. Так с разбегу лыжи в сено и занозил.
— Стой! Куда?
— Пусти, что за люди?
Видит, на мосту лошадь лежит на вывернутых оглоблях. За хвост и за гриву тянут ее какие-то незнакомые мужики.
— Чего смотришь, а ну, помоги, лешак!
Только взялся за гуж, чтобы рассупонить хомут, как его ударили чем-то тяжелым по затылку. Устоял, однако, на ногах парень, обернулся, а на голову ему свиту набросили. Под ноги подножку подставили. Уронили на снег и давай бить оглоблей.
Бьют, а сверху сеном притрушивают, чтоб ни крика его, ни стона не было слышно.
А когда затих, развернули, как дорогую куколку, и, подложив под ноги бастрык-бревно, которым сено утягивают, переехали санями, чтобы полозьями поломать в ногах кости.
Поломали и обе лыжи. И в таком виде на морозе бросили.
— Ну вот, ладно обделали парня, — сказал один, оглядев свою работу.
— Найдут, подумают, мол, сам убился, разогнался с горы шибко да об перила… — сказал другой.
— Да уж здорово. Жениться, может, еще и сумеет, а уж бегать почтарем никогда!
Закурили и отъехали, подобрав сено.
А почтарь все слушал. Хотелось ему крикнуть им вслед насмешку, да сдержался, еще вернутся, дубатолы, совсем убьют.
А его задача — остаться в живых. Нелегкая это задача, когда валяешься на дороге, как поломанная кукла. И ни тебе девичьего участия, ни тебе дружеской руки. Один дед-мороз в лесу по деревьям стучит, над теплым ручьем дышит. Пар от него инеем на глаза садится, замуровывает.
Заплачет парень, чтобы горячей слезой ресницы разлепить, потом засмеется.
— Эх ты, а еще жених… То-то вот, не нарушай комсомольской заповеди — не танцевать… Дотанцевался, брат!
Самого себя хочет посмешить.
А спасли его все-таки девчонки. Две сестренки из Жуковки приезжали в село за беленой пряжей, да задержались на посиделках. Затанцевались с ним.
А когда исчез почтарик, опомнились. Забоялись, что им от родной маменьки попадет, увидали, луна светит, сели в розвальни, хлестнули лошаденку — и пошел.
На шатучем мостике захрапел, попятился их конь. Глянули они, чего это он, — и обомлели…
Ну, словом, попал почтальон в земскую больницу, подивил докторов. Чуть очнется, переможет боль, кричит в шутку:
— Крепче, крепче латайте, чтобы в следующий раз никакие черти мне руки-ноги не повыдергивали.
А сейчас вокруг него целый клуб. Ребята из Пенькова, девчата из Жуковки. Батраки с хуторов. Кого-кого только нету! Куча школьников и даже учительницы.
— Почтарик! Почтарёк! Да за что это тебя? Да как? Хочешь, мы письма за тебя снесем. Газеты доставим.
Добровольцев хоть отбавляй.
Почтальон лежит и командует. Этим сюда, другим туда. Где подписку принять, кому посылку доставить с политброшюрами. Где вечер молодежи по-новому провести. И попробуй ослушайся, шалишь — он теперь начальство. Деревенские ячейки, которые он, между прочим, за время почтарства организовал, собрались на конференцию, избрали теперь волостной комитет, а его секретарем волкома.
— Ну вот, оно и к лучшему, — сказал он, посмеиваясь. — На свою голову кулаки перестарались! Выбили из меня оглоблей почтаря, переделали на секретаря. Не хотели знать меня с лучшей стороны, теперь узнают с худшей.
Одним словом, смеется неугомон!
— Весь побит, поранен, а смеется! — воскликнули мы.
— Ну да, и сейчас еще весь в лубках, в гипсе, сотворили из него доктора статуя.
— Жив-то будет?
— Скорей всего… «Была бы, говорит, середка цела, а краешки и приделать можно».
— Опять шутит? А ты не врешь, парень?
— Смеется, вот крест, не вру. — И паренек нарочито перекрестился на портрет Луначарского.
И тут нас как взорвало.
— Ура! — крикнули мы и стали паренька качать.
— Тише, уроните, за что, ребята?!
— Да как же, за такую весть мы тебя хоть до неба! Ты же нам про нашего дружка рассказал.
— А может, это и не он вовсе?
— Ну, как же не он, других таких не бывает, его повадки. Ура! Жив Тарасыч!
А заросший до самых глаз бородатый мужик-возчик, напросившийся ночевать, прекратив храп, приподнялся и сказал:
— Конечно, он городского обличья, вашенский. Об этом не сомневайтесь. Скажите вот только, где это у вас в городе из ребят таких неугомонов делают?
— А может, показать где — в депо, у верстаков, у станков, у вагранок, на горячем поду, на железном солнышке! — ответили наши говорки, дружки Тарасыча, как по обычаю, шуткой.
ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС
— Первый вальс! — провозгласил Ваня Глухов, выбежав на средину зала. И мы, как всегда, полюбовались революционной красотой нашего комсомольца. Черная кожаная куртка блестела. Красные галифе пламенели. Легкие хромовые сапоги первого танцора просили ходу. Маузер в деревянной коробке небрежно висел через плечо. Но все знали: сколь крепка у Вани нога, столь метка рука. Помощник начальника ЧОНа — вот он каков.
Гармонист, наш любимец Бычков, заслышав условный сигнал, тряхнул чубом, дал ногой первый такт, гармонь шумно вздохнула, и полились-полились звуки чудесного вальса «Дунайские волны».
Все барышни, стоявшие у стен, колыхнулись призывно. Голуби, дремавшие по карнизам пересыльного пункта, взметнулись вверх, в проломы потолка. Кавалеры ринулись вперед, как застоявшиеся кони.
И, конечно, вальс открыл Глухов.
Изогнувшись перед барышней, он изящно отставил левую ногу, показав во всем сиянии начищенный хромовый сапог с козырьком, и притопнул подкованным каблуком правой. И лучшая барышня — нарядная, как вишня в цвету, Вера-телефонистка склонилась в его объятия.
Воланы ее легкого платья, как дым, вились вокруг пламенеющих Ваниных галифе.
Ни одному кавалеру не отказывала Вера, так она любила танцы. Без всякого классового подхода растанцовывала падеспани, польки и краковяки с сынками купцов, царских чиновников и помещиков и прочих бывших, лишь бы приглашали. Они были мастера на самые сногсшибательные танцы, вроде окаянной мазурки, до которой мы, пролетарии, не доросли, хотя и тянулись. Вера предпочитала их кавалерство не задумываясь. Но первый и последний вальс были во власти комсомольского актива, который представлял Ваня Глухов.
Да уж и танцевал он вальсы как бог. Мало того, что во время кружения вдруг подхватывал барышню за талию и по воздуху оборачивал вокруг себя, он, по окончании танца, под мощные аккорды возносил ее над толпой к облакам пара и проносил, как тучку в небеси, до самых скамеек. Завидев его, мамаши, сидящие с шубами и валенками своих дочек, торопливо освобождали место, и он аккуратно усаживал Веру на нагретые скамьи. Грубы на вид руки молотобойца, но у Вани они особые. От деда перешло к нему мастерство — мог отковать не только коленчатый вал пудов на сто, но и самую мелкую бляшку для украшения конской сбруи. Не говоря уже о рыболовном крючке или мешковинной иголке.
— В твоих руках — как в железном корсете, — признавалась ему Вера, томно отдыхая после его пролетарских объятий, обмахивая китайским веером то свое нежное лицо, то его каменные скулы.
Что там нежная барышня, у нас долго плечи болели от дружеских Ваниных похлопываний.
Итак, вечер, как обычно, открыл Ваня. Пошел в первой паре, плавно, не заглушая топотом сапог музыки. За ним последовал я с Сонечкой Бакановой, менее четко, потому что в валенках. За мной Максим Шестеркин, в удивительных брюках клеш и в ботиночках из черного хрома. Приносил он их под мышкой, в коробочке, как драгоценность, топая на вечеринки зимой в отцовских подшитых валенках, а осенью — босиком.
Столяров с дочкой машиниста Женей, по прозвищу «Огонек», потом последовали другие пары, состоящие из нашего комсомольского актива и отборных барышень городка.
Их прежние кавалеры — разные бывшие и прочие интеллигенты — жались по стенам, включились в последнюю очередь, не решаясь оспаривать завоеванное нами первенство. Все знали: с комсомольцами лучше не связываться. Ведь нам оружие носить доверено, в то время как для прочих за незаконное хранение тюрьма, вплоть до расстрела. А были среди них разные люди. Вот Котя Катыхов, сын лесопромышленника, — тонкие усики, колючие глаза. Он бы живьем нас съел за то, что лесопильный завод у его папаши отобрали, да, видно, кишка тонка, не лезет на рожон, у стенки тушуется. Лихой танцор, бывший юнкер, а все-таки мы его забиваем. Пройдется в падекатре, блеснет в мазурке и исчезает как тень. В последнем вальсе даже и не участвует. Так же его дружки-приятели, наши враги: сын колбасника Васька Андреев, сын адвоката-эсера Заикин, сын торгаша Азовкин. И иже с ними. Мелькнут на танцах, покажутся и исчезнут, не в силах противостоять комсомольскому напору. Это нам льстит. И мы, рабочие ребята, нарочно отбиваем у них всех лучших танцорок, самых интеллигентных барышень.
Несемся в завихрениях вальса, выделываем ногами отчаянные па, скользим по настилу из подсолнечной шелухи, как по паркету, в обнимку с их сестрами, подругами детства, невестами. Наш верх, наша и музыка. И чуем, как любуются нами не только свои, сочувствующие, но и все прочие обыватели городка.
Дрожит здание пересыльного пункта от топота ног, сияет огнями, как единственное светлое пятно в нашем городке, притаившемся среди больших лесов, над заледеневшей рекою. А мимо, словно одобряя наше веселье, резво гудят, проносясь на восток и на запад, паровозы, ведомые нашими отцами.
И вдруг — происшествие. Врывается к нам в зал красноармеец. В буденовке, в ладной кавалерийской шинельке, с подвязанной рукой. И за плечами вещевой мешок. Только что с поезда свалился. Протирает смерзнувшиеся веки, разлепляет глаза, весь заиндевел, знать, на подножке ехал, и задает распорядителям вопрос:
— Дайте слово, товарищи! К порядку данного увеселения!
И здоровой рукой пытается дать гармонисту сигнал прекратить музыку.
Гул неодобрения ответил на такую бестактность. Но свобода слова у нас уважалась. Говори, если у тебя есть потребность.
— Товарищи молодежь! — воскликнул красноармеец, сорвав с себя шлем и комкая красную матерчатую звезду, нашитую поверх сукна. — Больно мне видеть, чем вы тут занимаетесь, когда Советская Россия вся в огненном кольце! Как это можно вертеться в плясках, когда фронт истекает кровью и белая гидра капитализма терзает нас со всех сторон! Больно мне видеть среди вас ребят, вполне способных носить оружие, а не барышень волочить!
— Заткнись, краснозвездный братишка! — остановил его Ваня Глухов. Пусть беляки рыдают и грустят, мы пляшем на похоронах старого мира и не забываем про нужды красного фронта, нет! Ты только взгляни на стол при входе. Какие на нем дары разложены!
На столе лежали груды подарочных кисетов, сшитых из бархатов, цветных сукон и вельветов, наполненные табаком. Заинтересовался боец, подошел и прочел такие вот лозунги, вышитые на них:
КУРИ, МИЛЫЙ, ДЫМ ПУСКАЙ, БЕЛЫМ СПУСКУ НЕ ДАВАЙ.Это вышила попова дочка, чтобы попасть на наш званый бал.
ЭХ, ТАБАК, ВЫРВИ ГЛАЗ. БЕЙ БЕЛЫХ ВСЕХ ЗАРАЗ!Это наказывала красным бойцам молодая купеческая вдова, ищущая забвения прошлого и новых радостей.
Все это объясняет ему Ваня.
— Даже из чуждой нам среды выколачиваем помощь фронту, вот как!
— Это, конечно, неплохо, такой кисет с табачком любому бойцу большая радость, — оттаивает наш принципиальный гость.
— Вот-вот, — поучает его Ваня, — мы тоже против танцулек, хотя в лесу живем, а не без понятия. Почитай, друг, что на плакатах пишем, — и указал на пригласительную афишу.
Вот она красуется, ярко нарисованная, как радуга:
Всем! Всем! Всем!
В субботу
в здании пересыльного пункта
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
с танцами до утра
Плата за вход: с барышни кисет, вышитый в подарок красноармейцам, с кавалера осьмушка махорки.
Докладчик из центра.
Гармонист — известный всем Бычков.
Кроме того, поперек здания были протянуты веревки, а на красной материи лозунги:
В ВИХРЕ ВАЛЬСА КРУЖИСЬ — С КОМСОМОЛОМ ДРУЖИСЬ.Или такой вот:
НОГАМ ВОЛЮ ДАВАЙ А ПРО ФРОНТ НЕ ЗАБЫВАЙ!И лозунги эти и афиши красноармейца не совсем убедили.
— Позвольте, но ведь есть директивное решение, комсомольское Цека против танцулек, — напомнил он.
— А как же, мы и есть первые борцы против танцулек! — закрыл ему рот Ваня. — Да, да, вначале и нас чуть не захлестнула эта стихия, когда мы самоустранились. Разбрелась вся молодежь по домам, домишкам, квартирам да комнаткам. Кругом вечеринки. Но, получив директиву, возглавили мы это дело. И вот вся молодежь собралась вместе. Есть где передовым повлиять на несознательных. Прежде даже наши пролетарские девушки кружились с разными там сынками лавочников, дело доходило и до церковных браков. А теперь мы не только своих девчат вернули, но и кое-кого пританцовываем.
Вон посмотри, кого это так крутит под звук гармоники наш слесаренок Акимка Столяров? Дочку доктора, видал? Да раньше на такую картину он только издалека мог смотреть. А теперь обнял, как лучшего друга, и под музыку пошел кружить… Кружить и дружить… Я лично и мечтать не мог бы о такой интеллигентке, как Вера. Посмотри, что за красавица! А теперь запросто — подойду, обниму и увлеку в наш круг… Так вот и влияем на женскую молодежь всего города. И еще как! Имей в виду, нигде так не восприимчивы девчата к новому, как в танце. И прямо скажу: тихий шепот доходит иной раз лучше, чем громкая речь!
— Мм-да, оно, пожалуй… Но ведь и интеллигенты могут не зевать, пригляделся к танцующим боец и, увидев Веру в паре с Котей Катыховым, кивнул в их сторону Ване.
— А, это ничего… Последний вальс мой. Конечно, бывает и в этом деле перекос. Не сразу прививается идейность. Танцуют девушки и просто так, для своего удовольствия, с кем попало. Тут еще нам работать и работать… Но уже хорошо, когда вся молодая интеллигенция танцует с нами, а не против нас!
Рассмеялся краснозвездный, а Ваня наш не зевал. Лишь только заслышал он польку-бабочку, как подхватил пухлую попову дочку Катеньку, а ее сестренку Лидочку подсунул товарищу.
Лидочка уложила его руку на свою седлистую талию и, обдавая жаром, как только что вынутый из печки сдобный пирог, увлекла в круг. И понесся наш краснозвездный братишка откалывать с ней в паре веселую пляску.
А наш озорник и насмешник Глухов, игриво проносясь мимо, подмигивал: «Не зевай». Привлечь на свою сторону попову дочку считалось у нас одной из форм антирелигиозной пропаганды.
Так продолжали бы мы свое занятие до утра, чтобы светлее было провожать барышень по темным улицам нашего городка, но вдруг тревога.
В зал вбежала прямо с дежурства телефонистка и, найдя Веру, что-то шепнула ей. Вера своему кавалеру — Максу Шестеркину, Макс — Акимке, Акимка — мне. И вот уже все мы знаем — в ночи появилась банда.
Тихо, тайно надо исчезнуть нам с танцев и сразу на сборный пункт. С бала на банду…
Без шума, по одному стали мы сматываться. А Ваня в такой раж вошел, что никак его выбить из круга не удается. Ему и так и сяк намекают, скачет себе, напевает с задором пышной поповне:
— Что танцуешь, Катенька?
— Польку, польку, папенька.
— С кем танцуешь, Катенька?
— С комсомольцем, батенька!
Ему уж и ножку подставляли и за ушастые галифе хватали. Никаких намеков не признает. Думает, обычные шутки. Пришлось попросить гармониста прекратить на минутку трель, чтобы осадить танцора.
— В чем дело, где заело? — спрашивает он, утирая пот рукавом.
Заметив любопытствующие взгляды, мы сделали ему знак помолчать и потопали вниз по лестнице.
Сматываясь вслед за нами, Ваня отдал приказ Бычкову продолжать вечер, как обычно. И по дороге успел шепнуть Вере:
— Постараемся управиться быстро… последний вальс за мной!
— Я жду вас, как сна голубого, — пропела вслед ему барышня голосом приятным, как музыка.
— Куда вы, братики, торопитесь? — поинтересовался красноармеец. И, узнав, что на банду, пожелал присоединиться.
И вот мы на сборном. Малая кучка. Одна молодежь. Основные силы ЧОНа под командованием Климакова устремились курьерским эшелоном на Пичкиряево — гасить восстание кулаков.
И этим воспользовалась банда. Ну ясно, та самая неуловимая, которую никак не может поймать даже сам Климаков. Выскочила из лесу, разгромила контору лесосплава и, захватив казенный спирт, приготовленный для расчета с плотовщиками, гуляет в избушке сторожа.
Гуляет, беды не зная.
— Вовремя получили сигнальчик, сейчас мы их и прищучим, — говорит Ваня, рассматривая карту уезда, — сюда вот прикажем выехать вялсинским комсомольцам, а сюда вот батьковским, бандам нужно отрезать беговые дороги. Из-за реки на них двинем охрану лесозавода. А мы ударим напрямик, через переправу…
И поясняет краснозвездному:
— Связь на войне — первое дело, сам знаешь. Но у нас ведь война особая. Вся связь у кого? В руках телефонных барышень. Известно, у них в ушах все новости уезда. А на устах замки. Пойди посторонний узнай, что подружка подружке за дежурство расскажет… Большинство ведь не нашего поля ягодки — дочки попов, монопольщиков, сельских лавочников… интеллигентки! А ты говоришь, танцевать не надо. Ищем ключи к девичьим сердцам, братишка. И, как видишь, находим. Успех нынешней операции чем подготовлен? Вальсами!
И Ваня самодовольно рассмеялся, намекнув на успех у Веры. Недаром, значит, танцевал, недаром провожал, недаром шептал про светлое будущее, склоняя на нашу сторону. И вот телефонная барышня сообщила ценный секрет.
…Мчимся на резвых конях, лежа на розвальнях-санях вповалку. Щелкаем затворами, проверяя оружие. Звезды над нами в черном весеннем небе тревожно мигают. Невидимые гуси крыльями шумят. Повернули на юг перелетные стаи, испугавшись крепкого весеннего заморозка, летят митингуя. И кажется нам, будто крылатые трубачи играют нам с неба тревогу.
Ветер вдруг подымается, ломая корку льда на залитых полой водой озерах. Уши режет стеклянный звон. В лицо летит острый ледок из-под копыт. Щеки колет ночной заморозок. Ребят пробирает дрожь.
— Собачья жизнь, — говорит, поеживаясь в своей кожаной курточке, Ванька, — бандитов у нас — как блох. Там ужалят, здесь куснут, только успевай почесываться.
Лежим мы в санях вповалку на свежем сене. Красноармеец жует былинку и сквозь зубы ему:
— А вы их к ногтю!
— Не трудно блоху давить, да хитро ее ловить. Это вам хорошо на фронте: вот тебе наши, вон они белые. Сошлись две силы в чистом поле и давай — кто кого! А у нас вся война — «кто кого обманет». Исподтишка. Нападут, набедят, скроются. Там Совет вырежут, здесь кооператив разгромят, нападут на заготовителей, убьют активистов. Не дают установиться новой жизни, — жалуется Ваня, — лишают народ радости, не дают нам, пролетариям, как следует вкусить…
— Плодов революции, — договаривает краснозвездный. — Это все буржуи на том стоят. Известно. Потому и напали со всех сторон.
— Вот так-то, брат, — вздыхает Ваня, — нам бы жизнью наслаждаться в тепле, под музыку… А тут в темную ночь к лешему на рога трусись.
Но вздыхает он притворно. Им уже овладел другой азарт, не терпится захватить банду, которую сам Климаков поймать не может. Разгромим, отличимся, знай комсомольцев! Климаков, уезжая, наказывал оберегать город, присматривать за ушаковским лесозаводом. Красному директору завода враги наши давно грозят расправой…
Но в городе тихо. Танцует молодежь. Да и лесопильный завод в порядке. Знать, банда побоялась с его охраной связываться и напала на сплоточный пункт, расположенный в лесу, далеко от завода. Ваня приказал заводским чоновцам снять охрану завода и прижать банду с тыла.
Мчимся по темным весенним дорогам на облаву.
Пусто вокруг. Холодно. Сталь винтовок руки обжигает. Лошади храпят, проваливаются в зажоры, разбивая копытами тонкий и острый, как стекло, ледок.
Неуютно нам. Жмемся друг к другу в санях и любуемся нашим исполкомовским кучером: а он в старинной ямщицкой шубе восседает, как бог Саваоф, на облучке, воздев руки и высоко держа вожжи. Богатырь старик. Борода белая, шире груди, нос красный, как морковь. Ему все нипочем…
А мы заледенели, закоченели, пока до реки доехали. Вот оно и плотбище[2], рукой подать. И видно, как среди штабелей бревен огонек в сторожке теплится, мигает. Близко, а не прыгнешь. Перед нами река Цна-голубка. Летом мелка, а весной глубока.
Накануне с юга большая вода пришла, подняла лед, образовались закраины. Остановились. Как переправиться? Настил бы из бревен положить, да они грудятся на том берегу.
Бросились наши ребята, поискали, нет на луговой стороне ни одного бревна, ни подходящего дерева. Как через закраину переправиться?
Замерзли. Зуб на зуб не попадает. Рядом — вон она, теплая изба. Вот она, банда, бери ее… А тут такое проклятье. Не очень широкая полоса темной воды, чуть подернутая ледком, а не перепрыгнешь.
— Впору плыть, — почесал кнутовищем под шапкой наш кучер Савоськин.
— А чего ж, — усмехнулся Ваня Глухов, — тебе не привыкать, каждый год на крещенье в проруби купаешься, народ дивишь.
— А ну, распрягай коней, связывай сани оглоблями, — скомандовал старик, — сейчас наплавной мост сделаем!
Быстро исполнили мы команду дрожащими руками. Зябко. Ветер на берегу так и пронизывает. Вот связали мы из саней длинный поезд и, опустив его в воду, продвинули поперек закраины до коренного льда так, что оглобли передних саней легли на кромку.
— А ну, кто у вас лучший танцор, пробежись петушком по жердочкам! погладив бороду, пошутил Савоськин.
Пробежал Акимка — как припустился с разбегу, так и перескочил на лед. Смеется, пережив страх, и быстро хватается за оглобли саней. Придерживает, и мы один за другим перебегаем, как в танце. Затем молча вытаскиваем за собой наш санный поезд, и катим через лед до закраины правого берега, и, снова устроив наплавной мост, перебегаем по одному на тот берег и рысью бежим на огонек сторожки.
— Тише! Надо с разведкой! Смотри, не было бы засады, — осаживает нас умелый военный — красноармеец.
Ну, где тут! Мы до того замерзли, что не боялись никаких засад. Скорей бы хоть в драке отогреться.
Едва поспевает за нами Ваня Глухов с маузером в руке.
— Тсс! — шипит он, как рассерженный гусь. — Окружай, не все на крыльцо, давай вокруг избушки. Хоронись за бревна!
Бревен вокруг — горы. И мы по ним, как козы, скачем. Сапоги обледенели. Оскальзываемся. Кто кубарем, кто ползком. Вот она, сторожка. Вся такая уютная, тепленькая, окошки светятся, и из трубы дымок идет. И приглушенная песня доносится, то утихая, то усиливаясь. Пьют и поют бандиты. И, видать, давно: кони, привязанные вокруг сторожки, поели весь овес и мотают пустыми торбами.
— Ну, — сказал Ваня, убедившись, что сторожка окружена и все окна под прицелом, — теперь кто-нибудь откройте дверь, я крикну: «Сдавайся».
Открывать такие двери — это я умел. Тут главное быстро рвануть на себя и, держась за скобу, присесть, тогда при стрельбе не заденут. Ребята изготовились. Ваня прижался к бревенчатой стене сторожки.
Я рванул дверь что есть силы и, держась за скобу, присел на крыльцо.
В лицо мне хлынули клубы теплого пара. Гирьки, висевшие на веревках вместо пружины, ударили по ногам.
— Руки вверх, бандиты! — крикнул Ваня.
В сторожке сразу погас свет, и все стихло. И вдруг в ответ ему выстрел. Огненный вихрь сорвал с меня шапку.
— За мной! — крикнул Ваня и бросился в дверь рыбкой. У него был прием бросаться под ноги.
Красноармеец не успел последовать за ним, как дверь захлопнулась с такой силой, что у меня чуть рука не сломалась. Не успев выпустить скобы, я так стукнулся лбом о притвор, что на минуту потерял сознание. Очнулся от стрельбы.
Ребята с криком «ура» метко били по окнам, только стекла брызгами летели во все стороны. Бандиты отстреливались редко, зато бухали громко, как из бочки.
Дело затягивалось. А мороз крепчал.
— Я сейчас эту музыку прикончу, — сказал краснозвездный и вытащил из кармана шинели береженную для своей обороны гранату-лимонку.
— Стой! — удержал я его руку. — Там Ваня!
— И верно, — поежился боец и оглянулся, заслышав какой-то шорох: к сторожке приближался старик Савоськин, прижав к животу пачку прессованного сена, как щит.
— Кончай стрельбу! — гаркнул он зычно, по-ямщицки. — Это я, Савоськин!
И пальба сразу прекратилась. Стало так тихо, что мы услышали, как в сторожке трещали дрова в печке.
— Выходите по одному, сейчас я бандитов вязать буду! — И старик потряс вожжами, бросив на землю сено.
— Давай сюда, одного держу! — раздался голос Вани глухо, как из подземелья.
Мы бросились в дверь, иные в окна и попадали, споткнувшись на тела бандитов, сплошь наваленные на полу. Красноармеец засветил карманный фонарик, и глазам нашим представилось ужасное зрелище: перевернутый стол, скамейки, табуретки, а под ними шубы, тулупы.
И вдруг из-под этого хлама вылезает наш Ваня, простоволосый, с лицом, залепленным чем-то белым, ужасным, как у воскреснувшего Лазаря на лубочной картинке страшного суда. И в объятиях у него тоже кто-то живой. «Все-таки уцелел один бандит от нашего расстрела», — подумал я.
А бандит вдруг как заорет бабьим голосом:
— Спасайте, ой, спасайте, миленькие мои!
Мы даже отшатнулись. А Савоськин опустил руки с веревками и говорит:
— Тьфу! Да это, никак, ты, Степанида-ряба?!
— Я, а кто же, — отозвалась рябая баба, — да хватайте вы его, миленькие, задушит он меня, чумовой. Чашку щей на него вылила горячих и то не остыл! — И она оттолкнула Ваню.
Чья-то рука вывернула фитиль уцелевшей под потолком лампы. И на яркий свет с полу, как по волшебству, стали подниматься ожившие тела, кряхтя и охая.
— Дядя Савоськин! Выручил! Благодетель ты наш! — крестясь на бороду могучего старика, из-за печки вылез сторож, сжимая в левой руке ствол берданки.
— Так это ты, Егор, так громко бухал? — осклабился кучер.
— А как же, я справно оборону держал. Из доверенного мне пролетарской властью оружия отражал налет…
— Он! Он герой! Ох, палил, дуй его горой! — наперебой закричали поднявшиеся с полу мужики, образуя необыкновенный хор.
Из толпы вдруг выделился старичок, шуба на нем дымилась, облитая кипятком из самовара. Перекрывая хор, он запел звонким тенорком:
— А то ведь беда. Сидим, заправили в самовар спиртик. Горяченьким его пьем… Песни поем, горя не знаем. А они, видать, проведали, что начальством выдан нам полный расчет, ввиду окончания сплотки плотов. И у нас, значит, в кошелях и мануфактурка и прочее… Подкрались, вихорные, отворили дверь да как гаркнут: «Сдавайтесь, мы бандиты…» Баба моя, как несла щи из печки, так и застыла столбом, а этот вот на нее тигром! указал сторож на Ваню.
— Ой, свяжите его, миленькие! — взвизгнула рябая. — Ишь, леший, давно в лесу женского обличья не видал, опять на меня глазищи пялит!
Да, на нее смотрел Ваня, а видел другую. Видел ту, что танцует сейчас мазурку с чуждым элементом и смеется над комсомольцами, воображая, что получилось из-за ее капризной проделки.
— Нужна ты ему была, — засмеялся в бороду Савоськин, — кабы вы огонь не увернули. Всему вина — темнота!
— А не приверни я огонь, так тут бы нам всем и конец, — проверещал старичок. — Нет, браток, мы хотя и темнота, а насчет бандитизма этого просвещены. Прием знаем. Как только какая стрельба-заварушка, нам, мирным мужикам, роля одна — гаси огонь, ложись на пол. Авось пронесет!
— Пронесло! — крикнул сторож, завидев простреленный самовар. — Одному пузану досталось!
— Ай, батюшки, питье-то наше течет! — Бойкий старичок, закрыв две дырки ладонью, приник к третьей губами.
И тут раздался смех. И долго не умолкал. И не то что мужики-плотовщики, а лошади у коновязи и те ржали.
Немало подивились этому происшествию и ребята-комсомольцы, подоспевшие из сельских ячеек и с лесозавода.
— Ну случай! Вот потеха! — хлопал себя по ляжкам сторож. — Не узнай я по голосу дядю Савоськина, мы бы, наверное, до света друг в дружку палили!
— Мы вас за бандитов приняли!
— А мы вас.
— Эх, братцы, — сказал красноармеец, — вот так-то нас провокация и путает, как бес православных. Антанта нам гадит… Точно. Уж я-то проделки мировой буржуазии знаю!
— Это вестимо, — подтвердил бойкий старичок, облизывая обожженные спиртом губы, — как же им нас не стравливать, — была вот эта богатства, лес весь этот, и плотбище, и завод лесопильный катыховский, а теперь обчий, значит. Вот я этот лес сплотил, на завод доставил, а приеду, мне с завода тесу на крышу, пож-жалте! Мы, значит, вам, вы, значит, рабочие, нам. А Катыхову чего? Фига… Так что, ребята, вставляй побитые окошки… Латай самовар! А серчать нечего.
— Чего там, давай за один стол. У нас тут кой-чего в кошелях еще осталось!
Но мы за восстановленный стол не сели — торопились обратно. К последнему вальсу. Только попросили у сторожа пару тулупов из казенного имущества. Накрылись ими, а то сильно прозябли, и всю дорогу шептались и фыркали.
Как вспомним какую-нибудь подробность нашего побоища с плотовщиками, так уткнемся в шерсть тулупа и фыркаем. Громко смеяться не могли, не хотелось обижать Ваню, попавшего впросак.
Сдавалось нам, что всю эту чепуху подстроили интеллигентные девчонки, отослав нас подальше, чтобы всласть натанцеваться. А кроме того, желали осмеять комсомольцев, гордившихся боями-походами против бандитов.
Главный герой происшествия сидел молча, привалившись к могучей спине Савоськина, и всю дорогу о чем-то думал, ни с кем не делясь.
Ехали мы теперь торной дорогой, проложенной от плотбища к лесозаводу. Застоявшиеся кони бежали резво. Вскоре показались трубы, цеха лесопилки, а за ними и огни города. «Ого, мы, кажется, к последнему вальсу поспеем». Я толкнул в бок красноармейца. Ваня встрепенулся, завидев завод, тихо, мирно стоявший на месте.
Значит, ничего-то с ним не случилось, пока мы на часок-другой сняли охрану.
И вдруг на повороте, где нам с заводскими ребятами нужно прощаться, новое происшествие. Девчонка. В мамкиной теплой шали и босая.
— Дяденьки! — закричала она, стуча озябшими ногами. — Дяденьки миленькие, мамоньку убивают…
— Стоп! — осадил Савоськин коней. — Да ведь это директорской стряпухи сиротка!
Подхватив девчонку, он развернул весь наш обоз к директорскому особняку.
Заезжаем во двор — тихо, пусто, ворота открыты, как, при покойнике. И сени не заперты…
Выскочили мы из саней, не сговариваясь, и сразу в дом. Видим, двери в комнаты приоткрыты.
— Эй, хозяева! — крикнул Ваня, не решаясь войти без стука.
Молчание. И вдруг кто-то застонал.
— Стой, не напороться бы на засаду! — сказал красноармеец и засветил свой фонарик.
Мы попятились: к нам ползла охотничья собака, волоча перебитые ноги. На глазах ее были слезы.
Сердце у нас заныло, почуяв беду. Раскрыв пошире дверь дулом маузера, Ваня скомандовал:
— За мной!
Свет фонарика выхватывал страшные картины. Инженер со связанными руками стоял на коленях. Рядом ломик-фомка весь в крови. Дочка в крови с размозженной головой и рядом — утюг. Жена его на полу в одной рубашке, с подсвечником в руке. Серьги блеснули в ушах. Перстни на пальцах.
Старушка кухарка была убита на кухне тяжелым колуном.
Мы обходили дом тихо, безмолвно. Собака ползала за нами, скуля.
— Да пристрелите вы ее, мочи нет! — попросил Ваня, прижимая к груди маузер. Лицо его исказилось нестерпимой болью.
Никто не поднял оружия на несчастную собаку. Мы стояли потупив глаза, склонив головы, как виноватые. Не уберегли! Давно ведь знали, что директору грозили наши враги смертью, если будет он и впредь честно работать на Советскую власть. Предупреждал нас старший товарищ Климаков, чтобы мы за заводом присматривали. А нас вон куда понесло! Пугать пьяных плотовщиков на плотбище…
Обмануты. Опозорены. Жестокий стыд перед убитыми терзал нас.
— Политическая месть! — сказал красноармеец, гася фонарик. — Никаких следов грабежа.
— Вон и сапоги охотничьи, — указал Акимка, из худых ботинок которого текла вода, — вон и охотничье ружье на стене…
— Харчи все целы! — пробасил Савоськин, обследовавший кладовку. Окорока висят, гуси… Только вот спирту не вижу. У директора в кабинете всегда стоял бидончик. Берег пуще золота…
— Наверное, рассчитался за сплотку плотов этим спиртом.
— Похоже, — согласился Савоськин.
Так мы тянули время, не зная, что делать. После каждого слова наступало тяжкое молчание.
— Ты их не запомнила? Может, угадаешь, — спрашивал красноармеец девчурку, — какие они были?
— Страшные… — плакала девчонка.
— А все-таки я их найду, — скрипнул зубами Ваня, — вот святая истина, найду! — И он перекрестился маузером, крепко стукая себя по лбу. — По коням! — скомандовал он и выбежал на крыльцо.
Мы попрыгали в сани. Замешкался лишь Савоськин. Переваливаясь, спустился с крыльца. В руке он держал надкусанный соленый огурец.
— Добрые огурчики директорская Марья готовила, с чесночком, с хренком, с перчиком, со смородиновым листочком… Царствие ей небесное…
— Да ты что, дед, в такую минуту огурцы вдруг… — сказал красноармеец возмущенно.
— Вот то-то и оно — что за бандиты здесь были: злато-серебро не тронуто, а огурчики початы…
Савоськин натянул вожжи, и кони заплясали…
Оставив на месте преступления засаду, мы помчались в город.
— Давай! Давай! — поторапливал Ваня Савоськина.
Кони и без того рвались к дому. Вот переезд через железнодорожное полотно. Вот депо встречает нас вздохами паровозов. А вот и здание пересыльного пункта. В окнах свет и тени.
— Танцуют, вот черти! — восхитился красноармеец. — Мы пол-уезда успели обскакать… а тут по-прежнему гармошка пилит, ноги шаркают!
— Стой! — приказал Ваня, и Савоськин осадил перед освещенным подъездом. Возле парадного толпились барышни, затанцевавшиеся до упаду. Кавалеры давали им глотнуть снежку.
— За мной, ребята, последний вальс наш! — И мы побежали за Ваней.
Савоськин привязал коней у столбов с объявлениями и газетами и направился в кочегарку греться. Там у сторожа-истопника Глебыча всегда можно было достать стакан самогону и соленый огурец.
К нему в «преисподнюю» частенько забегали «погреться» все незадачливые кавалеры — катыховы, азовкины, заикины, злобствующая на нас шушера. Пока мы танцевали с лучшими барышнями города, они утешались самогоном. Набирались нахальства, чтобы перебить у нас последний вальс. Но дело кончалось тем, что они так и оставались в кочегарке, пели пьяные песни, а мы провожали лучших девчат города по домам…
Но на сей раз кавалеры из бывших были трезвыми. Влетев в зал, мы увидели наших барышень в их объятиях, услышали бравурные звуки краковяка.
Прищелкивая каблуками, по юнкерской привычке, в паре с Верой мчался черномазый Катыхов.
Подхватив Любочку, грузно топал Васька Андреев. Над пышной Катенькой склонял свою тонкую фигуру Заикин-младший. Шариком подпрыгивал толстенький Азовкин.
У потолка стояли облака пара. Со стен текло — словно камень вспотел, глядя на танцующих.
Золотой чуб гармониста потемнел и свернулся мочалкой, как в бане. Но пальцы его бегали по ладам, и нога неустанно отбивала такт.
Мы ворвались в двери, как ветер. Бычков сразу увидел нас, поднял голову, повертел осоловелыми глазами и, разглядев Ванину кожаную куртку, сжал мехи гармонии, и музыка прекратилась.
Все танцующие застыли, опустив руки.
— Последний вальс! — провозгласил Бычков.
Заслышав эти волшебные слова, вся кавалерская нечисть шарахнулась прочь от наших барышень и понеслась черными тенями в «преисподнюю». И в зале снова царили мы, пролетарские парни, с обветренными лицами, в худых сапогах, в одежде непраздничной, порванной в ночных тревогах и стычках.
Народ глядел на нас с каким-то смутным ожиданием. Барышни охорашивались, одергивая нарядные платья.
— «На сопках Маньчжурии», — хрипло объявил Бычков и, склонив голову, растянул мехи.
И под рыдающие звуки вальса двинулись мы в раздавшийся круг, оставив винтовки нетанцующим ребятам, как оруженосцам.
Властной рукой обнял Ваня тонкую талию Веры. Я тоже не постеснялся наложить лапу на белое платье моей барышни, печатая на нем пятерню. Последовал за нами и краснозвездный братишка, обняв пышную попову дочку. И вот уж несемся мы плавно и быстро, не чуя под собой ног, ознобленных в дороге.
Молча танцуем мы с Сонечкой, близко держась Вани и Веры. Румянец пробивается сквозь ее смуглые щеки. Желваки играют на его широких скулах. И доносятся до меня обрывки разговора.
— Значит, ликвидировали еще одну банду? — играя взглядом, спрашивает она.
— С корнем, — отвечает он, — начисто!
— Ты мной доволен?
— Еще бы!
Мелькают красные галифе, выпачканные мелом, постукивают каблуки сапог, вымазанных глиной, вьются вокруг них белые воланы платья.
— Ваня, мне душно, не жми так…
— Очень ты гибкая, как змея, боюсь, выскользнешь. — На скулах его пробегают желваки. На щеках ее вспыхивает румянец.
— Значит, Наденька — Симочке, Симочка — Любочке, Любочка тебе на ушко, а ты нам?
— Ну конечно… И вы помчались! Я на крыльцо выбегала… Платочком махала: «Вперед, герои»… Ты не заметил?
— Заметил, да поздно!
— Ой, Ваня, мне тесно, я как в железном корсете!
— А ты не вертись, подчиняйся одной воле. Иначе добра не будет!
Бледность покрывает Верины щеки. Краска проступает сквозь темные Ванины скулы.
— От тебя пахнет кровью и порохом… Я не могу больше, Ваня! Мне душно…
— Танцуй, наслаждайся последним вальсом!
Голова ее клонится к нему на плечо, ноги не поспевают за тактом вальса.
— Мне плохо, мне дурно…
— А в испорченный телефон ты сыграла недурно!
Она откидывается, отталкивая его ослабевшими руками. Но где там! Не оставляет барышню Ваня. Заслышав аккорды, подхватывает он Веру, кладет на грудь и, кружась, выносит из зала на лестницу. Прорывая круг любопытствующих, грохочет вниз по ступеням и, распахнув ногой дверь на улицу, бросается в сани.
— В Чека! — приказывает он кратко Савоськину и глушит девичий крик тулупом.
И больше никто, никогда не видел в нашем городе ни Вани, ни Веры. Говорили потом, что кто-то заметил его на бронепоезде «Память Азина», громившем белополяков. На то и похоже, много таких вот, в чем-либо оплошавших товарищей, просились за искуплением вины на фронт.
А что касается убийц красного директора, их задержали мы тут же, в кочегарке у Глебыча, где пили они спирт и закусывали солеными огурцами. По огурчику Марьиного засола и определил их мудрый Савоськин, забежавший в «преисподнюю» погреться.
Помню его страшный крик: «Вяжи их, братцы!» Помню отчаянную возню. Помню, как разрядил всю обойму в грудь краснозвездному братишке Котик Катыхов, и его искаженные злой усмешкой тонкие усики. Не забуду, как связанный Заикин, сын адвоката, кричал дико и непонятно, голосом выпи: «Алиби! Алиби!»
Ну, один всего не расскажешь, пусть подключатся другие, а я послушаю…
ДЕЛО СЕРАФИМА ЖЕРЕБЦОВА
В уком явился интересный тип. Кривой на правый глаз и хромой на левую ногу. Одет в потертые галифе и кожаную куртку, лопнувшую по швам. Лицо его то и дело подергивалось, и свежие шрамы на нем то краснели, то бледнели.
«Герой, — подумал я, — совсем на вид молод, а успел побывать на фронтах — экие отличия нахватал на гражданской войне!»
Он зашел к Потапычу и, закрыв дверь, накричал на нашего секретаря укома, как начальник какой-нибудь или как припадочный инвалид.
Он требовал немедленного заседания, а Потапыч обещал собрать укомовцев только завтра.
Помирились на том, что парень переждет одну ночку в укоме.
— Накорми и обогрей, — сказал мне Потапыч и добавил с усмешкой: — По персональному делу явился, орел!
Как только окончились занятия в укоме, я затопил камин, сдвинул столы поближе к теплу и указал герою самый лучший, для спанья покрытый сукном стол секретаря. Он улегся, положив под голову бобриковую кепку, а я пошел добывать картошку.
Зашел к одному дружку, к другому, к третьему и у каждого выманил по нескольку штук, и все под неизвестного героя. Обещал его рассказ про гражданскую войну. Приходите, мол, — будет что покушать, будет что и послушать. Покормим его печеной картошкой, а он нам такое порасскажет…
Заинтриговал ребят. Набрал картошки.
Когда вернулся, в печке уже нагорели угли. Загреб, положил картошку. Вскоре дух от нее пошел сильно приятный для комсомольского нутра. А герой лежит, закрыв глаза, и носом не ведет.
Что-то очень угрюм, неразговорчив. Удастся ли расшевелить его на что-нибудь интересное? А вдруг пустой номер? Вот сыграет он со мной шутку. Что я ребятам скажу? Зачем картошку собирал? У железнодорожных дружков не было — так они пообещались воблы притащить, прямо из депо явиться, после обтирки паровозов.
Эх, как хорошо поедать горячую картошечку, пожевывать воблочку да слушать-слушать про дела и случаи комсомольские…
Погляжу в сторону неизвестного. Молчит. Ладно, меня не замечает почему не обращает внимания на печеную картошку?
И только я это подумал — он вдруг, не открывая глаз, буркнул:
— Смотри, пригорит!
Ага, отозвался все-таки. Настроение у меня после этой реплики сразу улучшилось. Есть надежда — заговорит.
Постепенно, пока упекалась картошка, подходили наши ребята, всегдашние посетители вечеров на укомовских столах. Алешка Семечкин пришел и поставил на подоконник пузырек постного масла. Тарасыч явился с горбушкой хлеба. У Быляги оказалась в спичечном коробке соль.
Выгреб я картошку, высыпал на газету. Хороша, кругла, бока поджаристы. С хрустом будет. Все любуемся, а неизвестный герой даже не повернул носа.
Стал Алешка хлеб разламывать, на него тоже не глядя, а тот вдруг новую реплику:
— Зачем крошить, возьми вот нож!
Когда человек дает нож для хлеба — значит, просится в компанию.
— Давай с нами, — кивнул Тарасыч и стал делить картошку — выходило по две на брата, если учесть железнодорожников.
— Гм, — отозвался герой, — отведать, что ли, еще раз кушанья индейского…
— А ты что, был в Индии? — спросил Быляга, гордившийся своими путешествиями.
Вместо ответа герой быстро выбрал самую крупную картошину и засунул в рот, не посолив, не помаслив, не разломив.
От удивления мы перестали есть, дожидаясь, пока незнакомец прожует картошку, которую он заправил в рот целиком. Она оказалась чересчур горяча и велика, и он валял ее во рту, не в силах ни проглотить, ни выплюнуть. И мы не могли ничем помочь, а только морщились, смотря на его страшные гримасы.
Наконец проглотил. Все облегченно вздохнули.
— Речь идет об американских индейцах, — сказал гость Быляге, — вот у них-то и похитил Колумб то, что оказалось дороже золота.
И, указав жестом на аккуратную, кругленькую и румяную картофелину поменьше, парень тут же заправил и ее в рот. И заставил нас снова ждать, пока он корчит гримасы.
— Так что, ты был в Америке? — все еще не тронув своей картошки, спросил снова Быляга. — В Южной?
Парень отрицательно покачал головой.
— В Северной?
Парень мотнул утвердительно.
Мы переглянулись. Картошка застыла у каждого в руке.
— Да, — сказал, проглотив картофелину, наш удивительный гость, картошка — продукт Северной Америки, в Южной ей жарко, не растет. Оттуда, насколько я помню, вывезли маис, иначе кукурузу… Это тоже штука, я вам доложу! Если ее сварить в период молочно-восковой спелости в соленой воде… Да натереть солью, а потом маслом, вот так… — И, ухватив третью картошку, посыпал солью, полил постным маслом и снова отправил в свой рот, огнеупорный наверно…
Переждали мы и эту операцию. Когда он гримасничал, думали, обжегся, вся шкура на нёбе слезет, а ему хоть бы что — управился и с этой…
— А ведь были времена, — сказал он, разглядывая и подсчитывая глазами, сколько еще на нашу компанию осталось картофелин, — когда каждая картофелина ценилась на вес золота. Царица Екатерина, как известно, за мерку картошки платила французскому королю мерку золота… А мы берем сейчас ее запросто и в рот!
И он, подмигнув нам нахально зрячим глазом, заправил в рот четвертую, в то время, как мы не съели и по одной.
— А при дворе испанских королей, я вам доложу, — картофелю совсем цены не знали… Сажали на клумбах и нюхали только цветочки…
Когда при этих словах он взял пятую и стал ее обнюхивать широкими ноздрями, Быляга не выдержал:
— Ну, хватит разыгрывать! — И, выкатив из его ладони картошку, добавил: — Я сам в Ростове-городе бывал и Одессу-маму видывал… И солдатский суп из топора варивал, и тоже баснями кормился.
Разделив оставшиеся картошки поровну, я быстро уладил этот инцидент, пожалев, что не сделал этого с самого начала. Так бы нам пришлось по три штуки, а то получилось на нашего брата только по паре.
Некоторое время мы молча дули на раскаленные картофелины, жевали, сопели, ели. Поставив в печь наш артельный закопченный чайник, я вспомнил, по какой причине попал на наш вечер этот парень с огнеупорным ртом, и, усмехнувшись, спросил:
— Ты бы не про индейцев, не про испанских королей, а лучше бы про свое конфликтное дело рассказал. Откуда сам и почему тебя на бюро вызвали?
— Я из Заболотья.
— Из Заболотья?! — воскликнули ребята. — Это там, где какая-то страшная история с комсомольской плотиной?
— Именно. На плотине-то я и пострадал, — медленно сказал парень и, вынув из бокового кармана здоровенную деревянную трубку, стал ее закуривать.
— Постой, погоди, слышь, ребята еще идут, — остановил его заботливый о товариществе Алешка.
Ввалились наши «чумазые» железнодорожники. В руках у каждого по вобле. Эге, значит, всем по половинке достанется.
Прокричав «ура», сплясав в паре с каждым по этому поводу, мы снова расселись по столам и, ожидая закипания чайника, стали слушать рассказ героя.
— Вся Заболотская трагедия произошла на почве моей страстной, нестерпимой любви… — начал парень и затянулся трубкой.
Потомив нас паузой, он выпустил дым, едучий, как из паровозной трубы.
— Мда, из-за моей неукротимой любви к мировой революции! — Он вздохнул, развеял дым рукавом и, грустно поникнув рыжим чубом, добавил: Настоящая любовь всегда непонятна и всегда требует жертв.
Мы сидели затаив дыхание, не в силах связать происшествие на станции Заболотье с мировой революцией. Даже Быляга и тот рот разинул.
— Заболотье наше, известно, — самая захолустная станция, хотя есть в ней немало обывателей, есть каменные дома, почта, аптека. Были капиталисты и эксплуататоры, которых мы свергли. А вот библиотеки не было. Вся моя образованность, начитанность — от аптекаря. Работал я еще до революции пробирным мальчиком. Не думайте, только пробирки мыл. Аптекарь в заболотской жизни так запустился, так запьянствовал, что все свои книжки пустил в расход, на заворачиванье пузырьков, бутылок и на обертки для порошков. С болью в сердце рвал я на это дело недочитанные страницы, полные тайн… Отсюда у меня нетерпимость в характере. Есть такая черта.
Хотя работал я в аптеке — не тянуло меня к медицине. Отвратили меня от нее наши медики. Уж если аптекарь был пьяница и свинья, то станционный фельдшер и тем паче. Ни в какие лекарства не верил, лечился не лекарством, а полынью, настоянной на спирту. До революции на ратификате, а после революции на денатурате. И переваривал, ничего. Революцию он воспринял сперва бурно, потому что до революции жизнь нашей станции была одно увяданье. С одного бока степь, а с другого тоже, дальше болота с кочками, а станция — всего сотня домишек, казарма рабочая, а мимо казармы баланда для стока нечисти прорыта прямо в жирное нефтяное болото. Может, оттого и Заболотье пошло. Глины-грязи много, а не только людям — гусям искупаться негде. И ходят у нас по станции не гуси, а какие-то огородные пугала. Так и текла жизнь наша: одно увяданье и никакой красоты. Мимо по рельсам движение. А у нас — ни взад ни вперед.
И фельдшер задумал утопиться. Выпил сперва весь запас спирту, перебил перед смертью склянки-банки, заслонившие его жизнь, плюнул жене на передник и отправился. Подошел к речке и орет:
«Утоплюсь!»
Зашел по колени в грязь, ноги липнут, стремится глубже. А глубже-то и нет!
«Все равно утоплюсь!»
Встал он на четвереньки и голову в грязь утыкает. Но грязь вонючая, нестерпимая. Вынет фельдшер голову, глянет кругом — народ бежит. Наберется духу:
«Утоплюсь, не я буду!»
Заскрипит зубами и опять голову в тину.
Шли рабочие из депо и прекратили это издевательство над человеком ни к чему не способной нашей стихии. Вытащили фельдшера и обмыли под водонапорным краном. С тех пор наш фельдшер веру не только в жизнь, но и в смерть потерял, а на место набитых склянок велел собирать и таскать ему всякие жестянки…
Это было до революции. А после все колесом закрутилось. Вместо гиблого места стало Заболотье рабочим центром, одной из опор мировой революции!
Раньше нашего слесаря из депо по походке знали — все он молчком да бочком идет, грязный, рваный, а теперь — грудь колесом, руки нараспашку. Боевая дружина — на сто человек — станцию три раза от бандитов отстояла, кулацкое восстание усмиряла. Паровоз имени Первого мая отремонтировали сверхурочно. Почувствовали себя пригодными на большие дела. Ребята впереди больших стараются. И не помню точно как, только организовался комсомол, и в ячейке полсотни ребят.
Тут я почувствовал свое призвание быть комсомольцем.
Ни меня, ни фельдшера в больнице не найдешь. Я — на комсомольское собрание, он — на партийное. Я — со спектаклем в деревню, он — на диспут с попами. А в аптеке и в приемном покое у нас — одна его жена и тоже не распоряжается. Вот тут и вышла комбинация: пристегнула фельдшера партия, почему халатное отношение и полное нарушение всей медицины в Заболотье? Человек думал, что отделался, а ему опять про банки-склянки. И кто! Любимая его партия!
Плакал он после спьяну и каялся. Никогда не хотел фельдшером быть. Желал быть профессиональным революционером, и все рвение у него было ехать бить буржуев туда, где они еще водятся.
И я с ним был вполне согласен.
Неужели и ему и мне опять копошиться в аптеке? Я думал: раз революция, то кончено — без аптек и без приемных покоев. А тут наоборот как повалили эти сыпные! Потащили их к нам в покой со всех проходящих поездов. И стали они помирать на полу и на пороге и везде.
Вошь была на полу видима простым глазом.
Фельдшер ходил весь проспиртованный, и я тоже. Только поэтому пронесло. Для успокоения моей нервной системы стал я курить тоже, как фельдшер, трубку.
Тиф кончился. Нас благодарили и дали мне за храбрость вот этот жетон.
Вот, смотри. — Он показал нам что-то круглое, неразборчивое. — Я и сам не знаю, что он означает, — что-нибудь по случаю нашего геройства, потому что вдвоем мы осилили весь тиф. Все сиделки разбежались. Вдвоем мы носили покойников и складывали во дворе штабелями. И, чтобы было не так страшно, звали их жмуриками. Глянем в окно — ну как, лежат наши жмурики?
Лежат: не дрова, не раскрадут… Потаскал я их много — даже мускулатурная система развилась.
Ну, всем известно, что все это кончилось. Победили мы вошь, сыпняк, и, пока мы с этим боролись, приставленные по партийной и по комсомольской линиям, белогвардейщина тоже была разбита. Фронты в основном окончились, и у нас одна надежда — на мировую революцию. Обидно иначе.
Написал я письмо в высшие инстанции.
Есть, мол, еще угнетенные, есть угнетатели. И какая нам разница, рубать ли буржуев русских или каких-либо немецких, румынских, французских? Нам это все равно, где и каких придется, лишь бы с саблей на коне или в каком подполье с кинжалом и бомбой…
И получил ответ. Меня не отвергали, но товарищи резонно спрашивали:
«Какие у вас, товарищ Серафим Жеребцов, данные? Знаете ли вы языки, допустим, японский или польский?»
Задумался я. Стран много, куда на подпольную работу кинуться? На Дальний Восток? На Запад? Всюду хочется быть, везде побывать манит. А без языка-то никуда. Это я понимал. Надо язык изучить. Но какой? Ты, допустим, займешься германским, пока его изучишь, она, мировая-то, начнется во Франции… Ты за французский, а она взорвется в Италии. Нашел я выход из положения — схватился за эсперанто. Вот язык — во всех странах с ним можно обойтись. Это мне аптекарь говорил точно. И учебник дал. И как его на порошки не изорвали? Чудом сохранился. Засел за него и давай зубрить. Как же это увлекательно, как здорово! Логично. И слова такие, что ни в каком языке нет. Скажешь, бывало, на базаре или в аптеке или в каком другом людном месте, и все на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Весело!
Ночей недосыпал. Недоедал, недопивал, а все же одолел эсперанто и теперь могу с любым эсперантистом разговор вести. Да вот нет их у нас. Выйду на улицу, начну упражняться, так только петухи мне почему-то откликаются да приходит в ярость индюк, вечно шатающийся вокруг станции. Птица нашего начальника…
Написал я снова письмо в инстанции.
В добавление к языку эсперанто, — сообщаю, — изучил я тайны составления пороха из обычных веществ, имеющихся в любой аптеке. Могу в каждой стране сочинить бомбу и кого надо взорвать. Овладел искусством бросать нож из-за угла, а также стрелять из разных видов оружия, как-то: наган, двустволка, монтекристо. Других у нас не имеется, но, если дать мне в руки, любым овладею в краткий срок…
Жду-пожду ответа, и вдруг являются с моим письмом не почтальон, а ребята из нашей ячейки и даже девчата. Ребята говорят всерьез, а девчата с улыбчивостью.
«Серафим, — говорят мне ребята, — мы должны тобой заняться».
«По приказу инстанции?» — спрашиваю.
«Конечно. Всыпали нам из-за твоего письма».
«Так вам и надо, где вы раньше были? Помогли бы языки изучать, оружием овладевать, глядишь бы… Так чем же я теперь не подошел?»
«Да всем ты парень подходящий, просто до настоящего дела ты не дошел… Дело тебе надо богатырское, по плечу!»
При этих словах Тоська фыркнула. Вот не вру. А ведь это была влюбленная в меня до безумия комсомолка. Она за мной бегала как привязанная. Даже пыталась вместе учить эсперанто.
И уверяла, что готова ехать хоть на край света, поднимать на восстание суданских негров.
А при словах о богатырском плече рассмешилась. Я-то знал почему. Не раз она на это плечо клала свою кудрявую головку… И соскальзывала… Я несколько узкоплеч… Ну, не стал я ее при всех конфузить и смолчал.
«Ладно, — говорю, — какую же работенку мне по размаху вы хотите предложить?»
«Да уж не простую, — отвечает, — достойную твоей устремленности. Такую, что в веках останется. В историю войдет».
«Короче, короче!»
«Ты ведь у нас такой, что тебе реки вспять поворачивать. Горы двигать…»
«Еще короче!»
И знаете, о какой они истории речь вели? Об истории Заболотья. Какие горы имели в виду? Какие реки? Догадываетесь? Грязнушку, омывающую депо, и глиняные бугры, оставшиеся от выемки ямы для поворотного круга.
— Ха-ха-ха! — Кривой расхохотался, как Мефистофель, и прошелся от возбуждения по комнате, сильно прихрамывая. — Им, видите ли, захотелось, не дожидаясь мировой революции и всемирного счастья трудящихся, завести в нашем Заболотье уютную жизнь. Запрудить Грязнушку, создать зеркало пруда, развести вокруг сад. Грызть райские яблочки, посматриваться в водное зеркало, купаться летом, кататься на коньках зимой, да еще под музыку. Словом, создать в Заболотье хорошую жизнь для самих себя и окружающих.
— Ну и что же ты? — спросил Алешка заинтересованно.
— Я смерил их презрительным взглядом!
— А дальше?
— А дальше я им сказал:
«Позвольте, что же это вы задумали — подрыв революции?»
«Почему — подрыв? Разве устройство хорошей жизни — это…»
— Отчего революционеры делались, я вас спрашиваю? — Парень уставился в нас одним глазом, который у него как-то странно завертелся, словно буравил. И ткнул в каждого пальцем.
Мы промолчали.
— Революционерами люди делались от плохой жизни! От сплошных страданий. Ежели заболотцам, а затем всем нашим людям дать вкусить хорошей жизни — откуда же революционеры возьмутся? Бытие-то определяет сознание, не так ли? От хорошей жизни какое подполье, какая борьба? Революции-то не захочется!
Это было убедительно, и мы призадумались.
— Не улучшать надо бытие, а ухудшать. Чем хуже — тем лучше. Чтобы народ наш не прохлаждался, а горел, как в чесотке, пока не свергнута мировая буржуазия! Пока не заведен коммунизм на всей планете! Не созидать надо, а разрушать! И изучать эсперанто! — крикнул он после передышки.
— Ну и что же дальше? — спросил переживавший больше других Алешка.
— Выпроводил дружков. До мировой революции, — говорю, — о личном счастье не смейте и думать.
— А Тося как же?
— Ушла со всеми. И не только ушла — пошла наперекор. Занялась вместе с ребятами стройкой плотины. Водоспуск копала, землю в тачке возила, камни-бревна подносила. Откуда у девчонки сила бралась?.. Потом-то я понял, откуда… Стройку-то возглавлял кто? Сынок учителя, интеллигентик Игорь. Понятно? — Серафим Жеребцов подмигнул нам единственным глазом. — До чего же хитер оказался! Мало силенок у комсомольцев, так он все население расшевелил. Любителям гусей-уток заявил:
«Помогите, и будет где вашей водоплавающей птице разгуляться».
Стариков рыболовов тоже на крючок поддел — карасей-щук, дескать, разведем. Мальчишек и тех в свою лавочку притянул — известно, мальчишки любители купаться. Так он прелестное купание посулил.
То есть не осталось в Заболотье человека, кто бы не пришел на эту стройку с лопатой. Велика людская тяга к улучшению своей жизни, я вам доложу! — сокрушенно опустил голову знаток эсперанто. — Но я от идей не отступник. Я не бросил и горстки земли в комсомольскую плотину, в эту могилу мировой революций и пламенных мечтаний о всеобщей коммуне и всемирном братстве трудящихся.
Много раз я говорил им:
«Остановитесь. Что вы творите? Вспомните воинов Спартака, размагнитившихся от хорошей жизни. Обабитесь и вы! Не сможете побить горшков и ринуться в бой, когда заиграют трубы, призывая в последний решительный!»
Но вопил я зря, как в пустыне. Плотина росла. И надо мной уже мальчишки стали смеяться, как над непризнанным пророком… Гнали и швыряли камнями. Правда, небольшими… так, по-детски, шалости ради…
И вот, когда затея стала превращаться в реальную угрозу, решил я не дать никому возможности погрязнуть…
— Покупаться, помыться? — воскликнул Алешка.
— Погрязнуть! — упрямо подтвердил Серафим. — В болоте благополучия. Я удалился и в тиши неприемных часов аптеки стал…
— Изучать эсперанто, — съехидничал Алешка.
— Нет, готовить взрывчатое вещество.
При этих словах ребята перестали улыбаться.
— И наготовил достаточно, мобилизовав весь запас бертолетовой соли… Вспоминал Кибальчича, готовившего бомбу, чтоб взорвать царя. Заложил натертый мной самодеятельный порох в бидон, имевшийся в аптеке для дистиллированной воды. Он всегда стоял пустым. Проделал дырку для шнура. Вставил запал… Словом, все, что надо. Но в последний момент остановился.
Серафим Жеребцов выбил о каблук пепел из трубки и долго набивал ее для нового запала. Затянулся, пустил дым. Разогнал его ладонью. И вдруг сказал:
— Чуть-чуть не размагнитила меня любовь. Я ведь ее все-таки любил, Тосю… И думал жениться. После мировой революции, конечно… Всегда мы обо всем вместе, все мечты. И куда поедем на подпольную работу. И как будем бороться. Я все письма в инстанции с ней обсуждал… Решил обсудить и этот вопрос окончательно. И если она отступница — вычеркнуть ее навсегда из сердца!
Вышел я однажды ночью из своего добровольного аптечного заточения. От бесконечного стирания бертолетки с углем и сахаром меня что-то поташнивало. Производство пороха вредно для здоровья… Захотелось мне освежить голову и подкрепить нервы.
Иду и что же вижу — плотина-то готова! Лежит поперек Грязнушки такая самодовольная, чистенькая, укатанная катком. И волны о нее плещутся, баюкают. И лунная дорожка на воде играет синим светом. И несколько чахлых ив, росших по берегам Грязнушки, очутившись в воде, даже как-то распустились и похорошели.
И захотелось мне почему-то сесть в лодку да запеть песню. Да, братцы, захотелось… Был такой соблазн. Но внутренний голос запротестовал: «Серафим, не отступай! Серафим, вспомни об угнетенных!»
И стал воображать я коммунистов в застенках белой Польши. Комсомольцев в лапах румынской сигуранцы. Разжигать в себе ненависть против мировой буржуазии.
И вдруг почуял, со спины почуял — идет Тося. Ее шаги ни с чьими не спутаешь…
Цок, цок, цок каблучками по плотине, звонко, как по дощечкам. Обернулся я.
«Сима!»
«Тося!»
Схватились мы за руки, глаза у обоих засветились.
«Ты? Здесь? Видишь? Наслаждаешься!»
«Увы, да».
«Почему „увы“?»
Беру ее за руки, смотрю в глаза. У меня еще оба действовали тогда…
«Тося, в свете международных событий, в рассуждении мировой революции для чего сие?»
И не успел я углубить вопроса — она вдруг как выдернет руки из моих ладоней, как отпрянет — и на край плотины. Я за ней — думаю, еще бросится да утонет. Она прыг — но не в воду, а в лодку. Уже лодка здесь очутилась. И в ней весла. Закачалась под ней лодка. Лунные блики по воде побежали. Тося в ней вся заколебалась и вдруг крикнула:
«Игорь! Скорей сюда, Игорь!»
И вот он, Игорь, явился — презренный искатель счастья, которого и в комсомол-то принимали с кандидатским стажем, как интеллигентский элемент. Оказывается, того и ждал где-то рядом.
Промчался он мимо меня без всяких объяснений и — скок в ту же лодку. Оттолкнула ее Тося. Села рядом с Игорем на скамеечку, обвила его рукой и чмок в щеку!
«Вот для чего сие!» — И еще раз — чмок и снова: «Вот для чего сие!»
И ее смех ударил мне в сердце, как нож.
Она еще смеялась. И смех доносился до меня, отраженный зеркалом воды. А я уже вбегал по ступенькам аптеки, и руки мои тянулись к взрывчатому бидону.
…В этот момент, оглядев наши застывшие лица, Серафим Жеребцов быстро завладел воблой и, поколотив ее о каблук, как трубку, стал быстро очищать от чешуи. И никто из нас не обратил даже внимания на такое политиканство. Все сидели, вообразив картину, нарисованную им. Прожевав на быстроту, пока мы не опомнились, кусок воблы, Серафим заключил:
— Когда я рванул водоспуск, они еще катались на лодочке… Без весел. Забыв весь свет… Заплыли в куст ивы… и очутились на мели, когда вода ушла. Да не просто на мели, а на виду сбежавшегося народа на верхушке ивы. Ха-ха-ха!
— Ну, а ты как же?
— Я? Что я? Жив, как видите! Мне выбило взрывом глаз, рассекло щеку. Сильно контузило. Я глух на одно ухо… с тех пор.
— А нога?
— Ногу повредили злобные обыватели, гусятники-карасятники… Я после взрыва бежал сгоряча, так они, черти, ловили меня всем народом, как конокрада… И, если бы не комсомольцы, довели бы самосуд до конца… Отбили меня ребята… Поняли — их же я в сознание привести хотел. За сохранение их как революционеров старался… И вот теперь…
Били меня все, даже некоторые комсомольцы… Они меня, правда, от самосуда спасли. Но исключили из ячейки.
— Ну и что же теперь? — вскочил Алешка.
— Дело ясное. Завтра на бюро укома стоит мой вопрос. Я требую меня восстановить, а их исключить.
— Всю ячейку?
— Всех без исключения.
Тут вместо реплики неугомонный Алексей Семечкин вдруг преподнес ему дулю.
— Это как понимать? — оскорбился Серафим Жеребцов.
Никто не вступил с ним в дискуссию. Все мы тут же постановили отправиться в субботу на воскресник восстанавливать Заболотскую плотину.
* * *
Ну, а что же с Серафимом Жеребцовым, интересно вам знать? Как разобрался наш уком в его персональном деле? А никак. Проснулся я утром, а его и след простыл. С первым же попавшим паровозом укатил.
— Спугнули, черти неугомонные! — ругал меня Потапыч. — Ищи его свищи теперь, удрал с комсомольским билетом. Не иначе в губком махнул. Знает, хитрюга, — чем дальше от места происшествия, тем трудней в таком деле разобраться. Открутится-отвертится и немало еще воды помутит… Надо бы ему, косому, соли на хвост насыпать!
И что же вы думаете — открутился ведь Серафим. Сумел провести тамбовских губкомовцев. На его счастье, наш уезд в то время в Рязанскую губернию перешел и с тамбовцами мы связь утеряли.
По слухам, не только он в комсомоле уцелел, но и продвигается. А что, если до высших постов доберется? Натворит дел, черт меченый. Вы его опасайтесь, если будет финтить, будто его раны геройские, на гражданской войне схвачены — не верьте. Никуда его не избирайте. И власть ему над собой не доверяйте, ребята. Ни-ни!
ПОЮЩИЙ ТОПОР
Ивушкин жаловался, что опоздал родиться. Он ужасно завидовал комсомольцам, прошедшим горнило гражданской войны. Работая конторщиком на Московском лесопильном заводе, только и знал, что следил за международным положением, ежечасно надеясь, что вот-вот где-нибудь начнется мировая революция и можно будет сразиться с международной буржуазией. Ему казалось: кипенье событий вдруг вынесет его на какую-то невиданную высоту, а там — подвиг.
И вот страну всколыхнула пятилетка.
Зная романтическую настроенность Ивушкина, ячейка лесозавода именно его выделила в комсомольский буксир на лесозаготовки Крайнего Севера.
Когда пришлось по-настоящему уезжать в неведомую даль, Ивушкин почувствовал, как тяжело расставаться даже с нелюбимой конторкой лесозавода, как крепко он привязан к компании безалаберных друзей, к своей комнатушке, наполненной старым хламом и случайными книгами. Не хотелось расставаться и со знакомыми девчонками, потому что знал: забудут они его на второй же день после отъезда. Ивушкин понял, как одиноко и пусто он жил.
С тяжелым чувством шагал он на вокзал с походным мешком за плечами. Никто не провожал его из близких. На вокзале он услышал музыку, воинственную и бодрящую. Сердце Ивушкина забилось. Здесь провожали людей строить новые города, выбирать места для заводов, исследовать реки для постройки электростанций. Группу ребят в одинаковых полушубках провожали на Крайний Север комсомольцы Москвы.
Когда Ивушкин сел в вагон и поезд тронулся, он увидел из окна, как во множестве других трепетно и совсем по-особому билось и реяло знамя его ячейки.
Промелькнули московские дачи, потянулись бесконечные вереницы хвойных лесов, отягощенных снегами. Пошли разговоры под шум колес: о годах гражданской, о ранах, о битвах. Через трое суток вместе с отрядом в десяток ребят он поехал на мохнатых лошаденках по руслу замерзшей реки далеко, в самые ее верховья, рубить мачтовый лес, вязать плоты.
В глухом урочище, защищенном от ветров, закутанные снегом, дымились землянки. Густой, плотный дым столбами подпирал низко нависшее небо. В центре урочища на утоптанном снегу стоял домишко с вывеской. Это и был лесной кордон.
Начальник разработки скучно оглядел ребят, заранее не чая в них спасенья. Дела на кордоне были плохи. Он жаловался, что вологодские лесорубы, славящиеся замечательной хваткой, валили лес через пень-колоду, с прохладцей, не принимая новых темпов.
Ребята объявили собрание всех лесорубов. Долго не открывались отсыревшие двери землянок. И, когда они открылись, сразу десяток ребят очутился, точно в лесу, в окружении огромных бородачей в нательных полушубках с раструбами.
Лесорубы стояли и качались на круглых ногах, похожих на березовые чурбаки. Топоры с широкими лезвиями торчали у них за красными кушаками.
Ивушкин как-то растерялся.
— Эх вы, мастера лесной рубки! — упрекнул он. — Не справляетесь вы с задачей! Разучились лес рубить… Всемером дерево валите, вдвоем за один топор беретесь! Из-за таких, как вы, в Архангельске английские купцы гогочут, видя пустые склады, смеются, получая за простой кораблей. Вот нас и послали на помощь. Нас мало, но таких, как вы, семерых один стоит. Жалея вас, вызываем на соревнование не намного — по два кубометра.
Зычный хохот бородачей потряс неподвижные снега.
Разошлись лесорубы развеселившиеся. По правде говоря, они опасались, ожидая солидного «буксира», но, увидев молодцов, успокоились. Этих-то желторотых шутя можно загнать в доску. К лесу привычка нужна. Лес — это ведь сила, его соломой не сломишь. Бородачи не ошиблись: среди безусых энтузиастов не было мозолистых рук. Все новые дружки Ивушкина были ему под стать — людьми, никогда в жизни не срубившими живого дерева.
Вот Бобенчиков-парикмахер.
— Вы понимаете, ребята, надоело мне заниматься бессмыслицей. Ты людей бреешь — они обрастают. Где тут смысл? Неужели, думаю, так и пройдет вся жизнь? Нет, не такое нынче время, чтобы человек не мог совершить большего!
Или Вострецов, продавец галантерейного магазина.
— Это же дело для барышень кисейных. А меня — эк вымахало, — он расправил могучие плечи, — в дедушку, первого на селе косца. Стыдно в такое время галстучки пижонам продавать…
Так же и Володин, комсомольский работник, инструктор райкома.
— Это очень нужное дело, конечно, — агитация и пропаганда… У меня к этому с детства было призвание, талант. Здорово я людей уговаривал ехать на стройки, ковать нашу мощь… И до того доуговаривался, что сагитировал самого себя…
Разные были ребята, но объединяло их одно — жажда подвига.
Некоторым романтикам казалось, что главное — явиться туда, где сейчас начался бой за пятилетку, это уж само по себе геройство, и все им должны быть благодарны. Однако неласковый прием со стороны коренных лесорубов озадачил пылкие головы.
Но Ивушкин не унывал:
— Ничего, мы еще раззадорим эту инертную массу!
— Это все верно, — шутил Володин, — как поднимать массы, я знаю, а вот как деревья рубить — нет!
— Научимся!
— Выполним ли мы норму? А что, если не осилим?..
Проговорили в эту ночь допоздна.
Серый рассвет медленно приоткрывал тьму, сгустившуюся над лесным урочищем. Вот стала отличима сосна от березы, снежный сугроб от облака. Последние зайцы, запутав следы, свернулись клубками на дневных лежках. Попрятались в дупла ушастые совы. И тогда раздался звон колокола, призывающего на работу.
Невыспавшиеся комсомольцы, вооружившись плохо насаженными казенными топорами, отправились на первую рубку. Разводящий шел, не оглядываясь, утаптывая им стежку огромными валенками.
Лесорубы еще спали. Двери их землянок были плотно прикрыты. Бахрома инея опушила окна и трубы. Тоскливо раздавалось тявканье одинокой собаки.
Разводящий указал место рубки и торопливо ушел. Ребята долго стояли, задрав головы вверх. Мачтовые сосны нерушимо держали на своих спутавшихся вершинах тяжелые крыши снегов. Посматривая друг на друга, ребята никак не могли решить, с какого конца начать.
Ивушкин стиснул зубы и ударил первую попавшуюся сосну. Топор звякнул и вывернулся; отлетела мерзлая щепка. Ребята неистово затяпали по гулким стволам.
Первым бросил топор Вострецов, тряхнув заиндевевшими кудрями. Оглянувшись на него, приостановились и остальные. Деревья стояли обезображенные неровной рубкой, но ни одно и не думало падать.
Один Ивушкин рубил как одержимый. На коленях обошел он раз восемь вокруг дерева. Обгрыз его, ровно бобер. Осталась одна сердцевина. Все с любопытством смотрели на товарища. А тот, закусив губы, продолжал работать. Иногда он прикрывал глаза, воображая, что перед ним упорный, толстый буржуй, не желающий уступить власть над миром пролетариату. Это подбадривало его силы, и он начинал рубить еще отчаянней. Наконец послышался хруст. Все облегченно ахнули. Дерево покачнулось, стало падать и повисло в воздухе, подхваченное густыми ветвями собратьев.
У Ивушкина выпал из рук топор.
Ребята не выдержали и захохотали.
— Ну, — сказал Бобенчиков, — высокоидейные кубометры повисли в воздухе.
— Сначала надо срубить дерево головой, а потом руками, — заявил Володин.
— Верно, — поддержал Вострецов, — надо оглядеться. Бросили нас одних нарочно.
Первое производственное совещание началось в лесу стихийно. Следующее дерево стали валить исподволь.
Один влез и закрючил дерево. Натянули веревку, захлестнув ее за соседнее. Затем сделали насечку на той стороне, на которую оно должно падать, и начали подрубать. Дерево повалилось с оглушительным треском. Ребята от радости закричали и запрыгали вокруг елки, как дети.
Лесорубы вышли, как обычно, лениво, часов в десять, и приступили к работе. Звон их топоров был част и ловок. Двое ребят подползли и долго наблюдали за их приемами. Нарубив по два кубометра на брата, вологжане подошли взглянуть на своих соперников и увидели дюжину деревьев с измочаленной древесиной и расстроенных ребят с красными, точно сваренными, ладонями рук. Лесорубы попятились за деревья, сдерживая смех. Уж очень жалко выглядели ребята. Они все рубили, пока не полиловели снега и в бездымном небе не замерцали робкие северные звезды.
В прокисшей, прелой землянке как убитые заснули неудачники. Среди ночи, встрепанный и злой, вскочил вдруг Ивушкин и разбудил ребят.
— Слушайте, что я придумал, — сказал он. — Пока бородачи храпят, давайте ночью хотя бы полнормы нарубим. Воспользуемся полнолуньем, светло как днем.
Посоветовавшись, ребята быстро оделись и вышли на улицу.
Заиндевелые ели и сосны, залитые голубоватым лунным светом, стояли нарядные и красивые, как невесты. Жаль было рубить их, а надо.
Работали дружно, с огоньком. До захода луны многие деревья полегли.
Возвращались комсомольцы усталые, но довольные. Поспали часок-другой, а с рассветом снова за топоры.
В этот день впервые удалось выполнить норму. Бородачи, не выказав и тени удивления, на следующий день нарубили немного больше.
Ребята потратили еще ночь и перевыполнили норму. Бородачи еще немного надбавили. Без сна, без отдыха, исхудав, комсомольцы еще раз обогнали в этом тяжком соревновании, и снова мужики без особой натуги перекрыли их выработку — еще на «чуток».
И все-таки вологодских не удавалось по-настоящему расшевелить.
— Это не люди, а деревья бесчувственные, — отчаивался Ивушкин.
— Одно слово — староверы. У них и волосы-то не как у людей растут щетина. Приходилось мне скоблить такие рожи, бритву потом хоть брось, злился Бобенчиков.
— Бородачи люди старого закала, их не проймешь, но вот молодежь меня удивляет, — пожимал плечами Володин. — Что за парни такие — белы, тихи, смирны, ну словно из дерева понаделаны. Как их расшевелить?
Попытались пригласить молодых вологжан в гости, песни попеть, познакомиться. Нет, не идут, сторонятся.
Стали выпускать стенгазету. Подойдут ненароком, глянут и, вроде не читая, мимо пройдут.
— Деревья, деревья, — сокрушался Ивушкин, — живут без любопытства.
Однажды в заметку вкралась ошибка — неправильно написали цифру выработки у бригады Новожилова, уменьшили на какой-то пустяк. И вдруг Сам старик бригадир прогудел, проходя мимо Ивушкина:
— Надо по справедливости… Сам знаешь: написано пером, не вырубишь топором!
И покосился ревниво и грозно.
— Ура! — возликовал Ивушкин. — Потеплел дуб, оказывается, можно их пробудить!
— Не пробудить бы на свои головы, — сказал Бобенчиков, заметивший дремуче-злобный взгляд старовера.
— Да шут с ними, стариками. Молодежь расшевелить бы.
Эта загадка томила Ивушкина. Он не мог даже вообразить, что такими унылыми, тихими, во всем послушными старикам можно быть в молодости.
Но, сколько ни старались, ничего не получалось. Не удавалось им и перекрыть прежние темпы.
Однако ребята не падали духом, работали с огоньком.
И вот однажды произошло событие, приблизившее желанный взрыв.
В декабрьский день северное солнце, как невеста на выданье, на минутку выглянуло и прошлось вдоль кромки соснового леса. По розоватым колеям зимней дороги приехали розвальни. В них оказался инструктор Союзлеса.
По старой привычке долго митинговал инструктор.
Лесорубы мялись, крякали, но не выступали. Ребята с тоской смотрели на этого несчастного человека.
«Боже мой, — думал Ивушкин, — и откуда таких чудаков выкапывают!»
В заключение таким же скучным голосом инструктор сказал о том, что социалистический труд требует механизации и что вот у него в санях автоматическая пила в подарок лесорубам.
— Махорки бы привез!
— Валенок!
— Порток теплых!
— Ешь сам эту автоматику!
Лесорубы шумно разошлись по своим баракам. Ребята двинулись к инструктору всей гурьбой. Они бережно вынули пилу, завернутую в рогожу, да в придачу два норвежских топора с длинными изогнутыми рукоятками. Пилу разобрали, смазали, вычистили, а наутро объявили через десятников: комсомольцы вызывают на соревнование две любые артели против них — с автоматической пилой.
Включились в соревнование артели старика Новожилова и Губонина молодого скандального парня с клоками отчаянно рыжих волос.
Администрация в качестве приза предоставила комплект новых безрукавок, сшитых из легчайшего меха козы.
Соревнование началось.
Лесорубы, побаиваясь автоматических пил и узнав про ночные похождения комсомольцев, поставили условие: рабочий день соблюдать точно — восемь часов.
Ребята согласились.
Администрация отвела две большие деляны, как крылья гигантского самолета, раскинутые по обеим сторонам огромного оврага. Соревнующиеся могли издалека видеть работу друг друга.
Утром на зорьке встали лесорубы. Растянувшись важно, как сытые гуси, пошли за вожаком, уминая снег огромными лаптями. Впереди несли красное знамя, ту самую хоругвь, что выкинули они, демонстрируя по своему селу перед отправкой на лесозаготовки. Вышли они на взгорье. Повернулись, расправили плечи и ясно увидели: на комсомольской стороне одно за другим, как подкошенные, валятся деревья. Взрывы белого снега, и облачко за облачком поднимаются вслед.
Лесорубы крякнули, подпрыгнули и влепили топоры под смолистые корни деревьев. Лес пошел валиться стеною. Они начали рубку снизу, по ходу из-под оврага, ребята — сверху вниз. Издали казалось — вологжане в панике убегают, продираясь сквозь лес: сзади идет неумолимая погоня.
Автоматическая пила работала без устали.
Пока пильщики срезали дерево, двое, как шаманы, плясали, уминая снег вокруг следующего, двое закрючивали вершину и натягивали трос, а двое идущих сзади обрубали сучки и вершины.
Пока восемь человек продолжали свою стремительную атаку, еще двое лежали в резерве на брошенных полушубках и отдыхали.
Лишь только у пильщиков начинали дрожать от усталости руки, как на ходу происходила замена.
К вечеру ребята догнали полосу рубки до самого оврага и, весело балагуря, пошли к становищу.
Усталость не брала их. Долго еще играли в шахматы, читали газеты. Бобенчиков налаживал радио.
Вечером разыгралась метель. Она пришла с северо-востока, студеная, злая. И вдруг сквозь завывание ветра заговорило радио. Бобенчиков пустился в пляс. В этот момент дверь растворилась, и вместе со снежными вихрями ввалилось двое молодых вологжан. Ребята застыли в удивлении.
— Мы к вам, — сказали парни, конфузясь. — Говорят, у вас воздушный граммофон открылся.
И, как будто по заказу, полилась музыка, медленно, неторопливо.
Лица вологжан стали оживать в улыбках. Уходя, они, как бы между прочим, сказали:
— Наши-то в метель ушли с фонарями. Вас хотят обтяпать. Телогреек захотелось!
С этого вечера, как только на улице разыгрывалась метель, вологжане приходили в гости, и каждый раз их старались обрадовать чем-то новым.
Ивушкин старался вызывать ребят на разговоры, но те отмалчивались, видно, трусили…
Перед Новым годом ребята начисто снесли делянку, оставив далеко позади две артели вологжан. В канун Нового года на разработку приехало лесное начальство. Навезли в подарок махорки, консервов, валенок и спецодежды. Привезли и большую радиоустановку. Оказывается, участок был премирован на областном конкурсе.
В торжественной обстановке комсомольцам выдали комплект замечательных безрукавок.
Артелям старика Новожилова и Губонина за геройскую рубку против пилы-автомата выдали по ватной спецовке и по паре валенок на каждого.
Уезжая, сияющий инструктор обещал вскоре прислать еще две автоматические пилы.
На новогоднем празднике, во время игр, вологодские лесорубы показали замечательный номер. Из дерева был вытесан брюхатый обрубок в виде буржуя. И молодые парни и солидные бородачи издалека с разбегу метали в него топоры. Иные ловкачи бросали топор зажмурившись. Иные через голову, встав к цели спиной. И попадали. К первенству шел старик Новожилов — с места одним движением рук посылал он острый топор в любую цель.
Ночью после праздника в барак комсомольцев прибежали их два вологодских друга. Они волновались. Торопливо рассказывали, как бедно живут они в своем богатом селе. Чтобы выехать сюда, снаряжались в долг. Их семьи до сих пор выплачивают долги своих отцов кое-кому из бородачей.
— Научите автоматикой работать, — робко попросили они.
— Эх, вы! Вся страна царские долги заграничным буржуям не платит, а вы перед своими пасуете!
Не успели договориться с ребятами и проводить их, как ворвался рыжий Губонин.
— Братцы! — закричал он. — Братцы, я ваш! Обучите пиле. Дайте организовать молодую артель!
— Ты же первый бузил против нас, как же так? — спросил Ивушкин.
— Брось, не попрекай. Сам знаю. Но больше не хочу. Кого защищал я? Бородачей наших, которые здесь притворяются бедными, а в деревне у них дома двухэтажные.
Когда рыжего тепло приняли и успокоили, выяснилось — он неоплатный должник Новожилова. Дочь старика, сероглазая Зинка, сидит взаперти, лишь только появляется он в деревне.
Старик и слышать не хочет о сватовстве, пока Ванька Губонин не выплатит долгов.
— Ага, — ликовал Бобенчиков, — нашлась трещина!
Заниматься обучением Губонина взялся Ивушкин сверхурочно. Ночи стояли светлые, лунные. В одну из таких ночей рыжий, Ивушкин, Вострецов и Солодчиков, один из вологжан, работали с автоматичкой.
Вдруг что-то заставило их поднять головы. Прямо напротив, за сваленным деревом, сидело шестеро худых волков.
Ребята замахнулись на них, но волки не стронулись с места. Рыжий метнул в них топором. Волки отбежали немного и снова уселись рядышком.
Вострецовым овладел охотничий азарт. Он уговорил Солодчикова вместе с ним побежать за ружьями. Ивушкин и рыжий свернули цигарки и закурили. Волки продолжали сидеть.
— Нас бы им теперь, — балагурил рыжий, — дочиста обглодали бы.
— Смотри, крайний какой чудной — на усах сосульки.
— Это у него глаза слезятся.
— Теперь про нас, видно, свой разговор ведут.
— Наверное, про меня — рыжий-то, мол, поплотней.
Ванька засмеялся своей шутке.
Вдруг волки ощетинились, встали и, держа шерсть дыбом, попятились в чащу леса. Ребята невольно схватились за рукоятки норвежских топоров.
На тропинке, ведущей к зимовью, выросли шесть тучных фигур в полушубках с раструбами.
— Вот оно! — сказал рыжий, хватая Ивушкина за плечо.
Ивушкин невольно стал искать спиною опоры и прислонился к дереву.
— Шуметь тут нечего, — сказал басовито Новожилов, выходя вперед. — Мы вас не затронем, мы только пилу сломаем, чтоб вы наших ребят не переманивали.
— Не дам! — шагнул рыжий вперед. — Этого не дам!
— А, это ты тут? — сквозь зубы процедил Новожилов. — С тобой по справедливости поступим — ударим раза два об мерзлый пенек. Совсем не подохнешь, но рубить больше не пойдешь: внутренность стронем.
Вологжане надвигались размеренно, не торопясь.
— Не слабь, Ивушкин: у нас топоры-норвеги! — ободрил рыжий.
Ивушкин стал спиной к сосне, покрепче утаптывая снег. Он почувствовал силу, идущую в него словно от самой земли.
Новожилов подошел и ударом обуха хотел разбить головку пилы, но Ивушкин ударил его снизу вверх в волосатое лицо. Новожилов опрокинулся, высоко задрав полушубок.
— Убили, — всхлипнул он, — убили!
— Рубай! — взревели вологжане. — Рубай смертно!
И выхватили топоры.
Пользуясь тем, что внимание ребят отвлечено нападающими, Новожилов вскочил и предательски тяпнул рыжего по плечу.
— Помни Зинку! — И побежал прочь, командуя: — Отбегай! Мечи издали!
Ребята не успели понять страшного маневра и спрятаться за деревья.
Первым пропел топор Новожилова и замолк в груди Ивушкина…
Прошла северная зима.
Может быть, и весна прошла. Много пройдет весен и зим. Но теперь молодой человек, по фамилии Ивушкин, когда слышит разговоры о том, что мы опоздали родиться, больше не вторит им. Иронически улыбаясь, он медленно открывает ворот рубашки.
— Мы рано родились, — говорит он. — Нам еще приходится драться со средневековьем. Смотрите: вот след поющего топора.
Примечания
1
ЧОН — части особого назначения, составляющиеся из партийно-комсомольских работников для борьбы с бандитизмом.
(обратно)2
Место, где вяжут готовые к сплаву плоты.
(обратно)

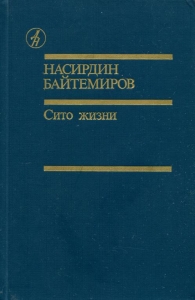

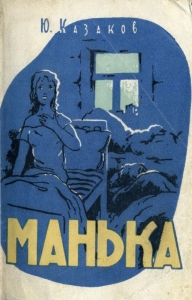

Комментарии к книге «Вечера на укомовских столах», Николай Владимирович Богданов
Всего 0 комментариев