Ирина Александровна Велембовская Несовершеннолетняя Повесть
Зорька хорошо запомнил тот день. Это было двенадцатого апреля 1942-го. В школу он уже больше не пошел, потому что его взяли конюхом на колхозный конный двор.
— Твоему шалопуту тринадцатый год, — сказал Зорькиной матери председатель колхоза Лазуткин. — После войны уж академию-то закончит.
Зорькина мать слабо и ласково улыбалась. В деревне ее давно считали за дурочку, но жалели. Раза два в зиму председатель давал лошадь, и Зорька возил мать в район, в больницу, к «нервопатологу». Он сам слышал, как за белой дверкой старушка врач из бывших фельдшериц, знавшая всех больных наизусть, спрашивала у матери:
— Чего опять болит-то у тебя? Что тревожит?
— Господи, Нонна Петровна!.. Да все как есть болит, все тревожит.
— Что прошлый раз прописала, принимаешь? А то ведь небось…
— Дитем своим клянуся!
А Зорька знал, что мать лекарств боится. Охает, зовет смерть, а сама только и смотрит, как бы чем-нибудь не отравиться, не принять чего-нибудь вредного.
— Эх, ты, чудушка! — укоризненно сказал Зорька, найдя у матери под постелью целый узелок порошков. — Да кто тебя травить станет, кому ты нужна?!
Сколько Зорька помнил, мать то хворала, то недомогала, то в приступе оживления целыми днями пропадала по соседям: плакала над чужими письмами с фронта и гадала на зеркале. А дома есть было нечего, поэтому председатель и решил взять Зорьку на конный двор, хотя Зорька был ростом мал и силы в нем были детские. Он только-только доставал лошадям шапкой под морду, а чтобы надеть хомут, залезал на поильную колоду. Короткие, слабые его пальцы с трудом ухватывали толстый ольховый держак от вил, которыми скидывали навоз.
И вот Зорьке в первый раз выписали полпуда хлеба. Правда, выдали овсяной мукой, которая хороша была разве что на кисель. Но мать, сразу забыв про свои боли, принялась стряпать калачи. Они вышли кислые, но пухлые и с красной коркой.
Зорька как раз отломил кусок от такого калача по дороге к кузнице — вел в поводу коня на ковку. Взглянул случайно в сторону и обомлел…
Наискосок от кузницы стоял дом печника Рядкова. Домишко с виду был не ахти, но все знали, что богаче Рядкова сейчас в деревне нет никого. Мастер он был первый на весь район и брал за кладку печей только хлебом. Кто не хотел мерзнуть, отдавал последнее. К тому же у Рядкова был самый просторный, унавоженный огород. Он обнес его густым плетнем в человеческий рост, чтобы не видели и не знали, чего и сколько он по осени убирает.
И вот Зорька увидел, как сама по себе приоткрылась высокая дощатая калитка в рядковском подворье, словно бы в нее прошмыгнул незаметно кот или собачонка. И вдруг показалась длинная, запачканная кровью рука и на серый, талый снег выполз сам Рядков. Темноволосая, с проплешиной голова его тоже была в крови. Он, как рыба на берегу, несколько раз заглотнул ртом воздух, потом повалился бородой вниз, и длинные его ноги, обутые в бурые пимы, вытянулись.
А с берега в это же время донесся истошный бабий крик:
— Куда тя несет?! Ох, батюшки, куда ж это она?
Зорька дрожащими пальцами привязал коня и метнулся к рядковскому двору. Повис на плетне и увидел оттуда, как по реке, прямо по льду, уже подернувшемуся кое-где голубой водой, бежала полураздетая женщина, оставляя на рыхлом снегу след босых ног. И вдруг она оступилась, рухнула, и лед вокруг нее пошел в разные стороны.
Зорька зажмурился. Руки его ослабли, и он упал на сырой снег.
На берег и к рядковскому двору бежал народ, тащили доски и багры. А рядковская соседка Селифониха, позабыв о белье, которое несла на речку полоскать, объясняла сбежавшимся женщинам:
— Ведь это она, квартирантка его, Рядкова-то. Как есть раздетая, босая… Гляжу, бегёт, как дикая, прямо на полынью!
С реки крикнули:
— Нету уж… Под лед стащило!..
Зорька поднялся на ноги. Прижимаясь к плетню, придвинулся ближе туда, где народ кружком стоял над Рядковым. Взглянул на почерневшую, подмерзающую кровь, и ему стало тошно…
— Ну, каратель, отжился, — сказал за Зорькиной спиной чей-то густой голос.
Зорька знал: Рядкова звали карателем потому, что при Колчаке он зверствовал в своем уезде. За это потом просидел до тридцать пятого года. А когда вернулся, зажил не хуже других: мужик он был цепкий, с ремеслом в руках. К тому же он был один как перст, без нахлебников. Съел ли, выпил ли, бабе ли какой отнес — сам себе хозяин.
— Значит, эта мадама его и пришибла? Ну, история!
— Ладно, расходитесь! — угрюмо сказал председатель колхоза Лазуткин, молодой мужик, одетый в чистый ватник. — Никакого тут спектакля нету.
Но кто был решительнее, все-таки направился в избу. Осмелев, проскочил и Зорька. От калитки до самого крыльца виднелась кровь. В сенях — целой лужей. В кухне на грязном полу валялся молоток с острым бойком, которым печники бьют кирпич. Тоже в крови.
— Им стукнула.
Мимо ног пришедших шмыгнул большой, тигровой масти кот. Он спрыгнул с печи и, равнодушно светя круглыми зелеными глазами, направился вон.
— Сытый, — сказал кто-то. — И крови не замечает.
Все, словно позабыв о двух страшных смертях, с любопытством разглядывали жилище, в которое раньше никому допуска не было.
— Грязно жил… От ведра-то вонища какая!
— Бабу молодую держал, а что толку!
— Баба была для другого дела. Потом все как-то разом опомнились:
— А девочка-то ихняя где?
…Девочка! Зорька знал про эту девочку. Она с молодой мачехой, той, что сегодня утонула, пришла этой зимой жить к Рядкову. На мачеху, хотя она и была красивая, Зорька, понятно, внимания не обращал, а на девочку поглядывал, оттаяв дырочку в замороженном окошке. Один раз даже ближе подошел. Девочка была маленькая и славная, только уж очень прозрачна с лица, и руки у нее показались Зорьке голубыми, почти синими. На улицу она выходила редко: наверное, мерзла. Сперва Зорька видел ее в коротеньком холодном пальтишке-курточке, не достающем до коленок. Потом она вышла по воду в рядковской «куфайке», желтой от печной глины. «Куфайка» была ей очень велика, но девочка не подворачивала болтающихся рукавов, чтобы было теплее. Пола заходила далеко на полу, и девочка была подпоясана концом пеньковой веревочки. Прихватив рукавом дужку, она несла ведро, а воды в нем было всего на донце. Наверное, она не умела утопить ведро в колодце, чтобы зачерпнуть полное. А может быть, не было сил нести больше.
Зорькины размышления прервались. По расползающейся, почерневшей дороге подкатил в кошевке милиционер из Мурояна. И сразу выгнал всех любопытных из рядковской избы. Зорьке вдобавок попало за то, что бросил лошадь посреди дороги.
Зорька отвязал от рябины и повел к кузнице высокого белого мерина по кличке Бурай, спокойного вислогубого конягу. И уже у самой кузницы оглянулся: встречаемая умолкшей на минуту толпой, шла по дороге та девочка. Возвращалась из школы, за пазухой у нее топырились книжки. Одета она была все в ту же «куфайку», но на ногах посверкивали новенькие черные калошки. Она аккуратно обходила лужи, чтобы не зачерпнуть воды. Она, видно, ничего еще не знала.
Милиционер, не подпустив девочку близко к дому, быстро посадил ее в кошевку и повез по дороге на Муроян. А под Рядкова тоже были поданы старые колхозные розвальни, на которых и клока соломы не было на подстилку.
— И так ему сойдет, — мрачно заключил председатель Лазуткин. — Доигрался, гадюка!..
Потом Зорька слышал, как понятые, собравшиеся на конном дворе, рассказывали, что по описи изъяли у Рядкова, как не имеющего наследников, шестьдесят ведер картошки, одна к одной, будто сейчас только из земли, муки ржаной пополам с пшеничной двадцать с походом килограммов, белой лапши и прочих круп, уже отдающих лежалостью, около полпуда. И печеным хлебом пять с довеском буханок. Всех смутило найденное в чулане топленое сало в горшке. Цвета оно было хорошего, белого, и без запаха. Но кто-то сказал, что оно, должно быть, собачье: по деревне ходили слухи, что Рядков когда-то лечил собачьим салом какую-то свою болезнь, и видели у него на ограде развешанные на шестах собачьи шкуры. Поэтому сало решено было выбросить, а остальные продукты переслали в Мурояновский детский дом.
Еще изъяли у Рядкова две новые черные телогрейки с ватными штанами, пару туго скатанных пимов на большую мужскую ногу, суконную высокую шапку с оторочкой, пиджак на овчине и старую ямщицкую шубу, которую он надевал в поездки, а ночью стелил под себя на печи.
— А на армию когда собирали, носка худого не пожертвовал, жила такая!
Сняли замок с сундука: там лежал пахучий товар на сапоги, метров десять старинного плотного сукна, бабий ситец в цветочках. В самом низу — вязка лисьих шкурок на шубу и еще фасонные женские полусапожки на высоком подборе.
А за перегородкой, где спала маленькая рядковская квартирантка, понятые увидели под хромой железной койкой пару изъеденных снегом худых дамских туфель со скошенными французскими каблуками, платье из шерсти, светившееся насквозь и все ушитое, вылинявший красный сарафан и шелковую кофточку с истлевшими подмышками.
— Как арестанток водил.
— Неуж и не кормил досыта? От такого-то достатка! Хоронить Рядкова никто не пошел. Зорьке велено было запрячь Бурая в голые сани и подать к больничному крыльцу, откуда вытащили сосновый гроб, некрашеный и уже заколоченный наглухо.
После этой истории мимо рядковского дома народ старался не ходить. А ближние соседи, понятно, зарились на осиротевший огород, такой большой и просторный, что галка бы устала скакать из конца в конец…
— Ну, девочка, скажи, как твоя фамилия, имя, отчество?
Девочка сказала отчетливо и серьезно:
— Левицкая, Марианна Сергеевна.
У нее еще не совсем прошел испуг перед незнакомыми людьми. Но она, по-взрослому справляясь с собой, объяснила следователю, что ей десять лет и четыре месяца и что она со своей мачехой, которую звали Ангелиной, эвакуировалась сюда в прошлом году летом. Они ехали в областной город, но попали в Муроян, потому что им так посоветовали. Сказали, что в большом городе будет плохо с питанием, а в сельской местности лучше: где картошка, где гриб, где ягодка…
— Ну и как, пособирала ягодок? — хмуро улыбнулся следователь.
Милиционеру следовало бы помолчать, а он хотя и по-доброму, но очень неосторожно заметил:
— Да на што тебе Ангелина эта? Ты ведь сама большая. И одна проживешь.
Светлые, как выросший в тени цветок, глаза Марианны стали большими-большими.
— Дядя, может быть, Ангелина умерла?.. Милиционер растерялся, махнул рукой и подтолкнул Марианну к воротам. Она покорилась.
Ее посадили прямо на кухне, поближе к теплой плите, и дали ей сразу две полные чашки с овсяной кашей. И все — няньки, поварихи, воспитательницы — глядели на нее, мешая ей этим есть.
Марианна молча съела одну порцию и протянула руку за второй чашкой. Но не взяла.
— Я не буду больше кушать, — тихо сказала она. — Знаете, у меня такое горе!..
Присутствующие переглянулись. Повариха в грязном фартуке обтерла мокрую руку и погладила Марианну по голове. Всех снедало любопытство.
— Мачеха-то у тебя молоденькая была? «Была»!.. Значит, ее уже нету?..
— Нет, не очень молодая, — одиноко сказала девочка. — Ей уже было двадцать пять лет.
Марианне показали кровать и дали рубашку с черным штемпелем на подоле. Она легла, свернулась и стала напряженно слушать свое сердце. Его то совсем не было в груди, то оно вдруг больно толкалось в ребро. В кухне Марианна отогрелась, а тут ей опять стало холодно. Казалось, что теплые у нее только слезы, которые грели ей щеки.
— Спи, — сказала нянька, проходя мимо ее кровати. — У нас спать положено, деушка.
— Хорошо, — чуть слышно произнесла Марианна. Но она не уснула.
— Эй, иди сюда! — вдруг позвала ее насморочным шепотом девочка-подросток с соседней койки. — Иди, а то поврозь холодно.
Марианна, поборов дрожь, легла возле незнакомой девочки и дотронулась до ее костистого голого плеча. Кожа была теплая, шероховатая, как будто натертая пылью. От головы пахло какой-то горькой мазью.
— Как тебя зовут? — шепотом спросила Марианна.
— Шурка. А что у тебя ноги холодные, как у лягухи?
Нянька сонно сказала из угла:
— Эй, спите там!
— А ну ее к шуту! — тихо буркнула Шурка и наклонилась к Марианниному уху: — В уборную захочешь, скажи, я тебя провожу, а то еще в колидоре на мыша наступишь, напугаешься.
…Утром, когда Марианна открыла глаза, Шурка лежала на спине и под одеялом чесала худой живот. Нос у Шурки был большой, простуженный, глаза маленькие и зеленые. На голове отрастали недавно стриженные под машинку волоски медного цвета.
Шурка заметила, что Марианна проснулась.
— Бежи на свою койку, а то попадет. Потом, уже через проход, она спросила:
— Ты сирота круглая аль только без отца? Марианна сказала, что ее мама умерла, когда ей было пять с половиной лет.
— А кто же тебя ростил?
— Няня Дуня. И папа. Мы жили под Москвой, в Петровском-Разумовском. Нас было трое, а потом папа еще женился на Ангелине.
— Небось била?
— Нет, что ты!..
Шурка вздохнула: наверное, вспомнила что-то из своей сиротской судьбы. И принялась одеваться серьезно и неспешно.
На завтрак была каша из сечки и по чашке молока.
— Хочешь? — спросила Марианна у Шурки, оставляя половину каши.
У той мигнули и загорелись зеленые глаза. Собственная ее каша была съедена, и миска блестела, как помытая.
— Я за тебя приборку делать буду, — обещала Шурка, быстро доев Марианнину порцию.
В тот же день вечером Марианна уже знала, что случилось с Ангелиной: няньки не удержали языки.
— А чего плакать-то? — со взрослой рассудительностью заметила Шурка. — Кабы родная мать, а то мачеха!
Марианна вытерла слезы и посмотрела на нее: чем-то Шурка в эту минуту показалась ей похожей на няню Дуню.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
— Пожалел бы дитё-то, — сказала папе няня Дуня. — Что ты, на самом деле, очумел, что ли, на старости лет?
Но папа был еще не старый — ему было сорок два года. И сама няня Дуня втайне рассчитывала в ближайшее время женить его на соседке, девице в годах, но образованной, умной и тихой. Соседка эта работала заведующей аптекой и снабжала няню всевозможными дефицитными лекарствами.
Но папа поступил по-своему. В мае месяце, в самое цветение, ему дали путевку в дом отдыха. Уехал он скоропалительно, так что няня Дуня не успела его собрать как следует: подкладка у пиджака отпоролась, на рубашке не хватало пуговок, и носков папа взял с собой всего одну пару, так что ему пришлось там самому стирать их в речке.
В доме отдыха папа и познакомился с Ангелиной. Вскоре же после его возвращения няня стала пришивать ему подкладку и нашла в кармане два использованных билета на «Дочь Анго». Потому она решила, что папа всерьез загулял.
Потом он принес домой торт в коробке и бутылку портвейна. Попытался спрятать все это от няньки, но она сразу же насторожилась.
— Это что же, гости будут?
— Да, — тихо сказал папа. — А что тебя удивляет?
У Ангелины было очень молодое, милое, хотя и без особых примет, лицо. Золотистые волосы, крутая грудь и очень маленькие руки и ноги. Юбка была до того ей узка, что няня Дуня сказала у нее за спиной:
— Свят-Свят-Свят!..
А Марианна была рада: во-первых, купили торт, во-вторых, папа в этот вечер был такой смешной: играл на пианино и показывал фокус с палочкой, которая, положенная на ребро пальца и потом перевернутая, почему-то не падала.
На другой день после визита Ангелины папа занялся перестановкой мебели. За шкафом, за пианино, за комодом покоилась густая, ватная пыль. Там же валялась случайно упавшая фотография в рамке. Марианна подняла и увидела папу вместе с мамой. Папа быстро отобрал у нее эту фотографию и спрятал, не отряхнув даже пыли.
Комнату разгородили пополам большим шкафом и диваном с высокой спинкой. Стало некрасиво и тесно. Няня Дуня сказала:
— В цирке, прости Бог, и то небось лучше. Может, ты хотишь, чтобы я тебе, как птица, через небель летала?
— Сейчас сделаем проход, — терпеливо объяснил папа.
— Не нужон мне твой проход, — неумолимо продолжала няня. — Я тоже замуж пойду.
Она сдвинула грудью комод и ушла в кухню. Там она принялась готовить котлеты и шумно утиралась фартуком, чтобы привлечь сочувствие соседок.
Папа попытался один отодвинуть диван и отломил валик. Они с Марианной подняли его и кое-как приладили к месту. Потом папа оглядел свои серые от пыли, единственные брюки, сел и вздохнул.
Вечером он отправился за Ангелиной. Няня Дуня с Марианной не ложились спать и ждали, когда под окном зарычит такси, на которое папа занял у няни три рубля.
На другой день няня Дуня взяла грех на душу и заглянула к новой хозяйке в тяжелый потертый чемодан. Разочарование было полное: чемодан был доверху нагружен альбомами. А в альбомах — фотографии артистов и вырезки из газеты «Вечерняя Москва» с кинорекламой.
Няня Дуня приняла сначала артистов за Ангелининых кавалеров, но потом разобралась и сказала только:
— Тьфу! Двадцать пять лет, а в голове глупость. Ох, как и жить будем?..
Марианне тоже очень хотелось посмотреть. Но она только совестливо заглянула раза два через нянино плечо и отошла. Весь вечер она мучилась: как попросить молодую мачеху показать ей артистов, не выдав при этом няню Дуню? Наконец спросила осторожно у Ангелины:
— Вы любите переводные картинки делать? Или смотреть фотографии? А то просто нечем заняться…
Раньше вечерами все они — папа, няня, Марианна, а иногда еще соседка, заведующая аптекой, — играли в цифровое лото или в карты. Когда папа проигрывал, няня Дуня каждый раз приговаривала:
— Козыри свежи, а дураки все те же. Накась, сдай!
Теперь в комнате было тихо: Ангелине нужно было готовиться к экзаменам на курсы иностранных языков. Она располагалась на диване с оторванным валиком, из-под халата белели ее маленькие полные ноги. А яркие, намазанные краской губы беззвучно шевелились.
Мешать было нельзя. Только няня Дуня нет-нет да и позволяла себе сказать что-нибудь важное:
— С мясом чтой-то плохо стало. Потроха нонче у рынка давали, так что творилось — не дай Бог!..
— Да? — словно радуясь, что может на минутку оторваться от словаря, удивлялась и Ангелина. — А зачем нам потроха?
Первого июня праздновали Ангелинино двадцатипятилетие. Папа купил ей кольцо с большим красным камнем. Но через несколько дней Ангелина отправилась, взяв с собой Марианну, на пляж, и кольцо это уплыло с ее маленького пальца. Няня Дуня не утерпела и заявила папе:
— Покойница твоя этот супер как глаз бы берегла. Нашел ты себе Растереху Петровну!
Папа сделал вид, что не понял. Но няня жалости не знала. В тот же день за обедом сказала Марианне:
— А мать-покойница на тебя глядит, как ты не слухаешься, супу есть не желаешь. У ей сейчас сердце кровью запекается.
Папа за последнее время сильно похудел. Глаза у него стали туманные, виски замерцали, а на щеках прыгали два красных пятна, как у простуженного. Однажды Марианна увидела, войдя в комнату, как папа обнял Ангелину, а та увернулась. И пятна на папиных щеках побелели.
Соседки на кухне судачили:
— Она за него из-за прописки пошла. Кто это на ребенка в двадцать пять лет пойдет? Опять же — не работает, сидит барыней.
И только соседка-фармацевт, по-прежнему снабжавшая няню лекарствами, попросила:
— Пожалуйста, прекратите пересуды. Это очень нехорошо.
После 22 июня в Подмосковье наступили долгие, душные, сдавленные тревогой дни. Очередь добровольцев у военкомата, девчата, марширующие по улицам с красными крестами на повязках и с лихой песней: «Броня крепка, и танки наши быстры…» А через неделю — первые зажигалки, посыпавшиеся на крыши домов и сараев. Раненые, которых поместили в школу, куда Марианна уже ходила учиться. И вместо запаха жасмина и дикой розы, богато цветущих почти в каждом саду, над пригородом плыл едкий запах свежих пожарищ.
Няня Дуня и Ангелина копали во дворе щель. Копали по очереди, потому что на всех жильцов была одна лопата, остальные отдали тем, кого послали за город копать рвы.
Дело двигалось медленно: копать умела одна няня Дуня.
У Ангелины это вовсе не получалось, лицо у нее было испуганное и красное. А папа дежурил день и ночь у себя в учреждении. Он изорвал пиджак и прожег брюки. От него, когда он прибегал, пахло пожаром, чердаками, кирпичной пылью и сыростью бомбоубежищ.
К концу июля выдалась одна страшная ночь. Сигнал тревоги подали, когда было еще светло. Но подали поздно: когда все побежали по щелям, уже летели осколки и мальчишку-ремесленника убило на бегу. Где-то так кричал ребенок, что Марианна от ужаса заплакала.
Стояла темная ночь, а отбоя все не было. Самолеты черными воронами пролетели и ушли, а уж только потом забили где-то далеко орудия. Глина посыпалась в щель крупными горячими комками.
— Спаси нас, Матерь Божья! — истово шептала няня Дуня.
Ангелина дрожала, молча прижавшись к сырой стенке.
— Ты боишься? — шепотом спросила у нее Марианна, сама тоже вся дрожавшая. — Не бойся!
Но Ангелина как будто не слышала этих слов.
— Почему? — вдруг с отчаянием выкрикнула она. — Я не хочу!
Тогда няня Дуня перестала креститься и сказала грозно:
— Хватит блажить-то! Сама хоть десять раз помри, а ребенка не пугай. Егоистка!
И Ангелина, испугавшись еще больше, умолкла.
Утром появился папа. Рот у него был черный, глаза слезились. Он долго мял своей коричневой малосильной рукой белую ладонь Ангелины и несколько раз повторил:
— Я тебя прошу!..
Папа шел добровольцем. А о чем он просил Ангелину, ни няня Дуня, ни Марианна так и не поняли. Ангелина при папиных словах громко, но без слез всхлипнула, будто хотела в чем-то покаяться.
— Ты мой милый!.. — сказала она, сама не узнав своего голоса. И, чтобы не смотреть папе в глаза, положила голову ему на плечо.
Няня Дуня сердито махнула рукой и увела Марианну из комнаты.
— Наш-то в кралю свою влепился, — сказала она соседке, — а на родного ребенка и не поглядит.
Папу проводили, а через полчаса опять объявили тревогу, и посыпались черные зажигалки, и улицы потом все были черные.
На заре няня Дуня уложила Марианну спать и пошла занимать очередь за хлебом. Подурневшая от слез и страха Ангелина тоже прилегла. Но спали они недолго: появилась нянина крестница Нинка, крепкая, низкорослая, решительная девица, уборщица в парикмахерской.
— Хрёстной нету? — спросила Нинка. — Уезжаю я.
На Нинке надет был синий комбинезон, на голове плоский берет со значком Красного Креста. А косу свою в три пальца толщиной она в своей же парикмахерской и срезала.
— С госпиталем уезжаю, — объявила Нинка. — Присягу военную дала.
— Куда же вы едете? — спросила Ангелина.
— А кто же тебе скажет? Тайна.
И вдруг Нинка в упор тоже спросила Ангелину:
— А ты чего тут сидишь? Тело боишься растрясти? Вечером мимо их дома прошли машины, накрытые срубленными березками. В темном кузове белели забинтованные головы, руки. Уехала и Нинка. Няня Дуня, побелев лицом, шептала что-то и крестилась вслед.
На следующий день к ним пришел папин сотрудник. Он сказал, что для них троих есть места и чтобы они собирались ехать в эвакуацию.
Няня Дуня и Ангелина долго тихо разговаривали о чем-то в своей комнате. Потом до соседей донеслось нянино восклицание:
— Пущай я в своей деревне на печке с голоду поколею, чем мне гдей-то руки-ноги бонбой оторвет!
— Но ведь к вам в деревню могут прийти немцы, — пробовала возразить Ангелина.
— Не прйдуть! — уверенно сказала няня Дуня. — Мы от уезда сорок семь верст.
Тогда соседка, та самая, что утверждала, что Ангелина вышла замуж из-за прописки, отворила дверь в комнату и авторитетно сказала:
— Основное — что на вас теперь числится ребенок. А то вас, как не работающую одиночку, могли бы мобилизовать и услать куда-нибудь. С ребенком вас теперь никто не имеет права тронуть.
— А мы едем в эвакуацию, — решительно и даже весело объявила Ангелина.
Ей казалось, что ничего страшного впереди уже не будет.
2
В Муроян Ангелина и Марианна попали к концу первого военного лета. В вагоне рядом с ними ехал красивый полный мужчина в полувоенной одежде, так туго опоясанный широким желтым ремнем, что живот у него вылезал, как у няни Дуни лезло из кастрюли пирожковое тесто.
Он очень оживленно беседовал с Ангелиной, угощал ее папиросами «Тройка», она отказывалась, но все-таки попробовала закурить. Они разговаривали, вспоминали довоенную жизнь, что-то спорили насчет музыки и театра и громко смеялись. Даже когда остальные ложились спать. Так что их в конце концов попросили считаться с окружающими. Одна пожилая, замученная дорогой женщина сказала им очень зло:
— В такое время флиртовать просто неуместно. Будьте людьми.
Но Ангелине было сейчас не до флирта: она с надеждой думала о том, как было бы хорошо, если бы этот влиятельный, солидный дядя помог ей получше устроиться, чтобы избежать всяческих мытарств, о которых она уже наслышалась в дороге.
Красивый попутчик действительно дал ей записку к председателю Муроянского исполкома, посоветовав не ездить в большой областной центр, где уже полно беженцев и эвакуированных. Обещал на всякий случай оставить Ангелине и свой адрес в Краснокамске, но почему-то так и не оставил. Когда он сошел с поезда, у Ангелины был очень расстроенный вид.
Поселок Муроян был пылен и неприютен. Автобусов и трамваев здесь никаких не было, и от станции до исполкома идти было очень далеко. На песчаных горушках мостились без всякого порядка дома и бараки рабочих смолоперегонного и механического завода. Над поселком плыл густой скипидарный запах, не неприятный, но дурманный. На реке Мурё шел сплав леса россыпью, и все берега были завалены мокрыми кряжами, с которых оползала коричневая пахучая шкура.
Председатель исполкома, к которому Ангелина везла письмо, сам уже был на фронте. Его преемнику, бывшему начальнику поселковой пожарной охраны, Ангелина устало объяснила, кто они такие и откуда, и сказала, что специальности у нее нет, что она училась на курсах иностранных языков и умеет рисовать по шелку и делать аппликации.
Он к этому отнесся так, будто она ему сказала, что умеет ходить на голове.
— Ни к чему это сейчас, — сказал он, сочувственно вздохнув. — Теперь, милка моя, не до шелков, не до бархатов… Как у тебя насчет грамотности? Ребятишек учить некому стало.
И он послал Ангелину в деревню Тихое, где нужна была учительница в школу-четырехлетку.
— Место хорошее, учеников всего восемнадцать голов. Так что давай поезжай, дорогая гражданка!
…Дорога в Тихое шла ярким, янтарным сосняком, таким стройным и ровным на подбор, что он казался нарисованным. Еще не тронутый осенью, блестел под вечерним солнцем молодой березовый подлесок. И от этого зеленого спокойного богатства Ангелина и Марианна почувствовали себя как-то бодрее.
— Вон грибок растет! — увидела Марианна. — Можно мне сорвать?
Их вез на телеге мальчишка лет пятнадцати, неразговорчивый, но все время ругавший лошадь. Он обернулся к Марианне и сказал со взрослым равнодушием:
— На што он тебе? Кабы груздь, а то дрянь — обабок. Их сейчас уже не берут — кислые.
В Тихое приехали, когда по деревне проходило стадо. Коровы все были черные, некрупные, но сытые, они как будто с трудом несли полное вымя. Поскотина была рядом, там сонно гудели шмели над примятой, но еще не пожелтевшей и не потерявшей сока травой.
— Это что же, весь багаж ваш тут? — спросила вдова Капустиха, к которой сельсовет определил прибывших. — А зимовать как же думаете?
Действительно, у квартиранток было что на себе, то и при себе. Полненькая, золотоволосая Ангелина привезла с собой две шляпы, темно-синий бостоновый жакет в талию, короткий красный сарафан из маркизета. Правда, в чемодане у нее было еще множество каких-то пестрых шелестящих вещичек, но, как определила вдова, ничего путного. И у маленькой Марианны, кроме панамки, двух коротеньких платьев и курточки с перламутровыми пуговицами, тоже ничего не было.
— У нас есть деньги, — живо сказала Ангелина, — мы можем купить.
Капустиха усмехнулась сочувственно.
— Вряд ли вы что сейчас укупите. Может, власть вам чем пособит?
Но «власть» обещала только обеспечить дровами на зиму и землей под огород. И все же до холодов, казалось, было еще далеко, и Ангелина, надев свой яркий сарафан, гуляла с падчерицей по деревне. Дачников в этой дальней северной местности никогда не бывало, да и приезжие были редки, поэтому жители Тихого отрывались от привычных дел и с любопытством глядели им вслед.
— И не поймешь, девка ли, баба ли… А меньшая-то славненькая.
Тепло продержалось весь сентябрь, дороги были сухи, еще не оголился лес. Деревня дремала, обнесенная, как частоколом, зелеными елками, под которыми изумрудной пеной вздувался мох. Прямо с края леса горбились кочки красной брусники, крупной, как бусы. Ягоды уже поспели и легко осыпались с куста на руку. Тут же росли жирные маслята, рассыпавшись семьями по сухой траве. И боком выпирали из земли белые твердые грузди.
Рискнув зайти чуть подальше в лес, Ангелина и Марианна увидели большой пруд. У берегов вода стояла зеленая и масляная, а к середине, в которую ударял солнечный луч, серебрилась, как рыбья чешуя. Близко к себе пруд не пускал: кочкастый, вязкий его берег как будто глубоко дышал, ступить в эту зеленую мякоть было страшно.
Ангелина и Марианна долго разглядывали этот пугающий, какой-то таинственный пруд. Когда же оглянулись, им показалось, что лес сомкнулся и не осталось ни единой тропы. Но деревня была совсем рядом: они услышали тележный скрип на лесной дороге, потом гудок «кукушки», которая ходила мимо Тихого на Муроян.
— А когда мы домой поедем? — вздрогнув от этого гудка, спросила Марианна у мачехи.
Та ничего не ответила.
Они вернулись в деревню. Вдова Капустиха рыла на огороде картошку, поддевая тяжелый куст на вилы-четырехзубки. Она посмотрела из-под ладони на приближающихся квартиранток и молча покачала головой. Она не помнила в своей шестидесятилетней жизни такого дня, когда бы она шла из лесу с порожними руками, будь то мешок травы, короб с груздями, вязанец березняку на веники или лыка на мочало.
И все-таки вдова пожалела квартиранток и сказала:
— Айдате, девки, картошки молодой поешьте. Сварено у меня.
Глядя на спокойную в своей беспечности Ангелину, вдова грешным делом подумывала, не рассчитывает ли та на свою красоту. Мужики, которых в Тихом осталось не много, улыбчиво поглядывали на приезжую учительницу, издали примечая ее красный сарафан. Только времена теперь были не те, чтобы можно было много взять с этих мужиков: у каждого семья душ по семь, по восемь и нигде лишнего куска.
Весь сентябрь и половину октября школьники копали в колхозе картошку и вязали овес. Ангелина сидела на полянке с карандашом в руках и вела учет ссыпанным ведрам и навязанным снопам. Таким образом ей удалось сохранить свои единственные туфли на французском каблуке. Мальчишки и девчонки, таскавшие плетеные кошелки с картошкой, кричали ей издали:
— Учительница! Десяту носку запиши! Гляди не путай! Бригадир Сеня, рыжий, похожий на петуха парень, присаживался рядом и спрашивал:
— Ну, как дела идут, Андилина Ивановна? Трудимся? Разрешите на списочек ваш поглядеть.
А сам невольно косился на высокую Ангелинину грудь, на крутые плечи, припеченные ветром и покусанные кое-где неотвязным мошкарьем.
— Вы не представляете, Андилина Ивановна, какие у нас раньше сельскохозяйственные успехи были! По картошке и по турнепсу — первое место в районе. Опять же всевозможный корнеплод…
Ангелина слушала рассеянно, но улыбалась. Сеня рос в собственных глазах и сыпал культурными словами:
— А теперь вот, благодаря проклятого фашизма, совершенно оголяется сельское производство. Мужчины исполняют военный долг, а в результате на полях одни, я извиняюсь, бабы и юные дети. Просто сердце рыдает, Андилина Ивановна!
Не успели в колхозе убрать овес и докопать картошку, как Сеню призвали в армию. Он зашел попрощаться и сказал:
— Желаю, Андилина Ивановна, всего самого наилучшего! Прошу проследить за прессой: Семен Коптелов о себе даст знать!
В этот вечер Ангелина грустила. Может быть, жалела Сеню, а может быть, боялась нового бригадира, черного горбатого мужика, единственного в деревне, кто остался совсем равнодушен к ее молодости и яркости.
Утром он чуть свет приходил к дому вдовы и дубасил в наличник:
— Подолгу спите, едри вашу мать!
Марианну в поле не брали. Она бродила по огороду, разглядывала торчащие из земли желтые пузики репок, бурые узлы свеклы, накрытые зонтиками из собственных листьев. Осторожно трогала рукой холодные кочны капусты в лопнувших рубахах. Ей хотелось что-нибудь съесть, но она никогда самовольно не вырвала ни одной морковки.
— Святой ребенок, — говорила вдова.
Однажды к вдове зашла соседка. Поговорили про то, про се, и соседка вдруг спросила:
— Долго ты дармоедок этих кормить будешь? Ведь ты себя оголодишь начисто. Ну, добро бы еще девчонку, а энту толстозадую чего жалеть? Ведь она тебе в огороде копка не сделала.
— Да Бог с ими, — печально отозвалась вдова. — Не поле-польское у меня картошки этой. Всего-то мешок рассаживала. Сама выкопаю.
Овес весь убрали до снега и сразу принялись молотить. Целыми днями на току трещал барабан и стукала веялка. В приводе ходило три пары бокастых лошадей, и в гривах и в хвостах их густо желтела овсяная полова. Мальчишки свистели и щелкали кнутами. Бригадир, тот самый черный, горбатый, широко разводя локти, пихал снопы в барабан молотилки. Бабы парами, будто танцуя, подхватывали на грабли обмолоченную солому и гнали ее граблями дальше по току, вытрясая неосыпавшееся зерно. За током росли овсяные клади, и ветер сбивал им макушки, словно шапку на ухо.
Марианна подошла поближе, чтобы посмотреть, и мальчишка, отгребающий от веялки зерно, сказал ей:
— Гоняла бы воробьев. Какое-никакое, а дело. Воробьи не очень пугались Марианны, хотя она усердно махала прутиком и кричала:
— Кыш!..
И все-таки бригадир, из черного ставший желтым, погладил ее по голове и в обед велел налить ей молока, как и другим молотильщикам.
Дома Марианна сказала:
— А я сегодня тоже немножко работала!
…Первый мороз пришелся на третью неделю сентября. Не убранные еще с огорода кочны капусты как будто кто-то обсыпал мелкой белой солью. Когда днем пригревало солнце, над стожком сена, сложенным у вдовы в огороде, курился голубоватый парок. Стог обсыхал, и тогда от него начинало приятно пахнуть чаем. И из леса ветер приносил преловатый, сладкий запах.
— Это чем так пахнет, тетя Агния? — спросила Марианна у вдовы.
— Опятками, чуешь. Самое им время.
После уборки колхоз выделил Ангелине пять пудов мелкой картошки и два мешка капусты, уже схваченной морозом. И еще телегу обмолоченной овсяной соломы.
— Интересно, что я должна с ней делать? — недоуменно спросила Ангелина.
— Зимой всякой травинке рады будем, — заметила практичная вдова.
Собираясь в школу, Ангелина долго не решалась надеть на себя шушун на вате, который жертвовала ей вдова. Шушун был ветхий, истертый на локтях и крепко засаленный по вороту. К тому же он был и мал Ангелине: она еще не вовсе спала с тела, а вдова была женщина дробная. Главное же — шушун этот удивительно не вязался с туфлями на каблуках и шляпой из лилового фетра.
— Нет, не могу, — сказала Ангелина, побледнев даже, и быстро сняла с себя вдовью справу, пахнущую сундучной лежалостью.
Она надела свою жакетку из синего бостона, рукава и ворот у которой тоже страшно лоснились, и ушла. А вечером молча плакала.
3
В это позднее январское утро у вдовы было очень скорбное, черное лицо.
— Поприели мы все, деушки, — сказала она, поставив самовар на пустой стол. — Промышлять чего-то надобно.
После этого наступила такая же пустая тишина, только слышно было, как подтекает самоварный кран.
— А вы козочку доить не пойдете? — виновато спросила Марианна вдову, вздрагивая, хотя в избе было уже вытоплено.
— Отдоилась наша козочка: окотна…
Ангелина ушла в школу, не сказав ни слова и надев тот самый вдовий шушун, от которого она отказалась три месяца назад. Тем более что в этот день она решила пойти на Муроян, в исполком. Да и шушун теперь не был ей узок.
Вернулась она поздно. Вдова, несмотря на утреннее предупреждение, смастерила пустые щи.
— Скажите, далеко отсюда деревня Боровая? — вдруг спросила, не глядя на вдову, Ангелина.
— Да порядком. Одним днем туда-сюда не обернешься.
— Мы теперь там будем жить…
Вдова в растерянности обронила ложку. Взглянула на Марианну и увидела, что она раскрыла рот с маленькими слабыми зубами, будто кто-то причинил ей внезапную боль, от которой у нее захватило дух. И вдруг Марианна закричала, зажмурив глаза, на которых сразу же выступили слезы, и стуча по столу маленькими, бессильными кулаками:
— Нет, нет, нет, нет!.. Не поеду!
— Не говори глупости, — тихо сказала Ангелина. — Я уже обо всем договорилась…
В Боровую они приехали к ночи. Воевала метель, шевелились сугробы. Ангелина и Марианна неподвижно лежали в коробе, накрытые белым от снега куском кошмы.
— К школе, что ль? — спросил возчик. Ангелина подняла голову:
— За церковью, третий дом от угла…
— Это что ж, к Рядкову, значит?
Выбеленная снегом лошадь пошла дальше. За санями тянулись две глубокие борозды, как на пахоте. В домах уже не было огней, и они казались черными пнями под белой снежной шапкой.
— Ну, подымайтесь, приехали!
Марианна попробовала встать на ноги и упала: теперь уже на ней была надета вдовья одежина, доходившая ей до пяток.
На стук долго никто не отвечал. Нерешительно стучала Ангелина, потом начал бухать в ворота возчик. Он, видно, тоже сильно замерз, потому что несколько раз густо обругался. Наконец хозяин им открыл. Это был высокий пожилой мужик с черным клоком бороды. Он пристально вглядывался в две белые фигуры — женщины и девочки, прижавшиеся к воротам.
— Кто такие?
— Вы забыли? Вы меня звали к себе… — слабым от холода голосом сказала Ангелина. — Мы из Тихого…
— Ишь ведь! Верно, звал.
Рядков стирал ладонью снежинки, которые таяли на его непокрытой, с проплешиной, голове. Он как будто и не спешил пускать приезжих в свой двор.
— Да ты што, так твою мать! — рассердился возчик. — Пусти их в избу-то. Ведь шешнадцать верст по метели ехали.
Рядков зажег на кухне слабую лампочку и тут же загородил окошко большой грязной подушкой, чтобы свет не был виден с улицы. Теперь маленькая боязливая Марианна разглядела как следует его лицо. У Рядкова был крупный, решительный нос, глубокие, почти невидные зрачки. Нижняя, по-молодому розовая губа чуть отвисала, показывая желтоватые, но еще нерасшатанные зубы.
На нем была нижняя рубашка с тесемками у ворота. Тело под рубахой угадывалось сухое, но сильное. На плоской груди серебрилась цепочка с крестом.
— Пожаловали, значит? — улыбаясь, спросил Рядков. — Ладно.
Очень хотелось есть. Так хотелось, что дрожали пальцы. Но Рядков ничего им не дал, хотя под лавкой стояла большая миска с молоком для кота и туда был накрошен хлеб. Кот этот, зеленоглазый, корноухий, терся у хозяйских ног, однообразно, но преданно урча.
— Ложитесь, — велел Рядков. — Ты туда, а ты туда… — Он указал Ангелине на кровать за перегородкой, а Марианне — на узкую лежанку, куда вспрыгнул кот.
— Мы вместе, — попросила Ангелина.
Он посмотрел на нее испытующе. Розовая губа его сложилась совочком, и он усмехнулся.
— Воля ваша.
Ангелина и Марианна легли на кровать, почти не раздеваясь, и накрылись с головой, потому что им казалось, что хозяин и кот смотрят на них с печи.
— Я боюсь, — на ухо мачехе сказала Марианна. Утром Рядков разбудил их сам. Пальцы его крепко взяли Ангелину за плечо.
— Пожалуйте, барышни приезжие, чай кушать.
В маленькое окошко лез рассвет. Рядков уже сам истопил печь, загреб горячие угли и вздул самовар.
— Провиант есть у вас какой с собой? — спросил он, когда его постояльцы приблизились к столу.
— Пока у нас ничего нет, — сказала Ангелина.
— Пока? А потом, значит, рассчитываете получить? Ну, поглядим.
Рядков выставил из горки на стол три чашки и блюдце с сахарным песком. И вдруг Марианна увидела белые поджаристые плюшки.
— Возьмите по одной, — милостиво распорядился Рядков, улыбаясь собственному великодушию. — Это я в пекарне печи уделывал, так дали мне сдобок. А уж чай вам сегодня постный будет. Не принесла мне одна баба молочка, метели испугалась.
Он пристально наблюдал, как они ели. Сам не съел ни кусочка, пил только пустой чай, звучно втягивая его через оттопыренную губу.
— Радиво небось любите слушать? В кино ходить? У меня ничего этого не будет. Я живу убого. Я человек рабочий.
Им оставалось только молчать и ждать. Плюшки свои они уже съели и теперь тоже тихо пили пустой чай.
— Я радивов не слушаю, — наслаждаясь их робостью, продолжал Рядков. — Правильного-то ничего не скажут. Один гольный обман.
— Какой же обман? — решилась спросить Ангелина.
— А всякий. Такой-то пунт взяли, эдакой… А немец прет да прет.
— Но ведь под Москвой их очень сильно разбили, — уже смелее сказала Ангелина.
Рядков поглядел на нее пристально и вдруг спросил:
— А ты город Одест знаешь?
— Да, — не сразу поняв, ответила она.
— А что дальше, Москва или Одест?
— Смотря откуда.
— Все оттуда! — Рядков подмигнул, будто слова его содержали какой-то хитрый смысл. — Ничего ты не знаешь! Проснетесь как-нибудь, а немец-то тута: вашим от наших низкий поклон!
Ангелина и Марианна не без страха переглянулись.
— Это же все изменится, — совсем робко сказала мачеха.
— Когда рак свистнет! А покуда вы с голоду подохнете, если добрые люди не выручат.
Он отвесил губу и улыбнулся.
— Держитесь за меня. Сумеете угодить — как царицы жить будете. Рыбы достану, пельмени мясные будут вам.
— Вы только скажите: что надо делать? — ободрившись, спросила Ангелина.
— Скажем, спешить некуда.
Рядков приглаживал гребешком бороду и черные стоячие волосы надо лбом и висками. И, продолжая улыбаться, глядел на беспомощно-красивую и еще не окончательно исхудавшую Ангелину.
— На покойную ты мою Дусю похожа, — сказал он вдруг Ангелине и указал на портрет над комодом. — Две капли воды.
С портрета слепыми, бараньими глазами смотрела женщина в платье с глухим воротом и с черной кружевной наколкой на гладко причесанной голове. Это была очень некрасивая женщина. Но Ангелина не обиделась.
С Рядковым она познакомилась на прошлой неделе, когда ходила на Муроян, в исполком, просить материальной помощи. Ждать ей там пришлось долго. В нетопленом коридоре, где она сидела на скамейке, возился возле голландки печник. Руки у него по локоть были в саже и глине, даже борода запачкана. Но он несколько раз пристально и хитро поглядел на Ангелину, и нижняя розовая губа его при этом топырилась, как в предвкушении сладкой еды.
— Приезжие будете? — спросил он, крепя проволокой печную дверцу.
Ангелина чуть кивнула головой. После полутора часов пустого ожидания ей стало тошно. И все решительные, заранее заготовленные слова свяли, как лист ольхи по первому морозу.
— Зря ты тут ждешь, — вытирая грязные руки о рогожку, сказал печник. — Самого нынче не будет. Я тут все порядки знаю. Ты вот ступай туда, — он указал Ангелине лесенку наверх. — Там писака один сидит.
В комнате наверху Ангелина увидела горбатенького, похожего на речного рака человека, который распростер клешни над столом.
— Ничем сейчас твоей нужде пособить не можем, — сказал он, пробежав заявление, в котором Ангелина просила зимней одежды для себя и для падчерицы. — Год только начался, фонду еще не отпустили.
— Но вы должны помогать эвакуированным, — бодрясь, заявила Ангелина.
— Само собой, что должны. А вот нету сейчас ничего, верь душе. Даже пары рукавиц дать не можем. Заявление свое оставь, через две недели приходи. Чего-нето подкинем обязательно.
А пока он ей дал пропуск на разовый обед в исполкомовскую столовую. Там Ангелина съела мясной суп, а блин из яичного порошка решила отнести Марианне. Но и блин съела, едва отошла от Муроян. И вдруг с ясностью почувствовала, что никакие две недели она ждать не может и не хочет: все в ней отчаянно запросило сытости и тепла. Она не знала, на кого ей теперь обижаться, но ей было невыносимо обидно и жалко себя, молодую и красивую, в допотопном шушуне, в котором просто невозможно чувствовать себя человеком.
В эти сложные минуты Ангелину как раз и догнал на санях Рядков, тот самый печник, который лез к ней с расспросами в исполкоме. Он придерживал лошадь и, улыбаясь в бороду, предложил:
— Желаешь, подвезу, красавица заезжая? Не робей: лошадь казенная; коногон при службе. Дорого не возьму.
Ангелина села к нему в сани, на накрытые рогожей кирпичи. А Рядков продолжал улыбаться.
— Замужние?
— Да.
— А спать небось не с кем?
— Это не имеет значения, — вяло сказала озябшая и усталая Ангелина.
Рядков гладил варежкой бороду и неотрывно смотрел на спутницу.
— Не с того крыльца просить ходишь. Я тебя научу. Оденься получше — да к вечерку, когда посетителей нету, прямо к коммунальщику, к Ивану Григорьевичу. Он вашего брата любит.
— Дело в том, что мне нечего надеть получше, — тихо, но внятно призналась Ангелина.
— Это другой оборот. — И он вдруг предложил: — Тогда иди ко мне на квартиру. Сыта будешь. У меня уж если похлебка, то похлебка, а не столовская…
Рядков сказал гадкое слово, которое Ангелине пришлось молча проглотить. Ее уже тянуло на слепую покорность. И она через силу улыбнулась этому чернобородому, хитроглазому мужику.
— Только ведь со мной девочка…
— И девочке место будет. Я куски не считаю.
А когда озадаченная Ангелина заметила, что ведь ее могут и не отпустить из школы в Тихом, Рядков махнул рукой.
— Мне Ивану Григорьевичу только слово сказать.
Они ехали, и Ангелина думала, что у ее попутчика, наверное, большой, богатый дом, в котором полно еды и одежды. Перед ее глазами вдруг встала груда чего-то хлебного, теплого, печеного, и голова напухла туманом. Она закрыла глаза и предположила с надеждой, что, может быть, этому бородатому дядьке просто нужна прислуга, чтобы ему стирала, убирала?..
Но Рядков не собирался наводить тень на плетень. Он тут же, в санях, крепко обнял Ангелину за плечи и сунул свою черную бороду ей в замерзшее лицо.
— Согласна?
Сомневаться не приходилось. И все-таки чем дальше они ехали по холодной бескрайней дороге, тем решительнее Ангелина уговаривала себя: «Все зависит от того, как себя поставить. Он не посмеет…»
В первое же утро Рядков велел своей молодой квартирантке стирать белье. Он сам вынул из печи огромный чугун с кипятком и выплеснул Ангелине в корыто. Потом долго рылся в комоде и достал кусок твердого, как кость, лежалого, темного мыла.
— Где надо примыль, а зря не трать.
Он зорко глядел на Ангелину, как будто изучал каждое движение ее мокрых, красных от пара рук. И вдруг заключил:
— Стиралыцица из тебя ни к… Полоскать на речку ступай, чтобы белье мылом не воняло. Не терплю.
Он дал ей старые, разбитые пимы, и она, оскорбленная и уже уставшая, ушла, оставив Марианну вдвоем с хозяином.
— Дедушка, а как зовут вашу кошку? — осторожно спросила Марианна.
Рядков как будто в первый раз заметил девочку.
— Где это ты кошку увидела? Я такой дряни не держу. Это кот, Пишка.
Пишка уже терся возле Марианны, и хозяин ревниво сказал ему:
— Брысь!
— Дедушка, а когда я пойду в школу? — уже без надежды на добрый ответ опять спросила Марианна.
Рядков посмотрел на нее, как на глупую, и промолчал.
Обед он сварил сам, не доверив Ангелине даже почистить картошку. Чистил он ее удивительно быстро и тонко. Так же быстро искрошил, залил водой и поставил на огонь. Сделал подболтку из муки с молоком, влил, когда похлебка была почти готова. Попробовал большущей, похожей на ковшик ложкой и подсолил.
Этой похлебки он дал им досыта, и они были вознаграждены за все мучения вчерашней голодной ночи. Но ни рыбы, ни обещанных пельменей — ничего этого не было. Ни в обед, ни в ужин.
4
Зима стояла до того многоснежная и вьюжная, что делалось страшно: а вдруг да совсем накроет, заметет и из дому не выползешь, не найдешь тропы…
В избе у Рядкова было грязно, тесно, но всегда тепло. Топил он сам, дров у него было припасено много, и жарких, и легких — на всякую погоду. Лежанка круглые сутки держала теплоту, и с нее доносилось спокойное и сытое урчание кота, вгонявшее в дремоту.
Марианна в школу не ходила, потому что нечего было обувать. А Ангелине Рядков достал справку о болезни. Чего он только не мог!
— И дальше не ходи, — сказал он ей. — Карточку отберут, так и леший с ней. С полкила хлеба я тебе всегда добуду.
Эти «полкила» он действительно добывал. И если он кормил их с Марианной досыта, то одевать не спешил. Но когда на Ангелине расползлась последняя рубашка, Рядков сжалился. Загораживая собой сундук, он отмерил три локтя ситца и дал Ангелине.
Она взяла без благодарности. За эти месяцы она снова пополнела, и с бледной полнотой к ней пришло злое равнодушие, только иногда переходящее в бессильную ярость. Самое обидное и нелепое заключалось в том, что Рядков искренне считал — Ангелина пришла к нему, чтобы иметь сожителя.
— Я понимаю, — говорил он, улыбаясь, — твое дело молодое. Куда побежишь? Ясное дело — к Рядкову. Еще ни одна баба на меня не обижалась.
— Послушайте, сколько вам лет? — злобно спросила Ангелина. Она упорно не говорила Рядкову «ты», чтобы подчеркнуть этим полное отсутствие душевной близости.
Но он относил это «вы» за счет уважения и страха. Оттопырив розовую, как будто сладкую губу, он пустил пальцы гулять в черной войлочной бороде.
— Пятьдесят четвертый мне всего. Ты думала, больше?
— Да, — подавленно сказала Ангелина.
— Ан ошиблась! Кабы я в Соловках в земляной яме пять лет не отсидел, я бы вовсе за молодого отвечал. Опять же — я на кого попало не кидался, баб брал с перебором.
«Боже мой… — в тоске от его красноречия думала Ангелина. — Если бы два года назад мне сказали, что все это будет!..» И невольно ужаснулась. Был молодой музыкант, был лейтенант-летчик, потом немолодой, но интеллигентный муж. А теперь вот печник, который трясет над ее лицом бородой и позволяет себе в самые неподходящие минуты выражаться нехорошими словами.
Ангелине хотелось считать, что она пошла на все это ради Марианны. Но девочка не уставала каждый день, заглядывая ей в глаза, спрашивать: «Скоро мы отсюда уйдем? Сколько стоят билеты на поезд? А можно идти пешком? Может быть, папа нас ищет? А где теперь няня Дуня?»
Иногда они обе, воодушевившись случайными добрыми слухами, принимались мечтать о том, как поедут домой. Так фантазируют маленькие дети: сделают из стульев поезд и «едут на дачу». «Едут» до тех пор, пока мать или нянька не велят собирать игрушки и ложиться спать.
Ангелина и Марианна теперь спали очень много… На ночь Марианне стелили на кухне, а Ангелина спала в передней горнице, на постели хозяина, с четырьмя грязными подушками и ватным одеялом. Рядков с вечера укладывался на печи, а к полночи слышался его не по возрасту легкий прыжок, шелест босых пяток по половику и скрип кровати, на которой лежала Ангелина.
Десятилетняя Марианна, оставаясь одна в темноте, боялась и скучала. Однажды ночью она проснулась от боли в щеке: у нее запоздало шел коренной зуб. Марианна долго ежилась, потом тихо встала и пошла на цыпочках в горницу, где спала мачеха. В темноте она нашла кровать, но, наткнувшись на жесткую шерсть бороды, заплакала в испуге.
Что-то удержало Рядкова, и он не обругал Марианну. Ангелина, пряча дыхание, лежала неподвижно, а Рядков слез с постели, взял Марианну за руку и повел на кухню. Зажег свет и отрезал ей кусок калача. А когда она легла, он накрыл ее поверх одеяла теплым пиджаком.
— Спи, — велел он не слишком грозно. — А то цыганы придут.
Утром он поднимался рано, сам топил печь и грел самовар. Завтракали все вместе, а потом он уходил, и тогда Ангелина брала к себе на постель Марианну. После Рядкова здесь было еще тепло, пахло табаком и печной глиной.
И Марианна решилась как-то спросить у мачехи:
— Ты женилась с дедушкой? А как же папа?
Лицо у Ангелины выразило болезненную растерянность. — Ты с ума сошла! И вообще это не твое дело.
— Я понимаю, что не мое, — серьезно согласилась Марианна. — Я только боюсь, что он нас никогда не отпустит домой.
— Ну хорошо, спи, — отвернувшись к стенке, глухо сказала мачеха.
Марианна печально посмотрела в потолок, оклеенный порыжевшей от печного жара бумагой и засиженный мухами.
— Знаешь, мне совсем не хочется спать… Можно, я буду что-нибудь петь тихонько?
Ангелина повернула к ней удивленное лицо:
— Ну, пой…
— «Орленок, орленок, взлети выше солнца!..» — слабым речитативом начала Марианна.
— Не надо, — нервно вздохнув, попросила мачеха. Потом она опять уснула, а Марианна лежала и томилась в одиночестве. Хоть бы мышонок вылез из подпечья. Но мышей в этом доме не водилось: здесь был надежный кот. Часто Рядков, вернувшись к обеду домой, заставал Ангелину и Марианну под одеялом.
— Все бока пролеживаете? Я думал, может хоть раз в неделю полы примоешь.
— Завтра, — небрежно отзывалась Ангелина.
— Едите каждый день, а работать все завтра. Марианна шепотом спросила мачеху:
— А можно, я буду пол мыть?
— Еще чего! — сонно-тяжелым голосом сказала та. — Сам вымоет.
И Рядков мыл сам. Марианна со страхом смотрела, как он, раскорячившись и чуть не касаясь бородой пола, скреб его большим ножом и при этом глухо матерился.
— Пускай, пускай! — шептала Ангелина.
Марианна, ничего не понимая, смотрела на бледные, полные, как в отеке, плечи мачехи, на ее богатые, но нечистые и потому потерявшие золотистость волосы, которые уже отросли ниже плеч и которые она никогда не заплетала. Однажды Марианна почувствовала под собой на простыне хлебные крошки и, пошарив рукой, нашла остатки хлеба под подушкой: мачеха ела даже ночью, когда Рядков спал.
То, что Ангелина располнела, было ему по душе.
— Бездельник телок, зато мясо сладко. А вон на эту, — он указал на Марианну, — зря только хлеб перевожу.
Он не любил девочку и ревновал к ней кота. Этого зеленоглазого мордатого зверя даже Ангелина не вытеснила из хозяйской души.
— Вы мне — никто. Не родня, не кровные, — сказал как-то Рядков. — А его я из ямы котенком вытащил, когда топить бросили. Одного молока сколь ему споил!
Ангелину задели эти слова, и она бросила небрежно и оскорбительно:
— Ну и сидите со своим котом!
— И посижу, — спокойно отозвался Рядков. — Вот ты рожу свою воротишь, а он меня никогда когтем не задел. Меня люди стороной обходили, а этот кот другом мне был. — И добавил грозно: — Ежели тронете когда этого животного, горькими слезьми будете плакать!
День ото дня раньше начинало белеть за окошком. Уходил вьюжистый февраль, отпускали морозы. Как-то утром, когда Ангелина еще дремала, Марианна спустила с постели босые ноги. Кот тоже спрыгнул с лежанки и подошел к ней. Она взяла его на руки и села на лавку около окошка, до половины уже оттаявшего. Улица была голубоватая, спокойная. Ночью порошил легкий снег, и дым из труб шел книзу, стелился по крышам серым войлоком.
— Ты куда? — сонно спросила Ангелина с постели, заслышав скрип двери.
— Пишка хочет на улицу.
Утонув ногами в большущих разбитых пимах и прикрывшись шалью, Марианна постояла у калитки, прижимая к себе теплого кота. Мимо прошли две женщины с ведрами на коромыслах и остановились.
— Ты чего же мерзнешь тут?
— Я гуляю, — сказала Марианна.
— Уж какое гулянье в одном платьишке…
Они понесли дальше свои ведра, плеская голубой водой в чистый снег. Потом одна из женщин вышла на крыльцо и поманила Марианну. Та отпустила кота и нерешительно пошла через улицу.
— Соседка, а знаться не хочешь гляди-ка, у меня тоже девушка маленькая есть.
И показала Марианне годовалую девочку.
— А Сеньку моего знаешь? Отличник!
— Нет, — сказала Марианна. — Я сейчас, к сожалению, не посещаю школу.
Хозяйка пошла ставить самовар и дала Марианне подержать девочку. Та была тяжеленькая, немоватая, с круглыми глазами. Долго держать ее на руках Марианне было трудно, поэтому она вместе с девочкой села на пол, на чистый половик, от которого пахло речным полосканием. Так же пахло и платье на девочке.
— Маменька твоя, я гляжу, все дома да дома. Хворает, что ли?
Марианне сделалось очень неловко.
— Вы знаете, она очень неприспособленная…
— Неспособная — так покажут. Чего ж за печкой сидеть? Чай, вы молодые.
Марианне не хотелось отсюда уходить. В этом доме было все, чего так не хватало в рядковской избе: ровная, недушная теплота, белизна печи, тень занавесок, яркость самоварной меди. А главное — ребеночек, спокойный, как будто понимающий…
— Тетя, а у вас есть радио? — спросила Марианна.
— Как не быть!
Хозяйка включила репродуктор, и Марианна подошла поближе.
— Это «Половецкие пляски», — сказала она. — А вы не скажете, как на фронте? Мы ведь абсолютно ничего не знаем.
Провожая Марианну, хозяйка дала ей крупное белое яичко.
— Ходи к нам. С Томкой поиграешься.
Дома Ангелина с тревогой посмотрела на падчерицу. — Где же ты была?
— В гостях, — сказала Марианна. И вынула из кармана яйцо. — Меня пригласили, и я пошла.
Потом она села возле мачехи и добавила очень серьезно:
— Это просто ужасно, что мы никуда не ходим. Ведь мы совсем молодые!
Ангелина смотрела на нее со странным выражением лица.
— Нет, Марианна, — тихо сказала она, — я уже не молодая!
Однажды Ангелину разбудил стук в неурочное время. Окно было заморожено, и нельзя было увидеть, кто стучится у ворот. Сам Рядков никогда не стучал, наоборот, приходил неслышно, зная секрет засова на калитке, и они узнавали о его приходе, когда он уже появлялся в избе, высокий, белый от метели, и с его приходом по кухне вместе с запахом зимы тянулась ворчливая руготня.
А тут кто-то стучал громко и упорно. Пришлось кое-как одеться и идти отворять, хотя Рядков и запрещал пускать чужих.
Пришел председатель колхоза Лазуткин. Оглядел избу и сел без приглашения.
— Хозяина нету? — спросил он сиплым с мороза баском.
— Нету, — тихо ответила Ангелина, придерживая заношенную рубашку у ворота.
— А вы, значит, квартирантка его будете? Так… Слышал, что из школы ушли. На какие средства прожить рассчитываете? Может, в колхоз к нам работать пойдете?
Растерявшись перед этим молодым, аккуратно одетым мужиком, глаза у которого были серо-голубые, как цветок барвинка, Ангелина безуспешно пыталась поправить нечесанные волосы. А в голову ее, изморенную душным жаром избы, невольно кинулась мысль: вот не смогла же судьба послать ей этого чистенького, наверное, ласкового мужика!
— А какая у вас работа? — со слабой, но чуть игривой улыбкой спросила она.
Но Лазуткина эта улыбка не проняла.
— Разная у нас работа, — сказал он со спокойной деловитостью. — Сельская. С лошадьми водиться не приходилось? Запрягать сможете?
— Нет, — стукнув зубами от волнения, сказала Ангелина.
— А доить?
Она покачала головой.
— Худо!
Он молча размышлял, куда ее такую деть — пухлую, белую и малоподвижную, с маленькими, не по комплекции, руками и ногами.
— Беда с тобой, девка! Уходи ты отсюдова, пока не поздно. А то ведь захряснешь, образ свой потеряешь. Ежели мы все так-то вот сядем да руки складем, кто же армии нашей пособит? Ей ведь тоже есть надо.
Ангелина молчала.
— Неси заявление. Я вам хлебушка, картошки понемногу выпишу. До весны перебьетесь.
— А в чем же я пойду работать в ваш колхоз? — спросила Ангелина. — Босиком?
— На крайний случай лапти обуешь. Сейчас это не зазорно.
— Вы-то вот не ходите в лаптях, — сказала она, указывая Лазуткину на его черные, подшитые кожей пимы.
Председатель поднялся.
— Ну, как хошь. Не гнусно тебе здесь быть, так сиди.
А вот девочку вы обязанные в школу посылать. Думаете, что раз война, то и законов уж нету?
Рядкову об этом визите Ангелина ничего не сказала. Но он каким-то образом узнал и сам.
— Вот так-то вас, дураков, и охмуряют. Лазутке план надо исполнить, вот он и ходит, агитирует. Чего ты в колхозе-то не видела?
— А вы сами разве не колхозник? — растерянно спросила Ангелина.
— Только бы не хватало! Я от исполкома, при коммунальном отделе состою. Я человек рабочий.
Потом Рядков рассказал Ангелине, что отец вот этого самого председателя Лазуткина в двадцать первом году его, Рядкова, выследил, когда он тайком в деревню пришел жену свою повидать.
— Восьнадцать месяцев я на Печоре у зырян скрывался, очень по супруге скучал. Трое суток не спал, до бабы дорвался, — сразу уснул. А Лазутка как тут и был. Привел с собой еще двоих сельсоветчиков, связали меня, чуть руки не пообрывали… Ну и я им легко не дался: зубами действовал, как голодный волк!
Рядков топырил губу и мрачно улыбался.
— Жалко, мало мы их, красногузых, в восемнадцатом году драли! — добавил он с ядовитым сожалением и сделал жест своей длинной, как плетка, рукой, будто стегнул с потягом.
Ангелина, вздрогнув, отодвинулась. Она даже и не представляла, что у советской власти есть еще настоящие враги. Неужели он и ее считает такой же, раз говорит ей такие вещи?
Рядков и сам почувствовал, что пересолил: кто ее знает, еще доносить побежит. Когда легли спать, он долго молчал. Потом его шершавая от холодной воды и глины рука тронула Ангелину за плечо.
— Ты в одно ухо слушай, а в другое выпущай, — сказал он мягко. — Вот к весне я тебе сам хорошее место найду. У самого хлеба будешь.
5
Все, что пряталось зимой за высокими сугробами, за темнотой, за короткими пасмурными днями и длинной, скрипучей от мороза ночью, — все это с первым порывом весны запросилось наружу. Мартовский луч ударил в окошко и высветил даже самый темный и грязный угол. Звон капели не давал спать, как раньше, до полудня. Небо и вода в открывшихся полыньях звали своей чистой синевой, и хотелось смыть с лица все, что легло на него за долгую, томительную зиму.
В одно студеное, но ясное утро Ангелина и Марианна вышли на улицу. До полной весны было еще далеко, лед на реке держался, только подплыл голубой водой. Но серые тени на снегу и оголившиеся завалинки говорили о том, что еще неделя — и быть ростепели.
Накануне посыльная из правления колхоза принесла для Марианны ордер на калоши.
— Председатель, Федор Абросимыч, вам отхлопотал. Бежите в магазин, выкупайте.
А уходя, предупредила с серьезностью:
— Глядите не сменяйте на что: у председателя у самого дети разутые.
На мысках калош играло черное солнышко, внутри алела мохнатая подкладка. Это были игрушки, а не калоши. Марианна до самого вечера не выпускала их из рук.
— Обула тебя советская власть! — усмехаясь, заметил Рядков. — Ну-ка, дай погляжу.
Но Марианна прижала калоши к груди и сказала мужественно:
— Это мои личные калоши. Пожалуйста, их не трогайте.
…Ради первого дня мачеха могла б и проводить Марианну до школы. Но она ступила всего несколько шагов от калитки и сказала, пряча лицо в платок:
— Ты иди одна. Тут ведь недалеко. Смотри снегу не набери в калоши.
Марианна побежала, а когда оглянулась, мачеха, хоронясь посторонних взглядов, поспешно закрывала за собой высокую калитку.
— Ну что, проводила? — спросил с печи Рядков. У него ныли ноги, с вечера он принял какой-то «состав», а теперь прогревался.
Ангелина, не ответив на вопрос, молча раздевалась. Давно не мытые, но все еще красивые волосы свалились ей на плечи.
Рядков привык к ее неразговорчивости. На его собственную словоохотливость это не влияло.
— Я те вот что скажу: ты эту девчушку за собой не закрепляй, — посоветовал он, растирая ладонью сучковатые коленки. — Отец жив останется, а нет — государство воспитает, у него карман большой. Тебе дай Бог самой как-нибудь прожить. К труду ты неспособная.
— Это не ваше дело совсем, — неприязненно сказала Ангелина.
— Как же не мое? Я ведь вас обоих кормлю.
Рядков слез с лежанки и заковылял в сени вытрясать самовар. А Ангелина взяла гребень и подошла к зеркалу. От печного жара и копоти зеркало стало грязно-свинцового цвета, и смотреться в него было все равно что в стоячую болотную воду.
Но в избе в это утро было очень много солнца, так что и в этом зеркале Ангелина увидела свое большое белое лицо с нечеткими, очень бледными губами. Под глазами и у рта, как грязь, легла тень.
— Хороша, хороша, — заметил Рядков, застав Ангелину у зеркала. — Садись кашу есть.
Ангелина не была голодна. Но она по привычке взяла ложку и пододвинула чашку к себе поближе, так что Рядкову нужно было тянуться через весь стол. Но он ел мало, как больной или маленький ребенок. Только два раза протянул свою длинную, худую, как кнутовище, руку, а потом вовсе положил ложку. Ангелина молча съела всю кашу одна, до последней крупки.
Внезапно подняв голову, она увидела, что Рядков смотрит на нее в упор.
— Ты дальше-то жить со мной будешь? — спросил он тихо и даже ласково. — Не обманешь?
И, не получив ответа, глубоко и нервно вздохнул.
— Я ведь тебя, дуру, люблю! Не было бабы, окромя супруги, какую бы я целовал. А тебя целую!
Ангелина опять ничего не сказала, и он вдруг вскрикнул:
— Чего молчишь-то? Я с тобой разговариваю! Она вздрогнула, но ответила достаточно дерзко:
— Что же я, должна теперь всю жизнь в четырех стенах сидеть? Я хочу хоть людей видеть.
Рядков вскочил, загремел посудой, забегал. Его черная высокая тень заметалась вслед за ним по избе.
— Да куда ты годишься — на люди-то тебя пустить? Учительница из тебя, сам слышал, никудышная, любой сопливый мальчишка тебя просмеет. Никакой работы не знаешь, барыня на вате! Тебе только в постельницы и идти, куда больше-то!
Он забросал ее обидными словами, но чем больше злился сам, тем злее и бледнее становилось лицо Ангелины.
— Вы — кретин! — негромко, но жестко сказала она.
— От хретины слышу, — уже более миролюбиво отозвался Рядков. И вдруг неожиданно заулыбался: — Зря кусаешься. Нам с тобой в ладу надо жить. Кто тебя еще прилюбит, кому нужна?
— Напрасно вы так думаете, — все еще зло сказала Ангелина. — И без вас мне помогут. Он покачал головой.
— Это кто ж тебе поможет? Помогают таким, какие работают, для государства стараются. А вы кто? Вы бары белорукие!
Ангелина подавленно молчала. Но обида росла, колола и душила.
— Ну, хорошо, я барыня, — тихо сказала она. — А вы? Вы раньше истязали людей, а теперь меня мучаете. Вам ведь все равно, что сейчас война, что люди переживают такое горе…
Рядков только усмехнулся.
— Ты уж шибко переживаешь! Как припекло, ты юбку подобрала — да дралка! Чего же ты, такая сознательная, за родину грудью не стала?
— Ведь я же женщина, — слабо возразила Ангелина.
— Ваша сестра сейчас тоже в ход идет. Вон в газете пишут, что немцы девку одну словили да в петлю. А она одно торочит: «Да здравствует Советская власть!» Ты, чай, такого и во сне не видела.
Ангелина сидела, опустив непричесанную, будто побелевшую голову.
— Тут вы правы, — тихо сказала она. — Я этого не могу…
Рядков торжествовал:
— То-то! Ну и помалкивай тогда.
Выпив стакан пустого чая, он начал собираться на работу. Еще раз натер себе чем-то пахучим опухшие коленки, обернул их шерстяными лоскутами и, поскуливая и ругаясь, сунул ноги в валенки, натянул рыжий от глины ватный пиджак, надел старую-престарую шапчонку на заплешивевшую голову и подвязал фартук.
— Ладно, пойду, — сказал он, забирая мастерок и другой печной инструмент. — Ты уж без меня не скучай. — И потянулся, чтобы поцеловать на прощание.
«Не скучай!..» Он еще думает, что она может без него скучать, как верная жена без мужа или собака без хозяина!
Рядков ушел, а Ангелина так и сидела у стола с неприбранной посудой. В низкие окна ударяли широкие полосы света и преломлялись на грязном щелястом полу. Все, что стояло, лежало, висело в этой избе, вдруг показалось ей таким нечистым, непромытым и безобразным, что у нее не было больше сил смотреть.
Глаза Ангелины невольно остановились на сундуке. Он был большой, окованный железными полосами, с массивной накладкой и надежным амбарным замком. Это от нее, с которой он спит, прячет Рядков свои «богатства». Наверное, было бы справедливо принести тяжелый колун и сбить прочь этот замок. Хотя бы для того, чтобы одеть девочку. Почему она должна мерзнуть? В чем она виновата?
…Это ужасно, что здесь такие долгие, как испытание, нестерпимые, холодные зимы! Ангелина почти с умилением вспоминала спокойную, теплую осень в Тихом, робкую в своей бедности вдову, ушедшего на фронт рыжего Сеню-бригадира. Вспомнила, как плакала Марианна, когда они уезжали из Тихого.
«И этот мерзавец хочет, чтобы я Марианну теперь куда-то отдала! Вдруг он в самом деле этого потребует?»
Ангелина тихо заплакала от отчаяния. Плакала долго и, сама того не замечая, произнесла вслух несколько гадких ругательств, которые так часто слышала от Рядкова. Потом она вытерла слезы, подобрала растрепавшиеся волосы и стала думать о том, что делать.
Заскрипела калитка. Это вернулась Марианна, озябшая, с красными пятнышками на щеках. Платок сполз у нее на затылок, и на коротеньких светлых волосках надо лбом лежала светящаяся изморозь.
— Что это ты так быстро? — пряча заплаканные глаза, тихо спросила Ангелина.
— У нас только один урок был, — живо сказала девочка. — А потом нас на ферму водили, мы там кормили теленочка.
Марианна торопливо сняла свои новенькие калоши и подбежала к мачехе.
— Знаешь, какая у нас учительница хорошая! Мы стихи про войну читали! А чего ты плакала? Тебя дедушка обидел?
Ангелина не ответила.
— Ты правда хочешь, чтобы мы ушли отсюда? — тихо спросила она.
Глаза у Марианны стали большими-большими.
— Конечно! Мы же будем работать! Я тебя так буду любить за это! — И она кинулась мачехе на шею.
Та впервые обняла ее с материнской силой.
— Марианна! — рыдая, сказала она. — Я тебя никому не отдам! Ты же моя девочка!..
Утро было белое и опять резко холодное. Ангелина повязала голову черным платком и надела рыжую от глины телогрейку. Рядков уже был на работе, Марианна в школе. Кот с лежанки пристально смотрел на Ангелину, будто спрашивал: «Куда идешь?»
Она вышла на улицу и тихо пошла вдоль заборов и плетней по скользкой тропе в сыром снегу. И так же тихо, пряча лицо, спросила у встречной женщины, где живет председатель колхоза.
Лазуткин жил совсем неподалеку. Ангелина увидела его дом, который, пожалуй, был хуже других: и ниже, и темнее, и без крытого двора.
— Нету самого, — гостеприимно сказала Лазутиха. — К конюхам пошел. Сядь-ка, посиди.
Председательская жена по росту была баба-гвардеец, на полголовы выше дверной притолоки. Говоруха, щербатая и с сильной рябью на улыбчивом лице. Ангелина втайне надеялась, что Лазутиха не догадывается, кто она такая. Но та все знала. И спросила живо, как о чем-то совсем обычном, житейском:
— Ладишь со своим-то? А то ведь он Авдотью свою покойную так мутусил! По неделе на улицу глаз не казала, родимая!
Ангелина вспомнила, с каким уважением, даже с любовью говорил Рядков о своей покойной жене. И невольно содрогнулась.
— А ты не в положенье ли? — не унималась Лазутиха. — Чтой-то вроде пухлая?
— Да что вы! — вспыхнув, сказала Ангелина. И поднялась, чтобы скорее уйти.
Но хозяйка поймала ее за рукав.
— Слышь, чего скажу-то! Мы тут на Восьмой март собрались, киселю наварили, бражки! Уж попели, уж поплясали! Надо душу-то отвести нам, женщинам. Чай, мы работаем!
Она бы наговорила много, но Ангелина, боясь расспросов, не стала ждать и пошла искать Лазуткина сама. Наезженный след, чернота и навоз на снегу показывали, что тут дорога к конному двору. Она вышла на черный пятачок, в полукружье старых саней с поднятыми оглоблями и снятых с колес тележниц. Где-то рядом мальчишеские голоса покрикивали на лошадей и слышалось лошадиное отфыркивание.
— А! — сказал Лазуткин, увидев Ангелину. — Здравствуйте! Милости просим гривен на восемь!
Он вроде бы и не очень удивился, что она пришла.
— Давай за сарай отойдем, а то ветрено тут, продует тебя, — предложил он, мельком взглянув на ее ненадежную «справу».
Лазуткин был красивый, немного застенчивый молодой мужик. Ыа мгновенье у Ангелины, когда она несмело взглянула в его серо-голубые глаза, опять родилась смутная мыель — увлечь, завоевать этого председателя. Но она тут же сама впервые устыдилась своих намерений.
Да и Лазуткин казался неприступным. Отойдя вместе с Ангелиной за стенку сарая, он и не подумал заигрывать, а спросил деловито:
— Ну, так что скажешь?
— Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь работу, — не глядя ему в глаза, тихо попросила Ангелина.
Он немного помолчал.
— Я уж тут про тебя думал, с правлением говорил. Надо нам, девка, тебя из этого омута тащить. В учетчицы пойдешь?
— Конечно! — сказала Ангелина и, в первый раз не испытав обиды от мужского равнодушия, вдруг заплакала от благодарности.
— …Все, все как есть подай сюда! — кричал Рядков, размахивая длинными, граблястыми руками. — Все до нитки скидай!..
Он толкнул Ангелину на постель и с силой стащил с ее ног валенки.
— К Лазутке ходишь! Поглядим, как гола-боса побежишь к своему коммунисту! Он тя в лыко, в рогожу оденет!..
— Я же ходила насчет работы… — сдавленно произнесла Ангелина.
— Насчет работы контора есть, а не по-за амбарами шастать! Скидай платье, говорю!
Ангелина почти машинально сняла с себя старое сатинетовое платье, утратившее цвет от долгого лежания в сундуке, — платье это принадлежало еще покойной Рядчихе. Рядков подхватил платье, быстро отомкнул сундук и сунул его туда.
— Рубаху давай! — приказал он, не глядя на Ангелину.
Она сидела почти нагая и смотрела на него остановившимися глазами. И в ту минуту, когда Рядков, решившись, видимо, поступиться рубахой, уже замыкал сундук, Ангелина вдруг метнулась к печи, схватила молоток, которым бьют кирпич, и с маху ударила Рядкова по лысеющему темени острым бойком.
Рядков сел на пол и закинул голову, прихватив ладонью хлынувшую кровь. Всегда розовая его губа мгновенно побледнела, а глаза из маленьких и глубоких стали большими и страшными.
— Нет, — сказал он еле слышно, — нет, врешь, не убьешь!
И, опершись на руки, он стал сначала на четвереньки, потом, шатаясь, выпрямился и пошел на Ангелину. Она вскрикнула страшным криком и, как была, босая и в одной рубашке, бросилась к двери.
Калитка, ведущая на улицу, была замкнута на засов. Боясь, что не успеет ее отомкнуть, Ангелина кинулась в раскрытые огородные ворота.
Натоптанная тропа вела к берегу и дальше, через реку. Ангелина бежала и не видела, как угрожающе синеют на реке разводья. Она в ужасе оглянулась на рядковский дом и сбежала на лед. Но под босыми ногами ее вдруг раздался хруст, и она опять отчаянно закричала.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Этот зимний день у Зорьки тоже остался в памяти. Было это на праздник Конституции, 5 декабря 1947-го… В деревне не работали, готовились к выборам в местный Совет. Доверенные ходили по избам со списками и убедительно просили, чтобы в день выборов хозяйки с утра не затевались с делами, а шли бы скорее голосовать.
— Эх, жизнь! — с сожалением сказал Зорька, узнав, что на участке будет буфет и на каждого избирателя шоколадные конфеты и белый хлеб по килограмму. — Не видать, значит, мне этих конфет: семи месяцев не хватает, не дорос.
Зорьке по этой осени пошел восемнадцатый. Он изо всего вырос, помощнел, скулы у него раздались, и на них затопырилась шерстка. Табаку он еще не курил, и цвет лица у него был девичий.
Накануне праздника Зорька поставил пять петель на зайцев. Надо было теперь пойти посмотреть. Он бежал пушистым полем, скользя на самодельных широких лыжах и отталкиваясь единственной палкой. Декабрьское желтое солнце посверкивало ему в глаза, и он высоко, как молодой олененок, вздергивал голову и щурился.
Лес встретил Зорьку белой тишиной. Зеленые веточки молодых лиственниц посыпали его плечи снегом. Зорька пригнулся и юркнул в чащобу.
Две петли остались пусты, около одной похозяйничала лиса, оставив только кровь да шерсть на снегу. А двух зайцев Зорька вынул сам. Они были твердые, длинные, со смерзшимися попарно лапами и со стеклянными от мороза глазами. Он прицепил их к поясному ремню и побежал обратно. Зайцы болтались, холодили ему бедра через ватные штаны.
От леса Зорька покатил вниз, под угор, где скрестились две дороги: одна к ним, в Боровую, другая на Муроян. А сбоку, в редкой белой рощице, бугрился старый могильник с часовней, порушенной и растасканной на ремонт печей. Там уже давно никого не хоронили, поэтому-то Зорька так удивился, увидев девочку. Невысокая и тоненькая, она ходила от могилы к могиле, с трудом переставляя ноги по глубокому уже снегу.
Девочка вздрогнула, когда сверху, с угора, почти прямо на нее скатился вдруг парень на лыжах.
— Ага, испугалась! — густо сказал Зорька. — Ты чего тут ищешь?
Девочка подняла на него светлые, разумные глаза и тоже спросила:
— Как вы думаете, что можно искать на кладбище? Я ищу могилу.
— Это чью же?
Она не ответила. Зорька с удивлением разглядывал ее. На девочке был надет коротенький, казенного покроя бушлатик со следами железной окалины и машинного масла, тонкий бумажный платок с цветами, мальчиковые ботинки, обутые поверх грубых шерстяных носков. Щеки у девочки были маленькие, плоские и без румянца. Зорьке даже неловко стало за свои собственные розовые скулы.
— Ты не детдомовская? — осторожно спросил он. Я раньше в детдоме жила. А теперь я уже работаю на механическом заводе.
Зорька ласково усмехнулся:
— Такая маленькая, а уже работаешь!
— Почему маленькая? — серьезно заметила девочка. — Мне уже шестнадцать лет.
Она сняла с руки варежку и заправила под платок негустую светлую прядку. Тут Зорька увидел, что пальцы у нее какие-то голубоватые, прозрачные, так что, кажется, косточки видны. И в нем сразу всколыхнулось ребячье воспоминание.
— Как тебя звать?
— Марианна.
— Ты мачехину могилу ищешь? У Марианны дрогнули ресницы.
— А откуда вы знаете?
— Стало быть, знаю, — уже бодрее заявил Зорька. — Вы ведь у Рядкова на квартире стояли. А ты меня помнишь?
Девочка подумала и покачала головой.
— Не помню. Это ведь уже давно было. Когда еще была война…
Они смотрели друг на друга. Зорьке показалось, что Марианна не хочет или боится обо всем вспоминать. А он помнил…
Весной сорок второго полая вода вынесла ниже Мурояна утопленницу. Тело было дочерна побито льдом и морожеными кряжами, оставшимися от сплава. Опознали рядковскую квартирантку, привезли сюда, в Боровую, и похоронили на старом могильнике. На похороны пришли только одни старухи да еще председатель колхоза Лазуткин. Марианны на похоронах не было: наверное, ее пожалели и не привезли из детского дома.
— Знаешь что, — сказал Зорька, — ничего мы тут с тобой сейчас не отыщем. Она ниже, в ложке… Снежищу там по пояс. А весной, когда сойдет, я тебе покажу.
Зорькина деревня была совсем рядом, и он решил позвать Марианну погреться. Она подумала и пошла с ним, раза два оглянувшись на засыпанное снегом кладбище.
Зорькин домик лепился с краю деревни. За огородом сразу же рос низкий колючий сосняк. Калитки у ограды не было. Зорька поднял жердину, заменявшую ворота, и пропустил Марианну во двор, как хозяйки впускают овечку или теленка. Крылечко было ветхое, мерзлые ступеньки жалобно поскрипывали.
— Срок в армии отслужу, все наново перелажу, — сказал Зорька.
Изба была пуста. Наверное, Зорькина мать ходила по соседям, разводила тары-бары. На шестке лежал на боку немытый чугун, из которого дотекала лужица картофельной похлебки.
— Не истопила, — покачал головой Зорька, тронув печь рукой. — Вот еще горе-то горькое… Ты погоди, я живо!
— Давайте я вам что-нибудь помогу, — предложила гостья.
Зорька только рукой махнул: сиди, мол! Тогда Марианна сняла свой бушлатик и уселась на лавку. Глаза ее остановились на стенке, которую Зорька всю обклеил вырезанными из газет и журналов картинками, а также конфетными бумажками.
— Очень красиво получилось, — искренне сказала она. — Это вы сами сделали?
Когда в печи запрыгал огонек, Марианна подошла и села возле печной дверцы, поближе к теплу.
— А ты храбрюга! — желая польстить, заметил Зорька и пододвинулся чуть-чуть к ее остренькому плечу. — Одна не побоялась на могильник пойти.
Она не приняла комплимента.
— А чего же бояться? Что там может быть страшного? Вы разве боитесь? — Она взглянула в окошко и добавила озабоченно: — Гораздо хуже, что скоро начнет темнеть, а мне домой далеко…
— Я провожу, — успокоил Зорька. — Аль я уж не парень? Потом он спросил, как она теперь живет.
— Сейчас ничего. Хорошо, — ответила Марианна.
У нее было белое лицо с грустными, но живыми глазами. И Зорька немного тушевался, чего с ним раньше никогда не бывало: он был говорун и девчатник и уже обцеловал в своей деревне всех хорошеньких девчонок.
— А я думал, плохо тебе живется, раз ты на могилу пришла. Кому хорошо, тот не ходит.
Марианна покачала головой.
— Ходят потому, что память… Когда я была в детском доме, нас не пускали одних далеко. А теперь я могу ходить куда захочу.
— Вот и к нам приходи, — предложил Зорька. — Придешь?
— Спасибо, — сказала Марианна. — Если позволят обстоятельства.
Ее велеречивость все больше удивляла Зорьку. Он привык, что девчонки или хихикают, или отмалчиваются, особенно если парень малознакомый. А эта была совсем другая.
— А то, желаешь, я к тебе прибегу? — предложил он. Марианна как будто смутилась:
— Да нет, не надо.
— Боишься, что ль, кого?
— Я не боюсь, а так… — уклончиво сказала Марианна. Но Зорька не унимался:
— В кино бы сходили. А то, может, у тебя другой парень есть?
Он готов был задать еще много вопросов, но тут пожаловала его мать.
— Гли-ка, гости! — сказала она тоненьким, певучим голоском. — Никак сынок мой сударушку себе привел?
— Чего болтаешь? — сурово и смущенно оборвал Зорька.
Мать уселась возле Марианны.
— Глазычки-то какие ясные! А тельца-то нету… Сирота небось? Не досыта кушаешь?
Зорька воспользовался моментом и попросил:
— Сварила бы чего-нибудь. Дело-то к ужину.
— А ково варить-то? — улыбнулась мать. — Неково, сыночек, варить.
Зорька показал ей зайцев, уже оттаявших в тепле. Мать вздохнула.
— Ох, дайте вдове поправить на голове! Ведь его свежевать надо, а у меня и пальцы не слушаются.
Зорька досадливо махнул рукой.
— У нее сроду так, — обяснил он Марианне, выйдя вслед за ней в сени. — Больная она у меня. Ты возьми себе.
Он поднял за уши зайца в закровавленной шкурке и подал Марианне. Она неволько отшатнулась:
— У него еще глаза глядят!
Но она все-таки взяла этого зайца и с Зорькиной помощью упрятала в ситцевый мешок.
— Большое спасибо, — прочувствованно сказала она. — Мне даже неудобно, что вы отдаете… Разве заяц вам самим не нужен?
Зорька хотел проводить ее до самого Мурояна, но Марианна отказалась. Он все-таки постоял на дороге до тех пор, пока она не свернула за белый перелесок.
«Ну, говоруха! — улыбаясь, думал он. — Чудная!..»
На конном дворе Зорька принял ночное дежурство. Развесил чиненые хомуты, долил в поилку десяток ведер воды со льдом, чтобы к утру согрелась. Льдинки закружились, перемешались с плавающими соломинками, превратились в иголочки и растаяли. Зорька взял вилы, пошел в стайки. Там, в одной из них, белесой от пара, висел на подвесах его давний приятель, вконец одряхлевший сивый Бурай. Под глазами у мерина была слезная чернота, спина вогнулась, брюхо оплыло шаром. Ясно было, что Бурай свое отработал.
Но ни у кого рука не подымалась списать коня из жизни. Только мальчишки конюхи, пользуясь тем, что Бурай не ест, растаскивали его порцию овса по карманам.
Зорька нагреб в шапку отрубей, дал Бураю из своих рук. Но Бурай жевать не мог, зубы его хлопали.
— Эх, — мрачно сказал Зорька, — Бурай ты, Бурай! — И ответил на шумный, больной вздох коня тоже глубоким, тревожным вздохом: горько было думать, что не сегодня-завтра старого конягу оттащат в яму.
Зорька почувствовал вдруг, как вместе с Бураем уходит и его нелегкое отрочество. Он сегодня не стал рассказывать Марианне, как прожил сам эти шесть лет. Сколько своими руками и на своем мальчишеском горбу перетаскал тяги, скучая о куске хлеба.
Только в сорок пятом было у них в деревне всего много — хлеба, молока, картошки. С них-то Зорька и начал вдруг расти, волосы у него закудрявились, голос обломился, и взрослые девчонки стали принимать его в компанию. Стыдновато было, что плохо одет, но и тут повезло: за хорошую работу Зорьке дали американский подарок — бархатные штаны и мохнатую длинную шерстяную рубаху с красными стрелами на груди. Рубаха была очень красивая, но все же он засомневался: не женская ли?
— Не понимаешь ты ни лешего! — объяснили Зорьке. — Это теперь самая мода.
Зорька пришел с мороза домой с красными щеками да еще с красными стрелами на рубахе и в новых штанах. Мать посмотрела на него и вдруг заплакала.
— Не нравится?.. — огорченно спросил Зорька. — Понимала бы ты что! Ведь это самая мода!
Вспоминая теперь все это, Зорька по-взрослому усмехнулся. Американские штаны уже протерлись, рубаху со стрелами мать распустила на варежки. Быстро летит время!
Бурай вывел Зорьку из задумчивости, толкнув мордой в плечо. Зорька потрепал его по теплым ноздрям. Пора было заниматься делами. Но сегодняшняя встреча с Марианной не шла у него из головы.
2
По воскресеньям в Мурояне собирался большой базар. Полным-полно натаскивали всякого барахла. Военный с саперскими погонами на шинели предлагал женскую кофточку с яркими розами на груди и руках, — наверное, японскую, трофейную. Какой-то дядя держал в озябших руках американские пудовые ботинки с железной оковкой, два раза подбитые стальными шипами. Шерстобиты выносили новые бурые пимы с твердыми, как трубы, голенищами и просили по пять сотен за пару.
— За пять сотен сам носи! С рождества цыган шубу продает.
Меньше было едового. Бабы торговали замороженным молоком, ржаными шаньгами, картофельными оладьями и конфетами своей варки. В особом ходу были хлебные карточки. Но шли они по дешевке: уже слух был, что вот-вот отменят.
Зорька оглядывал базар, прошел вдоль рядов. И вдруг… увидел Марианну.
Она, закутавшись в большую шаль, стояла за деревянным рундуком. Перед ней на платке была насыпана горка белой мокроватой соли. Тут же стоял и небольшой граненый стаканчик. Но Марианна не смотрела на свой товар: в руках у нее, спрятанных в белые варежки, была какая-то потрепанная книжка, и чуть опушенные изморозью глаза внимательно ходили по строчкам.
— Здорово! — громко сказал Зорька.
Марианна вздрогнула, положила книжку и сделала движение — закрыть свою соль.
— Торгуешь, значит? Ты ведь обещалась прийти.
— Не могла, — тихо сказала Марианна.
— Прямо уж не могла! Небось не захотела. Зорька как будто наслаждался ее смущением.
— Почем соль-то у тебя? Она ответила еще тише:
— Пять рублей стакан.
— Дорого. В этом стакане мухе пить подавать. Марианна вдруг спросила очень серьезно:
— Почему вы смеетесь? Разве смешно?
Зорька опешил.
— Да я не смеюсь… Валяй торгуй. Только уж книжки читать нечего, а то проторгуешься… — И потянулся, чтобы заглянуть, что Марианна читала.
Но она поспешно спрятала книжку за пазуху, собрала соль в платок и, увязав ее вместе со стаканчиком, вышла из-за рундука. Они вместе с Зорькой пошли по улице.
— Хотите, возьмите себе эту соль, — предложила Марианна. — Вы же тогда подарили мне зайца. А тут еще четыре стакана.
Зорька посмотрел ей в глаза.
— А где ты ее берешь?
— Нам один человек приносит…
— Кому «нам»?
— Мне и Шурке.
— Какому такому Шурке?
Марианна живо рассмеялась: было очевидно, что Зорька ревнует. Но она тут же сказала с видимой печалью и в первый раз на «ты»:
— Думаешь, мне очень нравится продавать эту соль? Если бы я жила одна… А то у нас с Шуркой все вместе.
Потом она объяснила Зорьке, что Шурка — это ее старшая подруга.
— Она меня редко посылает на базар. Но сейчас она простудилась.
Зорька перестал ревновать и, оглянувшись по сторонам, взял Марианну за озябшую руку.
— Смотри, в другой раз приходи без обмана. Я ведь тебя ждал…
Они постояли немного возле водокачки, окутанной белым морозным паром. По обмерзшему желобу в подставленные водовозами кадушки рвалась с шипением синяя, тяжелая на вид вода.
— Будешь со мной ходить? — тихо спросил Зорька. — А если не нуждаешься мной, то говори прямо…
Большеносая, зеленоглазая Шурка сурово посмотрела на свою младшую товарку.
— Так чего он тебе трепался, парень этот?
— Он говорит: «Давай будем с тобой ходить»… — смущенно призналась Марианна.
Шурка с силой колотила деревянной киянкой по согнутой полосе железа. Кругом тоже наперебой стучали молотки, лязгали станки-ножницы и выплевывали ушки с двумя дырочками, которыми крепились ведерные дужки, ручки к шайкам, питьевым бачкам и прочей посуде. Хотя основным назначением завода был ремонт оборудования для лесопунктов, драг и МТС, тут не пренебрегали и ширпотребом: была сейчас во всяких корытах и шайках повсеместная крайняя нужда.
Шурка работала здесь уже четвертый год и имела, как жестянщица, шестой разряд. А Марианна попала сюда недавно и пока делала подсобную работу: распрямляла молотком проволоку, резала самый простой закрой, олифила готовые бачки и ведра. Ладони у нее сделались оранжевые от олифы и краски и сморщились, как у старушки. Так что незаметны даже были порезы и царапины.
— «Ходить»! — иронически заметила Шурка. — Ишь сопляк! Ты бы еще с семилетним связалась.
— Между прочим, он хороший, — тихо, но упрямо сказала Марианна.
— Они все хорошие, пока спят.
Шурка всего четырьмя годами была старше Марианны. Но, Бог Ты мой, какая она была уже взрослая! Тысячу с лишним ночей они проспали рядом в детском доме, и Марианна шагу не ступила без Шуркиного веления. Правда, Шурка, помнится, на первых порах ее побила раза два, но Марианна ей это простила.
— Ты, Марианка, не бойся, я тебя не брошу, — с полной ответственностью обещала Шурка, когда старших воспитанников распределили на производство. — Я не такой человек, чтобы бросить. Ты мне от своего детского пайка уделяла.
Она каждый вечер приходила после смены в детский дом и, чтобы няньки не ворчали, мыла пол в сенях и в коридоре и таскала воду. Правда, ей за это дело давали поужинать, но Шурка старалась не ради ужина.
В первую ночь, когда они оказались опять на одной койке в заводском общежитии, обе долго не могли уснуть и шептались о том, как будут жить, когда все наладится и всего станет много, как было до войны: конфет, колбасы, ситцу, калош…
— Обуемся с тобой, оденемся!.. — мечтала Шурка.
— Будем на концерты ходить! — в тон ей шептала Марианна.
— Главное, работа чтобы повыгоднее. Я ведь на работу зверь! Ты со мной не пропадешь.
Марианне очень хотелось приласкаться к Шурке, но та сантиментов не признавала. Она укрыла Марианну до ушей стеганым одеялом и еще раз пообещала:
— Я тебя ни при каком обстоятельстве не брошу.
Марианна любила Шурку. У той было некрасивое, бурое от веснушек и в двадцать лет уже немолодое лицо. Улыбалась она редко, только Марианне. За угловатый характер Шурку в цехе недолюбливали, и называлась она не иначе, как Шурка Рыжая. Никто ее фамилии не помнил. Даже в социалистическом соревновании одна работница-жестянщица написала: «Вызываю на соревнование Шурку Рыжую». Когда на красной доске за номером первым появилась Иванова А. П., то все переглянулись и спросили друг у друга:
— Это кто же у нас Иванова? Шурка Рыжая? Да разве же она Иванова?
— Ну их всех к шуту! — сердито-равнодушно огрызнулась Шурка. — Какие не рыжие! На самих посмотреть не на что.
Характер у Шурки был не из веселых. Но иногда на нее находила светлая минута, и она вдруг в разгар смены начинала петь. Пела негромко, но звучно. Сразу смолкало десятка два молотков, и работницы прислушивались.
Шурка исполняла всегда любовные песни, удивляя слушателей и неожиданным содержанием, и особым томным южнорусским выпевом.
Я не знаю, я не знаю, что со мною, Что волнуить грудь мою… Почаму мне, почаму мне нет покою, Почаму я все пою…— Шурка, это какая же песня? — спрашивали любопытные.
— Заграничная, — спокойно отозвалась Шурка. — По радио вчера пели. А вы работайте, работайте! Чего руки-то спустили?
Самой ей пение работать не мешало, словно голос ее существовал совсем отдельно от угловатого тела и длинных, ухватистых рук.
— Я вся как есть для работы уродилась, — сказала она Марианне. — А ты другая. Ты для труда не подходишь.
— Почему же я не подхожу? — тревожно спросила Марианна. — Ведь я же работаю… Мне скоро разряд повысят.
Шурка озабоченно вздохнула:
— Что разряд! Моя такая задача, чтобы тебя на чистое место устроить. В ателье, что ли, или на общественное питание.
…День в декабре кончался рано. Уже в четыре ложился серый сумрак. По соседству в электроцехе прерывисто стучало динамо и гудел угольный котел.
Шурка скинула с верстака цилиндр для ведра и принялась за следующий. Черные от железа, большие ее руки ни на минуту не останавливались.
— Нечего тебе со всякой шпаной связываться, — решительно сказала она Марианне, имея в виду ее знакомство с Зорькой. — Здешние ребята все хитрованцы. Только и смотрят интерес свой справить. Я тебе жизнь губить не дам.
Шурка была искренне убеждена: самое страшное, что может быть в жизни, — это если парень обманет девку. После этого хоть не живи.
Кто-то из работниц, перекрывая грохот молотков, крикнул:
— Шурка, зубило мое не брала? Что за дьявол, все из-под рук прут!
— Ну тебя к шуту! — равнодушно отозвалась Шурка. Однако вынула из фартука зубило и послала Марианну: — На, снеси ей. Пусть в другой раз рот не разевает.
Когда Марианна отнесла зубило, прерванный разговор возобновился.
— Этот парень тебя и насчет соли выпытывал?
— Да…
— Вот чалдон проклятый! А пусть он скажет, как нам жить, если он такой умный. Сам-то небось сало ест.
— Ну, какое сало! — возразила Марианна. — Он же один работает, и у него больная мама.
— Тем более сочувствовать должен.
Соль, о которой шла речь, добывал Шуркин знакомый, отчаянной жизни гуляка, инвалид Марк. Раза два в месяц он путешествовал куда-то под Сольвычегодск и покупал там соль на килограммы. А тут, в Мурояне, Шурка сбывала стаканами. Рассчитывалась Шурка с Марком честно, поэтому он ее на другую перекупщицу не менял. У Марка правая рука заканчивалась протезом в черной перчатке, действовал он ею довольно ловко, но, если нужно, мог изобразить полную беспомощность, так что его ни один проводник не решился бы согнать с поезда и на базаре не трогал ни один милиционер. Из-за отчаянной гульбы у Марка только за последнюю зиму расстроились два сватовства в хороших домах. Но Шурка при всех своих твердых правилах относилась к Марку с непонятным снисхождением.
— Человек за нас пострадал…
…В половине пятого смена кончалась. Кочегар в электроцехе тянул ручку гудка, и по заводскому двору разливался унылый, как волчий вой, протяжный сигнал. Побросав молотки и киянки и затолкав под верстак рукавицы и фартуки, жестянщики устремлялись из цеха.
Наладчик Родя, умазанный машинной смазкой робкий парень, улучив минуту, когда Шурка прятала инструмент под верстак, дернул Марианну за рукав.
— В кино пойдешь?
— А что сегодня? — шепотом спросила Марианна.
— «Арсен»…
Шурка разогнулась и сказала сурово:
— Никуда она не пойдет! Отваливай!
По дороге из цеха она объяснила Марианне:
— Один вот так-то позвал девку в кино, а потом нашли ее… Лежит гдей-то под сараем, вся изнасилованная…
Когда вышли за проходную, стало совсем темно. И все же Шуркины острые глаза различили какое-то движение в конце улицы, где был магазин. Они с Марианной убыстрили шаг и спросили у бежавшей мимо женщины:
— Чего дают?
— Ерши копченые!
— На рабочих или на всех?
— На всех. Бежите скорее, а то кончаются! Шурка прибавила скорость.
— Вот, а ты еще хотела в кино! Прозевали бы… Ершей они получили, но Шурка осталась недовольна:
— Самые заскребки нам попали. Кому крупные, а тут одна мелочь, да черные какие-то.
Продавец, равнодушный мясистый дядя, изрек через прилавок:
— Вас подкоптить, вы тоже черные будете. Марианна посмотрела на него своими светлыми серьезными глазами и сказала:
— Очень остроумно!..
…Чтобы попасть в отдельную комнату, которую Шурка отвоевала для себя и Марианны в семейном общежитии, нужно было пройти через большую общую кухню. Там на плите постоянно ворчал и брызгал серым кипятком котел с бельем. Запах щелока лез в ноздри, но к этому все привыкли и как будто не замечали. Только комендант, когда заходил, чихал и бранился.
— Ну и любите вы стирать, лешак бы вас всех понес!
И Марианна заметила: здесь действительно страстно любили стирать. Шурка, например, придя с работы, надо не надо, тут же начинала стирать и мыть пол.
— А ты не трусись, не трусись, — говорила она Марианне. — Взяла книжку, так читай. Я не против твоей книжки.
…В ожидании прихода Шурки в кухне сидел Марк и, улыбаясь, поглядывал, как одна из хозяек учит своего ребенка ходить. Ноги у ребенка были колесиком, но он крепко держался за материнский палец и не падал.
— Вон иди к дяденьке, — посоветовала мать, подпихивая ребенка вперед. — У его вон игрушечка какая! — и указала на черную деревянную руку Марка.
Ребенок шагнул, покачнулся и сел на пол. А когда Марк протянул ему неживую руку с аккуратно выгнутыми пальцами, ребенок вовсе испугался и заплакал.
— Отставить! — пробасил Марк. — Это не по-гвардейски! — И еще больше заулыбался. — Я их, поросятов таких, люблю! Когда женюсь, у меня их полный загон будет.
Старушка, подсобница со смолоперегонного, оторвалась от каши, которую варила, и сказала Марку:
— Бодливой коровушке Бог рог не дает. Пропьешь ты их всех.
В это время как раз и вернулись Шурка с Марианной.
— Вот и мы, — застеснявшись при виде Марка, сказала Шурка. — Здравствуйте, Марк Андреевич!..
Она при всей своей независимости очень опасалась, что соседи подумают, будто у нее с Марком что-то есть как с мужчиной. И быстро юркнула к себе в комнату.
Марк прошел вслед за ней и за Марианной.
— Ерши! — сказал он, садясь и разглядывая покупку. И тут же добавил какую-то рискованную прибаутку, срифмовав со словом «хороши».
— Не надо, Марк Андреевич, — покраснев, попросила Шурка.
Она быстренько перебрала этих ершей, начистила и нарезала к ним луку. Все трое стали пить чай. Шуркин опытный взгляд сразу определил, что Марк нервничает: к закуске нету выпивки. Но Шурка стойко поборола в себе намерение послать Марианну за чекушкой.
И Марк мрачнел.
— Так вот, девочки, соли больше не будет, — вдруг заявил он.
Шурка побледнела.
— А почему?
— Не будет. Отменяется. Скоро сами узнаете.
Марк достал из кармана три смятых полсотни и показал Шурке.
— Эти капюры теперь только на растопку годятся. Леформа.
Толком он ничего и не объяснил. И Шурка в простоте души подумала, что он связался с другой перекупщицей, которая, наверное, для него чекушки не жалеет. И грустно промолчала.
— Ну, до свидания, милые создания, — сказал Марк, поднимаясь. — Целоваться некогда.
Шурка помогла ему попасть деревянной рукой в рукав шинели и с последней надеждой заглянула в глаза. Но Марк ничего не обещал.
— Обсолонился я только вашими ершами. Нет чтобы пельменями угостить.
После его ухода Шурка сказала озабоченно:
— Без торговли трудно нам будет. Прокормимся, а на вещи ничего не останется.
Она расстелила постель, и они с Марианной легли. Шурка долго молчала, потом вдруг спросила нерешительно:
— Марианка, как думаешь, этот статуй еще придет?
— Не знаю, — не угадывая состояния подруги, рассеянно сказала Марианна. — Вообще-то лучше бы он не приходил.
Сама она думала о том, отпустит ли ее Шурка в следующее воскресенье: они с Зорькой договорились, что пойдут на кинокартину.
3
Со второй недели декабря загуляли сильные метели. Только опытный коногон не потерял бы полем дорогу. Начали гулять и волки, запрыгали по сугробам, словно играющие собаки.
Зорьке показалось, что на него из сумерек поглядели волчьи красные глаза, когда он на лыжах бежал полем домой, возвращаясь из Мурояна. Но он был так охвачен новостью, что не успел как следует испугаться. В узелке за плечами Зорька вез три тяжелых буханки пшеничного хлеба, еще не успевших отвердеть на морозе.
— Мам! — закричал он, швырнув лыжи в ограде и вбегая в избу. — Мам, на Мурояне хлеб теперь без карточек дают! Пшено стоит, лапша!.. У меня с собой пять гривен денег было, я хлеба купил!
Мать схватила узел, стала щупать, будто не верила. Когда же Зорька развязал его и вытащил из стола большой ножик, она тихо спросила:
— Сынок, а винца-то тама-ка не дают? Не видно?
— Нет! — сердито отрубил Зорька. — Кто про что, а вшивый про баню. Никакого винца тебе не будет.
Во дворе у Зорьки прижился щенок-полугодок. Зорька отрезал целый угол от буханки, пошел кормить щенка. Тот схватил из Зорькиных рук горбушку и, как безумный, кинулся под сарай.
— Эх, дурак! — ласково сказал Зорька. — Теперь будет хлеб, пойми своей головой!
Но щенок, забившись подальше, повизгивал над пшеничным куском. Зорька швырнул ему еще и пошел в избу, довольный жизнью и собой.
…К концу месяца белые метели унялись, наладилась дорога, и до новых снегопадов нужно было вывозить колхозное сено. Стога стояли на дальних покосах, и обернуться с возом туда-сюда раньше позднего вечера нечего было и думать.
— Эх, подводишь ты меня! — досадливо сказал Зорька бригадиру, который и в воскресенье отряжал его по сено. — Ведь у меня девчонка. Сам, что ль, молодой не был?
Все-таки надеясь, что засветло вернется и поспеет до ночи на Муроян, к Марианне, Зорька махом запряг Буланого. Стоя в рост на голых санях, он вылетел в белое поле и заорал навстречу ветру свою любимую озорную припевку:
Нам хотели запретить По этой улочке пройтить! Стены каменны пробьем, По этой улочке пройдем!Белый лес летел мимо. Рыжим комком проскочила по опушке лисица. Длинный гривастый Буланый, направляемый тугой вожжой, резко свернул в чащу, рассекая полозьями снег и тревожа косматые елки.
— Тпр-р, стой, сатана чернохвостая!.. — Зорька спрыгнул с саней и повел лошадь в поводу.
Сено туго шло на вилы: оно было тяжелое, черное, кое-где даже тронутое седой прелью. Прошлое лето было насквозь дождливое: копны по два раза раскидывали, развешивали на шестах, на кустах и сушили. Каждый навильник, который Зорька поднимал, весил не меньше пуда, а вместо травяного запаха сено пахло густым табачным настоем и морозом.
Навивая и очесывая воз, Зорька отплевывал труху и бормотал себе под нос:
Я не буду брагу пить, Котора брага пенится, Я не буду ту любить, Котора ерепенится…Воз Зорька вывел большой, заправский. Уж потом пожалел, что пожадничал: покос был низкий, и снегу сюда надуло по пояс. Буланый через каждые двадцать метров останавливался, тяжело поводя брюхом.
И Зорька тогда шел передом, топтал и проминал дорогу.
Когда вышел с возом на большак, день посерел. Зорька, пока навивал воз и воевал со снегом, распарился, а теперь озяб и, чтобы схорониться от ветра и белой пороши, шел позади воза, нахохлившись и сдвинув шапку на лоб.
Но и в спину дуло. Ваты в Зорькиной телогрейке после четырехлетней носки вроде бы и совсем не осталось. А новый пиджак надеть было жалко: в чем бы он тогда пофорсил перед Марианной? Он подумал о том, что уж сегодня вряд ли увидит ее, и ему стало очень досадно.
— Иди, черт!.. — прикрикнул он на Буланого, но только махнул кнутом, а ударить не ударил.
В окнах уже горели огни, когда Зорька вошел в свою избу. А тут было темно. Загородив ладонью, Зорька зажег лампочку: решил, что мать спит. И увидел Марианну. Она тоже спала, расстелив на лавке свой черный бушлатик.
Марианна пришла сюда еще за полдень. Она тихонько открыла дверь в знакомую уже избу и задержалась на пороге, не без опаски глядя на Зорькину мать. Та сидела на постели. По нижней рубашке змейками сползали две узкие черные косицы, и сквозь каждую, как прорость в дереве, проблескивала седая серебряная жилка.
— Это ты? — ласково удивилась Зорькина мать. — Ну, иди, иди!
Когда Марианна прошла вперед и села, она опять спросила с живым интересом:
— Имечко-то твое как? — И, узнав, вздохнула: — А я вот все хвораю, Марьяна. Как есть насквозь я вся больная. Каждый мой нервок токает.
— А где же ваш мальчик? — осведомилась Марианна.
— Мальчик-то? На работе, должно… В колхозе.
Марианна с сочувствующим любопытством смотрела на эту женщину. Беловолосый и широколицый Зорька был не больше похож на мать, чем голубь на ворону. Он был здоровый, веселый и живой, а мать походила на догорающую черную головню, которая вот-вот обуглится и загаснет.
— А у меня, Марьяна, парень-от князь, — сказала вдруг Зорькина мать, будто угадав Марианнины мысли. — Красотой в отца пошел. А меня-то ведь тоже по-уличному княгиней зовут.
И она с ничем не объяснимой откровенностью рассказала Марианне, что в двадцать девятом году, когда и колхозов здесь не было, жили по всему уезду выселенцы. Один такой пришел к ней, спросил, нет ли табаку. Она ему сорвала прямо на огороде три густых столба, научила, как подсушить. И насыпала ему зеленых бобов, дала редьки. Картошки еще не было, только зацветала.
— До чего же красивый мужик был, Марьяна! Сразу я в его влюбилась по самое сердце. Подождала-подождала, не придет ли вдругорядь, да и пошла сама его искать. Они, поселенцы-то, возле Мурояна уголь выжигали.
— И он был настоящий князь? — живо спросила Марианна.
— Самый настоящий! В Ленинграде раньше жил. Дом держали на восьнадцать комнат. — И она глубоко вздохнула. — Уж какой мужик был, Марьяна, в гробу буду лежать, дрогну! Я простая баба, а он со мной, как с ровней. Ты вот наших-то мужиков, хамла, не знаешь…
— Я ничего этого еще не знаю, — потупившись, сказала Марианна.
— И не дай Бог знать. Мой-то законный муж тогда на вербовке был. Он бы Зорьку придушил, да я, как ему приехать, парня-то схоронила у одной баушки. А потом мужик мой от воспаленья головы помер. Всего было мне двадцать пять годов… С тех пор одна сижу, а после Валерьяна моего Евгеньича другого мне не надо.
Зорькина мать улыбалась черным, диковатым лицом. Света в избе было мало, и Марианне сделалось жутковато.
— А как вас зовут? — спросила она, стараясь не смотреть в черные, немного раскосые глаза Зорькиной матери.
— Меня звать Зоя. А князь-то мой еще и Заенькой звал!..
Она засмеялась и, словно боясь, что Марианна уйдет и не дослушает, спешила досказать:
— Последний раз ночует он у меня, и вдруг посредь ночи бегёт ихний один: «Собирайся, Валерьян, поверка всем!» В эту же ночь их с Мурояна прямехонько на Чардынь, а оттудова неизвестно куда. Уж как я кричала, Марьяна! Веришь, волком выла!.. По снегу за ими ползком ползла. Вот с тех пор я свой главный нерв и попортила.
— А он?.. — вновь захваченная рассказом, спросила Марианна.
— У его кольцо схоронено было. От прежней, от законной жены. Он мне это колечко оставил. Больше не было у него ничего. Потом письмо прислал. Вот экими большими буквами! Знал, что малограмотная я. Пишет: «Назови ты моего сына Светозаром…»
Зорькина мать вздохнула и заключила:
— Потоль, Марьяна, я милого мово друга и видела! У Марианны сердце стучало неположенно часто: то, что она сейчас услышала, удивило, напугало ее. Ей показалось, что она не сможет теперь от всего этого отделаться.
А на улице уже смеркалось. Серпок молодого месяца блеснул через примороженное окошко. В избе держалось тепло, но оно уже тянулось кверху, а по полу расходился сыроватый, пахнущий подпольем холодок.
— Ты малому-то моему смотри не говори, чего я тебе рассказывала, — попросила хозяйка. — Это между нами, между женщинами.
«Женщина» ничего не ответила. Зоя легла и потянула на себя одеяло.
— Добыла бы ты мне, Марьяна, вина… Хоть с четверочку. А то маюсь я… Уж так-то позабыться охота!
И она закрыла глаза. Марианна посидела несколько минут молча. Потом, оглянувшись на задремавшую хозяйку, взяла с шестка пустые ведра и, стараясь не загреметь, вышла в холодные сени.
Мороз с речки дохнул Марианне в лицо. Она остановилась и огляделась. На высоком белом берегу стоял дом с заколоченными окнами и высокой глухой калиткой. В доме никто не жил, ничей след не вел к этой калитке, и весь дом до окошек был погружен в снег.
Не без тайной боязни Марианна нагнулась к голубой проруби. Ей даже показалось, что из этого холодного глубокого окна кто-то поглядел на нее. И она на секунду зажмурилась.
— Это ты? — шепотом спросил Зорька. — Спишь? Марианна сразу открыла глаза и села.
— Я нечаянно уснула… А где ты был так долго?
— В лесу. — От Зорьки пахло снегом и сеном.
А мать не просыпалась и не слышала, о чем они говорили. Во сне она то охала, то причитала, но понять нельзя было ни слова. Зорька и Марианна сидели друг возле друга уже в полных сумерках.
— Ты небось есть хочешь?
— Не очень…
— Тут у меня гостинцы тебе есть.
Зорька пошарил на полке и достал какой-то сверточек.
— Я на выборах старух развозил, так выделили мне шоколаду.
Мать опять горько охнула, будто кто-то пнул ее в больное место. Не просыпаясь, она села на постели и тут же опять повалилась, как куль.
— Не бойся, — тихо сказал Зорька, — это видится ей.
— Я не боюсь, — тоже шепотом отозвалась Марианна. И осторожно, как мышка, хрупнула твердой, сладкой конфетой. — Почему ты сам не кушаешь?
— На што они мне, — со спокойным равнодушием отозвался Зорька. — Я не маленький.
Он взял в свой горячий кулак Марианнины пальцы и ласково мял их, щупал.
— Что у тебя, костяшки побиты? — Он поднес ее пальцы к своему лицу, чтобы лучше рассмотреть. — Вот и ноготок черный.
— Это молотком. Я проволоку прямила. Зорька заглядывал ей в лицо.
— Эх, красивая ты! Тебе бы не по железкам стукать, а где-нибудь в театре выступать!
Марианна подумала и сказала:
— Совсем я не такая красивая. Это ты красивый. У тебя глаза карие, а волосы светлые. Это ведь редко встречается.
Зорька был польщен. Но его удивил слишком пристальный взгляд Марианны.
— Ты чего так глядишь?
— Ничего, — смутившись, ответила она.
«Ведь он князь…» — думала она, невольно вспомнив слова Зорькиной матери: «До чего же красивый мужик был, Марьяна! Сразу я в его влюбилась по самое сердце…» И вопрошающе посмотрела на Зорьку: неужели он ничего не знает?..
С полминуты они сидели молча. Потом Зорькина рука полезла ей за спину. Другой рукой он придержал ее за дрогнувший подбородок и поцеловал прямо в рот.
— Я тебя не обману, не бойся. Не загораживайся!
Марианна в свои шестнадцать лет уже знала, что мальчишки, когда лезут целоваться, жмурят глаза, потому что им все-таки стыдно. А Зорька не жмурился, смотрел в упор и со взрослой серьезностью не выпускал Марианну из своих крепких рук.
Она все-таки отстранила его и попросила:
— Не надо.
— Пошто же не надо? Я ведь не нахально…
— Все равно. Зачем?
— Как зачем? Характер друг у дружки вызнаем, потом поженимся.
— Но ведь мы еще маленькие…
— Какие же мы маленькие? — почти сердито сказал Зорька. — Как работать, так мы им не маленькие.
С этим доводом нельзя было не согласиться. Но Марианна попробовала еще возразить:
— Можно ведь просто дружить. И вообще надо, чтобы Шурка сначала замуж вышла, а потом уж и я…
— Это та, конопатая? Да кто же ее возьмет? — с чисто мужской самоуверенностью заметил Зорька. — Долго ждать придется.
— Она очень хорошая! — горячо сказала Марианна. — Просто она считает, что теперь нет надежных мужчин: все или женаты, или очень пьют…
— Я пить не стану, — твердо обещал Зорька. И добавил: — И вообще я… я ласковый. Пальцем никогда не трону.
И вдруг Марианна засмеялась. Зорька еще не успел обидеться, она ему объяснила:
— Я сейчас читаю одну книжку… Там купец уговаривал девушку выйти за него замуж. Он тоже сказал: «Я тебя пальцем не трону». А потом он ее бил…
Зорька ошеломленно молчал. Потом сказал сердито:
— Читаешь чего не надо. Раз я говорю — не трону, значит, не трону.
Марианна улыбнулась.
— Да не в том совсем дело! Просто мне смешно стало, что ты говоришь как тот купец.
Зорька что-то хмуро соображал. Потом подвинулся опять поближе к Марианне.
— Ты дала бы и мне эту книжку почитать, — попросил он. — Про купца про этого…
Когда мать очнулась, они все еще сидели в темноте и оба тихо жевали. Мать поднялась на локте, и большие мерцающие ее глаза уставились на сына и девочку.
— Ты еще здесь? — спросила она Марианну и покачала головой. — Пошто же это ты домой не ушла? Не прошеный гость, знаешь…
Зорька крепко схватил Марианну за руку.
— Сиди! — сказал он властно. — Кто хозяин-то тут?!
4
Последняя метель разыгралась, когда март уже был на исходе. Снег был колкий, сердитый. Он иссек затвердевший наст, изноздрил его, придавил к земле. А когда проглянуло и заиграло солнце, все поползло, распустилось в тысячу мутных, пенных ручьев.
Но сорок морозных утренников продержались стойко. Там, где днем ворчала вода, утром над досуха вымороженными лужами хрустел лед. К маю высохло все, а на праздники так пригрело, что народ ходил по улицам во всем летнем и без шапок. Промытые окошки были отворены настежь, и оттуда вовсю пахло брагой и сдобной стряпней.
Шурка тоже напекла пирожков из сеяной муки. Обмазанные яйцом, они дотемна запеклись и надулись. Глядя на Шуркины хлопоты, Марианна невольно вспоминала, как всего в прошлом году, примерно в это же время, они с Шуркой ходили на ближнее колхозное поле подбирать ячменный колос, осыпавшийся после уборки. Колоски были мелкие, усатые, колкие. Жнейка вмяла их в глубокие колеи, смешала с грязью. Дома Шурка рассыпала мокрые колоски по горячей плите, потом вытащила во двор и принялась растирать между своими большими жесткими ладонями. Колкий, сухой ус сносило ветром, а зерна падали на расстеленную по земле Шуркину старую юбку. Потом она приволокла тяжелую ступку с пестом, и всю неделю у них на ужин была ячменная каша.
За этой кашей их тогда в первый раз и застал Марк, притащивший тяжелый, мокрый узел с солью. Шурка пригласила Марка к каше, и он остался доволен.
— Молоток баба! — похвалил он Шурку. — Мне бы такую!..
Эта похвала еще тогда, видимо, внушила Шурке какую-то смутную надежду. Но Марианна об этом не догадывалась.
На Первое мая перед вечером Марианна позвала Шурку погулять. На площади у поселкового Совета были танцы, и тут же должны были прямо на открытом воздухе показывать картину «Убийца среди нас».
— А ну-ка тот придет… — спрятав глаза, сказала Шурка.
— Кто? — удивилась Марианна.
— Да этот… статуй-то мой, Маркушка. Он обещался. Марианна тоже опустила глаза. Ей стало как будто страшно и стыдно.
— Ведь он же водку пьет, — тихо сказала она.
— А кто не пьет-то? Я рассчитываю его от вина отбить. Прождав с полчаса, они все-таки вышли за ворота и сели на свежевыструганную лавочку. Было очень тепло, но Шура надела новые ботики и повязалась шалью с кистями.
— Хорошо! — заметила она, глядя на вечернее красное небо. Но пестрое от веснушек лицо ее выдавало тоску ожидания.
«Статуй» так и не пришел. Народ расходился после картины, переговариваясь о том, что в картине ничего не поймешь. Наши все понятные, а на заграничные лучше не ходить. Вот про любовь, это у них бывает ничего.
При слове «любовь» Шурка вздрогнула.
— Пойдем домой, — сказала она Марианне.
Утром на кухне Шурку окликнула соседка:
— Александра, желаешь, чего скажу? — И, не дождавшись Шуркиного согласия, сообщила: — Твой Марк распрекрасный вчера к Красновым ходил. Ихнюю Глафиру сватать.
Шурка как будто застыла. Некрасивое, носатое лицо ее совсем подурнело от стыда и страха. Опомнившись, она коротко спросила:
— Сосватал?
— Да нет, шутишь, что ли; Красновы, они не глупые. Шурка тихо ушла в свою комнату, села к столу и заплакала.
— А ну его к шуту! Нашел над кем смеяться: мы же сироты, военные жертвы!
Марианна робко попробовала ее утешить. Но Шурка в первый раз недобро посмотрела на нее.
— Тебе хорошо! Небось сейчас к колхознику своему побежишь. А я кому нужна?
Марианна, чтобы не оставить Шурку одну со слезами, в этот день не пошла к Зорьке. Они с Шуркой сели вышивать крестом дорожку на комод, каждая со своего конца. На улицу не выходили, чтобы никто Шурку не видел. Вышивали до тех пор, пока кончились нитки. Тогда Шурка вымыла и без того чистый пол, и они с Марианной сели доедать вчерашние пироги.
— На наш с тобой век, Марияна, эдаких-то Марков хватит, — бодрясь, сказала Шурка. — Он думает — дуру нашел…
Но когда погасили свет и легли, Шурка больше не сказала ни слова. Лежала чужая и неподвижная, и Марианне даже показалось, что ее большое костистое тело как будто холоднее обычного. Она осторожно погладила Шурку по плечу. Та вздохнула глубоко, но не отозвалась.
— Пришел! — победным шепотом сказала Шурка, незаметно пытаясь прикрыть собой дверь, за которой сидел Марк. — Марианка, будь другом, выручи, сбегай! — И протянула пустую чекушку.
Это был очень грустный вечер. Марианна почувствовала такую тоску в сердце, не отличимую от боли, как в тот лень, когда осталась без Ангелины. Водку она принесла, поставила возле двери и быстро ушла.
На дворе собирался дождь. Рано пришедшее тепло сменилось ненастьем. Шурка опомнилась, когда уже потемнело. Она бегала по мокрым от дождя дворам и искала Марианну. Подгоняемая страхом, сбегала даже к реке. Но сплавщики, еще табунившиеся на берегу, сказали что ничего тут такого как будто бы не было.
— Топиться, что ли, кто собрался? Погодите недельки две, вода еще холодная.
Тогда Шурка решила, что Марианна, наверное, ушла в деревню и там, чего доброго, останется на ночь. Она со страхом подумала о том, что парень, конечно, промаху не даст и воспользуется. Шурка уже хотела бежать в деревню, но вспомнила, что заперла на ключ уснувшего Марка.
Подавив горький вздох, она пошла домой. Тихо открыла Дверь. Там, где всегда спала Марианна, теперь лежал и сопел Марк, свесив вниз свою черную деревянную руку. Шурка, не смея будить, осторожно присела возле постели. Марк не проснулся.
Утром до самого завода Шурка бежала бегом. За спиной у нее ревел гудок и торопились опаздывающие.
Марианна, низко наклонив голову, сидела возле верстака на чурбачке и привычно стучала молотком по железному пруту. Она вздрогнула, почувствовав над собой Шурку, но продолжала стучать.
— Ты где же это была?
— У девчат в общежитии… — И, чтобы переменить разговор, Марианна сказала: — Знаешь, кто-то утащил у нас вчерашнюю заготовку.
В другое время Шурка взбеленилась бы. Но сейчас ей было не до заготовки. Она тихо спросила:
— Ты чего это характер выказываешь? Обиделась?
— Нет.
— Тогда чего же ты? Разве я тебя гоню? Будешь с нами жить.
— Нет, — сказала Марианна. — Не буду.
Пора было начинать работу, а руки у Шурки не слушались. Она судорожно вздохнула, взялась за киянку, а проходящему мимо мастеру так ничего и не сказала о пропаже заготовки. Отвернувшись от Марианны, Шурка загрохала своим деревянным молотком, но через минуту опять положила его.
— Чем уж он так тебе поперек горла стал? — сухо и почти враждебно спросила она, имея в виду Марка. — Он ведь не живого человека зарубил…
Марианна почувствовала явный намек и еще ниже опустила голову.
Но Шурку уже прорвало:
— А ну тебе совсем к шуту! Ты ту паразитку забыть не можешь, на могилу бегаешь, а на меня тебе семь раз наплевать!
…На другой день Шурка собрала Марианну и проводила в общежитие для девчат-одиночек.
— Что получше — запирай, а то голая останешься, — стараясь загладить вчерашний крутой разговор, озабоченно посоветовала она. — Взаймы не давай: тебе при твоем характере обратно не получить.
Шурка дала Марианне еще несколько практических наставлений, потом задержала дыхание и сказала трагически:
— Главное, Марианка, с парнями пока не надо. Не губись!..
Она ушла, а Марианна осталась сидеть над своим сундучком. Потом достала коврик из лоскутков и постелила возле койки. Поставила на тумбочку петушка-копилку, положила гребень, коробку под иголки и нитки и яркий японский веер, купленный Шуркой неизвестно где и зачем.
— Я бы тебе и зеркало большое отдала, да Маркушке не у чего бриться будет, — сказала Шурка, когда собирала Марианну. — А книжки все забирай, они нам ни к чему. Нам читать некогда.
Марианна покончила с устройством и оглянулась. Возле ее койки на окошке цвела герань и раздражающе пахла. Но цветки ее напоминали Марианне детство: у няни Дуни герань была в большом почете.
— Давай паспорт на прописку, — сказала сторожиха. — Есть у тебя паспорт-то? Или ты еще малолетка?
— Есть, конечно, — сказала Марианна.
Она достала из сундучка новенький шершавый паспорт. Получила она его всего полгода назад, и раньше он всегда хранился у Шурки. Поэтому Марианна раскрыла его и сама с любопытством посмотрела на свое изображение, припечатанное штемпелем. Личико было маленькое, косое и непохожее.
— Скажите, а где же все девочки? — спросила она сторожиху.
— Девочки? На халтуре. На станции дрова грузят.
Девчата вернулись только к вечеру. И принялись отмывать керосином смолу, испятнавшею им руки до самого локтя. Запах керосина и еловой смолы на время перебил назойливую герань.
— Тебя Шурка Рыжая выгнала или ты сама ушла? — спросила у Марианны одна из девчат.
— Сама, конечно. Мне там было очень скучно…
— Ну, у нас скучать не будешь, — заметила другая девица, самая видная и независимая, с недевичьим именем Домна. — Мы живем весело. Кстати, с получки десятку гони: складчина будет. А парня приведешь — с него двадцатку.
Тут же девчата пожелали узнать, есть ли у Марианны парень.
— Да я не знаю, — застенчиво сказала та, — кажется, есть.
Над этим «кажется» дружно похохотали, а потом вдруг, как по команде, все стали наряжаться и мастерить прически. Когда стемнело, пришли двое ребят. Один, узкоглазый, но красивый мордвин, молча сел к своей девчонке, и они тихо просидели друг возле друга весь вечер. Зато другой парень полностью взял инициативу. Усадил девчат вокруг себя, достал колоду карт и стал учить всех играть в тысячу.
— Хорошенькая, а вам не сдать? — спросил он у Марианны. — Вы почему такие сердитые?
— Я не сердитая, — сказала Марианна, находясь еще под впечатлением Шуркиных наставлений. — Просто спать хочется…
Парень не унимался.
— Такие молодые, а спать хочете! Могу вам на сон грядущий сказку рассказать. Только давайте познакомимся раньше. Герман Иванович Жуланов. Токарь по одиннадцатому разряду. Гордость производства.
— Черт, трепач! — заметила Домна. — Что пристал? У нее свой парень есть.
Герман поправил на себе серый костюм-тройку и сказал серьезно:
— Очень жаль!
Через час он ушел. Девчата спрятали наряды, легли и заснули как убитые. Лежа под байковым, плохо греющим одеялом, Марианна слышала, как сторожиха выпроваживала из сеней молчаливого мордвина.
К запаху герани и невыветрившегося керосина прибавился еще и сладко-стойкий запах одеколона, оставленный Германом. В окно светил месяц. Северная майская ночь была похожа на день. Слышно было, как возле деревянных свай моста с журчанием крутилась вода.
Напрасно Марианна пыталась убедить себя, что не будет скучать без Шурки. Ей было холодно и горько. И просто необходимо было с кем-нибудь поговорить.
В приоткрытую дверь неслышно вошла сторожихина кошка, черная, с белым носом. Села на Марианнин коврик и стала задней лапой драть за ухом. Марианна тихо поманила ее, и кошка вспрыгнула на койку, замурлыкав у самого Марианниного уха.
Этого оказалось достаточно, чтобы Марианне стало немножко легче: все-таки она была не одна.
Когда Марианна утром проснулась, девчата были уже на ногах и говорили о том, что их вчера на погрузке обсчитали и не записали вагон метровника, который они честно погрузили.
— А, пусть подавится! — заключила Домна в адрес десятника. — Им, шакалам, выпить на что-то надо.
Увидев, что Марианна проснулась, она подошла к ней: — Ты никак плакала? Наплюй! Хватит на помочах жить. Воля дороже всего.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Две черные лошади, одна высокая, другая пониже, гремя железным боталом и высоко подкидывая передние, спутанные ноги, прыгали по мокрой луговине. Маленьким темным комком лежал на земле жеребенок.
Рассвет только наметился, чуть закраснел низкий пушистый ольховник в той стороне, откуда шло утро. Возле черного, обуглившегося пня тлел еле заметный алый уголек. Он, как хищный глазок, то вдруг впыхивал, то исчезал, на минуту покрывшись пеплом. При вспышке видны становились узенькие столбики конского щавеля и черные головки куриной слепоты.
Потом над кустами прочертилась алая полоска зари, и чернота уступила место серому сумерку. Виден стал остов плуга у края пашни и квадрат бороны, уткнувшийся зубьями в землю. Лошади уже не прыгали и не гремели боталом. Упершись в траву передними, спутанными ногами, они стоя досыпали остаток ночи, готовые каждую минуту вскинуть уши и потрясти спутанной жесткой гривой. Все так же недвижно покоился и ушастый жеребенок.
Зорька выкатил прутиком уголек из загасшего костровища, взял его на ладонь и, катая, принялся раздувать. Зажег клочок бересты, и огонек запрыгал белочкой.
— Спишь? — тихо спросил он Марианну.
Она лежала на снятой с колес телеге. Дрогнула от Зорькиного шепота, откинула край козьей шубы и подняла голову. Потом села, поджав под себя теплые со сна ноги.
— Я вот все думаю… — Зорька сосредоточенно глядел на огонь. — Надо тебе расчета добиваться. Не ближнее место сюда каждый раз бегать.
Но Марианна слушала Зорьку как-то рассеянно. Внимание ее было занято нежным заревом, которое вставало за леском. Последние клочки тумана тянулись куда-то вниз, под угор, где пучилось рыжими кочками холодное болото. Большое черемуховое дерево посреди пашни тоже казалось клоком белого тумана.
— Ты слышишь, чего я говорю-то? — нетерпеливо спросил Зорька.
— Слышу, конечно… А сколько сейчас может быть времени?
— Пятый, поди… Не выспалась, так спи еще.
— А ты разве не хочешь?
— Я не буду. Разоспишься — хуже. К обеду нам управиться надо. Тогда Лазуткин кобылу даст огород пахать. — Зорька помолчал и добавил: — Серая, как ожеребилась, не та лошаденка стала. На такой много не наработаешь. Ее из-под Сталинграда пригнали, нога была перебита. — И для бодрости Зорька решил пошутить: — Нашей Серой надо бы пенсию хлопотать: она инвалид Отечественной войны.
Марианна, уже отряхнувшая дремоту, засмеялась. Словно в ответ, лошади на лугу вдруг вытянулись, затрясли гривой и всхрапнули, заслышав приближение другого коня. Тотчас же, как большая птица, встрепенулся и жеребенок. Встал на тонкие ноги и побежал к матери.
Из-под угора, белый от тумана, выехал всадник. Зорька пригляделся, узнал председателя.
— А, это вы тут! — сказал Лазуткин, подъехав к Зорькиному огоньку. — Пошто в стане не ночуете? Холодно ведь.
Он спрыгнул с лошади и присел рядом с Зорькой. О Марианне он уже слышал, но видел ее раньше только мельком.
— Это, князь, значит, суженая твоя?
— Ага, — серьезно сказал Зорька. — Она со мной четвертое воскресенье боронит. Гляди, трудодни за ее не зажиль. — И, воспользовавшись моментом, попросил: — Лазуткин, ты бы пособил нам расписаться. А то ей с завода расчет не оформляют.
Председатель, храня улыбку, раскуривал от уголечка.
— Правильно, нужно законы соблюдать.
— Какие еще законы? — угрюмо спросил Зорька. — Выходит, закон против, чтобы любовь была?
— Любовь! А не хочешь ли обождать? До законного совершеннолетия?
— Научил! — Зорька еще больше нахохлился. — А там через год мне и в армию призываться. Что же я, для дяди женюсь?
Председатель уже не слушал Зорькино ворчание. С веселым прищуром он разглядывал Марианну.
— А ты что же молчишь все время? Ты не немая?
— Нет, — ответила Марианна. — Но ведь вы меня ни о чем не спрашиваете. В общем, как все мужчины…
Лазуткин удивился даже:
— Ты скажи, она какая! Серьезная, оказывается, дамочка. А не погодить ли тебе замуж, пока росточку наберешь?
— А я и не тороплюсь замуж, — независимо сказала Марианна, но все-таки оглянулась на Зорьку. — Просто он с вами шутит.
У полевого стана заколотили палкой по подвешенной рельсе. Ветер, налетевший невесть откуда, густо обсыпал черную землю белым цветом облетающей черемухи.
— Рано мы встали, да мало напряли, — заметил Зорька, первым поднимаясь с земли. — Ты, Лазуткин, посиди, покарауль мою райскую птицу, — он кивнул на Марианну, — а я напоить сгоняю.
Он распутал лошадей, сел на лазуткинскую низенькую кобылу и погнал звонко топающих коней в белый, еще не развеявшийся туман.
Марианна и председатель остались вдвоем.
— Ишь ведь, что Светозар твой говорит! Может, и правда тебя шапкой накрыть, чтобы не улетела?
Теперь уж Марианна разглядывала этого сорокалетнего веселого мужика, от которого крепко пахло самосадом и ночным полем.
— А я вас вспомнила, — застенчиво сказала она. — Когда я была маленькая, вы к нам приходили.
Лазуткин покачал головой:
— Не можешь ты, мила дочь, меня помнить. Я прошлой зимой только из армии воротился. В Германии служил. Это ты моего покойного брата помнишь. Его под Кенигсбергом убило. Он Федор был, а я Нестер.
— Вы очень похожи, — глядя в серо-голубые лазуткинские глаза, удивленно сказала Марианна.
— Чай, родные братовья. Так-то вот, товарищ девочка! И Лазуткин, придвинувшись близко к Марианне, ткнул ее легонько в бок своим крепким, как каменным, пальцем.
— Оно бы все ничего, — сказал он, оглянувшись в ту сторону, куда ускакал Зорька. — Светозар у нас парень первый сорт. Только вот с маманей его можешь ты не заладить. Чудная она баба.
— Это правда, что у нее муж был князь? — осторожно спросила Марианна.
Лазуткин вдруг зло прищурился и сплюнул.
— Ханурик он, а не князь! Навязался бабе на шею да сгубил ни за што. Была человек как человек, работница…
— Разве он ее не любил?
— А что же ему не любить? Может, сколько-то и любил, да она сама боле того в голову забрала. У нее свой мужик хороший был, из тихих тихий. А ее вон куда рвануло!
Марианна невольно вспомнила страшные слова Зорькиной матери о муже: «Он бы Зорьку придушил, да я схоронила его у одной баушки». Но тут же вспомнились и другие слова: «С тех пор одна сижу, а после Валерьяна моего Евгеньича другого мне не надо».
— Знаете, — задумчиво сказала она Лазуткину, — все-таки бывает на свете сильная любовь. Когда от разлуки даже сходят с ума. Вот, например, есть такая французская писательница Жорж Санд…
— А! — махнул рукой Лазуткин. — Какой к лешему Жорж! Не забивай ты себе голову. Вы, женщины, на этот счет…
Тогда Марианна, чтобы он не заподозрил ее в легкомыслии, решила признаться:
— Знаете, мне очень хочется стать учительницей. Для первого класса, где маленькие… — Она засмущалась и добавила: — Потому что, наверное, я сама такая маленькая и останусь…
«Умненькая девчонка-то, — подумал Лазуткин, — науки хочет. А у меня вон две халды растут — все вечерки да посиделки, а из пятого никак в шестой не перевалят…»
Зорька подогнал лошадей. Они трясли мокрыми мордами и бодро фыркали. Лазуткин подтянул подпругу у своей кобылки и сунул сапог в истертое стремя.
— Насчет с завода уволиться — это я помогу. Я тут сам заинтересованный. А с женитьбой погодите. Я еще в действительной был, нам в театре постановку показывали. Там парень один все заявлял: «Не желаю учиться, а желаю жениться!..»
— Ладно, — сердито перебил Зорька. — Поезжай от греха. — И крикнул вслед председателю: — Так я возьму нонче кобылку-то, Лазуткин?
Тот махнул рукой: ладно, мол.
Зорька зауздал Буланого и завел в постромки плуга. Обротал и матку, возле которой крутился жеребенок, впряг в борону и кинул на влажную спину лошади свой пиджак вместо седла.
— Ну, садись, — сказал он Марианне. И подсадил ее под пятку.
В первый раз, когда она боронила с Зорькой, Марианна пробовала ходить за бороной, но разбила ботинки, спотыкаясь о крутые комья. Потом Зорька уговорил ее сесть верхом. Кобыла была смирная, послушная, но хребет у нее был острый, жесткий, так что и Зорькин пиджак плохо выручал.
Зорька прошел с плугом два гона. Потом махнул Марианне рукой, и она, неуверенно задергав поводьями, направила покорную кобылу на поднятую Зорькой, исходящую паром полосу.
В разбуженном ольховнике вовсю свистели птицы. От серой комковатой борозды поднимался и таял пар. На соседнем поле, за лесом, зачихал трактор и двинулся по полю, качаясь, как лодка на волне. От стана выезжали другие пахари, весело и бессмысленно ругая лошадей. День обещал быть горячим: утренний ветер не оставил ни единого облачка.
— Но, Серая! — Марианна легонько стеганула лошадь концом поводка. — Ну, чего же ты так тихо идешь?..
Зорька крикнула издали:
— Понужай, понужай! Хитрит она!
С черемухового дерева, как мотыльки, спархивали последние белые лепестки, и бурая, поднятая плугом земля хоронила их. Грачи летали парами, словно танцевали, чертили круги и садились на пашню чуть не под ноги лошадям. Солнце сверкало огромным золотым ситом. Марианна вдруг вспомнила Шуркину песню, которую та пела в легкие для души минуты, и сама замурлыкала:
Я не знаю, я не знаю, что со мною, Что волнует грудь мою… Отчего мне, отчего мне нет покоя, Отчего я все пою…Рыжий жеребенок по кличке Яблочко бегал неотступно вслед за матерью, как будто боялся потеряться. Он спотыкался о крутые отвалы плуга, раза два упал, но бегать не прекращал.
— Глупый-то! Вот глупый!.. — кричала ему Марианна, качаясь на жесткой лошадиной спине. — Ну чего ты все бегаешь?
Зорька в это время как раз поравнялся с ней и сказал:
— У тебя бы мать была, ты бы тоже следом бегала. Ведь он маленькой.
Марианна с упреком поглядела в его красное, каленое лицо. И Зорька вдруг спохватился:
— Эх, не то я бухнул! Не сердись, Марианка!..
Он оставил Буланого и подошел к ней:
— Ты бы покрылась, а то солнце тебе макушку нацелует. Пот полз по Зорькиному запухшему от работы в наклон лицу. Он слизнул этот пот языком и утерся рукавом. Поправил на Серой оползшую набок шлею и при этом легонько погладил теплое от солнца колено Марианны.
Ей захотелось ответить ему чем-нибудь. Но она еще немного боялась его и стеснялась. Поэтому она только улыбнулась и помахала свободной рукой.
Когда на следующем гоне они с Зорькой снова поравнялись, он опять утер мокрое лицо рукавом и сказал наставительно:
— Ты Лазуткина-то не шибко слушай. Он про законы толкует, а сам девок да баб молоденьких вон как любит!.. Мы ведь тоже знаем.
В обед Зорька отправился на полевой стан за кашей. Недопаханного осталось совсем чуть-чуть, и после обеда можно было сразу трогаться на свой огород. Разве только немножко переждать жару.
Марианна осторожно слезла с лошади. Распрягать сама она еще не научилась. Она и себе стеснялась признаться, что немного побаивается старой, безобидной Серой и ее рыжего маленького сына, который, пожалуй, ни с того ни с сего может брыкнуть своей трнкой, поджарой ногой.
Под горой крутился голубой ручей и, как змея, уползал в высокую траву. По берегу цвела густая желтая калужница. Листья у цветов были зеленые и холодные, как кожа у лягушонка.
В прошлый раз, когда они здесь пахали, Марианна нарвала этой калужницы. Но когда пришла со своим букетом в деревню, в глазах у Зорькиной матери вдруг отразился ужас.
— Ты зачем это нечисть в избу тащишь? — спросила она тихо, но грозно. — Беды хочешь?
Она выхватила у Марианны цветы и кинула их в подпечек.
— Понеси вас нелегкая, откуда пришли!
— Разве это плохие цветы? — удивленно спросила Марианна.
— Да будь они светом прокляты! — с сердцем сказала Зорькина мать. — Они ж с болота.
…Марианна разулась и вошла в ручей. Заслышала за собой шорох и оглянулась. Нераспряженная Серая тоже шла к воде, волоча за собой опрокинувшуюся кверху зубьями борону. За ней бежал Яблочко. Он с размаху влетел в ручей, увяз передними ногами и тонко заржал.
Его мать отняла морду от замутившейся воды и посмотрела на шалуна, потом на Марианну. Та тоже расшалилась, зачерпнула в ладони воды и плеснула на Серую. Кобыла затрясла грязной седой гривой, как будто отгоняла оводов.
И вдруг дико и звонко закричал жеребенок. Выпрыгнув на берег, он споткнулся о борону и повалился бедром на острые зубья. От ужаса Марианна сама чуть не упала: Зорька уже предупреждал ее, чтобы не оставлять бороны кверху зубьями. Она не успела еще и опомниться, как Зорька уже летел к ручью сам, швырнув на бегу котелок с кашей.
— Дурочка чертова! — чуть не плача, крикнул он Марианне. — Раззява! Дать бы тебе, чтобы знала!
Лицом он в эту минуту сделался очень похож на мать, и Марианна невольно отшатнулась от его замахнувшейся руки. Но он не ударил. Обхватив жеребенка поперек, Зорька оторвал его от бороны, два крайних зуба которой были залиты красной кровью.
— Чего стоишь? Неси скорее опутку! Ошеломленная Марианна подчинилась. Зорька повалил жеребенка на траву, связал ему передние и задние ноги, чтобы тот не мог вскочить. Серая подошла и начала лизать раненный бок своему Яблочку. Тот плакал, показывая короткие, не изжеванные еще зубы.
— Держи его, — сурово велел Зорька. — Я за подводой сбегаю.
Марианна молча села возле связанного жеребенка. Он все время поднимал голову и кричал. Мать тихо ржала в ответ. И Марианна тоже заплакала беззвучно. Она ощутила вдруг такое детское одиночество, какого не помнила с того дня, когда ее привели в детский дом и она узнала, что Ангелины больше нету… Теперь ей опять показалось, что она осталась одна не только на этом черном поле, но и во всем свете.
Но Марианна опомнилась, вытерла слезы и посмотрела на жеребенка. Он затих, как будто задремал. Только маленькое порванное бедро его дрожало судорожной дрожью.
— Может, ты пить хочешь. Яблочко? — спросила Марианна и уже без всякого страха потрогала ладонью сухие и горячие губы жеребенка.
Зачерпнуть воды было нечем. Марианна поспешно сняла с себя ситцевую кофточку, обмакнула в ручей и поднесла Яблочку. Он стал сосать, потом пожевал и отъел один рукав.
Минут через десять загрохотала телега.
— Подымай его, Светозар, — сказал бригадир, отгоняя тревожно заметавшуюся кобылу. И нагнулся над жеребенком. — До кости пробрало!..
А Зорька хмуро глядел на Марианну.
— Ты чего это заголилась? — строго, как муж, спросил он.
Она молчала, голые плечи ее слегка дрогнули. В руках у нее Зорька увидел намокшую, изжеванную кофточку.
— Не кричи, пожалуйста, — вдруг сказала Марианна. Зорька немного опешил. Потом овладел собой и сказал так же сурово:
— Пиджак мой накинь и ступай к нам в деревню. Марианна выжала из кофточки остаток воды и надела на себя. Правая рука ее, оставшаяся без рукава, белела незагорелой кожей. В мокром, прилипшем к телу ситце Марианна казалась страшно худенькой.
— Ну, поехали, что ли? — окликнул Зорьку бригадир. — После разберетесь. Кобылу привяжи.
Зорька почти машинально прикрутил поводок к тележному задку. Оглянувшись, он увидел, что Марианна уходит. Но в противоположную от деревни сторону. Зорька догнал ее в два прыжка.
— Ты что не слушаешься? Я ведь сказал… Она посмотрела ему в глаза.
— А почему я должна тебя слушаться?
— Так ведь огород пахать… Ты когда опять придешь?
— Не знаю, — тихо сказала Марианна. — Может быть, совсем не приду.
Стук удаляющейся телеги и слабое, болезненное ржание жеребенка привели Зорьку в себя. Он повернулся и побежал за телегой. На опустевшей луговине валялся на боку брошенный им котелок. И остывшую кашу доклевывали черные грачи.
2
Лето цвело. На молодых елках алели тонкие, смолистые и сладкие столбики будущих шишек. Желтела липа, сизо синели ягоды жимолости. Скромным белым кружевом цвела в овраге смородина. И с шорохом, зеленым и живым, росла трава.
На Муроянском тракте Зорьку обогнала машина, но он ее пропустил: кабинка была занята, а в кузов он лезть не хотел. Там возили известь, а на Зорьке были новый бумажный пиджак в полоску и жаркие, не по лету, армейские галифе, предмет зависти деревенских ребят.
В Мурояне на базаре Зорька купил кулек сладких орехов, спрятал в карман и, трудно вздохнув, свернул на знакомую улицу.
Окна в общежитии все были настежь, и в одном сидела сторожиха, грызла прошлогодние тыквенные семечки.
— Девки на гору гулять пошли. А ты чей будешь?
Она раздобрилась и пустила Зорьку в комнату, указав на Марианнину койку.
Койка была узкая, ровненько застеленная чистым одеялом. На стенке желтолицая «Монна Лиза», вырезанная из журнала. И больше ничего. Зорька поглядел вокруг: над другими, более пышными постелями — и плавающие по чернильной воде лебеди, и цветные фотокарточки с золотисто-розовой обсыпкой. На тумбочках батарея флаконов, все с картинами.
«Икону повесила, — подумал Зорька, вернувшись глазами к «Моне Лизе», — а больше ничего нету…»
В окошко через занавеску сеялось июньское солнце и собиралось в играющее пятно на коврике возле Марианниной кровати. Зорьке захотелось накрыть это пятно сапогом, но он побоялся истоптать чистый коврик. Он сидел и томился.
Марианну он увидел еще в окошко. Она несла пучок непоспевшей земляники, обложенный травой-белокрайкой. На Марианне было светлое платье и черные мальчиковые ботинки, так знакомые Зорьке. И он вдруг почувствовал, что у него даже сил нет подняться с табуретки, на которой сидел.
Разговору их никто мешать не стал. Тут насчет этого существовал между девчатами неписаный закон. Правда, из любопытства они сунулись посмотреть, но тут же, выпровоженные Домной, ушли куда-то к соседям. Но разговор все равно не клеился.
— У вас что, выходной?
— Да. А у тебя?
— Мы летом без выходных. Ягод насбирала?
— Хочешь?
— Зеленые еще. Я ведь не медведь…
И вдруг Зорька, собравшись с духом, сказал:
— Ты думаешь, я бы тебя бить стал? Да я сам вон как напугался!
У Зорьки на чистой рубашке у самого ворота раскололась пополам пуговка. Она, наверное, резала ему шею, но он этого не замечал. А Марианна только и смотрела на эту пуговку.
— Яблочко еще не выздоровел? — осторожно спросила она.
Зорька оживился:
— Прямо не выздоровел! Серая ему зализала. Уже бегает вовсю. К покосу без матки выгонять будем.
— Разве скоро покос?
— Недели через три. Придешь?
Марианна молчала. Зорька нерешительно подвинулся к ней.
— Уж ты меня прости! А то, верь слову, прямо жить неохота!
Тут они в первый раз встретились глазами. Казалось, еще немножко — и Марианна тоже подвинется к нему, и они будут сидеть, как зимой сидели под игру метели и под сонное причитание Зорькиной матери.
Но Зорька промахнулся.
— Шла бы ко мне насовсем. А то чего ты тут, по баракам этим, наглядишься? Хорошим девкам тут делать нечего.
Все тепло в глазах у Марианны сразу загасло.
— А что тут у нас, в бараках, плохого? — почти резко спросила она. — Как ты можешь говорить?.. Вообще-то я уже поняла, что у тебя очень отсталые представления. И если хочешь знать, барак — это было при царе. А теперь общежитие. Понятно?
Зорька остолбенел. А Марианна решила его не жалеть.
— Ты вроде Шурки. Ей всегда казалось, что все люди плохие. Это потому, что она очень темная.
Оскорбленный сравнением, ошеломленный, Зорька смотрел затравленно и одиноко. А Марианна продолжала:
— Почему я должна идти к тебе? Ты даже не спросил, — может быть, мне хочется поехать куда-нибудь далеко. Например, на Камчатку.
— Пошто же на Камчатку? — чуть слышно спросил Зорька.
— Ну, на Северный полюс, где белые мишки.
Он решил, что она над ним смеется. Но что-то удержало его от взрыва. Он отвернулся и стал напряженно думать.
— Я бы тоже с тобой на Камчатку… — наконец тихо сказал он. — Да вот мать…
После этого он глубоко вздохнул и взял шапку.
— Пойду я тогда…
И ушел забыв даже отдать гостинцы, которые были у него в кармане. Когда опомнился, то выкинул их в бурьян около забора. Услышав за собой шорох, вздрогнул и обернулся: кулек со сладкими орехами уже теребила какая-то собачонка.
— У, морда! — сказал Зорька и вытер слезы.
Теперь он уже точно понял, что для Марианны не годятся те слова, которыми можно сговорить другую девчонку. Но иных слов он, к сожалению, пока не знал.
3
Когда-то вдоль этой дороги стояли рыжие сосны, ровные и гладкие, как новые кегли. И по их стволам, отмеченным стрелами подсочки, текла, засыхая на солнце, густая белая смола.
Теперь здесь остались только низкие, заросшие травой пни, и по вырубке, открывшейся солнцу, белел земляничный лист, обещавший богатые ягоды.
Марианна шла в Тихое. За Мурояном она сразу разулась и верст восемь пробежала легко и быстро. Пути она почти не помнила, но ноги вели ее, и она, минуя вырубку, вышла туда, куда надо.
Зеленые елки, растущие вокруг Тихого, уцелели. На усыпанной иголками и спрятанной от солнца земле цыплячьими выводками желтели лисички.
Вдова Капустиха копошилась на огороде. Она разогнулась и приложила ладонь горсточкой ко лбу. Пригляделась и узнала Марианну.
— Большая ты стала. Поди, замуж скоро?
В избе на столе стоял тот самый самовар с подтекающим краном, который Марианна хорошо помнила. По этому крану вдова в точности определяла погоду: если двигается туго и подтекает — к ненастью, а когда в исправности — к вёдру.
— Тетя Агния, — шепотом сказала Марианна, — вы меня простите, что я так долго к вам не приходила.
Вдова была по-прежнему спокойна.
— А пошто тебе ходить-то? Чай, своих дёлов хватает. И обе помолчали. Взгляд Марианны скользнул по стенке.
Она вздрогнула, увидев фотографию Ангелины, вправленную в некрашеную рамку. Покойная мачеха была сфотографирована еще столичным фотографом — с пышными кудрями, с юной и обещающей улыбкой.
— Тетя Агния, вы ее помните, значит?
Вдова вздохнула:
— Как не помнить-то!.. Не надо было мне отпущать вас. Уж я и то каюсь…
Марианна кинулась к вдове. Та обняла ее, погладила по плечам.
— Да уж не плачь, чего уж теперь… А что дымочком от тебя попахивает?
— Я в сборочном цехе работаю, — смахивая слезы, живо сказала Марианна. — Там у нас автоген и электросварка…
— Что ж, хорошо, — заметила вдова, хотя, конечно, не знала, что такое автоген и электросварка. — Только смотри, через силу не рвись: ты деушка молоденькая, как вица зеленая, перегнешься…
Марианна долго не решалась, потом спросила:
— Тетя Агния, можно мне с вами поговорить?
…На обратном пути Марианна свернула на лесную тропу и вышла к реке. Мура текла под высоким, крутым берегом. Измытый дождями, здесь чернел старый деревянный лоток, по которому заготовители спускали с горы дрова на сплав. Между досками лотка пробилась трава и жесткий розовый вереск.
Вдова сегодня сказала Марианне:
— Если сударик твой дурит, направь. Все ведь хорошее от нас, от женщин.
Неужели она может кого-то «направить»? До сих пор направляли ее.
Далекий гудок завода в Мурояне спугнул мысли Марианны. Солнце уже уходило. Марианна обула свои мальчиковые ботинки и побежала.
На полпути осталась в стороне Боровая, окруженная зеленым полем. Марианне показалось, что она даже отсюда, с дороги, видит белый камень на старом могильнике, оплетенный диким вьюнком. Здесь они в первый раз встретились с Зорькой прошедшей зимой.
Марианна остановилась, вздохнула и пошла дальше. Через час она уже была в Мурояне. По улицам бродил тихий вечер. Народу было мало, все ковырялись по своим огородам, огребали зацветающую картошку.
И вдруг Марианна увидела Шурку. Та шагала с озабоченным, осунувшимся лицом, на котором резче обозначились рыжие веснушки, и несла в руке большую, потрепанную в очередях сумку.
Шурка тоже увидела Марианну и в смущении остановилась. Казалось, еще минута — и она бросится обнимать свою бывшую подружку.
— Ну как живешь? — ласково, но с отчуждением спросила она.
— Очень хорошо, — сказала Марианна. — А ты?
— И я ничего. Сказали, в Пустоваловском сельпе чайники малированные дают. Побежала, а уж расхватали.
Шурка была низко, почти до глаз, покрыта головным платком. И все же Марианна без труда разглядела, что под этим платком на лбу что-то неладное.
— Да вот идиотик-то мой, — небрежно, будто не придавая этому значения, сказала Шурка, — вчера поругались, он деревягой своей как махнет! Дурак, он дурак и есть.
— А ты не можешь от него уйти? — со вспыхнувшей надеждой быстро спросила Марианна.
— Это с какой же стати? Мы с им расписанные, зачем я пойду? — И тут же Шурка осведомилась: — Не слыхала, Марианна, никто пальта мужского не продает? Сорок восьмой размер.
Они попрощались и пошли в разные стороны. Шурка ни разу не оглянулась, — наверное, очень торопилась.
Потом еще издали Марианна заметила Германа. Он стоял возле ларька, где торговали густым, темным пивом. Вечер был теплый, а Герман парился в своей серой тройке, а на белой шелковой его рубашке видны были следы пролитого пива. Он тоже увидел Марианну и пошел ей навстречу.
— Хорошенькая, погодите минуточку! Вы не против сегодня в парк сходить?
— Против, — тихо ответила Марианна. — А вообще, вы могли бы и поздороваться.
Герман растерялся, но спрятал растерянность в смешке. Он молча дошел вслед за Марианной до общежития. И уже у дверей опять предложил:
— Если одна со мной боишься, можно еще девчат пригласить.
— Я вовсе не боюсь, — сказала Марианна. — Просто не хочу.
Герман все-таки зашел в общежитие и просидел довольно долго, изумив на этот раз девчат своей молчаливостью и хмурым видом.
— Тебя что в солдаты берут? — с усмешкой спросила Домна.
Когда он собрался уходить, одна из девчат выскочила вслед за ним вернувшись, объяснила остальным:
— Это он из-за нее, — и кивнула на Марианну.
Девчата насторожились.
— Ишь, черт, куда нацелился!
— Вообще-то если его в руки взять, он ничего. Живут хорошо, обули бы ее, одели.
А Домна строго сказала:
— На кой черт ей все это? Она и сама обуется, оденется. Правда, Марианна?
Та слушала рассеянно. У нее гудели ноги, а перед глазами плыл синий воздух, лес, река, Шуркино озабоченное лицо…
— Эх, нам бы твои заботы! — сказала одна из девчат и подсела к Марианне на койку. — Вон Клавка замуж идет, на платье наскребла, а на туфли не осталось. Жених босую брать не хочет.
— Возьмет! — усмехнулась Клавка, та, у которой был роман с мордвином. — Самой просто неудобно.
Тогда Марианна, оживившись, предложила:
— Я тебе могу дать двести пятьдесят рублей.
Она поспешно открыла сундучок, где рядом с паспортом и свидетельством об окончании школы-семилетки лежало несколько бумажек.
Кто-то из девчат заметил:
— Это уж полное хамство — у сироты брать.
— Я же отдам, — виновато сказала Клавка. Молчаливая Домна тоже поднялась с койки.
— Отдаст. Только что означает «сирота»? Зачем человека обижать? Сейчас такое понятие отсутствует.
Марианна сделала вид, что ничего не случилось. И спросила:
— Скажите, а когда же свадьба?..
4
Покос — славное время: под косами вместе с травой ложится земляника, кусты ягоды княжанки, грибы — красноголовики. Бывает, что коса въедет в мягкую кочку, оттуда взовьются мелкие дикие пчелы, и когда от них отобьешься, можно забрать взятку — фунта два светлого меда.
Возле делянки, с которой Зорька свозил копны, стенкой стоял густой малинник. По верхушкам уже наливались ягоды.
— Это тоже не работа, — недовольно заметил Зорька Лазуткину. — Баб из кустов не выгонишь.
В разгар покосной страды в колхоз прислали заводских — черных от смазки слесарей, жестянщиков в рваных фартуках, кузнецов с подпаленными бровями, сборщиков, учетчиков, бухгалтеров. Как всегда, на всех не хватало граблей и вил, и большинство, воспользовавшись заминкой, прямым ходом рванулось в малинник.
— Шут с ними, пусть налопаются! — досадливо, но снисходительно сказал Лазуткин. — А потом, если они мне по копне на брата не поставят, я с них с живых не слезу.
Он отозвал Зорьку в сторону и сообщил:
— Тут, Светозар, между прочим, девочка твоя.
…В руках у Марианны были маленькие щербатые грабли. Она осторожно, боясь обломить последние колки, выгребала из кустов сухую траву. Зорька, держа в поводу Буланого приблизился нерешительно.
— Гребешь, значит? — тихо спросил он.
— Гребу… — тоже очень негромко ответила Марианна. Зорька не знал, что говорить.
— Ваши чумазики вон по ягоду утекли, а ты что же работаешь?
Марианна сказала уклончиво:
— Я боюсь, что не выполню норму… У нас же задание. Зорька поглядел на ее исколотые жесткой травой ноги, на щербатые грабли, и в горле у него что-то сжалось. Он сказал угрюмо:
— А у меня с матерью худо. Ее в больницу хотели, а она убегла. Двое суток искали. Теперь запираю ее.
Лицо у Зорьки было худое и суровое. У Марианны дрогнули ресницы.
— Почему же ты не приходил?
— Зачем же пойду, когда я тебе не нужен?
Раньше Марианна боялась лошадей. Теперь она подошла совсем близко к Буланому и взялась за конец поводка, коснувшись при этом намеренно Зорькиной руки.
— Неужели так трудно было прийти? — еще раз тихо спросила она.
Позади них кто-то шумно зашевелил кустами, затрещал сучьями, выбираясь из малинника. Зорька с опаской оглянулся.
— Ты думаешь, я боюсь, что нас увидят, — сказала Марианна, глядя ему прямо в глаза. — Я абсолютно не боюсь!
— Ой, плохо, мне, Марианна, плохо! — сказала Зорькина мать, накрывая темной рукой то место, где болело сердце.
За окном шел холодный, нудный дождик, который часто приходит в конце июля на смену ясным дням и мешает закончить сенокос.
— А почему вы боитесь в больницу? — спросила Марианна.
— Боюсь. Чего в ей хорошего, в больнице-то? Больница меня, Марьяна, не вылечит. Я сама себя вылечу, если сердцем успокоюсь. Мне бы опять любовь мою найти… Тут бы я и ожила. Я ведь еще не старая, Марьяна!
Дождик перестал. За окошком густел вечер. С ближнего некошеного поля пахло мокрым клевером. В палисаднике бледно розовел прибитый дождем шиповник. Зорька оставил Марианну и мать вдвоем, ушел просить лошадь, чтобы до ночи успеть в больницу на Муроян.
Марианна зажгла свет и снова села возле Зои. Невнятное любопытство к жизни заставляло ее слушать, что та рассказывает. Между ними возникло что-то вроде доверия, как между взрослыми женщинами.
— Ведь это меня за то Бог бьет, что я мужнину плоть в себе не удерживала, — с печальным воодушевлением призналась ей Зоя. — От законного своего мужа родить не хотела. Потому — не любила ево… — И добавила строго: — Станешь со Светозаром жить, так-то не делай. Не хитри.
Через полчаса заскрипели ворота, приехал сам Лазуткин в шарабане. Больная увидела председателя, и на лице у нее промелькнуло что-то вроде желания прихорошиться, прибодриться.
— Здорово, княгиня! Говорят, занемогла ваша милость?
Лазуткин положил шапку и подошел к постели.
— Эх, Зоя, Зоя! Бойкая ты была баба! Не при деточках сказать, помутила ты нас, молодых ребят!
— Всего бывало, Нестер Абросимыч, — с тихим удовольствием вспомнила та.
— По старой замашке хочу прокатиться с тобой. Собирайся.
Зоя улыбнулась председателю болезненно, но игриво.
— Неохота курочке идти, да тянут за хохолок! Зорька и Марианна остались вдвоем.
— Уйдешь? — спросил Зорька. Марианна молчала.
Зорьке и самому не хотелось для первого раза оставлять ее сейчас в пустой избе, где незримо жила тоска и болезнь.
— Боишься?
Марианна покачала головой.
— Почему все спрашивают: «Боишься?» Неужели я такая маленькая?
Зорька шагнул к ней и, оглянувшись на дверь обнял за плечи.
— Какая же ты маленькая? — очень ласково сказал он. — Ты уже вон какая выросла! Вовсе большая стала…
А Зоя умерла через неделю. Лазуткин, возвращаясь с совещания по сенокошению, заехал в больницу. Ему там сказали, что все эти дни Зоя была вроде бы ничего, а тут, в последнюю ночь, убежала со своей койки, и утром нашли ее в больничном саду, под черемухой.
— Чего же вы смотрите? — с досадой спросил Лазуткин. — Ходит тут вас косой десяток, подолами трясет…
— Десяток! Сторожа и двух нянек на покос взяли от исполкома. Сестра да санитарка на всю больницу разрываются.
Один из больных сообщил Лазуткину, что будто слышали ночью, кто-то шебуршился под окном. Но подумали, что это какая-нибудь парочка: сад при больнице был густой, и пары сюда частенько захаживали.
— Эх, Зоя, ты Зоя!.. — уже с тоской сказал Лазуткин. — Бедная ты баба!.. И я возле тебя, было время, грелся, а теперь лежишь ты здесь, всем людям холодная…
И поехал прямо на лесопилку, велел сделать гроб. А Зорька еще ничего не знал. На Буланом возил сено волокушами, готовил стог.
— Не сыровато? — спросил Лазуткин, мучаясь другими мыслями.
— Пересушивать не придется. Лазуткин собрался с духом и сказал:
— Ну, Светозар Валерьяныч, остался ты сам себе большой, сам себе маленький. Вот так, парень…
…Зою похоронили неподалеку от того камня, под которым лежала всеми уже забытая Ангелина. Проходя мимо этого камня, Лазуткин сказал Марианне:
— Прибей досочку. Кто по земле не бегал, тот и не согрешил. Говорят, тоже красивая баба была!..
На поминках он сильно выпил и кричал Марианне и Зорьке:
— Эх, кабы у меня своих семерых не было, я бы вас к себе в дети взял!..
У Лазуткина действительно была полна изба ребят, и все с серо-голубыми, как барвинок, глазами: своих трое и четверо от покойного брата.
— Все равно! — кричал Лазуткин, обнимая Зорьку и Марианну. — Я из вас людей наделаю! Я город Берлин брал! Своими простыми, советскими руками!..
Поминки были богатые: колхоз дал Зорьке муки на пироги и ячменя на пиво. Этим-то пивом Лазуткин и окончательно набрался. Забыл, что он на поминках, а не на свадьбе, и гудел:
— Горько-о!..



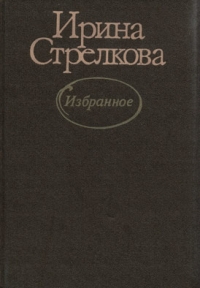


Комментарии к книге «Несовершеннолетняя», Ирина Александровна Велембовская
Всего 0 комментариев