Николай Богданов Когда я был вожатым
Как мы спорили
Нет, ты не прав!
— А я с тобой не согласен!
— Весь смысл пионерского движения в организованности сверху!
— А я за широкую самодеятельность ребят.
— Но это же анархия, зачем тогда вожатые? Мы же призваны руководить.
— Но не водить за руки. Мы не поводыри, а вожаки!
— Не понимаю разницы…
— Поводырь водит робких слепых, которые без него ни шагу, а вожак ватагу удальцов.
— Ха-ха-ха! Договорился: вместо юных пионеров<p>— юные запорожцы. Пойми, ведь это же дети.
— Нет, наши ребята не дети, а мы для них не няньки, а товарищи!
Сколько же мы тогда спорили, вожатые первых пионерских отрядов! Особенно я с Вольновой. На курсах нас так и прозвали «друзья-враги». Мы всегда занимали крайне противоположные позиции.
Если я говорил:
— Надо всячески поощрять выдумки ребят.
Она тут же вскрикивала:
— Какие выдумки? Мало ли что они напридумывают!
Мы должны им прививать только то, что нужно для людей будущего, ведь им при коммунизме жить!
— Что значит жить при… чем-то, при ком-то? Это приживальчество. Наши отцы не жили при капитализме, а боролись против капитализма. А ребята будут строить коммунизм, а не жить при нем, как иждивенцы!
— Ну знаешь, основное уже будет построено. Их надо подготовить к тому, чтобы пользоваться плодами коммунизма. Быть здоровыми, сознательными, дисциплинированными… Гармоничными во всем.
— А конкретно: пуговицу они должны будут уметь пришить? Обед приготовить? Обувь починить?
— Вот смешно! Вот отсталые понятия! Да в будущем, может, и одежда-то будет без пуговиц. Обед заменит какая-нибудь одна пилюля. И вообще за людей все будут делать машины!
— А людям и делать будет нечего! Вот здорово! Нам нужно готовить в основном бездельников!
— Не бездельников, но людей, у которых, конечно, будет больше свободного времени, чем у нас… Надо им прививать любовь к спорту, к музыке, к театру.
— А к труду? Ведь основа всего<p>— труд.
— Но не к такому, как теперь, ведь они будут уже не рабочими. Само слово это отомрет. Они будут командирами техники, властелинами машин…
— Не люди, а боги!
— Не доводи до абсурда. Не боги, конечно, но и не люди по нашему подобию…
— А по какому же?
— Вот в этом-то и сложность. Мы<p>— люди, у которых еще много от старых навыков, от прошлого, — должны воспитать людей будущего, привить им высшие навыки.
— Я бы с удовольствием привил им и мои старые навыки<p>— умение косить, пахать…
— Ну вот, — смеялась Вольнова. — я же говорю, любовь к анархии<p>— это у тебя от крестьянской стихии, в которой ты провел неорганизованное детство: скакал на неоседланных лошадях, когда человечество давно освоило седло и стремена, глотал дым костров, когда есть электричество, пил ключевую воду, не имея понятия, что есть водопровод. Какие же навыки принесешь ты людям будущего?
— Комсомольскую боевитость.
— Лучше бы организованность!
— Только не на скаутский манер!
Тут Вольнова всерьез обижалась. Она ставила себе в заслугу, что, участвуя в скаутском движении, помогла взорвать изнутри и разоблачить эту организацию воинствующих буржуйских сынков. И считала, что нам нужно перенять немало полезного, что было у скаутов: их военизированные игры, методы физической закалки, строгую дисциплину, основанную на подчинении младших старшим. Я же считал, что нам у буржуйских сынков учиться не следует, у нас свои, комсомольские традиции есть.
— Боюсь, что не выйдет из тебя настоящего вожатого, который смог бы готовить людей будущего, если ты будешь ориентировать их на прошлое.
— Послушай, Соня…
— Сколько раз я тебе говорила, что Соня<p>— это от слова «сон», а мое имя от греческого слова «софия», что значит «мудрость». Ударение на букве «и». Ни в коем случае не Софья и не Софа, это тоже противно, что-то от софы, сафьяна, дивана…
— А вот у Грибоедова<p>— Софья.
— Запомни: родители назвали меня не в честь этой размазни, а в честь революционерки Софии Перовской.
Это тебя неизвестно почему назвали Николаем, с таким же успехом могли назвать Иваном или Петром.
— Ишь какая ты организованная!
— Да, я была задумана, и создана, и воспитана как гармоничный человек будущего. У меня все не случайно, и фамилия Вольнова свободно избрана моими родителями.
Это их партийная кличка. Конечно же, не случайно, а в результате тщательного отбора мой отец<p>— человек очень красивый физически и морально<p>— выбрал мне в матери женщину красивую, здоровую, уравновешенную, с соответствующим интеллектом. И вот результат!
София Вольнова становилась в позу, давая собой любоваться. И здесь наш спор прекращался. Красива она была бесспорно. Без единого недостатка. Высокая, стройная, сильная, гибкая. Лицо словно выточенное по классическим пропорциям. Высокий лоб, прямой тонкий нос, идеального овала подбородок. Прибавьте к этому гриву золотых волос, горделивую посадку головы и светящиеся смелым умом глаза. Арабский конь<p>— среди копытных.
Лебедь<p>— среди птиц.
— Придется мне взять над тобой шефство, — говорила она снисходительно.
— Давай просто дружить, — предлагал я.
— Дружить? Это же отсталое понятие. Дружба двоих отделяет их от коллектива. Дружба внутри одного коллектива противопоставляет его всему обществу.
— Ну, София, это уже софизм, софистика, мудрствование лукавое! Как же это жить без дружбы?
— Нет, нет, вот шефство<p>— другое дело. Здесь передовой помогает отстающему, и это на пользу всему обществу.
Шефство надо мной она взяла еще на курсах пионервожатых, где я был простым слушателем, а она читала нам лекции о воспитании подростков.
Как я стал вожатым
После окончания курсов нас распределили по московским районам. Мы с Вольновой попали в Бауманский.
Завом райбюро пионеров был здесь Павлик<p>— так его все звали. Этот веселый парень, никогда не снимавший кепки, со всеми был на «ты», и любимое слово у него было «поддерживаю».
Когда Вольнова доложила ему свой план действий, который составила заранее, Павлик весело сказал:
— Замечательно. Поддерживаю. Действуй!
И она принялась действовать. Отправилась в лучшую опытно-показательную школу имени Радищева, взяла списки учащихся, отобрала отличников, в первую очередь детей коммунистов, и предложила им записаться в отряд.
— Кому же, как не вам, быть пионерами? Дети коммунистов должны быть примером для детей беспартийных родителей.
А учителям сказала:
— Всех ребят мы сразу охватить не сможем, я отберу тех, кого сочту нужным.
Так она создала пионерский отряд весьма разумно, действуя, как всегда, строго логично и продуманно.
Я же, как неисправимый романтик, поддался стихийному влечению сердца. Понравилось мне, что где-то в районе, в каком-то Гороховом переулке, в школе, которая держала рекорд по количеству разбитых окошек, собрался самостийный пионерский отряд. Совет отряда написал Павлику письмо, требуя прислать вожатого, «какой у вас самый лучший, а то не примем».
Вот к этим дерзким ребятам я и явился.
Школа оказалась непривлекательной, обшарпанной.
Переулок кривой, с выбитым булыжником. В начале его, у Садово-Черногрязской, стояли черные, закопченные котлы для варки асфальта, и около них, одетые в грязное тряпье, копошились беспризорники.
Учителя встретили меня неласково.
— Мы считаем организацию отрядов при школе нецелесообразной, — сказал завуч, — будет отвлекать учащихся от занятий.
А ребята<p>— еще круче.
— А почему ты пошел в вожатые? — спросил серьезный паренек, не умеющий улыбаться.
И десятки любопытствующих глаз уставились на меня со всех сторон.
— Да мне само слово понравилось. Важное, уважительное такое: вожатый, вожак.
— Расскажи о себе. Кто такой и почему к нам послали?
Пришлось рассказать о своем комсомольстве. Об участии в борьбе с бандитизмом. О том, как создали мы первые ячейки на селе. Как боролись с кулаками. Как с оружием в руках добывали спрятанный ими хлеб, снабжая голодающую Москву. А потом по призыву Ленина «Учиться, учиться и учиться» приехали в столицу на учебу по комсомольским путевкам.
— Подойдешь в вожатые. Давай голоснем, ребята!
— Нет, постойте, — заявил я, — теперь расскажите, кто вы такие. Может, вы мне не подойдете.
Ребята были озадачены.
— Костик, давай… Ты председатель совета отряда, тебе первому. Котову слово!
— Я сын рабочего, — сказал Костя.
— А мать<p>— торговка! — тут же добавила девчонка, стриженная под мальчишку, и какой-то паренек показал жестом, что ей нужно отрезать язык.
— Ну и торговка, что же тут такого? Нам жить нечем.
Отца моего беляки зарубили под Воронежем… Вот мать и торгует. У Перовского вокзала, в обжорном ряду, студнем… Кому нужно<p>— пожалуйста!
Дружный хохот покрыл эти слова. Но сам Котов не улыбнулся.
— А ты кто? — спросил я стриженую.
— Я вожатая звена «Красная Роза», Маргарита.
— Бывшая Матрена, — пискнул узкоплечий, большеголовый мальчишка и тут же присел, получив от девчонки щелчок в макушку.
— Ну да, буду я еще носить поповское имя. Мне его без моего согласия дали. Хочу<p>— и буду Маргаритой, и никто мне не запретит! А кто назовет по-старому, тот получит!
— Она вожатая, потому что у нее мать вагоновожатая! — пискнул опять паренек и спрятался под парту.
На все эти шутки снисходительно поглядывал важный, толстый пионер в очках.
— Уйми своего Игорька, доктор! А то мы ему живо ежиков наставим.
— Почему он доктор? — спросил я. — Потому что в очках?
— У него отец тоже доктор.
— Доктор паровозов, — важно ответил толстяк.
— Просто слесарь по ремонту паровозов, это он важничает! — закричали девчата.
Выяснилось, что доктором прозван Ваня Шариков, вожатый звена «Спартак».
— У нас две Раи<p>— одна маленькая, другая большая…
Вот она, самая толстая. Из нее маленьких две получится.
— Рая-маленькая сама пришла, а большую папа привел.
— Чтобы похудела!
— Чтоб ее коллектив воспитал, а то она очень рыхлой растет… Одни мечты и никакой инициативы. А теперь время не то… не для таких.
— И две Кати у нас<p>— одна беленькая, другая черненькая.
Всех я в тот раз не запомнил, конечно. Народец, как видите, разношерстный. В основном дети городской бедноты. Что же их собрало вместе? И я спросил, почему они хотят быть пионерами и что думают делать.
— Насчет почему пионеры<p>— это понятно: хотим быть передовыми. Не ждать, пока вырастем, сейчас действовать… А вот как<p>— мы еще не знаем…
— А я знаю! — выскочил очень чистенько одетый мальчишка с нарисованными химическими чернилами усами. — Давай, вожатый, подготовимся… сухарей там, оружие<p>— и на подпольную работу в Германию. Мы маленькие, через границу проскользнем<p>— шуцманы нас не заметят… А с немцами чего проще геноссен, ауфвидерзеен!
— Да не слушайте, это Франтик, фантазер, — оттащила его девочка сильной рукой. — Лучше всего агитпоход.
На смычку с деревней!
— Мальчишкам даешь экспедицию на басмачей! В горы, разведчиками… А девчонки пусть на борьбу с паранджой<p>— раскрепощать женщин!
— Да постойте вы, пусть вожатый скажет.
Многие бы заткнули уши от такого шума. Но я, как старый комсомольский активист, находил в этой бурливой стихии особую прелесть, это напоминало мне начало нашей комсомолии. Давно ли мы сами были такими!
С улыбкой посматривал на меня и на ребят взрослый человек, сидевший в сторонке у окна и ни во что не вмешивавшийся.
У него было темное, продубленное какими-то нездешними ветрами лицо и белые как снег волосы.
— Все правильно, — сказал я, — но все в свое время, а сейчас посмотрим, умеете ли вы ходить строем. А ну, на линейку строиться! Шагом марш!
Вышли ребята в старинный парк, прилегающий к школе, построились на влажной тропинке в тени больших лип.
Стою перед строем, объясняю законы юных пионеров, рассказываю про обычаи и замечаю<p>— некоторые ребята поджимают под себя ноги<p>— то одну, то другую.
— Чего это вы, как журавли на болоте?
— Тропинка холоднющая, пятки зябнут.
Вижу<p>— многие босиком.
— Вы что, обувку дома забыли?
Молчат босоногие, застеснявшись.
— Родители не дали. Говорят, обувка нужна в школу ходить, ее беречь надо, — важно сказал Шариков, посмотрев на свои заплатанные ботинки.
Переглянулись мы с седым человеком<p>— бедновато, мол, живут еще наши люди, детскую обувочку чиненую-перечиненую берегут! Учти, мол, говорил его взгляд. Я учел и, оставив словесность, переключился на разминку.
— По тропинке бегом, марш!
Полюбовавшись на ребят, раскрасневшихся после бега, и, очевидно, решив, что я овладел стихией, седой человек, как-то незаметно пожав мне в локте руку, ушел.
Это был прикрепленный к отряду от райкома партии старый коммунист Михаил Мартынович Агеев. Все его звали дядей Мишей.
Как мы доставали горн и барабан
Итак, за меня проголосовали единогласно и я вступил в командование пионерским отрядом в качестве вожатого.
Школа, при которой жил мой отряд, оказалась одной из беднейших в районе. У нее не было никаких шефов.
Ребятам некому было подарить даже барабан. Не было горна. А без этого какой же пионерский отряд!
Идеи и способы достать барабан возникали у наших бойких ребят самые неожиданные, простые и фантастические. Вот, например, при помощи перышек и… семечек.
В то время два бича терзали школу: игра в перышки и лущение семечек.
Еще с голодных времен укоренилась эта привычка<p>— грызть семечки, чтоб обмануть голод. И ребята грызли их везде и всюду, даже во время уроков. Послушаешь, учительница что-то объясняет, а в классе стоит сплошное пощелкивание, как треск кузнечиков. А игрой в перышки увлекли их беспризорники до того, что школьники играли, спрятавшись под партами.
Пионеры решили объявить этим порокам беспощадную борьбу.
— Знаешь, вожатый, мы что придумали, — заявил мне на совете отряда Франтик, — обыграть всех наших беспартийных ребят дочиста и все выигранные перышки продать соседней школе. Вот и деньги на барабан!
— Не годится.
— Ну, тогда вынуть у всех грызунов семечки из карманов, сделать такой внезапный налет. А реквизированные семечки<p>— на базар. Вот Костя, его мать нам и продаст, — предложил Шариков.
— Опять не то.
— Ну, вожатый, почему «не то»? У нас же шефов-то нет. Хорошо вон отрядам при заводах, при фабриках, там отцы отработают смену-другую в пользу отряда, вот и все!
— А почему бы, ребята, нам самим не заработать?
Я все ждал такого предложения. Мы, студенты, когда не хватало стипендии, поступали просто: шли на товарные станции, на склады, работали грузчиками. У нас были свои студенческие артели. Конечно, детский труд у нас запрещен. Но видел я, как нанимались мыть и очищать товарные вагоны женщины из городской бедноты и им помогали девчонки.
Может быть, и пионерам можно в виде исключения заработать себе на горн и барабан.
Решили посоветоваться с нашим партприкрепленным<p>— дядей Мишей. При каждом отряде были такие шефы из старых коммунистов. Мы своим особенно гордились.
Богатырь с виду. Лицо загорелое, а волосы седые. Командир одной из краснопресненских баррикад в 1905 году.
Бежал с царской каторги, жил в эмиграции. В гражданскую войну партизанил на Дальнем Востоке. У него были грозные, лохматые брови и детские голубые глаза.
Он выслушал мое предложение, подумал, как всегда, и сказал неторопливо:
— И меня прихватите… Я когда-то большим спецом был витрины мыть, зеркальные стекла протирать. Я этим занимался в эмиграции, в Париже.
Ну, раз такой человек стекла мыл в Париже, чего же нам дома-то стесняться!
После долгих переговоров нам доверили вымыть и протереть стекла в запущенном здании вокзала Москва-вторая.
Заработанных денег хватило и на барабан, и на горн, и на кусок бархата для знамени.
Признаюсь, мы скрыли это от наших беспартийных ребят и даже от учителей, придумав, что все это подарки несуществующих шефов. Нам казалось, что так больше чести.
Лихо маршировал наш отряд под звуки горна и грохот барабана по нашему кривому переулку. Задорно прошли мы разок-другой и мимо опытно-показательной школы имени Радищева.
Стройность картины нарушали только беспризорники, бездомные обитатели нашего переулка. Лохматые, чумазые, они бежали за нами завистливой толпой. Может быть, потому, что котел для варки асфальта, у которого они ютились, стоял близко от нашей школы, или оттого, что наши ребята не брезговали иной раз поделиться с ними завтраками, эти беспризорники так и липли к нашему отряду, совсем не интересуясь отрядом Вольновой.
Но не в них дело, главное<p>— что мы четко печатали шаг под барабан. У нас были горн и красное знамя. И все это мы добыли сами и теперь демонстрировали перед окнами соперников.
Мне показалось, что сама Софья Вольнова выглянула в окно, привлеченная звонкими руладами горна и трелями барабана. И сердце мое сладко забилось.
— Мы еще вам покажем, опытно-показательные!
Как-то раз, на очередной встрече вожатых по обмену опытом, она мне так обидно посочувствовала, что вызвала желание посоревноваться<p>— кто кого.
Как мы штурмовали Перекоп
Многие отряды тогда соревновались за право носить имена героев революции и гражданской войны. Наши с Вольновой пожелали взять себе имя Буденного.
Мои ребята считали, что имеем на то особое право: отец нашего пионера Шарикова служил кочегаром на бронепоезде «Ваня-коммунист», который своим метким огнем по скоплениям белогвардейской конницы помог Буденному выиграть знаменитую битву за Воронеж.
Шариков со слов отца рассказывал, как это было…
И каким смельчаком был Буденный. И как он командовал, не слезая с коня. Подскакал к бронепоезду, постучал звонким клинком о стальную броню орудийной башни и указал командиру цель, по которой открыть огонь.
Не все знали такие подробности о боевых делах избранного нами героя. Кому же, как не нам, носить на отрядном знамени его имя!
А пионеры Вольновой не уступали. Они вычертили большущую карту всех военных походов Первой Конной армии.
Удары буденновцев по врагам были изображены красными стрелами, войска белых обозначались белым, зеленых<p>— зеленым, скопления махновских банд черным.
И вот решающий час настал.
Отряды красных выстроились у подножия Воробьевых гор. На всех буденовки, выданные с военных складов.
Они великоваты, сшитые на взрослых бойцов, и некоторым малышам сползают на глаза. Ничего, выше головы<p>— на носах задерживаются!
Семен Михайлович выехал принимать парад своего необычного войска. Под ним легендарный боевой конь.
При нем легендарная шашка, украшенная боевым орденом Красного Знамени. Замерли в восторге. юные воины, застыли по стойке смирно красные командиры-вожатые.
И вдруг в этой тишине громкий шепот Игорька:
— Не может быть, чтобы сам Буденный стал нами, детьми, командовать. Нарядили под него какого-нибудь артиста. Посадили на коня, приклеили усищи, и пусть с детьми в войну поиграет!
На него зашикали. Но Буденный услышал. Остановил коня и громко:
— Кто там в строю рассуждает, два шага вперед.
Вытолкнули ребята оробевшего Игорька. Стоит он на полусогнутых. Громадный конь косит на него сердито глазом. Всадник смотрит с усмешкой и вдруг наклоняется к проштрафившемуся «бойцу»:
— А ну, дерни меня за усы!
Какое там! Игорек совсем оробел. Ни жив, ни мертв.
Тут Семен Михайлович крепко дернул себя за ус, поморщился и сказал наставительно:
— Не знаешь, не ври… Видал, настоящие! И, приосанившись, отъехал.
Неизвестно почему, ближайшие отряды гаркнули «ура». Его подхватил весь строй.
А я подумал: «Все кончено. Тут воюй не воюй<p>— не завоевать нам имя буденновцев». Улыбка Вольновой подтвердила мою мысль.
Взвились сигнальные ракеты. Ударили по «врагу» «пушки», затрещали «пулеметы», отлично сделанные деревянные трещотки. Ахнули разрывы снарядов, все как на настоящей войне<p>— так ловко взрывали фугасы саперы, приданные нашему юному войску. Беглым шагом ринулась в гору славная русская «пехота»…
И хотя вместо грозного рева солдатских глоток сия пехота издала мальчишески веселый крик, перешедший в шумный и беспорядочный гомон, все шло отлично.
Но вдруг этот веселый шум и гомон стал затихать, замирать, движение штурмовых цепей замедлилось. Что-то странное, непонятное погасило воинский пыл юных бойцов.
И командарм наш, руководивший боем с коня, заметив неладное, подскакал к передовой.
— В чем дело, товарищи? Что задержало красную пехоту?
— Извините, — докладывают смущенные командиры, — крапива!
— Какая крапива?!
— Непредвиденная, жгучая! — досадливо сказала Вольнова, почесываясь. На пути наших отрядов оказались такие могучие заросли крапивы, заполонившие заброшенные малинные и крыжовничьи сады-садочки заброшенных дач, что ее колючее семя посыпалось за шиворот нашим командирам. О бойцах и говорить нечего. Ребята застряли в ней, как в колючей проволоке!
Буденный, подняв густые брови, чуть не расхохотался.
Не случалось еще такого в его воинской практике. Но тут же спохватился. И, включаясь в игру, выхватил саблю из ножен и, послав вперед коня, принялся рубить крапиву с азартом мальчишки.
А мои ребята, не дожидаясь, когда им прорубит дорогу в этой колючей проволоке сам командарм, ринулись вперед, не щадя порванной одежды, не считаясь с царапинами и ожогами.
И пока генералы «синих», приставив к глазам бинокли, посмеивались да пошучивали над удалым мальчишеством Буденного, наш самый ободранный и поцарапанный отряд вырвался вперед. Одолев возвышенность и зайдя в тыл «синих», мы закричали «ура» и подняли красные флажки.
Посредники определили, что штаб «синих» попал в плен.
При разборе итогов первой пионерской военной игры было много смеха и шуток.
Командиры «синих» заявляли:
— Отвлек нас своим геройским кавалерийским рейдом товарищ Буденный. Пока мы удивлялись, для чего это командарм крапиву заготавливает, красная пехота тут как тут!
— Для вас, для вас крапивку заготавливал, чтобы угостить, если долго не сдадитесь, — покручивая усы, отшучивался Семен Михайлович.
За отличное командование военной игрой ему было присвоено звание почетного пионера. А нам за отличное участие в ней предоставлено почетное право повязать ему красный галстук как шефу нашего отряда.
Как мы принимали в пионеры Буденного
Вскоре разведка выяснила, что Семен Михайлович живет в одном из переулков вблизи Кремля. Встает он, по военной привычке, очень рано и каждое утро выходит прогуляться во двор дома, когда все еще спят. В такой ранний час мы его и подкараулили. Неожиданно вышли из-за каменного забора, подошли четким шагом и отдали салют.
Семен Михайлович, подняв густые брови, отдал честь.
Рита вышла из строя и отрапортовала:
— Разрешите повязать вам красный пионерский галстук как почетному пионеру отряда имени Буденного!
Семен Михайлович улыбнулся, поправил усы и после небольшого раздумья пригласил нас к себе. Приоткрыл массивную дверь парадного и, пропустив всех ребят, обогнал их на лестнице.
— Жинка! — крикнул он, открывая дверь квартиры на втором этаже. Дивись, я сейчас помолодею. Вот хлопчики пришли меня в пионеры принимать.
Из комнаты вышла высокая, строгая на вид женщина.
Увидев нас, молча осмотрела, пропустила вперед, не сказав ни слова.
Сдерживая робость и любопытство, с ощущением, что перед нами сейчас раскроется какая-то тайна, мы вступили в жилище легендарного героя, веря и не веря, что это наяву, а не во сне. Казалось, что сейчас мы увидим сабли и ружья, как в военном арсенале, знамена, пробитые пулями, и еще что-нибудь необыкновенное. И были поражены, увидев книжки. Их было много ив шкафах кабинета и на столе. И среди и-их<p>— учебники и тетради.
Что это<p>— герой гражданской войны Буденный, учась в Военной академии на генерала, изучает школьные науки, как какой-нибудь школяр?!
Заметив наше удивление, хозяин несколько смутился, но быстро подавил смущение и, положив руку на исписанную тетрадь, сказал:
— Вот так, ребята. Таким, как я, до революции учиться не пришлось. С детства работали на богачей от зари до зари. А после революции опять некогда, воевать с ними пришлось с утра до ночи. Вот теперь, как с ними управились, вдвойне наверстывать приходится. Трудно взрослому человеку изучать школьные науки, ох как трудно, — вздохнул Семен Михайлович. — Вам в юные годы куда легче. Всё для вас<p>— учителя, школы. Вот за то мы и воевали. Вы это цените? Смотрите у меня, чтобы пионеры отряда имени Буденного по успеваемости были впереди всех!
Конечно, ребята дали слово. Когда мы вручили Семену Михайловичу выписку из решения совета отряда, разрисованную нашими художниками, повязали красный галстук и пришпилили значок, Буденный спросил:
— Ну, а какие же обязанности будут у меня как у пионера отряда имени Буденного?
— Вы почетный, — стала объяснять Рита. — Маршировать с нами не будете, конечно… Но вот помогать…
И тут мы признались, что нам для выезда в летний лагерь совершенно необходимы две-три палатки. И, по нашему соображению, товарищ Буденный может нам в этом помочь, ведь Первая Конная сейчас не воюет и, наверное, многие походные палатки на складах лежат. Нам бы на время, а не насовсем.
Семен Михайлович задумался: речь шла о казенном воинском имуществе.
— Семен, а почему бы и не дать хлопчикам из тех, что постарее, все равно их списывать пора, — сказала вдруг жена Буденного.
— Да, да, конечно, если будут порваны, пулями пробиты<p>— нам подойдут, мы починим! — подхватили ребята, благодарные за поддержку.
Семен Михайлович на бланке написал нам записку, объяснил, куда пойти, и мы, едва сдерживаясь, чтобы не заплясать от радости тут же, в кабинете, поблагодарили нашего почетного пионера и попрощались с хозяевами.
В прихожей жена Буденного каждому из нас сунула по горстке конфет, чем весьма смутила и ребят и вожатого.
Возможно, все кончилось бы благополучно, не поделись я радостью с моим райкомовским дружком. Павлик выслушал мой доклад, насторожившись.
— Карьеру делаешь, — сказ. ал он глуховато и тут же отобрал бумажку. Доложу на бюро. Надо посоветоваться. Дело серьезное. А к лагерю вы готовьтесь, тренируйтесь, — успокоил он нас и выпроводил из райкома.
Как мы агитировали родителей
Вскоре весь отряд только и жил мечтой о выезде в лагерь. Для тренировки мы проделывали пешие походы в Сокольники, в Измайлово. Ребята заготавливали кружки, ложки, заспинные мешки. Вели разъяснительную работу среди родителей.
Большинство радовалось счастливой возможности отправить своих детей на вольный воздух из душного, пыльного города. В особенности городская беднота, для которой выезд на дачу был не под силу, не по средствам.
Тетки Кати-беленькой раза два приходили ко мне хлопотать за свою племянницу, опасаясь, что мы не возьмем ее, как очень слабенькую.
— Конечно, она плохонькая у нас. Но без свежего воздуха совсем завянет. И мать ее от туберкулеза зачахла… и старшая сестренка померла. Мы вот тоже на учете как туберкулезницы состоим… Может, хоть она здоровенькой вырастет. Пионерство ей поможет… Вы уж не отталкивайте ее как слабенькую, — просили они весьма трогательно.
Но были и такие, что категорически заявляли<p>— нет.
По самым неожиданным причинам. Отец Шарикова, например, заявил, что его сын ему самому нужен. Поедет с ним летом в деревню для остальных детишек на молочишко зарабатывать. Слесарь каждое лето отправлялся по деревням чинить-паять старые чайники, тазы, ведра, кастрюли, и Ваня уже раз-другой ходил с ним за подмастерье. Насилу мы его отстояли.
Бывали случаи, когда меня призывали на помощь: матери<p>— агитировать отцов, отцы<p>— уговаривать матерей.
Так случилось в семействе Рай-толстой.
Ее папаша оказался адвокатом, женатым на бывшей богачке. Попав в его квартиру, я очутился словно в музее старинной мебели и каких-то дорогих и ненужных вещей.
Среди них, как заблудившаяся в лесу, бродила очень бледная, очень красивая женщина с громадными печальными глазами. Она смотрела на меня скорбно. И ничего не говорила. Рассуждал один адвокат, а она только иногда кивала головой.
— Ангел мой, — говорил просительно адвокат, — ты пойми, речь идет о счастье нашей единственной дочери. Ее счастье<p>— с людьми будущего. А эти люди на данном историческом этапе<p>— пионеры. Мы не должны навязывать девочке наши старые, отсталые понятия. Уж поверь мне, я-то знаю, куда клонит жизнь… Мы должны радоваться, что ее включат в свои ряды победители старого, творцы нового, молодой весны гонцы. С ними ей будет лучше.
С ними она увидит свет новой жизни. Они ей помогут найти счастье в новом, непонятном для тебя обществе…
Он был настолько же многословен, насколько она молчалива. Может быть, такой и должна быть жена адвоката?
Меня многое поразило в этой квартире. Но особенно<p>— книги. Весь кабинет адвоката был заставлен книжными шкафами. За стеклом важно сверкали позолотой кожаные переплеты множества книг.
В столовой стояли шкафы, на стеклянных полках которых красовались удивительные фарфоровые безделушки, которые адвокат показывал мне как драгоценности.
Очевидно, его причудливая мебель, статуи, картины и фарфор представляли какую-то непонятную мне, но большую ценность, потому что он говорил:
— И все эти богатства я готов отдать лишь за одно то, чтобы моя дочь приобщилась к новому обществу… Пошла в одном строю с победителями… Это главное теперь, это главное….
Хотя адвокат и был советским служащим, у меня стало закрадываться подозрение, что нам хотят подсунуть свою дочку бывшие буржуи. Стоит ли нам брать такой элемент?
Надо посоветоваться с дядей Мишей. И я завел с ним разговор о Рае.
Михаил Мартынович сказал:
— Конечно, адвокат этот<p>— птица не нашего полета, нэпманов в основном защищает… Но ничего плохого в том нет, если мы людей этой прослойки лишим будущего, то есть отнимем у них детей.
— Переварим в пролетарской среде?
— Вот именно.
Так было решено, что мы будем «переваривать» толстую Раю.
Пришлось мне познакомиться и с матерью Котова, базарной торговкой.
Они жили в полуподвальной людской старого барского особняка. После революции, когда буржуев уплотняли, им дали роскошную комнату в бельэтаже (ух, до чего шикарную: золоченые шпалеры, зеркало во всю стену!). Ну, а потом они сами переселились в бывшую людскую: здесь плита уж очень удобная, с котлом, чтобы студень варить. И тут же ледник, чтобы студень и летом застывал. Оно, конечно, хуже здесь, да ведь кормиться-то надо сынишка малый да бабка старая. Так объяснила мне все обстоятельства торговка студнем.
В бывшей людской заметил я огромный трехведерный самовар, пузатый, меднолицый, — купчина, а не самовар.
— Извозчиков это я чайком поила… А потом прикрыли меня… как незаконную чайную, без патента… Ну, вот он и стоит, скучает…
Пионерством сына мамаша Котова была весьма довольна:
— Это хорошо. Отец за коммунистов был. Пускай и он маленьким коммуненком будет, потом в большого вырастет.
— Это хорошо, это мы премного довольны! — Слепая бабушка, вязавшая на ощупь чулки, согласно кивала головой.
А вот насчет лагеря они сомневались:
— Тут бы он нам по хозяйству помогал, а там, чего доброго, избездельничается!
— Надо же ему отдохнуть, поправиться.
— От чего ему отдыхать, нешто он работал? От чего ему поправляться, разве он больной? Нет, для курортов у нас и средств нету.
После всех моих объяснений и уговоров упрямая торговка заявила:
— Не пущу. Вот если бы его чему-нибудь дельному там обучили мастерству какому, тогда бы сама за ручку отвела! А так<p>— нет и нет!
Сразил ее один лишь довод<p>— о товариществе. Как же так, все пионеры поедут в лагерь, а один Костя нет. Уж если вступил в пионеры, надо всё сообща.
— Это верно, — пригорюнилась мамаша, — вот и отец его так-то. Все слесаря депо за Советскую власть<p>— и он с ними. Все в Красную гвардию<p>— и он туда. За товарищество и погиб, не пожалел жизни… Ну, чего вам с меня надо-то, говорите уж прямо.
— Да ничего нам не надо.
— Или вам все бесплатно? Все от государства?
Я задумался. У Районо имелись средства для организации трех пионерлагерей. Поедут те отряды, которые лучше подготовились. На смотре мы заняли второе место, после показательных имени Радищева… Но все может быть… Чуяло сердце.
— Одеяло с собой нужно взять, — сказал я.
— Еще чего?
— Подушку маленькую… если можно. Кружку, ложку…
— Может, и самовар еще! Ишь как они на всем государственном… Да еще и денег жменю? Ха-ха-ха!
Так мы и ушли, не зная, отпустит мамаша Котова или нет. Уж очень он парень-то был товарищеский, нужный.
Сильный, ловкий, безотказный.
Каждый мой шаг, конечно, был известен ребятам. И все они обсуждали результаты. И горячо спорили в иных случаях.
Я не скрывал от них ничего. Наоборот, выкладывал все, как было. И никогда не пытался навязывать свои решения.
Решать должны были они сами.
И вот что интересно: когда ребята замечали, что я колеблюсь в каком-нибудь трудном случае, они становились особенно настойчивы. Так было с Катей-беленькой.
Я рассказал, какая у нее болезненная семья, стоит ли брать нам такую слабенькую девочку в трудный поход.
Это вызвало целую бурю. Какие же мы пионеры, если откажемся помочь слабому товарищу? Тогда грош нам цена. Все с такой яростью мне доказывали, что если не брать ее, так лучше не ехать в лагерь.
Также и в случае с Раей-толстой. Ребята почувствовали, что мне не хочется ее брать. Почувствовали мою скрытую неприязнь к этой раскормленной и избалованной маменькиной дочке.
И я подивился, как они распознали мои невысказанные сомнения.
— А чем она виновата, что у нее такие родители? Ну да, ну почти буржуи. Рая хочет быть с нами, хочет жить, как мы, а не как они. Значит, мы должны не отталкивать ее, а, наоборот, помочь. — Это говорила Маргарита, у которой мать вагоновожатая.
— Если хотите, Рая из нас самая несчастная, она в золоченой клетке живет.
И чем больше я оказывал молчаливое сопротивление, тем яростней разжигали в себе ребята хорошие чувства к Рае. Хотя сама она ничем не заслуживала такого горячего отношения<p>— тихая, равнодушная, задумчивая.
Нельзя было понять, хочет она с нами ехать или не хочет, сама ли она тянется к коллективу или подчиняется настоянию своего отца. Она побывала со своей мамашей на курортах, видела море, кушала виноград, и лагерь где-то под Москвой для нее был не так привлекателен, как для остальной детворы. За исключением Раи и еще двух-трех ребят, все остальные<p>— это детвора городской бедноты.
Большинство из них, кроме московских пыльных переулков, ничего и не знали. Никто не ездил в ночное, не сидел у костров, не видел рассвета на речке.
И чем больше я это узнавал, тем больше сердце мое наполнялось любовью и жалостью. Они казались мне обездоленными. Я все больше проникался чувством, будто это мои младшие братишки и сестренки и я должен помочь им пробиться к той жизни, которую считаю настоящей.
Как нас наказали «показательные»
И вот, когда наша подготовка к выезду в лагерь дошла до высшей точки кипения, когда мы разрешили все внутренние проблемы и стали жить единой целью, нас постиг страшный удар со стороны.
Такое не забывается. Как сейчас помню голубой зал заседаний Районо. Солнце так и льет в двухцветные окна.
Воздуха столько, что кажется, лепные амурчики ожили и парят над нами, сверкая розовыми щечками и ягодицами.
А под ними, у черной классной доски, — классический профиль Софии Вольновой. Удивительно чистое лицо, чуть смуглое, как у спортсменки, с небольшим румянцем на щеках.
Когда она говорила, в зале всегда стояла тишина. И я замечал, что, бывало, люди не слушали ее, а любовались ею, и, что бы она ни говорила, все принималось.
Бывают же такие счастливчики!
Вот и сейчас Вольнова, держа в руках указку, медленно, вразумительно, не повышая голоса, который был у нее резковат от привычки командовать и как-то не подходил ко всему ее женственному облику, докладывала план вывоза в лагерь пионеров школы имени Радищева. Две помощницы навешивали на классную доску, по одному повелительному движению ее соболиных бровей, карты, диаграммы, планы, схемы. Здесь все было изображено графически, даже распорядок дня<p>— не только система управления, снабжения, питания.
— Вот, видал, — шептал мне восхищенно друг Павлик, — вот как к выезду в лагерь надо готовиться! Классически!
Затем все произошло, как в страшном сне.
Директор школы имени Радищева предложил организовать вместо трех один, но показательный лагерь, которому и отдать все имеющиеся в районе средства.
Деятели Районо проголосовали как загипнотизированные. Комсомольцы из райкома не возразили.
Так мой отряд остался ни при чем.
— А наши палатки-то, Павлик?
— С палатками порядок! Мы их получили. И даже не три, а пять!
— Так что же, палатки у нас есть, а выехать в лагерь не сможем? Перед Буденным стыдно, зачем же выпрашивали?
— Ну, почему же стыдно, отдадим их тому, кто использует, показательному лагерю… Какой же показательный без военных палаток! Кстати, они их уже починили. Этому был посвящен отрядный сбор. Все сидели и чинили коллективно. А вот у тебя таких мероприятий не было, друг!
Я уж не помню, что я сказал тогда Павлику. Кажется, я просто дал ему по шее. А он ответил мне затрещиной. За точность не ручаюсь. Мы были вдвоем, и, что тогда между нами произошло, никто не видел. Но выскочили мы из комнаты красные, встрепанные и разбежались в разные стороны.
Конечно же, я побежал к дяде Мише.
Мое сообщение о несчастье Михаил Мартынович выслушал довольно спокойно. И на мой вопрос: «Что же я теперь пионерам скажу?»<p>— ответил:
— Всю правду. И запомни: обманывать детей еще более преступно, чем взрослых: они доверчивей.
— Конечно… Но столько мы наговорили всем про выезд в лагерь… И уже разведку произвели. И вдруг… просто не знаю, что теперь делать!
— А почему ты один должен переживать за всех? Собери отряд, пусть ребята и думают, как быть. Что, страшно?
Пойдем вместе.
После моего сообщения в отряде поднялась буря:
— Какое они имели право? Бюрократы! Жаловаться пойдем!
— Почему показательным три куска в рот, а нам?
— И вообще почему им, а не нам?
Дядя Миша молчал, а потом хлопнул ладонью по столу:
— Стыдно слушать! Словно здесь не пионеры, а маменькины сынки собрались, все «нам» да «нам»! А вот мы не «намкали», а говорили «мы организуемся», «мы сделаем», «мы возьмем». И организовались в партию, и сделали революцию, и взяли власть в свои руки!
После этих слов наступила ошеломляющая тишина.
— Пионер потому и пионер, что он прокладывает новые пути, не боится трудностей. Как впереди идущий показывает, как нужно преодолевать преграды. Эка штука<p>— денег не дали, палатки отобрали. Да нам это смешно. Захотим и выедем в лагерь сами, без нянек. И сами прокормимся.
— А жить будем в шалашах, как Ленин в Разливе! Вот это будет по-ленински! — подхватила бывшая Матрена.
— Пойдем по деревням чинить-паять, — подтвердил Шариков, — на хлеб заработаем, я инструмент у отца возьму.
— Чепуха. Будем печь лягушек, жарить кузнечиков и стрекоз, добывать дикий мед! — заработала фантазия Франтика.
Девчонки радостно взвизгнули. Глаза у всех загорелись.
Бурное обсуждение закончилось тем, что мы порешили в следующее же воскресенье выехать в село Коломенское всем отрядом. Пока сроком на неделю. Назвать это вылазкой на природу. Пожить в шалашах. Покупаться, порыбачить… А там видно будет.
Конечно, прицел у нас был на все лето. Но эту мечту сговорились держать в тайне. Кто же разрешит такой «дикий» лагерь! Сговорились, что каждый заготовит побольше сухарей, круп, чаю, сахару. Кому сколько удастся.
И может, действительно сами прокормимся. Уж неделю-то во всяком случае. Выезжали же мы, деревенские мальчишки, рыбачить с краюшкой хлеба да горстью соли в кармане. И живали на речке по многу дней в свое удовольствие! Особенно когда поспевали луговая клубника, черная смородина и ежевика по берегам. Если это возможно было на Оке, почему не попробовать на Москве-реке?
Я приободрился.
Как мы вышли в поход
Опустим подробности нашей подготовки. Заглянем прямо в то чудесное утро, когда готовый к походу отряд выстроился передо мной на линейке, еще влажной от росы.
Все три звена: одно девичье<p>— «Красная Роза»<p>— и два мальчишеских: имени Спартака и имени Либкнехта.
В руках у ребят посохи, мы вырезали их в ореховых зарослях в Сокольниках. У каждого за спиной<p>— вещевой мешок, на головах<p>— зеленые панамы.
Я смотрю в счастливые лица ребят, и грудь мою распирает от радости. Но не только от предвкушения желанного похода, а больше оттого, что вот сейчас мы всем отрядом совершили добрый поступок.
Утром, когда все торопливо сбегались во двор школы, было обнаружено исчезновение беспризорников. Вокруг котла для варки асфальта, где они обычно спали, тесно прижавшись друг к другу, никого не было. Пусто.
А на крыльце школы сидел завернутый в тряпье малыш.
— Подкинули! — с каким-то радостным испугом вскрикнули девочки.
Мальчишки вознегодовали:
— Вот и водись с такими! Сами на юг вспорхнули и улетели, как вольные пташечки, а пацана нам на память.
Удружили!
Никаких объяснительных записок, ничего, только кусок свежего бублика, который молча смаковал малыш, говорил о том, что перелетная стая беспризорников, бросившая его, отлетела на юг совсем недавно.
Конечно, если бы наши ребята с этими беспризорниками не знались и этот пацаненок был им не знаком, они бы могли, не обращая на него внимания, прошагать в лагерь.
Но даже галчонок, выпавший из гнезда, заставляет остановиться, а здесь глазел на нас спокойно и доверчиво маленький человек.
Школьники, а в особенности пионеры, и прежде жалели мальчишку, делились с ним своими завтраками, угощали сластями. Девочки иной раз умывали его, затащив в туалетную комнату, и даже приносили что-нибудь из одежды. Но штаны и рубашки тут же исчезали, променянные на еду или проигранные беспризорниками, и малыш снова оставался в каком-то рваном ватнике, одетом на голое тело. В нем он сейчас и сидел, поглядывая на знакомцев в красных галстуках без всякой тревоги за свою судьбу.
— Тебя чего же не взяли? Захворал, что ли? — спросил Котов.
— Нет. Я маленький, — ответил пацан, — на подножку не вспрыгну. С крыши свалюсь.
Это было так ясно и натурально, что вся ответственность за этот поступок в умах ребят тут же была снята с беспризорников. За судьбу малыша теперь отвечали все мы, люди, к нему причастные.
Проще всего было бы, конечно, оттащить пацана в милицию и сунуть на лавку в дежурке, там много таких, а самим преспокойно отправиться в свой поход, лихо затрубить в горн, забить в барабан и забыть об этом случае…
Но у каждого из нас была совесть. И ее не заглушить никакими барабанами. Какие же мы пионеры, если отделаемся от этого маленького, беззащитного человека так же, как безжалостная шайка беспризорников!
Долго мы этот вопрос, как говорится, не тянули. Как-то само собой было решено, что целым отрядом одного малыша прокормим. Много ли ему надо? Беспризорники кормили, а мы что<p>— хуже?
— У меня есть запасные трусы, — сказал Шариков, — если их немного убавить, ему подойдут.
— А у меня есть запасная майка, красная, с белым воротничком, — заявил Франтик.
Девочки тут же начали пригонять одежду, зашивая и укорачивая ее прямо на пацане, который привык относиться к переодеваниям спокойно. И вот, выбросив ватные лохмотья в котел и умыв их владельца, мы уже устраиваем всеобщий смотр нашему неожиданному пополнению.
И остаемся довольны. Парень хоть куда: круглолиц, голубоглаз, рыжеволос.
— Как подсолнушек! — восклицает Маргарита.
— Надо имя дать, а то все пацан да пацан. Может, ты свое родное помнишь? Как тебя зовут по-настоящему, разве не знаешь?
Малыш отрицательно качает головой: у беспризорников главное<p>— прозвище, имя его давно вытеснила кличка «пацан».
— Ладно, — говорит Котов, — имя он сам выберет, какое понравится, а фамилию мы ему дадим Пионерский!
Предложение Кости вызывает восторг, но ненадолго.
— Пионерский-то Пионерский, а если из него какой-нибудь тип вырастет? Такой, что только звание будет позорить!
— Надо воспитать по-пионерски, вот что!
— Ладно, потом разберемся; как мы его потащим<p>— вот вопрос.
— Я сам! — неожиданно заявил малыш.
И тут все рассмеялись, вспомнив, как не раз видывали прыткость малыша, поспевавшего за своей шайкой, удиравшей от милиционера или от какой-нибудь торговки, у которой были расхватаны с лотка пирожки или бублики.
— Когда устанет, будем нести по очереди на закорках, — сказала Маргарита, — я своего братишку носила<p>— ничего!
Так это происшествие было улажено, и я мог бы подать сигнал к выступлению. Но я оглядываю ряды и все не вижу крайнего левофлангового звена Либкнехта, нашего малыша Игорька, прозванного «пионерчиком».
С ним всегда что-нибудь случалось да приключалось.
Конечно, не отпустили родители, хотя еще вчера приходила ко мне его мамаша<p>— специально, чтобы познакомиться: заслуживает ли доверия вожатый. Это была полная, высокая, очень энергичная женщина, жена ответственного работника пищевой промышленности. Она придирчиво расспросила меня обо всем: как мы будем жить, как будем есть, как мы будем спать. Даже заставила меня рассказать биографию, включая происхождение и прошлую комсомольскую деятельность.
Мне показалось, я убедил мамашу, что ее сыну просто нельзя не пойти в наш поход, тем более что он несколько изнежен, избалован и терзает домашних своими капризами. Все это как рукой снимет.
Но вот пора давать сигнал к выступлению, а Игоря все нет…
У меня все еще теплится надежда, и. затягивая время, я придирчиво проверяю содержимое вещевых мешков.
Все ли взято, что положено: мыло, зубная щетка, полотенце, бутерброды на завтрак, сухари, чай, сахар, кружки, соль, спички…
Конечно, двадцать шесть одного не ждут, но и не должны в самом начале потерять двадцать седьмого… Не по-пионерски. Думаю: уж не послать ли разведку на дом к Игорю? И вдруг<p>— вот он сам!
Как всегда, животиком вперед, головенка высоко задрана. Но смотрит почему-то смущенно, в сторону. Что же это? Смущается, что опоздал? Но по рядам пронесся такой радостный говор!
Смущение Игорька тут же объясняется новым явлением. Следом за нашим пионерчиком в калитку парка протискивается полная, как шар, бабушка в плисовой телогрейке, повязанная шерстяным платком. В руке у нее большущий узел.
— Ну, что же, — с московским певучим выговором на «а» сказала бабушка, — за кем теперь дело, пошли, что ль?
Весь ее вид при этом говорил, что это она собралась в пионерский поход.
Игорь юркнул в строй, а весь отряд с любопытством смотрел на решительную старушку.
— До Симоновой-то слободы можно трамваем, а там уж пешком, так, что ль?
Бабушка не только знала маршрут, но и давала указания.
Смущенный этим, я пробормотал:
— Спасибо вам, что проводили Игоря.
— Не за что. Я еще не проводила. Вот как до лагеря провожу, тогда уж и благодарите.
Я представил себе наш стройный, подтянутый отряд, шагающий в ногу под звуки горна и дробь барабана, а рядом<p>— бабушка с узлом, в плисовой телогрейке, и меня бросило в краску… Все впечатление испортит такой обоз!
— Нет, нет, — сказал я поспешно, — не трудитесь, пожалуйста… Это очень далеко. Мы пойдем быстро!
— Ничего, ничего, я не отстану. Я на ноги резвая.
— Очень прошу вас, не беспокойтесь. Игорек сам дойдет. И вообще у нас взрослым не полагается… Вы видите, все без старших. Зачем же одному Игорю с провожатыми?
— А узел кто понесет? Этакий-то узлище!
— А зачем такой большой?
— Как зачем? Да тут еда! Котлеты… куры жареные.
Яички, батончики, домашние пирожки… Нешто бросить?
Весь строй стоял, кусая губы, едва сдерживаясь от смеха. Игорь так покраснел, даже уши стали пунцовые.
Поняв, что от бабушки так просто не отделаешься, я решительно шагнул к ней, схватил узел и, сказав: «Сам донесу!»<p>— подал сигнал к маршу.
Звонко прозвучал горн, дробно забил барабан, и отряд тронулся в путь, вытягиваясь по тихой утренней улице. Но бабушка с неожиданным проворством выхватила узел и важно зашагала в ногу с отрядом.
Так мы и отправились в поход с обозом. Встречные прохожие многозначительно улыбались. Все понимали, что эта старушка, конечно, сопровождает самого маленького пионерчика, шаг которого все время сбивается на рысь.
Ребята злились на бабушку и старались не смотреть на Игорька: ему и так было хуже всех.
В таких сложных обстоятельствах я решил перестроить план похода и усадил отряд в трамвай. При посадке в вагон мне удалось, наконец, отделаться от старушки, но не от узла. Она втолкнула его на площадку прицепа уже на ходу вагона и долго провожала нас, посылая Игорьку воздушные поцелуи.
На конечной трамвайной остановке нас ждал новый сюрприз: мамаша Котова с огромным мешком, в котором оказался трехведерный самовар. Самоварную трубу, обернутую газетами, она важно держала в руках.
Когда наша голоногая команда высыпала из трамвайных вагонов, она отсалютовала нам этой трубой. Расплываясь в улыбке, развернула мешок и, обнажив начищенную до блеска медь самовара, пропела хрипловатым базарным голосом:
— А вот вам, ребятушки, чаеварушка-братушка, пей из него чай, по родителям не скучай!
Какую же Косте пришлось провести работу, чтобы его мамаша совершила такой подвиг!
— Грешила: уже не загнать ли его хочет Костька на какие свои поделки-модельки… Ну вот и доставила сама, убедиться хотела, — громко проговорила она мне на ухо.
Для этих громоздких предметов и для Игорькова бабушкина узла пришлось выделить обозных, которые попеременно и тащили за отрядом трубу, узел, а двое, взяв за ручки, — блестящий, как закатное солнце, самовар.
Теперь, только лишь бы не тащить эти тяжести, ребята наперебой желали понести на закорках малыша. И при желании он мог бы доехать до лагеря верхом, но задорный пацаненок вырывался и все стремился забежать вперед.
За нами, как за странствующим цирком, долго бежала, хохоча и улюлюкая, толпа поселковых ребятишек.
Такие вот непредвиденные обстоятельства испортили нам всю торжественность нашего выхода у Симоновой слободы и сладость первых шагов далекого похода.
Как была прославлена щедрость Игорька
Кто знавал московские окраины в те годы, помнит, что прямо за Симоновой слободой, тут же за последней остановкой трамвая, начинались поля, овражки, небольшие сады и рощицы. А на полпути к селу Коломенскому с его знаменитой старинной колокольней росли три одиноких дерева<p>— три старых корявых дуба, видавших еще, наверное, соколиные охоты царя Алексея Михайловича в Москворецкой пойме, расстилавшейся внизу зеленым ковром, украшенным голубыми зеркалами озер.
Под тремя дубами мы и устроили привал.
Сняв заспинные мешки, ребята расположились на траве вкусить первую еду первого в жизни походного привала.
— А ну, у кого что есть<p>— в общую кучу! — скомандовал я.
И на расстеленные полотенца посыпались бутерброды с колбасой, с ветчиной, а то и просто куски черного хлеба, слегка сдобренные маслом. Разные были достатки у родителей моих ребят.
Наш «доктор» достал и смущенно положил в общий пай кусок черного хлеба и головку чеснока.
К каждому звену я подходил, и каждое звено кричало разными голосами:
— К нам, к нам, вожатый!
Увидев смущение Шарикова, я опустился на корточки перед общей кучей еды и, помня наше старое комсомольское правило: дар самого бедного для нас самый ценный, — выхватил из общей кучи головку чеснока и черную краюшку:
— Вот, ребята, молодец тот, кто захватил самое лучшее для похода: в черном хлебе<p>— русская сила, а крепкий чеснок<p>— прочищает носок.
И, разрезав черную горбушку на равные куски, разломил чеснок на дольки и подал каждому. А сам, натерев кусок хлеба чесноком и посолив покруче, с этого и начал свой завтрак.
И все звено «Спартак» последовало моему примеру.
Долго потом вспоминали ребята, что этот ломтик хлеба с чесноком был самым вкусным из всего, что едали они в жизни.
А Игорь? Вот он смущенно поглядывает на роковой узел, набитый снедью, и не знает, вынуть ли из него один бутерброд или сколько… Руки его дрожат. И все это под взглядами восьми пар глаз звена имени Либкнехта…
Вот сейчас решается едва ли не вся будущая судьба мальчугана. Его место в товариществе. Быстро подошел я к роковому узлу, поднял его на руки, как младенца, и, понянчив, сказал:
— Скатерть-самобранка, раскройся!
И из развязанного узла вывалилось на полотенце его содержимое, как из рога изобилия.
Тут было даже больше, чем я предполагал. К жареным цыплятам, котлетам, пирожкам с рисом, с мясом прибавились ватрушки с творогом, сладкие булочки с кремом…
— Ура! — крикнул я. — Слава Игорю! С таким товарищем не пропадешь. Добыл пищи не только на звено<p>— на весь отряд!
И при общем веселье стал делить яства по звеньям, включив в пай и третье, девичье звено «Красная Роза».
Игорь сидел с раскрытым ртом, растерянный и подавленный. Все наказы: «Ешь сам», «Не раздавай всем», «Это тебе, Игорек!»<p>— рушились и развеивались как дым. Еще страшно хотелось закричать: «Это мое!»<p>— но уже до сознания дошло: «Слава Игорю!», «Молодец, Игорь!», и от бури противоречивых чувств он… заплакал.
Эта неожиданность чуть не сбила меня с ног, и, стремясь сохранить равновесие, я с отчаянной решимостью сказал:
— Тут, ребята, заплачешь. Конечно, Игорьку обидно<p>— вот все хвалят его сейчас, все едят пирожки, а ведь только что многие думали: «Обжора, сластена, мамин сынок», пока не догадались, что Игорь совсем не такой. Игорь за товарищество! Подумаешь, эти пирожки! Он жизни не пожалеет!
После этих слов Игорек заплакал почему-то еще горше, и всему девичьему звену едва удалось его утешить.
Я шел рядом с отрядом, печатая строевой шаг, облегченный от бабушкиного узла, и думал:
«Не легко так срыву, с одного раза сделать маменькина сынка человеком… Бывали у нас такие и в комсомоле… и худо им было».
Какое наслаждение<p>— самим построить себе жилье!
После краткого привала<p>— снова в путь. И вот оно, избранное разведкой заветное местечко<p>— окраина старинного парка на берегу реки. Вид на далекую Москву. А за рекой<p>— луга и озера. Диво, да и только. А какая прелесть говорливый ручей в темном, глубоком овражке!
И никого. Тишина. Слышно, как в парке разговаривают горлинки. В зарослях шиповника настороженно посвистывают малиновки. Кажется, здесь, совсем вот рядом с Москвой, кроме нас, не ступала нога человека. Вот какой-то шалаш, чуть приметный.
Ребята устремляются к нему и шарахаются. Там кто-то есть. Спит, похрапывает. Ба, да это дядя Миша! Он раньше нас сюда добрался и решил отдохнуть. Проснулся, спугнутый шорохом и суетой.
— А, это вы? Заждался! А ну, окунемся, вода хороша, я пробовал.
У сложенных вещей оставили стражу<p>— и к речке. Радуги от брызг, визг девчат. Котов прямо с кручи кульбитом. Шариков степенно<p>— он же «доктор». Забыл снять очки. Общий хохот.
После купания решаем строить жилье.
Строили ли вы когда-нибудь шалаши? А знаете ли, сколько на свете видов шалашей? Мои ребята не знали.
Оказалось, что шалаши есть бродяжные, потайные, на одну ночку переночевал, соорудив кое-как, и дальше побежал; рыбацкие<p>— от дождя и от жаркого солнышка, сплетенные из прибрежного ивняка, крытые камышом; охотницкие<p>— прислоненные к деревьям; караульщицкие<p>— солидные, добротные, что строят сторожа на полевых бахчах, в садах, на огородах; луговые жилища покосников, похожие больше на копешки сена; полевые<p>— построенные жнецами из снопов в страдную пору.
Дядя Миша, бывший политкаторжанин, умел строить любые<p>— из всего, что только есть под рукой, даже из травы. Не уступал ему в этом и я.
— Ну, так какие будем строить? — спросил дядя Миша, перечислив все виды шалашей.
— Пионерские! — крикнул Игорек.
И вот тут мы были озадачены. Пионерских никто из нас еще не строил. И проектов таких не было. Решили пока строить, какие получатся, а для настоящего пионерского оставить место в центре лагеря. Построим его не торопясь, на досуге.
Соорудить легкий рыбацкий шалаш для ночлега на двоих, на троих<p>— дело нехитрое, кто умеет. Я мог соорудить такой за час, были бы ивовые прутья да осока.
Дядя Миша тоже умел строить такие. И вот началось соревнование. Подручные резали, подтаскивали прутья, камыши, осоку. А мы действовали каждый по-своему.
Я воткнул в землю один против другого шесть пар толстых прутьев, заплел их вершинками, и получилось пять арок.
Затем я скрепил их продольно прутьями потоньше, укладывая лозинки комлем к челу шалаша, вершинками к хвосту.
В полчаса скелет шалаша был готов.
Дядя Миша из таких же ивовых прутьев строил иначе.
Вначале он сооружал внешнюю линию шалаша, воткнув прутья частоколом. Частокол этот заплел, как плетень, а потом уже пригнул вершинки друг к другу. Шалаш у него получился крепче и аккуратней. Правда, строился он дольше.
Накрыть эти легкие сооружения было несложно. Вначале слой широченных лопухов, затем слой камыша или осоки.
И вот мы уже любуемся творениями своих рук. Нами владеет гордость первобытного человека, впервые построившего себе дом. Ребята набиваются в шалаши. К нашему удивлению, в каждом умещается звено. Конечно, тесновато. Так можно спрятаться на часок-другой от дождя. Всем так нравится сидеть в необычном сказочном жилье, что не выгонишь.
Как нам повезло, что с нами дядя Миша
Но вот другое заманчивое дело<p>— ставить самовар.
— Кто за еловыми шишками?
Все!
И, обгоняя Михаила Мартыновича, ребята мчатся в старинный парк, туда, где виднеется группа старых елей.
— Дядя Миша, а почему бы нам не поставить шалаши над большими деревьями?
— А вы догадайтесь!
Догадка не приходит. Ребятам нравятся огромные липы с дуплами. Чем не жилье? Игорек и Франтик облюбовали себе одно огромное и желают в нем поселиться.
— Но вы же не юные дикари, а пионеры. Надо жить вместе. Что же будет, если все разбежитесь по дуплам?
Парк запущен. В зарослях лопухов и крапивы гниют поваленные деревья. На дубах, на кленах, на липах много сухих сучьев.
— Вот так же в тайге, — сказал дядя Миша. — Однажды нас с товарищем в таком вот лесу застигла буря. Как загудела, затрещала, как начали лететь сверху сухие сучья… Только в таком вот дупле и спаслись.
Ребят удивляло, что некоторые сучья кто-то воткнул глубоко в землю.
— А это буря прошла по вершинам деревьев, — сказал дядя Миша, — и пообломала сухие сучья. Они летели вниз, как копья.
— Да, если такой вот сучище в шалаш угодит, насквозь пронижет, — сказал Игорек и поежился.
Еловых шишек мы притащили много, сырые разложили на солнышке, а сухими растопили самовар.
Вскоре под басовитый гуд медного пузана ребята доставали из заспинных мешков кружки, чашки, захваченную с собой снедь. У дяди Миши оказался старенький жестяной чайник и заварка чая на всех.
К нашему веселому чаепитию выполз из-под берега старик корзинщик, назвавшийся Иваном Данилычем. Он уже вызнал у наших ребят, кто мы такие и зачем явились. И теперь ему хочется выспросить побольше, чтобы рассказать дома.
Мы гостеприимны. Гостю<p>— честь и место. И вот он уже вприхлебку потягивает чай из кружки, с удовольствием откусывая по маленькому кусочку конфету, а вторую спрятав в карман для внучки.
— Те-экс, — рассуждает он, захватывая в кулак бороденку, — значит, вы пионеры, передовые ребята… имени Ленина… Хотите пожить по-трудовому… Тогда вам без меня не обойтись. Беспременно вам надо у меня эту науку перенять, как корзинки плесть.
— А зачем они нам?
— Дядя Миша, а для чего это нам нужно? — спрашивает Рита.
— А как же без корзинки? Вот хотя бы еловых шишек притащить. Да знаете ли вы, что корзинка была одним из первых величайших изобретений человечества? Обмазанная глиной, она дала начало горшку для варки пищи.
— Без корзинки у нас в деревне никуда, — соглашается Иван Данилыч. Вещь простая, а сплести ее на первый раз хитро. А вот Владимир Ильич Ульянов-Ленин эту науку превзошел. Он корзинки мог плести. И обучала его этому делу моя двоюродная племянница Маша Бендерина, она в Горках в совхозе живет. А Маше преподавал эту науку я лично! А жаль, я бы, конечно, лучше научил… И теперь вам всенепременно надо перенять это мастерство из первых рук. Из моих то есть. — И старик показывает нам свои узловатые, много потрудившиеся пальцы.
Ребята расспрашивают у занятного старика все подробности, как его племянница учила Ленина корзинки плести. Смеются, радуются, охают. Как Маша-то нечаянно Ильича прутиком схлестнула. А он не обиделся. «Ничего, говорит, — ученику от учителя так и полагается». Шутил, конечно, а слушался.
После такого рассказа все захотели обучиться этому ремеслу.
Ублаженный чаепитием, старик обещает научить нас плести такие корзинки, что залюбуешься.
Он умеет плести всякие: маленькие<p>— для ягод, побольше<p>— для яблок, еще больше<p>— для картошки, большущие<p>— для еловых шишек и громадные кормовые, скотине мякину таскать.
Нам обещает сплести хлебные. Это такие, чтобы продукты хранить, к дереву или на шестах подвешивать их, чтобы мыши, крысы не забрались.
Выделенные нами «ивоплеты», тут же получившие это прозвище, азартно принимаются за дедовскую науку.
Остальные помогают мне строить шалаши. Нам надо еще хотя бы штуки три-четыре.
А Михаил Мартынович плетет вершу, хитроумную корзинку для ловли рыбы. Он хочет попытать счастья<p>— заметил несколько всплесков под крутым берегом на быстринке.
Июньский день<p>— самый длинный в году. Но как он оказался короток в наш первый лагерный день! Как быстро покатилось солнце на закат: как колобок с горы. Не успели выкупаться после постройки шалашей, вот уже и холодком повеяло из парка.
Над заречными лугами появился туман. И первые комары запели свои пискливые песни.
Иван Данилыч, страдающий ревматизмом, поспешил к дому. С ним мы отправили группу «соломотрясов»: старик пообещал нам старой соломы для подстилки в шалаши. Он надел себе на голову пирамиду сплетенных за день корзинок и резво зашагал, словно огромный гриб, сказочно сорвавшийся с места. Ребятам это так понравилось, что и они нахлобучили себе на головы по корзинке, так интересней, и зашагали в деревню, видневшуюся на горе.
К вечеру Михаил Мартынович сплел свою вершу. Показал нам ее, сам полюбовался, остался доволен: «Давненько не плел, а вот не разучился».
Долго выбирали место, где ее поставить. Наконец я закрепил ее под кустом, росшим прямо в воде, среди корней, подмытых течением. По совету многоопытного дяди Миши мы притащили из парка муравьиных яиц. До чего же больно кусаются рыжие муравьи! Ух!
Замесили из грязи пирог, начиненный муравьиными яйцами, и я засунул его в вершину верши. Вода будет постепенно размывать его, выкатывать муравьиные яички, и по их струйке, по тропинке, придут в нашу ивовую ловушку падкие до этой прикормки падусты, подлещики, плотва. Если они есть, конечно, в Москве-реке.
Вон у нас на Оке, там, где моя родина, там такая верша, да с такой привадой, пуста не бывает.
С замиранием сердца следили за моими действиями ребята. Разговаривали шепотом, обсуждая все возможности, словно боясь, что рыба услышит, догадается и…
Перед сном мы еще посидели у жаркого костра. Дядя Миша рассказывал о побеге из ссылки.
Ночь летняя светла, но вокруг огня тьма гуще. И как-то страшновато. Парк кажется таким зловещим, черным.
Предостерегающе кричит какая-то птица под берегом.
Ребята жмутся к нам, взрослым. Без дяди Миши, без его богатырской спины, возвышающейся над костром, без его басовитого, спокойного голоса было бы совсем страшно.
С таким человеком, пережившим многие опасности и беды и все же уцелевшим, конечно, не пропадешь.
Расширив глаза, смотрят ребята в огонь. Дядя Миша рассказывает, как бежали они с товарищами с каторги и как их подстерегали охотники за беглыми.
— Вдруг ветка хрустнула. Мы сразу наземь. Бац!
И пуля мимо. Тут мы за ножи и прочь ползком, в разные стороны. Сначала хотели бежать. Но обидно мне стало.
Кто же это выследил нас, как зверей, какой подлец, в каком он человеческом образе? Захотелось мне схватить его за шиворот, заглянуть в глаза…
Пополз. Крадусь<p>— листом не шелохну, как уж. Захожу подальше от костра, чтобы он мне на огне виден стал, а не я ему. И нашел. По тени определил. Тень вдруг шевельнулась у старого пенька.
Прыгнул, навалился, нащупал кадыкастую глотку под жесткой бородой… «Отпусти… Не предавай смерти… Дети малые…»<p>— хрипит. А товарищ мой подоспел и камнем замахивается. «Стой, не надо!» Вытащили мы негодяя к костру. Смотрим<p>— невзрачный он, охотник на людей.
Зипунишко драный, ружьишко кой-какое. Переломили мы его пополам, трахнув об дерево. А «убивец» в слезы:
«Погубили, каторжанцы, погубили, окаянные, чем жить будем! У меня же трое внучат. Сироты…»<p>— «А зачем же ты, чалдон, вышел в темную ночь сирот плодить? Может, и у нас в России жены, дети?» Молчит, старый гриб.
«Сколько вам за каждого убитого полиция платит?»<p>— «Двадцать пять целковых, милай! Это же подумать, пять кулей муки! На всю зиму нам… Да разве ваш брат, каторжанец, больше стоит? Все равно пропадет зря, тайга слопает… А так хоть людям польза… Не чалдоны мы, переселенцы из Расеи. Запашку третий год зря делаем. Опять мороз в самое колошение, весь посев убил… Чего кусать будем? Поселенцы, известно, нищие… Вот и надоумили казачки-староверцы… Они ведь на вашем брате дома построили… под железом!»
Отлупили мы его, дурака, как следует. А потом напоили нашим каторжанским чайком, заваренным на травах, и отпустили. И сами, конечно, от такого места подальше ушли.
— Это все с вами было, дядя Миша, это не из книжки?
— Все правда. За каждого беглого с каторги, убитого или живого, царское правительство, как за волка, давало денежную награду. Охота за людьми была выгодней, чем за пушным зверем. Так вот и пробирались мы. И часто самой опасной встречей в тайге была встреча с человеком…
После такого рассказа отойти от костра страшно.
Где уж там заснуть в шалаше, темном и ненадежном!
Я чувствую, как прильнувшие ко мне тела дрожат мелкой дрожью. Узнаю Игорька. Это он сжимает мою руку, не отпуская. Узнаю, чую, как греет мне бок прислонившаяся толстая Рая. Слышу, как громко бьется сердце прильнувшей ко мне Кати-беленькой.
Желая отогнать страхи, дядя Миша вдруг свистнул по-разбойничьи:
— А ну, молодцы, песенку! Нашу любимую, бродяжную. Все ее знают?
И затянул про славное море, священный Байкал.
Ребята подхватили. Мы распелись. И страхи отлетели от нас.
Ночью долго не могли угомониться ребята. Нелегко заснуть первый раз в жизни не дома в кровати, а в шалаше на соломе. На коломенской башне таинственно кричит сова. С Москвы-реки доносится плеск от широких плиц колесного парохода. Ржут кони на лугу, тревожно и призывно.
— Спать, спать, ребята! Подъем будет ранний, — обходя палатки, говорю я.
Нет, нелегко заснуть.
Когда я хотел уже покинуть палатку звена имени Либкнехта, притворившегося крепко спящим, вдруг меня схватила рука, высунувшаяся из-под одеяла, и притянула к себе.
— Вожатый, — жарко зашептал мне на ухо Игорек, — вожатый, ты это правду обо мне сказал, когда мой узел на всех делил? Ты это про меня так думаешь, что я такой товарищеский?
— А какой же ты, Игорек?
Мальчик не ответил. Но вдруг я ощутил, что его маленькая рука гладит мою<p>— тихо, осторожно.
И, отвечая на эту робкую ласку маменькиного сынка, не привыкшего засыпать без ласк и поцелуев, я, «старый комсомолец» из суровой школы первого поколения, вдруг, сам того не ожидая, нагнулся и поцеловал пионерчика в горячий, влажный лоб. Накрыл его старательно одеялом и поскорей вышел. У меня как-то странно забилось сердце.
Как это чудесно<p>— самим добывать себе пищу!
Рассвет застал весь лагерь мирно спящим. Только дядя Миша все еще сидел у костра, ковыряя в углях палочкой. То ли ему не спалось от нахлынувших воспоминаний, то ли решил покараулить первый сон нашей детворы в лагере.
Он проверил, хорошо ли постелена солома. Посоветовал входы в шалаши завесить одеялами<p>— и для тепла и от комаров. Одеяла, что потолще, велел подстелить, а теми, что полегче, накрыться. Ребята так и сделали. Укрылись, угрелись, улеглись потесней, да так и заснули, что проспали почти до обеда.
На первый раз я не решился потревожить их сон ранней побудкой.
— Конечно, пусть спят сколько влезет, — улыбнулся дядя Миша и молча указал на трогательную картину: обняв рукой Котова, с ним рядом спал наш приемыш.
Накануне из-за него разгорелся большой спор: с кем малыш должен жить и где ему спать. Девочки требовали его себе, «потому что он еще совсем маленький», а ребята себе, «потому что он мальчик, сын отряда, а не дочка».
Разобиженные пионерки пообещали найти себе в приемыши девочку и назвать ее дочерью звена.
Помирил всех дядя Миша, сказав, что заботу о малыше нужно делить поровну: девочки будут одевать, обшивать, умывать, а мальчики учить плавать, лазить по деревьям, бороться. Спор, где малышу спать, решило его веское слово: мальчик должен спать в шалаше у мальчиков.
Неожиданное появление приемыша не удивило дядю Мишу.
— Это хорошо, — сказал он мне, — это даже очень хорошо<p>— забота о младших воспитывает добрые чувства в старших.
— А как же дальше? Лето мы всем отрядом, конечно, продержим малыша, а потом?
— А ты заранее не волнуйся, как быть потом, там видно будет!
Не барабан и не горн, а только пригревшее солнце выманило наших подопечных из шалашей.
Продрали глаза. Многие не сразу сообразили: «Где я?», «Что это?». Ах, это мы в лагере! А это наш вожатый раздувает самовар. А вон и дядя Миша. Все вспомнили.
— Ну, как рыба? Много попалось?
— А я еще не смотрел. Вас ждал. Пойдемте вместе.
Никогда еще ни одну вершу не вынимал рыбак из реки при стольких свидетелях. А вдруг пустая? Нагнулся я, нащупал под водой прутья, приложил ладонь, что-то стучит там, толкает. Развязал лычки, освободил от корней да как подниму над рекой. Тру-ту-ту! От брызг радуги.
Живое серебро забилось, заиграло на солнце под радостные крики и дикарскую пляску ребят.
Дядя Миша снял хвостовое кольцо, стягивающее концы прутьев, и на зеленую траву выскользнула груда сверкающей плотвы. Стали считать. И вот чудо<p>— на каждого по одной. Двадцать семь штук. Только дяде Мише да вожатому не хватило…
— Это в одну вершу столько, а если их десять поставить?
— А если двадцать семь, каждому сплести по одной?
— Ребята, да ведь мы рыбой можем прокормиться!
— Ну-ну, — успокоил страсти ребят дядя Миша, — это ведь не всегда так бывает. Иной раз и в десяток вершей ни одной рыбки… Нам повезло. Пришла стайка и вся за муравьиными яйцами влезла.
За неимением сковороды плотву мы испекли. Каждую рыбешку выпотрошили, оставив в чешуе, брюшко посолили. Потом надели на ивовые прутья и, как на вертеле, повертывали над углями. Каждый был сам себе поваром.
Немного оказалось еды в плотвичке, но удовольствие получили ребята огромное.
Когда из деревни пришагал Иван Данилыч, его так и облепили. Желающих постичь науку корзинщика оказалось больше, чем он ожидал. Каждый хотел сплести именно вершу.
За день сплели три штуки. Не совсем ладные, не такие ажурные, как у дяди Миши, но все же верши. На каждое звено по одной. И каждое звено для своей добыло муравьиных яиц. Устанавливали их под берегом после долгих совещаний, советов с дядей Мишей, с Иваном Данилычем.
Забавно, что во все эти верши за ночь попалось ровно двадцать семь рыб, ни больше ни меньше.
— Дядя Миша, почему это?
— Наверное, водяной подсчитал вас, когда купались, и решил выдавать по штуке на каждого.
— Ну да, водяных нет!
— Это только в сказке.
— А мы и живем как в сказке!
Как мы агитировали батрачонка Ваську
Впрочем, появились у нас и неожиданные огорчения.
В первые же дни нашего житья в лагере мы обнаружили рядом в нами некое угнетенное существо<p>— батрачонка Ваську. Он пас стадо на берегу реки. Несколько коров вместе с молодняком. Стадо принадлежало огороднику Зеленину, местному кулаку.
Пас Васька с рассвета до заката. В полдень бабы, приходящие доить коров, приносили ему скудный завтрак.
Был он тощ, нескладно длинен, с унылым вытянутым лицом. Один его вид сразу вызывал жалость.
Однако были у Васьки и другие качества, которые приковали сердца ребят: он удивительно громко умел щелкать кнутом. Этот длинный кнут, толстый вначале и утончающийся к концу, слушался только своего хозяина: покорно свивался у его ног колечком, вдруг, по мановению его руки, развивался и, как выстрел, щелкал перед носом сунувшейся в огород коровы, возвращая ее в стадо.
А в руках наших ребят вел себя словно какое-то коварное, злобное существо: то обвивался змеей вокруг туловища, то больно хлопал по ушам. И уж никак не хотел щелкать.
Умелое владение пастушеским кнутом придавало Ваське в глазах ребят какое-то особое, ни с чем не сравнимое преимущество и позволяло поглядывать ему<p>— деревенскому<p>— на городских свысока.
Ребята начали разговаривать с ним как-то заискивающе и чересчур многословно, а он с ними не разговаривал<p>— только изрекал. И его дикие деревенские глупости звучали как непререкаемые истины.
Выяснив, что он круглый сирота, что кулак его нещадно эксплуатирует, что он неграмотный, суеверный и не разбирается в политике, пионеры загорелись желанием сделать его сознательным. Особенно поразило ребят, что этот батрачонок любит своего эксплуататора-кулака.
— Вася, ну неужели ты его любишь больше, чем Советскую власть?
— А как же, чего мне власть, какая от нее сласть! А он меня кормит.
— Так ведь ты на него работаешь!
— А чего же не работать, я здоровый.
— Он тебе не дает учиться.
— А мне и не хотца.
— Он тебе и денег за труд не платит.
— А мне они зачем? От них одно баловство.
— Так он же тебя бьет!
— Значит, надыть. Меня и мамка била.
Вот поди-ка поговори с ним!
Ребята дрожали от негодования, встретив такого несознательного батрака.
Много душевных сил потратили на его перевоспитание, и все напрасно. Не помогли никакие подходы. Решили показать ему Москву, свозить в театр в воскресенье.
— Вася, ты в театре никогда не бывал? Поедем с нами.
— Чего я там не видал, я лучше в церкву пойду.
— Ну, театр же лучше, там настоящие артисты.
— Я их не знаю… Мне в церкви веселей: там девки, парни в хору поют все знакомые.
На все у него был свой ответ. Свое твердое убеждение.
И, сколько его ребята ни прикармливали, ни приваживали, волчонком смотрел. По-видимому, кулацкое влияние на него было сильней нашего.
Ему очень нравилось дразнить нас. Угостят его ребята конфеткой или печеньем<p>— примет с удовольствием. А когда съест, сядет на крутом обрыве овражка над ручьем и начнет частушки петь:
Пионеры<p>— лодыри, Царя-бога продали…И дальше какую-то бессмыслицу, по его мнению очень для нас обидную. Ну просто не парень, а заноза! И что с него возьмешь<p>— батрачонок, даже отлупить как-то неловко.
Пытались прогонять, а он в ответ:
— Не имеете права<p>— земля теперь общая. И где хочу, там и топчу. Пытались унимать, а он свое:
— Слобода слова, чего хочу, то и кричу!
Такие противные ребята и мне редко встречались. При одном его виде у меня надолго портилось настроение.
Как ходили наши фуражиры
Вскоре наше вольное, сказочное житье вошло в норму.
Звонкий горн играл по утрам побудку, по вечерам<p>— отбой.
Ребята четко строились на линейке к подъему и спуску флага. Мы выработали распорядок дня, применяясь к обстоятельствам. Тут были и физзарядка и беседы у костра, предусмотренные планом райбюро пионеров, а были и не предусмотренные правилами, но весьма необходимые дела.
В моем понятии не совсем укладывались такие «мероприятия» пионерской жизни, как прогулки и экскурсии.
Ведь это не барышни и кавалеры, чтобы прогуливаться так, для развлечения, а пионеры. Никогда в своей жизни я не бродил среди природы просто так, чтобы на нее полюбоваться. В луга ходил на покос, в поле<p>— на пахоту, в лес<p>— по дрова, по грибы, на речку<p>— рыбу ловить.
Чего же бродить попусту? Интересно с какой-то целью.
Скукой веяло на меня от многих экскурсий, когда тебя водят и показывают: это вот то-то, а это вот то-то. Интересно что-то узнавать самому, в действии.
К действенному познанию окружающего привела нас сама необходимость. На третий или четвертый день у нас вышел весь хлеб. Быстро истощились чай, сахар, конфеты и прочие запасы, захваченные из дома.
На свежем воздухе ребята оказались такими прожорливыми, что убыль захваченного с собой продовольствия превзошла все ожидания. До воскресенья нам не дотянуть.
— Что делать, как же быть, дядя Миша? Еще здесь пожить так хочется!
Михаил Мартынович ласково посмотрел на самых наших заботливых звеньевых<p>— Риту и Шарикова<p>— и сказал:
— В подобных случаях во время гражданской, когда наши отряды отрывались от своих баз, нам предписывалось изыскивать продовольствие на месте.
— Ну, как это делалось?
— Очень просто<p>— продовольствие для людей и коней добывали наши фуражиры, специально выделенные, очень боевые, сметливые, ловкие бойцы. Мне, как имеющему каторжный бродяжий опыт, не раз поручали водить отряды фуражиров. У меня действительно такое было чутье, что мой нос за три версты на запах печеного хлеба приводил.
Избу, в которой хлебы пекли, я издалека отличал.
— И я, и я! Я вчера почуяла, как вкусно печеным хлебом пахнет! — Рита покрутила носом. — Ну, прямо даже голова закружилась.
— Это в совхозе, — подтвердил Шариков.
— Найти еду<p>— это не хитро, — сказал Котов, — а вот как ее взять…
— А вот тут и начинается политика и дипломатия. Помните, как отставной солдат у жадной старухи суп из топора варил? Как пастушок в таком же случае действовал:
«Бабушка, подлей молочка, видишь, каша остается», а потом: «Бабушка, подложи кашки, жалко молоко зря оставлять»… Конечно, в гражданскую войну у чужих мы и силой брали, а у своих умели попросить: «Мы вас от белых спасаем<p>— добываем вам землю и волю, так вы нас покормите», «На некормленых конях разве мы беляков догоним?». Ну, и выручал народ. И спрятанное врагами помогали найти, и свое последнее отдавали.
— Так ведь то гражданская война!
— Теперь за так не дают, даром не выпросишь.
— Так и мы не даром, штыком и клинком работали…
Попытка не пытка, давайте попробуем. Пошлем на разведку наших фуражиров.
— Пионеры-фуражиры? Идет, ой, как интересно!
Первый отряд наших фуражиров повел на разведку сам дядя Миша.
И конечно, не оплошал. Из первого же похода наши фуражиры явились с четырьмя буханками свежего черного хлеба. На его неотразимо вкусный запах сбежался весь отряд.
— Как удалось, где?
— В совхозе, по чутью нашли!
— Ох, дядя Миша<p>— дипломат! Знаете, как он эти буханки «уговорил»… Не даром, конечно, нет, ну вы только послушайте.
И тут следовал коллективный рассказ, беспорядочный, перебиваемый разными голосами, уснащенный незначащими подробностями о том, как чутье привело наших фуражиров к пекарне. Как проникли в нее в качестве пионерской экскурсии. Как облизывались на свежий хлеб. Как неловко было просить. И как уже в конце разведки дядя Миша ловко подвел к этому разговор с директором совхоза. Рассказывал ему о пионерах, о нашем походе и что у нас принцип<p>— все сами: строим жилье, добываем пищу. Это ему очень понравилось. Он же коммунист. Он тоже за то: кто не трудится, тот не ест. Мы все ждем, когда же насчет хлеба-то. И вдруг дядя Миша говорит:
— Вообще в природе почти все можно добыть<p>— грибы, ягоды, орехи, рыбу, дичь… Вот только хлеба да соли…
Ну, это нетрудно. Можно выменять на те же ягоды, например. Или вот на корзинки. Мы умеем плести отличные.
Пожалуйста, вы нам<p>— свежий хлеб, а мы вам<p>— корзинки.
— А зачем нам корзинки? — говорит директор.
— Ну как же, а вишни в город возить…
— Какие вишни?
— Да из вашего вишневого сада. Вишен в этом году урожай, уже краснеют.
Директор только рукой махнул:
— У нас их деревенские ребятишки таскают. Забора нет. Пустое. Да и собирать некому, у нас все рабочие заняты… Совхоз-то молочный. Снабжаем молочными продуктами больницы, детские учреждения, туберкулезный санаторий… Это главное.
— Да что вы, — говорит дядя Миша, — разве детям, больным туберкулезом, вишни не нужны? Собрать мы вам соберем. Да и охранять поможем. А главное корзинки.
Пожалуйста! За буханку хлеба мы вам такую корзинку сплетем<p>— чудо! Вишенки одна к одной доставите. И вот они<p>— смотрите какие!
Хлеб совхозной выпечки был хорош. Съели мы его, не уронив крошки. Но и наши корзины неплохи. Плели их всем отрядом. Относило звено «Спартак», назначенное в фуражировку. Восемь штук: четыре за съеденный хлеб и четыре за новые буханки.
По дороге подробно обследовали запущенный, заросший чудовищной крапивой и высоченными лопухами сад.
Сквозь заросли были проложены тропы. Очевидно, деревенские мальчишки следили, скоро ли поспеют вишни.
От бывшего забора<p>— только остатки кирпичных столбов.
Дерево давно растащено на дрова. Охранять такой сад не просто… Поставить новый забор<p>— дорого стоит. А в нем и яблони есть, и яблок на них немало.
— А что, если взяться караулить сад за яблоки?
Этот вопрос обсуждался вечером у костра.
Теперь каждый день шагали по окрестностям наши фуражиры и докладывали, где что есть и что можно добыть.
— Яиц по деревням сколько угодно: у всех кур полно.
И добыть нетрудно: надо ведра, кастрюли, старые умывальники паять-чинить. Это мы с Котовым сможем, только съездить домой за инструментом, — докладывал Ваня Шариков, — мне отец все, что нужно, одолжит.
— А за рекой в лугах есть озера, в которых полно карасей. Только их взять нельзя, очень заросли кувшинками, осокой и всякими водорослями, никаким бреднем не вытянешь. Вот в прежнее время, — говорит Иван Данилыч, — когда я молодым был, такие озера косами раскашивали и карасей этих возами в Москву везли!
— Может, попробуем, ребята? У Ивана Данилыча и бредень есть, хотя и старенький.
— Товарищи, внимание! Наша разведка открыла огородников. Вот, видите плетни у реки? Эти земли принадлежат артели «Красный огородник». А вот там, за парком, там огороды кулаков-зеленщиков. И между ними идет борьба. Кулаки эти знаменитые, они еще старую Москву овощами снабжали. И сейчас поставляют в Охотный ряд редиску, морковь, огурцы. Наживаются. Высокие цены берут. Окружающие деревни на них батрачат, как в старые времена. А «Красный огородник»<p>— это бывшие красноармейцы и бедняки организовались снабжает свежей зеленью рабочие столовые. И идет между ними и кулаками классовая борьба! Трудно приходится артельщикам, сильны кулаки, нелегко одолеть их. Просят пионеров помочь.
— А чем же им помочь?
— А вот они придут на совет отряда и скажут.
— Просили помочь морковь продергивать, редиску рвать.
— Какая же это помощь против кулаков?
— А что же<p>— будем бить кулака редиской!
Взрыв хохота покрывает доклад фуражиров.
В конце концов решаем пригласить на совет отряда красных огородников, пусть расскажут сами, чем мы им сможем помочь.
— Товарищи, обнаружена колдунья! Самая настоящая, сгорбленная, с клюкой и галка на плече. За ней бродит черная кошка с фосфорическим взглядом… Живет она на самом краю села, в самой развалющей избушке.
— Знает всякие заговоры, наговоры, волшебные травы.
— Деревенские говорят, у нее разрыв-трава есть<p>— замки железные отворяет.
— И не то говорят… Мальчишки видели, как она черной свиньей обернулась и у одного, который над ней посмеялся, ночью ухо отгрызла!
— А другому все пальцы на ногах отдавила. Обернулась колесом, да как покатила вдруг по улице…
— Ну, это не бывает!
— Надо разоблачить ее. Устроить показательный суд для борьбы с темнотой, вот здорово будет!
— А может, она и не колдунья, а просто лекарственные травы знает.
— Она их собирает и в аптеку сдает, мы же через аптеку про нее и узнали. И еще сказали, что она нам покажет, чего нужно собирать.
— За нужные травы в аптеке деньги платят, вот мы и хотели…
— А все-таки она колдунья! Мы как заглянули в избушку да как увидели ее<p>— бежать. А она с клюкой за нами. Да как закричит! У нас прямо ноги подкосились.
— Ой, так страшно, девочки!
— Эх вы, труханули, а еще звено имени Розы Люксембург. Роза<p>— она же бесстрашная была!
— Товарищи, насчет молока ничего не выходит. Все молочницы везут его в Москву, там дороже…
— Там им воду удобней подливать, прямо из водопровода!
— Товарищи, батрачонок Васька предлагает нам потихоньку выдаивать кулацких коров. А он будет сваливать это на ужей. В деревне думают, что ужи на заболоченных местах подкрадываются к коровам и высасывают молоко.
Васька за их счет давно молочком пользуется!
— Ну, то Васька, его эксплуатирует кулак, а он где может кулака надувает.
— А нам что, обманывать кулаков нельзя, что ли?
— Жалко ужей!
— При чем тут ужи?
— Так ведь их же всех побьют за это, а они полезные!
— Хороши мы будем пионеры, если поддержим суеверие!
— Эх, в совхозе, вот где молоко! Сладкое-сладкое…
От таких красивых коров.
— Симментальской породы.
— Но оно для больных. Нам только попробовать дали.
— Постойте, ребята, а вы знаете, что «молоко у коровы на языке». Если лучше кормить<p>— больше молока. Вот принести им самой-самой лучшей травы, они ее пожуют-пожуют да и прибавят удой.
— Верно, пусть нам только эту прибавку и отдадут!
Объясним это директору.
Так мы искали, предлагали, думали. И наш поиск давал результаты. Иногда самые неожиданные.
Как мы били кулаков редиской
Вдруг явились к нам на огонек представители артели «Красный огородник». Вот они у костра. Председатель, молодой парень в буденовке, бледный, с красным шрамом на лице. И толстенький, круглолицый, красноносый его заместитель, «спец по сбыту».
— И прямо вам скажу, ребята, попали мы с нашим спецом впросак. Я за то, чтобы снабжать нашим продуктом столовые, больницы, детдома. Ну, словом, городскую пролетарию. А он нас тянет в Охотный ряд. С кулаками конкурировать<p>— там, дескать, за овощ дороже дают. А мы, артельщики-то, бедны. Нам деньги нужны на разживу. Ну и заключил он с охотнорядскими зеленными торговцами договор на поставку того-сего, петрушки, укропа, салата, редиски… Выгодный, цену нам дали вдвое против казенных учреждений. И одна только маленькая оговорочка в этом договоре: в случае, если мы не доставим в срок столько-то и того-то, с нас штраф, плати неустойку. Потому что, мол, на раннюю овощ цена скользящая. Чем позднее, тем дешевле… Вот и попались мы, как птички в силок, в эту удавку. Не можем выполнить поставки в срок, да и все… Погнались за ценой, пообещали всего много, а и мало-то поставить не можем. Такую нам подножку дали местные кулаки-огородники, старые, бывалые поставщики Охотного ряда. Сманили они всю<p>— рабочую силу. Девчонкам малым и тем хорошую цену платят. Наличными.
Только бы работали не у нас, а у них.
Поредела наша артель. Оставшиеся<p>— мы с нашими женами, детьми, бабушками<p>— день и ночь работаем, управиться не можем. Морковь надо прореживать, огурцы полоть, укроп рвать, редиску, петрушку… Да еще самим и везти на своих подводах… Ну, просто зарез, недаром пословица говорится: «Дурак огурцом зарезался». А нас вот завтрашний день должна зарезать редиска!
— И очень просто<p>— завтра ей последний срок. Не доставим, платим неустойку… Кроме того, пересидит она в земле день-другой<p>— и образуется в середке у нее пустота.
Не тот вкус. Капризный товар, — почесал в затылке виновник всей беды «спец по сбыту». — Ведь хотел-то я как лучше для артели, а, вишь, кулачье нас перехитрило. Сговор у них с охотнорядцами, не иначе!
— Не связывайся с нэпманами, держись за пролетариат.
— На будущее это я понимаю, теперь-то как быть?
— Помогите, ребята, вас ведь вон какая артель! Что вам стоит редиски на две телеги нарвать!
— Да морковки еще на подводу.
— Побьем кулака огурцом!
— Морковью!
— Редиской!
Наутро, по зову горна, под гром барабана отряд шагал на выручку красных огородников.
На головах ребята несли корзинки, у артельщиков даже тары для овощей не хватало. Оказывается, наш милейший Иван Данилыч плел свои великолепные двуручные корзинки для кулаков-зеленщиков. За хорошую цену. И мы ему в том немало помогли, увеличив производительность ловких рук старика чуть не вдвое. Лозинки ему резали<p>— самая канительная для старика работа.
Вот какая вышла петрушка!
Вот оно, наше первое поле битвы с классовым врагом<p>— огород. Вместо окопов<p>— грядки. А в них пышные султаны морковной ботвы, огуречные плети, ватаги сорняков, густые кущи редиски.
В наступление, отряд!
Одно звено выдергивает, другое таскает в корзинках к ручью, а девичье, «Красная Роза», связывает в пучки мочалками, полощет и складывает на телеги. Принимает капризный товар сам «спец по сбыту» красноносый Пуговкин<p>— так переделали его фамилию наши остроумцы.
Работа спорилась. Никто не отлынивал. Ведь мы не просто редиску дергали<p>— мы помогали нашим красным артельщикам вырываться из лап хитрого и коварного классового врага.
И когда три телеги с зеленью поехали, грохоча по мосту, мы бросали вверх панамы и кричали «ура» в честь одержанной победы.
Выкупались тут же в бочагах овражного ручья, а когда вышли на берег, смотрим, из деревни поспешают бабы и несут на палке дымящийся котел.
В нем оказался гороховый суп.
И радостные трели горниста огласили поле победной битвы:
Бери ложку, бери бак, если нету, беги так!Это все наш дядя Миша. Михаил Мартынович заранее сговорился с председателем, и, пока мы воинствовали, не зевали и артельные кошевары.
Домой возвращались с трофеями. Каждый нес пучок редиски, торжественно, как скальп врага. К грохоту барабана присоединился новый звук: Костя Котов ловко бил железным половником по медному котлу, подаренному огородниками.
Подошло воскресенье<p>— срок нашего возвращения в Москву.
— Ребята, а может быть, еще поживем недельку?
— А что же, теперь мы с горячей пищей. Так мы все лето можем прожить.
— Что вы скажете, дядя Миша?
— Что скажут ваши родители<p>— вот вопрос.
— И райбюро пионеров. И районе, — добавил я.
Ведь мы улизнули под видом экскурсии, никакого лагеря нет, это все так, озорная проделка, отчаянная вылазка.
Как быть, что делать, как превратить наше «шалашество» в признанный пионерский лагерь? Как сказку сделать былью?
— Думайте, ребята, думайте!
— А вам самим-то очень хочется вот так пожить?
— Очень, дядя Миша, очень!
— Ну, тогда будем действовать в этом духе.
Как мы отстаивали свою свободу
Быть или не быть нашему лагерю<p>— мы решали всем отрядом. И решили очень быстро<p>— за то, чтобы быть, поднялись все руки, а Франтик поднял две.
Сложней оказался вопрос: как быть с родителями, согласятся ли они с нашей затеей.
И как быть с начальством, разрешат ли нам такой самодеятельный лагерь.
С начальством поручили говорить вожатому и председателю совета отряда. А партприкрепленного Михаила Мартыновича просили воздействовать на родителей.
— Ну, должны же они понимать, что у нас свобода, а в свободной стране нельзя угнетать своих детей. Верно, дядя Миша?
— Хотим мы жить в шалашах, ну и пусть, если нам так хорошо, им-то что, жалко?
— Мы им не надоедаем, пусть и они нас не трогают!
— А то ишь, оттого, что мы маленькие, а они большие, им над нами власть?
Дядя Миша слушал, слушал и вдруг говорит:
— А вам их не жалко?
Ребята, разжигавшие в себе бунт против родительской власти, после этих слов как-то сразу осеклись.
— Они теперь ждут не дождуться, как вы в воскресенье домой явитесь. Сердца небось разболелись. Как-то там наша Раечка да как Ванечка? Не голодно ли им, не холодно ли?.. Не случилось бы чего! Эх, вы еще не были родителями, друзья, вы не знаете, что такое тревога за детей.
— Так ведь нам же тут хорошо и неопасно, чего же тревожиться?
— Ну ведь они-то этого не знают, не видят… Да и соскучились. Кто любит, тому разлука<p>— скука. Неужели вы этого не знаете? Ведь соскучились тоже, признайтесь, у многих сердечки ноют: как там папа, как мама, как бабушка?
Задумались мои пионеры: как быть с родителями?
Общими усилиями выход был найден. Решили написать всем ласковые письма. Объяснить, что есть возможность отдохнуть за городом подольше. А главное пригласить в гости в следующее воскресенье.
И началось великое писание. Писали, переписывали, советовались друг с другом, читали, зачеркивали и снова писали.
— Ты своей маме побольше про природу, про красоту, она это любит, я знаю. Она же безвыходно в квартире, — говорила Рая-тоненькая Рае-толстой.
— А моей маме главное<p>— про хорошее питание. «Всегда свежее молоко, парное…» Вот это сразу сагитирует!
— А моим главное<p>— что я толстею.
— Моим<p>— про свежий воздух, не то что в Москве или на швейной фабрике… И что я не простужаюсь, ну ни разу не кашлянула…
— Моему отцу про закалку. Купаюсь и загораю, купаюсь и загораю!
Писали все по-разному, но в каждом письме, без всякого уговора, само собой, обязательно была строка-другая про нашего приемыша. О том, что мы всем отрядом взялись воспитывать беспризорного малыша, у которого ничего нет, даже, сколько ему лет, неизвестно. И не худо бы прислать ему что-нибудь из старой одежды и обуви, из которой выросли авторы писем.
Собрав ворох писем, мы решили доставить их с курьерами. Для этого выделили Ваню Шарикова, Костю Котова и Риту Кондратьеву, бывшую Матрену. Рита должна была обойти родителей девочек, а Ваня и Костя<p>— родителей мальчиков. Вручить письма. Ответить на вопросы: как они там, не нужно ли что. И хотя нам все нужно<p>— чтобы не пугать, просить только, если можно, чаю да сахару. Чтобы родители думали, будто остальное у нас все есть.
Толстый Шариков в очках при его немногословности и солидности производит неотразимо хорошее впечатление, а Рита умеет обращаться со взрослыми, как с большими детьми.
Дядя Миша согласился остаться еще на денек, и я поехал с ребятами, чтобы помочь им в трудных случаях, договориться в райбюро пионеров. Кроме того, у меня были некоторые соображения насчет крупы и хлеба.
Соображения эти были простые<p>— использовать мою студенческую стипендию, отложенную для поездки домой на каникулы (этим летом уже не попаду все равно), закупить пшена и гречи.
Стипендия моя хранилась, как в сберкассе, у самого старшего студента общежития Алеши Кожевникова: все три червонца, деньги по тому времени немалые. На червонец мы, студенты, ухитрялись месяц жить.
Кипяток мы брали на Курском вокзале бесплатно. Чай-сахар потребляли экономно. А что касается хлеба, тут мы устроились весьма ловко.
Напротив общежития помещалась большая частная булочная. Владел ею какой-то нэпман. Мы свели знакомство с молодыми продавцами. Они тянулись к нам душой. Брали читать книжки. Двоих мы готовили к поступлению на рабфак. Славные были ребята! Они-то нам и помогли решить хлебную проблему.
Дело в том, что в каждой булочной к вечеру скапливались всевозможные хлебные обрезки. Продавцы сбрасывали их в корзины и потом сдавали на корм скоту по самой низкой цене.
Мы договорились, что будем забирать одну корзину себе. И ребята старались, конечно, наполнить ее чем получше. Бывало, явимся после закрытия булочной, подхватим корзинищу за две ручки<p>— и через улицу, в общежитие.
Откроем, а в ней чего-чего только нет. И обрезки ситного с изюмом, куски кулича, сдобы, минского, рижского<p>— на все вкусы. Пируй, студенты! А в глубине, под кусками, глядишь, и целые булочки, калачи, баранки. Это подбросили нам ребята тайком от хозяина.
Зашел в общежитие. Пусто, все разъехались по домам.
Только Кожевниковы остались, безногий Морозов да трудолюбивый Сурен Золян так и не уехал в свою Армению.
Решил заниматься русским языком.
Никого дома нет. Сурен сидит в библиотеке, Морозов изучает музеи, Кожевников где-то у беспризорников<p>— пишет про них очерки для газет. Одна Наташа с Юркой на руках. Эге, да они побогатели, Кожевниковы. На балконе сушатся пеленки. А ведь когда Юрка появился на свет, у них такой роскоши не было. Завертывали мы парня в старые газеты. Намнем их, бывало, чтобы помягче было, завернем мальчугана и нянчим по очереди. И тепло парню, и нам удобно. Намокнет газета<p>— выбросим, в новую завернем. Не надо ни со стиркой, ни с сушкой возиться.
— Шибко грамотный вырастет! — смеялись студенты, любуясь Юркой.
— Избалуете вы его. Привьете аристократические замашки. Ни один принц так часто костюмов не меняет, — шутила Наташа.
Наташу отыскал я з одной из комнат по песне. Как всегда, она что-то напевала и работала. Теперь чинила солдатскую рубашку Сурена. Юрка спал на одной из свободных студенческих кроватей.
Рассказал про наше житье. Про все проблемы. Пригласил побывать в гостях, нарисовав на стене комнаты весь маршрут.
Забежал в булочную. На счастье, наши друзья Федя и Егор были на месте. В белых шапочках, в халатах, как молодые доктора, только не в клинике, а за прилавком.
Хозяин, у которого летом дела шли хуже, находился тут же и поглядывал на меня искоса. Но мы успели перекинуться словом. Ребята пообещали притащить вечером большущую корзину хлебных обрезков в наше общежитие.
После этого я отправился в райбюро пионеров доложить о наших планах остаться еще на недельку в походе и попытаться увлечь Павлика идеей самодеятельного пионерского лагеря, где пионеры все делают сами, даже добывают пищу.
Выслушав мое горячее объяснение, Павлик загорелся.
— Поддерживаю! Поддерживаю! — вскрикивал он, повертывая на голове кепку. — Пойдем с этой инициативой в Районо. Пусть знают наших!
Слушая мое сообщение, работники Районо все ждали, когда же я чего-нибудь попрошу. У них все-таки скребли кошки на душе. Средства, предназначенные на организацию трех лагерей, отдали одному… Это ведь не очень хорошо. Могут спросить: сколько лагерей намечали организовать? Три. А сколько открыли? Один! И теперь, опомнившись после гипноза Вольновой, деятели Районо отнеслись к моему плану организации еще одного лагеря доброжелательно.
— Так что же вам от нас нужно? — спросил наконец заведующий Районо.
— Да ничего.
— Так совсем ничего?
— Нужно, чтобы вы не мешали! — выпалил я, по молодости лет не сообразив, что для деятелей учреждений, наделенных правами запрещать или разрешать, нет слов оскорбительней и хуже. Я и не знал, каких врагов нажил и какими последствиями и каким лихом мне это обернулось.
— Так что ты хочешь, старик, чтобы мы тебе отдали пару палаток? прищурился мой друг Павлик.
— Нет.
— Походную кухню, которую мы достали для показательного, действуя по твоим следам, у самого Буденного?
— Обойдемся.
— Так что же?
— Да, право же, ничего. Не мешайте ребятам пожить, как им хочется, и все!
При этих неосторожных словах Павлик так и вскинулся:
— Что это за анархизм такой<p>— жить, как вам хочется? Вы что, кто вы такие? Нет, вы будете жить так, как это нужно!
— Кому нужно?
— Пионерорганизации, вот кому. Согласно принятым установкам. Где у вас план работы? Какой распорядок дня? Как же мы будем вами руководить, если мы не знаем, что вы там собираетесь делать? Мы должны знать все заранее, чтобы вовремя подсказать, остановить, поправить.
И, видя мое смущение, смилостивился:
— Пойдем, я тебе покажу, какие планы представила Вольнова. Это же роскошь! С диаграммами, с выкладками, вот, брат, работает, не подкопаешься!
С наслаждением человека, любующегося истинным произведением искусства, Павлик расстелил передо мной планы идеальной лагерной жизни показательного отряда, изображенные Вольновой графически, с применением акварельных красок.
Она предусмотрела все. Лагерь был нарисован, как картинка. Расположение палаток. В центре командирская.
Показано расстояние до реки, до леса, до пунктов снабжения. Распорядок дня по часам. Столько-то на игры, столько-то на купание, столько-то на обед, столько-то на ужин, столько-то на трудовую деятельность, столько-то на политзанятия. Клеточки под рубрикой «Купание» были голубые, обеды и ужины<p>— коричневые, прогулки и экскурсии<p>— зеленые, политзанятия красные, часы труда<p>— черные, мертвый час<p>— желтые.
Вся жизнь пионеров, расписанная по часам, играла всеми цветами, как веселый калейдоскоп.
Перед этим удивительным творчеством Вольновой я стоял несколько обалдевший, как деревенский простак перед барским великолепием.
Увидев, как я потрясен, Павлик довольно расхохотался.
— Вот, брат, учись. Я у нее учусь, а вашему брату, среднему вожатому…
— Нет, нам такого не достичь… Ну ведь она же вообще совершенство.
— София, — многозначительно сказал Павлик, — означает мудрость.
— Когда же она вывозит свой отряд?
— Как только все подготовит, организует, чтобы все как следует.
— Что-то долго она. Мои ребята уже купаются, а ее показательные все еще городскую пыль глотают…
— Купаются? — насторожился Павлик. — А вопрос непотопляемости у тебя как? У Вольновой все это продумано, предусмотрено, и в плане на этом месте ноль целых! Ну так вот, давай твой план. Чего стесняешься? Написал коряво? Понимаю, после такого тебе со своим и показаться неловко. Ну уж ладно, развертывай.
— Сейчас разверну… В основе нашего плана лежит: первое<p>— физическая закалка, оздоровление ребят путем пребывания на свежем воздухе, второе<p>— политическая зарядка путем изучения политграмоты на местной действительности и бесед у костра, третье<p>— трудовая закалка путем работы в совхозе и…
— Постой, постой, что это ты заладил?
— Так это я развертываю план, только устно.
Павлик вначале рассердился:
— Да как же я его зафиксирую, подошью к делу?
Потом расхохотался до слез.
— Ну ладно, давай уж помогу, раз не способен. Садись говори все, что надо, напишем.
Сели мы рядком за стол и начали составлять. Я рассказывал, что мы задумали, а он писал. Но работа осложнялась. Иные пункты нашего плана заставляли его вскакивать и бросать перо.
— Совещание садолазов? Это еще что такое вы задумали, учить пионеров, как лучше в сады лазить?!
— Нет, как раз о том, что лучше и интересней в сады не лазить. По предложению директора совхоза решили собраться с местными мальчишками, отчаянными садолазами, и обсудить этот вопрос.
— Так, ну ладно. А это вот что значит: одно звено<p>— дежурство в лагере, второе<p>— трудфронт, а третье<p>— ведет «разведку жизни». Я не ослышался, ты так сказал?
Как это понять?
— Я сказал, что это относится к политико-воспитательной работе. Мы таким способом знакомим ребят с политикой партии в деревне. Разведываем, как выглядит в натуре живой кулак. Как живет батрак. Что такое артель.
Что такое совхоз. И так далее. А чтоб было увлекательней, называем все это разведкой жизни.
Павлику это понравилось.
— Вот этого у Вольновой нет, — сказал он, — зато у нее есть такие мероприятия, что закачаешься: встреча с иностранными делегациями, встреча с редакцией «Пионера», военизированная игра!
Составив план работы нашего отряда, Павлик подобрел и пообещал посетить наш лагерь и помочь, если что нужно. Дело оставалось за небольшим получить с Кожевникова три червонца и вернуться в лагерь со всем, что удалось собрать ребятам у родителей, прихватив корзинку хлебных обрезков из булочной.
По одному виду Кожевникова<p>— такой он был небритый и грустный<p>— я понял, что денег у него нет.
— Но скоро будут. Моя книжка о беспризорниках вот-вот появится. Печатается в типографии. И как только появится, мы разбогатеем… А пока что надо бы у кого-нибудь взять взаймы. Маленькая, но семья…
Мой рассказ о самодеятельном пионерском лагере он выслушал с интересом и поддержал. Ведь это же замечательно<p>— таким способом можно вывезти на природу тысячи городских ребятишек, детей бедноты. Сколько их слоняется по пыльным улицам! Предоставленные самим себе, они попадают под влияние беспризорников, воришек, настоящих уголовников…
Алеша принял к сердцу мое трудное положение, и мы вместе стали думать, где бы достать хоть немного средств. Совсем без денег все же невозможно.
— Идея! — воскликнул он. — Есть способ легко и просто заработать большие деньги. Для этого твоим мальчишкам и девчонкам надо стать на лето офенями!
Офеня! Я вспомнил, какую радость доставлял нам в детстве приход мальчишки<p>— разносчика дешевых книжек и лубочных картинок с волшебным коробом за спиной. И его улыбающееся лицо, и его загадочное и ласковое не то прозвище, не то имя запомнилось на всю жизнь.
— Если раньше офени-коробейники делали доброе дело, распространяя по деревням сытинские народные издания, почему бы твоим пионерам не перенять эту благую миссию? Я вам помогу и книжки с картинками достать.
Я знаю одного издателя<p>— Мириманова, ему позарез нужны агенты-продавцы: он затоварился. За полцены отдает.
Продадите книжку за гривенник<p>— пятачок ему, пятачок себе. Коммерция показалась мне выгодной.
— А книжки у него вполне приемлемые. Он рассказы Ушинского издает. Много познавательных. «Как рубашка в поле выросла», «Как пчела мужика кормила», «Чудеса из глины»<p>— это о горшечном производстве… Ну, там отберем.
Сказано<p>— сделано. И вот мы у Мириманова.
В мрачном полуподвале, где помещались редакция и склад изданий, нас встретил худой, как Кащей Бессмертный, старик. Сам редактор, сам издатель, сам продавец своих книжек.
Кожевникова он знал. А меня долго и подозрительно прощупывал своими колючими глазами. Боялся обмана.
По-видимому, старика надували не раз.
— Пионеры, — бормотал он невнятно, — это хорошо…
Это организация с будущим… Такие распространители детских книг для моего дела<p>— находка… Но как же без залога?
Все дело заключалось в том, чтобы уговорить его доверить нам товар на слово.
Кожевников убеждал его, что риск стоящий. Я уверял, что пионеры не обманщики. Нам неинтересно зажулить пробную партию книг, ведь мы рассчитываем на большую торговлю.
Не без скрипа, но старик согласился. Под мою расписку, конечно, и под ручательство Кожевникова. Мы выдали издателю нечто вроде векселя и набрали у него кипу самых разноцветных книжек. Рублей на полсотни, если не больше.
Вечером пришли в общежитие Федя и Егор. Притащили полную корзинищу хлебных обрезков. Принесли гитару.
Мы вдосталь попели песен и помечтали, как они приедут к нам в Коломенское в ближайшее воскресенье.
Я был счастлив, все удавалось мне, как по волшебству, и будущее представлялось в самых радужных красках…
Я казался себе неким добрым чародеем, который может вывести городскую детвору из пыльных улиц и переулков на лоно природы.
Увидев кучу книжек, взятых у Мириманова, Рита пришла в восторг:
— Ух, здорово! И он может дать сколько угодно? Ну, теперь мы живем! Что такое книжки, уж я-то знаю точно.
Когда мы с мамой мешочничали, мы все променяли, больше уж нечего, только что на себе осталось. И мама вспомнила про буржуйские книжки. После революции, когда буржуи поубегали, нас, рабочих, в ихние особняки поселили.
Нам с мамой досталась красивая комната: кругом окна, стекла, а в простенках книжки. Все не по-нашему писаны, по с картинками. Вот мы с мамой набрали самых красивых, разрисованных, подходящих для детей. Наверное, все сказки: там и Синяя борода, и красавицы, и чудовища, даже неграмотному смотреть интересно. И все в золоченых переплетах. Нагрузили полные салазки и повезли. И знаете, как здорово получилось! Все книжки пошли. Что ни книжка<p>— то яйцо, что ни книжка<p>— то яйцо. Сто штук повезли<p>— сотню яичек привезли. И недалеко ездили, по деревням вокруг Москвы, в дальние у нас силенок не было… Вот!
Удачны были и походы ребят по квартирам родителей.
В лагерь мы возвращались перегруженные добычей.
Наши трофеи едва уместились на задней площадке трамвая. Здоровенная корзина, полная хлебных обрезков, и три заспинных мешка с чаем-сахаром, конфетами и печеньем<p>— результат обхода пап и мам. Да еще чемодан со слесарными и паяльными инструментами, захваченный Шариковым из дома, да пачки книжек Мириманова.
Все обошлось как нельзя лучше. Письма произвели на родителей нужное впечатление, письмоносцы тоже.
Все папы и мамы заявили о своем желании побывать у нас в воскресенье. Правда, при одной мысли о предстоящем нашествии званых гостей меня бросало в жар.
Взвалив на спину мешки с подарками, мы с Ритой зашагали в лагерь, а Шарикова оставили дожидаться подмоги. Корзинищу с хлебными дарами и пачки книжек можно было дотащить лишь артелью, что и проделало звено «Спартак».
Как мы подружились с человеком, достающим звезды с неба
— Ура! Живем еще неделю!
— До воскресенья дотянем, а там…
В отличном настроении разбирали ребята наши трофеи. Дядя Миша от души хохотал, узнав о студенческом способе добывать дешевый хлеб.
— Вот уж действительно: нужда научит калачи есть, — говорил он, доставая из-под кусков целые бублики и калачи, положенные добрыми продавцами.
Особенно нас обрадовали подарки для малыша<p>— почти никто из родителей не остался глух к просьбам ему помочь. Стареньких штанов, рубашек, тапочек, сандалий появилась куча. Жена адвоката прислала новый матросский костюмчик, оставшийся от Раечкиного брата, умершего в раннем детстве. Присланных вещей хватило бы на пятерых приемышей.
Правда, некоторые родители тревожились, нет ли на беспризорнике парши, чесотки и прочей заразы.
Разбирали мы «приданое» малыша шумно, ребята устраивали пляски, когда попадалась особенно хорошая вещь.
Поздно вечером мы проводили дядю Мишу в Москву.
Он пожертвовал нам неделю из своего будущего отпуска, больше не мог. Обещал приезжать по субботам.
Но мы не остались одни. На второй день после его отъезда счастливый случай привел к нам еще одного драгоценного друга.
Стоял жаркий, солнечный денек. Ребята мои затеяли удалую игру<p>— ныряли в речку и сидели под водой, кто кого пересидит.
Один только Игорек держался в сторонке. Плавать-то я его кое-как научил. Раза два бросал с берега на глубокое место, как меня самого учили, и, видя, что он плохо барахтается и не может сам выгрести на мелкое место, приходил на помощь. Немало наглотавшись воды, Игорек, наконец, стал выплывать на мель. А потом и сам стал бросаться с берега в глубину.
Но в таких играх в воде он участвовать побаивался.
Увлекшись игрой, мы не заметили, как к нам подошел какой-то прохожий. В военной гимнастерке и в галифе, с полевой сумкой через плечо, он шел с непокрытой головой, сжимая в руке шапку-кубанку, и, поглядывая вокруг, улыбался.
Заметил Игорька, сидевшего в сторонке. Подошел и спросил без предисловий, как старый знакомый:
— А ты чего ж скучаешь?
Игорек только пожал своими худыми плечиками: мол, где ж мне, не надеюсь на победу в такой игре.
Прохожий нахмурился:
— А хочешь, я сообщу тебе одну тайну и ты всех победишь?
Ну, кто же не захочет узнать такую тайну! Игорек с прохожим зашли за кусты, о чем-то пошептались. И вдруг выходит наш пионерчик и заявляет:
— А ну, давайте я всех перенырну!
Ребята засмеялись<p>— задору много, да силы мало. Особенно смешно было таким здоровякам, как Шариков и Котов. Набрали они побольше воздуха, нырнули поглубже и сидят под водой. Упорно сидят. Пузыри пускают, а наружу не показываются. Но долго на дне не просидишь. Стали показываться один за другим. Самые упорные вылезли с синими губами, как у утопленников.
А Игорька все нет.
Меня уже страх взял: не нырнул ли совсем пионерчик? Но прохожий делает знаки, чтобы я не волновался.
И вот, когда уже прошли все сроки, появился Игорек. Он сидел недалеко от берега, вблизи тростников. Выскочил из-под воды и как ни в чем не бывало посмеивается…
Что за чудеса! Никогда бы мы не догадались, как это ему удалось сделать, если бы мимо по течению не проплыла длинная круглая камышинка.
Так вот оно что! Прохожий доверил пионерчику старинную тайну запорожцев. Когда-то казаки, скрываясь в плавнях, подкрадываясь к врагу и прячась от него, применяли этот способ. Срежут полый внутри трубчатый стебель куги, возьмут его в рот, нырнут в воду и затаятся. И дышать можно, и самого не видно…
Нелегко это сделать. По первому разу воды наглотаешься. Нужно так нежно и плотно держать губами стебель, чтоб и его не сдавить и воду не пропустить в рот.
Многие ребята пробовали, да не у всех вышло. А Игорек наш с тех пор так в себе уверился, так расхрабрился, что во все игры не боялся вступать. Вот как подействовал на него прохожий.
Кем же он оказался<p>— этот человек в военной форме, с полевой сумкой на плече?
Оказывается, он пришел к нам не просто так, а по важному делу. Отыскав вожатого, он вручил бумагу за подписью и печатью. В ней говорилось, что Детский отдел Госиздата направляет к нам некоего А. П. Голикова для прочтения своей рукописи, предназначенной для издания. Нам предлагалось дать отзыв на его книгу.
За нами дело не стало. Решили читать книгу по-пионерски, у костра, в этот же вечер. Набрали кучу дров, расположились полукрутом. Нашего гостя усадили на пенек. И зажгли огонь. А чтобы огонь не потухал, были посажены дежурные с сучками и сухими палками наготове.
С любопытством все наблюдали, как наш гость открыл военную полевую сумку, достал из нее стопу бумаги<p>— рукопись!
Он расправил ее на колене, как военную карту.
Перед нами<p>— писатель. Даже не верится. Ребята почему-то представляли себе писателей в виде старцев, с бородами, как у Льва Толстого. А я, признаться, совсем недавно, до приезда в Москву, думал, что писатели<p>— это люди, давно умершие и оставившие нам мудрые книги.
Первого живого писателя я увидел на экзамене в институте, и он оказался тоже с бородой. Это был Валерий Брюсов. Строгий, замкнутый, неулыбающийся, непохожий на обыкновенных людей, он показался мне настоящим классиком, случайно живущим среди нас.
И вдруг вот этот веселый, безбородый, круглолицый товарищеский парень тоже писатель.
Значит, и он чем-то необыкновенен. Ребята как завороженные смотрят на стопу бумаги, всю исписанную.
Сколько же надо терпения, чтобы исписать столище страниц, тут открытку родителям и то никак не напишешь…
А какая поверх стопы обложка<p>— нарисована цветными карандашами: синим и красным. А как таинственны выведенные на обложке три загадочные буквы «Р.В.С.»!
Все застыли в предвкушении чего-то необыкновенного, было слышно только сдерживаемое дыхание да шелест страниц.
Вначале все посматривали, как он перелистывал рукопись, раздумывая, начать ли сначала или прочесть только выдержки, наблюдали за выражением его лица, разглядели, что на каждой странице в правом углу изображена красная пятиконечная звездочка.
А потом, как только услышали, что речь идет про гражданскую войну, про тайну двух мальчишек, спасающих раненого красного командира, забыли обо всем на свете, захваченные могучим чувством.
Жиган, Димка, смешной Топ встали вдруг перед нами как живые, заговорили своими голосами, вовлекли в свои отчаянные дела.
По какому-то удивительному волшебству мы стали участниками всех их проделок и приключений. Вместе рубили полчища крапивы, понимающе смеялись вранью Жигана, испытывали страх и радость.
Словом, все так увлеклись, что наши дежурные позабыли про свои обязанности<p>— подкладывать дрова в костер. Наверное, вообразили, будто у них в руках не сучки и палки, а наганы да сабли… Костер наш утихал, утихал да и совсем погас.
И никто не заметил: ни дежурные, ни ребята, ни вожатый. Не заметил погасшего костра и сам писатель. Он продолжал читать в темноте, при мерцании звезд, как при ярком свете. Оказывается, он не читал, а рассказывал нам свою повесть наизусть, только для видимости перелистывая страницы.
Когда негромкий голос его умолк, нам показалось, что повесть еще не кончена. Ребята сидели не шелохнувшись.
Наверное, фантазия каждого продолжала необыкновенную жизнь героев.
В том, что мальчишки оставлены были автором как бы на полпути и повесть, как жизнь, не оканчивалась на последней странице, была какая-то особая притягательная сила.
Невольно и я поддался искушению пофантазировать о том, что же могло случиться дальше с Жиганом и Димкой на путях и дорогах гражданской войны.
Когда я очнулся, над нами ярко сверкали звезды, а в костре остыл даже пепел.
— Ребята, — сказал вдруг наш волшебный гость, — а вы умеете отличать Полярную звезду?
Умели, да не все. И он стал учить, как находить ее по ковшу Большой Медведицы.
С опушки коломенского парка она видна была в высоком небе над Москвой.
— Это замечательная звезда. Она всегда указывает север. По ней можно правильно определить свой путь. По ней мы, бывало, в военных походах ходили и никогда не сбивались. Самая верная звезда на свете!
Посмотрели ребята на Полярную звезду, и она показалась им лучше всех, какой-то своей.
Так этот необыкновенный волшебник слова взял и приблизил к нам звезду.
Мнения о своей рукописи он спрашивать не стал. Ему и так было все ясно. Возможно, в эту памятную ночь он и увидел в лице пионеров неисчислимые легионы своих верных, благодарных читателей, для которых призван писать.
— Вот так и жили ребята тогда, когда я был красным командиром, — сказал он, засовывая рукопись в полевую сумку. — А как живете вы, люди?
Как мы выяснили, для чего жить на свете
Ребята наперебой стали рассказывать о нашей привольной жизни, полной интересных забот и приключений, о наших друзьях и врагах, и, когда дошли до походов фуражиров, наш новый друг расхохотался:
— Ну вот, конечно же, не то!
— Что значит не то?
— Не туда попал, братцы. Я шел в какой-то необыкновенный лагерь, где пионеры живут в легендарных палатках Первой Конной, пробитых осколками и пулями.
Подарил их сам Буденный. Командует этими пионерами<p>— детьми коммунистов<p>— какая-то необыкновенная, мудрая девушка, прекрасная, как идеальный человек будущего. Ребята живут у нее как при коммунизме, без всякой нужды и заботы. А тут за буханку хлеба изволь сплести корзинку!
И он рассмеялся до слез.
— Что же тут смешного, — обиделся я.
— А смешно здесь то, что сейчас некоторые чудаки представляют себе коммунизм таким же легким делом, как мы в гражданскую войну<p>— мировую революцию. Помню, у нас на митинге одной части даже резолюцию вынесли: «Покончить с мировым капиталом в текущем, 1920 году». Да и я примерно так думал, когда махал сабелькой и рубился за мировую коммунию… А вот когда «в разум взошел», как говорится, понял, что путь наш долог и труден и много еще на этом пути поляжет красных бойцов… Не одно поколение…
И для будущих битв надо нам подготовить себе на смену такую краснозвездную армию, какую и мир еще не видел!
Разговор этот продолжился бессонной ночью в моем шалаше.
Когда мы, улегшись, по военной привычке, ногами в глубь шалаша, а лицом к выходу, с первых же слов узнали, что земляки, — мы уже не могли заснуть.
То я рассказывал о себе, то он.
Его милый Арзамас и мое родное Сасово рядом. Ведь это наши железнодорожники послали на помощь большевикам Арзамаса бронепоезд во время кулацкого восстания. Мы даже могли встретиться еще тогда, в девятнадцатом году.
Но разница в годах велика. Он старше на целых два года. А это было так много в то время.
В восемнадцать лет он уже был командиром пятьдесят восьмого отдельного полка по борьбе с бандитизмом и контрреволюцией у нас на Тамбовщине, а я еще только бойцом-чоновцем одной из рот этого полка.
Мы находились далеко от штаба, охраняя мост через Цну, и командир ни разу не побывал у нас с какой-либо инспекцией. Да и едва ли он запомнил бы ничем не приметного среди других паренька, которому вместе с комсомольским билетом вручили винтовку больше его ростом…
И вот он уже ветеран гражданской войны, командир в отставке, а я еще комсомолец, вожатый.
…Красная Армия, Красная Армия<p>— дом родной, милая семья. Взяла мальчишкой, вырастила, воспитала, образовала, человеком сделала… Начал путь бойцом, окончил<p>— командиром полка! Мечтал остаться в армии ив всю жизнь…
У него уже была комсомольская путевка на учебу в военную академию. Но не пустили врачи. Ранения, контузии, болезни, накопленные в боях и походах, сыграли свою роль…
Что же теперь<p>— на покой? Э нет, «покой нам только снится». Мы люди непокоя. Мы всегда на действительной службе. Воспитывать новых бойцов революции<p>— вот наш командирский долг. С самой юности, с самого раннего детства<p>— вот наша цель, вожатый!
Не боевые уставы им вдалбливать, а боевые книжки для них писать, что, пожалуй, и поважней… А для того, чтобы не забывать, что готовит он тем самым боевое пополнение любимой Красной Армии, и ставит он на каждой страничке красноармейскую красную звездочку. И в его новой работе на благо Родины есть тайный, пока никому не раскрытый смысл.
Увлекательная мечта<p>— снова стать командиром. Командиром неисчислимых армий советской детворы, всадником, скачущим впереди…
И об этом узнал я в ту легендарную ночь.
…Гражданскую войну заканчивал он у границы далекой Монголии. Во главе сводного конного полка добивал последние банды белых. И вот там частенько монгольские всадники искали у них защиты и помощи от налетов белых. Прискачут, бывало, монгольские партизаны и спрашивают: «Нужно командира! Где ваш командир?»
А командир у них называется «Гайдар», по-ихнему<p>— «всадник, скачущий впереди». Ведь все они конники и испокон веков воевали в конном строю. И наши бойцы не раз, указывая на своего красного командира, говорили:
«Вот наш гайдар!»
И стало это вещее слово прозвищем. А что, если взять его вместо прежней фамилии?
Пишет книжку не просто писатель, а гайдар<p>— командир…
Но нельзя открыться сразу: неизвестно еще, признают ли его ребята своим командиром, ведь назначение это он сам себе дал…
Весь этот разговор для меня был еще волшебней и значительней, чем даже книга с таинственным названием «Р.В.С.»… И я дал слово<p>— тайны не разглашать.
А что касается нашего отзыва на книгу, который мы хотели написать в редакцию, будущий Гайдар сказал:
— Не нужно… Это важно было не для них, а для меня.
Стоит, старик, жить на свете, ей-богу, стоит, когда ты нужен людям. Вот этим «малым сим», которые спят блаженным сном и не ведают всего, что знаем мы. Не ведают всего, что им предстоит… И, если мы с тобой привьем им свою любовь и ненависть, свою мечту переделать этот мир к лучшему, мы недаром проживем на земле! Ради этого стоит жить на свете!
…Возможно, многое передано мной неточно, какие-то слова здесь не те, много времени прошло, и многие подробности не остались в памяти, могу лишь ручаться, что разговор наш в ту короткую летнюю ночь был в основе своей именно таковым.
Как мы играли в городки
На этом дело не кончилось<p>— наш гость так увлекся пионерами и пионерством, что забыл о Москве и о делах и включился в нашу жизнь, как в необыкновенную игру, в которую ребята как равного приняли взрослого человека. И оказалось, что в играх он настоящий изобретатель и заводила. Да еще какой!
Позвали его ребята купаться. И конечно, на самое глубокое место, туда, где омут. Чтобы похвалиться, какие они храбрецы.
— А вы не потонете ненароком? — говорит он, приглядываясь к опасному месту.
— Нет, что вы, Аркадий Петрович, мы здорово плавать умеем.
— Плавать каждая собачка умеет, дело не хитрое, а вот умеете ли вы тонуть?
— Тонуть? — озадачились ребята. — Как-то не пробовали.
— Вообще-то, по законам физики, человек тонуть и не должен, он легче воды. Но люди иногда все же тонут, особенно в раннем возрасте. Из-за паники, по неуменью…
Так вот, тонуть тоже надо умеючи.
Ребята даже раздеваться перестали, слушая такие слова.
— Знай и помни каждый: если случится тонуть, главное<p>— не пугаться. Иди до дна. Только не дыши, ты не рыба. Дошел до дна<p>— сожмись в комочек и крепко оттолкнись от него ногами. Выскочишь из воды, как пробка.
Но, высунувшись на поверхность, не ори: «Спасите, помогите, ой-ой, тону», — людей напугаешь и сам воды наглотаешься. Ты действуй хитрей, схвати глоток воздуха побольше и снова опускайся на дно. И опять отталкивайся. И так путешествуй туда-сюда, туда-сюда, а сам к берегу приглядывайся; который ближе, к тому и приталкивайся… Так в конце концов на берег и вылезешь. Понятно?
Ребята тут же затеяли новую игру «тонуть<p>— не утонуть». И так в ней наловчились, что вскоре чувствовали себя как рыбы в воде.
Пригласили ребята гостя поиграть и в нашу излюбленную игру<p>— городки. Поставили на кон известную городошную фигуру «бабушка в окошке», дали биту потяжелей. Пожалуйте, ваш почин.
Аркадий прицелился, трах… и мимо.
Смутились пионеры, неловко как-то, такой здоровый дяденька и промазал. Подают новую биту:
— Извините, Аркадий Петрович, вам бита, наверное, кривая попалась!
— Нет, ребята, — отвечает он, — не бита виновата, рука у меня дрогнула… И как ей не дрогнуть<p>— фигура-то на кону какая?
— Обыкновенная, «бабушка в окошке».
— Ну вот, сидит бабушка в окошке, отдохнуть желая, а я в нее палкой… Тут рука дрогнет.
— Так ведь это только фигура так называется<p>— бабушкой. Это же понарошке!
— Все равно и понарошке нехорошо на бабушек палками замахиваться. Я бабушек люблю. Вот если бы в окошке сидел кулак за самоваром. Чай попивал, бублики жевал, когда на него батрачата работали… Я бы не промахнулся.
Мальчишки рассмеялись. Тут же поставили новую фигуру, добавив один городок, и назвали «кулак за самоваром».
Аркадий хитро улыбнулся, прицелился, трах! Кулак и самовар разлетелись в разные стороны. Раскулачил!
Ребята в восторге принялись изобретать новые фигуры, переименовывать прежние. И так получилось вместо «змеи»<p>— «белый гад ползучий», вместо «конверта»<p>— «ультиматум Керзона». К старинному попу добавили цилиндр и назвали «буржуин толстопузый».
И как начали распечатывать и вышибать<p>— игра пошла веселей.
Довольный Аркадий только посмеивался.
Что и говорить<p>— сразу и навсегда он стал любимцем ребят.
Как мы нашли эмблемы и символы, и как возник «ПИЛ»
Разговорились о красочности и символике, необходимых пионерскому движению. О его эмблемах и символах.
Общее он принимал всё<p>— символику красного знамени, красного галстука с тремя концами, символизирующими дружбу трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Но считал, что у каждого отряда должно быть и что-то свое, ему присущее<p>— не только имя героя, которое носит отряд, но и свои эмблемы и символы. Даже у каждого звена что-то свое.
— Вот, например, зерно могучего дуба, — говорил он, держа на ладони желудь. — Дуб<p>— священное дерево наших предков<p>— славян. Символ силы и единения. Какое звено возьмет его себе?
«Спартак»! «Спартак»! В этом звене Котов, он самый сильный.
— А вот орех<p>— символ твердости… Русские могучую крепость однажды назвали «Орешек»… Попробуй разгрызи его<p>— сломаешь, враг, зубы… Мал, да хитер орешек…
— Так это звену «Либкнехта», там Игорь!
— А вот вишневая косточка с припаянной ножкой…
Вначале был белый цветок, затем вкусный красный плод, теперь это зерно, из которого подымется новая вишня…
Символ вишни был не совсем понятен, но его охотно приняло девичье звено «Красная Роза», по имени Розы Люксембург, пламенной революционерки.
— Чем хорошо, — говорил Аркадий, — не надо тратить лишних слов, объяснять, кто ты такой и за что стоишь.
Показал орех<p>— и каждый посвященный знает про тебя все! А кому не нужно знать<p>— тот пусть и не знает. И не всегда надо кичиться, носить знак на груди. Это в торжественных случаях… А так, всегда, лучше его хранить не на виду. — И он спрятал орех в карман Игорька.
— Как же могут ребята жить без игры в войну, — сказал он мне. — Эх, вожатый-увожатый! Если нет беляков<p>— рубайте крапиву. И пусть позеленеют деревянные сабли!
Крапивы в старом заброшенном парке была великая сила.
И однажды он затеял с ребятами такое крапивное побоище, что из парка доносились до меня пугающие вопли.
— Зачем же так кричать-то? — спросил я.
— А это обязательно<p>— на страх врагам, на радость себе. И, кроме того, очень грудную клетку расширяет.
Он был потен, весь в паутине и смоле. Показал, как ползать по-пластунски, скрытно подходить к противнику и быстро «сматываться». Лазил по зарослям, бегал и, налетев на острый сучок, отодрал подметку своего щегольского хромового сапога.
— Чепуха, — сказал он, рассматривая ущерб, — от мальчишек я узнал, что в деревне есть замечательный мастер сапожно-башмачной починки, бывший матрос.
Знакомство с этим матросом дало толчок еще одному увлекательному делу, которое мы назвали «ПИЛ».
Увидев кучу книжек Мириманова, предназначенных для продажи по деревням, ребята пожалели, что у нас в лагере нет библиотечки, нет книг. Сказали об этом Аркадию.
— А зачем вам книги, разве вы безногие?
— Вот безногому сапожнику я пришлю книгу про Цусиму. Пришлю вам, а вы ему отнесете.
— А почему не нам?
— Потому что вам в лагере надо побольше заниматься не чтивом, а «ПИЛом».
— А это что такое?
— Поиском интересных людей. Ведь иной человек интересней книжки. Только надо его раскрыть. Вот, например, этот сапожник. Прихожу к нему в деревню сапоги чинить, а он не желает. Он празднует. Напился, на гармошке играет, песни поет, никто не подходи! Что за история, никаких праздников<p>— ни революционных, ни святых угодников, в этот день нет. Оказывается, в этот день потонул его родной корабль, на котором он был матросом.
Погиб в бою с японским флотом при Цусиме. И вот бывший матрос справляет по нем и по товарищам своим погибшим тризну. Выпивает и поет песнь про «Варяга»…
Поет и плачет, а люди над ним смеются. Не видят, слепые люди, что перед ними герой, интереснейший человек, русский, матрос, побывавший в Японии. Для них он просто сапожник… А ведь это только вывеска человека. А вы копните его, найдите к нему ключ, и перед вами такое раскроется…
— А мы колдунью нашли.
— Тоже интересная книжка!
— А может, Иван Данилыч тоже не просто старик корзинщик, а что-нибудь такое…
— Наверняка!
— Ребята, давайте объявим «ПИЛ»!
— И сами будем писать книжки.
— Причем на березовой коре чернилами из дубовых листьев.
— Почему?
— Потому что сделать из бересты книжку и добыть из дуба чернила не так просто… В такую книжку такими чернилами всякую ерунду не запишешь, а только самое главное…
Посадив на плечо, Аркадий подносил нашего приемыша к дубу и говорил:
— Видишь на листьях белые шарики? А ну, собирай их, только не тащи в рот, они не для еды, а для чернил.
Надавив из этих шариков соку, опускал в него горсть старых гвоздей, и ребята с удивлением видели, как из этого соединения образовались густые черные чернила.
Об их добротности свидетельствовали трудно смываемые усы на многих физиономиях.
— А теперь сделаем для крохи книжку с картинками, — говорил он, раздирая бересту на тонкие листы и камнем отбивая сгибы.
За всеми этими делами и забавами удивительно быстро летело время. Роковой родительский день приближался.
Я поделился с Аркадием своими тревогами.
Лицо его округлила улыбка.
— Ничего, все обойдется!
Как мы готовились к «РД» И как нам мешали «ЧП»
— Ребята, — сказал Аркадий на совете отряда, — перед нами стоит очередная боевая задача: с честью и славой провести, выражаясь военной терминологией, «операцию РД», то есть «родительский день». В армии таких операций мне проводить не доводилось, но инспекции и смотры<p>— множество раз. А ведь наезд родителей<p>— это то же, что инспекторский смотр начальства. Так вот: запомните, что любит и чего терпеть не может начальство.
Во-первых, начальство любит порядок и не любит беспорядка. Во-вторых, обожает пробовать солдатского борща и заглядывать, хорошо ли заправлены койки. В-третьих, бывает довольно четкими ответами на самые неожиданные вопросы и не терпит мямленья. А пуще всего бывает покорено веселым видом бойцов, четким строем и бодрой песней. Есть у нас возможность представить все это в наличности?
Конечно же, раздались возгласы «есть», «будет», и веселое оживление охватило наш лагерь.
Мы вычистили и вымели всю территорию. Построили еще один культурно-показательный шалаш. В нем соорудили койки: набили колья, а на них настелили топчаны, сплетенные из ошкуренных ивовых прутьев. Своей белизной они напоминали плетеную мебель и сразу создавали впечатление чистоты. Каждый топчан<p>— на двоих.
Шалаш отдали звену «Красная Роза», и девочки навели в нем не только порядок, но и красоту. Вход увили гирляндами из полевых цветов. Обычные корзинки приспособили как тумбочки, накрыв их платками.
В остальных шалашах ребята спали на сене, вповалку.
Но ничего, будем показывать этот шалаш как образен и говорить, что, если останемся, все сделаем такими и даже лучше.
— Главное, никогда не подавать виду, что это по необходимости или из нужды, а убеждать, что так и нужно! — советовал мне Аркадий. — Пионеры живут в шалашах, на то они и пионеры, это так нужно. Сами добывают себе хлеб<p>— это тоже так нужно, согласно с нашей заповедью: кто не трудится, тот не ест. Сами варят себе обед<p>— так пионерам и положено, должны всему научиться, чтобы ко всему быть готовыми.
Побольше им отвечать: «Так у нас положено», «Так у нас должно быть», «Таковы у нас правила», «Так мы хотим», «Это нам нужно для воспитания смелых, закаленных ребят».
И все это за делом, во время работы. Мы вместе трудились, сооружая столовую и кухню.
И здесь годился военный опыт Аркадия. «Пищеблок» сделали на берегу ручья. Вкопали в обрыв берега печку, выложили ее старым кирпичом, добытым из развалин бывшего забора вокруг парка. Отыскали даже разбитую чугунную плиту, правда без конфорок, в груде бросового металлолома позади совхозных построек. Вмазали медный котел, одолженный огородниками, и вывели даже трубу, составив ее из кусков выброшенных за негодностью на свалку старых водосточных труб.
Родник, из которого брали воду, огородили и закрыли деревянной крышкой.
Нам повезло<p>— ребята, купаясь, заметили несколько плывущих по реке досок, поймали упавший с баржи потерянный деревянный лоток для слива откачиваемой воды. Из них мы соорудили отличный стол, укрепив его на низких кольях. Чтобы не делать скамеек, выкопали вокруг него для ног канавки, а под сиденье настелили чистой соломы, имевшейся в изобилии в совхозе.
И, когда все это было готово, навели «ажур». А именно: обозначили территорию лагеря декоративным забором из ивовых прутьев, ошкурив их и воткнув дужками. А в центре окружили такими же дужками, только мелкими, клумбу, в которую высадили осторожно выкопанные с землей полевые цветы.
— Цветы<p>— первый признак культурного жилья! — говорил Аркадий, отирая трудовой пот и довольно оглядывая результаты нашего творения.
Из нескольких длинных орешин, воткнув их покрепче в землю, сплели арку, над которой решили повесить плакат «Добро пожаловать».
— Удивить<p>— победить, — говорил Аркадий. — И знаете, чем мы удивим еще пап и мам: тем, что отлично воспитываем малыша приемыша. Мы потрясем их невиданной церемонией: в торжественной обстановке дадим ему имя и звание. Устроим пионерские крестины! Только надо это прорепетировать.
И тут же, поймав в свои объятия шустрого и верткого кроху, тискал его и спрашивал:
— Ну, какое же имя ты себе выберешь? Октябрь? Май?
— Май.
— А почему?
— Он теплый.
— Чудак, сколько раз я тебе говорил<p>— отвечать надо так: я хочу называться в честь Первомая!
Совершенно сразить наших гостей мы решили роскошным обедом<p>— ухой из свежей рыбы и жареными карасями.
Иван Данилыч притащил свой старенький бредень и уверял, что в луговых озерах этих глупых карасей видимо-невидимо. Стоит только протащить разок-другой бредень<p>— и вот тебе воз рыбы.
Звено «Красная Роза» усердно чинило бредень всеми имеющимися у нас нитками.
Звено «Спартак», как самое сильное, несло охрану вишневого сада, чтобы деревенские мальчишки не оборвали первый сбор. Угощение родителей первыми вишнями входило в наш план «удивить<p>— победить».
Котов и Шариков отправились чинить-паять старые ведра, кастрюли, умывальники. С ними на фуражировку отправился и Аркадий за «старшого», чтобы ребят не обидели.
Они имели задание добыть для карасей сметаны<p>— ведь известно, что карась любит жариться в сметане.
Маргарита и Франтик, который, оказывается, в прошлом году все лето продавал газеты на улицах Москвы, отправились попробовать, пойдут ли книжки Мириманова.
Со мной в лагере работали, наводя «ажур», ребята из звена имени Либкнехта, оставшиеся без своего звеньевого.
И, как всегда, в «орлином гнезде» сидел дежурный, наш «впередсмотрящий», который должен был все видеть и обо всем предупреждать.
Это сооружение на старом дубе, выросшем на опушке парка и вот уже лет сто ведущем борьбу с непогодами и ветрами в одиночку, сделали сами ребята. По их уверению, когда-то на нем было орлиное гнездо, о чем свидетельствовали засохшие на вершине ветви. Они сплели из ивовых прутьев, устелив сеном, довольно крепкое сооружение и уверили меня в необходимости держать там постоянную стражу.
В нем любил сидеть Франтик и петь песни по-польски. Это он проделывал, когда оставался один. Он обожал этот уединенный пост. На высоте, в «орлином гнезде», по его уверению, ему приходили самые замечательные фантазии. И это было интересней всего.
Сегодня в гнезде дежурил кто-то из ребят звена имени Либкнехта.
А напротив, на обрывистом берегу ручья, сидел наш враг<p>— батрак Васька и дразнился. Он так надоел, что никто уже не обращал внимания на его глупые и мерзкие слова. Это его доводило до исступления. Кричал он до хрипоты.
Аркадий тоже вначале возмутился<p>— хотел догнать и вздуть его. Потом решил «зайти с тыла», сесть рядком и распропагандировать, как солдата-бедняка, оказавшегося по глупости в белой армии. Потом плюнул ладно, самому надоест, устанет<p>— перестанет.
А сегодня, послушав хриплые Васькины выкрики: «Эй вы, голопузые, бесстыжие, краснорожие!», «Кресты поснимали<p>— красные тряпки повязали. Черти вас будут за них хватать, в кипящую смолу мордами макать…»<p>— и прочие самые непотребные слова, Аркадий сказал:
— А все-таки надо эту проблему решить. Приедут родители, начнется у нас смотр, все честь по чести, а он вдруг с того берега и начнет шпарить… А? Что получится? Чепе, чрезвычайное происшествие, выражаясь военной терминологией!
Проблема решилась весьма неожиданным образом.
Васька вдруг примолк. Я это не сразу заметил. Мне только показалось, что в природе что-то изменилось к лучшему. Стал слышней милый треск кузнечиков в траве.
Наступил какой-то покой. Я даже огляделся и заметил, как в жаркой тишине летнего дня таинственно возникают на дорогах пыльные вихри.
«Значит, время<p>— полдень, — еще подумал я, по деревенской примете. Пора бы искупаться».
И в это время из «орлиного гнезда» раздался сигнал тревоги. Часовой изо всех сил заколотил в звонкий кусочек рессоры.
«Ну, кто-то тонет. Наверное, опять Рая». Ноги сами вынесли меня к реке. Нет, никаких признаков. И тут я вспомнил, что в последнее время она вместе с Катей-большой и Маргаритой-Матреной стала купаться не в реке, а в маленьком ручье, пробиравшемся извилистыми оврагами к Москве-реке недалеко от старого парка. Берега его были покрыты зарослями ивняка и ольхи. Кое-где встречались неглубокие омутки и быстрые перепады с говорливой водой.
Вот здесь и стали уединяться для купания три пионерки. Им нравилось барахтаться в мелком ручье, запруживать его своими телами и скатываться с переката в омутки под напором собравшейся за спиной воды.
Утонуть можно было только в устье ручья, где при впадении в реку образовался глубокий омут. Туда и понесли меня ноги.
Но на бегу я заметил другое: какую-то борьбу и крики на выкошенной недавно лужайке за ручьем. Какой-то большой парень бил пионера…
Парень колотил пионера наотмашь, тот падал. Парень пытался бежать, но пионер хватал его за ноги… Одной рукой верзила держал кучу какой-то материи, а другой норовил стукнуть как следует нашего храбреца, тащил его за собой на одной ноге, как гирю, отцеплял и не мог отцепить, снова волочил по колючей кошенине. У пионера задралась рубашка. Парень брыкал его ногой, но он не отцеплялся…
Наверное, парень украл у нас что-нибудь ценное.
Я переменил направление. На дороге увидел пасущихся лошадей, быстро снял веревочные путы с какого-то коня, привычно взнуздал его этими путами и, вскочив на спину, пришпорил пятками.
Конек, привыкший к подобному обращению, резво помчался.
И я явился на поле боя с неожиданной для противников быстротой<p>— в тот самый момент, когда отвратительный верзила замахнулся на пионера ногой, норовя ударить в лицо.
Мой удар опередил подлеца. Он докатился в одну сторону, прочь полетели в другую юбки, кофты, трусики и полотенца… К моему неописуемому удивлению, это оказался Васька. Значит, от ругани он перешел к действию.
Кто же остановил его, вцепившись, как репей?
Я поднял с земли пионера, и передо мной предстал Игорь. Но в каком виде! Нос разбит. Один глаз заплыл.
Волосы запорошены землей. На лице ссадины. А живот<p>— словно его кошки драли<p>— до крови поцарапан на скошенном лугу, по которому тащил его Васька.
— Он наших девчат салил! Кидал в них грязью, не давал вылезти. Сидел на одежах… Говорит: танцуйте голышом. Девчата<p>— плакать, а он схватил платья<p>— и бежать!
Я шел мимо, увидел<p>— и к нему, — докладывал Игорь, сгоряча не ощущая боли от царапин, ссадин, синяков и шишек.
Все свои раны он прочувствовал лишь потом, когда мы мазали ему живот йодом, а к синякам и шишкам прикладывали холодные примочки.
— Вожатый, я стойкий? Верно, ведь я очень стойкий?
Больно, а я не плачу, — говорил он, смахивая слезы и морщась.
— Откуда ты взялся на том берегу?
— А я с эстафетой бежал, с фуражировки. Командир сообщает, что они заночуют. Так обстановка требует.
Когда вы добудете карасей, они явятся со сметаной.
К вечеру у Игоря поднялась температура. А наутро один глаз совсем закрылся ужасной опухолью фиолетового цвета. И это было накануне воскресенья, рокового родительского дня.
Много шума наделало это происшествие. На селе говорили, что пионеры побили батрака. Особенно старались кулацкие дети, подговорившие Ваську салить наших девочек. Они были тут же, скрываясь в кустах, и не показались, когда подоспевшие пионеры взяли Ваську в плен, как лилипуты Гулливера, и повели в лагерь.
Они не хотели показать себя зачинщиками, чтобы все свалить на Ваську. Кулаки против пионеров<p>— это уж слишком наглядно. А вот батраки против пионеров<p>— это куда забавней. Хитрые были кулачата, учились не в Коломенском, а в московской какой-то школе, чуть не в одном из редких тогда ремесленных училищ. В хозяйстве работал за них батрак Васька, а они приобретали ценные знания.
Во всем этом мы разобрались не сразу, постепенно.
Признаться, мне было очень не по себе, что я принужден был ударить батрака, глупца. Но в глазах ребят мой поступок был справедлив и даже героичен.
— Вожатый как вскочит на лошадь, как помчится! — услышал я в палатке ребят.
— Наш вожатый как даст ему, он и покатился.
— Наш вожатый сильный, — слышалось из девичьей палатки.
Нехорошо, ах, как нехорошо!
— Васька, — говорил я, — ты не обижайся, но, если ты еще раз затеешь провокацию, тебе еще раз попадет.
— А я и не обижаюсь, — ответил наш пленник, с удовольствием запихивая в рот кусок пирога. Он не протестовал против плена на хороших харчах.
— Не фулигань, за это и не так бывает, — рассудительно говорил он. Берите меня к себе насовсем. Я вам буду продукты возить, а зимой печки в школе топить.
Я тогда совсем буду за вас. Я у этого кулачья все сады обтрясу, я этим кулачатам все носы разобью. У меня кулачище во, как у мужика…
— Ты, чудак, думаешь, здоровые кулаки это все, — говорил ему Игорек. А вот ты не знал, что у меня в кармане был вот этот талисман. Видишь орех, это как будто орех… А вот раскуси… Ты сильный<p>— а меня не победил.
— Конь с репьем не сладит. Понял? А ты репей! — беззлобно отругивался Васька.
Мы отпустили его, взяв честное слово больше нам не вредить.
Как мы «уговаривали» щуку
Итак, наступила суббота, канун нашего «судного дня», первого родительского воскресенья.
Судя по тому, что написал Аркадий в эстафете, доставленной Игорьком, сметана нам обеспечена. Дело за карасями. Бредешок, изъеденный мышами, починен и сверкает свежими заплатами. Иван Данилыч с корзинкой на голове нетерпеливо сучит ногами, ему хочется скорей топать к заветным озерам.
Денек тихий, жаркий. Самый подходящий для ловли бреднем. Иван Данилыч, захваченный азартом, шел на все. Он принес две косы<p>— раскашивать озерные травы.
Сговорил лодку для перевоза на тот берег. И все повторял:
— Ну, видимо-невидимо… Давно их там не тревожили… Теперь карасищи там<p>— как лапти, лини<p>— как пироги. Зимой на дух щуки выходили и окуни, а эти лодыри все в тине остались. И никуда не ушли. Вот уж третью весну озера эти не заливало. Не выходила к ним Москва-река.
Переправились, зашагали. Поскольку в эту увлекательную экспедицию рвались все, решено было создать сводный отряд из представителей всех звеньев, и, чтобы не обидно, по жребию.
До избранного озера далеко. Жара. В лугах, как говорится, марит. От запахов разогретых солнцем трав кружится голова. Но все нипочем. Ноги несут нас сами. Все в предвкушении великого таинства рыбной ловли. Будет ли улов? Что окажется в озере? Сколько разговоров и предположений было все эти дни, пока шли сборы!
Нетерпение подстегивает шаг. Вот оно, «окаймленное кустами молодых ракит» небольшое озерко, все заросшее ряской, лягушиными тенетами и, конечно, телорезом. Только кое-где темные, как нефть, окошки чистой воды.
И в этих окошках по вечерним зорям купались такие жители глубин, что, по уверению Данилыча, хлопали по воде хвостами, как бабы вальками по мокрому белью.
Привал. Ребята располагаются по берегам озера.
Я, прямо в одежде, чтоб оберечься от телореза и осоки, лезу в воду с косой. А дед, не выпуская из рук ведра для будущего улова, недоверчиво смотрит: как это я буду косить под водой?
Здесь это не принято. А у нас в мещерской пойме во время покоса в полдневный перерыв, собравшись артелью, запросто выкашивали и не такие озера и брали карасей возами.
Однако вода в озере холодновата. И даже в травяных местах глубоко. Доходит до подбородка. Пригнуться нельзя. Двигаю косой у самых ног… Вот-вот порежешься.
Но сочные водяные растения срезаются от первого прикосновения и тут же всплывают. Толстые, с руку, корни кувшинок всплывают шумно, поднимая донную тину.
Заросли телореза<p>— плавучего растения, похожего на кактус, — все время наплывают на меня, сколько ни отталкиваю косой.
А тут еще жучки-вертунки. Маленькие, черненькие, вечно снующие вверх-вниз. Как куснет, словно электрическим током ударит. И надо же им попасть под одежду и кусаться то тут, то там…
Вот один конец озерка выкошен. Вся поверхность воды взбугрилась от всплывших водорослей.
— Ребята, таскать!
И выделенные мне в помощь лучшие пловцы и нырки бросаются в озеро и начинают вытаскивать траву на берег. Оставь ее<p>— бредень скатается, и никаких карасей не поймаешь.
В первых же охапках вытащенной на сушу травы обнаруживается масса живности. Вся трава шевелится. Тут и жуки-плавунцы в своих толстых панцирях, и тритоны, и огромные жирные пиявки.
Но ни одного малька, ни одной рыбки… Наверное, рыба в глубине. Прячется от косы, как от щуки.
Когда моя косьба подошла к концу, а ребята не растащили и десятой доли скошенных водорослей, не вытерпели мои пионеры, и все, сколько их было, умеющие плавать и неумеющие<p>— влезли в воду.
Шум, крик, плеск, визг. К кому присосалась пиявка, кто наткнулся на телорез, кого ужалил кусачий жучок-толкунец…
Трава почти вся вытащена, озеро взбаламучено, теперь-то уж карасям некуда деться.
Теперь уж без усмешки, торжественно развертывает свой старинный бредешок Иван Данилыч и сам лезет взаброд, в холщовом белье и в лаптишках, чтоб не повредить ноги.
— Рыбку есть хотца, да лезть за ней не хотца, — приговаривает он, жмурясь и поеживаясь.
Медленно тянем бредешок под взглядами всех болельщиков. Ни всплесков в нем, ни движения. С трудом вытаскиваем полный зарослей<p>— и ничего, кроме тех же плавунцов да пиявок…
Второй заброд. Третий. Пусто!
— Взбаламутить, взбаламутить надо. Тогда пойдет…
Он в тину воткнулся, — говорит смущенный Данилыч.
Ребята бросились в озеро и давай ногами поднимать донный ил.
Взмутили, чуть не все водоросли вытянули бредешком, а рыбы нет как нет.
Настоящий рыбак закален в неудачах. И я не унываю.
Я замечаю, что мы никак не можем обловить небольшой кусочек озера глубокую ямку в самой середке. По краям ее ходим, а протянуть по ней бредень не можем. Не хватает нам роста: глубоко.
Что делать?
— На бечевках протянем! Сейчас! — горячится вошедший в азарт Данилыч. Такому труду да пропадать… Травы вытащили цельный стог<p>— и зря? Нет, этому не бывать!
Мы вас достанем! — грозится он неведомым, коварным карасям, спрятавшимся в глубине.
При этом дед сердито разувается, разматывая длинные оборки от лаптей.
Из оборок делаем мы к бредню «вожжи». Два камня, с трудом найденные на берегу, привязываем к нижним концам «кляч»<p>— палок, на которые посажен бредень.
Заводим центр бредня прямо против омутка и тянем за веревки все это сооружение поперек озера.
Тянем осторожно, оборки тонки. Бредень идет-бредет потихоньку. Палки погружаются совсем под тяжестью камней. Ого, глубок омуток. Только бы пройти его… Наверное, все они сидят там<p>— те, которые по вечерам купались.
Вот прошли омуток. Скорей подхватывать вынырнувшие из него палки. Скорей тащить к берегу.
Помощники хватают низ бредня. Осторожней<p>— не порвите!
Вот они! Блестят, бьются, трепещут! Широкие, золотые!
— Караси! Карасищи! Ох, какие!
Четыре квадратных, толстых, толстогубых красавца.
Два в дрожащих руках деда. Два в моих руках. Высоко<p>— над всеми головами. С золотой крупной чешуей и красными плавниками.
— Ой, не упустите, дедушка! Ой, вожатый!
Нас тащат прочь от берега, мокрых, грязных и счастливых.
— Там еще… там их много… Мы еще заденем! — суетится дед, заводя еще раз бредень на самый центр омутка. Лопаются размокшие бечевки. Дед лезет в глубину.
Тащит бредень на плаву, то погружаясь, то выныривая, опираясь на палку, чтобы достала концом дна и взмутила омут.
Волосы у него растрепались, залепили глаза. Ну, водяной, да и только. То унырнет, то покажется…
При втором заходе<p>— два карася, при третьем<p>— один, затем еще один… и ничего! Всего восемь. Больших карасищ<p>— но только восемь…
Куда же подевались остальные? Ну, хотя бы помельче, да побольше, чтобы пожарить каждому по карасю… А восемь рыб<p>— как их делить?
— Не может того быть, чтобы всего восемь единиц на такое озеро, озадаченно говорит дед. — Под берегами схоронились, злая рота…
И мы ведем бредень под берегами. Вот кустик в самой воде. И вдруг в самом кустике всплеск, в бредне удар…
— На подъем! — кричит дед.
Выхватываем на подъем и видим в самом центре бредня, в «пузе», здоровенную дыру!
— Шука! — азартно кричит дед. — Крокодила! Всех карасей поела, подлая! Не уйдешь!
Оборками завязывает дыру, и мы бросаемся в погоню за хищницей, убавившей в озере карасей… Какая она, велика ли или так, щуренок? Кто ее поймет в воде! А в руки нам не дается. Откуда бы мы ни зашли, ждет, притаившись, и вдруг броском с разбегу пробивает бредень в любом месте…
— А, ты смотри, что делает! — возмущается дед, штопая и наспех завязывая дыры. — Врешь, попадешься!
И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг среди приунывших ребят не раздался робкий голос:
— А если в бредень травы набить?
Это сказал Игорек, больше наблюдавший, чем действовавший во всей этой эпопее. И как у него возникла эта мысль, трудно сказать. Но мы набили до отказа бредень водорослями и снова повели навстречу щуке. Шел он медленно, тяжело, раздувшийся, как воздушный шар.
А щука ждала где-то под берегом его приближения.
Все затаили дыхание. Всплеск, удар могучего хвоста.
И мы не почувствовали толчка… В бредне раздалось только какое-то шипение, словно спустили воздушные тормоза.
— Давай, давай! На берег! — страшным голосом закричал дед.
И, когда с помощью ребят мы вывалили на берег весь бредень с травой, из кучи водорослей вдруг выползла на луговые травы, на цветы длинная черная щука и поползла, извиваясь, как змея… Пасть ее сжималась и разжималась, и круглые янтарные глаза зло блестели.
Ребята шарахнулись в разные стороны. Девочки издали пронзительный визг.
А Данилыч бросился на щуку, как ястреб. Оседлал ее и стал ломать хребет. Но это оказалось ему не под силу, и живучая щука долго ползала по траве, таская за собой деда.
Кончилось тем, что под жабры ей продели палку-и так понесли в лагерь.
Карасей несли живыми в ведре с водой. Все банки были полны озерной живностью.
И не было человека, который бы не почесывался от укусов жучков, пиявок и коварного телореза.
Возник вопрос<p>— как делить улов. Шука была непомерно велика, чтоб отдать ее деду. А караси уже плавали в бочажке ручья, огороженные «оградой» из ивовых прутьев, удивляя и радуя своей величиной и неприхотливостью. Уже брали пищу, лениво чмокая толстыми губами и поплевывая из воды в воздух…
— Ладно, — сказал азартный старик, — уговор будет такой: следующее озеро целиком мое! Которое<p>— я сам укажу… Вот увидите, лошадь запрягу телегу карасей выгребем, — и в предвкушении будущего улова весьма довольный ушел, оставив нам чинить бредень, весь продырявленный щукой.
…В лагере нас ждало много новостей, и немало неприятных. Ребята, посланные за вишнями, явились без добычи, поцарапанные, подранные, со следами неудачной драки.
Им не только не удалось охранить вишневый сад<p>— пришлось спасаться бегством от деревенских садолазов.
Раззадоренные деревенские мальчишки явились в таком числе, что справиться с ними не мог бы и весь наш отряд.
Назло нашей охране они не рвали вишни, а просто отдирали целые ветки с деревьев, не разбираясь, где спелые, где неспелые, и бежали прочь, к оврагу. Все это под лозунгом: «Не нам, так пусть никому не достанется!»
Только прискакавший на шум совхозный объездчик усмирил разбойников, огрев нескольких ретивых плеткой.
Удивили нас Шариков и Котов. Они явились весьма смущенные, с несколькими горшками сметаны, но без Аркадия. Наш необыкновенный гость, передав нам устный привет, так же неожиданно исчез, как появился. По словам ребят, он встретил в одной деревне какого-то инвалида гражданской войны, своего фронтового товарища, и вместе с ним укатил в Москву. Этому товарищу нужна была какая-то срочная помощь в каком-то деле, в котором ему мог помочь его бывший командир.
Порадовали нас наши офени. На книжки Мириманова они наменяли столько яиц, что едва дотащили.
Эту ночь всем участникам рыбной ловли плохо спалось, ужасно чесались укусы жучков, уколы телореза, ранки, нанесенные пиявками.
А у Рай-толстой поднялась температура. Вся кожа ее покраснела, все укусы и порезы загноились. Мы смазали многочисленные ее раны йодом, и вся она стала пятнистой, как пантера. Худо ей было, но терпела и не плакала, а даже смеялась и подшучивала над своей изнеженностью.
Как мы удивили и победили
О появлении родителей должен был просигналить с «орлиного гнезда» дежурный «впередсмотрящий». И прозевал. Он воображал, что папы и мамы пойдут от трамвайной остановки пешком. И не ожидал, что они могут явиться на извозчике.
Это были отец Рай-толстой и мамаша Игорька, энергичная полная женщина в шляпе.
— Игорек! Игоречек! Булька моя! — кричала она, заглушая тревожный звон запоздавшего сигнала с «орлиного гнезда». И металась по лагерю, нагруженная кульками, свертками, кулечками.
— Где ты, детка моя? Скорей! Вот вкусненькое, вкусненькое!
За ней бегали наши дежурные, которые должны были встречать родителей перед аркой и отбирать все подарки-сласти в общий котел. Но Игорькова мамаша так быстро пронеслась мимо большущей круглой корзины, представляющей общий котел, что заградительный отряд не успел и рта разинуть.
Теперь несколько пионеров и пионерок бегали за ней следом, как растерявшиеся цыплята за квохчущей наседкой.
— Крошка моя! Птичка моя! — неслись ее призывы, унизительные для каждого уважающего себя мальчишки.
Но Игорек не отзывался и не появлялся. И не мог появиться: застигнутые врасплох, мы затащили его в показательный шалаш и обрабатывали его физиономию, как в каком-нибудь косметическом кабинете.
Все его синяки, шишки и царапины, полученные в схватке с Васькой, спустя день раздулись, почернели, загноились. Синяк под глазом стал буро-фиолетовым. Глаз весь заплыл. Ни зубной порошок, ни мука не могли заменить пудры.
Ничего путного не получалось. Оставалась надежда на придуманный нами тактический ход…
Я вышел навстречу мамаше Игоря и, стараясь не теряться перед крупной женщиной, обладающей громким голосом, заявил, что ее сын Игорь сейчас показаться ей не может. И вообще никому не может показаться. Он появится во время нашего парада, на котором пионеры будут его чествовать. Если он покажется раньше и будет разгуливать, как все обыкновенные мальчики, это сорвет нам всю торжественность. Ведь он совершил подвиг и должен появиться под звуки горнов, как герой.
— Да, мой Игорь необыкновенный мальчик, — согласилась насторожившаяся женщина, — но какой это он совершил подвиг?
— Видите ли, я не могу раньше времени разглашать…
Мы решили приготовить вам сюрприз… Вы подождите немножко. Вот как только соберутся все родители, так откроется парад. — И я проводил мамашу к шалашу, где стояла Игорева койка.
— Да жив ли мой мальчик? — спросила вдруг мамаша. Она бросила на меня такой взгляд, что я поспешил ретироваться со словами:
— Жив-здоров… Вырос, прибавил в весе… Хотя и скучает о вас.
— Ну-ыу… — Мамаша со вздохом опустилась на койку, окружив себя узелками, кульками, свертками.
Ее бурное вторжение внесло расстройство в наши планы. Мы не смогли встретить остальных родителей так торжественно, как хотели. А главное общий котел остался пустым.
Чувствуя, что долго испытывать терпение встревоженной матери невозможно, я ускорил начало парада. Родителей мы усадили в тени деревьев, на подстилке из сухих листьев. Горнист вышел на линейку и под мачтой с развевающимся флагом протрубил сбор. Со всех сторон, словно из-под земли, явились наши пионеры, и три звена встали на своих местах. Дежурный отрапортовал о событиях дня. Затем с рапортом-отчетом перед родителями выступила моя помощница<p>— вожатая звена Маргарита.
Она рассказала о нашем выезде в поход, о постройке жилья, о разведке жизни, о наших фуражирах. И наконец, про подвиг пионера, крепкого, как орешек.
Выслушав краткий отчет о побоище Игоря с Васькой и приняв свернутый в трубочку письменный рапорт, я сказал:
— Поведение Игоря заслуживает быть отмеченным в истории отряда. Защищая пионерскую честь, он вступил в борьбу против противника втрое сильнее себя и победил своей стойкостью. Приказываю: записать это в тетрадь памятных событий. Игоря наградить двойным орехом, символом его звена, и увенчать венком из дубовых листьев.
Заиграл горн, забил барабан, и из показательного шалаша показался Игорь.
Я быстро вышел ему навстречу с тяжелым венком из дубовых листьев, украшенных желудями, и тут же возложил на его стриженую голову, украшенную шишками, причем наискось, стараясь, чтобы венок закрыл правый глаз, украшенный зловредным синяком. Отдав мне салют, Игорь промаршировал вдоль родительских рядов, держась строго в профиль, чтобы его мамаша видела чистую, не покорябанную в стычке с Васькой половину лица.
Он шел важно, животиком вперед. Напрягая все силы, чтобы прямо держать голову под тяжестью венка, встал под развернутое знамя. После моей краткой речи и призыва быть готовым к подвигам ответил: «Всегда готов!»
Толстушка Рая, одетая в длинный белый хитончик из простыни, с вырезанной из фанеры лирой, как муза поэзии, прочла посвященные Игорю стихи, сочиненные ею экспромтом.
Длинный, до пят, хитон замечателен был тем, что скрывал от всех глаз ее ноги, изрезанные телорезом.
А затем мы провели церемонию наречения нашего приемыша сыном отряда и принятия им имени и фамилии.
Малыша подвели к знамени. Он был в матросском костюмчике, в ботинках, смазанных для блеска яичным белком. Его рыжие вихры, умасленные и приглаженные, отливали золотом. Вел он себя важно и неторопливо.
На вопрос, какое из новых имен, рожденных революцией, желает носить, пацаненок громко крикнул:
— Май, в честь Первомая! — И потом все-таки добавил, упрямец: — Он теплый.
Когда вожатые звеньев хором проговорили обязательство воспитать из Мая настоящего человека, достойного будущего коммунистического общества, а сам нареченный, встав на одно колено, поцеловал знамя отряда, многие родители были так растроганы, что перед глазами женщин замелькали носовые платки.
Заиграл горн, забил барабан, и отряд трижды прокричал.
— Расти, Май!
— Цвети, Май!
— Да здравствует Май Пионерский!
На этом торжественная пионерская линейка окончилась. И наступил страшноватый момент, когда Игорь наконец бросился в объятия своей мамаши.
И что же, растроганная до слез женщина не заметила никаких изъянов на лице своего детища! Обнимая и расцеловывая любимого сыночка, она старалась как-нибудь не задеть, не стронуть с места, не уронить его венок славы.
Мы воспользовались ее добротой до конца. Игорь даже обедал в дубовом венке. Она так и уехала, не заметив под глазом сына огромный синяк, мамаша, которая, бывало, сдувала с единственного сынка каждую пылинку! Даже как-то пропустила подсохшие царапины на животе, хотя Игорь сам похвалился ими.
Поистине велика материнская любовь к славе и почестям детей!
С толстушкой Раей все обошлось еще лучше. Ее отец весьма остался доволен. Дочку он нашел посвежевшей, более оживленной, чем прежде, и ничуть не удивился, что она разгуливала с ним под руку в хитоне из простыни, показывая старинный парк. Он думал, что так и нужно. Пионерская символика… Ему и в голову не пришло, что мы этим нарядом из обыкновенной простыни скрыли ее необыкновенные болячки.
Все родители были в восторге от показательного шалаша. Впрочем, большинству понравились и самые обыкновенные. И после обеда папы и мамы отлично отдохнули в них на свежем сене, которое мы заранее накосили и насушили.
Но окончательно сразила родителей наша громадная щука. Уху из нее варили люди, понимающие толк: отец Вани Шарикова<p>— «доктор паровозов», оказавшийся заядлым рыбаком, и мать Кости Котова. Она явилась в лагерь одетая нарядней всех. И принесла пирог<p>— здоровенный, как полено, пышный, сдобный, с мясной начинкой. И была единственной мамой, предложившей его в общий котел.
В восторге от лагеря были молодые тетки Кати-беленькой, белошвейки. Забыв, что они тетки, девушки вприпрыжку носились по лужайке, купались, собирали букеты полевых цветов и так заразительно визжали, что заглушали все голоса. А к вечеру у них покраснели обожженные солнцем руки и плечи, поднялась температура, разболелись головы, и нам пришлось их уложить в тень и лечить, намазав покрасневшую кожу сметаной.
Слабенькие были эти городские создания, тоненькие, с какими-то прозрачными телами, словно сделанными из стеарина.
Придирчивей других была мамаша Риты, вагоновожатая. Ей казалось, что Рита ее похудела. Она меня допрашивала: почему все ребята поцарапанные?
Но и она смягчилась, когда вечером все родители уселись у костра и стали петь песни. Голос у нее оказался сильней всех. В паре с мамашей Кости Котова они перепели столько старинных песен, что даже охрипли.
Все шло отлично, не подвел нас даже Васька. Он явился к нам нарядный, как на праздник, охотно поедал всевозможные угощения, но по-прежнему смущал ребят своим странным восприятием жизни.
— Родителев-то у вас сколько, а? — завистливо говорил Васька. — У которых и по двое… еще и дома остались…
Богато!
— Чего же тут богатого, обыкновенно.
— А у меня вот совсем нет ни одного родителя. Обыкновенно? Не, опять неравенство. Вы передо мной богачи, а еще кулаков браните.
— Ну, как же ты не понимаешь, Вася, кулаки<p>— это эксплуататоры, а мы…
— Ну да, у них всего больше, чем у других. А у вас вот родителев больше, чем у меня… Выходит, я бедняк, а вы<p>— кулаки!
У ребят слезы выступили от обиды, что он так нелепо переиначивает их слова и они не могут его переубедить.
— Ну ладно уж, — снисходительно говорил Васька, — так оно было и так будет… Так уж на свете заведено. От бога… Вот помрем, на том свете будем все равны!
Ушел он ублаженный, с карманами, набитыми до отказа конфетами, печеньем и прочей снедью.
…Когда ребята отправились спать, родители долго еще не расходились от костра. То разговаривали о будущем своих детей, то пели песни. У костра, над рекой, почему-то всем поется.
И вот интересно: не мне пришлось их уговаривать оставить детей еще на недельку<p>— они уговаривали меня подольше пожить с пионерами в лагере. И доказывали, что именно так и нужно: в шалашах, на природе, чтобы закалялись. Чтобы всё могли сделать сами: и жилье построить, и костер развести, и еды добыть.
— Такие ребята нигде не пропадут!
— Действительно, будут пионеры!
— Ценить будут кусок хлеба!
На этом сходились все. И если кто говорил, что дети похудели, а не поправились, тут же раздавался хор голосов:
— А что же им, жиры, что ли, нагонять?
— Пионеры не курортники.
— Здоровье не в толщине!
«Доктор паровозов» был счастлив, что его Ваня вместе с Костей сумели добыть для лагеря сметаны починкой и пайкой кастрюль, чайников и всякой посуды.
— Тут важно, — говорил он, — что они не для себя, а для всех старались. В этом смысл-то!
Особое восхищение у всех пап и мам вызвала история Мая-приемыша. Всем было приятно, что их дети добрые, отзывчивые. Если в будущем все будут такими, тогда никому никакое горе, никакая беда не страшны.
Адвокат даже статью хотел написать в газету и пообещал нам помочь юридически в оформлении имени и фамилии Мая Пионерского.
Родители всячески старались вселить в меня веру в то, что лагерь наш может существовать вот так, «на подножном корму». Обещались приехать в совхоз на воскресник, чтобы помочь. Договорились в следующий раз все принесенные гостинцы, чтобы поддержать коллективизм, сложить в общий котел. Адвокат потихоньку предложил мне одолжить денег на парное молоко. Он выиграл какой-то процесс, и у него есть «деньги удачи».
Словом, для родителей посещение лагеря обошлось благополучно, они уезжали довольные. Для детей же их пребывание даром не прошло: большинство заболело расстройством желудков. Непомерное потребление домашних сладостей вывело из строя даже стойкого к ним Игорька.
Родители ушли к последним трамваям. А мне так и ке удалось заснуть в эту ночь. И виной тому Катенькины тетки. Они к вечеру пришли в себя после солнечных ожогов и теплового удара, выспались и не захотели уезжать. Они желали пожить с нами нашей жизнью, испытать наши радости. У них не было детства, и они так завидовали Кате-беленькой, что я готов был принять их в пионерский отряд.
Худосочные, небольшие ростом, эти фабричные девчонки походили на подростков и вызывали во мне жалость.
На рассвете мне пришлось их провожать к первому трамваю.
Вернувшись, я как залег спать, так и проспал до полдня, не услышав ни утренней побудки, ни шума и гама оставшихся без вожатого ребят.
Как Рая тонула
Все понемногу наладилось. Я лежал на прибрежной траве, отдыхая от всех тревог и сует, и, наблюдая, любовался купающейся детворой. Резвились в теплой воде Москвы-реки все вместе<p>— мальчишки и девчата. Резвые голыши, одинаковые. Разве мальчишки немного покоренастей, пошире в плечах. Девочки были в том возрасте, когда они еще плоски, худы и тонки, как плотвички. В воде они всегда напоминали мне этих резвых, костлявых рыбешек, и я с удовольствием любовался их быстрыми движениями среди радуг, поднятых брызгами. Не нравилась мне только Рая-толстая. Все девочки были только в трусах, она же<p>— в черного купальном костюме. И когда он блестел, намокнув, казалось, что Рая вся состоит из мячиков разной величины.
Не нравились мне и ее глаза, похожие на две спелые сливы. Глядят без всякого выражения. Никогда не поймешь, о чем она думает, что видит, ничего в них не отражается.
Я досадовал на ее родителей, что ее так раскормили.
Бегать ей трудно, спать жарко, купаться неудобно, играть обременительно, прыгать тяжело. Раечку я не любил за скрытность, но жалел. Она же не виновата, не сама выбирала себе родителей.
Конечно, нужно было взять ее в лагерь не только для коллективного воспитания<p>— пусть хоть немного стрясет лишний жир, это же несчастье.
И я стал думать о том, что вообще все ребята не виноваты в том, у кого какие родители, и что нам надо брать в пионеры не только детей рабочих и служащих, а всех, какие только захотят быть с нами, чтобы перевоспитались, независимо от того, нравятся они нам или не нравятся. Не так, как Вольнова: выбрала лишь тех, кто ей по вкусу, одних детей коммунистов, как изюм из булки… Нет, это неправильный путь.
Отчаянный крик с реки прервал мои рассуждения:
— Тонет! Тонет! Утонула Рая!
Когда я очутился на месте происшествия, все девочки были на берегу и, плача и причитая, показывали пальцами на какое-то место в реке.
Вода была спокойна, и никого не было видно.
Я хотел нырнуть прямо с берега вниз головой, и хорошо, что вовремя удержался. Глубина была не больше метра, внизу под зеленоватыми струями просвечивал плотный песок. Сломал бы я себе шею. Приглядевшись, я увидел, словно в сказке о мертвой царевне, лежащей в хрустальном гробу, утонувшую Раю. Она лежала на песчаном дне, закрыв глаза и раскинув руки, и над ней бежала прозрачная, зеленоватая вода. Это было страшно.
Не понимая, как можно утонуть на мелком месте, я какую-то секунду постоял в нерешительности, но, сообразив, что с глупыми городскими детьми всякое может случиться, скатился с обрыва и в один миг поднял утопленницу со дна.
Бросившиеся за мной ребята помогли втащить ее тяжелое тело на берег. Здесь я вспомнил, как на курсах вожатых нас учили делать искусственное дыхание, и принялся за первую практику.
Закидывал ее круглые руки за голову, сгибал в локтях, надавливал на живот, вызывая подъем и опускание грудной клетки. Была надежда, что не все потеряно.
Действительно, она вдруг открыла глаза, как пробужденная мертвая царевна, и ее оживление приветствовал радостный крик всех пионеров.
Девчата бросились ее обнимать, целовать, смеясь и плача.
Все обошлось благополучно, но у меня весь день болела голова, и я плохо спал эту ночь.
И этим дело не кончилось. Чтобы Рая не утонула, я решил научить ее плавать. Толстуха оказалась на редкость не способна. Сколько я с ней помучился! Она болтала руками и ногами как-то без толку, на одном месте, а при попытке поплыть тут же тонула.
Когда я ее чуть-чуть поддерживал<p>— плыла, стоило мне отнять руку<p>— тут же хватала меня за шею и топила своей тяжестью, так что я наглотался невкусной речной воды.
— Ты же легче воды, твой жир<p>— природный спасательный пояс, ты не можешь тонуть, это ты нарочно! — злился я.
Она молча смотрела на меня своими бессмысленно красивыми, телячьими глазами, отталкивалась и, попав на глубокое место, опять начинала тонуть.
И я снова подтягивал ее на мелкое место, ухватив за ногу или за руку, и упорно обучал плаванию. Ничего не поделаешь<p>— сам бросил лозунг: пионер должен плавать, как рыба, бегать, как волк, лазить, как кошка.
Как май пионерский постигал добро и зло
Как-то наши девочки стали замечать, что у сына отряда Мая Пионерского появились злые наклонности. Он не может пройти мимо лягушки, червяка, жука, чтобы не похвалиться своей силой.
Схватит лягушонка, смотрит в его выпученные глаза и бормочет:
— Вот как давну!
Поймает жука и все ноги оборвет. Увидит червяка на тропинке и сейчас к нему:
— Вот как топну, ты и готов! Что, боишься?
И страх маленького перед большим вызывает у него злорадный смех. Такие поступки ужасно огорчали девочек.
Сколько они ему ни говорили<p>— это нехорошо, это зло, жестоко, — ничего не помогало.
— Всыпать ему разок за такие проделки<p>— вот и поможет! — говорили мальчишки.
Но девочки возмущались:
— Бить детей<p>— да разве это по-пионерски? Наше воспитание должно быть совсем другое.
А какое? Уговоры не помогают, рассуждения тоже.
Май Пионерский все слушает, не возражает, а делает опять по-своему, но тайком.
— Ты понимаешь, это нехорошо, — как-то убеждала его Катя-беленькая, стыдя Мая над растоптанным его ступней червяком.
— Ему нехорошо?
— Ну да, ему же больно.
— А мне хорошо, — хитро усмехнулся Май.
— Но это не по-пионерски обижать маленьких, по-пионерски надо за них заступаться.
— А если нет?
— Тогда тебя самого кто-нибудь обидит, а большие не заступятся.
Но лукавый взгляд Мая говорил, что он в такую возможность не верит.
Однажды Май, ухватившись за руку Кати, мчался к речке купаться босиком по цветущему лугу. И вдруг, остановившись, заметил на цветке белого клевера пчелу.
Не успела Катя оглянуться, как расшалившийся Май ей назло поднял ногу и с веселым криком опустил на маленькое существо.
В ту же секунду озорник подпрыгнул, упал и огласил окрестности таким басовитым ревом, которого от него еще не слыхали.
Когда я подбежал на этот сигнал бедствия, идущий из самых глубин сложной натуры Мая Пионерского, то застал такую сцену.
Малыш сидел, обливаясь слезами, а Катя, вынимая из его ступни пчелиное жало, говорила:
— Вот видишь, как самому может быть нехорошо, когда обидишь маленького… Говори: не будешь больше?
А то жало не выну, и ты пропал!
— Ой, я не буду! Ой, больше не буду! — клятвенно обещал Май Пионерский, глотая заливающие лицо слезы и умоляюще глядя на Катю.
После этого весь день все ребята ходили веселые, оживленные, не переставая рассказывать и пересказывать подробности поучительного происшествия с сыном отряда.
Словно гора с плеч, словно туча прошла, дышалось легче, как после грозы.
А то ведь некоторые наши воспитательницы даже плакали, не в силах перевоспитать злые наклонности, обнаружившиеся в нашем человеке будущего.
Май сделался мягче воска. Катя-беленькая для него стала самым большим авторитетом из всех носящих красные галстуки. Тщательное наблюдение даже самых стойких скептиков показало, что Май Пионерский ни явно, ни тайно больше слабых не давил, не топтал, не путал.
Как появился «СОС»
Вскоре состоялось и совещание садолазов.
Подготовили мы его и провели, надо сказать, с блеском.
Вначале в окружающие деревни являлись наши ребята целым звеном, становились на улице, где-нибудь у школы, у пожарного сарая, у кучи деревенских бревен, места деревенских сборищ, и трубили сбор.
Конечно, на звуки горна и бой барабана сбегались все любопытные мальчишки и девчонки. И тут наши представители объявляли:
— Внимание, внимание! Поспели смородина и малина. Поспели вишни. Растут яблоки. Наступает время лазить по садам. Ребята, мы решили собрать совещание по обмену опытом. Как лазили прежде, как теперь. Лазить или не лазить в будущем. Присылайте делегатов на берег реки у парка. Выбирайте самых отчаянных, самых ловких, самых деловых садолазов!
Тут же проводили выборы и вручали мандаты с правом решающего голоса, написанные на березовой коре.
И что же вы думаете: ребята пришли. Один за другим, иные крадучись: нет ли здесь подвоха? Босые, простоволосые, сжимая картузы в руках, пряча лукавые глаза под чубами. И великовозрастные и малыши, «садолазы будущего».
Самым старшим делегатом «от садолазов прошлого» оказался сам директор совхоза.
— Я был садолазом, когда еще вас, пацанов, и на свете не было. И знаете где? В городе Белеве. Там, откуда знаменитая белевская яблочная пастила. Ох, какой это город, какие там сады! Какие грушовки, какие анисы! А груши бергамот, а дули! И как же нас за них дули! Да знаете ли вы белевских собак? А садовых сторожей? Ну, тогда вы ничего не знаете! Бородачи, глаза ястребиные, голоса медвежиные. Как рявкнут, бывало: «Держи-держи!»<p>— так от страха с забора свалишься. Да… И все-таки сады мы обчищали… Но ведь это были купеческие, буржуйские сады.
А теперь?
— И теперь есть кулацкие, поповские, — сказал какой-то мальчишка из деревенских.
— Про эти не говорю, но есть и народные. Вот этот, наш совхозный, он же принадлежит народу.
— А кто с него яблоки ест? — опять раздался скептический голос со стороны деревенских.
— Вот это интересный вопрос, — подхватил директор, — для кого мы хотим сохранить яблоки? Надо избрать комиссию, пусть выяснит и доложит. Давайте выберем делегатов от разных деревень, и пусть они…
— А ты скажи сразу!
— Сказать проще всего, а лучше будет, когда сами увидите. Наш совхоз, вы знаете, поставляет овощи, молоко для больницы. И, когда вы сбиваете недозревшие яблоки, обламываете вместе с ветками вишни, вы отнимаете их у больных людей, которые сами не могут пойти в сад да и сорвать… Снабжаем мы туберкулезный детский санаторий.
Видали бы вы, какие там несчастные ребята лежат! Иные совсем неподвижно, в гипсе.
— Это чтобы горбы не росли, я знаю! — заявил один из деревенских.
— И вот таким ребятам не дать из нашего сада яблока? Да я бы на вашем месте собрал и отнес! А не то что вот так зря зеленушками оборвать.
— Мы не оборвем, так другие.
— Верно! Вот потому мы и предлагаем вам создать союз садолазов и взять под свою охрану сад.
— Лазить, но организованно! — сказал Шариков.
— Правильно! — раздались голоса.
Дело кончилось тем, что был создан «СОС»<p>— союз отважных садолазов. В его совет избрали троих пионеров и двоих деревенских ребят.
Все ребята согласились: зеленые яблоки не рвать, яблони не трясти, собирать только опавшие, караулить сад по очереди<p>— деревенские вместе с пионерами. А сохраненный урожай яблок разделить поровну: половину совхозу, половину караульщикам.
Директора это вполне устраивало. Это было лучше, чем ничего.
Через несколько дней мы устроили торжественную передачу сада союзу садолазов.
Бил барабан. Звучал горн. Деревенские ребята выстроились в одну шеренгу, пионеры<p>— в другую. Директор совхоза Никодим Петрович зачитал приказ о передаче сада под охрану «СОСа», Костя Котов<p>— председатель совета прочел клятвенное обещание садолазов сберечь яблоки, после чего был устроен сбор уцелевших вишен и их дележка. Собрали всего четыре небольшие корзинки и разделили по жребию.
Для того чтобы доставить вишни в туберкулезный детский санаторий, избрали делегатов: двух деревенских и от нас Риту.
Директор запряг своего выездного коня в пролетку и сам повез делегацию в Москву.
Выглядело это довольно любопытно. На козлах сидел директор, в полотняном костюме, в шляпе; в пролетке<p>— пионерка с корзиной вишен на коленях и двое босоногих деревенских мальчишек, от волнения утирающих рукавами носы.
Эта поездка произвела действие, не сравнимое ни с какими словесными уговорами, убеждениями, рассуждениями. Когда ребята своими глазами увидели страдания больных костным туберкулезом детей, они были потрясены не менее, чем Данте, которому Вергилий показал мучения грешников в кругах ада.
Стойкая Рита рассказывала о закованных в гипс ребятах со слезами на глазах.
Что и как рассказывали своим друзьям деревенские мальчишки, мы не знали, судить могли только по результатам. Когда мы делили набранную в саду черную смородину, деревенские старались в корзинку для санатория положить ягод побольше. Набивались в провожатые. Один парень принес и добавил из дома «гостинчик»<p>— малосольных огурцов: там какой-то девочке очень-очень хотелось их попробовать. А другой принес сверчка в спичечной коробке: какой-то мальчуган, лежащий вот уже много месяцев неподвижно на спине, мечтал, чтобы у него сверчок «чиркал» под подушкой.
— Он его спрячет, — убеждал парнишка, — руки-то у него свободные. Сумеет схоронить. Главное<p>— доставить ловко, чтобы никто не заметил!
Доставили мы сверчка.
Эти больные дети, ждущие нашей помощи, вызвали такое участие, такую бурю добрых чувств, внесли такой великий смысл в дело сохранения совхозных яблок, что охрана их превратилась в самое желанное дело.
Особенно рвались мои ребята в ночные патрули. Девочки требовали равноправия и в этом. Кого отстраняли от ночных дежурств за малолетством, огорчались до слез.
Приходилось вместе с ребятами постарше брать и малышей.
В центре сада мы построили для дежурных шалаш.
А чтобы не было страшно, вблизи шалаша теплился негасимый костер из обломков упавших деревьев. Всю ночь он таинственно и притягательно мерцал среди старых корявых деревьев бывшего барского парка.
Признаться, и мне доставляло удовольствие проснуться среди ночи и пройтись проверить наших дежурных: подойти незаметно, послушать, о чем говорят, оставшись одни, наши и деревенские ребята.
Обычно я ходил не один, а потихоньку будил и брал с собой кого-нибудь из пионеров. Участвовать в обходе вместе с вожатым было для ребят счастьем, особенно для малышей. Как же они потом гордились!
Как-то я взял с собой Катю-беленькую. Она шла, крепко вцепившись в мою ладонь пальцами, и я чувствовал, что вся она дрожит. Ведь это первый раз в жизни идет она по темному лесу, среди таинственных черных деревьев, глубокой ночью. Не то во сне, не то наяву. Каждый шорох, каждый незнакомый звук так непонятен и страшен. Почему зашуршало позади? Отчего треснул сучок впереди? Что там упало сверху?
— Вожатый, — шепчет она, — а если они спят, а? Мы их напугаем, да? Вот будет здорово!
Однако напугались мы сами, нас угораздило набрести на заспавшуюся совхозную свинью, отбившуюся от стада.
Она вскочила и бросилась прочь с ужасным треском, визгом и хрюканьем.
Мы так и присели.
Свинья, промчавшись мимо костра, перепугала дежурных. Игорек затрубил в горн. Ему отозвался дежурный в лагере, забив в барабан. Общий сигнал тревоги поднял всех ребят.
И вскоре мои пионеры с горящими факелами, заготовленными заранее на этот случай, стали окружать сад.
В совхозе подняли отчаянный лай все собаки. Прибежал ночной сторож с берданкой и, наконец, сам директор, заспанный, босиком.
Учебная тревога, как мы ее назвали, получилась на славу. Ребята были убеждены, что это вожатый проверил их боевую готовность на случай настоящего нападения на сад.
Только мы с Катей-беленькой и знали, что причиной переполоха была свинья, но тайны решили никому не открывать. Как же мы потом смеялись! И долго еще<p>— взглянем друг на друга, приложим пальцы к губам и про себя улыбнемся.
После ночного происшествия Катя стала как-то веселей, живей, выше держала голову и на остальных поглядывала самоуверенно.
Ей все девчата завидовали, что она поднимала тревогу вместе с вожатым. И это наполняло ее гордостью. Не Рита, не Катя-большая, а она, малышка, участвовала в таком замечательном происшествии.
Прошлись мы с ней как-то и еще раз. Послушали ребячий разговор у костра. Разговаривали какой-то деревенский и Франтик о том, почему интересней дежурить ночью. Франтику нравились ночные дежурства, потому что ночью у него появлялись необыкновенные фантазии.
Ему казалось, будто деревья<p>— это заколдованные великаны, будто они по-своему разговаривают, шепчутся. Вот и сейчас<p>— слышь, кругом тишина, не шелохнется, а они шелестят листвой, даже в безветрии!
Действительно, на осинах слышался шелест листвы.
Осиновый лист так устроен, что колышется от малейшего потока воздуха, а воздух движется всегда: лес днем вбирает в себя теплые струи, ночью отдает тепло восходящими потоками.
Деревенский слушал, Франтик рассказывал:
— Тебе нравится, когда вот такая тишина-тишина, а деревья шепчутся?
— Нет, — ответил деревенский, — по мне, лучше бы ветерок, когда яблоки сшибает! Утром глядишь<p>— и полный картуз. А теперь, поди-ка, ничего не нападает… И чего дежурил, приду пустой.
Так вот почему деревенские стремятся на ночные дежурства! Раньше что-то не очень рвались, а вот как белый налив стал поспевать, как посластела грушовка…
— А мы давай тряхнем… немного, — предложил бескорыстный Франтик от доброты душевной.
— Не, — сказал деревенский, — это не закон! Раз был такой уговор<p>— не трясти, давай не будем.
Я нагнулся к Кате.
— Слышишь, какие честные деревенские ребята.
— Слышу, — ответила Катя тоном человека, открывшего великую тайну.
— Давай не показываться им.
— Хорошо.
Мы крадучись обошли шалаш и, не хрустнув веткой, удалились.
Было безлунно-темно и тихо. Мы шли при свете звезд, угадывая тропинки. Молча, задумчиво. О чем думала Катя-беленькая? О чем-то большом и важном так сосредоточенно она молчала. Говорят, дети растут ночью, во сне.
Мне казалось, что в ночном походе эта девочка-малышка возрастала духовно. И я испытывал какое-то удивительное чувство, ни с чем не сравнимое, даже необъяснимое и сейчас, при воспоминании.
От одного лишь того, что глубокой ночью, когда все люди спят, со мной рядом идет маленькое человеческое существо, разбуженное мной от детского безмятежного сна, и о чем-то думает, на душе у меня было неизъяснимо хорошо. Я пробудил в маленьком существе нечто новое<p>— способность думать о чем-то высшем, а не только об играх, о еде, о сне в теплой кровати. Душу мою наполняло ощущение счастья, полноты жизни, ненапрасности бытия.
Как нам навязали войну
Наконец, после солидной подготовки, вывезла в лагерь своих пионеров и София Вольнова. Ее «опытно-показательные» расположились в двух километрах от нас в здании сельской школы.
Вначале явились красноармейцы<p>— выбелили и вычистили помещение. На пришкольном участке разбили военные палатки. Поправили забор вокруг. Прочистили дорожки. Посыпали речным песком линейку перед мачтой для флага.
С ними прибыла походная кухня, прикомандированная по распоряжению Буденного.
Вольнова неплохо использовала тропинку, протоптанную нами к почетному пионеру!
В одно прекрасное утро мы услышали звонкие горны побудки и завидели мелькание белых рубашек и красных галстуков. А через несколько дней к нам явилась делегация. Впереди трубач, за ним барабанщик. И девять пионеров все как на подбор. Мальчишки в белых рубашках с закатанными рукавами, в синих трусах, девочки в белых кофточках и в синих юбках. Красота! Не то что наши<p>— кто в чем, только по галстукам и отличишь, что пионеры.
«Показательные» выстроились перед нашими шалашами. Горнист протрубил, барабанщик дал частую дробь, и герольд прочел, развернув свиток, что отряд имени Спартака вызывает нас на войну.
Некогда было нам заниматься такими пустяками, мы по горло были заняты фуражировками, совхозным садом, артельным огородом, проще говоря<p>— борьбой за существование. Но положение обязывает. Военная игра предусмотрена лагерным расписанием, и мы нехотя отправились во вражеский стан выработать условия войны. И тоже трубил наш горнист, и бил барабан, и герольд прочитал, развернув свиток из березовой коры, наш ответ на дерзкий вызов.
А потом в штабной палатке вожди воюющих сторон занялись обсуждением условий и правил пионерской войны.
Вольнова, как всегда, хорошо подготовилась. На ящике из-под консервов, служившем столом, была разложена карта местности, уже снятая и разрисованная ее ребятами. Тут же четко написанные и даже разрисованные правила войны.
Мы уже назывались синими, они<p>— красными. Не стали спорить. Наши уже окрестили чистеньких пионеров Вольновой «белячками», а ее прозвали наших «дикарьками».
Не нашлось у нас возражений и против стратегических условий. Победа будет за тем отрядом, который выведет из строя большинство противника либо отберет знамя.
По вопросам тактики разгорелся жестокий спор. Наши не хотели принимать условностей, предложенных Вольновой.
Как это так<p>— признать себя пленным, если противник оказался численно сильней? Признать, что двое берут в плен одного? Что побеждают зашедшие с тыла, окружившие, отрезавшие путь к своим? Нет, это не по-нашему, не по-буденновски. Буденный и с горсткой бойцов белые полчища разгонял. У него один храбрец сотни стоил. Нет, нет, мы хотим как в гражданскую войну: кто храбрей, тот и сильней.
— Что же, по-твоему, устроить мальчишескую драку? — сказала Вольнова. Анархию развязать вместо организованной игры? Нет, так не пойдет, на все нужны строгие правила. Отняли звеньевой флажок<p>— значит, уничтожили полк противника, сняли с пионера галстук<p>— значит, убит боец, а если отняли отрядное знамя, тогда проиграна война.
С этим наши согласились. Но признавать численное превосходство не желали.
— Да я семерым в руки не дамся! — возмущался Игорек.
— Добровольно отдать мой галстук<p>— нет, ты попробуй возьми! — грозно сверкал очками наш «доктор» Шариков.
Не согласился и я на такое условие, хотя для нас оно было бы выгодней: пионеры Вольновой были все ровные, отборные, а мои<p>— разновозрастные, среди них немало малышей.
— Пойми, — сказал я Вольновой, — если с детства приучать ребят к таким правилам, мы воспитаем трусов!
Долго мы спорили. Наконец согласились на условиях «честной драки». Каждый боец, защищая звеньевой флажок, знамя отряда, свой красный галстук, с которым он отдавал свою «жизнь», мог бороться изо всех сил. Только не царапаться, не кусаться, не плеваться, не пускать в ход кулаки, не рвать друг на друге одежду.
Разрешалось применять военную хитрость и смекалку.
Мои ребята ушли домой в самом бодром настроении.
Игорек хитро улыбался.
Я остался. Вольнова хотела похвалиться своим замечательным лагерем.
Да, здесь было что посмотреть.
В классах сельской школы, сверкающих чистотой, стояли складные кровати. Здесь пионеры спали<p>— каждое звено в своем классе.
А в военных палатках располагались: в одной<p>— штаб отряда, в другой красный уголок, в третьей<p>— сама вожатая и ночная вахта.
— Далековато от реки, — сказал я.
— Так и нужно, чтобы зря одни купаться не удирали.
Раз в день достаточно, по расписанию. Под моим присмотром. Иначе перетонут… У тебя уже едва откачали кого-то?
— Было дело, — признался я.
— Ну и чему это тебя научило?
— Тому, что все пионеры должны уметь хорошо плавать.
— Ну вот, а отнес бы лагерь подальше от реки<p>— жил бы спокойней.
— Да, мне-то конечно, но ребятам так хочется купаться, ведь лето так коротко…
— Мало ли что им хочется! Воспитание в том и заключается, чтобы сдерживать инстинкты. Нет, у меня не посвоевольничают.
— Я по себе сужу.
— Ясно, в тебе полно неизжитого деревенского атавизма!
В длинном и светлом коридоре располагалась столовая.
Во дворе стояла походная военная кухня, и женщина в белом халате поверх военной формы хлопотала, приготавливая обед.
— Это знаменитый кашевар из буденновской армии, — похвалилась Вольнова, — порекомендовала жена Семена Михайловича. Теперь всех женщин уволили в запас. Она с радостью согласилась у нас поработать лето. Возможно, устроим на зиму в школу готовить горячие завтраки.
Вольнова показывала мне все свое прекрасно налаженное хозяйство с таким счастливым видом, приглашая меня порадоваться вместе, что я невольно похваливал и улыбался.
— Пойдем посмотрим, как мы живем, — пригласил я ее.
— А что у тебя смотреть, шалаши? Ничего в этом не вижу поучительного. Самообслуживание? Ну, ведь это же по необходимости. Зачем прививать ребятам эти навыки, когда в будущем все будут пользоваться общественным питанием. Походы в деревню, участие в классовой борьбе, помощь беднякам против кулаков? Зачем это? Для политической закалки? Ну подумай, нужно ли это людям будущего, которых мы готовим? Ведь когда они вырастут, ничего подобного уже не будет! Зачем им такие отсталые понятия? Им надо прививать навыки коммунистического бытия!
— А ты их знаешь?
— Знаю, конечно. Главное<p>— организованность, дисциплинированность; коммунистическое общество<p>— это прежде всего организованное.
Ушел я с ощущением какой-то скуки из этого «опытно-показательного» лагеря.
Какое канительное дело<p>— война
Навязанная нам война сразу осложнила и затруднила всю нашу с трудом налаженную жизнь.
Вернувшись в лагерь, я застал ребят за новым занятием, которое прежде и не пришло бы им в голову. Одни таскали друг друга за галстуки, как драчливые петухи за гребешки. Оказывается, тренировались, как ловчей сорвать с противника галстук. Другие занимались борьбой<p>— упражнялись, как одному отбиться от двоих нападающих.
На обеденном столе уже была разложена карта местности, по памяти скопированная Игорьком с карты наших противников. Штаб уже обсуждал план наступления и скорой победы.
— Нам же некогда, — говорил Шариков, — мы с этой войной пропадем, если затянется, не прокормимся. Надо с ними расправиться поскорей.
Никто не хотел идти на фуражировку<p>— опасались внезапного нападения. Были замечены недалеко от лагеря вражеские лазутчики.
Никто не хотел охранять сад: нужно было беречь лагерь, а то свистнут «белячки» знамя<p>— и все пропало.
А белый налив поспевал, а грушовка была уже съедобна.
Я понял: война для нас<p>— это беда. Мы ее не выдержим экономически. Ничего она нам не прибавит, кроме разбитых носов. Не предложить ли мне Вольновой объединить наши силы для настоящей войны за сохранение совхозного сада? По крайней мере, здесь и результат будет ощутимый яблоки.
Но остановить эту стихию было уже нельзя, «бог войны» вырвался на простор, и все ребята были охвачены воинственным азартом. Все мирное потускнело, потеряло интерес. Даже девчонки и те вели себя воинственно.
Вес только и думали, как перехитрить «белячков», как содрать с них галстуки, отнять звеньевые флажки, забрать отрядное знамя.
Все были как в лихорадке. Никто не мог спать, все чудилось, будто со всех сторон подкрадываются враги.
Наши разожгли большой костер, пели воинственные песни про Конную Буденного, раскинувшуюся в степи, с особым чувством повторяя припев:
Не сынки у маменьки В помещичьем дому, Выросли мы в пламени, В пороховом дыму!Не спалось и противникам, при всей их дисциплинированности. Запертые в помещении школы, они смотрели в нашу сторону сквозь противокомарные сетки. Несколько смельчаков выбрались по чердаку на крышу и докладывали:
— Дикарьки тревожатся.
— Пляшут дикий танец войны!
Постоянно шли поиски разведчиков и стычки патрулей.
Неожиданно позади нас, вблизи старинной коломенской колокольни, было замечено целое звено «белячков».
Звено «Спартак» выбежало навстречу. Но «показательные», не принимая боя, стали отходить к трамвайной остановке. Наши догадались: заманивают! Отвлекают наши силы подальше, чтобы напасть на лагерь!
Вернулись и решили сами произвести демонстрацию в сторону противника небольшими силами. Участвовали двое шустрых<p>— Игорек и Франтик и один сильный<p>— Котов.
А для обмана противника взяли с собой деревенских ребят из союза садолазов. Зашли к лагерю «белячков», пройдя через деревню, откуда они и не ожидали, и застали их во время купания.
Недолго думая, наши ребята бросились к одежде, смяли охрану и, похватав оставленные купальщиками галстуки, — наутек.
Вслед за ними<p>— парламентеры из «вражьего стана» с протестом, что это не по правилам.
— А как же на войне? Однажды белые напали на буденновский отряд во время купания. Наши вскочили на коней голышом, сабли в руки<p>— ив бой. Отогнали беляков, а потом докупались! Вот и вы бы так.
Так и не отдали трофеев.
И сами, во избежание подобных происшествий, стали купаться в галстуках.
Все только и жили военными помыслами. Перестали носить траву для совхозных коров. Перестали помогать огородникам. Нераспроданные книжки Мириманова пылились в заброшенном шалаше. Питались кое-как. В одну неделю подурнели и отощали, словно от какой-то болезни.
— Что с вами, ребята?
— Что-то вы похудели?
— Все какие-то поцарапанные, встревоженные, глаза у вас врозь, почему это?
Такими вопросами забросали нас папы и мамы в очередное родительское воскресенье.
— Война! — отвечали мы.
— Какая война, с кем? Вас невзлюбили местные ребята?
— Нет, мы воюем с соседним пионерским отрядом.
Вон его палатки на горе белеют.
— Ах, так это военная игра! С другим отрядом. Так-так, понимаем…
Родители несколько поуспокоились, но весь день с любопытством поглядывали в сторону наших противников, с которыми на воскресный день мы заключили перемирие.
К ним тоже приехали родители.
Многие ехали вместе с нашими в одном трамвае. И по-видимому, разговорились и кое-что рассказали друг другу про жизнь своих детей.
Некоторые папы и мамы как бы невзначай спрашивали меня:
— А в том отряде ребята тоже на самоснабжении?
— У них так же, как у вас, полное самообслуживание?
Я отвечал уклончиво и чувствовал, что мои ответы не гасят искры сомнения, зароненные в души взрослых теми, дети которых живут в районном опытно-показательном.
Надо сказать, что родители наших ребят<p>— во второй заезд вели себя более разумно и организованно. Все продукты были сложены в общую корзину. Папы и мамы не завладевали своими детьми как собственностью, оставляли ребят заниматься своим делом, любуясь со стороны, не пичкали сластями, уводя подальше от других. Словом, не нарушали строй нашей жизни.
А вот мы оплошали. Лагерь был захламлен, новых шалашей не появилось. Не оказалось у нас ни удивительной щуки, на которой мы «выехали» в прошлый раз, ни корзины свежих яиц, ни сметаны…
Родителям пришлось готовить обед из продуктов, что принесли с собой. Это было уже скучней.
«Доктор паровозов», он же слесарь Кузьма Петрович Шариков, как и обещал, вместе с Валей и Костиком отправились на «фуражировку», чинить-паять ведра, кастрюли и молочные бидоны в совхозе за молоко.
Любителям рыбной ловли тоже нашлось дело. Наши ребята отыскали занесенный песком челн, выдолбленный из ветлы, рыбацкий ботничок, вероятно потерянный какой-нибудь баржей, приходившей снизу в половодье.
Рыболовы принялись его чинить, конопатить и вскоре уже удили с него плотву и ершей, встав на якорь.
Эти не заметили непорядков в лагере.
Остальных мы решили отвлечь экскурсией в охраняемый нами сад.
И здесь наши ребята сумели заинтересовать взрослых заманчивой перспективой<p>— заготовить на зиму на всю школу яблок.
Игорь и Франтик затеяли увлекательную игру. Подводили взрослых к какой-нибудь яблоне и спрашивали: угадайте, сколько на этой яблок?
Начинались угадки, споры, заключались пари.
И ребята поражали всех, заявляя:
— На этой антоновке одна тысяча двести тридцать два яблока!
Или:
— На этой сорта скрижапель всего девятьсот восемьдесят. Зато вот на той боровинке две тысячи сто шестьдесят яблок!
— Да не может быть, чтобы так точно!
— А вы проверьте.
Начиналась сложная проверка, и в конце концов выяснялось, что ребята высчитали точно.
— А всего на восьмидесяти семи урожайных яблонях зимних сортов у нас около ста тысяч яблок. Если мы их сохраним с отходом на двадцать процентов, то на нашу долю достанется столько яблок, что нам хватит в течение трех месяцев на всю школу, если каждому школьнику выдавать по яблоку каждый день, считая и воскресенье!
Вот как! — заявил ликующий Франтик.
И на скептическое «не может быть» Игорек тут же дал точный арифметический расчет.
Родители этой наглядной арифметикой были так увлечены, что весь день провели в саду.
Многим не верилось, что мы укараулим такой сад:
— Явятся мужики с мешками и отрясут.
— Но того нельзя позволять, — говорил отец Франтика, варшавский пекарь, осевший в Москве после бурь двух войн и революции.
Он обещался взять отпуск и поселиться в шалаше.
У него есть ружье. И губная гармошка. На гармошке он будет играть, чтобы все знали, что не спит, а из ружья постреливать для острастки. От него мы узнали, что настоящее имя Франтика<p>— Франтишек.
Более практичные побывали в совхозе, и директор подтвердил им, что совхоз выполнит свои условия, были бы яблоки, а разделить нетрудно.
Папы и мамы выкупались, попили чайку из нашего пузатого великана самовара, и настроение у них как будто было неплохое. Но что-то недоговоренное оставалось, что-то томительное, что передавалось и мне. Нет-нет да и поглядывали некоторые в сторону показательного лагеря.
Не скрасило концовки и появление «доктора паровозов» с бидоном свежего молочка. Молочка наши гости попили, но задушевный разговор у костра почему-то не состоялся.
Мы почувствовали, что родители не совсем довольны нашим житьем. И, прощаясь, многие говорили:
— Похудел ты, сынок, право…
— Подурнела ты, дочурка, нехорошо…
Перед отъездом все выполнили свое обещание и оставили в нашу общую кассу понемногу денег, чтобы нам хватило на хлеб и на молочишко до следующего приезда.
Но не было той радости, которая светилась на лицах отъезжающих в прошлое воскресенье.
Тогда наши гости были приятно удивлены. Они ожидали увидеть худшее, были покорены нашей убежденностью, что так нужно жить юным пионерам на лоне природы, подобно робинзонам, иначе и быть не может.
А теперь в сердца родителей запало сомнение. Несколько человек ушло пораньше, чтобы сделать крюк и зайти в показательный лагерь.
А другие, дойдя до знаменитой коломенской башни, остановились подождать своих утренних попутчиков.
Здесь соединялись обе дороги<p>— и к нам и к нашим воинственным соседям.
Но это еще не все<p>— самым горьким было для нас прощание с дядей Мишей. Михаил Мартынович получил назначение на заграничную работу по линии Внешторга во Францию.
Он был грустен, рассеян. И хотя обещал, что сам подыщет нам в замену нового партприкрепленного, и ничуть не хуже, по всему было видно, что покидает он нас с тревогой в сердце.
Когда мы собрались, чтобы подвести итоги этого дня на совете отряда, Костик выразил общее мнение, сказав:
— Войну пора кончать! Не до того нам! Хватит!
Как мы осуществили операцию «Мокрый пудель»
Но оказалось, легко войну начать, да нелегко ее кончить. Сдаваться на милость победителей мы не собирались. Предлагать мир тоже как-то странно в самый разгар, когда у всех такой азарт.
— Надо их победить одним ударом<p>— и все!
И наши ребята предложили самый простой способ вывести противника из войны<p>— отнять отрядное знамя.
Оказывается, Франтик и Игорек давно уже продумали это. У них был выработан неотразимый способ, названный «Мокрый пудель». Они только не хотели его применять, чтобы война так скоро не кончилась.
Их план был фантастически прост. Но ребята побаивались выполнять его без меня. Пришлось пойти вместе.
Этой же ночью мы пробрались во вражеский лагерь, проникли в штабную палатку, привязали к древку знамени крепкий шпагат от сноповязки, клубок которого ребята отыскали на совхозной свалке.
Работали мы довольно долго. И никто не проснулся.
Крепче всех спал школьный сторож в теплом овчинном тулупе. Поначалу мы еще остерегались, ползли затаив дыхание, замирали при каждом шорохе, но потом ходили почти не таясь, как в сонном царстве.
Самим не верилось, что можно так разгуливать во «вражьем стане».
На меня напало какое-то озорство, так и подмывало сыграть какую-нибудь шутку, оставить по себе какую-нибудь память. Ночь была светлая. Когда я отогнул край палатки, полоса света упала на лицо Вольновой. Она закрылась рукой, но не проснулась. Я постоял минуту.
И она, словно почувствовав мой взгляд, повернулась и будто прислушалась; дыхание ее притихло.
Интересно, что она теперь видит во сне?
Поймав за руку Игорька, я попросил у него шепотом его талисман двойной орех. И осторожно вложил его в руку Вольновой, лежавшую поверх тканевого одеяла, в ладонь, которую она держала лодочкой.
Рука медленно сжалась. Орех мой был принят.
Я потихоньку опустил полу палатки и пошел прочь.
Ребята уже протянули бечевку за территорию лагеря и разматывали клубок дальше, маскируя шпагат сухой травой.
Утром, лишь только перекликнулись наши горнисты, два наших звена демонстративно перешли через ручей и направились к лагерю «белячков». Там заметили. По тревоге навстречу вышло тоже два звена.
Наши маневрировали, показывая чудеса подвижности: то исчезали, то появлялись в неожиданном месте. Лягут вдруг в высокую траву, а сами проползут, скатятся в овражек, а по нему что есть духу бегом до вершинки. И очутятся на краю сельских огородов, у конопляника.
«Белячки» туда, а наше звено там пропадает и возникает в другом месте. «Белячки» к нему, а звено снова возникает из конопляника. Оно просто лежало там, затаясь в траве, пока второе демонстрировало.
Мы заранее отработали этот нехитрый прием, когда два звена изображали одно.
И вот, когда внимание любопытных «белячков» было отвлечено, в лагере у них вдруг возник страшный переполох.
— Знамя утащили! Знамя!
И тут я увидел зрелище, которое невозможно забыть.
По лужайке, ведущей к нашему лагерю, мчался Костя, размахивая красным полотнищем, за ним «белячки». Они думали, что он утащил знамя. Но Костя только отвлекал их куском красной материи, а с настоящим знаменем по склону к реке чесал траву пятками никем не замеченный Игорек.
Он вытащил знамя заранее привязанной к древку веревкой, и оно тянулось теперь за ним по траве, невидимое.
Когда это обнаружили, было уже поздно: Игорек подбегал к реке.
В погоню бросилась сама Вольнова. Она летела, не касаясь земли; я еще не видывал такого легкого, стремительного бега. А Игорек нарочно оставил на земле знамя, чтобы подразнить. София бросилась к нему, сделав огромный прыжок. А Игорек дернул бечевку, и Вольнова упала на траву, а знамя снова помчалось за Игорьком.
Пока она поднялась и догадалась, в чем дело, Игорек уже несся по-над берегом Москвы-реки, передав клубок с бечевкой затаившейся под обрывом Рите.
А Маргарита, не показываясь из-под берега, стала, быстро перебирая руками, подтягивать знамя. Обманутая Вольнова и ее длинноногие девочки, не замечая этого, неслись наперехват Игорьку. Они сокращали расстояние по диагонали, и все видели, что ему не уйти.
Вот они его настигают. Вот окружают, как борзые зайчишку.
Готов. Сама Вольнова хватает его в объятия. А знамени у него нет!
Я хохочу! Падаю на землю и не могу подняться от смеха.
Никем не замеченная Рита плывет себе на тот берег, утопив под себя свернутое знамя, а на том берегу ждут ее наши храбрые малыши, которым доверена честь принять участие в этой славной операции.
Кто обратит внимание на каких-то девчонок, собирающих на том берегу цветы и плетущих себе веночки?
Игорек был взят в плен и, едва не задушен. Сколько ни пытались с него стащить галстук, так и не смогли: изобретенный нами затяжной узел был неодолим. Тогда его потащили в плен за руки и за ноги, и он не очень отбивался.
Но где же знамя? Куда девалось знамя? Смятение в стане врагов не поддается описанию.
А тем временем наши девчушки спокойно пронесли знамя до переправы, сели в ту самую лодку, что мы отремонтировали руками азартных рыболовов, и, забросав трофей луговыми цветами, доставили его в лагерь.
Когда знамя прибыло, горнист заиграл общий сбор.
Забили в барабан, и весь наш отряд подтянулся на свою территорию. На виду у изумленных «белячков» отряд наш выстроился, мы развернули свое непобедимое знамя, и двое славных<p>— Франтик и Рита<p>— пронесли перед ним склоненное знамя наших противников.
Если бы могли «опытно-показательные», они бы нас исколотили<p>— так велика была ярость побежденных. Они явились всем отрядом, теперь им терять было нечего.
У «белячков» было явное желание произвести атаку и отобрать у «дикарьков» свое знамя силой.
Сила была на их стороне<p>— тридцать пионеров как на подбор, против наших двадцати семи, среди которых<p>— пятеро малышей. Но на нашей стороне была правда, а кроме того, деревенские мальчишки. Все бывшие садолазы сбежались на этот шум и стояли на опушке парка внушительной стенкой. В случае чего, стоило нашим ребятам мигнуть, и наш могучий союзник<p>— деревенская беднота сказала бы свое слово.
Садолазы с пристрастием наблюдали нашу войну, сочувствуя, конечно, нам. У них давно руки чесались. И мы все время опасались, как бы их непрошеное вмешательство не превратило нашу игру в настоящую драку.
«Опытно-показательные», очевидно, поняли это и, встав строем против наших шалашей, стали хором выкрикивать:
— Не-пра-виль-но! Не-пра-виль-но!
Тогда и я выстроил своих, и наши начали скандировать:
— До-лой войну! Мир! Мир!
Теперь нам не стыдно было произнести первым слово «мир», ведь мы победители.
Так мы перекликались бы довольно долго, и ребята уже стали переходить к дразнилкам, показывая друг другу языки и кукиши, но тут вышла вперед Вольнова и решительно направилась к нам. Я поторопился навстречу.
— Это не по-товарищески! — сказала она сквозь зубы. — Отдавайте наше знамя. Украли, как вагонные воришки. Вытащили веревочкой. Это не победа. Это не война.
Я бы очень рассердился, если бы не взглянул на нее пристальней.
Вольнова чуть не плакала. Мудрая, разумная София едва сдерживалась, чтобы не разреветься по-девчоночьи!
Губы ее кривились, и глаза застилали слезы.
— Соня, — сказал я, — надоела нам эта война, давай мириться!
— Нет, это не по правилам! Не по правилам! — твердила она, ломая себе пальцы.
— Как же не по правилам? Мы применили военную хитрость<p>— и только. По всем правилам военного искусства.
— Нет, нет, нет!
Видя, что Вольнова не успокаивается, я решительно взял ее за руки и сказал:
— Соня, пойми, мы не могли больше воевать. Нам некогда. Сад надо караулить. Продовольствие добывать. Мы были вынуждены пойти на хитрость… Ну, давай покончим всю эту игру почетным миром. Сядем вот здесь, на нейтральной почве, вместе с советами отрядов, произведем размен галстуками, пленными. Устроим объединенный парад.
— А зачем, зачем вы пронесли наше знамя склоненным перед вашим? Зачем!
После моего ласкового тона она еще больше раскисла и говорила это, сдерживая рыдания.
— Ну, прости, Соня, я не знал, что это тебя так обидит… Ну, возьми себя в руки…
После этих слов она не только не успокоилась, а вдруг всхлипнула, как маленькая, и так заревела, что крупные слезы прямо брызнули, как давно собиравшийся дождь.
Это было ужасно, стыдно, нелепо. Я готов был либо провалиться под землю, либо вознестись на небо, лишь бы не стоять рядом с ней под взглядами наших ребят и деревенских союзников.
Закрывшись рукой, Вольнова села на землю, и это позволило мне несколько выправить положение. Я подал громкую команду:
— Советы отрядов<p>— сюда! Горнисты и барабанщики<p>— ко мне!
И ребята обоих отрядов послушались.
Когда они сыграли «внимание», я объявил, что мирные переговоры начинаются, и пригласил советы отрядов сесть в один круг.
За всеми этими действиями ребята отвлеклись, а тем временем Вольнова успокоилась и овладела собой.
Делая вид, что ничего особенного не произошло, я дал оценку нашей войне, похвалил обе воюющие стороны и предложил заключить вечный мир. Мое предложение было принято.
Затем мы устроили общий парад, отдали одинаковые почести обоим знаменам и вместе отправились купаться.
В воде началось такое веселье, столько поднялось смеха и столько брызг, что натянутые отношения между нашими ребятами сразу кончились. Мир оказался более достижимым, чем я думал.
Я все поглядывал на Софию. Она все еще была невесела и задумчива. Я впервые видел на ее невозмутимом челе какое-то раздумье, в движениях неуверенность. Вспомнил, как она вдруг всхлипнула, как маленькая, и в сердце моем что-то потеплело. Я пожалел Вольнову.
Я понял, чего ей стоил этот взрыв, как тяжело ей было перебороть униженную гордость. Как трудно ей будет, если в жизни не все будет по ее желанию, не все по ее воле, не во всем она будет лучше всех.
Очевидно, сегодня «сверхчеловек», живущий в ней, потерпел великое потрясение.
Желая помочь Софии снизойти к простым человеческим отношениям, я как можно ласковей сказал:
— Сплаваем на тот берег. Только не для соревнования. Просто так, для удовольствия.
Она молча кивнула голубой шапочкой, и мы поплыли.
Плыли спокойно, не торопясь, наслаждаясь, и мне казалось<p>— впервые наши чувства одинаковы.
В реку вдавался небольшой песчаный мысок. Мы позагорали на нем некоторое время молча.
Вольнова сняла резиновую шапочку и стала сушить волосы.
Я разглядывал ее сквозь прикрытые ресницы, еще и еще раз удивляясь, что на свете могут быть такие красивые люди.
И странное дело<p>— чем больше я вглядывался в ее красоту без единого изъяна, тем больше я отстранялся, словно отходил подальше, разглядывая статую или картину.
Вдруг я вздрогнул. София улыбнулась. Улыбнулась впервые за все время нашей дружбы-вражды. До сих пор она либо сердилась, либо смеялась, либо оставалась невозмутима, но никогда не видел я на ее лице улыбки. Это было так удивительно, что я затаил дыхание, не кажется ли мне, не спугнуть бы… Улыбка как-то необыкновенно смягчала, делала человечным и милым ее строгое лицо.
— Странно, — сказала она, удерживая на лице улыбку, — ты знаешь, как странно, я видела тебя сегодня во сне.
Такие слова, не имеющие отношения ни к какому практическому делу, ни к спору, очевидно, она тоже произнесла впервые.
Я молчал, совершенно ошеломленный.
— Вот странно, — повторила она. И тут же, словно спохватившись: — Ты только не зазнавайся!
Я не понял, отчего же мне зазнаваться. Может быть, во сне она драла меня за уши или положила на обе лопатки!
— Соня, — сказал я, — почему ты сегодня так обиделась? Ведь я же не обиделся, когда ты при всех курсантах победила меня, помнишь?
Улыбка мгновенно исчезла с лица Вольновой. Его вдруг исказила некрасивая гримаска:
— Когда в наше время женщина в чем-либо побеждает мужчину<p>— это прогрессивно, ты понимаешь? А когда мужчина берет верх<p>— это отрыжка старого. Торжество атавизма! Контрреволюция!
Тут меня так и подбросило с песка, словно карася на горячей сковородке.
— Нет, ты соображаешь, что ты говоришь, Соня! Значит, ты плакала оттого, что в моем лице видела унижающего тебя контрреволюционера, так надо понять?
— Да, да, да! Если мужчина даже в любви принижает женщину, такая любовь контрреволюционна… И если ты такой, то ты тоже…
— Постой, значит, если бы я любил тебя, я бы должен был нарочно проиграть тебе эту войну? Стать изменником своему отряду, предать товарищество, как Андрий ради панночки? Нет, Соня, если человек ради любви изменяет революции, вот такая любовь контрреволюционна!
— А если это красная панночка? Панночка-большевичка? Тогда что?
— Ну да, если человек из белого стана из-за такой перейдет в красные ряды, но если из-за нее он будет предавать друзей и товарищей<p>— к чертям такую панночку!
— На другое ты не способен!
Мы начали снова ссориться. Пионерские горны, заигравшие отбой купанию, позвали нас на тот берег и окончили наш спор.
Когда мы одевались, из кармана Вольновой вдруг выпал орех-двойник. Она торопливо сунула его в карман блузки, взглянула на меня как-то странно, словно испугалась, что я замечу.
Как нас удивили французы
Послышалось предупредительное позванивание из «орлиного гнезда». И на мой вопрос, что там видно, дозорный прокричал:
— Курсом на лагерь семеро неизвестных. Две женщины. В штанах. С фотоаппаратами!
Когда они подошли поближе, я сразу понял<p>— иностранцы. Еще издалека послышался частый, звонкий говор, не похожий на русский. Увидев наш лагерь, неизвестные вдруг припустились вперегонки, и первыми ворвались к нам женщины с веселым криком:
— Салют! Салют! Как это зовут? — уставились на шалаши и тут же начали фотографировать.
— Ша-ла-ши… О, как хорошо! — А сами щелк, щелк, стараясь заснять наших мальчишек и девчонок на фоне диковинных дикарских жилищ.
Подоспели мужчины и приветствовали нас сжатыми кулаками. Значит<p>— свои, это приветствие «Рот Фронт».
Подбежал запыхавшийся круглолицый толстячок в берете и объяснил:
— Ребята… Это к вам французские коммунисты<p>— посмотреть, как живут русские пионеры…
— Морис, — указал на свою грудь худощавый блондин.
— Жак, — указал на свою раскрытую грудь плотный шатен небольшого роста.
Я всегда думал, что французы должны быть черные, и удивился, что по внешности они мало отличаются от русских, только говорят не как мы. На француза больше всех был похож курчавый толстячок, но он оказался редактором журнала «Пионер» Добиным. В объемистом портфеле у него были свежие номера журнала, пахнущие типографской краской и бутербродами.
— У нас есть другой лагерь<p>— опытно-показательный, настоящий, вон там, на горе, — сказал я ему потихоньку.
Редактор рассмеялся:
— Ничего, ваш интересней. Французов детскими пансионами не удивишь, а вот таким… Ну, словом, пошли купаться!
Купание с французами удалось на славу. Купались они весело, все время шутили и смеялись. Ловили в воде друг друга, пойманного хватали за ноги и за руки и, раскачав, бросали в воду.
В этой игре приняли участие и пионеры.
Морис и Жак устроили для ребят живую вышку. Встали в реке, взявшись за руки, ребята вскакивали на их сцепленные руки и, подброшенные, как из катапульты, звонко шлепались в воду.
Потом на лужайке играли в чехарду. Прыгали одинаково ловко и мужчины и женщины. Не отставали и наши длинноногие Костя, Рита и Катя-большая.
Забавно получалось и у Добина. Он не решался перескочить через спины французов из-за своего маленького роста и, разбежавшись, опирался на спину, отскакивая вбок козликом.
Наши ребята так и валились на траву от смеха при виде его потешных прыжков.
Потом побежали смотреть сад и рвать вишни. Ребята были в восторге, что взрослые дяди умеют лазить по деревьям, как мальчишки.
Потом гости сами готовили еду и совершенно не по-нашему. Из вишни и яблок сварили суп. На второе поджарили яичницу с кусочками хлеба и сделали салат. Нас поразило, что в салат они положили не только редиску, свеклу, морковь, но и мелко нарезанную сырую картошку… А самое удивительное листья подорожника, сдобрив все это подсолнечным маслом.
Наши ребята пробовали<p>— и ничего, прожевывали.
Даже хвалили. Немало веселья вызвал наш купчина самовар. Женщины сфотографировались с ним в обнимку.
А мужчины с азартом собирали еловые шишки и раздували его так, что летели искры.
Чаепитием с добинскими бутербродами, пахнущими типографской краской, и закончилась эта встреча.
Гости все время рассказывали что-то веселое, и то и дело возникали взрывы хохота.
Французские гости ворвались к нам, как летний вихрь, закрутили в каком-то вихревом темпе, и казалось<p>— само время убыстрилось. Не успели оглянуться, как уже провожаем. Идем гурьбой и поем песни, танцуем, взявшись за руки, хороводом, под карманьолу.
Вернулся я какой-то ошеломленный. В таком же состоянии были и ребята. Все мы были удивлены, что французские коммунисты такие веселые. Ведь они же угнетенные! Живут в буржуазной стране под гнетом капиталистов. Мы представляли себе, что на лицах трудящихся, приехавших к нам из зарубежных стран, где правят буржуи, должно быть выражение горя и печали. А эти смеются!
— Это они у нас так смеются, а дома у них не посмеешься, — сказал рассудительно Шариков.
— Ну конечно, — подхватила догадливая Катя-беленькая, — поэтому они и веселились у нас, что хотели на свободе насмеяться в запас!
Всем было как-то неловко, что день с французами прошел у нас так сумбурно. Не устроили ни митинга, ни пионерского костра, у которого они бы нам по порядку рассказали, как у них живет детвора, а мы<p>— про свою жизнь.
Только купались, да бегали, да играли. Да еще много фотографировали. А про жизнь как следует и не поговорили.
Впрочем, выяснилось, что со многими в отдельности французы все-таки успели поговорить. Среди шуток, купания, хождения за вишнями французы успели кое о чем и спросить, кое-что и рассказать.
Симона сказала Кате-маленькой, что у нее вот такая же сестренка, даже еще поменьше ростом, что она никуда не выезжала из Парижа. И ей не поверится, что детям бедняков можно жить вот так привольно. Ведь это роскошь<p>— жизнь на свежем воздухе.
Жак спросил Ваню Шарикова, кто его отец, и похвалил его желание стать инженером-изобретателем.
Прюданс, узнав, что Рая-толстая<p>— дочь адвоката, сказал, что ее решение сдружиться с пролетарскими ребятами прекрасно.
У многих оказались сувениры. Крошечные рубиновые звездочки, малютки блокноты с карандашами, как спички. И больше всего<p>— у Мая Пионерского. Сын отряда так понравился французам, что они его сфотографировали во всех видах, а кто-то из мужчин сделал ему в подарок несколько солдатиков и коня из еловых шишек.
А все-таки неорганизованно провели мы встречу с французскими коммунистами.
Нехорошо. На душе у меня было неспокойно. Хоть я и утешал себя<p>— вот, мол, в следующий раз…
Наутро вдруг явилась Вольнова в сопровождении двух высоких решительных девчонок.
— Говорят, у вас вчера была французская делегация.
Это правда?
— Были какие-то… — пробормотал я, чувствуя недоброе.
— Какие-то? — На щеках Вольновой медленно проступил румянец показатель еле сдерживаемого гнева. — Да это не какие-то, а наши, понимаешь, это запланированные нам французы! Это я заказала заранее. Они шли к нам… а вы их перехватили! Ну уж это не по-товарищески!
— Сами зашли, никто и не думал их перехватывать.
— Нет, ты понимаешь, что вы наделали? Они шли к нам, в настоящий пионерский лагерь, и вместо этого увидели такое дикарство! — Рука ее указала на шалаши.
Обе девчонки повернули свои лица и осмотрели шалаши с презрением.
— Какое же у них будет представление о нашей пионерской организации? Вольнова схватилась за голову.
— Да им очень понравилось! — сказал Костя. — Даже фотографировали…
— Фотографировали? О! — простонала Вольнова. — Да знаете ли вы, что это были руководящие товарищи из ЦК Французской компартии! Из газеты «Юманите»! Вы представляете, что будет, если они напечатают снимки ваших грязных шалашей, вашего ужасного самовара?
Ведь это же невероятная «лярус», экзотическая развесистая клюква?!
«Что же теперь делать? Ехать в Москву? Да, немедленно! Все объяснить. Снова пригласить. Попытаться исправить!» Она рассуждала сама с собой, не обращая на нас внимания.
— А этот Карфаген, — указала она на наш лагерь, — необходимо разрушить! — и удалилась в сопровождении безмолвных девчонок, прошагавших за ней с выражением решимости на лицах.
Вот какая неприятная история произошла у нас из-за французов. И на этом она не кончилась. Несколько позже были и последствия.
Как мы соревновались
Лето стояло жаркое. Пока мы воевали, как-то сразу поспели и овес, и рожь, и яровая пшеница. Директор совхоза пригласил нас на «зажинки» старинный праздник, отмечающий начало жатвы.
По обычаю, в этом деревенском празднике участвуют те, кто помогал друг другу в уборке. И пионерам дело нашлось: директор предложил ребятам подтаскивать с поля и складывать снопы в копны.
Мы сразу сообразили, что здесь можно посоревноваться с нашими друзьями-соперниками.
Еще во время мирных переговоров мы предложили «побежденным» заключить договор о мире и дружбе, а поскольку дружба без дела мертва<p>— дружеское соревнование.
Вольновой это понравилось. Она сразу предложила целую программу соревнований: в беге, в прыжках, в метании копья, диска, в кроссе по пересеченной местности.
Все это было прекрасно, но нас не очень устраивало.
Мои ребята настаивали на соревновании не ради соревнования, а с какой-нибудь пользой.
Например, кто больше соберет грибов, кто больше накопает картошки, кто больше поймает рыбы, кто лучше сплетет корзинки.
Вначале мы провели несколько спортивных соревнований и здесь были побеждены. Нас обогнали и в беге и в прыжках в высоту. Наши взяли реванш в городошных соревнованиях. Но были огорчены, когда сам вожатый оказался побежденным Вольновой в. скоростном беге и даже в плавании.
Теперь я решил добиться победы в трудовом соревновании на совхозном поле. Я так увлекательно рассказал Софье о жнитве, в которой она никогда не участвовала, что она согласилась вывести отряд на совхозное поле.
На подмосковных полях рожь и пшеницу жали тогда серпами, овес и ячмень косили косами. А в совхозе уже были машины. Две пароконные жатки торжественно появились на поле. Одной правил знакомый нам толстяк Пуговкин, нарядный: в красной рубашке и в картузе с лаковым козырьком, другой<p>— бывший красноармеец, в своей военной форме. Кони<p>— в лентах. Девушки и женщины<p>— в праздничных платьях.
Оказывается, небольшие поля зерновых артели «Красный огородник» примыкали к совхозному клину, и они решили объединиться для уборки. Совхоз давал коней и машины, артель<p>— рабочую силу.
На первую коллективную работу все вышли, как на праздник, — и рабочие совхоза и артельщики.
Ах, как хорошо это было! Кони, помахивая лентами в гривах и хвостах, резво тронулись по краям поля. С веселым потрескиванием, помахивая, словно маленькие мельницы, крыльями, поехали жнейки. Послушно ложились подрезанные острыми ножами стебли пшеницы и сбрасывались крыльями-граблями аккуратными кучками на ровное жнивье. А позади дружно шли артельщики с пучками свясл на плечах, ловко собирали и связывали пшеницу в снопы и ставили их на поле солдатиками.
Вместе с вязальщиками работал и я, не отставая. Мои снопы были не хуже других. Но у ребят, как ни старались, ничего не выходило. Попробовала связать сноп Вольнова и тоже не сумела: то сноп рассыпался, то свясло не завязывалось. Не так это просто. Связать сноп<p>— искусство. Только исколола себе руки, смутилась, даже обиделась. Но огорчения были недолги. Когда снопы встали целой армией, ее пионерам нашлась работа.
— А ну, ребята, таскать в копны!
Вот было весело<p>— бежать в обнимку с душистым тяжелым снопом, который пышет жаром и щекочет тебе лицо и шею, тащить к назначенному месту вперегонки!
Здесь и Вольнова развеселилась. И мне было так хорошо, когда я услышал ее смех. Ребята подносили, а мы с Ритой складывали. Эта работа была мне знакома с детства, и действовал я ловко, при одобрении артельных.
Появившаяся тучка подстегивает ребят. Копны растут, как маленькие бастионы, составляя крепости. И, когда набегает озорной косой дождь, все наши пшеничные солдатики в крепости, а мы<p>— под их защитой.
Взяв за руки, Катя-большая и Маргарита тащат малыша в укрытие, и Май Пионерский летит на воздусях, визжа от восторга.
Девочки из опытно-показательного с такой завистью смотрели на нашего приемыша, что Маргарита, крепче прижав его к себе, бросила мне: «Еще украдут»<p>— и усмехнулась горделиво.
Как это замечательно<p>— сидеть под снопами, скрываясь от грозового дождя, прижавшись друг к другу! Пробежала, прогремела туча, заиграла радуга, заблестели дождевые капли на жнивье. И мы выбираемся из-под снопов, еще сохранивших тепло, сухими и невредимыми. Пережитая опасность, даже небольшая, нас объединяет.
В обед вместе со всеми уселись мы на снопах полдничать.
Артельщики принесли с собой кувшины с брагой, с квасом. Замечательным, праздничным кушаньем нам показалась полевая тюря<p>— черные сухари, размоченные в квасе, сдобренные луком и постным маслом.
Чудо, как вкусна эта еда после дружной работы в тени душистых пшеничных копен.
После еды пошли песни и танцы. У бывшего красноармейца оказалась гармонь, и под ее лады сплясал даже толстяк Пуговкин. Хитроватые маленькие глазки его так и сверкали.
— Вот, ребятки молодые, — говорил он, отирая пот красным платочком, вот так-то и будут работать люди при коммунизме. Дружно, с песней!
Обе жнейки стояли тут же. Кони ели овес, погрузив морды в мешки, одетые на головы, и вкусно жевали, двигая ушами.
Преимущество артельного труда было нам особенно наглядно потому, что рядом вышли на зажинки коломенские единоличники. Они жали серпами, почти не разгибая спины, медленно ползли по своим полосам.
Особенно нам бросилась в глаза одна старушка. Она жала на коленях. Ползла по своему загону, как улитка.
— Почему бы не принять ее в артель?
— Сама не хочет, старая колдунья! — ответил Татаринов, председатель артели. — Мы бы ее приняли, отчего же! Ее загон рядом… Мы бы ее вот так ползать не заставили. Дали бы ей курами-индейками командовать. Она мастерица птиц водить. У нее индюки важные, как царские генералы!
Как мы просвещали несознательных и боролись против суеверий
Может быть, ребята и не обратили бы внимания на эту отсталую старушку, если бы не одно нечаянно оброненное председателем слово<p>— колдунья!
Я уже слышал однажды горячий спор о колдуньях, ведьмах, нечистой силе.
Смятение в умы ребят внес Васька. В одно из своих посещений наш неотесанный друг-враг, как всегда, неожиданно стал задавать ребятам вопросы. У него было пристрастие экзаменовать наших пионеров. Добиваться, правильно ли они, по его мнению, понимают жизнь.
— Эй, пионеры, — спросил он, навивая кончик кнута, он всегда чем-нибудь был занят, — бога нет? — Обращался он только к мальчишкам, с девчонками, как правило, Васька не разговаривал, а только дразнил их.
— Нет, — ответил Котов.
— Правильно, летчики на небо поднимались, ничего там нету, чистый воздух. А нечистая сила водится?
— Тоже предрассудок, — ответили ребята.
— Вот и неправильно, — нравоучительно и даже осуждающе сказал Васька, нечистая сила есть. Лешего я сам видал. Заплутал в лесу в полдни, заморился, голова у меня закружилась. Тут он мне и показался. Так, вроде старичок, весь мшистый. Я к нему<p>— и сразу: «Дедушка, а дедушка, ты мне к добру иль к худу?» Обязательно так спросить надо. Он мохнатым ухом ко мне повернулся, послушал, а потом и говорит: «К худу… к худу… к худу!» Сказал до трех раз и пропал. Так за деревьями и скрылся.
Я положил на пенек ему хлебца, который еще не съел, а сам бежать. Прибежал в село, а мне говорят: «У тебя мать помирает…»
Рассказ Васьки взбудоражил ребят. Сколько ему ни доказывали, что это галлюцинация, что он все время думал о больной матери, парень стоял на своем. Привел многочисленные примеры, подтверждающие существование нечистой силы. Указывал на живых ее носителей, в том числе на своего хозяина, который «точно колдун», и на бабку Перевертиху. Она по ночам превращается в черную свинью и в колесо, которое само по себе по улице катится. Колдунья глазит людей, ставит ребятам, посмеявшимся над ней, «килы», наводит на скот хворь, наговором кровь останавливает… И ходить недалеко, ее изба с краю села.
Ребята старательно опровергали домыслы Васьки. Но несколько дней по ночам из палаток выходить побаивались, в темноте в парк не заглядывали, а у костра жались ко мне поближе.
И теперь сам председатель артели, коммунист, сказал «старая колдунья»…
Я и не думал, что это вызовет взрыв сомнений, да еще каких и с какими последствиями!
Мальчишки вдруг стали склоняться на сторону Васьки.
И первым отступником чуть не сделался Котов. Он стал рассказывать слышанные от бабушки истории, как нечистая сила подшучивала над его дедом в старости и отцом в молодости. Шариков вспомнил, что ему в детстве заговорили зуб…
И пошло. И все это втайне от меня. Неожиданными стойкими поборниками истины, противницами суеверия стали девочки, ненавидящие Ваську.
Теоретически они были сильны, но у них не хватало примеров из жизни.
Девочки тут же устроили тайный совет.
В течение нескольких дней затем происходили неизвестные мне брожения в умах и какие-то действия. А однажды девочки прибежали возбужденные, раскрасневшиеся, с радостными возгласами:
— Она не колдунья! Не колдунья! Нет, нет, вожатый, совсем другое!
И я был посвящен во всю историю.
Смелая Маргарита, бывшая Матрена, во всем похожая на мальчишку, неутомимая «споришка», Катя-большая, девочка с таким звонким голосом, что мы поручали ей читать приветствия, выступать на собраниях, и толстушка Рая бесстрашно отправились, улучив время, прямо к бабушке Перевертихе поговорить с живой колдуньей и выяснить раз навсегда спорный вопрос.
Вот ее жилище<p>— покосившаяся набок избушка с соломенной крышей, покрытой бархатным мхом, заткнутые тряпьем подслеповатые окна, низкая, вросшая в землю дверь. Перед домом разгуливают, красуясь друг перед другом, два индюка.
Вокруг избушки под застрехой висели и сушились пучки каких-то трав. На завалинке лежал кот на привязи…
При виде чужих индюки надулись, зашипели, прошлись перед избушкой, подметая пыль крыльями. А кот вскочил и стал стучать лапами в окно. На этот стук из двери вначале вылетела какая-то черная птица. Улетела на огород, и затем из огорода появилась старуха.
В одной руке она держала серп, в другой<p>— сжимала горсть сжатой крапивы… И крапива, по-видимому, ничуть не жгла ее. Взгляд исподлобья. Серые космы из-под чепца. Колдунья, да и только.
— Вот я вас, озорники, — хрипло сказала старуха.
Но, приглядевшись к оробевшим девчатам, вдруг улыбнулась.
— Да это не наши?
— Нет, нет, мы городские, — поспешили девочки.
— Признала, — ответила бабушка, — здравствуйте, город полотняный… маленькие солдатики… — Она приняла девочек за обитательниц опытно-показательного.
— Бабушка, — решительно сказала Рита, — мы пионеры. Мы ни в какие предрассудки не верим. А нам сказали, что вы колдунья.
Она впилась глазами в бабушку. А Рая достала свою заветную кожаную тетрадочку из-за пазухи.
— Ну-ну, — проворчала бабушка, — у нас народ<p>— кривой рот… наскажут… — и пошла в избушку.
Вслед за ней влетела галка, и это девочек несколько успокоило. Если бабушка шла сама по себе, а птица летела сама по себе, значит, это не она обернулась галкой…
С любопытством заглянули пионерки в жилье.
Весь передний угол избушки занимали сверкающие серебром и позолотой образа. Перед ними горела лампадка. Старушка долго крестилась, положив серп на лавку, а крапиву в корытце, и что-то шептала.
— Грех, грех, — сказала она, — я в бога верую, в святую троицу. Люди глупые. Людей лечишь<p>— говорят: колдунья. Травы собираешь<p>— ворожу… Глупы… глупы.
— Бабушка, а почему же говорят, что вы умеете превращаться… и в колесо… и в черную свинью? — напрямик резала Рита, не сводя со старухи пронзительного взгляда.
Неожиданно старушка надела очки, достала из-за икон книгу и прочла заголовок:
— «Определитель лекарственных растений». Вот и собираю и в аптеку сдаю.
Вопрос Риты она, казалось, оставила без внимания. Подав девочкам в руки справочник, достала другую книгу:
«Домашний лекарь».
— Когда у вас животы заболят, прибегайте, я вас вылечу! — и улыбнулась такой хорошей, открытой улыбкой, что девочки раз и навсегда решили: никакая она не колдунья.
Но теперь набожность бабушки поразила их воображение.
Как мы сотворили чудо
— Вожатый, а ты в чудеса веришь? — спросила Катя.
И все восемнадцать глаз «Красной Розы» уставились на меня.
— Верю.
— В чудеса святых угодников?!
Теперь я понял, откуда ветер дует. Это бабка-колдунья Перевертиха воздействовала на девчат<p>— не колдовством, так святовством.
— При чем тут святые угодники, каждый человек может сделать чудо. Стоит только захотеть, — сказал я.
— И мы? Мы можем сотворить чудо?
— А чего же, разве нам кто запретит? Захотим<p>— и сделаем! Не хуже какого-нибудь бабкиного святого. Кому она молится, чтобы ей снопы с поля помог свезти, кому свечи ставит?
— Николаю-угоднику, — сказала Рита.
Ого, вот как далеко дело зашло, немалую работу среди моих пионеров провела старушка!
— Очень хорошо. Я как раз Николай… А вы<p>— мои ангелы. И чудо мы сотворим сегодня же ночью.
Сказано<p>— сделано. Летняя ночь светла. Блестит река.
Темнеет парк. Спит деревня в серебристой дымке. Спит бабушка. Горит лампадка перед иконой Николая-угодника, а мы за него «батрачим».
Тихо, тайно, без крика, без смеха тащат пионеры каждый по снопу с бабушкиной полоски к ее амбарчику, а я прямо напротив ее крыльца складываю их в адоньку.
Нетрудная работа, а сердца бьются, замирая.
Лишь бы не проснулась старая. Лишь бы не облаяли нас собаки. Лишь бы не наткнулись какие-нибудь загулявшиеся парочки.
До рассвета, как тени, скользили по жнивью ребята «Спартака» и девчата «Красной Розы», от избушки к полю, без устали, без понуканий. Только бы успеть до зари.
Ведь они не просто работали<p>— творили чудо! И вот оно: озаренные лучами восхода, перед бабушкиным амбаром красуются в розовом свете снопы.
Бабушка спит, а «чудодеи» бодрствуют. Затаились в зарослях лопухов и крапивы и терпеливо ждут, как она проснется, как на крыльцо выйдет да как увидит… Это ведь самое главное, из-за чего старались!
Вначале бабушка Перевертиха ничего не заметила. Она вышла, зевнула, перекрестила рот. Потом стала умываться, цедя из рукомойника, висевшего у крыльца, скупую струйку и ополаскивая нос и рот одной рукой, как кошка лапой.
Вдруг взгляд ее мутноватых глаз остановился на снопах. Старушка протерла веки. Попятилась. Взяла зачем-то клюку. Обошла кругом. Потрогала клюкой снопы. Приложила ладонь к глазам, долго смотрела в поле. Дальнозорка была старуха, разглядела, что полоска пуста, копен ее там нет… Из них сложена аккуратная адонька.
Тут подпрыгнула бабка, бросила клюку, да в избу, да к образам, и прямо к Николе-угоднику. И давай молиться, и давай поклоны класть!
А нас как ветром подхватило. В овраг<p>— и ходу к лагерю.
Бежим, а от смеха животы схватывает.
— Вожатый, ей тебя целовать надо, а она Николу!
— Ой, здорово, мы<p>— ангелы!
— Ну, никто не поверит, никто! Дома хоть не рассказывай, как мы творили чудеса!
Забравшись в шалаши, «чудотворцы» проспали до обеда и не чуяли, что поднялось в деревне. На бабушкино «чудо» сбежались поглазеть и стар и мал. Перевертиха без устали рассказывала, как молила она Николу и вот сподобилась… Зеленин за перевозку снопов третью долю брал, а Никола-угодник за молитву перенес!
Бабы сразу поверили. Мужики чесали в затылках. Обсуждали чудо на все лады.
Когда до нас дошел весь этот шум, мы решили нанести окончательный удар суеверию. Отправились в деревню парадным маршем. Выстроились, ударили в барабан и продекламировали хором наспех сочиненные антирелигиозные частушки. О том, как угодники проспали, а пионеры не дремали.
При всем честном народе в доказательство, что «чудо» сделано нами, достали спрятанный в середину вымпел.
Увы, бабушка нам не поверила.
Она так разобиделась, что ребят в красных галстуках с тех пор видеть не могла. Грозилась клюкой и гонялась за ними.
Да и на селе нашу проделку повернули против нас же:
— Знаем мы, известно, это они, чтобы глаза отвести, свой вымпел-то подложили… Сами в бога не веруют и других попутать хотят. Чего уж там хитрить, было чудо, намелила Перевертиха! Послал ей господь за добрые дела!
Сколько ни возмущались наши чудодеи, сколько ни доказывали деревенским мальчишкам, девчонкам, малым и старым при каждой встрече, что это они сами, своими руками, перетащили снопы, ничего не помогало.
— Да ведь известно, вы в бога не верите, вам оно так говорить и полагается, — отвечали деревенские рассудительно.
Мы уж были и не рады, что так ловко побатрачили на Николу-угодника.
И сделали из всей этой истории вывод: вести борьбу с суевериями не так просто. Одно дело самим убедиться, что никаких божественных чудес не бывает, иное дело убедить в этом других.
Беда одна не приходит. Не успели мы пережить все огорчения из-за сотворенного нами «чуда», как новое происшествие потрясло наш лагерь.
Как мы огурцом «зарезались»
Прибежали посланцы «Красных огородников»:
— Выручайте, ребята, у нас огурцы горят! Драгоценные поздние огурчики для осеннего посола пропадают…
Листва жухнет, завязь желтеет, поливка большая нужна.
Зарежут нас огурцы… А мы на них так надеялись!
Вторую неделю стоял такой зной, что земля начала трескаться. Солнце всходило в багровой дымке. С востока веял сухой ветерок, от которого шелушилась кожа и трескались губы.
Друзей надо было выручать. И вот всем отрядом от мала до велика, лишь только солнце пошло на закат, вышли мы на поле нового боя. Артельщики достали насос у пожарной команды и посменно в поте лица качают воду из ручья и по шлангу подают в большой чан, установленный на краю огорода. А мы, выстроившись цепочкой, передаем ведра ближе к грядкам. Бабы, девки, артельная детвора и наши пионеры с ведрами, с котелками, с чугунками снуют среди грядок и поливают огурцы и редиску позднего посева.
Работаем до заката, при свете поздней зари. И уходим в лагерь, едва волоча ноги, но такие гордые, такие довольные собой, как будто мы выиграли сражение.
Так мы сражались три дня, пока не отлили желтеющие огурцы и не заставили посвежеть редиску.
За этим занятием и застали нас некоторые родители, явившиеся с вечера в субботу.
Они поначалу не огорчились, даже помогли нам и с удовольствием отведали свежей сочной редиски и огурчиков-позднышков, которыми угостили их артельщики.
Среди них были забавные сюрпризы: огурцы, на которых солнцем выгравировано «Рита», «Катя», «Игорь» и так далее.
Этому нехитрому искусству научились ребята от Васьки. От скуки он придумывал себе всякие забавы. Втайне обернет огурец травинкой и, когда на его зеленой коже образуется белая спираль на том месте, где травинка прикрыла ее от солнца, снимет огурец и забросит в речку:
«Это заколдованный», «На нем ведьмино тавро».
А на другом огурце выведет крестик и, поедая его, уверяет, что это «божий дар».
Но ребята уже не попадались так просто в его ловушки: вскоре, разгадав секрет, стали обертывать огурцы бумажками с прорезью из букв, тогда надписи получались темные на бледном фоне. Либо накладывали на огурцы слова из ивовых палочек, и тогда надписи получались белыми на темно-зеленом фоне. Иные огурцы делали рисунчатыми, разукрашенными замысловатой солнечной татуировкой.
Словом, превзошли Васькино искусство<p>— себе на горе.
Эти приметные огурцы преподнесли нам неожиданный сюрприз. И какой!
Уважаемые папы и мамы после краткого свидания со своими обожаемыми чадами вдруг собрались в гости к нашим друзьям-врагам в опытно-показательный. Оказывается, перезнакомившись в дороге с их родителями, они сговорились обменяться визитами по принципу «вы к нам<p>— мы к вам».
Наших пригласили к обеду, а мы пригласили гостей к ужину. Некоторые родители захватили с собой и детей, против чего я не смог возразить.
Беды не чуя, мы готовились к званому ужину. На этот раз задумали «удивить<p>— победить» омлетом с зеленым горошком да чаепитием с сотовым медом.
Происхождение этих яств было не простое. Целую корзинку яиц наменяли наши девчонки на нитки, иголки, наперстки и прочую галантерею, которую одолжила им мать Кости Котова из своих старых запасов, оставшихся от ее лоточной торговли.
Оказывается, когда наши распространяли книжки Мириманова, многие деревенские бабы спрашивали у них эти необходимые предметы обихода. Девчонки пообещали.
И вот результат<p>— корзинка яиц. Признаться, такая коммерческая операция меня весьма смутила.
— Ну, а что? Какая разница, одному нужна книжка, другому<p>— наперсток, доказывала Рита, — все равно мы хорошее дело сделали.
— В книжке главное<p>— распространение знания, — возражал я. — А это уже торговля!
— Ну что ж, а разве Ленин не говорил, «нам надо учиться торговать»? Так это наша, красная торговля.
Дискутировать было некогда, и мы приняли трофеи наших фуражиров в общий котел.
А вот с медом<p>— это была романтическая история. Несколько дней тому назад явился в наш лагерь неизвестный мальчишка и передал толстую книжку, аккуратно завернутую в плотную бумагу. Это был роман Новикова-Прибоя «Цусима». Посылал его нам Аркадий Гайдар с просьбой передать сапожнику.
Бывший матрос так обрадовался подарку, что наградил наших посланцев целой чашкой свежего сотового меда со своего пчельника. Оказывается, он был не только сапожником, но и пчеловодом-любителем.
Этими скромными дарами мы надеялись ублажить наших гостей.
Кроме того, каждому родителю в подарок мы заготовили по лукошку яблок. Эти лукошки из бересты нас научил делать все тот же Иван Данилыч. Они были невелики, вмещали всего по нескольку яблок, но выглядели подарочно. Беленькие, чистенькие, они так и манили наполнить их чем-нибудь вкусным. Втайне ребята надеялись, что родители в следующее воскресенье вернут лукошко, наполнив чаем-сахаром и конфетами.
Накануне мы помогли снять в саду поспевший белый налив и грушовку, проведя операцию «малой кровью», «с небольшими потерями»: только упал с дерева неугомонный Франтик, сильно поцарапавшись о сучки, и, как всегда, сумела приобрести занозы и ссадины толстая Рая.
Теперь в саду оставались дозревать самые ценные осенние сорта: антоновка, апорт, скрижапель, анис. Дележка яблок была проведена, как торжественная церемония.
Директор совхоза велел доставить в сад весы. Яблоки, уложенные в корзины, взвесили и разделили, поровну вначале между караульщиками и совхозом, а затем долю караульщиков поровну между пионерами и садолазами.
Многие деревенские мальчишки пришли на дележку с родителями, очевидно, те опасались, что их могут обмануть, как маленьких. Мужики и бабы сами проверяли весы и наблюдали дележ с торжественной серьезностью, свойственной в таких делах трудовым деревенским людям.
И, получив положенное, потащили по домам корзины с таким молчаливым достоинством, которым мы невольно залюбовались.
Доставшиеся нам корзины с яблоками мы поставили в шалаши для аромата.
Но, увы, приятный яблочный запах в шалашах не спас нас от грядущих неприятностей.
Неожиданно, тут же после обеда, дозорные заметили, что по направлению к нам движется из показательного лагеря, поднимая пыль, нестройная, шумная, жестикулирующая толпа.
Движение ее и шум по мере приближения к лагерю нарастали.
Мы сразу почуяли: что-то случилось, и что-то нехорошее… Иначе почему наши выкатились из гостей раньше времени?
Тревогу увеличили вырвавшиеся вперед Катя и Франтик. Они ревели, как маленькие.
— Обидно, — говорил Франтик, размазывая грязным кулаком слезы.
— Наша редиска! Наши огурчики! — причитала Катя.
Когда они немножко поуспокоились, выяснилось, что наши ребята, будучи вместе с родителями приглашены к обеду, увидели за столом у пионеров Вольновой наши именные огурцы!
Оказывается, они попали сюда в очередной партии овощей, которыми артель «Красный огородник», по договору, за известную плату снабжает опытно-показательный лагерь.
И ребятам это показалось очень обидно. О родителях и говорить нечего, они возмутились до глубины души тем, что их ребята работают на каких-то привилегированных детей.
— Как вам нравится, а? Наши дети огурцы, редиску выращивают, трудятся, а те запросто жрут! Да что же, наши ребята<p>— батраки, что ли, для них?
— Почему для тех четырехразовое питание бесплатно, а для наших шиш!
— Это в честь чего же такое неравенство? Одни живут в хоромах, на всем готовеньком, а другие<p>— на шишах в шалашах!
— Те живут, как в раю, наслаждаются, прохлаждаются, а наши на них батрачат в поте лица… Это что же такое творится? По какому такому праву?
— Нет, мы такого издевательства над своими детьми не позволим! Мы всю жизнь на других батрачили, а теперь наши дети!..
Родительский митинг продолжался до позднего вечера.
Никого уже не интересовал ни чай с медом, ни медовые яблоки. Все, что раньше казалось хорошим и славным, теперь казалось дурным. Чем раньше восхищались и умилялись, теперь возмущались:
— Те на кроватках, на белых простынках, а наши в этакой грязи, как каторжные!
— Тех мушка не потревожит, на окнах сеточки, а наших комарищи запросто жрут!
— Нечего сказать, добились мы для своих деток счастливого детства! На соломе спят, сеном покрываются!
— Это что же получается, одни любимчики, а другие пасынки? Нет, у Советской власти дети все равны!
— Мы этот порядок порушим!
— Мы в райком партии!
— Мы этому Районо докажем!
Попало, конечно, и мне как вожатому.
— Это почему Вольнова для своих такого добилась, а ты не добился?
— Мы думали, пионерам так и полагается, ан, оказывается, бывает и иначе!
— Ты чего же молчал? Зачем нас обманывал?
— Сам ты эксплуататор детского труда, вот ты кто!
Мы и о тебе вопрос поставим!
В довершение несчастья явились вдруг давно приглашенные мной продавцы из булочной с гитарой и с двуручной корзиной обрезков и, на радостях встречи, тут же выложили весь секрет, с довольными улыбками заявили:
— Буржуям оно это, может, и не по вкусу, зазорно кусочки подъедать, а пролетариям в самый раз! Налетай, ребята, таскай кому что нравится. Кому с мачком, кому с изюмчиком!
Родители восприняли это как ужасное оскорбление.
Последствия родительского бунта не заставили себя ждать. Меня вызвали в райбюро пионеров. По выражению лица моего друга Павлика уже было видно, какая его коснулась буря.
Взбунтовавшиеся родители под предводительством решительной вагоновожатой успели обойти все учреждения, от райкома партии до Районо, и везде учинили такой шум, что Павлику приходилось вертеться, как карасю на сковородке.
— И кто бы думал, — говорил он сокрушенно, — что наше доброе дело окажется для нас таким лихом!
Он сообщил, что вопрос этот по жалобе трудящихся будет стоять на очередном заседании Районо. Надо приготовиться к худшему.
Как жалко, что не было в Москве Михаила Мартыновича! Как я узнал во Внешторге, он уже уехал во Францию и теперь далеко от нас, в Париже.
Как отвечала Крупская на живые письма
Когда я, вернувшись в лагерь, рассказал, что родители возмущены не только несправедливостью по отношению к нам со стороны районных властей, они вообще не желают, чтобы мы жили в шалашах и сами добывали пропитание, ребята очень огорчились.
Как быть, как сохранить наше райское житье? У кого найти защиты, если и Райбюро, по-видимому, против? Дядя Миша<p>— увы, его с нами нет!
А может быть, мы ошибаемся и действуем неправильно? Нет, ведь мы юные ленинцы, а известно, что Ленин однажды жил в шалаше в Разливе. Это все знают.
И вдруг кто-то предложил:
— Давайте напишем письмо жене Ленина, Крупской.
Расскажем, что хотим жить по-ленински, а нам запрещают!
А потом кто-то догадался: зачем писать, когда можно задать вопросы устно. Прийти к Надежде Константиновне и сказать: мы<p>— живые письма!
Идея мне понравилась. И вот мы у костра уже разбираем проекты устных писем и намечаем, кого послать.
В конце концов избранными оказываются авторы самых дельных, коротких и ясных писем<p>— это наш «доктор паровозов» солидный Шариков, дочка вагоновожатой Рита и, представьте, малышка Катя-беленькая.
И, кроме того, мы решили захватить с собой нашего трудновоспитуемого Ваську<p>— уж если нашему воздействию он не поддается, может быть, Надежда Константиновна с ним справится!
— Васька, — сказали мы ему, — если с тобой поговорит жена самого Ленина, послушаешься, что она скажет?
— Жену Ленина послушаюсь, — сказал Васька, — как же, кого же тогда слушаться!
И вот в одно прекрасное утро вместе с ними я у проходной Кремля. Звоню Надежде Константиновне по телефону, говорю, что я вожатый отряда, а со мной живые письма, можно ли начальнику караула их пропустить?
Надежда Константиновна переспросила, что это значит, в каком это смысле они живые, очень интересные, действенные? И, когда я объяснил, рассмеялась:
— Хорошо, передайте трубку начальнику караула.
Начальник отнесся к нам доброжелательно, сам провел мимо строгих часовых и напутствовал с улыбкой:
— Только зря по Кремлю не бегайте! В прятки не играйте, а то вас потом не найдешь, не вытащишь!
— Ну, уж и Царь-пушку-то не посмотреть, — протянула Катя-беленькая.
— Только Царь-пушку<p>— и марш, как из пушки!
Мы пообещались и улетучились.
И вот мы у порога ленинской квартиры. Еще так недавно по этим ступенькам поднимался сам Владимир Ильич. Ребята идут по ним на цыпочках, притаив дыхание.
Войдя, мы отдали пионерский салют. Надежда Константиновна просматривала газеты. Встав из-за стола, она сняла очки и добродушными глазами осмотрела всю мою команду:
— Здравствуйте, хитрецы! — И обратилась к самой высокой<p>— Рите: — Ну, начинай, ты будешь первым говорящим письмом.
— Здравствуйте, дорогая Надежда Константиновна! — Рита нарочно подражала чтению письма. — Пишут вам пионеры отряда имени Буденного. Мы решили все лето прожить в шалашах, как товарищ Ленин в Разливе! А нам хотят запретить. Говорят, что мы простудимся и заболеем, вместо того чтобы набраться здоровья. Но ведь Ильич-то не простудился!
Надежда Константиновна улыбнулась, тень хорошего воспоминания прошла по ее лицу.
— Нет, не простудился… Даже посвежел. Но жил он в шалаше по необходимости, — подчеркнула она, — а вам это зачем?
— А мы принципиально! — заявила Рита.
— Вот это неправильно. Ильич в шалаше скрывался от белогвардейских шпиков, а вам от кого скрываться? Но это вопрос непринципиальный. Летом жить можно где угодно: в палатках, в помещении сельской школы, даже в шалашах. Главное<p>— вести себя по-ленински.
После этих слов тут же изобразил говорящее письмо Шариков:
— Дорогая Надежда Константиновна, наше пионерское звено «Спартак» решило вести себя в пионерском лагере по-ленински. Не тянуть все с государства, а самим добывать себе пропитание. Мы слышали от одного старого большевика, что Владимир Ильич, живя в Разливе, сам ловил рыбу, варил уху, косил сено для Емельяновых, а они привозили ему хлеб и чай-сахар…
— Ну, Ильич, конечно, не за чай-сахар косил сено, — прервала Крупская. — Это нужно было для маскировки.
Ведь Емельяновы выдавали его за рабочего, которого они наняли на покос. Но действительно, стожок он накосил, и не маленький… И если так считать, то, пожалуй, и верно<p>— на хлеб себе заработал. — Тут Надежда Константиновна рассмеялась. — Вот какие вы дотошные, я как-то никогда об этом не думала!
И она снова примолкла, вспоминая. Мы притаили дыхание, словно сейчас вот она обернется и позовет… и из комнат выйдет Ленин и сам расскажет нам, сколько он накосил сена в Разливе.
— Косил Ильич с удовольствием. Он очень любил физическую работу…
— И мы! И мы тоже! — радостно вскрикнули живые письма.
— Мы на хлеб себе можем заработать, плетя корзинки… для совхоза. Они очень нужны. Нас Данилыч так научил. А родители против. Говорят: «Это эксплуатация детского труда», «Это неправильно», «Детям все должно обеспечить государство», «Четырехразовое питание!».
Выражение лица Надежды Константиновны как-то переменилось. Стало настороженным.
— Да? Такие возникают проблемы? Ну, не знаю, что вам посоветовать. Конечно, дети рабочих имеют право на заботу государства. Однако такие иждивенческие настроения нехороши… Приучать детей смотреть в руки государства? — Она думала вслух и вдруг спросила: — А вам самим-то как интересней?
— Вы знаете, когда картошка выкопана своими руками, какая она вкусная! — выпалил Шариков.
— А заработанный в совхозе хлеб, когда его ешь, — крошечки не уронишь! Держишь в горстке! — добавила Катя.
— Сколько тебе лет? — заинтересовалась Надежда Константиновна нашей малышкой.
— Мне уже десятый… Это я только ростом такая маленькая, — ответила Катя и тут же без запинки начала читать свое заветное письмо: — Дорогая Надежда Константиновна, мы, пионеры звена Розы Люксембург, хотим ликвидировать неграмотность, бороться с суевериями, но у нас это пока не получается. Нагл попался очень трудный случай. В деревне мы нашли маленького батрака, сироту Васю. Он такой несознательный, что верит в нечистую силу и нас убеждает, будто она есть. Никак ему не докажем. А главное, он любит кулака, который его эксплуатирует. Кулак его бьет, а он говорит: «Я за него бога молю. Ен, — говорит, — меня кормить». В церковь ходит, свечки ставит. Как его нам перевоспитать, не знаем.
— Где же такой несознательный батрак? — спросила Надежда Константиновна.
— А вот он здесь!
И все обратились к Ваське, который стоял истуканом, уставившись на Крупскую своим немигающим взглядом.
— Вот этот? — От удивления Надежда Константиновна даже надела очки. Как же это ты, Вася, батрак<p>— и вдруг за кулака?
— А он меня кормить, — подтвердил Вася.
— Значит, если мы тебя будем кормить, ты будешь за нас?
— Ага… чего же, могу!
— Ну хорошо, мы устроим тебя в детский дом, ты сирота? У тебя нет родителей?
— Батьку беляки зарубили на войне, матка от горюшка померла…
— Ах, Вася, Вася, ты наш человек, а сознание тебе прививают чужое! Почему ты с пионерами не дружишь?
— А я с ними дружу.
— А зачем же ты нас ругаешь? Дразнишься? — не выдержала Катя.
— Это я не со зла. Скушно мне. Завиствую вашей жисти.
— Понятно, — сказала Надежда Константиновна.
Сказала она это так, что нам вдруг стало понятно Васькино одиночество, его тоскливое чувство, с которым он наблюдает нашу жизнь, не имея возможности войти в нее и зажить вместе с нами.
— Тебе надо быть в коллективе, Вася.
Крупская написала записку и, вырвав листок из блокнота, передала мне, чтобы я пошел вместе с Васькой в Гороно, там его определят в детский дом для сирот гражданской войны. Посмотрела на часы и, вздохнув, стала озабоченно собираться<p>— ей было пора на службу.
— Ах, Вася, Вася, — повторяла она машинально, — наш человек, и вот…
Мы почувствовали себя очень неловко, что так разволновали Надежду Константиновну судьбой нашего упрямого Васьки.
Надежда Константиновна поехала в Наркомпрос, а говорящие письма еще долго носились по Кремлю. Васька сумел даже залезть в дуло Царь-пушки, ему помогло то, что он был босой.
Как меня топили и вытаскивали
Неожиданно в будний день появилась мать Кости Котова, одетая непразднично. Ни роскошной шали с кистями, ни плисовой душегрейки, ни юбок с оборками на ней не было. Вид был строгий и даже несколько торжественный.
— Я в Красную чайную поступаю. Открывается такая у Павелецкого вокзала для ломовых извозчиков, — заявила она ребятам. — Когда у меня сын в пионерах, не могу я в торговках состоять. Буду теперь советская служащая.
Костя принял это заявление как должное. А ребят оно очень обрадовало. Девочки облепили Авдотью Карповну и наперебой старались сделать для нее что-нибудь приятное. Водили в сад, угощали яблоками. Ласкались к ней.
И были в совершенном восторге, когда она заявила, что до открытия чайной решила пожить вместе с нами, помочь во всем, особенно в готовке пищи.
Мы немедленно соорудили ей индивидуальный шалаш и сдали на руки все наше кухонное хозяйство.
При ее помощи мы быстро наладили регулярную кормежку ребят и приготовились в очередное воскресенье покорить родителей четырехразовым питанием с нормальным обедом, с горячим вторым и сладким компотом на третье.
Но тут меня вызвали на заседание районе.
Оставив лагерь на попечение бывшей базарной торговки и будущей советской служащей, я отправился в Москву.
Ничего хорошего я, конечно, от этого вызова не ожидал, достаточно предупрежденный Павликом, но горькая действительность превзошла мои ожидания.
Заведующий Районо прямо начал с моего самовольства.
Поставил мне в вину обман вышестоящих организаций.
Вывезя ребят в Коломенское всего лишь на экскурсию, я создал «дикий», никем не разрешенный лагерь.
Не имея никаких на то прав, поставил под угрозу здоровье детей, поселив их в антигигиенических условиях.
Взвалил на плечи детей непосильные работы по самообслуживанию. Допустил прямую эксплуатацию детей, заставив их трудиться на артель «Красный огородник» и в совхозе.
Развивал дурные инстинкты, посылая ребят выменивать разные предметы на продовольствие.
Допускал хулиганские выходки, затевая драки с представителями местного населения. Подумать только<p>— однажды избил батрачонка!
Чем дальше говорил заведующий, тем больше я ощущал себя преступником.
Кончил он тем, что все сигналы трудящихся о неблагополучии в «диком» пионерском лагере, организованном по собственной инициативе вожатым 26-го отряда, подтвердились. Лагерь необходимо немедленно закрыть.
А вопрос о поведении вожатого поставить по комсомольской линии.
Затем выступила Вольнова и сказала, что я своей анархической затеей только компрометирую пионерское движение и идею летних оздоровительных лагерей. Что нам нужно не разбрасываться, а организовать только несколько образцово-показательных по принципу «лучше меньше, да лучше»<p>— таких лагерей, с которых можно было бы брать пример. Пионерам не к лицу играть в юных дикарей.
Она поставила мне в вину случай с делегацией французских коммунистов.
Из-за моего своевольства во французской прессе появились фотографии советских детей в дикарских шалашах, у самоваров, за игрой в чехарду, то есть никак не отражающие настоящей пионерской жизни. Развесистая клюква, словом. И все из-за меня!
Потом выступила одна педагогическая девица и с научной точки зрения доказала вредность моей затеи с самообслуживанием: забота о хлебе насущном принижает психологию детей. Они больше думают о низменных вопросах бытия, чем о высшем назначении социалистического человека.
Когда мне предоставили слово, я не стал ни в чем оправдываться, а сам перешел в наступление. Основной мой тезис сводился к следующему:
— Вы извращаете ленинский тезис: «лучше меньше, да лучше». Пока вы создаете ограниченное число опытно-показательных лагерей для немногих, массы пролетарской детворы должны жить в городе. Мы хотели показать путь, следуя которому все ребята, а не избранные, смогли бы провести лето на вольном воздухе, среди природы, не дожидаясь, пока разбогатеет государство и даст всем такие возможности. В порядке самодеятельности можно двинуть в летние лагеря всех городских ребят!
Язык у меня был подвешен неплохо. Опыт дискуссий на комсомольской работе тоже был немалый.
Я воспользовался всем, чем мог. И конечно, мнением Крупской о том, что приучать ребят с детства к иждивенческим настроениям нехорошо.
Приободренный моей контратакой, Павлик выступил в том духе, что парень я, в общем, хороший и зла не хотел, действовал не из корыстных побуждений, а руководимый самыми добрыми намерениями. И что на этом заседании вопрос идет не о личности вожатого, а о самой идее самодеятельного лагеря. Правомочна ли сама идея<p>— вот в чем вопрос, а не в том, плох или хорош вожатый.
Его выступление послужило сигналом к тому, что присутствующие на заседании родители один за другим стали меня хвалить да похваливать. И слесарь Шариков, и воинственная вагоновожатая, и слаще всех адвокат.
И вдруг, после того как я был весьма разнежен похвалами, неожиданно краткая и жестокая резолюция:
«Летний лагерь пионерского отряда № 26, как не отвечающий санитарным условиям, закрыть. Пионеров перевести в опытно-показательный лагерь района».
Как обсуждали дневник Раи
В расстройстве чувств возвращался в свой отряд. Почему-то не отставала от меня ни на шаг Вольнова. Совесть, что ли, ее мучила?
Мы ехали вместе в трамвае. Потом пошли вместе пешком. Она все пыталась заговаривать о том, что выступила она не против меня лично, а против ложных моих взглядов, что она поступила честно и по-товарищески. Что так мы и должны вести себя в жизни, быть принципиальными и не изменять своему долгу даже ради дружбы.
Наше товарищество строится не на круговой поруке, не на приятельстве… и так далее. Я отмалчивался. И это смущало ее и словно подстегивало к дальнейшему объяснению.
— Нужно думать не только о себе и своем «я». Если это лучше для всего коллектива<p>— тут свои обиды надо отбросить, как шелуху. И нечего дуться все твои ребята попадут в лучшие условия, а это главное.
Слушал я, слушал и вдруг вспомнил про опыт с лакмусовой бумажкой, когда-то поразивший меня в школе.
Посмотрел я неожиданно прямо в красивые глаза Вольновой и сказал только два слова?
— Май Пионерский?
Вольнова вздрогнула и сказала церемонно:
— Могу вас заверить, дорогой товарищ, что у меня найдется достаточно сил и средств, чтобы определить сию персону в лучший детский дом для малышей непионерского возраста.
Я замолчал. Вольнова снова пустилась в рассуждения о правильности своих поступков и воззрений. О своем хорошем отношении ко мне.
Послушав ее, я через некоторое время опять произнес те же два слова: Май Пионерский.
Она вспыхнула. Рассердилась. Затем смягчилась и стала доказывать мне логически, как вредно для мальчика и для пионеров, если он останется в лагере. И всю пользу водворения его законным порядком туда, где и надлежит воспитываться малышу. Там их воспитывают опытные, знающие свое дело люди. А пионеры<p>— ну какие же они педагоги? Их самих нужно воспитывать, не то что доверять им воспитание несмышленыша малыша!
Малыш будет служить для ребят просто забавой. Отвлекать их от чисто пионерски-х дел, мешать продуманному распорядку дня.
Я слушал, молчал и, как в сказке про белого бычка, снова повторял одно и то же: Май Пионерский.
В конце концов это совершенно вывело Вольнову из равновесия, и, схватив меня за пиджак, она закричала, притягивая мое лицо к своему и впиваясь взглядом:
— Это розыгрыш! Ты хочешь меня заставить ради твоих прекрасных глаз нарушить долг, поступить нелогично, вопреки своим убеждениям! Как тебе не стыдно требовать такой жертвы ради нашей дружбы!
— Успокойся, — сказал я по-настоящему грустно, — я просто хотел узнать, способна ли ты поступить по сердцу.
А малыша я и без тебя могу устроить. Отвезу его к своим родителям, и там ему будет лучше всего. Я давно об этом думал, но у меня не хватало жестокости лишить отряд сына!
Пока мы подошли к лагерю, наступил поздний вечер, но, к моему удивлению, наш шалашный лагерь не спал.
Заслышав возбужденный говор, я ускорил шаги, не пригласив с собой Вольнову. Она ушла по дороге в свой опытно-показательный в задумчивости.
Но чем же возбуждены ребята? Что так шумно обсуждают они на ночь глядя?
— Наш вожатый<p>— кентавр, а?
— Ну, знаешь, это даже всем отрядом придумать невозможно, чего ты одна наплела!
Ничего не поняв из отдельных, донесшихся до меня возгласов, я подбежал никем не замеченный и увидел в центре ребячьего круга Раю-толстую.
И вскоре все выяснилось. Отряд обсуждал ее дневник, в котором были записаны события нашей жизни в таком странном виде, что даже у меня дух захватило.
Вот отдельные, запавшие в память «перлы» Раиного стиля:
«Когда он бежит, едва касаясь земли, загорелый, стройный, мне кажется, что это несется среди луговых цветов скифский бог».
Когда же это я так бегал? Ага, по жнивью, высоко поднимал ноги, чтобы не уколоться, а она<p>— по цветам для красивости изобразила, врушка!
«И вдруг я увидела<p>— прямо на нас, держа в руках наши развевающиеся одежды, скачет кентавр. Мои подружки бросились в кусты. А я осталась, ноги мои подкосились…
Мне казалось, что я перенеслась во времена мифов<p>— схватит меня кентавр и умчит под жалобные крики подруг».
Ага, это когда я, догнав Ваську и отняв у него девичьи платьишки, примчался к ручью на неоседланной кляче.
Рая действительно стояла с каким-то обалдевшим видом… Оказывается, пионервожатый показался ей кентавром!
Задохнувшись от досады, я стоял, не в силах ни двинуться, ни произнести слова.
А дальше мне становилось все горше. Если вначале я обиделся только за себя, негодуя, что пионерка могла сравнивать своего вожатого с кентавром, то сердце мое вознегодовало еще больше, когда я узнал, как посмеялась толстуха над всеми ребятами.
Вы помните, как Рая тонула? И как мы ее спасали и оживляли при помощи искусственного дыхания? Так вот, оказывается, все это она разыграла нарочно! Ей захотелось привлечь к себе мое особое внимание. И, когда я, как простак, в поте лица оживлял ее при помощи искусственного дыхания, она сдерживалась, чтобы не рассмеяться от щекотки! Она была в полном сознании, притворщица!
Она слышала, что мы говорили, как сокрушались, как ее жалели, и испытывала оттого великое удовольствие.
Она даже воды в рот набрала нарочно.
«Не так-то просто, брат, перевоспитывать чуждый элемент. Нам, простым людям, и нарочно не придумать, что они, буржуазные интеллигенты, могут выкинуть», — возникла у меня в уме какая-то знакомая и словно не моя фраза. И вдруг вспомнилась насмешливая улыбка дяди Миши. Конечно, он отнесся бы к этому приключению насмешливо!
Я немного пришел в себя и удержался от опрометчивых решений. И правильно сделал. Через минуту я уже с улыбкой слушал суждения ребят о причудах толстой Раи.
Самым любопытным было решение этого своеобразного товарищеского суда.
— Гнать-то мы ее не будем, просто дура. А вот воспитывать Мая больше не дадим, — сказал Шариков, важно поправив очки.
— Конечно, — подтвердила Маргарита, — пусть и не думает теперь ходить с ним за ручку одна, рассказывать свои сказки. Чему хорошему она может малыша научить, когда у нее такой мусор в голове, скифские боги, кентавры разные!
— Отдать бы ее опытно-показательным, если она такая эгоистка! презрительно крикнул Игорек.
После этих слов я быстро вошел в круг. Я не мог сразу сказать ребятам, вспорхнувшим вспугнутой стайкой, о том, что им всем предстоит отправиться туда, куда он-и в наказание хотели отослать толстую Раю.
— Поздно, поздно, — отговаривался я от расспросов, — все новости будут завтра, а теперь спать, спать, по палаткам!
Ребята разбрелись по местам, но долго еще в шалашах шел говор и слышались всхлипывания толстой Раи.
Как был разрушен «Карфаген»
Тихо подкрадывается летний вечер, окутывая голубой дымкой леса, поля и долы, опушку старинного парка.
Я стою на берегу Москвы-реки и смотрю, как догорают последние головешки от наших чудесных шалашей.
Среди пожарища бродит лишь Иван Данилыч, поправляя вырезанной из ивняка, сырой, слегка обуглившейся палочкой костерки, подгребая в них клочья соломы, листьев, всего мусора, что остался еще на месте «дикого» лагеря. Ему поручено проследить, чтобы куда-нибудь не перекинулся огонь. Сквозь дымок, причудливо вьющийся на темном фоне старых деревьев, перед моим взором проходят печальные события последних дней.
Проводить решение Районо в жизнь явились вместе со мной и Павлик наконец-то! — и сам заведующий Районо. Он и предложил сжечь наши славные шалаши, чтобы не оставлять «очаг заразы».
К моему удивлению, ребята отнеслись к этому даже весело и сами охотно помогали рушить наши легкие сооружения и пускали по высохшим ивовым прутьям «красного петуха».
После «очищения огнем» отряд наш построился, и под развернутым знаменем, под звуки горна и треск барабана мы вошли на территорию опытно-показательного не как побежденные, а как равные.
Ведь мы не были бедными родственниками, которых приняли из милости, «на текущем счету» в совхозе у нас еще оставался «капитал», на старых могучих яблонях дозревала немалая доля сбереженного нами урожая.
Мои ребята чувствовали себя в некотором роде победителями, ведь они добились главного<p>— права провести лето среди природы на речке, на свежем воздухе.
Не выйди мы на экскурсию, не построй шалашей, не останься в них, не попытайся прожить по-дикарски «на подножном корму», ничего бы этого не было. Все наши труды в поте лица, вся наша борьба прошла недаром.
Признаюсь, я испытывал, как ни странно, некую гордость, сдавая своих буйных «запорожцев» с рук на руки Вольновой. Вот хотела она или не хотела, а пришлось ей признать право на жизнь и этого «дикого» отряда, состоящего из самых разных ребят городской бедноты, а не из одних ее избранников!
Не все же выбирать ей ребят в пионеры. Мои ребята сами захотели быть пионерами<p>— и стали ими. Сами решили выехать в лагерь<p>— и выехали.
Начальство уничтожило только ведь малокомфортабельные шалаши, но отряд не распался. Отряд вошел в общий пионерский лагерь спаянным, дружным, закаленным. Правда, без своего вожатого, но Мая Пионерского ей все же пришлось принять. Уступила все-таки.
Долго я стоял с заспинным мешком за плечами и все не мог оторвать глаз от догорающего лагеря. Почему чувство какой-то щемящей грусти владело мной?
Ведь я, по существу, сделал свое дело! Теперь надо подумать и о себе. Решение райбюро и Районо ничем для меня не позорно. Наоборот, теперь я свободная птица и оставшийся кусочек летних каникул могу провести, как и мечтал, у себя на родине!
Я мог ехать домой, в приокские просторы, с чистым сердцем.
Признаться, у меня не осталось денег уже не только на обратную дорогу, но даже и туда, до станции Сасово.
В кармане какая-то мелочь. Три червонца, что были на сохранении у Кожевникова, он отдал Мириманову за книжки. Мы успешно распространили их, но на такую деревенскую валюту, от которой осталась только скорлупа.
Впрочем, это не очень огорчало меня, а вызывало улыбку.
До дому решил я доехать простым мальчишеским способом: сесть в лодку да и поплыть. Прокормиться на такой реке, как наша красавица Ока, до которой доберусь я по Москве-реке вниз по течению быстро, ничего не стоит.
Первая же пойманная щука<p>— обед и ужин у любого бакенщика. Пара судаков<p>— хлеб и соль у любого повара на пароходе. Стада коров в луговой пойме не оставят меня без молока. Поля картофеля не пожалеют же для меня пригоршню картошки! И старые пастухи и молодые доярки<p>— кто не примет в компанию веселого паренька восемнадцати лет, умеющего подойти и к старым и к молодым со всей ловкостью комсомольского активиста!
В предвкушении всех будущих встреч и приключений я уже улыбался, поглядывая на дотлевающие угольки горьковато пахнувшего пожарища.
Хлопотливый Иван Данилыч затаптывал подошвами валенок, смоченными в ручье, последние опасные очажки огня и говорил мне:
— Плыви, бери лодку и плыви. Отдам я тебе свое заветное весло. Чего же, пользуйся, милый, мне оно уже ни к чему. Пускай у тебя будет как память. Доброе весло, из дубовой доски тесанное, стеклом шлифованное, моими руками полированное. Крепко<p>— как кость, гибко<p>— как сталь, легко<p>— как перышко…
Он был единственным посвященным в мой план и содействовал по мере сил. Лодка<p>— законопаченная просмоленной паклей, его же подарок<p>— уже покачивалась под берегом в камышах. Я ждал его весла и сумерек, чтобы отправиться вниз по реке. Мне не хотелось засветло проплывать мимо опытно-показательного, чтобы не тревожить ребят, не волновать собственного сердца.
Со всеми я мысленно попрощался. И, казалось мне, никого не жалел. Все отлично устроились и проживут без меня. И Катя-беленькая, и Рита, бывшая Матрена, и несгибаемый Костя, и самоуверенный Шариков, и фантазер Франтик, и даже Игорек<p>— за него теперь нечего бояться.
Проживет и София Вольнова, она теперь может быть довольна: «Карфаген» наконец разрушен, и ее друг-враг не будет постоянно ей противоречить, она может развернуться вовсю, считая свой метод воспитания самым разумным и лучшим.
Грустью веяло на меня от сознания того, что я прощаюсь сейчас с чем-то необыкновенным и неповторимым в моей жизни, чего уже не вернуть никогда.
— Ну, что же, пойдем! — сказал Иван Данилыч, дотрагиваясь до меня рукой, вкусно пахнущей ивовым дымком. — Пойдем уж, отдам я тебе весло. Заветная вещь, понимай!
И мы пошли, оставив теплый после пожарища берег, в его избу, такую же кособокую и староватую, как он сам.
Там я получил драгоценное весло, полкраюшки хлеба домашней выпечки, соль в холщовом мешочке и коробок спичек в берестяной коробочке, облитой изнутри воском, чтоб не подмокли.
Как приятно править кормовым веслом
Если вы спросите, что доставляет мне самое устойчивое поэтическое наслаждение, не истребимое ни временем, ни годами, отвечу не задумываясь: путешествие вниз по реке на рыбацком челне.
Что может быть прекрасней, когда плывешь на этом волшебном, выдолбленном из старой ветлы кораблике по живым, чутким струям реки! Чуть шевельнешь веслом<p>— челнок уже послушно поворачивает.
Сидишь на корме, слегка только правишь и чувствуешь, как тугие струи воды несут тебя, чуть покачивая, баюкая тихим говором, мимо гибких ивовых кустов, которые могут и охлыстнуть, не больно, шутливо. Мимо песчаных кос<p>— золотых, как девичьи. Мимо темных обрывов. Мимо красных и черных лесов, подступающих к берегу. Мимо сел и деревень, мерцающих в мареве на холмах за поймой или вдруг возвышающихся на крутизне, опрокинувшись в зеркало вод золотыми и синими куполами церквей.
Можно так плыть без конца: утром<p>— наслаждаясь тишиной и свежестью рассвета; в полдень<p>— впитывая всю щедрость солнца; вечером<p>— любуясь необыкновенными красками заката; ночью<p>— по лунным дорожкам, гася веслом звезды, очутившиеся в синей воде под кормой.
Плыви один. В этом святом одиночестве наедине с матерью нашей природой распахивается душа, отдыхает сердце и к тебе приходят, как самые верные, лучшие друзья, прекрасные мысли.
Это то хорошее одиночество, которое необходимо для восстановления духовных сил, как сон необходим для возобновления сил физических, его часто ищут люди, сознательно или бессознательно стремясь остаться наедине с самим собой, чтобы «одуматься», как говорят мудрые деревенские старики. И вот что удивительно<p>— это уединение среди природы никогда не навевает ничего дурного, что может одолеть человека при одиночестве в тесной городской комнате, в номере гостиницы, даже в незнакомой городской толпе.
В таком одиночестве плыл я тогда, оттолкнувшись от берега реки Москвы под Коломенским. Позади сверкал огнями шумный город. Впереди сгущалась ночная тьма.
Наедине с собой, в тишине окружившей мою лодку первозданной природы я пытался «одуматься», понять, что со мной произошло, что было хорошего и дурного во всей истории с самодеятельным лагерем. Мне казалось, что я был на правильном пути, но чего-то не додумал, не доделал, допустил какой-то просчет.
Жалел я ребят, оставшихся без моей поддержки. Как-то они теперь? Как им спится в помещении сельской школы после шалашей? Как-то им живется при новом распорядке дня, с неумолимой четкостью проводимом Вольновой? Как они чувствуют себя под ее мудрым и строгим руководством? Такие они все разные, трудновато им будет отказаться от собственных фантазий и подчиниться ее распорядку жизни.
А может быть, и ничего? Так все и нужно? Будущее требует не фантазеров и неугомонов, а послушных исполнителей единой воли? И мое сопротивление этому<p>— действительно неосознанный бунт анархических элементов, оставшихся в моей натуре от крестьянской стихии?
Этого вопроса решить я тогда не мог, но я думал, думал, рассуждал, а это так полезно в восемнадцать лет!
Но вот настал какой-то момент, и мне захотелось поделиться своими мыслями с другими. И до нестерпимой остроты захотелось сейчас же, немедленно очутиться на комсомольском собрании, оформить эти мысли речью.
Добиться истины в споре. Моя социальная природа вдруг взбунтовалась. Я даже притормозил ход лодки веслом.
А может быть, я это сделал потому, что меня окликнули.
Потихоньку, негромко, но таким знакомым голосом, что я сразу услышал и узнал его.
— Вожатый! Вожатый! — окликнул меня Игорек.
Вздрогнув, как от удара током, сдерживая дыхание, ощущая, как сладко и больно забилось сердце, я сразу направил лодку к берегу. Дно ее мягко вползло на прибрежные камыши.
— Это мы, — сказал Игорек, — я и Франтик… нас послали ребята. Они решили убежать с тобой на Оку!..
И если ты нас примешь<p>— подадим знак, и… и все в порядке.
Услышав такое, я сильней поддал нос лодки вперед и выпрыгнул на берег.
Как готовилось бегство пленных
И вот мы стоим на берегу и шепчемся, как заговорщики. Игорек крепко держит меня за палец, словно боится упустить. Франтик держится за весло, на которое я опираюсь.
— Не можем мы так жить, понимаешь, вожатый, — шепчет Игорек, — она с нами, как с маленькими.
— Встать, сесть, вольно, шагом марш, делай то, делай это, пой песню, молчи<p>— все по заказу! Так жить совсем неинтересно, — шепчет Франтик.
— А почему вы шепотом? Разве забыли наше постановление<p>— долой шепоты, пионер все говорит всем своим товарищам открыто!
— Э-э… Нет, мы теперь затаились!
— Нас все время подслушивают!
— Кто, почему?
— А потому. У нее есть специальные такие девчонки<p>— наушницы.
Мне не поверилось.
— Чепуху вы говорите. Скучно вам, вот и придумываете, для таинственности.
— Ох, скучно, — согласился Франтик. — Ну как будто вернулись в школу. И спим в классном помещении, и командует нами учительница.
— Мы уже запасли хлеба, соли, сухарей…
— А «Красная Роза»?
— Тоже с нами, девочки в курсе.
— И не проболтались?
— Нет, что ты, вожатый. Это же свои девочки, а не то что ее подручные…
— Куда же я вас возьму в такую маленькую лодку?
Она ведь на двоих, в крайности втроем можно…
— А мы свяжем плот. Мы разведали<p>— немного дальше лежат на берегу бревна… много бревен. Мы уже заготовили веревки. И потом ты же сам говорил, можно связать ивовыми прутьями.
— А на плоту построим шалаши.
— Вот будет здорово<p>— плавучий лагерь! Какие же фантазеры вы, ребята! Что мне с вами делать? Плыву я к себе домой, мне с вами возиться некогда. А главное, не могу я вам позволить нарушить пионерское слово<p>— бросить недокарауленный сад, оставить на разграбление яблоки.
— Так мы уже бросили!
— Почему?
— Она велела снять караулы. Теперь там обыкновенные сторожа, с ружьями. Нам терять нечего, ничто нас теперь не держит… Все равно убежим! И Мая с собой возьмем.
Дело принимало дурной оборот.
— Да что вы, маленькие, что ли, бегать потихоньку?
Вы же пионеры. Можете все делать не таясь, открыто.
— Ну да, попробуй-ка. Нас стража сторожит.
— Нанятые дядьки с ружьями. На ночь калитка в лагерь запирается. Живем как пленные.
— Эге, это дело серьезное. Как же тут можно убежать?
— Это нетрудно. Они же старики, дремлют.
— Проскользнем…
— У нас уже все продумано.
Вот уже на какие действия подталкивало ребят противодействие Вольновой их самодеятельной жизни.
Попросив разведчиков передать отряду, что могу их взять в путешествие только открыто, по-честному, под знаменем, с горном и барабаном, я дал слово, что не уплыву один.
Игорек и Франтик исчезли, словно тени, а я, переждав немного, так же по-пластунски, минуя сторожей, направился к палатке Вольновой. Надо было по-товарищески поговорить с ней с глазу на глаз.
Сквозь дверцы ее палатки пробивался свет. Доносились негромкие голоса. Я поборол искушение подслушать и, приподняв полотнище, сказал:
— Разрешите!
При моем появлении девчонки, сидевшие за столом напротив Вольновой, сразу смолкли, и по их смущению я понял, что это наушницы. А по лицу Софьи сразу догадался, что вести, сообщенные ими, так ее взбудоражили, что она готова вцепиться мне в волосы.
— Вот неожиданность, — проговорила она сквозь зубы.
Я сделал ей знак удалить наушниц. Она приказала им одним взглядом, и девчонки улетучились.
— Соня, — сказал я без обиняков, — ребята собрались от тебя убежать вместе со мной на Оку. Ты знаешь об этом?
Она кивнула, невольно смутившись.
— Ну да, тебе только что доложили… Не знал и не ожидал, признаться, что от твоих мечтаний об организационной четкости пионерских рядов ты дойдешь до слежки за пионерами, до организации юных педелей…
Я не успел окончить фразу, Вольнову подхватило словно вихрем. Она вскочила и забегала по палатке. И, едва справляясь со слезами ярости, произносила только одну фразу:
— За что они меня не любят?! За что? За что?
— Насильно мил не будешь!
Когда она немного успокоилась, я взял ее за руку, усадил на койку и сказал, вкладывая в свои слова все то доброжелательство, которое у меня накопилось в недолгом одиночестве:
— Ну, давай поговорим по-хорошему, как товарищи, не задираясь. Я уплываю к себе на родину, вернусь не скоро; может быть, никогда и не увидимся. Делить нам нечего, соперничать не надо…
— Не надо, — отозвалась она примирительно.
Это расположило меня еще больше. И я решил быть откровенным до конца:
— Тебя никто не полюбит, Соня, если ты будешь такой.
— Какой?
— Такой беспощадной к людям… начальницей.
— Ну-ну, — улыбнулась она сквозь слезы, — значит, ребята не могут полюбить вожатого потому, что он для них начальство?
— Да! Ребята полюбят вожатого только тогда, когда он станет для них товарищем, а не начальством.
— Я понимаю… Но это общие слова… А вот практика… Это так трудно быть вожатым! Ведь у нас даже нет образчика, с кого брать пример!
— Соня, а есть ведь пример.
— Какой?
— Был в партии большевиков вожатый, которого все любили, как товарища, старшего товарища. Он никогда не был начальством… даже став у власти над целым государством!
Вольнова поняла и, крепко пожав мою руку, задумалась.
Так мы сидели какое-то время молча, держась за руки, при тусклом свете крошечной лампочки от аккумулятора, что тлела все слабей, как затухающий уголек.
И странно<p>— впервые мы не спорили. Наши мысли словно общались без слов. Я думал, что она, в общем-то, неплохая дивчина, хочет добра, но во многом заблуждается. И нельзя мне ее сейчас оставить одну… Она думала о том, что, в обыщем-то, я неплохой хлопец и что без меня ей очень бы не хотелось остаться…
И эти невысказанные мысли каким-то образом рождали настроение дружбы. Нам не хотелось ни говорить, ни расставаться. Вот так мы и сидели в хорошем, добром раздумье.
И вдруг стены палатки заколебались. Снаружи кто-то оступился и чуть не упал. Мы вскочили, бросились к выходу и успели разглядеть двух удиравших девчонок.
Это ее наушницы подслушивали наш разговор!
От стыда Вольнова закрыла лицо ладонями и бросилась назад в палатку.
В это время раздалась визгливая трель горна, играющего тревогу.
Как появляется чувство дружбы
Горн срывался, надрывался, кричал, звал с таким отчаянием, что ребята выскакивали из окон школы, выбивая противокомарные проволочные сетки вместе с рамами, полуголые, в одних трусах, кто надевая на ходу майки, кто повязывая галстуки. Одни пионеры строились на линейке, другие суматошно метались по лагерю.
Не выдержало сердце вожатого, и, бросившись к мачте, я крикнул:
— Ко мне!
Вскоре все пионеры, дрожа, подпрыгивая, колебля ряды, стояли строем на линейке.
— Что случилось, кто поднял тревогу?!
— Грабят сад! Кулачье… с мешками… с подводами!
Связали сторожей! — прокричали наперебой Шариков и Костя.
Оказывается, они накануне бегства из лагеря отправились в сад запастись яблоками на дорогу и обнаружили ночной грабеж.
Вольнова, увлеченная общим азартом, без рассуждений бросилась вперед, размахивая электрическим фонариком, как каким-то оружием.
Вначале мы мчались что есть духу до самого сада, затем построились. Затрубили в горны, забили в барабаны и пошли в обхват: один отряд<p>— слева, другой<p>— справа.
Я и сейчас не знаю, что мы хотели делать, как сражаться с грабителями, но мы так шумели, что враг, не приняв боя, обратился в бегство. Мимо нас проносились, грохоча в темноте, рассыпая яблоки, роняя целые мешки, деревенские телеги. Пешие мужики и парни удирали прямиком, через кусты и овражки. Вскоре подняли пальбу развязанные и освобожденные нами сторожа. Из совхоза примчался верхом директор, за ним рабочие.
Победа была полная. С нашей стороны потерь никаких: несколько поцарапанных, наткнувшихся на сучья и на колючие кустарники, — и все. А паникующий враг оставил на поле битвы несколько картузов, шапок, много мешков, и пустых и с яблоками. Был найден потерянный кем-то сапог с левой ноги. И даже захвачен пленный<p>— почтенного возраста мужчина в городском одеянии, некий дачник, принявший участие в яблочном походе своих хозяев, кулаков Зелениных.
Не зная местности, он во время бегства сиганул в овраг и увяз на дне его в тине.
Обескураженный вид этого дачника вызвал такой хохот, что ребята катались по земле, хватаясь за животики.
Во всей этой суматохе несколько раз я видел рядом Вольнову, она гонялась за яблочными налетчиками, отнимала у них мешки, с кого-то сбила шапку. А теперь хохотала с таким искренним, бездумным удовольствием, что вместе с ребятами валилась на груды яблок.
Очевидно, впервые она не «руководила», а действовала вместе со всеми, поддавшись общему стремлению, и получила удовольствие от победы, равное со всеми.
Какой-то садовый грабитель, которого она пыталась задержать, отдавил ей сапогами пальцы на ногах, содрав кожу до крови. Но, не чувствуя боли, она хвалилась пучком волос, вырванных из его бороды.
Наши ребята, опытные в лечении царапин и ссадин, — а именно Игорек и Франтик<p>— вымыли ее ноги чистой родниковой водой и смазали принесенным из совхозной аптечки йодом без всякого приказа, даже без просьбы с ее стороны.
Когда мы возвращались на рассвете и Вольнова принуждена была снять сандалии<p>— так распухли пальцы, — ребята, заметив, что босиком с непривычки она идти не может, тут же вырезали из толстых ивовых прутьев носилки, усадили и по очереди несли ее, как в паланкине.
— Им тяжело… Я не могу этого позволить… Они надорвутся… Ну, мне просто неловко… — говорила она шепотом.
А я, шествуя рядом, наклонялся и шептал ей на ухо:
— Ничего, ничего… Позволь им полюбить тебя, Соня!
Я тащил на плече трофейный мешок яблок и думал о том, что теперь, пожалуй, мне можно и смыться, уплыть потихоньку. Ребята не бросят отбитого у врагов сада…
Они не оставят свою вожатую, которая вместе с ними сражалась до самозабвения, была ранена и которую они принесли в лагерь на собственных руках.
Мы любим тех, с кем вместе пережили радость и горе, кому оказали помощь, о ком заботились.
Нет, теперь ребята не убегут, как пленные, они почувствовали себя снова хозяевами.
Уплыл я средь бела дня, когда все ребята после ночного сражения спали крепким сном. Я оставил им прощальное письмо, выжженное солнечным лучом через лупу на щепке. Никто не провожал меня. Одна только Вольнова.
Она шла, опираясь на заветное весло, подаренное мне Данилычем.
А я учил ее, как нужно ходить босиком по мягкой пыльной дороге, по колючему жнивью, по влажной отаве.
Но у нее это не получалось, у нее были слишком изнеженные ступни горожанки. А обувь она не могла надеть<p>— так распухли пальцы. Пришлось взять ее на руки и понести. Уж очень ей хотелось посмотреть, как я сяду в челнок и поплыву. Это так забавно<p>— современный человек в доисторическом челноке!
Так мы и вышли на берег Москвы-реки. Она у меня на руках, а мое весло у нее в руках.
И оба оглянулись.
Полдень. Зной. И нигде никого<p>— ни живой души.
Только бережанки неугомонны. С любопытством облетая нас, так и щебечут в уши. Я вспомнил ее наушниц и улыбнулся. Она, словно догадавшись, сказала:
— Никого! Спят вместе со всеми… противные девчонки!
Что сказала она мне на прощание и что я ей ответил, это так и осталось никому не известным, кроме нас. Ведь на этот раз никто не подслушивал.

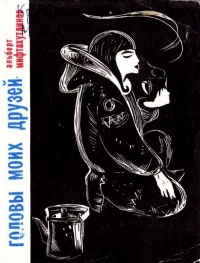
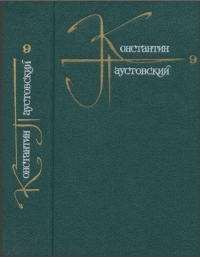




Комментарии к книге «Когда я был вожатым», Николай Владимирович Богданов
Всего 0 комментариев