МИХАИЛ СКРЯБИН. ЛЕОНАРД ГАВРИЛОВ СВЕТИТЬ МОЖНО-ТОЛЬКО СГОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В эту тревожную ночь в семье Урицких почти не спали. Старшая дочь, восемнадцатилетняя Берта, то и дело вскакивала с постели и подходила к окну. Когда открывалась форточка, маленький Моисеи слышал плеск волн, бьющихся у подножия большого каменного дома, который, как утес, возвышался среди халуп бедноты Подола.
— Берта, иди спать, мне холодно, — хитрил трехлетний Моисей. Малышу разрешалось иногда забираться в постель старшей сестры, и сейчас он не мог понять, зачем стоять у окна, когда в большой кровати так тепло и уютно.
— Спи, братик, спи, — гладила егопно голове Берта, укрывала.
— А ты расскажи мне сказку.
— Сказку? Нет, лучше послушай правду. — Берта прилегла рядом, закинула руки за голову, освободила черную косу, которой тут же завладел Моисеи. — Живем мы с тобой на самом берегу могучей реки Днепр. Летом он тихий, добрый, в нем ловят рыбу, его водой поливают поля и огороды По Днепру плывут лодки и пароходы, везут людям хлеб, овощи, фрукты По Днепру плывет лес, из которого строят дома. А вот весной Днепр не узнать. Он сердится, разливается по деревням и городам, выгоняет из домов бедных людей.
— А мы бедные? — со страхом спрашивает ребенок.
Но Берта снова привстает, опершись локтем о подушку, прислушивается и, не отвечая на его вопрос, говорит Моисею:
— Утром, утром поговорим, а сейчас спать без разговоров, а то вернется отец, спросит, как прошла ночь. Что мы ему ответим?
Но отец не вернулся.
Не вернулся ни утром, ни среди дня. Вечером в горницу ввалились какие-то чужие люди. Моисей из своей комнаты услышал их громкие голоса, топот ног и затем истошный вопль матери.
Зачем пришли в дом эти чужие люди, почему они обидели маму? Малыш с трудом открыл тяжелую дверь и вбежал в горницу. Мать, распустив волосы, стояла па коленях, раскачиваясь из стороны в сторону, а четверо незнакомых мужчин в промокшей одежде, с шапками в руках стояли рядом, наклонив головы. Сжимая кулачки, мальчик кинулся на обидчиков и был подхвачен на руки плачущей Бертой…
…Наводнение 1876 года надолго запомнилось жителям Подола — нижней части уездного города Черкассы Киевской губернии. За снежной зимой наступила ранняя весна с проливными дождями. Вода в реке стала быстро подниматься. И в течение суток днепровские волны, гонимые шквальным ураганом, затопили значительную часть города, разрушая глинобитные домишки, унося скот, а порой и людей. Жители Подола, спасая детей и стариков, на лодках, на плотах, захватив с собой только самое необходимое, переселялись в верхнюю часть города.
Хозяин лесного склада Соломон Наумович Урицкий понимал, что под угрозой затопления находится весь приобретенный им в кредит товар. Ну а если паводок разрушит склад, если волны унесут сосновые бревна — тогда разорение…
Во дворе, словно приглашая хозяина, качался на паводковой зыби добротный «дубок» — лодка. Натянув высокие резиновые сапоги, туго подпоясав брезентовую куртку, Урицкий спустился но деревянным ступенькам во двор и отвязал прикованный цепью к столбу «дубок».
— Скоро буду! — крикнул он жене и, взмахнув веслом, тронулся в путь. — Только на склад и тут же обратно!
Как он мог справиться с разъяренной стихией, но правде сказать, и сам не знал. Но в 38 лет легко сказать себе: «Там видно будет».
Навстречу то и дело попадались нагруженные бедняцким скарбом лодки. В них плакали женщины и дети, молились старики. Сильными гребками Соломон Наумович вел свой «дубок» между затопленных домов по разливанному морю, которое еще вчера было жилым районом Подола. Сразу же за последними домами начинались склады, огороженные высокими заборами. Не считаясь с частной собственностью, днепровские волны хозяйничали на складских территориях, проделав в заборах широкие проемы и вынося на стремнину доски, ящики, пустые железные бочки.
Древесный склад Урицких был тоже затоплен, но крепко обвязанные стальными тросами штабеля уверенно противостояли стихии.
Похвалив себя за предусмотрительность, Соломон Наумович повел свой «дубок» в обратный рейс. Многоголосый крик заставил его приналечь на весла. Впереди, прямо посреди улицы, течение несло перевернутую вверх килем большую лодку, за которую судорожно цеплялись гибнущие люди.
Как потом все произошло, никто толком рассказать не мог. Десятки рук вцепились в борта подошедшего «дубка». Он зачерпнул воду, Урицкий потерял равновесие и сам очутился в холодной днепровской купели.
То ли потянули вниз резиновые сапоги, то ли кто-то из тонущих увлек его за собой на дно…
Со смертью главы семьи обстановка в доме изменилась. Иссяк поток многочисленных торговцев, которые, обычно в навигационное время, съезжались к Урицким из разных районов юго-западной России. Вместо них зачастили религиозные деятели из ближней синагоги в надежде на богатые подношения безутешной вдовы. Однако, несмотря на свою глубокую религиозность, мать понимала, что одними молитвами не прокормить многодетную семью, и, пообещав Иегове, что любимый сын Моисей станет раввином, энергично принялась за продолжение и развитие торгового дела. Муж последнее время все чаше жаловался, что торговля бревнами приносит очень малый доход, и мечтал установить на лесобирже пилораму, которая превращала бы дешевые бревна в дорогие доски. И мать, проявив недюжинные коммерческие способности, этим делом и занялась. Под залог дома получила деньги, на которые приобрела оборудование, нашла специалистов по его установке. Времени для занятий с детьми не выкроить, и, возложив на старшую дочь Берту наблюдение за их добросовестным учением, религиозным воспитанием и соблюдением домашних традиций, мать с головой окунулась в дело.
Берта была достаточно образованна. Отец приглашал домашних учителей, не имея возможности из-за национального ценза отдать дочь в гимназию. Ими были главным образом студенты, которые, кроме преподавания наук, помогли любознательной девушке расширить свой кругозор. Студенческое вольнодумство вывело Берту из затхлой атмосферы торгашеской семьи. Она полюбила русскую литературу. Девушку хорошо знали в двух книжных лавках города и в библиотеках. Часто перед сном Берта читала вслух русские книги младшим братьям и сестрам. После смерти отца Берта окончательно рассталась с мечтой о продолжении учебы и посвятила свою жизнь воспитанию младших. И не только воспитанию: на девичьи плечи теперь легли все заботы по большому дому.
Для маленького Моисея постоянное влияние старшей сестры было поистине живительным. Мать, видя, что Моисей очень рано научился читать и писать, требовала от Берты, чтобы они регулярно штудировали талмуд. Но Берта отлично понимала, что схоластика талмуда мало что даст способному мальчику. Внутренне противясь желанию матери воспитать из Моисея раввина, Берта все же не могла открыто протестовать. Поэтому очень часто интересные русские книжки находили себе убежище под кожаным переплетом талмуда.
Не сразу, но деловые старания матери увенчались успехом. На лесной базе заработали не только пилорама, но и обрезной станок с дробилкой. Для Моисея не было большего наслаждения, чем, сидя на горе опилок, наблюдать, как толстые бревна превращаются в пахнущие смолой и лесом ровные доски. Вот бревнотаска захватила в заводи очередное бревно, и оно, словно допотопное чудище, поползло к раме. Взвизгивают острые пилы, вгрызаясь в тело чудовища, и с противоположной стороны пилорамы появляются веселые ленты одинаковых, как близнецы, досок. Ловкие руки рабочего тут же подхватывают их и быстро, по одной, направляют на обрезку. И пока из заводи ползет новое бревно, доски уже уложены на тележку для отправки на склад и продажи одному из семи черкасских заводов, с которыми новой хозяйке удалось заключить выгодные договоры.
В дом Урицких вновь зачастили торговые агенты. Здесь, в большой комнате, совершались торговые сделки, велись разговоры на религиозные темы, а порой и споры о политике.
Приезжие не обращали внимания на тихого мальчика, приткнувшегося где-нибудь в уголке с книжкой в руках, а тот с интересом прислушивался к разговорам.
В ту пору на Украине, как и во всей Российской империи, происходили глубокие социально-экономические изменения: появлялись новые фабрики и заводы, развивался железнодорожный и водный транспорт, разорялись мелкоземельные хозяйства, и крестьянская беднота уходила работать в города. За счет разорившегося украинского крестьянства, ремесленников, кустарей, а также притока бедноты из центральной России формировался украинский рабочий класс.
Из разговоров приезжих подраставший Моисей узнавал о тяжелых условиях труда на новых фабриках и заводах, о низкой заработной плате рабочих, их полуголодной, нищенской жизни, о фабричных забастовках и крестьянских волнениях.
Отношение взрослых к этим событиям не всегда было понятно мальчику, а чаще всего даже вызывало внутренний протест, особенно когда с одобрением рассказывалось, как жестоко подавлялись «беспорядки» полицией. Особенно зло торговцы ругали студентов.
— Им-то чего не хватает, — возмущался один заезжий торговец, — небось все из дворянства, богатые, а ведь тоже против законной власти.
— Нет, не все из дворянства, — возражал рассказчик, — теперь и из других сословий много — разночинцы, одним словом…
Студенты! Моисей грезил о том, как вырастет и станет студентом-разночинцем.
Но когда это будет? А пока нудная учеба в хедере, куда отдала его мать. Своими мыслями Моисей мог поделиться только с Бертой.
— Чтобы стать студентом, — охлаждала пыл брата Берта, — надо закончить гимназию, а это очень непросто.
В Черкассах была лишь одна гимназия, вернее, прогимназия, и попасть в нее еврейскому мальчику было почти невозможно. Но о ней можно мечтать! И мечтать в одиночестве. А где можно уединиться, как не в лесном складе? Но однажды он заметил, что какой-то мальчишка покушается на его одиночество. Перелез через забор и копошится у горы опилок так, что его и не видно; чего, спрашивается, сидеть там, откуда не видно ни бревнотаски, ни пилорамы? Это повторилось на другой, на третий день.
— Чего тебе здесь надо? — не выдержал наконец Моисей.
— А тебе что? Наняли — так сторожи. Я же тебя не трогаю.
— Кого наняли? Что сторожить? — Моисей выбрался из своей удобной выемки в опилках и спустился к мальчишке. Тот отошел на несколько шагов от горки и стоял, сжимая кулаки, явно готовый вступить в схватку со «сторожем». Мальчишка был на полголовы выше Моисея, но гораздо уже в плечах. По всему было видно, что прикидывал, чем может кончиться схватка. Расценив чуть медвежью походку «сторожа» и уверенное его спокойствие не в свою пользу, отступил к забору и одним движением перекинул через него свое легкое тело.
— Подавись ты этими опилками вместе со своими хозяевами! — донеслось из-за забора.
Что нужно было этому мальчишке и почему он так зло разговаривал?
— Наверно, он хотел взять немного опилок; а ты ему помешал, — объяснила вечером Берта.
— А зачем ему опилки?
— Бедные люди делают из них брикеты и топят ими печи.
— А что, нам жалко опилок? Ведь целая гора их выросла!
— Конечно, не жалко, но…
Что «но», Моисей так и не услышал. Теперь он твердо знал, что нужно делать. Нужно немедленно разыскать мальчишку и сказать, чтоб брал опилок столько, сколько захочет.
Однако мальчишка не появился на складе ни назавтра, ни через неделю. И Моисей стал искать его по всему Подолу. Он, конечно, и прежде видел бедность, но теперь, заглядывая во дворы и дворики, он обнаружил нищету, мимо которой прежде проходил, не обращая внимания. В жалких лачугах, разбросанных по Подолу, жили фабричные рабочие и мелкие ремесленники. Промышленный капитал постепенно осваивал Черкассы. В городе было уже четыре табачных фабрики. Моисей научился распознавать рабочих-табачников по постоянному хриплому кашлю, рабочие гвоздильного и механического заводов отличались землистостью лиц, сахарного, пивоваренного и нескольких кирпичных заводов — изуродованными подагрой пальцами, с лесопилок рабочие приносили запахи леса, смолы, свежих опилок, которыми были набиты волосы, бороды, усы и даже брови.
Несмотря на помощь подольских ребят, Моисею не удалось найти мальчишку, исчезнувшего за забором склада. А ребята очень хотели сделать что-то хорошее Моисейке, как они его называли. В свои восемь лет он казался гораздо старше сверстников. Обладая завидной памятью, он помнил почти дословно целые страницы прочитанных книг. Его новые друзья собирались где-либо на завалинке, а то и просто на песке у самой стены лачуги и, открыв рот, слушали удивительные истории или сказки, где правда побеждает ложь, где добрый герой вступает в борьбу со злыми чудовищами и обязательно их побеждает.
Но скоро ребятишки оставили сказки. Приехавший к матери по торговым делам коммерсант рассказал о происходящих в Киеве, его пригородах Шулявке, Демиевке и Соломенке еврейских погромах. Моисей пересказывал эти известия и суждения взрослых подольским ребятам, среди которых было немало детей рабочих и ремесленников евреев. Погромы начались 26 апреля 1881 года и продолжались непрерывно трое суток. Громились дома и квартиры евреев, в основном киевского Подола. Грабились лавчонки и ларьки, магазины и буфеты. Из окон летели пух и перья вспоротых перин, покрывая, словно снегом, улицы бедняцких кварталов города. Кто пытался протестовать, подвергался жестокому избиению. Пьяное буйство часто выливалось в насилия и убийства Вызванные войска киевского гарнизона только наблюдали за разбоями и грабежами, очевидно получив приказ не вмешиваться. Полицейские и кое-кто из солдат под шумок прятали за пазухой выброшенные погромщиками на улицы товары. Понизив голос до шепота, коммерсант говорил, что погромам попустительствовал генерал-губернатор Киева генерал-адъютант Дрентельн, который, по мнению его же под чиненных, «до глубины души ненавидел евреев» Каь это «до глубины души», Моисей не понимал, но воспроизводил шопот торговца изумительно точно.
В результате погромов пострадало более полутора тысяч евреев. Но только после того как, разорив дотла бедняцкие кварталы, погромщики взялись за лавки и магазины, не принадлежащие евреям, в других районах города. Дрентельн во главе войсковой части лично взялся за усмирение «хулиганов»: выйдя из коляски, он принялся уговаривать громил. Испуганные появлением вооруженных солдат, погромщики ринулись вон из магазина и при этом смяли самого генерал губернатора. И, может быть, затоптали бы, если б не жандармский офицер огромной физической силы, сопровождавший Дрентельна. Изрядно помятый, в покрытой уличной грязью шинели и истоптанной толпой фуражке генерал вернулся домой и тут же отдал приказ войскам «действовать решительно».
Однако уже накануне около вокзала на Жилянской улице произошли события, не санкционированные генералом. Возмущенные действиями погромщиков, солдаты сами, без всяких приказаний открыли огонь по толпе громил, которая тут же обратилась в паническое бегство. Весть об этом решительном действии воинского подразделения мгновенно разнеслась по всему городу.
Для расследования причины еврейских погромов в Киев приезжал генерал-майор граф Кутайсов, состоящий в свите его величества. Доклад графа был предельно ясен и выражал собственное мнение двора: «Погром был вызван общею исторической ненавистью русского населения к еврейскому и эксплуатацией еврейским населением русского по торговле и промышленности, но отнюдь не политическими причинами…»
Город Черкассы, около четверти населения которого составляли евреи (а на Подоле — добрую половину), гудел как растревоженный улей. Волновались и в семье Урицких. Мать после длительной молитвы пригласила плотников и велела им сделать на все окна ставни из толстых дубовых досок с железными накладками, болты которых, уходя внутрь дома, закладывались стальными чеками; старшие братья готовились вступить в дружину самообороны.
Моисей же с утра убегал из дома к своим друзьям. Мальчишки Подола, независимо от национальности каждого, горячо обсуждали вопрос: как встретить погромщиков, если таковые объявятся? Прежде всего нужно было придумать название отряда.
— «Смерть погромщикам», — предложил кто-то изребят.
— Значит, мы будем их убивать? Станем такими же, как они? — спросил Моисей. И твердо добавил: — Я не согласен.
После жарких споров было принято предложение Моисея — отряд получил имя «Защитник». Так, теперь важно сохранить тайну: ни один взрослый не должен ничего знать об отряде.
— Ешьте землю, что не нарушите клятву, — скомандовал старший из «защитников», видимо наиболее опытный в клятвенных процедурах.
На зубах противно хрустел носок, а Моисей думал о Берте: «Неужели и от нее надо скрывать?» До сегодняшнего дня между ним и старшей сестрой не было ни одной тайны. Но решение принято всеми ребятами и не может быть нарушено. «Ведь скрываем же мы с Бертой от мамы, что читаем русские книжки», — думал Моисей. Однако и эта спасительная мысль не помогала. «То мама, а то Берта», — спорило сознание. Мальчик тяжело вздохнул. Нет, клятву он не нарушит.
Однако для того, чтобы остановить погромщиков, нужно оружие!
Но может ли такая «мелочь», как его отсутствие, помешать ребятам? Во-первых, есть рогатки и мастера прицельного огня, попадающие в самую маленькую цель. А во-вторых… Дело было продумано во всех деталях: на чердаках каждого дома на Подоле нужно иметь запас камней. Откуда камни? Ничего не может быть проще — напротив местного полицейского участка есть выложенная отличным булыжником площадка, и разобрать ее в течение ночи не составит большого труда.
Надо было слышать ругань полицейских, обнаруживших исчезновение булыжной мостовой, на которой в распутицу останавливается пролетка начальства. Но все попытки полиции найти похитителей оказались безуспешны.
Шло время. Погромы до Черкасс не докатились. А Днепр своим очередным весенним разливом создал новые заботы и хлопоты подольскому населению. Новые заботы появились и у Моисея — мать отвела его в Новый город, в хедер при одной из синагог.
Для восьмилетнего пытливого мальчика занятия в хедере казались скучными. Учили раввины по религиозным книгам, приходилось заучивать нудные, непонятные молитвы. На вопросы, почему люди живут по-разному, зачем нужны еврейские погромы, ответов не давали. «На нее воля божья», говорили раввины. Тогда возникал вопрос: зачем нужен такой бог, который допускает погромы? И хедере ужасались, говорили, что Моисей испорчен, что надо принимать срочные меры для возвращения его в истинную веру. Не зная, как можно воздействовать на сына, мать заставляла его часами читать вслух главы из талмуда. Потом, узнав, что в Черкассах появилась лавка, в которой продаются религиозные книги, мать обрадовалась и накупила их для Моисея целый ворох.
Книжной чмнкой владел немолодой толстый человек по имени Кривошья. Появился он и Черкассах недавно, и его приезд в этот маленький городок вызвал множество толков. Говорили, что он в Петербурге занимал высокий пост, что он был военным, что не захотел оставаться в Петербурге после смерти горячо любимой жены. Кривошья был избран казенным раввином хотя всем было ясно, что в вопросах религии он совершенно не разбирается. Однако для ведения актов гражданского состояния (основная обязанность казенного раввина) его знаний было вполне достаточно. Об одном никто не догадывался — что Кривошья был выслан из Петербурга как политически неблагонадежный. Книжная лавка была для него больше чем средством к существованию. Книги на религиозные темы помогли Кривошье войти в большинство еврейских семей. В дни субботних богослужений Кривошья нагружал книгами свой походный мешок и приносил их в синагогу. В будние дни книгоноша был желанным гостем в еврейских домах. Не миновал он, конечно, и дома Урицких.
Чего только не доставал из своего мешка ребе Кривошья: Пятикнижие Моисеево, молитвенники в переплетах, отделанных золотом, книги с горестными и праздничными песнопениями, иллюстрированные книги с религиозными сказаниями.
Стоило Моисею взять в руки ту или иную книгу, как мать тут же ее покупала, не теряя надежды, что самый грамотный, самый любознательный сын все же станет раввином.
Берта не вступала в споры с матерью, но мечтала о другой судьбе для Моисея; она тайно приносила брату книги русских классиков, которые давали гораздо больше способному мальчику, расширяя его знания о большом мире.
Кривошья не только продавал книги. Придя в дом Урицких и усевшись за довольно обильный ужин, он рассказывал о Петербурге, об очень богатых людях, которые, ничего не делая, пользуются всеми благами жизни, о бедных, которые всю жизнь трудятся, чтобы богатые богатели. Моисей слушал эти рассказы и вспоминал мальчишку у горы опилок. Надо скорей вырасти и сделать так, чтобы все были сыты и могли купить дров или угля, чтобы топить свои жилища.
Учеба в хедеое заканчивалась, и теперь можно было поступать в первый класс черкасской четырехклассной прогимназии. Но Берта отлично понимала, что знаний, полученных Моисеем в хедере, для поступления в прогимназию явно недостаточно: нужно подготовить мальчика по русской истории, латинскому языку и математике. Кривошья как-то рассказал, что сдал угол в своем доме студенту Гитману Каплуну, которого за какие-то смуты выгнали из Киевского университета.
— Ребе Кривошья, а вы не могли бы как-нибудь привести его к нам? — однажды спросила Берта.
— Ничего не может быть проще, — ответил Кривошья.
Знакомство состоялось в отсутствие матери. Чтобы не было никаких подозрений, ребе вручил студенту свой необъятный мешок с книгами, и молодой человек вошел отдуваясь в дом Урицких под видом книгоноши. Увидев прелестную девушку, студент смутился и не знал, куда положить свою ношу.
Очень скоро вопрос о подготовке Моисея в прогимназию был решен. Но где заниматься? Все предстояло делать пока тайком от матери. И опять же выручил Кривошья: разрешил пользоваться для занятий его книжной лавкой.
— А вы будете приходить в лавку с мальчиком? — не сводя глаз с красивой девушки, спросил студент.
— Буду. Конечно, буду, — улыбнулась Берта. Слово свое Берта сдержала. И пока Моисей сидел за трудной задачей или переписывал латинское сочинение, Гитман рассказывал девушке о делах университетских, о выступлениях студентов против произвола администрации. Впервые мальчик услышал непонятное слово «марксизм». Слово это студент произнес в полголоса с оглядкой на дверь.
Многое из того, что говорил студент, Моисей не понимал. Но по тому, как слушала старшая сестра, чувствовал, что говорил студент хорошие слова. Часто в лавку заглядывал и сам Кривошья. Оба мужчины увлеченно строили предположения о будущем России, о равноправии всех народов, о стирании граней между богатством и бедностью. Иногда и Берта принимала участие в этих разговорах, и тогда Моисей очень гордился ею.
Наконец настал час, когда, строго проверив ученика по всем предметам, студент сказал: «Подготовлен».
Еврейские дети принимались в государственную прогимназию в рамках строгой процентной нормы, а кандидатов в Черкасскую прогимназию было примерно сто на одно место.
В августе 1884 года Берта тайком от матери повела Моисея на экзамен. Он отлично, без единой запинки ответил на все самые каверзные вопросы экзаменаторов.
С нескрываемым волнением вошла Борта в кабинет директора прогимназии. Тот, холодно ответив на приветсвие, протянул ей протокол приемных испытаний.
— «Протокол 7 августа 1884 года. Под председательством господина инспектора… присутствовали протоиерей Цирдовскнй, преподаватели Городович, Градович, Тодус… — читала Берта, — приступили к рассмотрению прошений и приложенных к ним документов относительно определения детей в прогимназию. Постановили: Допустить к приемному испытанию в испрашиваемые классы определенных детей. В 1-й класс…»—Далее следовал список, в конце которого Берта увидела: «…Урицкого Моисея…»
Отложив первый протокол, Берта принялась за чтение второго:
— «Протокол 14 августа 1884 г. Под председательством господина инспектора… члены педагогического совета обсуждали результаты приемных и первичных испытаний…» — Берта прервала чтение и, тяжело вздохнув, быстро пробежала глазами принятых в первый класс и наконец увидела: «Постановили: Принять в 1-й класс… Урицкого Моисея…»
Директор прогимназии сухо поздравил девушку.
Теперь Берте предстоял очень нелегкий разговор с матерью. Она ярко расписала поздравление директора, очень уважаемого в Новом городе человека, намекнула, что, для того чтобы быть хорошим раввином, неплохо иметь более глубокие знания, чем дает хедер. И мать в конце концов сдалась. Было оговорено, правда, одно обстоятельство — Моисей не должен заниматься в прогимназии по субботам. С великим трудом Берта упросила директора согласиться с этим требованием матери, и Моисей Урицкий ступил на новый жизненный путь.
Нельзя сказать, что в школе его любили. Во-первых, что ни говори — еврей, а главное, учился Моисей лучше многих учеников. Но его помощью без зазрения совести пользовались даже самые чванливые дети местных русских богачей. У кого еще, как не у Урицкого, переписать решение трудной задачи или текст сочинения на вольную тему…
Прошло четыре года упорной учебы. Наконец в один из июньских дней 1888 года Моисей Урицкий сдал последний экзамен. Единственный ученик по всем предметам получил круглые пятерки…
А дальше? Пора всерьез делать выбор — пытаться ли учиться дальше или подчиниться желаниям матери и посвятить себя духовной карьере. А может быть, стать ее помощником в комиссионных и торговых делах? Ни то, ни другое не прельщало Моисея. На его стороне неизменно была и Берта. Но где продолжать учебу? В родном городе нет учебного заведения выше четырехклассного. Значит, надо уезжать из Черкасс?!
В глубине души чувствуя, что удерживать способного сына от дальнейшей учебы неправильно, мать долгими ночами молилась Иегове, чтобы он наставил ее, подсказал, как поступить. Но бог молчал, в то время как Берта и Моисея ежечасно приводили все новые доводы.
И мать решила: отпустить сына в Гомель, где есть шестиклассная прогимназия, и поселить его в глубоко верующей семье человека, с которым много лет вела торговые дела и которому полностью доверяла. На ее письмо пришел ответ с согласием принять юношу в семью.
В последних числах июля Моисей в сопровождении Берты наконец оказался на пристани в ожидании парохода, следующего вверх по Днепру до Киева.
В четырехместной каюте второго класса было душно, и Моисей вышел на палубу. Под брезентовым тентом, укрывшпсь от палящих лучей солнца, расположились палубные пассажиры с мешками, корзинами, узлами. Кто-то растянул ряды гармонией, и веселая, залихватская музыка полилась над днепровской водой, заглушая мерное уханье пароходных колес. Потом высокий мужской голос затянул украинскую песню, ее подхватили басы и звонкие девичьи голоса. Могучая песня увлекла Моисея. Девушка в ослепительпо белой, с украинской вышивкой, кофточке улыбнулась ему и очень просто подвинулась, уступая место на палубе рядом с собой. «Вот как нужно жить! Как это не похоже на унылые молитвы и песнопения, которые так часто звучат в нашем доме», — думал Урицкий, слушая многоголосый людской хор. Он ощущал в себе духовную близость к этим, казалось бы, совсем чужим людям. Мысли перенеслись в Черкассы, в книжную лавчонку ребе Кривошьи. Как замечательно рассказывал студент Берте о великой жертвенности людей, которые борются за свободу народа. Вот этого народа, среди которого так легко и свободно дышится ему, юноше, сделавшему первый шаг навстречу новой жизни.
Уже показались берега Киева, когда Берта, с трудом отыскав Моисея, увела его в каюту поесть и собрать вещи.
В Киеве было решено провести несколько дней, познакомиться с этим чудесным городом. Берта водила брата по знаменитым местам, по монастырям и соборам. Моисей искренне старался заинтересоваться и великолепной росписью стен и купола Владимирского, и фресками Софийского соборов, но все это как-то не затрагивало глубины души. Правда, разглядывая одну фреску, он надолго остановился, и Берта уже была готова обрадоваться тому, что это произведение искусства не оставило брата равнодушным, но Моисей, прикрыв ладонью глаза, прислонился к мраморной колонне.
— Что с тобой? — тревожно спросила Берта.
— Не знаю. Вокруг ангела сплошной туман, — глухо ответил Моисеи, — это уже не первый раз, я только тебе раньше не говорил.
Врач, к которому Берта отвела брата, прописал юноше очки, с которыми ему не суждено будет расстаться до конца жизни. На другой день после визита к врачу Берта с Моисеем на маленьком, невзрачном пароходике отправились в Гомель.
На высоком берегу реки Сож Гомель вырос внезапно, сразу за поворотом. Картинно расположившись на склоне горы, город словно приглашал пассажиров пароходика скорей подняться на его тихие улицы, посетить гостеприимные корчмы. Но для Моисея Урицкого только первый день в городе был приятным и ласковым (тепло принятый маминым «верным человеком», он надеялся, что все будет так же хорошо и с поступлением в гимназию). Однако мытарства начались с первых шагов. Процентная норма для евреев была в гимназии та же, что и в Черкассах. Не помогли ни блестящие отметки, полученные в прогимназии, ни просьбы Берты. Директор потребовал полного объема вступительных экзаменов, на которых услужливые педагоги могли в угоду директору занизить баллы. Какие меры принял «верный человек», знала только Берта, по после его возвращения от директора появилось разрешение начать учебу без экзаменов.
Грустно было прощаться с сестрой, которая должна была возвращаться в Черкассы для ведения хозяйства в доме и воспитания самого младшего брата, Соломона. Усадив ее на пароходик, следующий до Киева, Моисей остался в чужом городе совершенно один.
Оказалось, что он по своему развитию был значительно выше многих учеников, учеба давалась легко, и оставалось свободное время. «Верный человек», выполняя просьбу матери Урицкого, требовал, чтобы юноша чаще посещал синагогу или в крайнем случае один из еврейских молитвенных домов. Но эти посещения не превратили Моисея в верующего человека и не приблизили исполнения мечты матери сделать из него раввина.
Однажды кто-то из соучеников предложил после уроков съездить в предместье Гомеля — Белицу, половить рыбу в озере Шатырь. И вот вместо молитвенного дома — зеркальная гладь озера, сделанный из старых мешков бредень, теплая, прозрачная вода, ил по колено и, наконец, золотые толстоспинные карпы, прыгающие на вытянутой из воды мешковине. Но принести рыбу домой — значит выдать себя с головой, потерять возможность снова попасть на это чудесное озеро… И Моисей, скрепя сердце, от своей честно заработанной доли отказался. Чтобы товарищи не сочли его гордецом, пришлось объяснить причину отказа.
— А знаешь что? Пошли к нам. Мама чудесно готовит рыбу в сухарях, — предложил один из них, высокий, красивый юноша, сидевший с Моисеем за одной партой.
— Пошли, — не раздумывая, согласился Моисей.
В дружной белорусской семье, куда теперь зачастил Урицкий, открыто разговаривали о политике. Говорили, что постоянное притеснение в гимназии евреев, белорусов, поляков, украинцев не случайно, что это политика государства. А однажды вечером тот же гимназический товарищ пригласил Моисея пойти на занятие кружка саморазвития молодежи.
После нескольких занятий Моисей понял, в какой кружок позвал его товарищ, и спросил:
— А почему ты так поздно пригласил меня в ваш кружок?
— Нужно было окончательно убедиться в том, что ты с нами, — очень серьезно ответил товарищ. — Ведь наши занятия — ото крамола, до которой очень хотели бы добраться жандармы.
В кружке говорили о том, что в России трудящиеся люди лишены политических прав. Жестокий гнет самодержавия, эксплуатация рабочих и крестьян тесно связаны с политикой национального угнетения.
Вот когда Моисей понял, что еврейские погромы но случайны; стало ясно и то, что притеснение национальных языков и культур, ярый шовинизм русского царизма вызывает растущее недовольство не только евреев, но и украинского, белорусского, польского и других народов, которые вместе с русскими все решительнее выступают против самодержавия.
Здесь ои впервые узнал имена Виссариона Белинского, Александра Герцена, Николая Добролюбова, Николая Чернышевского. Он понял, какой глубокой ненавистью к самодержавию была продиктована их деятельность.
На занятиях в кружке обсуждали и революционно-демократическую идеологию великого кобзаря Тараса Шевченко. Впервые услышал Урицкий и о народнической теории «крестьянского социализма», о так называемом прирожденном инстинкте крестьянства как носителя идеалов социализма.
— Призывая крестьянство к решительной борьбе против самодержавия, — говорили некоторые кружковцы, — не родники, эти подлинные революционеры, смело идут на схватку с царизмом за «землю и волю».
На юного Урицкого, конечно, производили впечатление и рассказы о «хождении в народ», о террористических актах против царя и ето чиновников, однако он все чаще прислушивался к речам одного рабочего, наборщика одной из гомельских типографий Альберта Поляка.
Тот говорил о том, что тактика индивидуального террора не может привести к успеху в борьбе с царизмом.
— Пролетариат — вот движущая сила революции, — горячо и убежденно доказывал Альберт.
Моисей Урицкий стал постоянным и одним из наиболее усердных посетителей кружка. Здесь он впервые познакомился с марксистской литературой.
В это время в политических кружках появились переводы таких работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса, как «Устав Международного товарищества рабочих», «Первый манифест Международного товарищества рабочих», «Гражданская война во Франции».
…Типография, куда по просьбе Моисея его взял как-то Поляк, не произвела на гимназиста большого впечатления. Да и рабочие были больше похожи на учителей в гимназической лаборатории. Только и дела что руки в неотмывающейся типографской краске, разве сравнить их с рабочими черкасских заводов. Но Альберт Поляк был опытным пропагандистом: когда закончился рабочий день и они остались вдвоем, он подвел Моисея к ящику с набором свинцового шрифта:
— Вот буковки. Пока они в ящике, они не имеют никакого смысла. Их берет в руки наборщик — и буковки оживают. Ими можно набрать здравицу царю-батюшке, а можно составить листовку, говорящую правду рабочему человеку об эксплуатации его капиталистом.
Постепенно взаимные симпатии Альберта Поляка и Моисея Урицкого переросли во взаимное доверие. Моисей с улыбкой рассказал Поляку о созданном в далеком детстве мальчишеском отряде самообороны на случай еврейского погрома. Альберт отнесся к рассказу очень серьезно.
Много дет спустя Моисей Соломонович Урицкий, вспоминая это время, говорил, что именно гомельский молодежный кружок саморазвития привил вкус к политической деятельности, вывел его на путь революционной борьбы.
Моисей оканчивает шестой класс и возвращается в Черкассы. Для него ясно — нельзя останавливаться на полпути, но для поступления в университет необходим еще седьмой класс гимназии. Сообщив свое решение матери, он выезжает в небольшой городок Белая Церковь. Нет, он не будет сидеть на материнской шее! Будет учиться сам и зарабатывать на жизнь частными уроками! А не будет уроков, разве он недостаточно силен? Разве не сможет заработать на жизнь физическим трудом?
Но уроки нашлись. Даже больше, чем нужно. Очень скоро слух о блестящем преподавании «очкариком» всех дисциплин дошел до родителей неуспевающих учеников. Перегруженный сверх меры учебой и преподаванием, Моисей все же ощущал постоянно, как не хватает здесь политического кружка, товарищей, с которыми можно говорить обо всем. Правда, Альберт предупреждал Моисея, что надо быть осторожным в поисках единомышленников. К тому же, в белоцерковской гимназии преподаватели и администрация были настроены более либерально, меньше было слежки и муштры, чем в Гомеле, а гимназисты были далеки от политики. Каждую выкроенную свободную минуту Моисей проводил в городской библиотеке, занимался самообразованием.
Там он увидел у одного знакомого студента толстую книгу. Она называлась «Капитал. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса. Перевод с немецкого».
Взяв ее на время. Урицкий углубился в чтение. Не сразу, но Моисей заинтересовался рассуждениями Маркса о товаре и деньгах. Невольно эти рассуждения применял он и к торговым делам своей семьи. «Маркс прав, — думал Урицкий, — когда пишет, что законы товарной природы проявляются в инстинкте товаровладельцев. Действительно товаровладельцы приравнивают свои товары друг к другу как стоимости, и постепенно из всех товаров выделяется один — деньги. На них, на деньги, и разменивается весь экономический и моральный уклад общества…»
Берта, приехавшая к брату накануне выпускных экзаменов, увидев «Капитал» среди его книг, с удовлетворением подумала: «Ну вот и рождается новый глава „Торгового дома Урицких“».
Однако уже вскоре поняла свое заблуждение, «Да он у нас социалист», — с ужасом подумала она.
Наступила дружная весна 1893 года. Блестяще окончена гимназия. Правы оказались мать и родственники, говорившие, что орлята не возвращаются в родные гнезда. И если раньше Борта стояла за продолжение учебы брата, то теперь, напуганная его увлечением социалистическими идеями какого-то немецкого господина Маркса, она попробовала отговорить Моисея от поступления в университет.
— Может быть, в самом деле, поможешь маме в ее делах?
Моисей погладил сестру, как маленькую, по голове и ничего не ответил. Мысленно он уже был далеко и от Черкасс, и от семьи, был в студенческой вольнолюбивой среде в Киеве. Сестра отлично поняла безнадежность своих робких уговоров.
— Что ж, тебе видней. Только будь осторожней.
— Буду. Обязательно буду, — улыбнулся Моисей и крепко обнял любимую сестру, которая и в самом деле оказалась какой-то удивительно маленькой. А может быть, это он стал большим?
ГЛАВА ВТОРАЯ
Письмо Берты, в котором излагалась просьба приютить брата в первые дни пребывания в Киеве, привело Моисея на Фундуклеевскую улицу, № 10, к глазному врачу, прописавшему ему в свое время очки.
— Ну что ж, может, вас эта келья устроит, — сказал врач и повел гостя во двор, гдо находилась кирпичная пристройка, похожая на монастырскую привратницкую. Комната, пять шагов в длину, три в ширину, действительно напоминала келью. Но изолирована от всех других помещении, имеет свой вход с улицы и выход во двор — что же может быть лучше?
— Конечно, устроит. А сколько это будет стоить? — начал Моисей, но врач перебил его:
— Ваша сестра пишет, что фирма оплату гарантирует, — Он засмеялся. — В пять часов прошу на чашку чая, тогда познакомимся как следует, а пока располагайтесь.
На смотрины нового постояльца собралась, видимо, вся семья: жена, две почти взрослые дочери, пожилая дама — свекровь или теща, какой-то древний старик. Под перекрестными любопытными взглядами будущий студент почувствовал, что краснеет. Выручил доктор.
— Значит, прибыли в наш Киев постигать науки? — спросил он, усаживая гостя рядом с одной из дочерей. — И раз Берта Соломоновна решила направить прямо ко мне, значит, надо полагать, на факультет медицины?
— Я хочу на юридический, — сказал Моисей.
Это пришло еще в Белой Церкви. Занимаясь репетиторством, он не раз оказывался в роли адвоката. Стряпчего. Как к образованному человеку к молодому Урицкому обращались родители учеников с просьбой написать прошение, разъяснить то или иное положение закона, я то и просто растолковать, как поступить в каком-либо случае. Порой он не мог сразу ответить, просил прийти на следующий день и просиживал часы за справочной юридической литературой. Но, чем больше вникал в законы государства Российского, тем больше понимал, что составлены они в пользу имущих классов. Чтобы уметь бороться за справедливое решение вопроса, нужно все несправедливые законы хорошо знать.
— Ну, батенька, это ни к чему, — категорически заявил доктор, — так много людей нуждаются в медицинской помощи, а вас на крючкотворство тянет! Вот завтра ко мне придет один студент-медик, он вас обязательно отговорит.
На следующий день, опять за чашкой чая, состоялось знакомство Моисея Урицкого с Борисом Эйдельманом. Вместо того чтобы отговаривать нового знакомого от поступления на юридический факультет, Борис, к удивлению милейшего хозяина, одобрил выбор Урицкого:
— Нынче для России важнее лечение общества по законам справедливости, чем врачевание отдельных личностей по медицинским рецептам.
— Какая ересь! — воскликнул доктор и обернулся к Моисею. — Вот вы могли бы без медицины продолжать учебу, не пропиши я вам своевременно очки?
Это была правда. Но правда Бориса Эйдельмана была объемней, шире.
— Если хотите, я вас завтра сведу в университет, кое с кем познакомлю, — прощаясь, сказал Борис. По всему было видно, что ему понравился жилец доктора.
На следующее утро Моисей еще дожевывал утренний бутерброд, когда в окно постучался Борис:
— Пора, нас уже ждут.
Шагая по утренним тихим улицам, Эйдельман посвящал Урицкого в университетские дела. Он рассказал, что их университет, получивший имя святого Владимира, готовится отметить свое шестидесятилетие. Последние годы студенты вели ожесточенную борьбу за автономию университета и недавно ее получили. Теперь ректор и совет профессоров при решении серьезных вопросов обязаны советоваться со студентами.
— А вот и наша$7
Несмотря на лето и сравнительно ранний час, в университете оказалось довольно много народа.
— Люди пришли послушать наших студентов и преподавателей, — пояснил Борис. — Нет, разговоры здесь идут общеобразовательные, не о политике, — он заговорщически подмигнул Моисею. — Ну а если кто и задаст политический вопрос, нельзя же не ответить…
Пройдя в конец длинного коридора, Борис приоткрыл дверь в одну из аудиторий. В полутемном помещении были слышны негромкие голоса. Разговаривали по-польски.
— О, наш главный марксист появился, — обрадовался один из студентов, направляясь навстречу Эйдельману. — Просим разрешить наш спор. С точки зрения марксистской науки кто ближе к социальным изменениям: экономически развитая страна с современным рабочим классом или отсталая?
— Социальные изменения не достигаются схоластическими спорами. Их может достичь и в развитой и в отсталой стране только пролетариат. И сколько бы ни пыжилась самая передовая интеллигенция, ей эти вопросы без рабочего класса никогда не решить, — очень серьезно заговорил Эйдельман. — А где ваши рабочие? Насколько мне известно, в вашем кружке на одного рабочего приходится десяток пропагандистов. Или это не так?
Моисей видел, с каким вниманием молодые люди прислушивались к словам Бориса Эйдельмана. И поймал себя на мысли, что горд тем, что именно он привел его в университет, в этот кружок. Юный абитуриент еще не знал, что Эйдельман был одним из руководителей «Русской социал-демократической группы», созданной им вместе со студентом Яковом Ляховским еще в начале 90-х годов. Позднее к ним присоединился обладавший богатым революционным опытом рабочий Ювеналий Мельников. Группа эта занималась не только изучением, но и пропагандой марксизма и в настоящее время искала пути к объединению с кружками польских социал-демократов, имеющих связи с рабочими железнодорожных мастерских. Таким образом, общение Бориса со студентами из группы польской социалистической молодежи было не случайным.
«Теперь не надо искать единомышленников. Вот они!» — радовался Моисей Урицкий, когда Борис представил его кружковцам.
— А можно мне посещать ваши занятия? — спросил Моисей и почувствовал, что его просьба прозвучала очень по-детски.
— А почему бы и нет. Мы рады каждому штыку, направленному в сторону противника, — немного напыщенно высказался руководитель кружка студент Людомир Скаржинский.
— Но ему надо сначала поступить в университет, — Эйдельман попрощался с кружковцами и увел с собой Урицкого.
— А что же ты мне вчера не рассказал главного? — спросил Эйдельман, когда они вошли в широкий университетский коридор.
— О чем это ты? — искренне удивился Урицкий. — Я от тебя ничего не скрывал.
— А о том, что вы дружили в Гомеле с Альбертом Поляком! Он о тебе самого хорошего мнения. Говорит, что из тебя мог бы выйти отличный наборщик. Выше этой оценки нельзя и придумать, — засмеялся Борис-Альберт сказал, что ты уже однажды самостоятельно набрал целую прокламацию.
— Ну, положим, не сам, а под его руководством, — смутился Моисей. — А что, Альберт сейчас тоже в Киеве?
— Т-с-с, — приложил палец к губам Борис. — Не так громко, он на нелегальном положении. Но ты с ним скоро встретишься. А пока пойдем познакомлю тебя еще с одним хорошим человеком.
Кандидат прав Иван Чорба также входил в группу Эйдельмана. Чорба искренне увлекался марксизмом и по поручению группы популяризировал его среди студенчества.
Услыхав, что Урицкий намерен подать прошение о поступлении в университет, Чорба посоветовал:
— Сначала сходи к инспектору, выясни, что к чему…
Инспектор, ведающий в университете святого Владимира приемом документов, внимательно прочел характеристику и аттестат зрелости, выданный белоцерковской гимназией. Очевидно, высокие оценки по всем предметам произвели на него хорошее впечатление.
— Хотите, конечно, на медицинский?.. — спросил он, заранее уверенный в положительном ответе.
— Нет, иа юридический, — твердо ответил Урицкий.
— Ну что ж. Российской империи нужны защитники ее законов. Напишите прошение на имя ректора о зачислении на первый курс юридического факультета, принесите от местного военного начальника свидетельство о приписке к призывному пункту и заверенные нотариусом копии метрического свидетельства и аттестата зрелости. Кроме того, — продолжал инспектор, глядя куда-то мимо застывшего с документами в руках юноши, — до вступительных экзаменов необходимо представить в университет формулярный список вашего погибшего отца, справку о кредитоспособности его семьи и справку о политической благонадежности. Вашей политической благонадежности — подчеркнул инспектор. — Со всеми вышеперечисленными документами прошу ко мне, но не позже середины августа. Да, вы знакомы с процентной нормой для лиц нерусской национальности? Это надо иметь в виду при сдаче вступительных экзаменов, — добавил он почти благожелательно и поднялся с кресла, давая понять, что аудиенция окончена…
— Вот и ясна программа на ближайшее время, — сказал Чорба, выслушав вернувшегося от инспектора Урицкого. — От меня пока пользы мало: вот только помогу написать прошение о зачислении по всей форме, а уж остальные бумаги придется добывать самому.
На следующее утро Моисей отправился на призывной участок. Получить свидетельство о приписке оказалось непросто: необходимо было пройти медицинскую комиссию, которая собиралась два раза в месяц. Единственно, что удалось сделать без проволочек, — это заверить у нотариуса копии. Узнав, когда собирается очередная медицинская комиссия, Моисей выехал в Черкассы.
— Что случилось? — испугалась Берта, когда брат перешагнул порог родного дома. — Не приняли?
— Кто это осмелится не принять представителя славного рода Урицких? — пошутил Моисей и рассказал сестре о причине приезда.
— Ну, это все мы уладим, — облегченно вздохнула Берта и на следующий день энергично принялась за дело. Банковские документы семьи были в полном порядке, и справку о платежеспособности ей выдали без разговоров; получить формулярный список также удалось без больших хлопот, а вот со справкой о политической благонадежности урядник уперся.
— Доносили мне, какие разговоры вел ваш братик ео своим учителем студентом Каплуном. А времена сейчас такие — дашь справку, а потом самого потянут. Не дам справку. Вашу семью я уважаю, а Моисейке не дам!
Какую сумму сияла с банковского счета Берта, чтоб передать уряднику, осталось ее тайной. Так или иначе, все нужные документы были оформлены, и Моисей стал собираться в обратный путь.
— Ты бы остался на несколько деньков, побыл с нами. Маме что-то нездоровится, — попросила Берта.
До вступительных экзаменов оставалось совсем немного времени, но не уважить просьбу сестры Моисей не мог. Он и сам заметил, что мать выглядит неважно. Отнеся это к обычной усталости от торговых дел, он все же просидел с матерью целый вечер, рассказывая о своей киевской жизни, о ценах на базаре, о трудностях поступления в университет.
— Я же говорила… Зачем ты все это затеял? — по-своему осмыслила мать рассказы сына. — Но ничего, не поступишь, станешь учиться на раввина, а университеты, столицы — не про нас.
О своем знакомстве с Борисом Эйдельманом и Иваном Чорбой Моисей говорить не стал, но мысли о них, об их делах не выходили из головы. Своими размышлениями о некоторых сторонах студенческой жизни он поделился, к собственному удивлению, с младшим братом Соломоном. Выйдя утром на старом отцовском «дубке» на стремнину Днепра, братья, забросив удочки, размечтались о светлом будущем, о дальнейшей жизни, когда младший окончит гимназию и поступит в высшее инженерное училище. «В наши дни нужно осваивать технику», — говорил юноша с непередаваемым превосходством первооткрывателя.
Вернувшись в Киев, Моисей Урицкий сдал все нужные документы инспектору и с удовольствием отметив, что тот положил их в папку, на которой под двуглавым орлом было выведено: «Юридический факультет университета святого Владимира».
Иван Иванович Чорба предупредил, что особое внимание на экзаменах должно быть уделено сочинению по русскому языку и словесности, поскольку должно «воспитывать народ в здравом духе русского человека, в любви к церкви и отечеству, в добрых нравах и вкусах».
Подготовленный Чорбой, Урицкий успешно справился с экзаменами и даже выдержал собеседование с отцом Иоанном, который благочестиво старался на чем-нибудь «изловить» иудея-абитуриента. В конце августа на прошении Урицкого о приеме появилась надпись ректора: «Принять в счет установленной нормы».
Теперь студент Урицкий должен дать письменное обязательство «не состоять членом и не принимать участия в каких-либо противозаконных сообществах, как, например, землячествах и т. п., а равно не вступать членом в дозволенные законом общества без разрешения на то, в каждом отдельном случае, ближайшего начальства».
Правдивому юноше было противно ставить свою подпись под заведомо ложным документом, но мудрый Чорба только расхохотался, и сразу все стало на свои места.
Жизнь в университете значительно отличалась от гимназической. Добросовестный Моисей сначала даже не мог привыкнуть к различным студенческим вольностям. Ну как, например, можно пропускать ту или иную лекцию? Но постепенно втянулся и начал игнорировать неинтересные для себя предметы, вроде богословия, выкраивая часы на самообразование. Много времени уходило на посещение кружка молодых польских социал-демократов и молодых рабочих железнодорожных мастерских. Однако не все в их речах и действиях устраивало Урицкого: коробили высокопарные выступления некоторых кружковцев, странно звучали идеи «Речи Посполитой от моря до моря».
Своими сомнениями Моисей поделился с Борисом.
Борис выслушал и оживленно заговорил:
— Ну, раз ты сам понял что к чему, поручим тебе настоящее дело. Но учти, дело опасное. За активную пропаганду марксизма среди рабочих недолго попасть на Романовскую дачу,[1] а то и в петербургские «Кресты». Готов ли ты к этому? — он посмотрел Урицкому прямо в глаза. Моисей не отвел взгляда.
— Ладно, — заключил Эйдельман, — познакомлю тебя с Ювеналием Мельниковым.
Явку в Киеве Мельников получил в петербургских «Крестах» от доктора Абрамовича, который сам туда попал за пропаганду марксизма среди рабочих слесарной мастерской. Мельников отлично знал токарное и слесарное дело. Он мог бы с успехом работать на любом предприятии города, но все пути были перекрыты циркулярами жандармского управления. А почему бы не создать частную школу-мастерскую, в которой готовились бы высококвалифицировапные слесари и токари; потом они пойдут на фабрики и заводы города и понесут туда правдивое слово социалистов, услышанное во время учебы.
Встретил Мельников Бориса и Моисея в своей школе-мастерской.
— Вот, привел нового ученика, — многозначительно произнес Эйдельман.
— Этого? — Урицкий поймал внимательный взгляд, обращенный на его руки. — Держу пари, что первое время, забивая гвозди, будешь попадать раз по гвоздю, раз по пальцам. Ладно. Давай знакомиться.
Он говорил Моисею «ты», и это было не обидно, а приятно.
Неожиданно крепкое рукопожатие Урицкого заставило Мельникова пригнуться. Кашель, рвущий легкие, затряс крупное, но очень худое тело.
— Результат «отдыха» на жандармском курорте в «Крестах», — грустно пошутил Мельников. — А я, пожалуй, ошибся: рука у тебя что надо. Ладно, сегодня день воскресный, пойдем ко мне, угощу чайком.
Комната, которую снимал Мельников, была тут же, при мастерской, и служила, как рассказывал Борис, штаб-квартирой киевских социал-демократов. Здесь был как бы дискуссионный клуб для интеллигенции и университет для рабочих. «Политический факультет», — говорил Мельников. Здесь вырабатывались направления пропаганды социал-демократических идей, интеллигенты учились разговаривать и писать понятным рабочей массе языком, рабочие учились читать и пересказывать товарищам написанное. На этой же квартире, в тесном кругу, обсуждались планы организации и выявлялись наиболее падежные ее члены.
Комната мало чем отличалась от «кельи» Урицкого. Для мастерской хозяин приобрел довольно приличный токарный станок, несколько слесарных верстаков, пару тисков. А свое жилье превратил в народную читальню. Повсюду — на столе, кровати, полках — лежали книги, газеты, причем, как отметил Моисей, в основном религиозного содержания.
— Конспирация, — шепнул Борис, заметив удивленный взгляд Моисея.
— Вот так, молодой человек, и живем, — жестом пригласил к столу Мельников. — Большая Дорогожицкая улица идет прямо к Лукьяновской тюрьме. 13 — это номер моего дома — чертова дюжина. Ну кто может подумать, что здесь приютилась школа, готовящая социалистов. Вы пока присаживайтесь, полистайте газету, а я к хозяйке за кипятком сбегаю, кухонька у нас общая.
Вернувшись, Мельников аккуратно разлил по стаканам чуть подкрашенный заваркой кипяток.
— А теперь поговорим серьезно, — обратился он к Урицкому. — Борис сказал, что ждешь настоящего дела. Будешь работать с Иваном Чорбой. Он организует кружок для разъяснения рабочим их прав, ему надо помочь. Но предупреждаю — дело опасное, жандармы тоже не дремлют.
«Совсем как Берта: „только будь осторожней“», — подумал Моисей, и чувство бесконечного доверия к этому истощенному тюрьмами человеку наполнило душу. Вот таким политически образованным, как Борис, и сильным духом, как этот рабочий, и должен быть настоящий революционер. А хватит ли у тебя силенок, Урицкий? Подумал и сам себе ответил: «Должно хватить!»
И вот Моисей Урицкий — среди рабочих железнодорожных мастерских.
— Большинство рабочих, которые идут к нам в кружки, ищут прежде всего общего образования, а наша задача воспитать в них еще и социальное самосознание, — говорил Чорба.
Надо было видеть, с каким вниманием пришедшие после многочасового трудового дня люди слушали повести и рассказы, которые им читал Урицкий. Некоторые книги, например «93-й год» Гюго, «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу, он читал вслух с Бертой еще в Черкассах. А вот «Историю одного крестьянина» Шатриана, «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» Николая Шелгупова и «Капитал и труд» Свидерского необходимо было прочесть и осмыслить предварительно самому. А когда? Опять же ночами, но зато как радостно было видеть живой интерес, поразительную восприимчивость его слушателей.
После этих чтений Иван Ивапович Чорба сам брался за дело, толковал с рабочими о длительном рабочем дне, низкой оплате труда, о прибылях хозяев фабрик и заводов, системе штрафов…
Нелегальная литература из конспиративных соображений на руки слушателям кружков не выдавалась. Да ее и не хватало. Поэтому встал вопрос об организации ее издания группой киевских социал-демократов. Одновременно создавалась нелегальная библиотека.
Моисей готов был заниматься всеми делами сразу, но очень скоро понял, что это невозможно. Университет, пропагандистская работа. Теперь вот пришлось давать домашние уроки, так как денег, выделяемых Бертой, стало не хватать. Покупка нужных книг, обзаведение приличным костюмом, да и питание в киевских кухмистерских — все это оказалось значительно дороже, чем предполагалось. Скоро Урицкий понял, что домашнее преподавание создает отличную ширму для отвода глаз полиции, которая уже интересовалась у хозяев дома, что за народ собирается в его «келье».
Тогда же впервые на стол начальника Киевского губернского жандармского управления Василия Дементьевича Новицкого легла докладная записка: «…обращает на себя внимание на лекциях и практических занятиях по политической экономии у профессора Пихно (на 1-м курсе юридического факультета) студент Моисей Урицкий, который, оппонируя профессору, высказывает социалистические идеи…»
Зима прошла быстро. Урицкий с каждым днем все больше овладевал искусством пропаганды, основной задачей которой теперь было научить кружковцев делать из услышанного практические революционные выводы.
К этому времени «Русская социал-демократическая группа» шла к объединению с польской социалистической группой, одним из кружков которой теперь руководил Урицкий.
«Его внешность, — рассказывал в своих воспоминаниях И. Н. Мошинский (Юзеф Канарский),[2] — бросалась в глаза: малорослый, кругленький, со щурящимися насмешливо глазками, он выделялся из толпы студентов, наводнявшей университетские коридоры, совершенно необычной походкой. Моисей Соломонович, которого мы в польской группе прозвали за недюжинный ум и проницательность, за его столь ценную для революционера практическую сметку и остроту ума „Соломоном“, передвигался быстро, как шарик, мерно раскачиваясь, как маятник, и в этом отношении представлял, к сожалению, прекрасную мишень для филеров. Но он с необыкновенной ловкостью дурачил их и — надо отметить — действительно был выдающимся конспиратором».
Высказав идею объединения всех социал-демократических сил в Киеве, «Русская социал-демократическая группа» предложила совместно подготовить и провести первую тайную маевку.
Это было решено обсудить в мастерской Ювеналия Мельникова, собрав всех руководителей социал-демократических кружков. Дата сбора — первое воскресенье апреля, время — двенадцать часов дня.
Когда Урицкий прибыл в условленное время на Большую Дорогожицкую, № 13, он там застал Чорбу, Эйдельмана и доктора Сарцевнча — представителя ППС (Польской партии социалистической), в состав которой студенческая польская социалистическая группа Урицкого не входила. Без опоздания явились и остальные руководители кружков. Разговор о необходимости провести маевку начал Мельников. И сразу выявились разногласия. Старшие считали, что на маевке достаточно быть Ювеналию Мельникову и доктору Сарцевичу как руководителям социал-демократических групп.
— Рабочая маевка не останется без внимания жандармского управления. Ювеналий Мельников ни в коем случае не должен принимать в ней участия, так как он состоит под полицейским надзором как бывший политический заключенный, — сказал Эйдельмап. — А мне быть там необходимо.
— Я думаю, что на маевку придут прежде всего рабочие железнодорожник мастерских, наши кружковцы, — поднялся Урицкий. — А с ними нужно быть мне.
— Насчет Мельникова согласен с Эйдельманом, — сказал Чорба, — но и Урицкому не следует идти, как, впрочем, и всем студентам — руководителям рабочих кружков. Если маевка окажется в поле зрения полиции, будут поставлены под удар наши пропагандисгские силы. Самым правильным будет поручить проведение маевки мне и Эйдельману.
— Вы забыли про нас, — вскочил с верстака представитель ППС доктор Сарцевич. — Кому же, как не нам, нужно быть вместе с рабочими-железнодорожниками?
Единогласно было решено: руководство первой тайной маевкой поручить Борису Эйдельману и «агенту» ППС доктору Сарцевичу.
1 мая 1891 года маевка состоялась в Кадетской роще под Киевом. Собралось человек двадцать активистов социал-демократических кружков. Главным образом — рабочих железнодорожных мастерских. Но на маевку пришел один человек, внешне напомипавший рабочего, но которого никто из активистов не знал. Был ли он действительно рабочим одного из киевских промышленных предприятий, пришедшим на маевку по собственней инициативе, установить оказалось трудно. А что, если это полицейский агент? Борис Эйдельман принял решение революционные речи отменить, свести маевку к празднованию Первого мая с народным гуляньем, песнями и танцами, благо с некоторыми рабочими пришли жены.
Как сообщил Эйдельман на очередной встрече в мастерской Мельникова, несмотря на присутствие подозрительного лица, рабочие остались маевкой довольны. Во-первых, почувствовали свое единство, общность, во-вторых, удалось провести полицейских ищеек.
Разбившись на группы, в которых были только свои, участники маевки поговорили о борьбе с хозяевами за улучшение условий жизни и труда.
После маевки польская социалистическая группа Урицкого полностью слилась с «Русской социал-демократической группой».
Однажды, глядя на Урицкого серьезными глазами, Эйдельман сказал:
— Моисей, тебе придется заняться доставкой для пропагандистов нелегальной политической литературы.
Урицкий давно ждал какого-либо серьезного поручения. Да и сам знал, как остро ощущается нехватка политической литературы даже в Киеве. Урицкий в это время уже заканчивал первый курс университета, приближались летние каникулы — значит, ничто не мешает поездкам по югу России для транспортировки политической литературы в различные социал-демократические организации.
И Моисей Урицкий мог только поблагодарить Бориса Эйдельмана за столь ответственное поручение. Он купил костюм-тройку, отпустил усики, чтобы стать похожим на купеческого сынка, разъезжающего по делам родителей, но сообщение Берты о внезапной смерти матери заставило срочно выехать в Черкассы.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Умерла мама. Моисей пытался вызвать в себе горькое чувство сиротства, но оно не приходило. Для него всегда роль мамы исполняла Берта. А мама? Мама над всем и над всеми.
Так было до того момента, пока он не сошел на дебаркадер черкасской пристани и не встретил Берту. Сестру трудно было узнать: непрнчесана всегда такая аккуратная голова, мелово-белый, покрытый капельками пота лоб. Исхудавшая, как после долгой болезни, она припала к плечу брата и дала волю слезам. Острое ощущепие утраты перешло от Берты и к Моисею. А еще родился жгучий стыд: как он мог взвалить на хрупкие сестринские плечи все заботы о доме, о стареющей матери, а теперь вот о похоронах со всеми сложнейшими религиозными обрядами. Отделался подтверждением, что все вопросы наследства доверяет решать старшей сестре.
— Берта, чем я могу тебе помочь? — спросил Моисей.
— Чем? — Берта задумалась. — У тебя все лето свободно. Вот если бы ты смог съездить на закупку леса, получить деньги за проданный товар!
«Съездить на закупку леса». Ворочаясь без сна на своей юношеской постели, Моисей мысленно сопоставлял два задания: Эйдельмана и Берты. Утром он назвал сестре места, намеченные Борисом на карте Малороссии. Оказалось, что среди них были и те, из которых лес поставлялся в Черкассы.
Через несколько дней с доверенностью на закупку леса агент Моисей Урицкий выехал из Киева в деловую поездку. Вот теперь и Борис, и Мельников, и даже Чорба могут сказать, что молодой Урицкий обладает необходимыми для настоящего революционера конспиративными способностями.
Кременчуг и Полтава были первыми пунктами, куда просила заехать Берта по лесоторговым делам. Там же находились и политические кружки, в которые Борис отсылал брошюры Плеханова.
До Кременчуга Моисей добрался привычным водным путем. Теперь молодой «купец» знакомился с пассажирами, расспрашивал о ценах на лес. Но палубные пассажиры, только что о чем-то громко спорившие, завидя приближение одетого в тройку «барина» с модными усиками и отцовской цепочкой от часов в жилетном кармане, тут же смолкали. Мужики деланно зевали и начинали говорить о погоде и видах на урожай.
Когда впереди показался Кременчуг, мерное шлепанье пароходных колес стихло, и скоро пароход мягко пришвартовался к пристани.
Народ столпился у сходни и, едва она коснулась дебаркадера, хлынул на берег. Урицкий заметил на берегу двух жандармов и, несмотря на полную легальность своей поездки, почувствовал неприятный холодок у сердца, где хранился пакет с брошюрами. «Поначалу всегда боязно, потом привыкаешь», — вспомнились слова Бориса. Он выпрямился и, не глядя на застывших, словно в стойке, жандармов, двинулся к выходу.
«Когда выполняешь задание, проверь, нет ли за тобой хвоста», — учил Эйделъман. Моисей, вместо того чтобы направиться в город, повернул к причалам торгового порта. Пристань была до отказа забита мешками с пшеницей, подготовленными для погрузки на широченные баржи — «берлины». Несколько в стороне он заметил сложенные пиломатериалы. «Хороший хозяин сразу бы определил, есть ли здесь закупленные у нас доски?» — думал Моисей, разглядывая аккуратные штабеля. Он достал из кармана трубку, набил ее табаком-самосадом, раскурил. Едкий дым вызвал злой кашель: курить не привык, начал только недавно в Киеве, да и то больше из баловства. Осмотревшись и удостоверившись, что никто за ним но наблюдает, Моисей медленным шагом вернулся к пассажирской пристани. Жандармов уже не было. На явке следует быть утром, а сейчас нужно подумать о ночлеге.
Гостиница оказалась переполненной. Снимать комнату в чужом городе всегда опасно — можно нарваться на неприятность. Грустный вид прилично одетого молодого человека вызвал сочувствие у какого-то купца-хлеботорговца.
— Эй, милок, человек обязан помогать человеку. Так в священном писании сказано? — обратился он к Моисею. — Давай ко мне в номера.
От купца несло винным перегаром. Но для конспирации лучше не придумаешь…
Через полчаса Урицкий сидел за столом в номере хлеботорговца, а тот доставал из необъятного купеческого чемодана последовательно бутылку водки, сало, полбуханки хлеба, соленые огурцы. Моисей попытался было достать из своего чемоданчика съестное, заботливо приготовленное сестрой, но купец широким жестом стряхнул сверток обратно в чемодан.
— Брось, я угощаю! А ты подумал, почему никто другой, а я пригласил тебя к себе жить? — наполняя стаканы водкой, спросил купец. — Да потому что вижу, одной мы с тобой породы. Купеческой. Не какие-то там голодранцы-шаромыжники. Вот нам и надо держаться поближе друг к другу, пока всякие пролетарии не свернули нам шею. Пей!
В доме Урицких водка употреблялась только для угощения деловых людей. Сами не пили. Среди студентов были поклонники Бахуса, но пили обычно не водку, а дешевые вина, и потом Моисей старался держаться подальше от таких компаний, а тут…
— Пей, пей, — хлеботорговец поднял свой стакан. — Давай за самый прогрессивный класс, которому принадлежит будущее, за купцов и промышленников. Ими будет держаться теперь Россия. Деловыми людьми, а не помещиками-дворянами.
«Вот марксизм наизнанку». Моисей поднял стакан ко рту. Едкий сивушный запах ударил в нос, перехватило дыхание, он поставил свой стакан на стол.
— Эх, жидок, а ты оказывается жидок, — купец залпом осушил стакан и, видимо, довольный своим каламбуром, громко захохотал. Потом посерьезнел — хмель настраивал его на философский лад — и, не замечая, как дернулся от его каламбура гость, продолжал:
— Ведь я сразу распознал, что ты из жидов, а вот сижу с тобой, как с равным, и пью, а почему? Да потому, что сегодня не национальность решает, а дела. Деньги не пахнут, значит, и настоящие дела не пахнут, а тогда и мы с тобой не враги. Это те, у кого власть из рук уплывает, разные погромчики устраивают, а нам, купцам, важно, чтобы наше дело доход добрый приносило. — Купец наполнил снова свой стакан, не обращая больше внимания на гостя, выпил до дна и стал хрустеть огурцом. — Вот мне пшеничка дает на рубль полтинник, а тебе лес, гляди, и на рубль рубль прибыли натянет. А?
В вопросе явно слышалась зависть к более прибыльному делу. Моисей слушал пьянеющего купца, а сам мысленно вернулся в Черкассы к Берте, к ее приходно-расходным книгам, к которым никогда не прикасался и ничего в них не понимал. Ведь бедная Берта, для того чтобы содержать братцев, должна досконально изучать все эти торговые хитросплетения, позабыв о своем образовании, о личной жизни. Теплая волна благодарности к старшей сестре затопила ему душу. «Вот Берта, наверное, знает, сколько прибыли дает торговля лесом. Неужели в самом деле — рубль на рубль? Вот она бы нашла общий язык с купцом, потолковала бы с ним о приходах-расходах», — мелькнула мысль, которой он тут же устыдился. Да как он смеет сравнивать умницу сестру с этим пьяным торгашом, утверждающим будущее капиталистов и спекулянтов! А почему бы и нет? А сам-то он, Моисей Урицкий, разве честно поступает, согласившись на эту поездку в качестве агента по скупке-продаже леса? Ничего не понимая в делах, он и купит дороже, чем надо, и продешевит при продаже, чом нанесет ущерб делу Урицких. «Дело Урицких!» Выходит, Моисей Урицкий тоже заинтересован, чтобы дело процветало, чтобы кого-то обманывали, покупали подешевле, продавали подороже. Какое же он имеет право презирать человека, прямо о таких вещах говорящего? Но ведь он, Урицкий, все делает для конспирации, высшие цели у него совсем другие, ему не нужны ложь и обман! А только ли для конспирации? Нет, не надо лгать самому себе. Система опутывает его с ног до головы: он не просто поддельный купчик, использующий документы «фирмы Урицких» для выполнения поручения киевской социал-демократической группы, он явно заинтересован в успешном выполнении поручений главы «фирмы» Берты. Нет, он не хочет принести горе родным — братьям и сестре. Он выполнит все, что обещал, но для себя надо категорически сделать вывод. Нельзя сидеть сразу на двух стульях. Став на путь революционера, нужно быть абсолютно чистым и в помыслах и в делах. Нужно раз и навсегда порвать с прошлым. Вот Ювеналий Мельников не чета какой-то «фирме Урицких». Мог бы пользоваться доходами с отцовского имения. Однако не стал, он имеет полное моральное право разговаривать с рабочими, глядя им в глаза, и они слушают его, как никого другого.
Моисей поднялся со стула.
— Ну, спасибо за угощение, за беседу. — И он не кривил душой. Этот пьяный купец заставил его задуматься о себе, посмотреть на себя как на представителя определенного социального слоя и в то же время вот так, с глазу на глаз, столкнуться с новой силой, с которой предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Силой, уверенной в своей правоте, в своем предначертании. — А сейчас я пройдусь по городу.
— Что-ж, дело молодое. — Купец широко зевнул. — А я часок-другой вздремну.
На следующее утро, уже твердо уверенный, что не привлек к себе внимания жандармов, Урицкий отправился на явку, данную ому Эйдельманом. Явка была в одной из восьми типографий Кременчуга, и не представляло большого труда найти типографию, где принимались заказы на визитные карточки.
— Желаете заказать визитные карточки? — встретил его человек, по приметам похожий на описанного Эйдельманом.
— Да, если успеете к сроку, намеченному господином Залетаевым, — ответил Моисей фразой-паролем.
— Заходите, постараемся к нужному часу выполнить, — отзывом ответил человек в рабочем халате и очках, сидящих на лбу под седым венчиком волос.
В конторке, размещавшейся в конце типографии, он крепко пожал руку гостя:
— Неужели привезли Плеханова?
— Да, «Русский рабочий в революционном движении», по одному экземпляру на каждый кружок. Думаю, что скоро литературы будет больше. — Урицкий достал из-под пиджака пакет. По радости, отразившейся в глазах этого немолодого и, видимо, очень усталого человека, понял, как ждали в Кременчуге эту литературу. И поездка, еще вчера казавшаяся Моисею не очень значительной, выросла в его глазах до большого, важного дела.
С ощущением выполненного долга он отправился по адресам, записанным в его книжечке рукой Берты. Дел оказалось немного; подписав какие-то счета и получив заверения, что все будет выполнено в строгом соответствии с договорами, он смог уже ночным поездом выехать в Полтаву.
В Полтаве Урицкий должен был встретиться с Павлом Тучапским. Моисей познакомился с ним на юридическом факультете университета. «Щирый украинец», сын священника, Павел Лукич Тучапский был года на четыре старше Урицкого. Он уже успел закончить историко-филологический факультет и пришел на первый курс юридического, понимая, что знания законов помогут вести революционную борьбу.
Когда Урицкий познакомился с Тучапским, тот уже руководил в университете украинским социал-демократическим кружком и был целеустремленным марксистом.
В конце 1893 года за политическую пропаганду среди студентов Тучапский был арестован и приговорен к трехмесячному тюремному заключению. При обыске у него нашли политическую литературу.
После тюрьмы, находясь под надзором полиции, он отбыл в Виннице воинскую повинность, и надзор был снят. Но возвращение в Киев было нежелательно, и с помощью товарищей Тучапский получил штатное место помощника секретаря Полтавской губернской земской управы.
Подъезжая к городу, Моисей вспомнил предупреждение Эйдельмана: «Тучапский пока в Полтаве вне подозрений. Поэтому встреча с ним требует соблюдения всех правил конспирации. Нам нужно сохранить его „чистым“ для большой работы. Лучше всего найти повод для встречи с ним и передачи литературы не на дому, а в помещении земской управы».
Повод был. Берта поручила брату найти в Полтаве заказчика, купившего доски для работ по установке нового памятника «Шведская могила». Этот памятник в виде православного креста из сердобольского гранита устанавливался вместо пришедшего в ветхость креста, поставленного самим Петром I в честь победы над шведами в Полтавской битве. Работы, по полученным Бертой сведениям, были уже закончены, однако за доски заказчик еще не рассчитался, о чем и надлежало пожаловаться в земскую управу.
Прибыв в Полтаву, Моисей устроился за небольшую плату на постоялом дворе и пошел знакомиться с городом. Ровные чистенькие улицы с цветочными клумбами и роскошными вековыми деревьями делали город похожим на большой цветущий сад.
Откуда-то доносились звуки духового оркестра. В центре города раскинулся Александровский парк. Под руку с «благородными» девицами гуляли юнкера, а на парковых скамейках сидели похожие на скворцов семинаристы в строгой черной одежде и с завистью поглядывали на юнкеров.
Управа находилась недалеко от сада. Соблюдая конспирацию, Павел Лукич сделал вид, что не знает Урицкого и, даже находясь в отдельном кабинете, продолжал конспиративную игру. «Стены имеют уши», — жестом показал он гостю, принимая пакет с литературой.
— Ну что ж, обещаю, обещаю разобраться с вашими заказчиками, — громко сказал он, выходя с Урицким из управы.
— Спасибо за литературу, — мягко заговорил Тучапский, когда они вышли на тихую, безлюдную улицу. — Здесь у нас в Полтаве народничество гораздо крепче сидит, чем в Киеве. Надеюсь, что с помощью Плеханова нам удастся многих переубедить. Ну как, пойдем тормошить ваших заказчиков? — перешел он к «делу» Урицкого.
— Да нет, спасибо. Сам разберусь, — улыбнулся Моисей и, тепло распростившись с Тучапским, отправился выполнять поручение Берты.
Так же, как и в Кременчуге, никаких сложностей оно не вызвало. Даже больше: деньги были уже переведены в Черкассы, и поездка оказалась просто ненужной.
«Как будто Берта специально организовала эти поездки в Кременчуг и в Полтаву, чтобы я смог выполнить поручение Эйдельмана», — мелькнула смешная мысль.
Видимо, Борис Эйдельман не ожидал, что Моисей Урицкий так быстро справится с первым конспиративным заданием: он встретил появившегося на явочной киевской квартире «купчика» вопросительным взглядом.
— Ну, брат, ты просто профессор конспирации, — одобрительно похлопал он по плечу Моисея, после того как тот рассказал о своем путешествии. — А раз так, получай новое, более сложное задание: с большой партией литературы в Гомель должен был выехать сегодня вечером Мельников. Но состояние его здоровья внушает мне серьезные опасения. Не попробуешь ли ты съездить вместо него?
Вечером того же дня Моисей сдал в багаж большой, завернутый в полотно увесистый тюк «домашних вещей» и с тем же поездом выехал в Гомель.
За прошедшие песколько лет Гомель ничуть не изменился. Те же одноэтажные домики в центре, лачуги бедноты по окраинам. Моисей должен был сначала доставить литературу на квартиру, которую снимал, будучи гимназистом, а оттуда разнести ее по явочным адресам. Моисей был уверен в успехе — хозяева квартиры относились к нему с легкой руки матери, как к своему сыну, и, конечно, никаких неприятностей там быть не могло. Он так ясно представил себе улицу и дом, дорогу от вокзала, что, кажется, добрался бы с завязанными глазами. Ну а тюк? Возьмет носильщика, погрузит на извозчика и через пятнадцать минут будет на месте.
Но человек предполагает, а… Носильщик, получив по квитанции багаж, зацепился за угол стоявшего на пути деревянного ящика и упал. К ужасу Моисея из разорвавшегося тюка высыпались в привокзальную пыль брошюры, книги. Носильщик кинулся было их собирать. Но если он грамотный, он тут же кликнет полицию, а то и жандармов, которые днюют и ночуют на вокзале. Решение пришло мгновенно.
— Недотепа, я уж сам соберу, а ты сбегай в камеру, попроси веревку перевязать заново, — оттеснил он носильщика. Тот, считая, что легко отделался, быстренько отправился за веревкой, а Моисей торопливо запихал все обратно, обмотал простыней и вместе с вернувшимся носильщиком крепко перевязал драгоценную ношу.
Погруженный на линейку тюк был благополучно доставлен на квартиру маминых друзей, которые приняли Моисея действительно, как родного.
Удача сопутствовала Моисею и весь следующий день: груз был вручен нужным людям.
За лето Урицкому удалось без единого провала снабдить политической литературой социал-демократические кружки нескольких городов — и все с использованием документов комиссионера по скупке-продаже леса. Так что намерение порвать все деловые связи с Бертой, зародившееся после встречи с кременчугским хлеботорговцем, откладывалось на неопределенный срок.
Начался второй академический год в Киевском университете. И в первый же учебный день Урицкий был приглашен к инспектору.
— Так, молодой человек, — не глядя на студента, заговорил инспектор, — согласно параграфа № 129 устава университета, для продолжения учебы вам надлежит в течение трех дней внести плату за слушание лекций и посещение практических занятий.
— Но у меня нет сейчас таких денег, и в такой короткий срок вряд ли я смогу их получить, — сказал Моисей.
— Ну если вы, господин Урицкий, так стеснены в средствах, — тем же монотонным голосом, продолжая смотреть куда-то в сторону, проскрипел инспектор, — можете подать прошение об освобождении вас от платы. Однако должен предупредить, что условия освобождения от платы, установленные министерством народного просвещения, весьма жесткие: только пятнадцать процентов от общего числа студентов могут быть освобождены. В вашем распоряжении три дня.
Моисей отправился искать Чорбу. Положение складывалось катастрофическое, денег на оплату учебы не было. Причитающаяся ему после смерти матери часть наследства осталась в деле «Лесоторговой фирмы Урицких», которую возглавила Берта. Конечпо, если попросить сестру выслать денег, она не откажет, но хороший же ты революционер, Моисей Урицкий, если не можешь жить без помощи старшей сестры, получающей средства от торговых сделок. Можно рассказать все Борису Эйдельману, но тогда придется признаться ему, что значительная часть денег, выдаваемых Бертой, ушла на поездки, связанные с его же поручениями.
Войдя в кабинет с табличкой на двери «Кандидат прав И. И. Чорба», Моисей смущенно остановился у стола, за которым, обложенный книгами в тяжелых кожаных переплетах, восседал Иван Иванович. Ничего общего с добродушным украинцем, с которым Моисей встречался столько раз и у Ювеналия Мельникова, и у Бориса Эйдельмана. «кандидат прав», сидевший за огромным письменпым столом, не имел. Уж не перепутал ли чего-нибудь студент, отчисляемый из университета за неуплату?
— Что вам угодно? — строго спросил Иван Иванович.
— Я Моисей Урицкий, — неуверенно заговорил Моисеи, — студент этого университета. Вы что же, меня не узнали?
— Ну так что же что студент?
— Я хотел… — Моисей окончательно растерялся. Несколько дней назад этот же самый человек напутствовал его в дорогу, давал добрые советы по конспирации, а теперь…
— Вы же видите, я занят, — еще строже сказал Иван Иванович и придвинул к себе огромный фолиант, на переплете которого Моисей успел прочесть одно слово, тисненное золотом, — «Кодекс». — Вы меня поняли?
— Понял. Прошу прощения, — сказал Моисей и попятился к выходу. И вдруг ему показалось, что грозный Иван Иванович подмигнул ему озорным веселым глазом.
Чорба нагнал Урицкого при выходе из университета. Тот стоял на тротуаре, словно не зная, куда идти, и безучастно смотрел, как несколько рабочих в белых комбинезонах крепили на красные университетские колонны портрет царя Александра III, писанный масляными красками на широченном полотне. Царь смотрел на своих подданных немного выпученными усталыми глазами, серебряный вензель, закрывая свет студентам, расположился на балюстраде университетского балкона.
— Иди за мной, — проходя мимо Урицкого, коротко сказал Чорба и быстро зашагал по направлению к Софийскому собору. — Обиделся? — улыбаясь, спросил он, когда Урицкий поравнялся с ним.
Опять это был обычный, приветливый товарищ, каким его знал Урицкий.
— Пусть это будет тебе хорошим уроком, — продолжал Чорба. — Мне Борис Эйдельман назвал тебя чуть не профессором конспирации, а ты? Приход студента по любому поводу в мой кабинет может вызвать недоумение ректора. Теперь говори, что тебя ко мне привело?
— Я больше не буду, — совсем по-мальчишески пообещал Моисей.
— Вот и отлично, но все же зачем пожаловал?
Урицкий рассказал.
— Да, вопрос непростой, — задумался Чорба, — процедура освобождения сложная и длительная, но попробуем. Пойдем к тебе.
Когда прошение было составлено по всей форме и подписано, Чорба неожиданно спросил:
— Послушай, а какой у вас дом в Черкассах? Подвал есть? Можешь ты мне нарисова ть его?
— Отлично, ты даже представить себе не можешь, как это отлично, — приговаривал Иван Иванович, следя за рукой Моисея, набрасывающей чертеж подвала. Это место детских игр, запретное и потому вдвое заманчивое, помнилось во всех деталях.
«Наверно, предполагает использовать как склад политической литературы», — думал Моисей, но вопросов не задавал. Проштрафился — хватит.
— Это я оставлю у себя. Надо показать Борису и Ювеналию, — спрятав чертеж в карман, сказал Чорба.
Процедура освобождения от платы за посещение лекций в университете затянулась.
Первого октября Урицкого вновь пригласил хмурый инспектор. Готовый услышать положительное решение, Моисей вошел в кабинет с улыбкой, и даже равнодушно-отчужденный инспектор показался ему гораздо приятнее, чем в прошлый раз.
— Должен вас уведомить, что управляющий учебным округом ваше прошение не удовлетворил, — протянул он Моисею его прошение с какой-то закорючкой в верхнем углу.
Моисей словно споткнулся о невидимую преграду на ровной дороге:
— Как же мне теперь быть?
— Вам, господин Урицкий, надлежит немедленно уплатить за тринадцать недельных часов и три часа занятий по французскому языку, — полистав бумаги, продолжал инспектор. — В противном случае вы будете отчислены из университета. Всего шестнадцать рублей. Полагаю, что вам как представителю еврейского купечества уплатить эту сумму большого труда не составит.
Ударение, сделанное инспектором на слове «еврейского», подсказало Урицкому главную причину отказа в его просьбе. Свое предположение он высказал Эйдельману.
— Ну что ж. Вполне вероятно, — согласился Борис, — а вопрос с уплатой за учебу мы с тобой разрешим таким образом: деньги на этот взнос мы тебе соберем. Не дергайся, в долг, — засмеялся он, заметив протестующее движение Моисея. — О твоих репетиторских успехах мы наслышаны, вот я и подобрал тебе несколько оболтусов, которых надо дотянуть до окончания гимназии.
— В дальнейшем не рекомендую затягивать сроки оплаты, это тоже может послужить причиной отчисления из нашего университета, — предупредил Урицкого инспектор после вручения ему квитанции об уплате денег в кассу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Закачивалась учеба Моисея Урицкого на юридическом факультете. Домашнее репетиторство, пропагандистская работа в рабочих кружках, выполнение поручений группы Мельникова и Эйдельмана отнимали много времени. Он стал реже появляться в студенческой библиотеке, сидел в своей «келье» за маленьким столиком, на котором с трудом размещались учебники, монографии. Уголовное право Кистяковского, уголовное судопроизводство Фойницкого, курс Андреевского по полицейскому праву и Шершеневича — по торговому. Хотелось поглубже разобраться в методах работы жандармского управления, а также пополнить знания по торговому делу для деловых поездок. Ну а ночи оставались для изучения политической экономии и чтения политической литературы: готовился к ответам на вопросы слушателей кружка, который теперь окончательно перекочевал в его «келью». Как-то получилось, что занятия кружка стали больше походить на нелегальные собрания с острыми политическими дискуссиями.
Однажды Эидельман, передавая Моисею брошюру, отпечатанную на гектографе, предупредил:
— Эту работу прочти особенно внимательно. Очень важная работа. Написал ее молодой петербургский марксист Владимир Ульянов. Издание нелегальное, — предупредил Борис.
«Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» — прочел Урицкий. Название не взволновало. С социал-демократами воюют народники всех мастей, что может быть здесь нового?
Однако по мере чтения стало ясно, что работа действительно исключительная. Урицкого поразила железная логика написанного. Никогда еще, ни в нелегальной литературе, ни от своих опытных товарищей, нигде не читал и не слышал он такого ясного, аргументированного анализа идей, программы и тактики русского либерального народничества.
Петербургский марксист четко и конкретно определил задачи, стоящие перед социал-демократическим движением в России.
Книгу надлежало вернуть на следующий день. Но отдавать не хотелось. Странно, но эта маленькая книжечка создавала чувство твердой почвы под ногами, уверенности в правоте своего дела.
— А можно я эту работу прочту слушателям кружка? — спросил Моисей на следующий день.
— Ну хитрец, хочешь задержать книгу? — улыбнулся Борис. — Хотя понимаю, что твоим кружковцам ее будет очень полезно послушать. Одновременно расскажи им, что группа марксистов, возглавляемая Владимиром Ульяновым, перейдя от пропаганды марксистских идей к широкой агитации среди рабочих, определила пути соединения научного социализма с массовым рабочим движением.
Какими наивными теперь казались Урицкому попытки студенческого кружка польской социалистической молодежи проводить агитацию среди рабочих железнодорожных мастерских. Агитацию, не подкрепленную научным обоснованием неизбежности революции. Поначалу его было увлекли яркие лозунги борьбы с русским царизмом, угнетающим поляков, белорусов, украинцев, евреев. Но постепенно национальное чванство руководителей кружка сделало свое дело. И Моисей сам теперь вел борьбу с националистическими тенденциями пепеэсовцев, разъясняя рабочим необходимость интернационального единства.
После объединения «Русской социал-демократической группы» со студенческими кружками польских и литовских социал-демократов пропагандистская работа в рабочей среде стала более целенаправленной. По предложению Мельникова для более четкого руководства ею в конце 1895 года был образован Рабочий комитет, который стал подбирать надежных пропагандистов для руководства кружками на фабриках и заводах. Одним из руководителей такого кружка комитет утвердил и Моисея Урицкого.
Рабочий комитет, понимая, что распространением социал-демократических идей среди узкого круга лиц, посещавших кружки, трудно всколыхнуть рабочие массы, принял решение об усилении агитации.
— Без издания прокламаций, обращенных к рабочим, а также без своей рабочей газеты не разбудить пролетарское сознание рабочих, — говорил Ювеналий Мельников.
Печатание прокламаций было поручено скрывающемуся в Киеве от жандармов Альберту Поляку. Работал на вывезенном из Гомеля гектографе и ремингтоне с мимеографом…
Встретился Урицкий с другом на конспиративной квартире Софьи Владимировны Померанц. В ее небольшом домике на Подоле и было смонтировано это примитивное печатное оборудование. Софья Владимировна готовилась стать зубным врачом, и посетители ее дома — пациенты — не вызывали подозрений полиции.
— Ну что ж, поработаем теперь в Киеве, — такими словами встретил Урицкого Поляк.
— Поработаем, — приветствовал старого товарища Моисей. — Только я вижу, в моей помощи здесь не очень нуждаются. Это ведь твоя работа? — Он достал из кармана пиджака аккуратно сложенную газету: — «Bосьмого декабря 1896 года», — прочел он дату выпуска первого номера газеты киевских социал-демократов «Вперед». — Что-то долго до нас она шла.
— Так это только помечено время, а вышла она на днях, то есть шестого января 1897 года, — конспирация, — засмеялся Поляк.
Гектограф, на котором печатался первый помер газеты «Вперед», был чрезвычайно изношен. По просьбе Поляка па первой странице была сделана выразительная надпись: «Лучше кривыми буквами говорить правду, чем прямыми и красивыми ложь».
Как и прежде, в Гомеле, Моисей зачастил к Поляку. Он помог другу отпечатать партию прокламаций по поводу петербургской стачки с перечислением требований рабочих и объяснением причины стачки.
28 февраля Поляк с гордостью показал Урицкому свеженький второй номер газеты «Вперед». «Сила рабочих — в их союзе, счастье рабочих — в их собственных руках», — прочел Моисей девиз газеты и от души поздравил товарища.
— А поздравлять-то и не с чем, — вздохнул Альберт. — Боюсь, что это последняя работа старика-гектографа, нужно новое оборудование.
В Гомеле был надежно спрятан Поляком типографский шрифт. Но кто ого доставит в Киев? Вопрос о создании в Киеве прилично оборудованной типографии обсуждался в мастерской Мельникова. О поездке Поляка в Гомель нечего было и думать — его там отлично знали и полиция и жандармерия.
Урицкий был уверен, что доставку шрифта поручат ему, по Мельников сказал:
— Поеду сам.
Однако в поезде, по доносу своего бывшего роменского одноклассника Романа Данчича (которого, кстати, в свое время Ювеналий спас от петли, приготовленной за ябедничество соучениками), Мельников был арестован жандармами и снова посажен в Лукьяновскуго тюрьму.
Иван Чорба недаром так тщательно изучал чертеж подвала дома Урицких в Черкассах. Совсем не склад политической литературы задумал он. И когда для подготовки к государственным экзаменам осенью 1897 года в Черкассы выехал Моисей Урицкий, группа «Рабочее дело» (к этому времени она объединилась с группой польских социал-демократов, преобразовалась в киевский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — по образцу петербургского «Союза борьбы…») поручила Урицкому подготовить место для организации подпольной типографии.
— Мне нужна печатная машинка, государственные экзамены требуют кучу всяких бумаг, — сказал он Берте.
Разве могла Берта догадаться, что вместо печатной машинки в комнате любимого брата обосновался стгрый гектограф Альберта Поляка. Он устарел для печатания газеты, а листовки, прокламации, воззвания выходили на нем вполне подходящие — читателей не смущали кривые буквы.
Вскоре генерал-майор Новицкий получил донесение, что в среде черкасских рабочих и ремесленников «обнаружена вреднейшая политическая литература».
Какие только меры не принимали полицейские ищейки чтобы выполнить приказ Новицкого — «источники крамолы установить, распространяющих листовки и прокламации арестовать и доставить в Киев». Рабочие и ремесленники молчали, а дом Урицких был пока вне подозрений. «Профессор конспирации» утверждал шутливое прозвище, данное ему Эйдельманом. Один из чинов местной полиции, правда, спросил как-то Берту, почему кроме торгового люда ее дом стали посещать рабочие, окрестные крестьяне? Но узнав, что «господин юрист» пишет им официальные просьбы, прошения и жалобы, успокоился.
Урицкий хорошо знал, что нельзя недооценивать нюх полицейских. Добрые люди предупредили Берту, что полиция предполагает начать повальные обыски в черкасских домах. Пренебрегать этими сведениями было бы глупо.
И снова пригодился отцовский «дубок». В первую же ночь после предупреждения Моисей вместе с младшим братом Соломоном отправился «на рыбалку». Крепко смазанный колесной мазью, плотно запакованный в брезент, печатный станок был погружен в днепровский омут до лучших времен, а печатные рамки, шрифт и другие приспособления утром вывезены на пристань для отправки в Бердичев по надежному адресу.
По «доброй старой традиции» полиция нагрянула к Урицким в полночь. Но ничего предосудительного, что могло быть предъявлено в качестве «вещественных доказательств», обнаружить не удалось.
Обманутый в своих ожиданиях, посланный Новицким из Киева жандармский ротмистр Беклемишев покинул Дом, не скрывая раздражения. Он почти не слушал заверений местного урядника, обещавшего вести постоянное наблюдение за подозрительным студентом.
А наблюдать-то было не за чем. Приближались сроки государственных экзаменов, и Моисей плотно уселся за подготовку к ним. Беспокоило Урицкого только отсутствие каких-либо сведений от Бориса Эйдельмана, избранного, как знал Моисей, от киевской группы «Рабочей газеты» (наряду с изданием нового общероссийского органа группа вела подготовку к съезду партии) делегатом на первый съезд социал-демократической партии, который должен состояться в Минске с 1 по 3 марта 1898 года.
Не дождавшись обещанного Борисом сигнала, Моисей в середине марта выехал в Киев.
В каюте второго класса две нижние койки оказались занятыми жандармскими унтер-офицерами. Соседство не из приятных. Но скоро Урицкий понял, что билет, приобретенный им в кассе черкасской пристани, оказался «выигрышным». Забравшись на верхнюю койку и совсем уж было приготовившись ко сну, он услышал голос одного из унтеров:
— Думаю, что начальство теперь даст малость отдохнуть. Устал чертовски. Это же надо — по Киеву гоняли дни и ночи, потом по Екатеринославу…
— Теперь будет полегче, ротмистр сказал, что прикончили их раз и навсегда, — донеслось с другой полки.
Не было названо ни фамилий, ни организаций, конспирация жандармами не нарушалась, но Урицкий точно понял, о чем шел разговор.
Подозревая, что в Киеве многие социал-демократические явки провалены, Урицкий решил пойти к студенту-медику Александру Берлину, на запасную, «аварийную» явку.
Все оказалось хуже самых горьких предположений. Берлин рассказал, что киевский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» полностью разгромлен. Арестован почти весь только что созданный Киевский комитет РСДРП, произведены массовые аресты социал-демократов в Киеве, Екатеринославе и других городах. В Екатеринославе арестован Борис Эйдельман, захвачена типография «Рабочей газеты», арестован наборщик Альберт Поляк.
Тяжело переживал Урицкий арест своего наставника Эйдельмана и друга Поляка. Но как бы поступил Борис сейчас на месте Моисея? Конечно, начал бы действовать. И прежде всего, связавшись с оставшимися на свободе товарищами, занялся бы восстановлением организация.
И Урицкий, шаг за шагом, приступает к организации работы киевского комитета. Во-первых, необходимо узнать решения съезда. Для этого лучше всего встретиться с кем-либо из делегатов съезда, но Эйдельман арестован, где-то скрывается Вигдорчик. Тогда Урицкий едет в Вильно, где ему с большим трудом удается встретиться с делегатом съезда Кремером, который по поручению петербуржцев напечатал «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии».
Кремер обстоятельно информировал киевского представителя о съезде, его решениях и передал для украинских товарищей большую партию «Манифеста РСДРП».
Возвратившись в Киев, Урицкий приступил к распространению этого важного документа. Связей у восстанавливающейся социал-демократической организации было мало, да и сама-то она состояла из неопытной молодежи. И Урицкий, рискуя быть схваченным жандармами, принялся сам распространять манифест среди знакомых рабочих на фабриках, заводах и в мастерских. Но дело продвигалось очень медленно. И Моисею пришла в голову идея: обратиться к двум знакомым черкасским крестьянам, приехавшим на киевский базар. Он заплатил им и попросил раздать «афишки» рабочим у проходной железнодорожных мастерских и у завода «Арсенал», но так, чтобы полиция не заметила. Желая поскорей выполнить поручение и отправиться со случайным заработком домой, крестьяне в тот же час принялись за дело. Осталось несколько листков, когда подвернулся добровольный осведомитель жандармов.
Крестьян продержали сутки в полицейском участке, а потом отпустили по домам, так и не выяснив, кто же дал им такое поручение.
Между тем дело о киевском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», возбужденное жандармским управлением в марте 1898 года, коснулось и Урицкого. Но так спокойно, так независимо держался на допросе этот купеческий сынок, что жандармский ротмистр усомнился в правдивости полученного донесения о связи Урицкого с руководителями этого «Союза», да и прямых улик о его противоправительственных действиях не было. И Моисей остался на свободе.
И наконец радостное известие. Из Лукьяновской тюрьмы за недостаточностью улик выпущен ряд арестованных в марте социал-демократов и среди них — член Киевского комитета РСДРП Константин Василенко.
Для быстрейшего воссоздания киевской организации требовался печатный орган. Урицкий, раздобыв мимеограф, вместе с Василенко выпустил №№ 4, 5 и 6 газеты Киевского комитета РСДРП «Вперед». Но изданная на мимеографе газета в небольшом количестве экземпляров не могла удовлетворить потребностей партии. Требовалось создать настоящую подпольную типографию, и комитет поручает заняться этим делом Урицкому.
Но где? В Киеве, под носом у жандармов — опасно. В Черкассах? Дом Урицких тоже находится под пристальным наблюдением. А вот в Бердичеве Моисей присмотрел отличный подвал для хранения лесоматериалов… Чем не помещение для типографии? К тому же в Бердиве уже есть и шрифты и оборудование, переправленные из Черкасс.
Дом в Бердичеве, под которым находился облюбованный Урицким подвал, принадлежал двум рабочим-слесарям. Договориться с ними удалось легко. Моисей нанял их для работы в типографии, и очень скоро полным ходом заработала подпольная бердичевская типография. В течение нескольких месяцев она печатала брошюры, воззвания, прокламации, был подготовлен к выпуску седьмой номер газеты «Вперед», единственным редактором которого был Моисей Урицкий. К 1 Мая 1899 года он сумел выпустить и первомайскую прокламацию.
Появление этой прокламации было полной неожиданностью для киевского жандармского управления. Жандармы спешно начали розыск нелегальной типографии. Полученные агентурные сведения позволили 6 августа 1899 года возбудить дело «о тайной бердичевской типографии, организованной сыном купца Моисеем Соломоновым Урицким». Вот теперь можно было объединить дознание по делу Киевского комитета РСДРП с делом «о тайной бердичевской типографии». Поскольку жандармы не имели официальных доказательств для ареста Урицкого, они взяли у него подписку о невыезде и явке по первому требованию.
Существование типографии в Берднчеве стало небезопасным. Воспользовавшись тем, что заканчивалась отсрочка от военной службы, Урицкий принимает решение выехать в Киев для прохождения военной службы, а типографию укрыть в надежном месте. Спрятать оборудование типографии согласился член польской социал-демократической группы Станислав Бахницкий, работавший в Борисполе земским врачом.
Урицкий отправил оборудование типографии в Кременчуг и на станцию Бровары. Получить по этим адресам опасный груз поручено помощнику присяжного поверенного Давиду Логвинскому, а потом он должен был отправить его в Борисполь. По расчетам Урицкого скромный молодой юрист не должен вызвать подозрений полиции.
В Кременчуге на вокзале Логвинский получил в багажной кассе корзину с металлическим шрифтом, краской и рамкой с набором 7-го номера газеты «Вперед». Сгибаясь под пятипудовой тяжестью, он вышел на перрон. Необычная тяжесть корзины привлекла внимание железнодорожного жандарма.
— Эй, господин хороший, а ну покажь, что там у тебя в корзине, — остановил он молодого человека.
Давид тяжело опустил корзину на платформу.
— Арбузы, господин жандарм.
— Ну-ка покажь.
— Да ключа нет. Не ломать же.
Корзина действительно была заперта на висячий замок. Раздался третий звонок. То ли жандарму не захотелось возиться с замком и потом заниматься с отставшим от поезда пассажиром, то ли поверил молодому человеку, что в корзине в самом деле арбузы, но он отпустил со. Давид, стараясь показать, что корзина не так уж и тяжела, рывком поставил ее в тамбур вагона.
Давид Логвинский не сказал Урицкому о происшествии на вокзале Кременчуга. А жандарм, выполняя строгую инструкцию доносить по начальству обо всех происшествиях, сообщил об истории с корзиной в полицию.
«Болваны они там в Кременчуге, болваны! — орал рассвирепевший начальник киевского жандармского гу-берпского управления генерал-майор Новицкий. — Разве можно быть такими шляпами? Ведь если бы этот щенок с корзиной был опытным революционером, ищи его свищи по всей матушке-России! Хорошо, что у меня в Киеве народ поумней».
По багажной квитанции очень скоро жандармами была установлена личность Логвинского, и за ним была налажена постоянная слежка, за каждым его шагом.
Самоотверженности и самоуверенности у Давида Логвинского оказалось больше, чем осторожности и опыта. Не догадываясь о слежке, он в третьем классе парохода выехал со второй партией багажа по Днепру в Киев, для дальнейшей отправки в Бровары. Теперь не было необходимости, считал он, сдавать корзину в багаж и, имея ее при себе, спокойно ступил на сходни киевской пристани, где и был встречен жандармами.
Тут же, в дежурной комнате речного отдела полиции, корзина была вскрыта. Что-либо придумать было трудно, отрицать принадлежность корзины было невозможно. Логвинский вместе со злополучной корзиной был доставлен прямо в жандармское управление, где его ожидал сам Новицкий.
Нет, он не кричал, не шумел. Это был такой добренький толстенький человечек, что Логвинский даже подумал: «Почему о нем распустили слухи, как о звере в облике человеческом?»
— Мы вам не сделаем ничего плохого. Только говорите нам правду, — начал генерал не допрос, а скорее мягкую беседу с попавшим в дурную компанию мальчиком. По дороге в управление Логвинский придумал, как ему казалось, неопровержимую версию:
— Я ведь ничего не знаю, — начал Давид, — какой-то незнакомый мне человек попросил присмотреть за его корзиной, а в Киеве должны были встретить…
— Я же просил говорить правду, — перебил Новицкий, и лицо его начало наливаться малиновой краской. В кресле под портретом царя не стало добренького человечка. В щелях заплывших жиром глаз промелькнула искра лютой ненависти — на какое-то мгновение, но этого было достаточно, чтобы неискушенный в допросах Логвинский почувствовал, как страх стал заполнять все его существо.
— Я говорю правду, — пролепетал он и сам не узнал своего голоса. — Этот же человек просил меня получить багаж также на станции Бровары.
Он понимал, что его поведенле равносильно предательству. Понимал, но единственно, на что хватило мужества, не назвать Урицкого.
— Понимаю. Сам был молодым и принимал участие в разных молодежных шалостях. Понимаю, что выдать своих — дело трудное. Но мы и не будем настаивать. — В кресле под портретом опять сидел добрый усталый человек. — Пока, к сожалению, отпустить вас не имею права, но, если будете до конца правдивы, это произойдет очень скоро.
Нет, генерал Новицкий не будет поручать проверку багажа на имя Логвинского броварским жандармам, хватит с него Кременчуга. Группа киевских служителей на следующий день получили на станции Бровары багаж: корзину с литературой, а вдобавок кованый сундук, прибывший опять же из Бердичева, с типографским станком, а также с экземплярами свежеотпечатанной, но еще не сброшюрованной книжки Дикштейна «Кто чем живет».
Типография в руках жандармов, но этого Новицкому было мало. Если типография существовала и действовала, значит, она обслуживала какие-то организации, группы, кружки, но какие? Кто во главе этой противоправительственной организации, кто исполнители, кто занимался агитацией и пропагандой среди киевских рабочих, последнее время все больше выступающих против своих хозяев? Ниточка ведет в Бердичев, откуда шли багажи, значит, туда! И дело может быть настолько важным, что ехать в Бердичев должен не кто-то, а он сам, генерал-майор Новицкий…
Двор берцичевского полицейского отдела заполнили станно похожие друг на друга люди: в поддевках, сапогах, круглых шапках и с кнутами в руках. Было их около ста пятидесяти человек. И были это бердичевские извозчики, собранные в это октябрьское утро околоточными. Вышел к ним сам генерал Новицкий, в синем с белыми аксельбантами мундире, в форменной фуражке.
— Ребятушки, — громким «командным» голосом начал он, — мы обращаемся к вам за помощью. Дело в том, что скрылся государственный преступник, поднявший руку на нашего батюшку-царя. От вас зависит, как скоро нам удастся его поймать. Кто-то из вас возил на вокзал и на пристань тяжелые корзины и обитый железом сундук. Предупреждаю, что за это никто из вас отвечать не будет, только скажите, кто. Ну а если не признаетесь, пеняйте на себя: сгною в тюрьме!
Через несколько минут генерал Новицкий и сопровождении эскорта полицейских чинов уже выехал на Житомирскую улицу.
Дом, где еще несколько дней назад работала тайная типография, был пуст. Никаких следов в подвале не осталось. Двое слесарей — хозяева этого дома — на допросе дружно отвечали: «Ничего не знаем. Никакой типографии в глаза не видели».
Вытянув «пустышку», разъяренный генерал выехал в Киев. По дороге он немного успокоился: ну что ж, типография все равно в его руках, а главное, стало известно, кто ею заправляет — это купеческий сынок Моисей Соломонович Урицкий. К этому заключению генерал пришел путем подбора и сопоставления различных материалов допросов и донесений. Привлеченный по делу комитета РСДРП Стржалковский, как активный участник транспортирования нелегальщины из Минска и Лодзи в Киев, о сведениям жандармского дознания, «введен в состав комитета Урицким. От Стржалковского же Урицкийполучил адрес Марии Мыслицкой, куда прибывала нелегальная литература».
«Урицкий довольно серьезен», — телеграфировал Новицкому департамент полиции.
А вот и донесение черкасского ротмистра о неудачном обыске при поисках типографии в доме Урицких, вот характеристика Моисея Урицкого. Тоже, конечно, дело не доведено до конца. Но с этим разобраться придется попозже, пока же Урицкого нужно немедленно арестовать!
Отправив последние материалы типографии, Моисей Урицкий явился к киевскому воинскому начальнику. Несколько дней заняли медицинские освидетельствования, госпитальные испытания, очень детально исследовалось зрение по поводу значительной близорукости. После всех процедур он наконец был зачислен на воинскую службу в качестве вольноопределяющегося и отправлен в житомирский полк.
Проводить брата приехала в Киев Берта. Она привезла необходимые вещи, новенькую, сшитую черкасскими портными форму.
Но воинская служба Урицкому явно не удалась. На третий день службы в Житомире ночью в казарму ввалились жандармы. Не особенно беспокоясь о спящих солдатах, они, в сопровождении командира роты, подошли к койке Урицкого.
— Собирайтесь с вещами, — скомандовал старший жандарм.
На этом служба Урицкого в царской армии кончилась навсегда. Он был «возвращен в первобытное состояние», то есть исключен навсегда из военной службы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В кабинете шефа киевских жандармов царил полумрак. Свет едва пробивался в комнату сквозь плотно задернутые шторы. Даже привычный глаз адъютанта Преферанского почтительно застывшего у двери, различал сквозь пелену сигарного дыма только очертания грузно навалившейся на стол фигуры.
__ Ну, что там еще? — недовольно спросил генерал.
— Донесения за истекшие сутки, — щелкнул каблуками адъютант.
Новицкий поморщился. Он устал. Долгие годы безупречной службы царю и отечеству принесли ему больше терний, чем лавров. Начальник киевского жандармского управления искренне считал себя крупным деятелем политического сыска. По его собственным воспоминаниям, еще в 1879 году он «восьми человекам закрыл глаза навечно, „наблюдая“ за совершением всех обрядов смертной казни» и выполняя это «с твердым сознанием исполнения долга и непоколебимой твердостью». Oн руководил лично дознаниями по важнейшим политическим делам, уготовил ссылку и каторгу многим деятелям русской революции. В молодости боролся не без успеха с народовольцами.
Раньше был красив, потом представителен. Но все это осталось в прошлом. Теперь это тучный человек с короткой шеей и черными крашеными бровями и усами. Естественной была только седая голова. Говорил генерал всегда громко, одевался изысканно.
Дома, правда, ходил в старинной одежде — в белом жилете, с Владимиром на шее и в расстегнутом сюртуке. Двадцать лет назад, преисполненный радужных надежд, он поклялся сделать Киевскую губернию оплотом порядка и спокойствия. Но чем больше генерал старался, тем больше в Киеве было беспорядков. Как грибы плодились различные политические организации, кружки, общества, все они стремились изменить порядки в Российской империи. Жандармы разгоняли сходки и демонстрации, а стол генерала ломился от донесений о бунтовщиках. Не справляясь с растущим движением, генерал запросил помощиу Петербурга. Там посчитались с его просьбой и прислали молодых, громкоголосых, неуважительных к старшим жандармских офицеров. И стало еще труднее. Столичные выскочки сами метили сесть в генеральское кресло, и теперь приходилось бороться еще и с их кознями. Впрочем стареющий жандарм еще мог понять их — ставят она палки ему в колеса потому, что метят на его место. Пожалуй, он и сам бы так поступал. Но за что борются разные студенты, разночинцы? Ведь Российское государство устроено так разумно, все расставлено по своим мостам и ни в каком изменении не нуждается.
А тут еще появились социал-демократы. Читают какого-то Карла Маркса, грозятся разрушить монархию и построить в России социализм. Подумать только, до чего дошло — в его владениях создали подпольную типографию, печатают прокламации, воззвания, вредную газетенку: призывают народишко к забастовкам, бунтам и, что самое опасное, к революции. Проклятая типография! Сколько людишек поарестовали. Казалось, вырвали с корнем всю заразу, а типография где-то все равно действует.
Тяжко вздохнув, генерал принялся перебирать положенные на стол донесения и телеграммы.
Надоело. Каждый день одно и то же. Но вдруг ои почувствовал, что ворот мундира стал туже. В руках его было донесение из провинции. Перепрыгивая через строчки, он читал: «задержана партия нелегальной литературы, место расположения типографии установить не удалось. Руководит типографией Моисей Урицкий».
Генерал чуть не задохнулся от ярости. На резкий звонок Новицкого вбежал адъютант.
— Всех офицеров ко мне, — крикнул генерал. — Материалы дознания по делу киевского «Союза борьбы» — ко мне!
Через две минуты жандармские офицеры сидели вдоль стен кабинета, наблюдая, как начальник управления яростно листает папку с документами об аресте руководителей киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
— Прошляпили, — оторвал взгляд от папки генерал. — Дважды прошляпили! Почему упустили Урицкого, когда брали социал-демократишек? Почему до сих пор гуляет на воле и печатает всякую вредную ересь? Искали типографию в Киеве, а она в Бердичеве, ищем в Бердичеве, а она, может, опять в Киеве? Как упустили его в Бердичеве?
— Но вы, ваше превосходительство, сами были там…
— Молчать! Я еще разберусь, кто в этом виноват! А пока сообщить приметы Урицкого во все города Малороссии, вплоть до уездных. Филеров на вокзалы! Розыск возглавляю сам лично! Сегодня же выезжаем в Черкассы. Посмотрим, может, он там у родственничков прячется.
Генерал подгонял людей и настраивался сам, полагая, что с арестом Урицкого удастся приостановить издание политической литературы. Он стремился укрепить свой пошатнувшийся у петербургского начальства авторитет, а главное, исправить допущенную самим оплошность, что не арестовал Урицкого во время «мартовской ликвидации».
На следующий день в девять часов утра дом Урицких в Черкассах на Дубасовской улице был окружен прибывшими из Киева жандармами, возглавляемыми генералом Новицким. После короткого допроса членов семьи с требованием рассказать все, что им известпо об антиправительственной деятельности Моисея и его местопребывании в настоящее время, детей расспросили, что они знают о своем дяде и где он сейчас; начался обыск. Этот обыск не имел ничего общего с первым, проводимым ротмистром. Жандармы словно внюхивались в каждую бумажку, перелистывали все торговые книги, перерывали все женские и даже детские вещи.
— Как вам не стыдно, — попробовала пристыдить генерала Берта.
— Молчать! — взревел генерал. — Дом, из которого вышел государственный преступник, — осиное гнездо. Все вы тут, видно, хороши!
Не найдя ничего предосудительного ни в жилых помещениях, ни в подвалах, жандармы отвели всех взрослых в полицейский участок. Допросы под руководством Новицкого продолжались до пяти часов утра.
Протоколировалось не то, что говорилось, а то, что требовалось жандармам. Больше всего возмутили Берту занесенные в протокол сведения о будто бы антиправительственных разговорах брата дома и воспитании им в противоправительственном направлении младшего брата. Бедная женщина не знала, что натасканный на борьбе с революционерами жандарм был близок к истине: разговоры Моисея с младшим братом Соломоном во время поездок в «дубке» по Днепру, услышь их генерал, могли бы полностью вознаградить эту царскую ищейку за хлопотливый приезд в Черкассы.
Протокол Берта подписать отказалась. Ее начал душить мучительный кашель: вот уже несколько лет Берта болела туберкулезом легких.
— Черт с ней, пиши: «От подписи отказалась», — скомандовал Новицкий. И приступил к допросу прислуживающей в доме Урицких девушки. Но и тут генерал потерпел неудачу. «Ничего не знаю, никаких разговоров не слыхала», — вот и все ответы девушки.
На следующий день Новицкий произвел массовые аресты и допросы людей, посещавших когда-либо дом Берты. Больше всего доставалось студентам и экстернам. Они отрицали свою принадлежность к каким-бы то ни было социал-демократическим организациям, но у них были найдены книги и брошюры марксистского содержания, и этого оказалось достаточно для ареста. У Новицкого уже были доносы о принадлежности некоторых из них к кружку, который вел Моисей Урицкий во время своего пребывания в Черкассах. Но не только студенты подверглись генеральскому допросу за знакомство с Урицким. Когда один врач при допросе сказал, что знаком с Моисеем Урицким, Новицкий рассвирепел:
— Вас нужно повесить за то, что вы с ним знакомы!
Врач был тут же арестован и отправлен в киевскую Лукьяновскую тюрьму, где и провел около пяти месяцев за ее мрачными каменными стенами на тюремной баланде. Почти столько же просидели в тюрьме и другие арестованные в Черкассах «политические преступники», вся вина которых заключалась сплошь и рядом в одном только знакомстве с семьей Моисея Урицкого.
Надежда генерала Новицкого выйти в Черкассах на дорожку, ведущую к организации тайной типографии, провалилась. А реакционная, черносотенная киевская газета «Киевлянин» на целую полосу объявила по «достоверным данным» о захвате генерал-майором Новицким всей юго-западной организации социал-демократов во главе с «купеческим сыном Моисеем Урицким».
В Киеве генерала ждала радостная весть: «…разыскиваемый Урицкий Моисей задержан 22 октября 1899 года в Житомире, причиной может быть антиправительственная агитация в войсках», — говорилось в срочном донесении житомирской полиции.
«Немедленно доставить в Киев», — был краткий ответ Новицкого.
— Очень рад вас видеть, уважаемый «профессор конспирации», так, кажется, зовут вас ваши друзья-приятели, — шутовским тоном заговорил генерал, с интересом разглядывая введенного в кабинет черноволосого молодого человека. — Однако мои люди все-таки выследили вас, несмотря на всю вашу хваленую конспирацию.
— Не разделяю вашей радости по поводу нашей встречи, — спокойно сказал Урицкий, поправляя очки. — И не могу назвать вас уважаемым, потому что не уважаю ни вac, ни вашу службу.
— Ну что ж, это ваше личное дело, — примирительно сказал генерал. — А мое дело — потребовать от вас: расскажите все, что касается тайной типографии социал-демократов в Бердичеве и в других городах.
Понимая, что отрицать свою причастность к деятельности берднчевской типографии после ее провала бессмысленно, Урицкий рассказал, что принимал участие в ее работе, и о том, что в связи с призывом на военную службу должен был прекратить ее существование. Это не давало никаких козырей жандармам.
— Где люди, которые работали с вами в типографии?
Это был промах генерала: он дал понять Урицкому, что его товарищи, которые скрылись из Бердичева сразу после вывоза последнего сундука со станком, не попали в лапы полиции.
— Я работал один и никаких людей назвать не могу.
— Врешь! — вдруг взвился генерал. — Все врешь!
— Я попросил бы обращаться ко мне на «вы», — спокойно сказал Урицкий.
— Хорошо, оставим вопрос о типографии, — сквозь зубы процедил Новицкий, справляясь с собой, — мы о ней все знаем. Прошу назвать всех, кто пользовался ее услугами, кто давал задания на печатание подпольной литературы, кому она высылалась?
— Этого я вам никогда не скажу, — ответил Урицкий твердо, прямо глядя в налившиеся кровью глаза генерала.
— Врешь, скажешь, — опять взорвался жандарм. — Посидишь в одиночке — скажешь! В тюрьму, — приказал он стоящему у дверей жандарму. — Передать начальнику тюрьмы — без права свидания и передачи. Я всех вас научу отвечать на наши вопросы, — уже вдогонку арестованному прорычал генерал.
Мрачное здание Лукьяновской тюрьмы расположилось на окраине Подола. За тюрьмой тянулись картофельные огороды, их обычно обрабатывали уголовники, далее виднелись казармы 165-го Луцкого полка, призванного по тревоге оказывать помощь тюремной администрации. Практически к моменту заключения Урицкого в тюрьме содержались почти исключительно политические, да и тем не хватало мест — вместо одиночек приходилось содержать их в общих камерах по сорок — восемьдесят человек. Урицкого провели в конец коридора второго этажа, где размещались огромные камеры, предназначенные прежде для уголовных преступников мелкою масштаба. Была глубокая ночь, в камере, освещенной масляной коптилкой, ничего не было видно. Только слышно тяжелое дыхание многих людей, спящих в душном помещении. Моисей остановился у захлопнувшейся за ньм двери, ожидая, пока глаза привыкнут к мраку.
— Кто там? Новенький, что ли? — раздался из глубины камеры чей-то голос.
— Опять «наседку» привели. Спать не дают, — пробурчал второй.
Кто-то чиркнул спичкой, зажженная свеча приблизилась к лицу Урицкого.
— О, смотрите, кто к нам пожаловал, — совсем рядом прозвучал удивительно знакомый Моисею голос. — Это же Урицкий.
Сна как не бывало. Люди вскакивали с нар — всем отелось оказаться поближе к товарищу, только что пришедшему с воли. Здесь, в Лукьяновской тюрьме, в общей камере сидели и товарищи Моисея по Киевскому комитету РСДРП, и студенты университета, и кружковцы политических кружков Киева. Почти все хорошо знали Урицкого. Он едва успевал пожимать протянутые руки, отвечать на вопросы:
— Ну, как там?
— Что нового в Киеве?
— Кого еще взяли?
— Товарищи, не все сразу, — рассмеялся Моисей. — Кажется, мои боевые друзья марксисты больше рады моему заключению, чем его превосходительство генерал Новицкий моему аресту. Впереди еще много времени, друзья. Обо всем переговорим. А как вы тут? Как тюремное начальство? Не прижимает?
— Нет, все бы сносно, по Бориса Эйдельмана и Ивана Чорбу держат в одиночках без прогулок. Борис болен, не знаем, что и делать.
— Протестовать, — сказал Урицкий. — И не одному, не двум, не одной камерой, а всей тюрьмой. Ведь, если взбунтуются все политики, администрации ничего не останется другого, как сдаться.
— Да она и слушать нас не станет, разгонят по разным камерам и делу конец, — послышался со стороны камерной «параши» старческий голос. На него дружно зашикали.
— Вот из-за таких «героев» с нами и творят, что хотят.
— Урицкий прав, надо протестовать.
— Давайте-ка обсудим все вместе обстановку, — предложил Моисей.
Через час он знал все: и о самоуправстве администрации, и натравливании ею уголовников на политических, и о совершенно фантастических планах побега.
В камере никто не заснул. Все сгрудились в дальнем углу, чтобы не видел в «волчок» надзиратель, и, затаив дыхание, слушали Моисея Урицкого.
— Нет, друзья, — тихо говорил он, — надо быть реалистами. Надо отбросить идеи о подкопах — тюремные стены Лукьяновки имеют фундамент, на много аршин уходящий в землю, оставим лестницы, сплетенные из полос простыней, на будущее, да и простынь я у вас что-то не вижу. А начать наш протест, я думаю, нужно вот с чего: организуем коммуну.
— Вот это реалист! Куда загнул… Коммуна в тюрьме. Да это грудные дети поднимут на смех, — язвительно захихикал тот же старик у «параши».
— Ну, нет. Я предлагаю завтра же, во время прогулки, постараться оповестить о нашем начинании всех политических и сразу после этого направить депутацию к начальнику тюрьмы.
Молодежь, а она в тюрьме преобладала, с восторгом приняла предложение своего ровесника. Тут же стали распределять, кому кого оповестить о начинании, кого избрать делегатом; возглавить делегацию единогласно поручили Урицкому.
Нет, это не было чудом. Получив требования делегации политических заключенных об изменении режима, возможности общения, прогулках, улучшении питания за счет увеличения передач, начальник тюрьмы крепко задумался: ставить в известность городские власти? По головке не погладят за то, что допустил подобные требования. А немного пойти навстречу заключенным? Большой беды не будет — все равно под замком и ничего серьезного сотворить не смогут. И потом, этот Урицкий, по всему видно, от своего замысла не отступится и будет будоражить всю тюрьму.
Но он ошибался, этот начальник тюрьмы, полагая, что крепкие стены и тяжелые замки скуют волю политических. Лукьяновская тюрьма стала для многих революционной школой и стараниями Урицкого с товарищами действительно превратилась в своеобразную коммуну.
Вот что пишет о Лукьяновской тюрьме в своих воспоминаниях о Моисее Урицком Анатолий Васильевич Луначарский.
«…Между тюрьмой и ссылкой я был отпущен на короткий срок в Киев к родным. По просьбе местного политического Красного креста я прочел реферат в его пользу. И всех нас — лектора и слушателей, в том числе Е. Тарле и В. Водовозова, — отвели под казацким конвоем в Лукьяновскую тюрьму.
Когда мы немного осмотрелись, то убедились, что это какая-то особая тюрьма: двери камер не запирались никогда, прогулки совершались общие, и во время прогулок вперемежку то занимались спортом, то слушали лекции-по научному социализму. По ночам все садились к окнам, и начинались пение и декламация. В тюрьме имелась коммуна, так что и казенные пайки, и все присылаемое семьями поступало в общий котел. Закупки на базаре на общий счет и руководство кухней, с целым персоналом уголовных, принадлежали той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битье и даже ругательства. Как же совершилось это чудо превращения Лукьяновки в коммуну? А дело в том, что тюрьмою правил не столько ее начальник, сколько староста политических — Моисей Соломонович Урицкий.
В то время он носил большую черную бороду и постоянно сосал маленькую трубку. Флегматичный, невозмутимый, похожий на боцмана дальнего плавания, он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал все, поспевал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других.
Над тюремным начальством он господствовал именно благодаря своей спокойной силе, властно выделявшей его духовное превосходство».
Но, к сожалению, всему наступает конец и уж конечно хорошей жизни в царских тюрьмах. Однажды ночью в Лукьяновскую тюрьму были доставлены политические арестованные из Екатеринослава. Среди них находился один товарищ, серьезно заболевший на длительном и изнурительном этапе. В камере он тут же впал в беспамятство, стал бредить и метаться. Арестованные этой камеры немедленно рассказали о состоянии больного Урицкому. Моисей потребовал у дежурного офицера немедленно; он вызова тюремного врача к больному. Врач был дома и ночью ехать в тюрьму отказался. Больной был при смерти. Тогда Урицкий, крупно поругавшись с дежурным, потребовал вызвать частного врача. Дежурный доложил начальнику тюрьмы. Тот наотрез отказался допустить в тюрьму частное лицо, да еще в ночное время без предварительного разрешения жандармского управления. Урицкий отлично понимал, что жандармское управление, конечно, не даст такого разрешения. Им были оповещены все камеры, и политические заключенные дружно выразили протест. Выйдя из незапертых камер в коридоры, они кричали, колотили кулагами в железные двери, даже заперли в камеры надзирателей. Это уже был бунт. Администрация тюрьмы вызвала войска, о случившемся начальник тюрьмы был вынужден доложить генералу Новицкому.
— Кто зачинщик? Зачинщика в карцер! Остальных — по камерам, на хлеб и воду. Две недели без прогулок, — распорядился генерал.
Узнав, что бунт организован политическим заключенным Урицким, Новицкий вознегодовал. Значит, арестант имел возможность сноситься с другими заключенными! Значит, его приказ о строгом содержании Урицкого как особо опасного государственного преступника не вьшолняется? Много «теплых слов» вместе с обещанием понижения в должности и отправки в один из дальних уездод Малороссии услышал в эту ночь начальник тюрьмы.
Но Урицкий! Ведь сколько месяцев после его ареста Новицкий сам продолжал допросы. Он запретил всякие свидания с родственниками и только однажды разрешил Берте увидеть арестованного брата, надеясь обратить это свидание на пользу следствию. Свидание происходило в присутствии усиленного караула жандармов. Но этот отъявленный революционер и на свидании продолжал вести себя, как в собственной квартире, — шутил, говорил сестре, чтоб она не волновалась, что, кроме ссылки, ему ничего не грозит и что он скоро надеется выйти на свободу, так как у жандармов нет никаких доказательств.
На просьбу сестры передать Моисею теплые вещи и продукты Новицкий ответил отказом.
— Пусть посидит без передач до тех пор, пока не признается, — заявил генерал Берте. — Я на вашем месте поторопил бы братца правдиво ответить на мои вопросы, — добавил жандарм.
Второе свидание он разрешил ей в Лукьяновской тюрьме уже через пять месяцев после ареста Урицкого. Генерал все еще надеялся, что сестре удастся склонить брата к признанию. Но на этом свидании, по доносу тюремной администрации, Урицкий не только не осознал свою вину, но еще и отпускал едкие замечания в адрес самого начальника жандармского управления. «Живется в тюрьме хорошо, — сказал Урицкий сестре, — и я даже просил следователя по важным делам не отказать в любезности прислать печатный станок в тюрьму. Печатать здесь удобно, а тюрьма — хорошая революционная школа».
Но теперь, после «бунта», генерал сам проследит, чтоб арестованному Урицкому жилось «не очень хорошо».
— Немедленно переправить Урицкого в Киевскую крепость на Печерске, — последовало на следующий день после «бунта» распоряжение начальника жандармского управления, к великой радости администрации Лукьяновской тюрьмы. Тем более что можно было ждать нового всплеска неповиновения политических — больной заключенный в этот же день умер. А без Урицкого будет значительно спокойней.
Комендант крепости генерал-лейтенант Немирович-Данченко называл себя человеком либеральным, способным понимать людей, «желающих перестроить мир». Но это было только его личное мнение о своей особе. Практически же это был службист, который ни на шаг не отступал от приказов свыше. Когда он получил приказание держать арестованного Урицкого в одиночке под усиленным контролем и без свиданий, сомнений, что это прибыл серьезный преступник, покушавшийся на государственный строй, у коменданта не было.
«В наказание за строптивость и руководство тюремными беспорядками отправить в Печерск на гауптвахту Киевской военной крепости», — значилось в распоряжении жандармского управления. В специальном отношении на имя коменданта крепости было передано личное приказание генерала Новицкого: «Урицкому запрещено курение и чтение книг и газет».
Крепость в Печерске резко отличалась от обычных российских тюрем. Печерская гауптвахта была расположена на самом берегу Днепра. Это было двухэтажное каменное здание, предназначавшееся для арестованных солдат и офицеров царской армии. И только в последние годы туда стали помещать политических заключенных по специальному отбору жандармского управления. Их содержали в одиночных камерах, на окнах которых помимо железных решеток была натянута проволочная сетка такой густоты, что сквозь нее нельзя было просунуть даже спичку. Обычного «волчка» — маленького окошка, в которое подается пища, в дверях не было, был только «глазок», который, мало того что был застеклен, еще и затягивался густой сеткой. «Свет божий» проникал через сетчато-решетчатые окна, от этого казалось, что сеткой покрыты стены, потолок и все имеющиеся в камере предметы. Это «изобретение» строителей царских тюрем было особенно мучительно для заключенных в такой камере на длительное время.
Поскольку крепость предназначалась для военных, с пищей было довольно сносно.
Постоянных надзирателей, которые могли бы войти в контакт с заключенными, в крепости не было. Охранял ее военный караул, ежедневно менявшийся. В Киеве располагалось семь полков пехоты, саперный и понтонный батальоны. Части этих полков и батальонов по очереди занимали крепость и несли в ней караульную службу в течение суток.
Заключенные не имели права иметь какие-либо вещи, кроме одежды, — ни бумаги, ни книг.
В инструкции говорилось, что заключенным полагается три раза в день давать кипяток. Свято соблюдая эту инструкцию, один из офицеров караула запретил выдачу заключенным холодной воды, не предусмотренную инструкцией.
Прогулка, самая большая радость заключенных, в крепости урезывалась; гуляли по одному, один раз в два дня по двадцать минут. Летом взамен отсутствующей бани можно было «принять душ». Это означало: нацедить ведро воды из водопроводного крана и окатиться ею. Но это делалось в счет прогулочного времени.
По инструкции полагалось заключенному ходить между двух солдат, вооруженных винтовками. Запрещалось заглядывать в окна камер, выходивших в прогулочный дворик.
Библиотеки в крепости не было, а книги, принесенные родственниками, можно взять только по особому разрешению коменданта.
Правда, через солдат караула к заключенным иногда попадали газеты, и можно было узнать, что делается на белом свете.
Передачи в крепости были явлением таким же редким, как и свидания с близкими.
Приказывая перевести Урицкого из Лукьяновской тюрьмы в крепость, генерал Новицкий знал, что делает. Крепостной режим должен сделать свое дело: превратить здорового человека, борца в развалину. Особые одиночные камеры крепости помещались в сыром подвале, в который не проникал дневной свет. Железная койка с протертым до дыр брезентовым покрытием составляла всю «меблировку». На каменных стенах камеры были нацарапаны надписи, сделанные в течение многих лет людьми, заключенными в этот каменный мешок.
Первым ощущением Моисея Урицкого, когда за ним с лязгом захлопнулась чугунная тяжелая дверь, было, что его заживо погребли в могилу. Давящая тишина не нарушалась никакими звуками, кроме медленного движения по коридору дежурного солдата да щелчков приподнимаемого «глазка»: в обязанность тюремщиков входило непрерывное наблюдение за заключенными в одиночках.
Хотелось курить. Не пить, не есть, а именно затянуться табачным дымом до самозабвения. Когда желание закурить стало мучительным, он стал стучать кулаком в дверь камеры. Тотчас приоткрылся «глазок», и в нем показался глаз солдата.
— Ну, что стучишь?
— Отсыпь махорочки на цигарку.
— Не приказано. — Глазок захлопнулся.
— Тогда позови дежурного офицера, — крикнул Урицкий.
«Глазок» опять приоткрылся:
— Не положено. А будешь стучать, буянить, оденем «смирилку».
Моисей слышал о смирительных рубашках, в которые пеленают заключенных, чем-то не угодивших тюремной администрации. И ведь ничего с мучителями не сделаешь. Но и терпеть издевательства жандармов молча тоже нельзя. Один стерпит, другой, тогда они вовсе распояшутся. Бороться. Непременно бороться.
Когда открылась дверь камеры и солдат внес бачок с баландой, Моисей выплеснул ее на пол.
— До тех пор, пока не будет отменено запрещение читать и курить, объявляю голодовку.
Солдат вышел. Дверь захлопнулась. Сейчас бы лечь лицом к стене и лежать без движения. Но железная койка откинута на день к стене и опустится только на ночь. Ужасно коптит под потолком опутанная проволокой керосиновая лампа. От ее вони и от голода тошнит, кружится голова. Но голодовка — единственный способ борьбы, доступный в этих условиях. Прошли сутки, другие, начались кошмары.
Явился тюремный врач. Здоровье арестованного внушало серьезные опасения.
— Ну если будете продолжать отказываться от пищи, примите это лекарство, оно вас поддержит, — врач протянул заключенному пилюли.
Обижать врача Урицкому не хотелось. Но после его ухода пилюли полетели в «парашу».
О тяжелом состоянии заключенного, объявившего голодовку, врач доложил коменданту крепости. Нет, не любовь к ближнему, а обязательные неприятности, которые последуют после смерти истощенного политического, заставили Немировича-Данченко без ведома Новицкого вызвать родственников Урицкого, чтобы они убедили его прекратить голодовку. Свидания с Моисеем уже несколько дней добивался муж Берты. Замуж Берта вышла, когда Моисея в Черкассах не было, он организовывал в Бердичеве типографию. Моисей радовался ее замужеству. Лучшего мужа, чем Гитман Каплун, тот самый студент, готовивший Моисея в Черкасскую прогимназию, трудно даже придумать. Но приехать на ее тихую свадьбу так и не смог, не на кого было оставить типографию. А вот Берта с мужем приехали навестить Моисея в Бердичев. Встреча вышла по-родственному теплой, по той общности взглядов, которую можно было ожидать, Моисей не почувствовал. Уж больно глубоко вник бывший студент в торговые дела Берты. Вот и теперь ои приехал в Киев по торговым делам и по просьбе Берты пытался получить разрешение на свидание с Моисеем. После категорического отказа Гитман совсем было собирался прекратить дальнейшие попытки, когда внезапно свидание было разрешено, и даже в нарушение всех положений прямо в камере, боз охраны и жандармов.
Моисей не слышал лязга засовов и открываемой двери. Он лежал на койке в забытьи и принял появление в камере посланца сестры за игру больного воображения.
— Моисей, ты узнаешь меня?
Нет, привидения не разговаривают человеческими голосами.
— Как ты сюда попал?
— Мне разрешили свидание, чтобы я убедил тебя отказаться от голодовки.
— А я и сам решил отказаться, как только снимут запрет на чтение книг и разрешат курить. Ну, расскажи, что дома? Как Берта?
Свидание длилось около часа. Но поднимать снова разговор о прекращении голодовки или хотя бы о принятии лекарства, прописанного доктором, гость не стал, понимая всю безнадежность такого разговора.
Комендант крепости доложил о состоянии здоровья Урицкого в жандармское управление: «…арестованный очень слаб и может умереть».
«Пусть умирает, черт с ним. Меньше одним мерзавцем», — ответил Новицкий. Но через несколько дней, понимая, что смерть заключенного от голодовки невыгодно отзовется на престиже жандармского управления и лично его — генерала Новицкого, сам написал коменданту крепости: «…приказание о запрещении чтения и курева отменить».
Все эти дни Урицкий лежал неподвижно на койке, которую администрация разрешила не убирать к стене в дневное время. Было состояние полусна, полубодрствования, во время которого проносилось в тяжелой голове множество мыслей, видений, часто очень далеких от этой камеры, от голодовки. Снова появившийся в камере Гитман даже несколько удивил Моисея. Теперь свидание происходило по всем правилам, жандарм сообщил о снятии запрета на курение и чтение книг. Но трубку, отобранную администрацией крепости, жандарм не принес.
— У тебя есть папиросы? — оживился Моисей. Есть уже но хотелось, но возможность вот сейчас, немедленно закурить заставила приподняться с койки. Жадно затянувшись протянутой родственником папиросой, Урицкий потерял сознание. Пришел он в себя, когда жандарм объявил:
— Время свидания истекло.
— Принеси побольше папирос, — на прощание сказал Урицкий. — Побольше папирос. А Берте скажи, что у меня все в порядке.
По ходатайству Берты администрация крепости после окончания голодовки предоставила Моисею Урицкому максимум возможных в крепости льгот, даже получение обедов и ужинов из офицерского собрания, оплачиваемых родственниками.
Здоровье Моисея стало поправляться. На пользу пошли наконец и уроки конспирации из книги Гросса. Удалось связаться с политическими заключенными и через них снестись с киевским подпольем. Это было возвращение из могилы к жизни, к работе, к революционной борьбе.
Но случилась беда. 26 ноября 1900 года двое социал-демократов, Николай Синеоков и Василий Михайлов, передали для Урицкого коробку конфет. Передали, естественно, через дежурного офицера, тот вскрыл коробку и пристально стал рассматривать каждую конфету. На обертке некоторых конфет он заметил какие-то значки и цифры. Заподозрив шифр, офицер немедленно организовал погоню. Синеоков и Михайлов были задержаны недалеко от Киево-Печерской лавры и доставлены в жандармское управление, а затем отправлены в Лукьяновскую тюрьму. Опытные жандармские шифровальщики довольно легко прочитали запись. В шифровке сообщалось о работе нелегальной типографии и о мерах, принимаемых товарищами для скорейшего освобождения Урицкого.
По распоряжению генерала Новицкого для Урицкого вновь был установлен строгий режим. Свидания и передачи были прекращены, обеды и ужины из офицерского собрания пришлось забыть. В камере за Урицким был установлен особый надзор, за ним был закреплен специальный жандармский офицер. Потекли месяцы заточения в крепости почти без прогулок, в полном одиночестве, без малейших возможностей общения с волей. И здоровье вновь сдало. Месяцы без дневного света, без чистого воздуха, на тюремной баланде делали свое дело. Моисей стал кашлять. Врач установил первые признаки туберкулеза легких. Об этом как-то было сообщено Берте, товарищам по комитету. Оставлять Моисея Урицкого в сырой одиночке — рисковать не только здоровьем, но, возможно, и жизнью. Товарищи стали искать выход из сложившегося положения.
И опять неудача. Во время смены караула сагитированный товарищами солдат попытался передать через дверь Урицкому газету. Это заметил дежурный офицер и схватил ее. Солдата арестовали, начался допрос с пристрастием. Бедняга вынужден был признаться, что в газете зашифрован план побега. Он назвал и лицо, передавшее ему газету для Урицкого. Обо всем этом сам Урицкий ничего, конечно, не знал. По все равно после этого случая жизнь заключенного, если только это возможно себе представить, стала просто невыносимой.
Немирович-Данченко стал требовать, чтобы Урицкого убрали из крепости. Новицкий же настаивал на продолжении содержания его в суровейших условиях одиночного заключения и грозил, что малейшее облегчение участи заключенного дорого обойдется коменданту крепости.
Еще и еще раз Берта приходила к Новицкому, прося о свидании, и вот однажды генерал ей сказал:
— Готовьте своего братца в дальнюю дорогу. Материалы дознания по его делу уже в Петербурге.
Тем временем под пером статс-секретаря министерства юстиции в Петербурге после получения из Киева материалов дознания по делу Урицкого рождался документ следующего содержания:
«В течение 1898 г. в г. Киеве подверглись разновременно обыскам и арестам члены противоправительственного сообщества „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“, занимавшегося социалистической пропагандой среди заводского населения.
Несмотря на репрессивные меры, принятые в отношении этих лиц, начатая ими агитация не прекращалась, и в следующем, 1899 году были получены агентурные сведения о возникновении в г. Киеве новой тайной организации и распространении ее участниками на фабриках нелегальных изданий, в том числе номеров подпольной газеты „Вперед“, в коих дерзко порицался существующий в России порядок правления и подстрекались ремесленники к забастовкам. Затем 5 октября 1899 года в г. Кременчуге на отплывающем в Киев пароходе чины отдельного корпуса жандармов задержали помощника присяжного поверенного Давида Логвинского с корзиной, заключавшей в себе 3 пуда металлического шрифта, мелкие части типографии, раму с полным набором последней страницы № 7 указанной газеты „Вперед“ и рукописи преступного характера, а 17 октября на станции Бровары Киевско-Воронежской ж. д. был обнаружен адресат из Кременчуга на вымышленное имя „Мошинского“, в двух тюках весом 18 с половиной пудов — крупные принадлежности типографского станка и свыше 8000 нелегальных листков, озаглавленных „Кто чем живет“…
…Киевский комитет Российской социал-демократической рабочей партии и руководители этой организации стремились к ниспровержению существующего в империи государственного строя и организовали несколько тайных кружков, а затем устроили в Бердичеве тайную типографию.
К настоящему делу привлечено 60 лиц…
Выдающимися деятелями Киевского комитета Российской социал-демократической рабочей партии являются:
1. Прослушавший курс университета св. Владимира Моисей Соломонов — Шлемов Урицкий (26 лет, сын купца, иудейского вероисповедания, холост)…»
Доклад статс-секретаря министерства юстиции Муравьева о революционной деятельности Моисея Урицкого в один из январских дней 1902 года лег на стол царя Николая II. В нем Моисей Урицкий характеризовался как крупный деятель Киевского комитета РСДРП и организатор тайной нелегальной типографии, печатавшей антиправительственные, антимонархические прокламации и газеты. В докладе сообщалось также, что Урицкий часто выступал на рабочих сходках и собраниях, призывая народ к свержению самодержавия.
Царь без колебания начертал резолюцию: «В Восточную Сибирь на восемь лет. Под гласный надзор полиции».
Кончался второй год заключения Урицкого в одиночной камере крепости на Печерске. Допросы давно прекратились, суда не было. Было невыносимое в своей пустоте ожидание административного приговора.
Звонок к Берте Соломоновне прозвучал из крепости поздней ночью, сообщили, что ее брату наконец объявлен приговор и его на следующий день должны отправить из Киева. Ранним утром в крепость были доставлены для Урицкого теплые вещи, продукты и деньги. Но все было возвращено обратно: Урицкий в ночь объявления приговора был из крепости переведен в Лукьяновскую тюрьму, а через час после его прибытия в знакомые тюремные стены администрация Лукьяновской тюрьмы постаралась выпроводить его с эшелоном уголовных каторжан следованием на Москву.
И разъехались в это утро два брата: эшелон с арестантами отправился в свой грустный путь, а на киевский вокзал прибыл поезд из Одессы с Соломоном Урицким, ставшим активным транспортным агентом газеты «Искра». Задержанный жандармами с искровским изданием, Соломон был тут же отправлен в Лукьяновскую тюрьму, в которой хорошо помнили старшего брата, Моисея. Фамилия Урицкий послужила Соломону как бы паролем в камере политических заключенных, которые признали его своим товарищем.
За доставку в Киев нелегальной литературы Соломон Урицкий был выслан в административном порядке на три года в Енисейскую губернию.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Тюремные вагоны (те же красные товарные, на сорок человек или восемь лошадей) с зарешеченными окошечками и железными дверями, запирающимися снаружи на тяжелый засов, были прицеплены к обычному товарному поезду со смешанным грузом в разные адреса, что вызывало длительные стоянки па станциях. Вагоны не отапливались, а осень выдалась ранней и холодной. В эшелоне с каторжными Моисей Урицкий по мстительному замыслу Новицкого был среди уголовных один политический, и конечно, в тюремных вагонах действовали воровские законы: матерые уголовные преступники — бандиты, убийцы, воры «высокой квалификации» — захватили на трехъярусных нарах средние полки, на верхних разместилось жулье помельче, там не хватало воздуха, но было потеплее. На полу вынуждены были мерзнуть уголовники из числа «случайных», не имеющие постоянных уголовных «профессий». Староста вагона-камеры старый вор Колун и Урицкому определил место на полу. При начавшемся туберкулезе, в летней одежде, в которой его отправили из Лукьяновской тюрьмы, спать на голых досках вагонного пола было верной смертью. Урицкий не выполнил приказа Колуна и заявил, что будет спать сидя на краю средних нар. То, что какой-то «очкарик» осмелился подать голос и ослушаться настоящего уголовника, вначале вызвало удивление, а затем гогот всего уголовного населения вагона. Тыкая в «очкарика» пальцами, хохотали обитатели средних нар, подхихикивали верхние, подхалимски ржали нижние жильцы.
Вот когда Моисей понял, что настало время воспользоваться своими книжными знаниями. Став посредине вагона, он поправил очки и обрушил на уголовников целую тираду на прекрасном международном воровском жаргоне, почерпнутом из книги Гросса.
Гогот прекратился. Уголовники слушали «речь» этого поразительного человека, как арию из любимой опери, исполняемую знаменитым певцом. Когда Урицкий умолк, Колун, прищурившись, спросил:
— Ты откуда же такой грамотный?
— Из Печорской крепости, — нашелся Моисей и снова уселся на средней полке.
Во время одной из длительных стоянок в вагон принесли вместо кипятка чуть теплую воду. Урицкий потребовал положенный кипяток. Солдат стал ругаться, и Урицкий вытолкал его из вагона. Вскоре явился офицер.
— Кто здесь бунтует? — спросил он, поигрывая пистолетом.
— Не бунтует, а требует положенного, — отметил Урицкий, спокойно глядя на конвойного офицера.
Для офицера была неожиданна встреча в среде уголовников с интеллигентным человеком, а возможно, он понял, что этот уверенный в себе, крепко стоящий иа ногах человек будет настаивать на своем, еще, чего доброго, обратится к начальству. Он, злобно хлопнув дверью, покинул вагон. Через несколько минут вагон наслаждался кипятком.
— Ну что ты там сидишь? — позвал Моисея Колун. — Давай ложись, — указал он на свободное место на средних нарах. И в дальнейшем, за весь путь никаких выпадов уголовники уже себе не позволяли.
В Москву приехали ночью.
Урицкого усадили в тюремную карету вместе с несколькими уголовниками, среди которых оказался и староста вагона. Карета катилась в Бутырскую тюрьму по замерзшим московским улицам. Шел мелкий, колючий снег, проникавший в карету, и Моисей, одетый по-летнему, чувствовал, что холод пробирается до самого сердца.
— На-ка одень, — старый уголовник набросил на плечи Моисея свою куртку, — подохнуть еще в Сибири успеешь.
Казалось бы, невелико одолжение: на уголовнике оставалось еще две, но его человечное движение тронуло Моисея. Часто под наружной заскорузлостью теплится что-то хорошее, его только нужно суметь увидеть. И кто знает, что заставило этого человека стать профессиональным преступником? Этого везут в тюрьму, а тот с винтовкой в руках везет.
— Спит Москва, — обратился Урицкий к конвойному солдату. Тот ничего не ответил и лишь испуганно оглянулся на конвойного офицера.
«Да, Москва спит так же, как погружен в сон и этот солдат, — думал Моисей. — И не поймешь, враждебно, дружественно или безразлично относится он к политическим арестантам. Массы пока инертны и равнодушны. Нужно усиленно работать, чтобы их раскачать. Это работа не одного дня, а, может быть, жизни целого поколения, но прекратить ее, отказаться от нее нельзя ни под каким видом…»
Карета въехала во двор Бутырской тюрьмы. Тюрьма всех встречает гостеприимно, всем открывает широко свои двери, но выходит из нее только торная тропа в Сибирь, на каторгу, на поселение.
Моисея Урицкого поместили в Часовую башню, а уголовников повели в тюремные корпуса.
Урицкий вдруг почувствовал, что какое-то время ему будет не хватать и грубой заботы старосты вагона, и немного насмешливого, но в то же время чуткого отношение к себе остальных. Причина почти всех преступлений уголовного люда тоже кроется в неустроенности людей, в порочности общества богатых и бедных. Сколько разных людей прошло через эту пересыльную Бутырскую тюрьму — и уголовных и политических. Вон в той башне, на противоположной стороне тюрьмы, томился до своего последнего дня уральский казак Емельян Пугачев, она теперь так и называется — Пугачевской. Так, с «легкой» руки Екатерины II, это название и сохранилось как память о народном вожде.
Когда Урицкого ввели в большую круглую камеру на верхнем этаже Часовой башни, он в изумлении остановился: вся комната была заполнена молодежью в студенческой форме. Узнав, что к ним помещают политического заключенного из Киева, они приветливо встретили Урицкого.
В Бутырской тюрьме Урицкий узнал подробности демонстрации студентов в Киеве 2 февраля 1902 года.
Студенты его родного университета в 12 часов дня вышли на улицу. К ним присоединились рабочие некоторых киевских заводов, железнодорожных мастерских. Двинулись на Крещатик. Студенты несли красные флаги и лозунги «Долой самодержавие!». На разгон демонстрации были направлены войска и полиция. Многие студенты, участники демонстрации, были арестованы.
Московские студенты узнали об этой демонстрации своих киевских коллег из газеты «Искра». Протестуя против призыва студентов в солдаты, они собрались на митинг в актовом зале университета и закрылись в нем. Из окон зала были выставлены красные флаги, слышались песни «Марсельеза» и «Варшавянка». На требование администрации университета, а затем и полиции разойтись студенты ответили отказом.
Обер-полицмейстер Трепов, не справляясь со студентами, пригласил к себе сотрудника Московского охранного отделения Спиридовича, «специалиста по студенческим волнениям». Тот потребовал в помощь казаков… Казаки вместе с пожарными проникли в университет и блокировали помещение, где проходила сходка студентов и курсисток. Большинство участников сходки было арестовано и отправлено в Бутырскую тюрьму.
Три часа продолжалось шествие арестованных от здания университета до тюрьмы. Курсисток хотели отправить на телегах, но они гордо отказались и прошли весь путь пешком вместе со студентами.
На своей сходке студенты приняли резолюцию:
«Общеполитическая программа заставляет нас вынести протест на улицу, где мы, вместе с кадрами рабочих и общества, готовы силой поддерживать наши требования».
Вот этой Москвы Моисей еще не знал. «Вот тебе и „спит Москва“, — думал Урицкий, радуясь буйной силе заключенных студентов. — Нет, не спит, так же как не спит Киев, Петербург и вся Россия»…
Оторванный почти на два года от жизни, от активной революционной работы, Урицкий вслушивался сейчас в пылкие слова молодых людей. Сегодня они знали много больше его, профессионального революционера. В одиночную камеру печерской гауптвахты доходили только отрывочные сведения о развитии социал-демократического движения в России.
Один из студентов пересказал содержание первого номера общерусской политической газеты «Искра», увидевшей свет в декабре 1900 года. Урицкий пробовал сравнить ее с газетой «Вперед» и вынужден был признать, что рамки агитации и пропаганды революционной борьбы невиданно расширились.
Благодаря поддержке всех социал-демократических сил России «Искра» стала выходить ежемесячно, а начиная с 1902 года — каждые две недели. Редакция «Искры» в 1901 году стала издавать также журнал «Заря». Именно в этом журнале впервые появилась статья за подписью «Н. Ленин».
Наконец кончилось почти двухлетнее одиночество. Теперь его окружали близкие по духу люди, которые и в тюрьме продолжали бороться.
Когда разрешили переписку, Моисей написал первое за длительное время письмо Берте. Он писал, что, очевидно, его весной отправят на восемь лет в Верхне- или Средне-Колымск, просил ее в Москву не приезжать, а только выслать теплые вещи, без которых путь в Сибирь может оказаться последним.
К весне началась подготовка этапов в Сибирь. Урицкий был в партии вместе с московскими студентами, приговоренными к ссылке за протест против сдачи студентов в солдаты.
В первые теплые дни многолюдный этап двинулся в свой тяжкий путь. Вначале солдаты-конвоиры пытались выполнять инструкции о порядке этапирования, запрещали перемещения в колонне, общение. Потом, уставая наравне с арестантами, они понемногу отступали от правил, и в отсутствие офицера, следовавшего на подводе, можно было вести самые разнообразные разговоры. Мог ли упустить такую возможность Урицкий? Он полагал, что к концу этапа из его «этапного кружка» выйдут почти сто глашатаев правды. Мог ли предполагать Моисей, что, встретившись с лишениями и трудностями, разобщенные, разбросанные по сибирским захолустьям, некоторые студенты дрогнут и напишут прошение на «высочайшее имя», будут амнистированы и постараются забыть, о чем вел с ними беседы Моисей Урицкий.
На границе Якутии этап был встречен якутским губернатором. Острая нехватка грамотных людей навела его на мудрую мысль: использовать ссыльных студентов на различных должностях, не требующих специальных знаний.
— Бывших студентов построить отдельно, — распорядился губернатор.
«Бывший. Я ведь тоже бывший студент», — подумал Урицкий, еще не зная во что выльется эта затея. И шагнул в отдельно построенную группу.
Этот шаг определил его будущую ссылку. Вместо Верхне- или Средне-Колымска все студенты были оставлены в Якутской губернии. Место волостного писаря в Чекуркской волости получил политический ссыльный Моисей Соломонович Урицкий. И к осени 1902 года он наконец добрался до места своего назначения.
Чекуркой оказалось небольшое селение на Ленском тракте, километров полтораста ниже городка Олекминска. Урицкому поначалу все показалось неуютным: глушь, жалкая растительность, отдаленность от каких-либо культурных центров, но, осмотревшись, он понял, что это не совсем так. В селении имелась почтово-телеграфная контора, так что можно было рассчитывать наладить связь с товарищами, имелась школа для ребят до четвертого класса, лавка, где можно было приобрести самое необходимое. А главное, и волостной старшина Иван Иванович Иванов, и школьный учитель уже давно находились под влиянием политических ссыльных и создавали для них сносные условия жизни. Очень скоро Урицкому стало известно, что в Чекурке по установившемуся положению волостной писарь был не просто вольнонаемным служащим, а представителем уездной администрации, должностным лицом и членом волостного управления. Это сулило возможности для революционной деятельности среди местного населения.
Такое положение привело к курьезам.
В Чекуркское волостное управление пришло сразу две бумаги: первая — старшине — о назначении Урицкого волостным писарем, вторая — волостному писарю Урицкому — о необходимости неустанного наблюдения за политическим ссыльным Моисеем Соломоповым Урицким.
Волостной писарь Урицкий стал с удовольствием выполнять это указание, и из волостного управления за его подписью пошли такие донесения: «Настоящим еженедельным рапортом доношу, что политический ссыльный Урицкий ведет себя благопристойно и не замечен в какой-либо пропаганде, кражах и дебоширстве».
А для волостного писаря в Чекурке дел оказалось более чем достаточно. Он начал расследование и разбор давних, часто полузабытых обид и нарушений закона. Урицкий в этих делах занял безоговорочную позицию, защищая интересы якутов перед власть имущими. И естественно поэтому, что со всех сторон волости к писарю потянулись обиженные со всевозможными просьбами и жалобами.
Главным его делом стала защита якутов от нещадной эксплуатации со стороны местных чиновников. По закону якуты должны были возить почту до Ннжне-Колымска. Плата устанавливалась «с версты». Местные же чиновники вместо денег выдавали водку, различные побрякушки, сладости. Как с этим бороться, Урицкий вначале не знал. Он понимал, что обращаться с увещеваниями к чиновникам — дело пустое. Нужно, чтобы сами якуты прозрели и стали требовать оплаты по закону, чтобы они знали свои права. О злоупотреблениях чиновников нужно сообщить официально в полицию, действенных мер она, конечно, не примет, но пусть у нее будет бумага — жалоба.
И началась неравная борьба: по просьбе якутов Моисей Урицкий выступил перед полицией с требованиями законной оплаты. Дело приняло скандальный характер. На Урицкого со всех сторон начали поступать доносы и требования местных чиновников убрать неугодного им волостного писаря, который «мешает нормально работать почтовому ведомству».
Борьба была в самом разгаре, когда произошло еще одно событие, резко отразившееся на дальнейшем пребывании Урицкого в ссылке. В Чекурку прибыла большая группа золотопромышленников с инженерами и техниками, возглавляемая олекминским исправником. По местным правилам, выявление золотоносных участков и утверждение их для разработки могло быть сделано только с участием представителя волости. Этим представителем был назначен писарь Урицкий.
Пасмурным зимним днем он с группой промышленников выехал на места будущих разработок. Удивило Урицкого то, что практически никакого осмотра участков не проводилось, санный поезд прокатил по заснеженным полям и возвратился$7
— Что это? — спросил Моисей.
— Не прикидывайтесь младенцем, — засмеялся промышленник. — Мы просим вас о маленьком одолжении. Вы ведь видели, в каком ужасном состоянии находятся участки будущих разработок! Вот об этом надо составить акт и указать, что для их полезной разработки требуется значительная субсидия.
Урицкий развернул пакетик. Там были деньги, и немалые.
— Ну а со старшиной вы уж сами поделитесь, — уверенный, что дело сделано, сказал промышленник.
Это была его промашка. Если бы не было этой взятки, Урицкий по неопытности в таких делах, может быть, и составил бы подобный акт, поверя людям, готовым заняться добычей золота в этих гиблых местах. Теперь же… Он протянул пакет все еще мило улыбающемуся промышленнику:
— Вон отсюда!
— Что? Вы с ума сошли! — опешил посетитель, машинально взяв пачку обратно.
— Вон отсюда! — повторил Урицкий, и в его словах была такая грозная сила, что взяточник заторопился нз комнаты.
— Ну уж будь уверен, скоро тебя здесь не станет, — перейдя на «ты», пригрозил он от порога. Урицкий понимал, что это не пустые слова, что за промышленниками стоят силы, с которыми ему тут не справиться.
Однако соглашаться с несправедливостью, царящей вокруг, было для Урицкого невмоготу. И он, все время, сталкиваясь с ней, защищал обездоленных, как мог.
Когда наступала зима, политические ссыльные шли в Якутию уже не по Лене на паузках, а на лошадях по заснеженному тракту. На почтовых лошадях, поставляемых в счет натуральной повинности. И политические арестованные, и жандармы были заинтересованы как можно скорее завершить этот бесконечный, изнурительный путь, но для этого требовалось гораздо больше лошадей, чем обязаны были поставлять якуты. А те жаловались на непосильные тяготы, говорили, что из-за этих поставок не могут ни заготовить себе топлива на зиму, ни съездить в уездный городок за необходимыми вещами и продуктами: как можно без лошади?
Урицкий долго думал, чем бы им помочь, и наконец разыскал закон, в котором черным по белому было написано: количество лошадей должно быть строго пропорционально числу перевозимых арестованных. Это было значительно меньше того, что было установлено самовольно полицейской практикой. Что делать? Пожертвовать интересами якутов в пользу товарищей-политиков или пойти на конфликт с администрацией и твердо отстаивать интересы якутов, понимая, что это вызовет неудовольствие полиции, с одной стороны, а с другой — ухудшит положение ссыльных.
Очередная зимняя партия прибыла в Чекурку глубокой ночью. Не собираясь ночевать в этом селении, сопровождающий партию жандарм потребовал срочно сменить лошадей.
— Не имею права, положенное количество лошадей уже поставчено, — заявил Урицкий.
— Немедленно лошадей! — повысил голос жандарм.
— Не имею права, — твердо повторил волостной писарь. — По закону не имею.
— Ну, доиграешься ты у меня со своим законом! Где тут почта?
Показав жандарму, как пройти па почту, Урицкий пошел встретить политических. Недовольные вынужденной задержкой, они ругали местного администратора, затеявшего эту «волокиту», кое-кто слез с подводы и, разминая затекшие ноги, отправился погреться.
Ох как хорошо понимал Моисей этих людей, помнил, как он сам стремился во время этапа скорей достичь места постоянного поселения, хотелось поговорить с товарищами, объяснить все, но перед вернувшимся с почты жандармом нельзя было себя раскрывать. Он сбегал к себе в комнату, принес почти все свои съестные припасы, начал рассовывать их отощавшим за дорогу арестантам. Угостил и жандарма.
Почтовый чиновник принес срочную телеграмму из Олекминска. Это был приказ исправника немедленно выделить лошадей.
— Ну давай, — уже более добродушно, отогревшись и испытывая чувство приятной сытости, сказал жандарм.
«По закону не имею права», — написал в ответной телеграмме Урицкий и отдал ее жандарму для срочной передачи в Олекминск.
Партия ссыльных заночевала в Чекурке. Не спал в эту ночь волостной писарь. «За нарушение закона беру ответственность на себя, — телеграфировал исправник, — немедленно выделить лошадей!»
«Незаконный приказ выполнить не могу», — ответил Урицкий.
Утром партия получила лошадей на законном основании и отбыла в дальнейший путь, а старшина получил приказ из Олекминска:
«Бывшего волостного писаря, политического ссыльного Моисея Урицкого незамедлительно отправить в Олекминск для продолжения ссылки в другом месте».
Уезжать из Чекурки было тяжело. Очень привязался Моисей к неприхотливым добрым жителям этой волости, да и окрестные охотники и крестьяне горевали, узнав об отзыве волостного писаря в Олекминск. Потом они частенько приезжали к «своему писарю» за добрым советом и помощью и больше года не хотели признавать нового писаря в Чекурке.
Условия ссылки в Олекминске были значительно тяжелее. Сказывалось присутствие более высокого начальства, которое по указанию свыше стремилось «перевоспитать политиков», заставить их по возвращении домой забыть о своей революционной деятельности. Надзор полиции, определенный ссыльным, соблюдался неукоснительно, и исправник знал о каждом шаге поднадзорных. Это разобщало политических ссыльных, делало их подозрительными даже по отношению друг к другу: точные сведения, имеющиеся в полиции о каждом ссыльном, заставляли предполагать провокатора в своей среде.
Урицкий всеми силами старался объединить товарищей. Он пытался излечить их от излишней подозрительности, научить бороться с провокаторами. «Не надо лить воду на мельницу полиции», — говорил он. Колония зажила дружнее и спаянней.
В этом деле большую помощь Урицкому оказал «староил» Олекминска, политический ссыльный, прибывший сюда еще в 1899 году, литератор Михаил Степанович Ольминский.
— Наслышан, наслышан о ваших успехах по изданию в Киеве газеты «Вперед», — заговорил тот однажды вечером, когда Урицкий заглянул в его крохотную комнатушку, которую ему предоставил почтовый чиновник за обучение дочерей французскому языку и умению держать себя в обществе.
— Жаль, типографию жандармы захватили, — пошутил Моисей Соломонович, — а то бы…
— Вот именно, — подхватил Михаил Степанович. — А почему бы вам не попробовать написать несколько статей о быте политических ссыльных и местных жителей, о произволе полиции.
Через несколько дней Урицкий принес Ольминскому две статьи: о непомерных требованиях полиции к якутам на поставку лошадей и о случае с золотопромышленниками в Чекурке.
— Отлично, батенька, отлично, — похвалил Ольминский, — из вас должен выйти настоящий журналист.
— Спасибо на добром слове, но, к сожалению, в Олекминске пока еще не издают социал-демократическою журнала, — грустно усмехнулся Моисей Соломонович, — а работать, как говорит ваш брат литератор, «в стол»…
— А может быть, и не «в стол», — очень серьезно сказал писатель, пряча исписанные мелким почерком листки.
Скоро Моисей Соломонович уже многое знал о жизни этого скромного человека. Вступив в 1883 году в ряды народовольцев, двадцатилетний студент горячо уверовал, что будущее России в крестьянских общинах. В своих статьях и публичных очерках он стал страстным проповедником этой идеи. Шли годы. В России рос рабочий класс, и постепенно ограниченность народовольческого движения становилась все яснее. В 1898 году, уже зрелым литератором, Ольминский становится членом социал-демократической рабочей партии. Но если жандармерия и полиция довольно снисходительно наблюдали за литературной деятельностью народовольца, в публицисте социал-демократе они скоро рассмотрели опасного врага царского самодержавия.
Михаил Степанович Ольминский был арестован, осужден и сослан в Сибирь.
Посеянное им доброе слово упало в подготовленную почву. Урицкий стал записывать все, что происходило в колонии ссыльных. Чутко прислушиваясь к острым критическим замечаниям опытного товарища, Моисей Соломонович оттачивал свое журналистское мастерство. Эти занятия сокращали бесконечные сибирские ночи, но в том, что литературные работы никогда не увидят света, Моисей Соломонович не сомневался.
— А знаете, батенька, ваши статейки из Чокурки понравились редакции газеты «Искра», просили присылать все, что вы напишете, — встретил как-то Ольминский Урицкого.
— Не нужно так шутить, — помрачнел Моисей Соломонович.
— А я вовсе и не шучу, — улыбнулся Михаил Степанович, понимая, какие чувства всколыхнул в жаждущем деятельности ссыльном.
Урицкий не стал расспрашивать, как мог связаться о «Искрой» Ольминский. Он крепко обнял старшего товариша.
Окончилась зима. На великой сибирской: реке с шумом и грохотом начался ледоход. Урицкий выходил на берег Лены и с замиранием сердца следил, как льдины наползают на гранитный берег, шурша, ломают оковы и рвутся к Ледовитому океану. Река пробуждается от зимней спячки, сбрасывает с себя лед, обретает свободу, а тут приходится сидеть в стороне от грозных событий, которые происходят в России за тысячи верст от Олекминска.
И зародилась мысль о побеге.
Летом 1904 года в Олекминск прибыла новая партия ссыльных. Урицкий одним из первых поспешил встретить этап, надеясь услышать новости о политической жизни России, которых так не хватало в этом богом забытом якутском городке. Докатывались до Олекминска отголоски о расколе в партии, о большевиках и меньшевиках, но что стояло за этими словами, было еще очень неясно. Среди вновь прибывших оказалось два юриста. Фамилия одного — Попов — Урицкому ничего не говорила, а о втором же — Виргилии Шанцере — Моисей слышал неоднократно.
Товарищи расспрашивали Урицкого об обстановке в Олекминске, о настроениях ссыльных. Попову власти разрешили адвокатскую деятельность, и он стал выступать в уездном олекминском суде. Шанцер же и Урицкий, несмотря на запрещение всяких собраний, организовали совместные читки книг, которые Виргилии умудрялся раздобывать у местной администрации. Устраивали обсуждение различных проблем ссыльной жизни, не обходя стороной и вопросы политики.
Урицкий, Шанцер с женой — Никифоровой-Шанцер, приехавшей к мужу в далекую ссылку, и еще четверо политических ссыльных, общались по вечерам, стремясь заполнить время полезным содержанием.
— Товарищи, а почему бы нам не сфотографироваться на память. Ведь никто пе знает, куда нас разбросают судьба и царь-батюшка, — предложил как-то Моисей Соломонович.
— Но ведь групповые фотографии запрещены полицией, — несмело возразил один из ссыльных.
— Потому-то это мероприятие и имеет особую прелесть, — весело подхватил идею Моисея Виргилии Шанцер. И сам взялся за это «преступное деяние», которое успешно и осуществил.
— Слушай, Моисей, — однажды вбежал в комнатку Урицкого Виргилий Шанцер, — в жандармское управление прибыла бумага о частичной амнистии для политических заключенных и ссыльных по царскому манифесту от 11 августа 1904 года.
— Ну нас-то с тобой эта амнистия, конечно, не коснется, — улыбнулся горячности товарища Урицкий.
— В том-то и дело, что касается! Я в этом списке!
— Счастливый. Значит, скоро поедешь домой. А мы уж тут…
— Да как ты смеешь даже подумать такое! — нахмурился Шанцер. И тут же в глазах его загорелся озорной огонек. — Ты пойми, как это здорово: все ссыльные должны протестовать против этой амнистии. Либо всех — либо никого. И мы с тобой должны немедленно этим заняться!
— Но меня ведь нет в этом списке.
— Ну и что?
— Для меня приемлема первая часть: «либо всех», а «либо никого» — совесть не позволяет, выходит, если не меня, то и никого.
— Послушай, Моисей, ты как-то спрашивал, что такое большевики и меньшевики? — медленно, словно подбирая нужные слова, заговорил Шанцер. — Вот я большевик. Я отказываюсь от такой дорогой и желанной свободы для того, чтобы выиграло наше общее дело. В твоих же сомнениях проглядывает меньшевистская тенденция: громкие слова, красивые жесты и непонимание главного — все чувства должны быть подчинены делу пролетарской революции. Сейчас главное — организованный протест.
Урицкий слушал Виргилия Шанцера и видел перед собой Бориса Эйдельмана, Ювеналия Мельникова. Чувствовал, насколько правда Шанцера глубже его интеллигентских раздумий.
— Ты прав. Я согласен. Давай действовать, — сказал Моисей.
Когда нужно действовать, Урицкий попадал в свою стихию. Протест должен быть от всей олекминской колонии. Для этого нужно встретиться с каждым, убедить, получить согласие на подписание протеста, и все это в условиях непрерывной слежки, при соблюдении глубочайшей конспирации.
И за подписью 25 политических ссыльных олекминской колонии родился документ, потрясший всю окружную жандармско-полицейскую систему. И среди первых стояли подписи Виргилия Шанцера и Моисея Урицкого.
Протест от имени собрания олекминской колонии ссыльных гласил:
«…Собрание прежде всего усматривает тенденциозное выделение части политических ссыльных, якобы проявивших раскаяние и заслуживающих своим „добрым поведением“ особую награду в виде сбавки сроков. Протестуя против иодобного разделения товарищей, собрание заявляет, что принятие революционерами такой льготы означало бы в глазах общества отречение их от своих революционных убеждений и от всякой солидарности с делом какого бы то ни было протеста в ссылке.
Собрание видит, далее, в этих пунктах желание правительства ввести общество в заблуждение своим якобы гуманным отношением к революционерам. Жестоко расправляясь в ссылке с одними революционерами, правительство помилованием незначительной части других стремится сгладить впечатление от протестов, нарисовавших перед обществом правдивую картину условий жизни в ссылке…
Наконец, собрание усматривает… поползновение правительства внести деморализацию в среду ссыльных путем поощрения слабых элементов ссылки особыми милостями.
В силу всего этого собрание считает своей обязанностью… протестовать перед правительством… и формой своего протеста избирает особое коллективное заявление якутскому губернатору.
Убежденные в огромном общественном значении массового протеста политических ссыльных против этой непрошеной милости правительства, собрание постановляет опубликовать в нелегальной печати как текст названной резолюции, так и заявление якутскому губернатору, а также разослать то и другое по колониям политических ссыльных Сибири и Европейской России».
Это был первый массовый протест политических ссыльных Сибири, дошедший до правительства царской России. Он прозвучал в преддверии событий 1905 года. Список революционеров, подлежащих амнистии, значительно расширился, а вот те, кому не посчастливилось в него попасть, почувствовали на себе тяжелую лапу местной администрации.
Наблюдая зверство, самоуправство и провокации полиции, жандармов и царских чиновников, делавшие и без того страшные условия ссыльных просто невыносимыми, Урицкий отправил очередную корреспонденцию в «Искру». К великому сожалению, корреспонденция не дошла, так как царской охранке удалось ее перехватить. И только уже при Советской власти эту статью, написанную Урицким на четвертушке почтовой бумаги, удалось найти в тайниках бывшего полицейского департамента.
«Для „И“.
16 июня олекминская колония ссыльных хоронила тов. Шаца, убитого в ночь с 10 на 11 июня в версте ниже Нохтуйска (в 240 верстах от Олекминска) „холопами самодержавия“.
Похороны носили скромный характер. На могило развевался красный флаг с надписью „Долой самодержавие“, да гробу было несколько венков с надписями: „Революционеру, убитому холопами самодержавия“, „Борцу за свободу и социализм рабочих России, Польши и Литвы“, „От группы рабочих соц. — дем.“, „От товарищей-друзей“, пели революционные песни, раздавались революционные возгласы…
Сообщаю частью со слов товарищей, частью из официальных источников об обстоятельствах, при которых был убит покойный.
В Жердовке партия встретила группу ссыльных, приехавших требовать свидания.
Офицер Сикорский обещал дать свидание на этапе и, конечно, обманул. Тогда политики написали телеграмму тенерал-губерпатору и попросили офицера отправить ее, но офицер отказался исполнить просьбу арестованных. Опять отказ ехать, и требование об отправке телеграммы удовлетворено.
В Усть-Ордынской захворал тов. Лурье, партия просила подождать, пока товарищу станет легче, или выдать ему, по крайней мере, лекарство, но офицер решил не церемониться со „сволочью“ и приказал солдатам стрелять в политиков и посадить их на телеги силой. Когда лекарство было выдано Лурье, партия тронулась в путь. В Манзурке партия потребовала свидания с местными ссыльными согласно обещанию, но офицер рассвирепел, и началось избиение прикладами и связывание…
Еще более возмутительная сцена разыгралась в Чечуйском. Разрешив свндание, офицер вдруг приказал бить политиков прикладами и штыками, а затем стрелять в них. Солдаты выстрелили вверх, но прикладами и штыками нанесли тяжелые раны тт. Леберману и Лившицу.
Перед Чечуйским утонул т. Щепетев. Сикорский, выгнав политиков на берег, заявил, что он подозревает побег, и осыпал арестованных площадной бранью. После этого он стал вызывать к себе на паузок политиков по одному и ругать их. Между прочим, была вызвана Вайнерман, над которой поручик стал издеваться, а затем сделал возмутительное предложение. К счастью, солдат в это время нечаянно открыл двери, и Вайнерман убежала от мерзавца, а на другой день рассказала о случившемся товарищам, которые решили, чтобы женщины впредь не шли в офицерский паузок без товарищей…
В ночь на 7 июня около вокзала, часа в три, два солдата пришли в политический паузок и объявили унтер-офицеру, что офицер приказал немедленно доставить в его каюту Вайнерман, если она добровольно не пойдет, то взять ее силой…, если политики не дадут ее, то перестрелять их. Даже унтер-офицер отказался выполнять это возмутительное приказание и заявил, что такое распоряжение офицера он но будет исполнять.
На другой день Сикорский набросился на унтера и солдат, и они, выведенные из терпения, решили отправить от своего имени телеграмму своему командиру с изложением того, что творил над ними и арестованными Сикорский. В тот же день и политики отправили от своего имени две телеграммы: ген. — губернатору и министру вн. дел и попросили случившегося тут пристава обезопасить их от дальнейших безобразий офицера. Пристав сначала было отказался, но, узнав от солдат о поведении Сикорского, решил сопровождать партию с 12 солдатами и десятским до границы Якутской обл.
В пределах Якутской области Сикорский остался один. И вот в Нохтуйске он решил наконец привести в исполнение свое возмутительное намерение. Говорят, что в этот день он получил телеграмму о том, что он предается суду и должен сдать партию заместителю, выехавшему из Киренска. Отправив унтера своего за покупками, Сикорский в час ночи, в полном вооружении, в сопровождении солдат, ворвался в политический паузок и бросился к койке Вайнерман. Не спавший еще товарищ Минский выстрелом из револьвера уложил Сикорского наповал. Солдаты дали залп в спавших товарищей и убили тов. Шаца и легко ранили в ухо тов. Минского… Когда вернулся унтер-офицер, он выстроил на берегу солдат и приказал им стрелять в политический паузок. С трудом удалось Минскому и фельдшеру удержать унтера от исполнения своего безумного решения.
Утром приехал новый офицер и принял партию, а вечером съехались следственные власти. Труп офицера найден возле койки Вайнерман, на нем были шашка, револьвер, в руке нагайка, а за голенищем нож… Солдаты, сопровождавшие офицера, показали, что офицер сказал им, что идет за Вайнерман, которую они должны взять силой, а если политики не дадут ее, то они должны перебить всех арестованных. За неисполнение приказания они все попадут под суд…
В пути от истощения умерло 5 человек арестантов…»
Долго Иркутское охранное отделение, якутский губернатор и департамент полиции изучали попавшие в их руки корреспонденции, устанавливали подлинность почерка Моисея Урицкого. И расправились бы, конечно, с осмелившимся говорить правду корреспондентом, если бы не побег его…
Но незадолго до побега свершилось то, что рано или поздно должно было свершиться, — Моисей встретил женщину, которая показалась ему лучшей в мире. Совсем по-другому стало светить неласковое якутское солнце, по-другому закричали над Леной северные чайки, по-другому зашумел лес. Это была девушка, случайно ставшая героиней его корреспонденции в «Искру». Она не доехала до назначенного места ссылки и была оставлена по состоянию здоровья в Нохтуйске, куда стараниями олекминского исправника был отправлен и Моисей. Впервые он заметил эту худенькую, похожую на стебелек полевого цветка девушку на похоронах убитого стражей товарища Шаца. Она горько плакала и на все утешения друзей отвечала: «Это из-за меня», Моисею остро запомнилось милое, залитое слезами лицо, почти детские плечи, которые судорожно вздрагивали от всхлипываний и от кашля, хорошо знакомого каждому, просидевшему в царской тюрьме.
Они встретились затем на берегу реки и подошли друг к другу, как старые знакомые. О чем они говорили? Обо всем: и о скорой революции, которая обязательно вот-вот грянет, и о красоте реки, и каждый о себе. В первый вечер Моисей узнал, что она член Российской социал-демократической рабочей партии, что ей 24 года и сослана она бессрочно в Колымск за участие в революционном выступлении рабочих одной из фабрик. И что у нее дома остались родители, которые очень ждут свою «непутевую» дочь, подав прошение о сокращении ей срока ссылки.
Когда зашло солнце, девушка закашлялась. Отдышавшись, она вытерла губы, и Моисей заметил на платке следы крови.
Ему стало страшно. Всем своим нерастраченным мужским сердцем он хотел защитить ее от недуга, поднять на руки и нести куда глаза глядят, подальше от этих гибельных мест. Впервые в жизни он ощутил свое бессилие. Хотелось заплакать. Но нет! Все должно измениться. Они будут на свободе. Она выздоровеет и всегда будет с ним…
…Похоронил Моисей девушку на берегу красавицы Лены. Это была его первая и, он точно знал, последняя любовь.
Через много лет потомки прочтут стихи ленинградского поэта Лихарева об этой девушке.
И вспомнились годы, Качаясь, проплыли… Над темной рекою сибирской Туман. И девушку вспомнил. Ее схоронили В версте от Нохтуйска, Звалась — Вайнерман. Она социал-демократка, В далекой, Бессрочной И горестной ссылке она. И веют ветра над седою Олекмой, О берег высокий грохочет волна. Он видит снега, И версты полосатой Лежит на снегах Злополучная тень…Умерла она на его руках. И последние ее слова были: «Не грусти обо мне, у тебя ведь такая большая цель в жизни».
Мысль о побеге, о возвращении в строй стала навязчивой, как наваждение. С ней он засыпал на своей жесткой койке, с ней просыпался ранними северными утрами. Но как бежать? За каждым шагом следит полиция, даже однодневная отлучка будет замечена и вызовет погоню. И какую дорогу выбрать? Уйти в сторону от великой реки — погибнуть в тундре. Двигаться вдоль Лены? По берегу тянутся телеграфные провода, по которым помчится депеша с приметами беглеца, — далеко не уйти. Остается единственный путь — на одном из пароходиков, плывущих вверх по течению, добраться до Усть-Кута, а там видно будет. Но этот план требует огромной подготовки: войти на палубу парохода в Олекминске нечего и думать — мышь не проскользнет на судно, не замеченная полицейскими. И потом нужно, чтобы пошел на риск капитан парохода, чтобы не выдала команда. Вопросы, вопросы, вопросы… Но ждать еще шесть лет невыносимо.
Почти год Урицкий готовил побег. Удалось договориться с капитаном одного из пароходиков, снующих по Лене. Больше он ни с кем не делился своими планами, хотя разговоры о побегах не раз поднимались в колонии политических ссыльных. Мнение было общее — бежать из Якутии невозможно.
Весна в тех краях неудобна для побегов из-за чересчур светлых ночей. Моисей дождался конца июля, когда земля все-таки укрывалась ночным темным покровом, и тихонько, чтобы не разбудить соседей, вышел из дома. На берегу снял с себя одежду, уложил ее на видном месте, словно собираясь купаться. Потом оделся в светлый костюм, заранее купленный тайно в одном из селений (костюма этого никто в Олекминске не видел), и отправился в затон, где стояли лодки. Одна из них была не на замке, весло хранилось в условленном месте, несколько сильных гребков, и мощное течение подхватило утлое суденышко, унося беглеца в сторону, противоположную возможной погоне — не на юг к России, а на север к Ледовитому океану. Благодаря плаванию по Днепру на отцовском «дубке» Урицкий сохранил сноровку в руках, и лодка быстро оказалась за поворотом реки, не видимая со стороны Олекминска, что было как раз вовремя, так как стало совсем светло.
Все было рассчитано до мелочей: в нескольких верстах от Олекминска Урицкий заметил сначала дымок, а затем показался и пароходик. Молотя колесами по воде, он тяжело продвигался против течения, но Моисею казалось, что он летит стрелой навстречу беглецу.
Капитан пароходика не подвел. С борта был спущен штормтрап, и Моисей, ухватившись за его веревки, быстро взобрался на борт. Никого на палубе не было видно, конспирация соблюдалась полностью, и, найдя приоткрытый люк, Урицкий спустился в трюм. Через какое-то время он услыхал, что люк захлопнулся.
Когда глаза привыкли к полутьме — слабый свет проникал только сквозь крохотный иллюминатор, — Моисей разглядел, что между ящиками с грузом оборудована как бы жилая каюта: лежала подстилка для сна, в металлическом противне находились продукты. Вот в этой «каюте» надлежало проделать вверх по Лене около двух тысяч верст. Интересно, хватилась уже полиция? Ведь если лодку обнаружат, будет над чем поразмыслить. Хотя быстрое течение реки уносило хрупкую посудину к Ледовитому океану.
Действительно, полиция очень скоро хватилась ссыльного. Однако найденная на берегу его одежда, опознанная многочисленными свидетелями, подтверждала версию, что политический ссыльный Урицкий утонул во время купания. Об этом был составлен акт, который был направлен из Олекминска якутскому губернатору. И человек был списан.
Только департамент полиции, уже неоднократно имевший дело с «утопленниками», акту до конца не поверил. Во все концы России был разослан циркуляр о розыске Урицкого.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Весь долгий путь удача не оставляла Урицкого. И к середине сентября девятьсот пятого года он багополучно добрался до Красноярска. Явка, полученная еще в Олекминске, привела его к одному из руководителей Красноярского комитета РСДРП. Моисей полагал, что пробудет в Красноярске день-два и затем выедет в Петербург, но товарищ из комитета этот план отверг:
— Сразу видно, что вы плохо осведомлены о политической обстановке в наших краях.
От него Урицкий узнал, как развивались революционные события в Сибири.
Весть о крови, пролитой народом 9 января, всколыхнула сибирскую глушь! В Красноярске, так же как в других городах Сибири, прошли демонстрации протеста против злодеяний царизма. Демонстрации постепенно переросли в стачки и забастовки. В августе отбушевала, как выразился член Красноярского комитета, «великая Сибирская железнодорожная забастовка». Чтобы потушить ее, полиция производила массовые аресты, организовывала повальную проверку документов в поездах, следующих в центр России.
Моисей понял, что дальнейший его путь с документами на имя Кузьмича был бы просто недопустим.
— Посмотрите на себя, — добавил товарищ из комитета, — вешалка для костюма, можно только диву даваться, что с такой внешностью вас еще не схватил первый попавшийся полицейский. Я палочку Коха, сопутствующую многим политическим ссыльным, издали внжу.
Врач, осмотревший Урицкого, в постановке диагноза был категоричен:
— С туберкулезом, батенька мой, шутки плохи. Особенно когда так истощен весь организм. Так что питание, сон и лекарства.
Устроить Урицкого на надежной квартире было поручено рабочему депо станции Красноярск Борису Шумяцкому. К нему и повел Моисея обследовавший его врач Михаил Ильич. По пути Урицкий узнал, что врач был социал-демократом, жил в Красноярске на нелегальном положении и что на самом деле зовут его Виктором Манлельбергом, в Красноярске он находится временно как «партийный профессионал».
— Плохо, конечно, что в Красноярске преобладают большевики, а я ведь меньшевик, — доверительно пожаловался Мандельберг.
— А вы были на Втором съезде? — спросил Урицкий.
— Да, как делегат от Сибирского союза…
О последних событиях в жизни партии в Олекминске знали только понаслышке. Конечно, в далекую ссылку долетали отрывочные вести о расколе в партии, о разделении на большевиков и меньшевиков, но разобраться в этом Урицкому было трудно. Слишком незначительна была информация о Втором съезде РСДРП. И вдруг такая возможность: так сказать, из первоисточника, от делегата съезда узнать об истинных причинах раскола.
Почувствовав в Урицком заинтересованного и неискушенного слушателя, доктор всю дорогу до квартиры Шумяцкого рассказывал о том, что произошло на съезде.
— Главная причина в отношении к диктатуре пролетариата и вообще к программе партии, — говорил Мандельберг. — Делегаты съезда Акимов и Мартынов доказали, что нельзя стоять на устаревших позициях Карла Маркса. Классовые противоречия между капиталистом и рабочим постепенно смягчаются, и социализм можно построить в современном обществе без обострения их взаимоотношений.
Это было что-то новое. Неужели годы тюрьмы и ссылки так отдалили его от товарищей, с которыми начинал борьбу за пролетарскую революцию?
— А что говорили большевики? — спросил Урицкий.
— Ну, Ленин, как всегда, был категоричен, — ушел от прямого ответа доктор…
Хозяин квартиры Шумяцкий вернулся с работы поздно. Гости уже сидели за столом, на котором пыхтел самовар, взятый доктором у хозяев. Поздоровавшись, Шумяцкий прошел к умывальнику…
— Ты, Борис, видимо, решил насквозь протереть ладони, — насмешливо заговорил Мандельберг. — Вот представляю тебе товарища Кузьмича. Комитет принял решение о привлечении его к нелегальной работе в Красноярске. Тебе поручено устроить его к хорошей и надежной хозяйке на квартиру.
Урицкий заметил, что доктор в присутствии Шумяцкого от разговоров о разногласиях в партии старался уклониться. Он стал расспрашивать Урицкого о ссылке, затем перевел разговор на житье-бытье рабочих Красноярска и, втянув в разговор хозяина, стал прощаться.
Наступила глухая ночь, когда Шумяцкий повел Урицкого «в надежный адрес», как он выразился, в Почтамтский переулок. Весь путь они прошли молча.
Урицкий ощутил какую-то настороженность, недоверчивость Шумяцкого. Виной этому, как он узнал позднее, были его отношения с доктором.
Мандельберг попал на Второй съезд партии случайно. Ему и Троцкому бывший экономист Гутовский самовольно и единолично от имени Сибирского союза выдал мандаты на съезд. Так называемая «сибирская делегация» выступила против Ленина, что позднее было встречено с возмущением во всех социал-демократических организациях Сибирского союза.
«Бывшая сибирская делегация не представляет Сибирского союза, — говорилось в их протесте. — Сибирский союз и комитеты стоят совершенно на иной точке зрения, чем их бывшие делегаты, в отношении к разногласиям в центре. И только по причудливой игре „массы случайностей“ на съезде — сибирская делегация оказалась в оппозиции к собственной организации…»
Однако всего этого тогда Урицкий не знал. Встречи Урицкого с Мандельбергом как с врачом продолжались, и доктор не упускал случая изложить мнение меньшевиков по тому или иному вопросу. Он рассказал, что вместе с Троцким он был сторонником «Искры», которая тоже постепенно стала отходить от большевиков. Посылая с величайшим трудом свои статьи в «Искру», Урицкий никогда не задумывался, кто стоит во главе этой газеты, считая ее просто органом РСДРП. Предвзятая информация «делегата» вводила Урицкого в заблуждение. А тут еще имя кумира его юношеских лет Плеханова! Мандельберг сумел красочно рассказать, как при содействии Георгия Валентиновича Плеханова меньшевики укрепились в «Искре». А ведь именно «Искра» была главным источником информации, доступной по нелегальным каналам ссыльным по всей Сибири.
Как жаль, что рядом нет Ольминского, поговорить бы…
Но Красноярский комитет, привлекший Урицкого к пропагандистской работе, был большевистским! И Моисей, изголодавшись по настоящей работе, включился в нее со всей своей неизрасходованной энергией.
Как известно, состоявшийся весной 1905 года III съезд партии взял курс на вооруженное восстание… Этому курсу соответствовала и деятельность Красноярского комитета РСДРП.
Урицкий начал свою работу в Красноярске с того, что написал «Листовку о позорном мире России с Японией и необходимости борьбы с самодержавием». Листовка получилась яркая, боевая: «Вооружайтесь же, товарищи, выделяйте из себя боевые отряды, выходите на улицу, стройте баррикады и боритесь.
На борьбу же, товарищи, с самодержавием за демократическую республику, а затем — с капиталистами за социализм».
Красноярский комитет направил Урицкого на встречу с рабочими железнодорожного депо и солдатами железнодорожного батальона. Очень скоро имя пропагандиста Кузьмича зазвучало и на рабочих массовках. Его авторитет особенно вырос после ярких выступления на летучих митингах за Николаевской слободкой и около проходной будки главных железнодорожных мастерских.
Вскоре Красноярский комитет РСДРП нашел возможным поручить Урицкому выступить на диспутах с эсерами по аграрному вопросу. Конечно, можно было бы отказаться, сказать, что не специалист по аграрным делам, но тогда он не был бы Моисеем Урицким. Долгие осенние ночи пришлось просидеть над «Капиталом» Карла Маркса, над работами Ленина. И когда наконец пришлось выступить на диспуте, он твердо держался убеждения, что решение аграрного вопроса в России тесно связано с победоносной революцией рабочего класса в союзе с крестьянством.
В начале октября всеобщая политическая стачка, начатая в Москве, охватила все промышленные центры и превратилась во всероссийскую.
11 октября красноярцы получили телеграмму от Всероссийского стачечного комитета с призывом к всеобщей забастовке.
13 октября в Красноярске началась железнодорожная забастовка и вскоре стала всеобщей.
Она охватила весь город, и подавить ее местным властям оказалось не под силу. Военный гарнизон и солдаты, возвращающиеся из Маньчжурии, были настолько распропагандированы большевиками, что направить их на борьбу с бастующими было невозможно. Кроме того, на сторону рабочих встал и 2-й железнодорожный батальон, прибывший в Красноярск в конце августа. Это обеспечивало полную свободу действий для Красноярского комитета РСДРП, образовавшего стачечный комитет, который практически захватил всю власть в городе.
Однако не всегда Урицкий соглашался с линией, проводимой большевиками Красноярска.
Урицкий не сразу согласился с решением о «превращении стачки в вооруженное восстание». Не было уверенности, что восстание в Красноярске пройдет удачно. Он питал иллюзии относительно демократических выборов в городскую думу с участием рабочих, другими словами, выдвигал лозунг о «революционном самоуправлении». И вместе с тем в период «нарастания революционного вихря» Урицкий уже активно поддерживал красноярских большевиков. Вместе с ними он призывал рабочих готовиться к вооруженному восстанию, стал одним из руководителей Красноярского комитета и в октябре 1905 г. председательствовал почти на всех революционных митингах в Народном доме.
Теперь уже не скрывалась подлинная фамилия Урицкого. «Кузьмич», значившийся в фиктивных документах, стал его партийной кличкой. На квартиру Урицкого теперь в любое время дня и ночи стали приходить за советом рабочие и солдаты. Здесь же, на его квартире, не раз собирался на заседание комитет.
Однажды на квартиру Урицкого прибежал комендант железнодорожной станции Красноярск. Взяв под козырек, он отрапортовал, обращаясь к Урицкому:
— Разрешите доложить! Только что на станцию прибыл эшелон каторжан с Сахалина. Что прикажете с ними делать?
Урицкий и находившиеся у него члены комитета недоуменно переглянулись. Немного подумав, глядя на стоящего навытяжку коменданта, Урицкий, скрывая улыбку, отдал распоряжение:
— Извольте отправиться на станцию и хорошенько$7
— А затем, — продолжил он, — через шесть часов явитесь в комитет и доложите о результатах.
Взяв под козырек, комендант удалился. Заседание кончилось, члены комитета разошлись, поздней ночью раздался стук в дверь. Отперев, Урицкий увидел того же расторопного коменданта.
— Ваше приказание выполнено, — четко доложил он, — каторжане покушали-с, и процесс пищеварения у них закончен…
Рассказывая об этом наутро товарищам, Урицкий, отхохотавшись, заметил:
— Вот какие бездушные машины готовятся в царской армии. Когда мы будем свергать царско-помещичий строй, то и царь и помещики немного сделают с такими защитниками. Солдаты же, то есть рабочие и крестьяне, пойдут не за ними, а против них, и мы создадим свою, революционную армию.
В середине октября стачечный комитет красноярских рабочих образовал Выборную комиссию от рабочих, ставшую прообразом Совета рабочих депутатов. Именно она взяла на себя функции революционной власти в Красноярске. Митинги временно прекратились. Наступило затишье. Местные власти никаких мер против восставших рабочих не предпринимали, не имея опоры в воинских частях, которые держали дружеский нейтралитет по отношению к рабочим. Рабочие же не преследовали представителей старой власти, довольствуясь «завоеванной свободой».
Оценивая такое положение равновесия в октябре 1905 года, Владимир Ильич Ленин писал:
«…Двор колеблется и выжидает. Собственно, это правильная тактика с его стороны: равновесие сил заставляет выжидать, ибо власть в их руках.
Революция дошла до такого момента, когда контрреволюции нападать, наступать невыгодно.
Для нас, для пролетариата, для последовательных революционных демократов, этого еще мало. Если мы не поднимемся еще ступенью выше, если мы не осилим задачи самостоятельного наступления, если мы не сломим силы царизма, не разрушим его фактической власти, — тогда революция будет половинчатая, тогда буржуазия за нос проведет рабочих».
Эти дни Урицкий много сил отдавал выпуску «Стачечного бюллетеня», который печатался в захваченной рабочими правительственной губернской типографии. 19 октября он просто ворвался туда, размахивая царским манифестом от 17 октября, в котором Николай II заявил о «даровании» народу гражданской свободы, неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов.
— Борис! — с порога крикнул он Шумяцкому, — надо немедленно выпустить прокламацию, разоблачающую истинный смысл этого мошеннического документа. Я уже согласовал это с членами комитета.
Здесь же в типографии Урицкий написал:
«…манифест направлен на то, чтобы рабочие прекратили борьбу, после чего с ними легко будет справиться всевозможным монархистам…»
Отпечатанная прокламация разнеслась по городу и железнодорожным предприятиям с удивительной быстротой. Многие рабочие прочли ее даже раньше, чем манифест.
Но не дремали и те, кому социал-демократы объявили войну. Либералы из царских чиновников и купцов бегали по городу, трясли манифестом, объявляя его документом, несущим благо всему народу. В тот же день в Красноярске была создана так называемая «Свободная народная партия». 20 октября некоторые ее деятели явились в Стачечный комитет с предложением объединения.
— Как вы себе мыслите объединение огня с водой? — усмехаясь спросил Урицкий. — Я лично ни одной точки соприкосновения не вижу. И если вы действительно хотите знать мнение народа по этому поводу, приходите завтра на всенародный митинг, который устраивает наш Стачечный комитет.
21 октября, словно в поддержку действий Стачечного комитета, выдался теплый, ласковый день. Начался он митингом в сборно-паровозном цехе главных железнодорожных мастерских. Опасения некоторых членов Стачечного комитета, что не найдется желающих выступить на этом митинге, не оправдались. Один за другим поднимались на трибуну рабочие мастерских. Они страстно призывали не верить царскому манифесту, а идти революционным путем, добиваясь не только экономического улучшения жизни, но и политических свобод. Выступали и либералы с подготовленными заранее текстами. Они уговаривали рабочих пойти на соглашение с царизмом, просить конституционных уступок…
Поднялся на трибуну и Урицкий. Он много не говорил, а просто предложил принять резолюцию, отвергающую жалкую подачку царя, выраженную в манифесте, и призвал рабочих к дальнейшей революционной борьбе.
Это предложение было встречено бурной овацией. По окончании митинга все двинулись в Народный дом. Впереди рабочих шли бойцы боевой дружины с красными знаменами и транспарантами, на которых были написаны политические лозунги.
Народный дом был переполнен. Председателем собрания единодушно был избран Урицкий.
— Товарищи, — начал он, — черносотенцы готовят свою манифестацию, будут пытаться сорвать наш митинг. Каждый выстрел внутри здания будет считаться провокационным.
Затем Урицкий пункт за пунктом обстоятельно разобрал мошеннический царский манифест, особо подчеркнув отсутствие в этом документе разрешения рабочего и земельного вопросов.
Опасения Урицкого подтвердились. Черносотенцы подошли к Народному дому с пением «Боже, царя храни», с криками «Да здравствует монархия». Их сопровождал казачий дивизион. В отдельных выкриках можно было разобрать требования о выдаче «жида» Урицкого, сдаче оружия и выходе на улицу всех участников митинга. Чтобы спровоцировать беспорядки, черносотенцы открыли стрельбу по дружине, охраняющей вход, те не дрогнули и ответили дружным залпом…
Митинг продолжался. Около часу ночи боец боевой дружины сообщил Урицкому, что казаки и черносотенцы в панике разбегаются. Оказалось, что, узнав об осаде Народного дома, пришел на выручку рабочим 2-й железнодорожный батальон.
На сцену вышли трое вооруженных солдат. Их Урицкий знал хорошо. Это по его почину во 2-м железнодорожном батальоне была создана солдатская организация в виде комитета представителей рот и команд. Задачу солдатских комитетов Урицкий видел в том, что они, объединяя солдат, привлекали к революционной борьбе рабочих.
Когда стих радостный гул в зало, Урицкий дал слово одному из солдат.
— Да здравствует братство рабочих, крестьян и солдат! — волнуясь, сказал солдат и замолчал, но больше говорить ничего и не надо было.
Выступление Урицкого на митинге в Народном доме было одним из последних в Красноярске. С приближением холодной зимы болезнь давала себя знать все сильнее. По решению Красноярского комитета РСДРП в конце октября Урицкий покинул город. Но дальнейшие события, развернувшиеся в Красноярске после его отъезда, продолжали волновать, заставляли продумывать все удачи и ошибки руководителей «Красноярской республики», как она была названа в истории революции 1905 года.
Вскоре после отъезда Урицкого Выборная комиссия от рабочих была переименована в Совет рабочих депутатов города Красноярска, который затем преобразовался в объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов.
В середине декабря Совет произвел разоружение полиции и жандармов. Охрану города взял на себя 2-й железнодорожный батальон. Не считая возможным возлагать на солдат батальона и народные дружины розыск воров и прочих уголовных преступников, Совет постановил, что он «берет на себя охрану города для предупреждения грабежей и насилий и защиты свободы собраний, но розыск воров и расследование уже совершившихся краж возлагается по-прежнему на полицию и судебных следователей».
Это было грубой ошибкой. Нельзя было оставлять полицейских на службе и представителей царской власти на свободе.
Притаившиеся представители царской власти города Красноярска, получив сведения, что в Питере арестован весь Совет рабочих депутатов, подавлено московское восстание, осмелели. Были вызваны Омский и Красноярский полки, оставшиеся верными царскому правительству. Комитет большевиков принял решение об обороне. В железнодорожных мастерских собралось около 800 человек солдат и рабочих вместе с членами красноярской организации партии. Наспех были сооружены баррикады, запасено оружие и продовольствие. Неделю продолжалась осада, но силы были явно неравны. Исчерпав все возможности оборопы, защитники мастерских были вынуждены сдаться. Начались аресты.
Жандармы не оставили без внимания причастность Моисея Урицкого к вооруженному восстанию в Красноярске, о чем было сообщено в Петербург. Здесь царская охранка и обнаружила «следы» бывшего ссыльного Урицкого, получившего свободу по манифесту от 17 октября.
Действительно, прежде чем вернуться на родину в Черкассы, Урицкий задержался в Петербурге, чтобы получить нужные документы. Он надеялся также добиться права на сдачу экстерном экзаменов за юридический факультет университета и с получением диплома кандидата прав начать работать по специальности, сочетая юридическую деятельность с революционной.
Все планы нарушились под Новый год. 31 декабря 1905 года Урицкий выступал на одном из социал-демократических собраний, рассказывая о революционных событиях в Красноярске. Тема эта в изложении непосредственного участника событий собрала огромное количество слушателей, в основном рабочих фабрик и заводов. В здание, где проходило собрание, ворвалась полиция. Тщательно выправленные на чужое имя документы не помогли. Кто-то из филеров опознал Урицкого.
«Нечего вам делать в Петербурге», — заявил ему жандармский офицер в охранном отделении и выписал документ об отправке Урицкого к постоянному месту жительства в город Черкассы.
Новый год пришлось встретить в «предварилке», а утром в сопровождении двух жандармов прибыть на Варшавский вокзал.
Троица проходит мимо желтых вагонов, прицепленных поближе к паровозу, мимо синих, в середине состава. «Чистая публика», пассажиры первого и второго классов, со злостью и презрением смотрят на Урицкого, шагающего по перрону своей медвежьей походкой между двух жандармов.
— Сюда, — указывает один из жандармов на зеленый вагон третьего класса почти в хвосте поезда. — Имейте в виду, господин Урицкий, по пути вашего следования отправлен циркуляр, и поэтому не вздумайте сойти с поезда в пути. А по прибытии в Черкассы в тот же день не забудьте зарегистрироваться в полицейском участке, — продолжает он напутствовать Моисея, пока тот поднимается по ступенькам в тамбур вагона.
Пассажиры, заполнившие до отказа вагон третьего класса, с любопытством наблюдают эту посадку. Странно, такой прилично одетый господин в пенсне, а садится в их вагон. Наиболее догадливый делает громогласный вывод:
— Видать, политический.
Теперь на Урицкого смотрят с сочувствием, кто-то подвигается, уступая место на скамье, кто-то роется в мешке, достает кусок сала, буханку хлеба.
— Спасибо, — говорит Урицкий, вгрызаясь крепкими зубами в кусок сала. В «предварилке» тех, кто намечен в отъезд, кормить не положено.
Январское утро. В вагоне царит полумрак — на два открытых купе одна стеариновая свеча в застекленном простенке. Урицкий прикрыл глаза и тут же уснул.
Прибыв в Черкассы, Моисей первым делом зашел отметиться в полицейский участок. Нельзя сказать, что там очень обрадовались ого появлению.
— Только чтоб никакой политики, — подавая Урицкому документ со штампом о регистрации, сказал урядник.
— Какая там политика, я приехал домой подлечиться и отдохнуть, — озорно подмигнув полицейскому, пообещал Моисей и направился домой к Берте.
Но отдохнуть, конечно, не удалось. Очень скоро о приезде Урицкого стало известно местным социал-демократам. Здесь полным ходом шла предвыборная кампания по выборам в I Государственную думу. Урицкий знал, что большевики приняли решение о бойкоте этих выборов, но он не был полностью уверен в правильности такого решения. Товарищи рассказали, что выборная кампания здесь, в Черкассах, превратилась в победное шествие в Думу черкасских помещиков. Ну как не вступить с ними в борьбу? Не попытаться провести в Думу рабочего человека?
До Урицкого не дошли документы, разоблачающие смысл Думы, организованной по указанию царя министром внутренних дел Булыгиным, не знал он и содержания закона о выборах в Думу, утвержденного царским манифестом 6 августа 1905 года: избирательных прав лишены все мужчины моложе 25 лет, все женщины, рабочие, военнослужащие и национальные меньшинства, так называемые «бродячие инородцы». Из крестьян избирательным правом могли пользоваться только зажиточные домохозяева. Не знал тогда Урицкий и ленинского определения Булыгинской думы как «совещательного собрания представителей помещиков и крупной буржуазии, выбранных под надзором и при содействии слуг самодержавного правительства…».
Не зная всего этого, Моисей Урицкий, прибыв в Черкассы, с головой ушел в кампанию по выборам в бойкотируемую большевиками Думу. И свершилось, казалось бы, невозможное: в Государственную думу от Черкасского уезда прошел социал-демократ, рабочий черкасского сахаро-рафинадного завода Захар Иванович Выровой.
И эти выборы стали, может быть, самой большой ошибкой в жизни Урицкого. Если бы он мог тогда знать, на чью мельницу льет воду, нарушая большевистский бойкот Думы, какую услугу оказывает врагам революции. Он не сумел распознать добродушного с виду украинца Захара Вырового, оказавшегося полицейским провокатором.
По окончании выборной кампании Урицкий выехал в Петербург, надеясь все же получить разрешение на сдачу кандидатских экзаменов…
Утро 3 июня 1907 года выдалось по-настоящему летним. Как ото часто бывает в Петербурге, затяжные дожди вдруг прекратились, и яркое, рано встающее солнце, отражаясь во вчерашних лужах, сделало город веселым и праздничным. Моисея ночью не так мучил кашель, он поднялся с постели хорошо отдохнувшим, с отличным настроением, быстро позавтракал и вышел на улицу.
Сегодня предстояло сделать многое: нужно посетить двух-трех товарищей, договориться о выступлении на рабочей сходке, написать статью в один из нелегальных журналов… Вот и остановка петербургской конки. На остановке несколько человек: женщина с хозяйственными сумками, чиновник почтового ведомства, старичок с черным зонтиком, видимо, но доверяющий погоде. Все деловито усаживаются на свободные места, возница перебирает вожжи. Урицкий садится на последнюю скамью и неожиданно для себя вдруг чувствует тревогу, ощущение опасности. Оглядывается: двое в штатском уже на ходу впрыгнули в конку и, проделав какое-то одно профессионально отработанное движение, оказались рядом с ним, по обе стороны.
— Тихо! — приказал один из них.
— Документы, — потребовал другой.
Урицкий достал из внутреннего кармана пиджака документы и предъявил паспорт. Тут же четыре ловкие руки быстро пробежались по его телу, похлопали но карманам.
— Вора поймали! — радостно завопила какая-то тетка.
— У, бандюга! — ткнул в сторону Моисея старичок своим черным зонтиком.
— А ну, любезный, останови карету, — окрикнул возницу один из «штатских». — Пройдем с нами, — приказал он Урицкому, — охранное отделение, сопротивляться не советую.
Оба были на голову выше Моисея, под неловко сидевшими пиджаками угадывались хорошо натренированные мышцы. О каком тут сопротивлении может идти речь. Урицкий молча последовал за «штатскими» и слышал, как в отъезжающей конке бурно начали обсуждать случившееся. «Плохо мы еще работаем. Мало, — думал Урицкий, шагая между двух охранников. — Ведь никому в конке даже в голову не пришла мысль, что вот так, на улице, в конке, царские опричники могут задержать, арестовать любого человека, и никто не посмеет заступиться за него, даже просто предположить, что никакой это не вор, не „бандюга“, а человек, борющийся за их же счастье».
В Петербургском охранном отделении Урицкого уже ждали. Значит, доверившись весеннему солнцу, хорошему настроению, потерял бдительность, не заметил, что «топальщики» сопровождали каждый его шаг, как только он вышел из дома.
Направляясь с «эскортом» из нескольких полицейских и жандармов к своему дому, Моисей знал, что обыск его комнатки ничего не даст охранке, но он знал и характер своих преследователей: добычу из рук не выпускать. И он оказался прав. Но найдя ничего предосудительного после двух часов обыска, его все же отправили в Дом предварительного заключения. И снова потекли тягучие дни за решеткой, без предъявления обвинения, даже без нудных допросов.
Наконец арестанту было зачитано распоряжение Петербургского градоначальника:
«Как лицу вредному для общественной безопасности и порядка запрещено проживание в Петербурге. До снятия чрезвычайной охраны лишить права въезда в Петербург за вредное направление. Для выяснения личности направить этапом на названную арестованным родину в город Черкассы».
До отправки Моисей написал письмо родным:
«Дорогие мои! Благодаря Петербургскому охранному отделению у меня опять появилась возможность переписываться с вами…
Жил я все это время в Петербурге, и жил недурно. Да не бывать бы счастью, да несчастье помогло… Предположило во мне кого-то охранное отделение, арестовало на улице, и вот теперь я сижу в „предварилке“ в ожидании дальнейших выяснений и разъяснений. Возможно, что придется прокатиться в Одессу на казенный счет или к вам на родину для установления личности.
Охранное отделение как будто не доверяет мне, что это действительно я, а не кто-нибудь иной…
Чудны дела твои, о, господи! Когда только пристроюсь где-нибудь и задумаюсь над тем, что пора-де мне за экзамены приняться, как является охранное отделение: „Пожалуйте!“ Они как будто бы задались себе целью убедить меня в том, что отдыхать и уходить от дела нельзя…
Попал неудобно — под праздник, и дело затянется немного дольше обычного. Когда выяснится, в чем, собственно говоря, я подозреваюсь и куда намерены меня отправить, напишу вам.
Пока же, раз я вновь получил право называться своим именем и переписываться со своими родными, мне хотелось узнать, что у вас хорошего и дурного, как дела, как здоровье, как учатся дети и проч.
Пишите пока через Петербургское охранное отделение в Дом предварительного заключения политическому арестованному — мне.
Крепко целую всех. Моисей».
Очень скоро этапным порядком его отправили в Черкассы.
И опять тюремный вагон, прицепленный к хвосту товарного поезда. Опять он один среди уголовников. Но есть тюремный опыт, есть привычка ко всяким неудобствам и есть изнурительный кашель чахоточного, от которого уголовники стараются держаться подальше.
И вот знакомый подвал полицейского участка на Смелянской улице в Черкассах. Здесь Моисея Урицкого хорошо знают и, после памятного налета генерала Новицкого, опасаются. Правда, Киеву можно и не докладывать, что для опознания личности Урицкий прибыл в Черкассы. Сообщили в Петербург, что опознан, а дальше? С таким злокачественным кашлем продолжать держать в подвале или пойти навстречу достойной женщине Берте Соломоновне, которая обратилась с просьбой об освобождении брата?.. В полиции знают, что она умеет раскошелиться. И совершенно неожиданно для Моисея его выпустили на свободу.
Чтобы не навлекать на сестру никаких неприятностей, больной Урицкий с помощью старых друзей устроился на жительство в селе Дахновка. Свежий воздух, здоровая крестьянская пища сделали свое дело, здоровье Моисея немного поправилось. Скоро к Урицкому приехал товарищ из Киевского объединенного комитета РСДРП. Он рассказал, что большевики приняли резолюцию против бойкота III Государственной думы, и комитет поручает Моисею Урицкому провести предвыборную кампанию по Черкасскому уезду.
Делегатом от Черкасского уезда был избран рабочий Иван Антонович Гуменко.
Находясь в Черкассах, Урицкий принял участие в работе Спилки (Украинском социал-демократическом союзе).
Формально Спилка стремилась к объединению с большевиками. Ее представитель был и на IV (Объединительном) съезде РСДРП. Однако мелкобуржуазные, националистические тенденции в этой организации были сильны. Видимо, они повлияли и на формирование взглядов Урицкого, которого руководство Спилки пригласило принять участие во всеукраинской конференции.
С документами делегата конференции к Урицкому прибыл один из руководителей Спилки, бывший депутат I Думы Захар Выровой. Моисей мог только удивляться, как за такое короткое время изменился этот человек. Куда делся мягкий украинский юморок, ласковая улыбка. За сузившимися щелками заплывших жирком глаз скрывалась какая-то настороженность, что-то фальшивое. Когда же Выровой стал убеждать Урицкого в целесообразности приглашения на конференцию Спилки руководителей Киевского комитета РСДРП, Моисей остро ощутил опасность. Для вида согласившись выполнить просьбу Вырового, Урицкий сказал, что поставит этот вопрос па заседании комитета, которое состоится… (он тут же назвал вымышленные время и место заседания).
В Киев Урицкий прибыл накануне конференции, 29 октября. Проверив, что нет слежки, отправился к месту регистрации делегатов на Безаковскую улицу. После ярко освещенной улицы в квартирном коридоре показалось темно. Возле одной из дверей стоит офицер, видимо тот, которому дали явку солдаты военно-революционной организации пехотного Переволоченского полка.
— Вам сюда? — приветливо спросил офицер у вошедшего в коридор Урицкого.
— Совершенно верно, — широко улыбнулся Моисей.
— Пожалуйте, — офицер, щелкнув каблуками, широко отворил дверь в комнату.
Свет из комнаты осветил насмешливо улыбающееся лицо, синий жандармский мундир и белый аксельбант. Урицкий остановился. Попался, как щенок, как мальчишка. Еще надеясь на какой-нибудь случай, на то, что его не опознают, примут за другого, он сделал шаг назад.
— Куда же вы? Прошу вас пройти в комнату, господин Урицкий!
Пожав как можно выразительнее плечами, Моисей вошел в комнату. Его тут же обступили рослые жандармы, пристав, какие-то люди в штатском.
— Это он? — спросил офицер у одного из штатских.
— Он самый, — осклабился тот.
Так, все сомнения нужно отбросить прочь. Его здесь ждали. Именно его. Знали, что придет прямо сюда, вот причина отсутствия слежки.
— Предъявите паспорт, — подошел к Урицкому пристав.
— Пожалуйста.
— Нет киевской прописки, — разглядывая паспорт, грозно сообщил пристав.
— Я только что приехал.
— По какому делу?
— Для переговоров о работе.
— О какой работе?
— Литературной. Я пишу статьи в газеты и журналы. В легальные, конечно.
— Так. Попробую вам поверить. По почему вы оказались именно здесь?
— На воротах наклеено объявление о сдаче квартиры, вот я и зашел посмотреть.
— Послушайте, господин Урицкий, — вмешался в разговор жандармский офицер, — что вам известно о сегодняшнем сборище руководителей комитета социал-демократической партии. Кто должен на нем присутствовать? Какие вопросы предполагается решать?
Вот все и стало на свои места. Кроме Захара Вырового, никто не мог сообщить жандармам о придуманном собрании. Из вопросов жандарма можно догадаться, что по адресу, названному провокатором, уже организована засада, которая с треском провалилась. Беспокоило одно: невозможность сообщить товарищам об установленном провокаторе. Но что будет с конференцией Спилки? Хотя похоже, что жандармов не так интересует этот союз, как комитет РСДРП. Судя по тому, как Выровой добивался иомощи Урицкого в привлечении к конференции членов комитета, других подходов к комитету у руководства Спилки нет. И никого из комитета на конференции не будет.
— Не понимаю, о чем речь, — ответил жандарму Урицкий, и теперь уже сам насмешливо посмотрел на него.
— Ну, как знаете. На вашем месте я бы чистосердечно признался и отправился на поиски работы, — сказал жандарм, понимая, что ничего от Урицкого не добьется. Он что-то приказал приставу и вышел из комнаты.
— Придется вас задержать, — сказал пристав.
Под конвоем двух жандармов Урицкого препроводили в участок, который оказался недалеко, буквально за ближайшим углом. Дежуривший в участке городовой был неожиданно вежлив. Он с любопытством приглядывался к прилично одетому господину и, полагая, что тот является «полуарестованным» до выяснения личности, предложил Урицкому снять пальто и подождать в канцелярии.
Сбросив пальто, Моисей расположился на старом, потертом до белизны диване и стал напряженно соображать, что делать с такой уликой, как целлулоидная пластинка с зашифрованными на ней адресами явок в Киеве. Она лежит вместе с часами в верхнем кармане сюртука. Прежде всего нужно попытаться стереть надписи, а затем, если удастся, расстаться и с пластиной.
Улучив момент, когда городовой закопошился в ящике стола, Урицкий смочил слюной пальцы и легко стер надпись. Привалившись к подушке дивана, он определил, что там есть глубокая складка, в которую можно спрятать пластинку. Вынув пластинку вместе с часами, посмотрел время, затем незаметно сунул пластинку в складку дивана.
Ощутив себя окончательно «чистым», он приступил к «беседе» с городовым.
— Однако… я с утра ничего не ел. Не будете ли так любезны справиться, долго ли продлится мое задержание?
— Этого вам не скажут, а насчет обеда могу послать в ближайший ресторан, — любезно ответил городовой. Но выполнить свое обещание не успел. В участок вошел какой-то развязный тип и, попросив Урицкого подняться, стал шарить по всем щелям кожаной обшивки дивана и тут же вытащил спрятанную Урицким пластинку. Положив ее на стол перед городовым, он что-то тому сказал. Городовой, недобро поглядев на Урицкого, подошел и, ни слова не говоря, принялся его обыскивать. Выложив на стол все, что было в карманах задержанного господина, он взялся за пальто и вдруг извлек из него свернутую газету, развернул, и Урицкий с изумлением узнал номер «Социал-демократа».
«А ведь ее не было. Шпик проклятый подсунул», — только успел подумать Урицкий, как в участок вошел жандармский офпцер.
— Вот, обнаружено при обыске, — тряся газетой и захлебываясь в служебном рвении, торжествовал шпик.
— Теперь вы видите, что мы не можем вас так просто отпустить, — сказал офицер Урицкому.
Ночь пришлось провести в участке. Из канцелярии перевели в одиночную камеру, которая в это время пустовала. Спать Урпцкий не мог: мысль о невозможности сообщить товарищам о провокаторе мучила его всю ночь. Мучила неизвестность: кто еще арестован, состоится ли назначенная на завтра конференция?
Когда рассвело, Урицкий встал на нары и заглянул в зарешеченное окно. Маленький дворик. Высокий деревянный забор, За ним обывательский двор, ходят люди, играют ребята. Около забора беспорядочно свалены бревна, если на них взобраться, можно легко перемахнуть через забор…
— Чай пить будете? — прервал размышления о побеге городовой.
Урицкий достал деньги и передал городовому.
— Когда меня выпустят? — спросил он.
— Это нам не известно. Если что надо домашним передать, это можно будет.
— У меня здесь никого нет. А как насчет прогулки?
— Это после завтрака, как положено.
После завтрака Урицкого действительно вывели на прогулку. Надев пальто, он вышел во дворик. Но там его ждали двое городовых. Побег не мог быть осуществлен.
Через 36 часов после задержания Урицкого под конвоем отвезли на пристань и усадили на пароход, следующий в Черкассы, не оставив возможности связаться с товарищами, предупредить о провокаторе, узнать судьбу конференции, ведь она уже могла состояться.
Только когда пароход отвалил от пристани и его колеса ударили по воде, жандармы, стоящие на пристани, одновременно повернулись и зашагали в город. Урицкий, кляня подлую службу провокаторов, решил на первой же остановке сойти и попробовать встречным пароходом вернуться в Киев, но не будучи уверен, что за ним не следит кто-то из филеров, стал внимательно присматриваться к пассажирам. И удача! На носовой палубе уютно расположился человек в форме железнодорожника, в котором Моисей сразу узнал товарища, посещавшего кружок Мельникова.
Тот тоже признал Урицкого и подвинулся, освобождая место рядом с собой на деревянном настиле.
— Куда путь держите? — после крепкого рукопожатия спросил Моисей.
— Да вот наконец собрался навестить стариков в Каневе, два года не видался.
Урицкий огляделся. Никого поблизости не видно. Но ва всякий случай понизив голос до шепота, он сказал:
— Дело чрезвычайной важности. Не могли бы вы на первой остановке отстать от нашего парохода и вернуться в Киев?
— Ну, если надо, что за вопрос…
Другого ответа Моисей и не ждал. Дав товарищу явку в Киеве и задание сообщить, что один из руководителей Спилки — Захар Иванович Выровой — полицейский провокатор, Урицкий поднялся с настила и прогулочным шагом пошел на корму. Он выполнил должное. За кружковцев Мельникова можно ручаться головой. И действительно, на первой же остановке железнодорожник сошел на берег, стал прицениваться на прибрежном рынке к украинским рушникам и, «замешкавшись», опоздал на отваливший от пристани пароход.
Через несколько дней Урицкому сообщили, что конференция Спилки состоялась, как и было намечено, 30 октября в пригороде Киева, на станции Ирпень. Выровой на конференции присутствовал и был очень активен. Несмотря на то что охранное отделение было поставлено в известность, никто арестован не был. Имея точный список всех делегатов, можно арестовывать по одному, что проще. Аресты были произведены, и организация практически разгромлена. Для виду был арестовал провокатор Выровой и заключен в Лукьяновскую тюрьму, где продолжал свою подлую деятельность. Урицкий не оказался в списке подлежащих аресту только потому, что был задержан 29 октября и отпущен через 36 часов без всяких для него последствий.
Получив из Петербурга сведения о том, что над социал-демократической фракцией II Государственной думы, разогнанной правительством в июне седьмого года, должен состояться суд, Урицкий провел на квартире Берты совещание актива Черкасской организации РСДРП а предложил выразить против этого суда резкий протест от имени рабочих и крестьян уезда.
Сразу после совещания Урицкий набросал печатными буквами текст протеста для распространения его среди рабочих и крестьян уезда:
«Самым решительным образом протестуем против суда над социал-демократической фракцией.
Требуем гласного разбирательства возведенных против нее фиктивных обвинений.
Выражаем свою полную солидарность со всей деятельностью фракции».
Конечно, Киевское губернское жандармское управление не могло спокойно терпеть такой активности социал-демократов в Черкасском уезде. Жандармы отлично знали, о ком «хлопотать», кто является «зачинателем беспорядков».
23 января 1908 года Моисей Урицкий снова арестован просто «за политическую неблагонадежность» без предъявления конкретного обвинения.
И снова тяжелая зима, снова тюрьма.
Наконец 31 марта 1908 года постановление Особого совещания министра внутренних дел: «Сослать в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции сроком на два года, считая срок ссылки с 31 марта 1908 года».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вологда. Моисей Урицкий в Лукьяновской тюрьме смог получить исчерпывающие данные об этом городе, ставшем местом ссылки не для одного киевского социал-демократа.
Один из древнейших русских городов, Вологда впервые упоминается в русских летописях в 1147 году. Форпост России в борьбе с многочисленными иноземными захватчиками, торговые ворота в северном направлении. Досле 1905 года Вологда стала местом ссылок лучших людей России, почти таким же заселенным, как Сибирь. Вологодский губернатор Хвостов, когда один из киевских социал-демократов попросил оставить его в самой Вологде, где была крепкая колония политических, недвусмысленно заявил: «У меня в губернии три тысячи ссыльных, если я всех оставлю в Вологде, они мне весь город испортят». И в самом деле, революция пятого года показала, что губернатор недалек от истины — под руководством группы РСДРП, не без участия ссыльных, в Вологде бурно развивались события, устраивались массовые политические забастовки и демонстрации, по всей губернии проходили митинги с призывами к вооружец-ной борьбе с правительством.
«Дело мещанина, уроженца города Черкассы Киевской губернии Моисея Соломоновича Урицкого, обвиняемого в государственном преступлении, разрешить в административном порядке, с тем чтобы, вменив в наказание предварительный арест, подчинить Моисея Соломоновича Урицкого гласному надзору полиции на два года в Вологодской губернии». Это постановление было только вчера объявлено жандармским управлением, а сегодня уже из тюрьмы подготовлен этап. Опять вместе политические и уголовные. Часть уголовных приговорены к каторге, уже прозвучала команда «надеть кандалы». Построение в тюремном дворе. Политические выходят первыми, позади слышен звон кандалов, окрики тюремных надзирателей. Моисей Урицкий замыкает строй политических, за ним, чуть ли не в затылок, тяжело дышат кандальники.
За воротами печальный этап встречает толпа. Родные и близкие заключенных. Они стараются как можно ближе подойти к серому строю, их оттесняют конвоиры. Моисей не сообщал никому о готовящейся отправке и поэтому никого не ждал, но внезапно увидел Берту. Он уже давно перестал удивляться невероятной быстрого распространения тюремных новостей, которая существует почти во всех тюрьмах, но откуда могла узнать об от правке Берта?
— Моисей!
Берта попробовала прорваться сквозь цепочку городо, вых, но куда там…
— Берта! Я сразу напишу тебе, как прибуду на место! — крикнул Урицкий.
— Молчать! Не разговаривать! — орал обеспокоенный большим скоплением народа конвойный офицер. — Шире шаг!
Подгоняемые конвоирами арестанты зашагали быстрее. Берта еще на миг мелькнула в толпе и исчезла.
И снова киевский вокзал. Те же красные вагоны — «40 человек или 8 лошадей». Лошадей, может быть, возят и по восемь, а вот заключенных можно набивать «до отказа». Урицкий насчитал что-то около шестидесяти человек.
К Вологде подъезжали утром. В крохотное зарешеченное окно вагона Моисей со своей четвертой полки разглядел в лучах раннего весеннего солнца золотые купола многочисленных церквей, низенькие деревянные, потемневшие от времени домишки горожан. Ближе к станции, рядом с железнодорожным полотном, высились корпуса железнодорожных мастерских, чем-то очень напоминающие красноярские. И от этого новое место ссылки сразу стало как будто приветливее.
Оставив далеко позади белокаменный вокзал станции Вологда, товарный поезд с арестантами проследовал в тупик, где тюремный вагон уже ожидали полицейские и солдаты, которые должны были сменить конвоиров, сопровождавших заключенных в пути. И сразу же знакомая проверка по спискам, пересчитывание.
— Раз! — отсчитывает конвоир в вагоне.
— Раз! — повторяет конвоир на земле.
— Два!
— Два!
— Тринадцать, — считает конвоир, когда на ступеньку ступил Урицкий.
— Тринадцать, — принимает его вологодский солдат.
— Становись по пятеркам! — командует дородный унтер-офицер.
Построенные по пять в ряд, заключенные вновь пересчитываются.
— Взять личные вещи. Шагом марш!
Путь от вокзала до Арестантских рот, как солдаты назвали вновь построенную вологодскую тюрьму, после духоты и давки в вагоне показался легким. По-весеннему грело прохладное северное солнце, грели мысли, что скоро не будет тюремных камер, надзирателей, конвоиров. Придет свобода передвигаться в черте города, разговаривать с людьми, дышать свежим воздухом, видеть, сколько хочешь, небо. Для жителей Вологды колонны ссыльных и каторжников за последние годы стали обыденным явлением и уже не вызывали ни любопытства, ни удивления. Не делали секрета из передвижения арестованных по городу и тюремщики: путь от вокзала к тюрьме проходил через центр города. Урицкий по дороге мог полюбоваться и пятиглавой Воскресенской церковью, возвышающейся на берегу реки, и высокими стенами кремля с бойницами, за которыми проглядывались древние соборы, и Казенным приказом в строгом, старорусском стиле. Купеческие богатые дома, торговые ряды, дома мещан с палисадниками и высокими заборами были похожи на подобные строения почти всех русских губернских городов.
А вот тюрьма удивила Моисея своей прямо-таки комфортабельностью. Здесь не было темных сырых подвалов, камеры были большие, достаточно освещенные, хотя кровати на день, как везде, поднимались к стенам. Имелась баня, в которой он с наслаждением смыл дорожную грязь, и больница с неплохим$7
Утром в камеру к Урицкому явился тюремный смотритель и сказал, чтобы он собирался с вещами: после завтрака будет отвезен в полицейское управление, где объявят решение вологодского губернатора.
У тюремных ворот Урицкого ожидала тюремная пролетка с закрытым верхом и без окон, так что он не разобрал, какой дорогой его везут. Когда пролетка остановилась и открылась дверца, Моисей увидел большое белое здание полицейского управления. Передав арестанта дежурному, полицейский чин тут же взгромоздился в пролетку и уехал, из чего стало ясно, что обратно в тюрьму не повезут.
Дежурный проводил Урицкого на второй этаж в приемную, где за огромным столом сидел чиновник в зеленом новеньком мундире.
— Прошу садиться, господин Урицкий, — указал он на стул. — Я должен сообщить вам решение губернатора. Для отбытия наказания, назначенного вам постановлением особого совещания министра внутренних дел, господин начальник Вологодской губернии изволил назначить город Вологду. Должен вам напомнить следующее: в силу Положения о политическом надзоре, утвержденного по распоряжению властей, вам не выдадут документы на жительство. Вы лишены права отлучаться за пределы Вологды.
Урицкий слушал полицейского чиновника, и ему казалось, что это говорит не живой человек, а заведенный граммофон. Все эти слова почти дословно повторялись и при его направлении в сибирскую ссылку, только подставлялось другое название города. А чиновник тем же размеренным голосом продолжал:
— Хочу дополнить, что местной полиции разрешено входить в занимаемое вами помещение во всякое время дня и ночи, а также производить обыски и аресты. Вам запрещено служить в государственных или общественных учреждениях, заниматься педагогической деятельностью, участвовать в сценических представлениях, а также собираться числом более пяти человек. В любое время ваша телеграфная и почтовая корреспонденция могкет быть просмотрена цензурой. Есть ли вопросы?
— Есть, — сказал Урицкий. — Чем же мне в вашем городе прикажете заниматься? Выходить на большую дорогу и грабить купцов?
— Тогда к вашей политической статье добавится уголовная, — так же спокойно сказал чиновник. — Советую вам изучить какое-нибудь ремесло, например брадобрея или портного. И от политики подальше, и средства к существованию сможете добывать.
— Спасибо за заботу, — иронически прищурился Урицкий.
— И еще последнее, о чем я обязан вас предупредить, — поднялся чиповник из-за стола, и в его голосе неожиданно зазвенел металл. Лицо стало злобным. — Если наблюдение донесет, что вы продолжаете заниматься противоправительственной агитацией или еще какой-либо политической деятельностью, последует решение о ссылке вас в более отдаленные места Вологодской губернии или взятие снова под стражу.
— Теперь вопросов больше нет, — поднялся и Урицкий.
Признаки туберкулеза, появившиеся у Урицкого в Печерской крепости, в сибирской ссылке и еще в большей степени в провинциальных тюрьмах Малороссии, все усиливались. Нужно было длительное лечение. Условия же европейского Севера в Вологде в самый короткий срок могли привести к трагическому исходу.
Но Моисей Урицкий вовсе не собирался дать возможность жандармам похоронить себя на Вологодском кладбище. Его ждала борьба, и он ее жаждал. А для того чтобы продолжать борьбу, нужно выжить. И в один из влажных вологодских дней наступающего северного лета, когда кашель сотрясал тело, пригибал к земле, Моисей написал заявление «по начальству» о разрешении «вследствие состояния здоровья выехать на срок ссылки за границу».
Полицейским врачам не требовалось много времени, чтобы определить острый характер туберкулезного процесса. Они констатировали, что болеань опасна для жизни, и царские чиновники были вынуждены заменить ссылку в Вологду выездом для лечения за границу. Было поставлено одно условие: поедет Урицкий за свои собственный счет и оплатит стоимость проезда до границы и обратно двух сопровождающих жандармов.
И опять пришла на выручку Берта. 20 августа 1908 года Моисей Урицкий получил от вологодского губернатора заграничный паспорт и 25-го выехал в Германию. Почему в Германию? Во-первых, в совершенстве владел немецким языком, а во-вторых, представлялось, что именно в Германии социал-демократическое движение носит легальный характер.
На пограничной станции распрощался с сопровождающими жандармами и покинул царскую Россию, но когда поезд покатил по чужой территории, Урицкий почувствовал вдруг, как что-то оборвалось в душе: ведь теперь на все время ссылки он оторван от родины и не сможет туда вернуться, так как будет немедленно арестован. И несмотря на всю ненависть к жандармам вообще, Моисей ощутил, чю ему не хватает этих двух русских, которые, понимая всю ненужность своей миссии, не докучали в пути, даже бегали на станциях, исполняя ею мелкие поручения, сочувствуя больному ссыльному.
— Далеко путь держите? — обратился к Урицкому ого попутчик, сосед по купе. Спросил по-французски и, поняв, что сосед затрудняется с ответом, повторил свой вопрос по-немецки.
«Филер? Провокатор?» — мелькнула привычная тревожная мысль. Потом, вспомнив, что он уже давно за пределами России, усмехнулся.
— Пока в Берлин, а дальше видно будет, — ответил Урицкий на великолепном немедком языке.
— Эмигрант? — догадался сосед.
— Нa два года вместо ссылки, — ответил Урицкий и вдруг понял, как это прекрасно говорить людям правду, не опасаясь подвоха, не боясь, что каждое сказанное тобой слово может быть донесено в полицию или жандармерию.
Сосед оказался словоохотливым. Он очень скоро рассказал, что родом из Бельгии, что по политическим убеждениям — социалист.
— Вот вы выбрали Германию, — говорил бельгиец, — а у меня, как, впрочем, у многих бельгийцев и французов, есть толика недоверия к немцам. Они находятся под влиянием военщины, которая ведет войны против малых и средних стран Европы. Они могут быть одновременно и социал-демократами и кайзеристами.
— Я полагаю, что вы не правы, — возразил Урицкий. — Германские социал-демократы заслуживают уважения. Из Германии и Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Это они убедительно доказали, что социализм обязательно придет на смену капитализму, а значит, возможна победа пролетариата над буржуазией.
— Я теперь познакомился со многими русскими революционерами, — задумчиво, как бы рассуждая сам с собой, снова заговорил бельгиец, — к вам, к русским социалистам, мы питаем большое доверие. Немцы же другое дело. Они умудряются верить Карлу Марксу и одновременно не снимать у себя дома портреты Бисмарка и императора Вильгельма.
— Наверное, одни верят в Карла Маркса, а другие любуются портретами Бисмарка, — начал было Урицкий, но по усмешке собеседника понял, что его не переубедить.
— Хотите, я вам расскажу одну интересную историю? — неожиданно спросил бельгиец.
— О немецких социал-демократах?
— Да, о них. Как-то в Брюссель приехал хор германских рабочих, социал-демократов из города Дюссельдорфа. В программе хора — немецкие народные песий. Хор большой, человек около двухсот. Наши рабочие валом повалили на это зрелище. Еще бы, настоящие рабочие и вдруг — артисты.
Но внешний вид «артистов» произвел на бельгийских рабочих странное впечатление. Ничего от пролетариев, угнетенных капиталистическим обществом. Наоборот, все в сюртучных парах, накрахмаленных тугих белоснежных воротничках и манжетах. И белые парадные перчатки. Все они напоминали лакеев из ресторанов.
Зрители ждали, что откроется концерт мощными звуками «Интернационала». Но этого не последовало. Хор удивительно хорошо пел народные песни своей страны. Так хорошо, что многие заслушались. Многие, но не все. «Интернационал!» — выкрикнул кто-то из зала. «Интернационал! Интернационал!» — загремело со всех сторон зала. Словно не расслышав этого призыва, хор снова запел о счастливой любви какой-то Гретхен к какому-то Гансику. Песню уже не слушали. «Интернационал! Интернационал!» — требовали зрители.
Хормейстер поднял руку, призывая к вниманию. Зал стих.
«Дорогие друзья, — хорошо поставленным голосом обратился руководитель хора к зрителям. — Полиция нам не разрешила петь революционные песни».
— И так во всем, — завершил рассказ бельгиец. — Германские социалисты не производят впечатление людей, готовых к революционным действиям. Немцы в течение веков следовали любым существующим закопам, действовали лишь с разрешения полиции.
Живя в Германии, Урицкий часто вспоминал своего попутчика. Все в этой стране было чужим и многое не очень попятным. Правда, берлинская полиция действовала теми же методами, что и российская. Уже на следующий день после приезда Урицкого пригласили и полицейское управление и довольно недвусмысленно заявили, что большой радости от прибытия в Германию русских революционеров не испытывают. Необходимо иметь достаточные средства к существованию или в течение нескольких дней устроиться на работу. А с работой русским эмигрантам, как правило, не везло. Многие не знали языка, а те, кто знал, не знали особенностей чисто немецкой жизни. Политические эмигранты были в довольно тяжелом положении. Люди с рабочими специальностями устраивались на фабрички и заводики к мелким промышленникам, но таких было меньшинство. Большинство же, в основном из числа интеллигентов, перебивались случайными заработками: мыли стекла в квартирах и магазинах, развозили по домам молоко, белье из прачечной, а то и убирали улицы и чистили мусорные бачки.
Сносно могли существовать только те, кто имел достаточно громкое литературное имя. Их допускали к журналистской деятельности в мелких журналах и многочисленных частных газетках. Хуже всех было профессиональным революционерам, которые существовали в эмиграции за счет эмигрантской кассы. Бедная касса не могла даже просто прокормить их, не говоря уж об оплате более или менее приличного жилья.
…После собеседования в полиции Моисей Соломонович понял, что и здесь его не оставят в покое. Прожив в Берлине около месяца, он наладил связи с политическими эмигрантами и занялся организацией пересылки в Россию нелегальной литературы. Через месяц, изрядно намозолив глаза берлинской полиции, он решил выехать на «постоянное жительство» в небольшой городок Шарлоттенбург, где и прожил около года.
Понимая, как эмигрантской кассе трудно содержать большое количество эмигрантов, Урицкий в Шарлоттенбурге становится корреспондентом многих берлинских газет и этим не только добывает себе средства к существованию, но и старается пополнять эмигрантскую кассу, возвращая ей затраченные на него марки. И отсюда он продолжает отправлять в Россию большое количество нелегальной литературы. Эта работа заставила Урицкого в сентябре 1909 года переехать в Дрезден. Все было бы сносно, если бы не болезнь, которая приняла настолько угрожающий характер, что он не смог больше работать. Началось обильное кровохарканье. Единственно, что могло спасти его, по мнению врачей, был немедленный отъезд в Швейцарию, где туберкулезный санаторий Давос-Дорф мог если не излечить окончательно, то хотя бы затормозить развитие болезни.
Но это требовало огромных денег!
А жизнь товарища? Жизнь человека, всего себя посвятившего революции? Для спасения этой жизни все средства товарищей были мобилизованы, и Урицкий был перевезен в Давос.
Первое время, пока он лежал не поднимаясь на койке в палате или на открытом воздухе, было ощущение, что весь мир стал белый. Белая постель, белые стены, белые халаты врачей и медицинских сестриц. Даже тишина, нарушаемая только кашлем больных в соседних палатах, казалась белой. Когда же начал подниматься и появляться среди обитателей санатория, то был потрясен особой атмосферой этого лечебного заведения, невиданным эгоизмом больных людей, превративших свою жизнь в уродливое бытие. Ему были противны спешно завязывающиеся романы изможденных старух с хилыми молодыми людьми, придуманные страсти, ненависть друг к другу, склоки по мелочам. Как все это не похоже на берег суровой Лены, окрестности Нохтуйска, где умирающая на его руках от туберкулеза девушка-революционерка завещала ему преданность грядущей революции.
Чтобы не видеть всего окружающего, Урицкий старался не выходить из своей палаты и даже перестал посещать лечебные процедуры. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в январе 1910 года к нему не вошла маленькая женщина в медицинском халате и белой косынке.
— Урицкий Моисей Соломонович? — спросила она по-русски.
— Да, — удивился Моисей. Может, это новый лечащий врач.
— Меня зовут Розалия Марковна, фамилия Боград-Плеханова. У меня к вам деловое предложение.
— Как, вы сказали, ваша фамилия? — быстро спросил Моисей.
— Да, да, вы правы. Я жена Георгия Валентиновича Плеханова, — улыбнулась Розалия Марковна.
— Я могу быть чем-нибудь ему полезен?
Она засмеялась:
— Вот и имей дело с российскими социал-демократами. Не успеешь спросить, в чем они нуждаются, а они уже предлагают тебе свою помощь! Но мы отвлеклись, — спохватилась Розалия Марковна, — я приехала пригласить вас и еще двух больных чахоткой русских политэмигрантов перебраться в пат санаторий «La Repos». Там, конечно, нет таких хором, как в Давосе, но природный климат тот же, да и тепло друзей благотворно.
От нее Урицкий узнал, как заболевший туберкулезом Плеханов в 1908 году купил в Сан-Ремо дом, в котором врачи — жена и дочь — создали небольшой санаторий для лечения больных туберкулезом, в основном политэмигрантов, бывших ссыльных. Как по грошам собирали среди друзей и знакомых деньги на приобретение этого дома, как Розалия Марковна, врач-гинеколог, и дочь Лидия Георгиевна, врач-невропатолог, изучали область медицины, необходимую для лечения чахотки. Теперь все позади, санаторий работает, и если Урицкий не возражает, он завтра же может переехать в Сан-Ремо.
— Стоимость лечения у нас гораздо ниже, чем в Давосе, только для покрытия расходов, — добавила Розалия Марковна, понимая, что это не безразлично Урицкому.
С первых дней пребывания в санатории Плехановых Урицкий понял, как важна именно такая обстановка для лечения. Правда, Георгий Валентинович предупредил, что ни о какой политике разговоров не будет, что больные должны только стараться скорей подняться на ноги, но, конечно, длинные зимние вечера посвящались вопросам будущей революции. Кроме того, Моисей, с благословения Розалии Марковны, стал помогать Плеханову разбирать почту, переводить письма и даже готовить некоторые статьи в газеты и журналы.
Эта его скромная деятельность не ускользнула от недремлющего ока российской охранки. Несколько позднее, давая характеристику Урицкому, агент охранки напишет: «Борецкий (псевдоним Моисея Соломоновича Урицкого) исполнял ранее обязанности личного секретаря у Плеханова…»
Работа над почтой Плеханова значительно расширила политический кругозор Урицкого. Эти несколько месяцев заставили его задуматься над своими взглядами и остро ощутить правду, звучащую в порой очень резких выступлениях большевиков.
31 марта кончался срок вологодской ссылки. Значит, нужно собираться домой, в Россию, где его ждет настоящая, революционная работа. И несмотря на уговоры Розалии Марковны, считавшей, что необходимо продолжить лечение, Моисей распрощался с радушными хозяевами санатория «La Repos».
29 мая 1910 года белая ночь встретила Урицкого в Прибалтике, а затем звездная июньская украинская ночь — в родном городе Черкассы.
Длительное отсутствие, конечно, нарушило связи Урицкого с организациями социал-демократов Украины. Пришлось чуть ли не заново через местную организацию в Черкассах связываться с Киевом, Одессой, Николаевом.
Берту, у которой теперь остановился Моисей, беспокоили частые отъезды брата из Черкасс. До нее доходили слухи о возобновленной революционной деятельности брата. И беспокойство оказалось не напрасным: одна из его поездок в Киев затянулась, и через несколько дней Берте сообщили, что на одном из собраний социал-демократов под Киевом Моисей был арестован полицией, доставлен в Черкассы и находится снова в черкасской тюрьме.
Очень скоро рецидив туберкулеза заставил черкасскую администрацию перевести Урицкого из тюрьмы в земскую больницу, откуда он, пробыв там четыре месяца без всякого лечения под присмотром полиции, был освобожден под залог и поручительство старшей сестры.
— Поживи хоть годик спокойно, подлечись, да и охранка за это время о тебе позабудет, — уговаривала брата старшая сестра. Но брат, получив какое-то известие, выехал в Одессу.
В это время в Одессе социал-демократы создавали Областное бюро по выборам в IV Государственную думу. Зная, что Урицкий имеет большой опыт в организации таких выборов, товарищи ввели его в состав бюро.
И Моисей энергично взялся за дело; теперь он боролся за кандидатов, выдвинутых в Думу социал-демократическими организациями.
Одесская охранка, получив через свою агентуру донесение об успешных действиях Областного бюро, решила нанести социал-демократам сокрушающий удар: в ночь., на 8 июня 1912 года полиция произвела многочисленные аресты членов одесской социал-демократической организации.
Заведующий особым отделом департамента полиции направил начальнику жандармского управления Одессы уведомление о деятельности члена Одесской организации РСДРП М. С. Урицкого:
«Имею честь уведомить, что поминаемый в документе № 890 „Моисей Соломонович“ оказался упоминаемым в письме моем от 7 июня за № 1584 черкасским мещанином Моисеем Шлёмовичем Урицким, входящим в состав одесской группы РСДРП и в бюро по выборам в Государственную думу. Кроме того, нелегально 20 мая сего года выезжал в Киев для приглашения киевских делегатов на предполагаемую в г. Одессе областную конференцию. Ввиду сего Урицкий при ликвидации 8 июня местной социал-демократической организации подлежал безусловному аресту, но во время обыска отсутствовал и до сего времени не разыскан».
Одесский начальник охранки, упустив Урицкого, послал в киевскую охранку телеграмму:
«Известный вам Монсеи Урицкий скрылся из Одессы, может оказаться в Киеве. В случае его обнаружения сообщите, арестуйте, при охране препроводите мое распоряжение. № 2700».
А «профессор конспирации» в это время спокойно спал на маленьком диванчике в кабинете начальника управления «Общества постройки и благоустройства поселка Самопомощь». Зная, как важно в целях конспирации иметь какую-нибудь официальную работу, твердое служебное положение, он поступил в «общество» на должность штатного секретаря.
Утром 9 июня, заметив у проходной полицейские мундиры, Урицкий черным ходом вышел из конторы и к вечеру уже был в маленьком городке Елизаветградского уезда Бобринце, где и прожил, скрываясь от охранки, несколько месяцев.
Департамент полиции разослал циркуляр всем местным охранкам: «Урицкого арестовать, обыскать и препроводить в распоряжение начальника жандармского управления города Одессы».
А Урицкий тем временем, выправив себе документ на имя доктора Ратиера, выехал из Бобринца в Петербург.
— В столице из-за моих документов я чуть было не влип, — со смехом рассказывал Моисей питерским друзьям. — И все благодаря «докторскому» званию, о котором сам же постарался рассказать соседям.
В два часа ночи в его квартире раздался резкий, требовательный звонок. Кто же может так звонить, кроме полиции?
Моисей открыл дверь, ожидая увидеть привычные синие мундиры. Но на лестничной площадке стоял полуодетый мужчина, явно штатский.
— Что вам угодно? — все еще ожидая какого либо подвоха, спросил Урицкий.
— Доктор, ради бога, скорей, ей очень плохо.
— Кому плохо? О чем вы говорите?
— Жена… Жена рожает. Мы опоздали, ей очень плохо… Скорее, доктор.
Но что же делать? Как объяснить расстроенному мужу, что никакой помощи он его жене не окажет?
— Вы поймите, я кабинетный врач, практикой не занимаюсь.
— Неважно. Это близко. Этажом ниже. Я заплачу, — продолжал настаивать взволнованный мужчина, хватая Урицкого за руку, — пойдемте скорей.
Понимая, что не пойти он не может, Моисей спустился к роженице, мучительно припоминая номера телефонов знакомых врачей. Слава богу, один вспомнил.
— Где у вас телефон? — нервничая, спросил он бедного мужа. Из соседней комнаты доносились душераздирающие крики роженицы. Стараясь взять себя в руки, Урицкий набрал номер телефона. Долго не было ответа, наконец явно спросонья зазвучал в трубке злой голос:
— Черт, кому это не спится?
Значит, дома! Хриплый голос показался Урицкому ангельским.
— Дорогой доктор, звонит доктор Ратлер, у моей соседки роды, а моя практика, сами понимаете… Необходима ваша консультация.
— Все понял, сейчас выезжаю. Адрес? Велите нагреть побольше воды и попытайтесь поговорить с роженицей, отвлечь ее от боли.
Сделав все необходимое, Моисей вошел в комнату роженицы. О чем с ней разговаривать? На него с надеждой смотрели огромные глаза, наполненные слезами. Чем-то они напомнили Моисею глаза той, на берегу Лены, которую он оставил там навсегда. Сильно сжалось сердце. Он положил руку на потный горячий лоб роженицы:
— Милая, все будет хорошо. Все будет хорошо…
Раздался спасительный звонок товарища в дверь.
Женщине была оказана медицинская помощь, и очень скоро громкий крик появившегося на свет существа огласил комнату. А «доктор Ратнер» на следующий день постарался сменить квартиру. Друзья добыли ему паспорт на имя сына титулярного советника Владимира Баскакова. И в Петербурге объявился вновь испеченный Баскаков.
Друзья, доставшие Урицкому фальшивые документы, были из левого крыла меньшевиков. Они же и привлекли его к участию в конференции, которую созвал Троцкий в Вене.
К удивлению Урицкого, прибывшего в Вену в августе 1912 года, большинство делегатов конференции были из числа эмигрантов, не связанных с местными партийными организациями. Они плохо ориентировались в политической обстановке на родине.
Но социал-демократ Моисей Урицкий верил, что главная цель конференции — объединение организаций различных партийных оттенков. С этими мыслями он и вошел в состав Организационного комитета.
Но объединения не произошло, общепартийной конференция не стала: польские социал-демократы и плехановцы отказались участвовать в этом антипартийном блоке, сразу ушли из него впередовцы, вслед за ними — латышские социал-демократы, затем разбрелись и остальные. Однако это немного позже, а пока Урицкий, не теряя надежды, что объединение все же произойдет, выезжает в Москву и в основные промышленные города для связи с партийными организациями центрального промышленного района и Поволжья и для обеспечения представительства этих организаций на Международный социалистический конгресс в Базеле.
20 декабря 1912 года его выследили. Нет, не Владимира Баскакова, сына титулярного советника, разыскивали жандармы, а Моисея Урицкого. Ночью нагрянула полиция с обыском. Что можно было искать в бедно обставленной комнате в течение двух часов, только жандармам известно. Результат обыска — два экземпляра легально издающихся петербургских газет: «Правда» (орган большевиков) и «Луч» (орган меньшевиков). Обе газеты датированы 20 декабря 1912 года. Никаких других документов, уличающих Урицкого в антиправительственной деятельности, обнаружено не было. И все же, несмотря на отсутствие улик, Моисея арестовали и отправили в петербургский Дом предварительного заключения.
Все еще полагая, что удастся выйти на волю, отказавшись от своей настоящей фамилии, Урицкий пишет ряд писем своим петербургским приятелям, подписывается «В. Баскаков» и просит писать ему не задерживаясь, так как «думаю, впрочем, что моему заключению скоро будет конец».
Однако охранное отделение думало иначе. В Петербурге, конечно, держать арестованного нет смысла, от него ничего не добьешься, усмехается на допросах, уверенный, что для отдачи под суд у охранки нет необходимых материалов. Продержав в «Крестах» около месяца, Урицкого по этапу высылают в Одессу, выполняя просьбу начальника Одесского жандармского управления. А там уж опознать «Баскакова» есть кому, не однажды встречались с ним жандармы.
Много тюрем повидал Моисей, но страшнее одесской видеть не приходилось. Одиночная камера, куда его поместили, напоминала больше стойло для скотины — грязь, вонь, сырость, темнота. И это при больных легких, когда и постельный режим, и хороший уход не всегда помогают. К тому же полная изоляция — даже на кратковременную прогулку выводят в отдельный, похожий на колодезь, дворик.
Но, к счастью, на этот раз пребывание в одесской тюрьме не было продолжительным: не получив необходимых материалов для передачи дела в суд, Урицкого в порядке государственной охраны, за принадлежность к одесской организации социал-демократической рабочей партии выслали в Печорский уезд Архангельской губернии под гласный надзор полиции сроком на два года.
1 марта 1913 года Урицкий был этапом препровожден туда для отбывания наказания.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Больному Урицкому надлежало поселиться в одной из деревушек, близ маленького городка Пинеги Архангельской губернии. В марте здесь еще далеко не весна — мороз не меньше десяти градусов, деревянные избы стоят, засыпанные снегом почти по самые крыши, от изб проложены узкие тропки. Конвоир, доставивший ссыльного к месту поселения, молча хлестнул низкорослую северную лошаденку и, не оглядываясь, двинулся в обратный путь. Моисей поднял свой узелок. Куда идти? Ближе к середине деревеньки дома были побогаче, за высокими заборами лают цепные псы. Урицкий направился к крайней избушке, стоящей у самой опушки таежного леса.
— Видать, ссыльный? Ну, заходи, заходи, — пригласила его немолодая, но удивительно красивая женщина, — У нас тут постоянно кто-нибудь живет. Вот недавно такой Шкапин, из Петербурга, уехал домой. Может, знаешь?
— Нет, к сожалению, не знаю. Петербург большой, — сказал Моисей и сразу решил тут остановиться. Приветливость женщины подкупала. Во дворе он увидел коровник, приятно пахнет сеном, значит, можно рассчитывать на молоко, оно так нужно его больным легким.
— А сколько будет стоить комната в месяц? — спросил Моисей.
— Да уж дорого не возьмем, — улыбнулась хозяйка. — Поможешь по хозяйству, и ладно.
Очень скоро Урицкий понял, что его выбор правилен. Муж хозяйки, из бывших ссыльных, так и остался здесь по окончании срока. Он промышлял охотой, ловил рыбу на Цильме, притоке Печоры. Моисей был неплохим помощником на рыбалке, наивно полагая, что влажный таежный воздух поможет избавиться от кашля.
По совету хозяина он стал наведываться в городок Пинегу, где имелась целая колония ссыльных, организовавших неплохую библиотеку. Когда ссыльные признал в Урицком своего, ему стали давать и нелегальную литературу, чудом попадающую в этот далекий край.
Но ни молоко, ни воздух, ни заботы хозяйки не помогали: болезнь прогрессировала, и в мае он был вынужден как в свое время в Вологодской ссылке, подать прошение архангельскому губернатору о разрешении выехать на срок ссылки за границу. Заявление Урицкого было переслано министру внутренних дел, и 23 июня 1913 года тот наложил резолюцию:
«Разрешить Урицкому, ввиду его болезненного состояния, выезд с тем, что если он вернется в пределы империи ранее 1 марта 1915 года, то состоявшееся о нем постановление Особого совещания будет вновь подлежать приведению в исполнение».
Тепло распрощавшись с хозяевами, Урицкий пешком ушел в Пинегу, а 29 июня выехал в Архангельск. Затем через хорошо знакомую Вологду — в Петербург и наконец в середине июля вторично покинул Россию, выехав в Берлин.
В проходном свидетельстве полиция указывала его приметы, видимо, боясь, как бы революционер не перешел на нелегальное положение: «…лет — 39, рост — 2 аршина 4 вершка, волосы темно-русые, нос обыкновенный, лицо чистое, глаза — карне, особые приметы — близорукий, носит очки».
С первых дней по приезде в Берлин Урицкий сразу же взялся за знакомую уже работу — переправку в Россию нелегальной литературы. Отлично владея немецким языком, умея находить и включать в работу нужных людей, он мог выполнять задачи, порой невыполнимые для всех остальных в колонии. А эти дела становились с каждым днем все труднее и опаснее. Если раньше немецкая полиция смотрела сквозь пальцы на деятельность русских социал-демократов, то теперь, когда назревала империалистическая война, все, что относилось к России, вызывало раздражение у полицейского начальства, и оно старалось все больше урезать свободы русских политических эмигрантов.
Однажды, очень удачно отправив очередную партию литературы в Киев, Урицкий медленно шел по Унтер-ден-Линден, обдумывая заметку для журнала немецкой группы «Спартак», идейными вождями которой были Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Журнал левых социалистов стоял на интернациональных позициях и выступал за предотвращение империалистической войны. В нем сотрудничали и политические эмигранты из России. Этот журнал выплачивал своим авторам гонорары, которые, хотя и были весьма скромны, все же обеспечивали мало-мальски сносное существование.
— Моисей Соломонович!
Навстречу ему шел человек без головного убора, в пенсне. Небольшая бородка клинышком и коротко остриженные усы не могли спрятать приветливой улыбки.
— Простите, не имею чести…
— Имеете честь, имеете! Лукьяновская тюрьма, вежливые надзиратели! «Варшавянка» после отбоя!
Ну как же он сразу не узпал Луначарского?
— Анатолий Васильевич! Рад вас видеть! Какими судьбами?
— Да вот, русская колония пригласила прочесть реферат. Иду к ним.
— С рефератом будьте осторожней, — предупредил Урицкий, — полиция сейчас смотрит в оба!
— Ну, к полицейскому вниманию мне не привыкать, — засмеялся Луначарский. — А знаете, давайте после чтения встретимся. Вспомним прошлое, заглянем в будущее.
— С превеликой радостью, — согласился Урицкий. Договорившись о времени и месте встречи, они разошлись. Но встрече не суждено было состояться. Сразу после чтения реферата Луначарский был арестован немецкой полицией и после лекции очутился в берлинской тюрьме, в которой просидел несколько дней в одиночной камере, откуда был доставлен к сухопарому педантичному господину следователю, который, не желая слушать никаких объяснений и протестов, категорически заявил:
— Вам надлежит выехать из Берлина немедленно. Въезд в Пруссию вам отныне запрещается.
Анатолий Васильевич писал позднее:
«Мы свиделись с Урицким после долгой разлуки в 1913 году в Берлине. Опять та же история, как и в Киеве в 1901 году. В Берлине пришлось убедиться в поразительной практичности его и умении, влиять на людей. Не везло мне с моими рефератами. Русская колония в Берлине пригласила меня прочесть пару лекций, а берлинская полиция меня арестовала, продержала недолго в тюрьме и выслала из Пруссии без права въезда в нее. И тут Урицкий оказался опять добрым гением. Урицкий — бедный эмигрант — решил вступить в борьбу с германским правительством. Он не только великолепно владел немецким языком, но имел повсюду связи, которые привел в движение, чтобы превратить мой арест в крупный скандал для правительства, и я опять любовался им, когда он с иронической усмешкой беседовал со следователем или буржуазными журналистами или „давал направление“ нашей компании на совещании с Карлом Либкнехтом, который тоже интересовался этим мелким, но выразительным фактом.
И все то же впечатление: спокойная уверенность и удивительный организационный талант. Я сказал Урицкому: „Однако как вы завели такие связи в Берлине?“ Он в ответ только улыбался и покуривал папиросу, — это был его секрет, это была его тайна».
Урицкий оставался в Берлине до самого начала империалистической войны. По вечерам он посещал самые отдаленные рабочие кварталы, засиживался с рабочими в трактирах до поздней ночи, легко сходился со многими из них, познавая из первоисточников настроение германских рабочих. В то же время Урицкий изучал историю социал-демократического движения в Германии, современное экономическое положение рабочих кооперативов и политическую жизпь различных партий.
Эти разнообразные знания позволили Урицкому заниматься с путешественниками из России, которым он читал лекции, подробно знакомя с политическим и экономическим положением Германии.
К этому времени Урицкий окончательно разобрался в оппортунистической сути августовского блока, в котором он еще совсем недавно принял участие. Он видел, как «под ударами» большевиков распался этот блок, носивший центристский и, по существу, ликвидаторский характер. Урицкий, безусловно стоявший на интернационалистических позициях в своих мыслях и действиях, шел на сближение с большевиками.
Избрав себе литературный псевдоним М. Борецкий, Урицкий стал постоянным корреспондентом ряда газет и журналов. Его статьи «Из истории социал-демократической организации в Берлине» и «Рабочие кооперативы и Германии» были опубликованы в Петербурге.
В канун объявления Германией войны России Моисей Соломонович находился с группой русских эмигрантов в Шлезвиг-Голштинии, около датской границы.
Странно было видеть, как за один день все вокруг изменилось. Вчера еще добродушные бюргеры, получающие неплохие доходы от туристов, словно перестали замечать русских. Зато русские эмигранты сразу попали в поло зрения местных властей. Начались аресты иностранцем, и, конечно, в первую очередь русских.
Рано утром в номер гостиницы, где остановился Урицкий, раздался осторожный стук. В дверях стояла смущенная хозяйка.
— Я очень сожалею, — сказала она, — но господин должен освободить номер и покинуть мою гостиницу.
— Но ведь гостиница наполовину пустует, — усмехнулся Моисей Соломонович.
— Я не могу ничего сказать, но так надо, так надо.
— Хорошо, приготовьте счет, — несвязный лепет хозяйки все объяснял.
Благополучно избегнув ареста, Моисей Соломонович очутился за границей Германии, в Копенгагене. Не задерживаясь в датской столице, он решил переехать в Стокгольм: во-первых, столица Швеции ближе к родной русской границе, во-вторых, русские политические эмигранты избрали основным местом своего заграничного пребывания Швецию и Швейцарию.
Естественно, что война всколыхнула, взбудоражила всю политэмиграцию и резко разделила ее на два лагеря: противников империалистической войны и считающих необходимым вести войну до победного конца. Урицкий, ни секунды не раздумывая, повел резкую агитацию против войны, полностью приняв тезисы ЦК большевиков по этому вопросу. Несмотря на свое участие в организационном меньшевистском комитете, он резко отмежевался не только от меньшевиков-оборонцев, но и от меньшевиков-иитернационалистов. Урицкий начал рвать свои связи с ОК меньшевиков и с так называемой «интернационалистской» группой во главе с Мартовым, которая вошла в редакцию издававшегося в Париже органа «Наше слово». Уж слишком неубедительно казалось Урицкому старание меньшевиков изображать позицию ОК меньшевиков как самую революционную, указывая на то, что думская фракция меньшевиков в Думе голосовала в свое время против кредитов на войну. Однако теперь она голосует за то, чтобы подставить под пули миллионы рабочих и крестьян.
Урицкий видел, как русские меньшевики скатывались на позиции социал-шовинизма. Вместо борьбы классов они пропагандировали отказ от революционных действий и полную поддержку царского правительства.
Даже Георгий Валентинович Плеханов, став лидером социал-шовинизма, объявил войну, которую вел царизм, освободительной для русского пролетариата. И когда, объединяя вокруг себя единомышленников, Плеханов через своего секретаря обратился за поддержкой к Урицкому, тот ответил отказом. «Борецкий стоит на ленинской точке зрения, нужно бороться за мир», — написал Плеханову секретарь после встречи с Урицким.
В Стокгольме Урицкий очень быстро связался с левой частью шведской социал-демократии, во главе которой стоял Карл Хеглунд. Работоспособность русского социал-демократа изумляла скандинавов. «Сколько безумной энергии проявляет этот чахоточный человек, вечно в жару, внутренне горевший, но на вид такой спокойный», — говорили они.
В Стокгольме большевистская группа русских эмигрантов предложила Урицкому объединить усилия находившихся в Стокгольме революционных интернационалисток.
Сделав такое предложение, они даже не могли предположить, как далеко шагнет такое единение. Урицкий принял самое горячее участие не только в работе самой группы. Он стал «связным» между группой и левыми шведскими социал-демократами, проводившими одну линию с русскими большевиками. Он сумел наладить постоянную связь с Россией, откуда стали поступать весьма точные сведения от различных нелегальных партийных организаций.
В начале 1915 года Моисей Соломонович получил приглашение принять участие в работе созданного в Копенгагене института по изучению социальных последствий войны. Предложение было заманчивым: тема весьма актуальная, да и можно получить изрядную сумму денег, столь нужных шведской группе политэмигрантов. Урицкий отправился в Копенгаген, чтобы лично определить направление деятельности этого института. В беседе с основателем и директором института Парвусом Урицкий ощутил какую-то фальшь. Было в этом человеке нечто темное, скользкое, обычно сопутствующее провокаторам.
— Какой ориентации будет придерживаться институт? — прямо спросил Урицкий. — Ведь последствия войны для победителей и побежденных будут категорически различны.
Из рассуждений, в которые пустился Парвус, стало ясно — ориентация института будет империалистическая, прогерманская. И как ни грустно было расстаться с надеждой на приличное вознаграждение, Урицкий от сотрудничества с институтом Парвуса отказался.
Но поездка в Копенгаген не была напрасной. Используя свой опыт работы с левыми социал-демократами Швеции, Урицкий сошелся с левым крылом датской социал-демократии, в основном с молодежью. Он информировал их о положении дел в России и проводил страстную агитацию против империалистической войны.
В антивоенной агитации участвовал и друг Урицкого — Григорий Чудновский. Поселившись в небольшой комнатушке в Копенгагене, они вместе, когда были деньги, шли обедать в маленькую кухмистерскую, где любила собираться датская молодежь. Юный, горячий Чудновский моментально овладевал аудиторией. Ох и доставалось тогда сторонникам войны, частенько они покидали помещение, не доев свой обед. Горько переживал Моисей расставание с другом, который уезжал в Америку. «Скандинавские страны не для меня, — шутил Григорий. — Хочу посмотреть, как живут рабочие-американцы».
После отъезда Чудновского Урицкий с удвоенной энергией принялся за антивоенную агитацию.
Деятельность русского агитатора была замечена датской контрразведкой. Квартира Урицкого была взята под усиленное наблюдение. Но и Урицкий не упускал возможности поближе познакомиться с методами работы контрразведки, чтобы предупредить об опасности товарищей.
К квартирной хозяйке Урицкого приходили агенты датской контрразведки, расспрашивали, кто бывает у ее жильца, когда и зачем, какие ведутся разговоры. Письма Урицкого перлюстрировались, поэтому все товарищи были предупреждены и конспиративная переписка шла по другому адресу.
Интересовалась Урицким и резидентура английской разведки, обосновавшаяся в Дании. Англичане заслали в Копенгаген известного эсеровского провокатора Камкова с заданием войти в доверие к Урицкому. Однако Урицкому оказалось достаточно одного разговора, чтоб заподозрить этого господина в провокации, а затем установить его сущность. Этот провокатор быстренько вынужден был исчезнуть из Копенгагена.
К сожалению, провокаторы появлялись и в среде русской политической эмиграции. Вернувшись в Стокгольм, Урицкий встретился с неким Кескула, который выдавал себя за революционера. Его громкие призывы к восстанию шведских рабочих против своего правительства под руководством русских политэмигрантов насторожили Урицкого. И эта настороженность подтвердилась: Кескула оказался германским шпионом.
О необходимости борьбы с проникающими в среду революционеров провокаторами Урицкий написал статью в парижскую газету «Наше слово», орган, в котором работали и интернационалистски настроенные элементы, и прямые социал-шовинисты.
По мнению Моисея Соломоновича, на страницах «Нашего слова» можно было высказать свое отношение к войне. В этом вопросе Урицкий поддерживал тезисы большевиков — «надо бороться за мир».
В 1916 году Моисею Соломоновичу стало известно, что в Копенгаген приезжает итальянский социалист Моргари, который предполагает выступить с докладами перед датскими рабочими.
А что, если на эти доклады пригласить русских политических эмигрантов? Вот чудесный повод для интернационального объединения русских, датских и итальянских рабочих! Вот где можно развернуть острую дискуссию об отношении к империалистической войне.
Моргари прибыл в Копенгаген и остановился в одной из наиболее фешенебельных гостиниц города.
Выбор гостиницы удивил Урицкого. А может, это для конспирации, думал он, может, роскошные апартаменты послужат отличным укрытием от датской полиции?
Первая встреча с Моргари не рассеяла недоумения. Итальянский социалист счел возможным продержать прибывшего к нему на встречу русского социал-демократа более часа в холле. Просматривая свежие газеты, Урицкий старался настроить себя на серьезный, дружеский разговор двух представителей рабочего класса на общую, весьма важную тому о войне. Но и внешний вид итальянца — низенького тучного пучеглазого человечка с оттопыренными ушами — как-то не вязался с принятым представлением об итальянских рабочих и не располагал к беседе.
Отбросив сугубо личное восприятие, Урицкий постарался детально информировать Моргари о положении дел в предреволюционной России, указал на необходимость единения итальянских и русских рабочих, в первую очередь в отношении к войне.
Моргари слушал, кивал головой и улыбался. На предложение Урицкого выступить с докладом на собрании датских рабочих с участием русских эмигрантов согласился.
Но интуиция и на этот раз не подвела Урицкого: Моргари на собрание не явился. Зато датские рабочие и русские политические эмигранты откровенно потолковали. «Нет войне!» — был общий лозунг поздно окончившегося собрания.
В 1916 году идя на разрыв с парижской газетой «Наше слово» и петербургским так называемым «внефракционным» рабочим журналом «Борьба», Урицкий в своей журналистской деятельности отказывается от псевдонима Борецкий и под псевдонимом Н. Совский начинает сотрудничать в петербургском журнале «Летопись». Здесь он публикует обзоры международного рабочего движения, большинство которых посвящено Германии. Им написаны статьи: «Политический кризис в Дании» и «Борьба за мир в Швеции». В ноябрьском и декабрьском номерах «Летописи» за 1916 год Урицкий публикует библиографию работ западных социал-демократов…
А Россия тем временем быстро шла к революции. В конце февраля 1917 года в Копенгаген поступили сведения о событиях, происшедших в Петербурге. Сведения были крайне противоречивы. Говорили о волнениях, манифестациях, стрельбе на улицах и площадях, утверждали, что где-то революционерами взорван мост, что прервано железнодорожное сообщение между Петроградом и Финляндией.
Если и раньше Урицкий тратил уйму денег на всевозможные газеты и журналы, то теперь в газетных киосках оставалось чуть ли не все его суточное содержание. Слушая товарищей-политэмигрантов о событиях в России, он и сам старался разобраться во всем.
— Сенсация. Очередная сенсация. Вот увидите, что скоро появятся опровержения, — говорили наиболее осторожные.
— Дыма без огня не бывает, — говорили другие. Запершись в своей крохотной комнатушке, Моисей Соломонович углубился в изучение газетных сообщений. Сопоставляя сведения левых и правых изданий, он все более убеждался, что в России происходят грандиозные события. Не теряя ни на один день связи с Родиной Урицкий знал, что Россия готова к революции. Нет, это не газетные сенсации, не просто шумиха. Реакционные газеты и журналы не моглн скрыть своей тревоги: рабочие России восстали против самодержавия.
Интерес к событиям в России проявляли не только русские эмигранты. Датские социалисты стали наперебой приглашать известного русского социал-демократа Урицкого прочесть лекции о положении в России.
— Кто победит? — спрашивали его.
— Народ, — уверенпо отвечал Урицкий.
— Пробил ли час революции?
— Да. Народ восстал. Народ хочет мира и через борьбу за мир добьется победы.
Газеты запестрели новыми сведениями из России;. 27 февраля 1917 года в Петрограде образован Думский комитет.
Можно ли считать победой революции образование Временного комитета Государственной думы? Это вопрос, интересующий и русских, и датских, и шведских социалистов.
— А кто возглавляет комитет Государственной думы? Лидер крупной буржуазии и помещиков? Разве это можно считать победой? — вопросом на вопрос отвечает Урицкий.
«В России создан объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов». Коротенькое сообщение на последней странице одной из копенгагенских газет затмило многочисленные рассуждения о Государственной думе. Вольной, часто голодный, так как последнюю копейку считал нужным потратить в эмиграции на дела революции или да поддержку еще более голодных товарищей, Моисей Урицкий предчувствовал близкие перемены и надеялся ва скорое возвращение домой.
— Советы — вот начало победы! Советы рабочих и солдатских депутатов — вот зарождение новой власти, — громко звучал на многочисленных собраниях социал-демократов его обычно тихий голос.
«Царь в России отрекся от престола! Его министры арестованы!»
Встречаясь друг с другом, политические эмигранты обнимаются. На глазах многих выступают слезы радости.
— Мы победили! Конец войне! Товарищи, поздравляем с победой! Скорее домой, в Россию!
— А где же амнистия политическим эмигрантам? Можно ли возвращаться в Россию без объявления амнистии?
В комнатке Урицкого, к неудовольствию хозяйки, постоянный дискуссионный клуб. Вопросы. Вопросы. Вопросы.
— Почему во главе Петросовета Чхеидзе?
— Войдет ли он в состав Думского комитета?
— Правда ли, что монархисты выдвигают на престол великого князя Николая Николаевича?
— Правда, — говорит Урицкий. — Но ничего у них из этого не получится. С монархией в России покончено раз и навсегда.
— Однако во главе Временного правительства, образованного после падения монархии, такие тузы, как Львов, Милюков и Гучков. Какие же это революционеры? Это значит…
— Это значит, — спокойно прерывает Урицкий, — что пока победила не наша, пролетарская, а буржуазная революция. Но это правительство не способно решить ни одного из главных вопросов совершившейся революции. И это значит, что революция будет продолжаться, и нам как можно скорее надо влиться в ряды борцов за подлинную пролетарскую революцию, а не отсиживаться здесь, в эмиграции.
И наконец долгожданное известие: в России объявлена амнистия всем политическим эмигрантам.
Казалось бы, скорей на вокзалы, на пристани, скорее домой. Но не все эмигранты имеют подлинные паспорта на свое имя. Как им быть? Ехать в Россию без документов, на авось? Но даже выехать из стран, приютившей эмигрантов, без документов не просто. Что же делать?
И Моисей Соломонович отправляется в консульский отдел русского посольства в Копенгагене.
Консул явно растерян. Он и сам не знает, как быть. Но перед ним решительный человек, он ждет конкретного действия, уйти от ответа явно не удастся.
Консул предельно любезен:
— Я глубоко сочувствую вам, дорогие соотечественники. Я и сам мечтаю вернуться на родину, и только необходимость заботиться о русских людях на чужбине удерживает меня от подачи рапорта о возвращении. Давайте поступим так: те, у кого паспорта в порядке, могут получить визу на выезд в Россию завтра же. Ну а как быть с лицами, живущими по чужим документам, мы просто не знаем. Пока не знаем, — быстро добавил консул, заметив, как нахмурился Урицкий. — Я приму все меры для быстрейшего решения этого вопроса, а пока, видимо, придется подождать.
— Но революция не должна ждать людей, которые всей своей жизнью ее готовили, — жестко возразил Урицкий. — Не забывайте, что и посол и вы представляете теперь не царское правительство, а Временное правительство. И тоже временно, — подчеркнул он последнее слово. — Учтите, мы требуем, чтобы разрешение на выезд было дано всем эмигрантам без исключения. Понимаете, требуем и ответ хотим получить в течение недели. Положительный ответ.
Урицкий отдавал себе отчет в том, что, занимаясь революционной деятельностью в эмиграции, имея связь с родиной через отдельных товарищей и по почте, он работал вполсилы. Целиком отдаться делу пролетарской революции можно, только вернувшись в Россию. Движение за возвращение домой охватило все эмигрантские колонии в Дании, Швеции, Швейцарии и даже в Америке. Маршруты возвращения из разных стран были различим, но все они пролегали через Швецию и Финляндию.
Урицкий знал, что в Стокгольме создан меньшевистский эмигрантский комитет для получения выездных виз в Россию. Комитет установил контакт с царским послом в Стокгольме господином Гулькевичем. Можно, конечно, попытаться оформить нужные документы и через этот комитет, но предварительно нужно посоветоваться с Вацлавом Воровским, который организовал в Стокгольме транзитный пункт для русских эмигрантов, возвращающихся в Россию. После резких выступлений Моисея Соломоновича в печати против империалистической войны и оборонцев на меньшевистский комитет особенно рассчитывать не приходилось.
Боровский работает в Стокгольме в штате электромеханической германской фирмы «Сименс — Шуккерт» в должности помощника заведующего отделом товарных цен. Представительство такой солидной фирмы позволило Воровскому поселиться на одной из шикарных улиц — Виргерярлстатан, где жил и Яков Станиславович Ганецкий, большевик, с которым Боровский также был дружен со времен одесского подполья. За время эмиграции Моисей Урицкий не раз встречался с Воровским на разных собраниях и конференциях русских социал-демократов, знал, что с его участием в Швеции был сформирован один из большевистских заграничных центров, работавший под руководством Владимира Ильича Ленина.
Пароход еще швартовался к пассажирскому причалу Стокгольмского порта, когда Урицкий увидел на берегу Вацлава Воровского, который встречал Моисея Соломоновича. По дороге в отель «Регина», в котором был заказан номер Урицкому, Боровский рассказал, какие нужно оформить бумаги для получения выездной визы.
По пути в отель Урицкий всматривался в город. Где-то гибнут люди, рушатся города и деревни, а Стокгольм сияет глазастыми витринами магазинов, степенно шагают по улицам уверенные в своей безопасности господа, матери везут в колясках разодетых детей… Швеция соблюдает нейтралитет.
— Это внешнее спокойствие, — разгадал ход мыслей Урицкого Боровский. — Нет, и Швеция не смогла остаться в стороне от войны. Стокгольм превратился сейчас и своего рода международный центр, где встречаются, сталкиваются, переплетаются влияния и интересы германской группы и группы стран Согласия, социал-патриотов и большевиков, коммерческих интересов деловых кругов… Стокгольм стал мировой ареной политики самых разных направлений.
— Если бы вы знали, как я вам завидую, — прощаясь у входа в отель, сказал Боровский. — Ведь через несколько дней вы будете на родине.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Вечером 14 марта 1917 года Моисей Соломонович Урицкий, не дожидаясь полной остановки медленно подползающего к Финляндскому вокзалу поезда, спрыгнул на перрон. Несколько часов пути от Выборга до Петрограда были мучительны. Ведь это не просто возвращение на родину после нескольких лет жизни за границей, а прибытие в Россию, где нет самодержавия. Он смотрел на выходивших из вагонов людей, полагая, что и они испытывают чувства, переполняющие его самого, по ничего подобного не заметил. Вокруг царила обычная привокзальная сутолока: молочницы с бидонами, огородники с мешками и корзинами спешили, чтобы занять места на рынке для завтрашней торговли, и бесцеремонно расталкивали толпу. Военный патруль во главе с офицером проверял документы у людей в солдатских шинелях, которые, кстати, составляли большинство прибывших пассажиров. Все, как раньше, лишь не видно расхаживающих по перрону жандармов. И это обстоятельство вдруг перевернуло все в душе Урицкого. Только подумать, что впервые можно вот так просто шагать по родной земло, не опасаясь ареста и слежки, идти в любом направлении, не стараясь запутывать следы, ие настораживаясь, не опасаясь вездесущих шпиков. И первые ощущения показались чуть смешными. В самом деле, чего он ожидал? Что все люди ходят по городу в обнимку и распевают революционные песни? Урицкий остановился, достал иа портсигара датскую сигарету, хотел было закурить, но раздумал. Вытряс из сигареты табак, вытащил из кармана видавшую виды трубку, свою старую подружку, и, набив ее, с наслаждением затянулся. Сразу появилось ощущение домашности. Ведь действительно он дома, в своей милой, обновленной России. Оглянулся по сторонам. Толпа заметно поредела: все торопятся по своим долам. А он? Ему ведь тоже есть куда спешить. Вацлав Боровский предупредил, что его прибытия ожидают в Таврическом дворце.
Урицкий вышел на привокзальную площадь. Его никто не встречал. Да и необходимости в этом не было: небольшой саквояж — вот и весь его багаж. Еще раз оглянувшись и не найдя ни одного извозчика, он поднял свою поклажу и зашагал в сторону Литейного моста.
Нева, еще скованная льдом, казалась черной: свет уличных фонарей был не в состоянии высветить дажа поверхность моста. Урицкий ускорил шаги. На углу Шпалерной улицы и Литейного проспекта увидел стены дома с черными глазницами пустых окон. Это было здание Петербургского окружного суда, сгоревшего в февральские дни.
Несмотря на поздний час, Таврический дворец был освещен.
— В левой стороне размещается Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, орган власти пролетариата и крестьянства$7
Урицкий уверенно повернул влево.
Совершенно для него неожиданно в здании было полно народа. Рабочие, солдаты, матросы, представители петроградской интеллигенции, крестьяне, видимо, только что прибывшие из глубинки. Люди входили и выходили из многочисленных комнат, шумно между собой переговаривались, слышался смех. По всему было видно, что все чувствуют себя раскованно, свободно.
Побродив по коридорам, Урицкий увидел у входа в зал заседаний стол, а над ним красный флажок и самодельную табличку: «Бюро Центрального Комитета РСДРП».
— Я вас слушаю, — обратилась к нему женщина, сидящая за огромным, явно не по ее росту столом.
— Урицкий Моисей Соломонович, только что прибыл… — начал было Урицкий.
— Из Дании? Очень хорошо. Ждем вас. Стасова Елена Дмитриевна, — представилась женщина. Худое, землистого цвета лицо Стасовой лучше всяких слов рассказало Урицкому о недавнем и длительном пребывании в тюрьме. В связи с тяжелым заболеванием она буквально накануне Февральской революции получила разрешение на поездку к врачам в Петроград. Несмотря на болезнь, она приняла активное участие в демонстрациях, собраниях рабочих, что не осталось без внимания полиции. 24 февраля 1917 года ее вновь арестовали. Тюрьмы были переполнены, и Стасову поместили в камеру полицейского участка на Сергиевской улице, недалеко от квартиры се родителей.
27 февраля Елена Дмитриевна Стасова была на свободе.
На следующий день она уже была в Таврическом дворце, где заседал вновь образованный Совет рабочих и солдатских депутатов. Здесь, в Таврическом дворце, вначале прямо в фойе, а затем в одной из комнат Стасова приступила к работе — регистрации и устройству на работу социал-демократов, прибывших из ссылки и эмиграции.
— Большевик, меньшевик? — Стасова придвинула к себе два листа бумаги со списками фамилий.
— Межрайонец, — ответил Урицкий.
Стасова хорошо знала это объединение. Оно возникло еще в 1913 году после исключения из партии меньшевиков-ликвидаторов, отзовистов и членов «августовского блока». Потом в «можрайонку» вступили и некоторые большевики-примиренцы, меньшевики-партийцы, впередовцы и другие социал-демократы, выступавшие под флагом «внефракционности».
Когда началась империалистическая война, большая часть межрайонцев стала проводить интернационалистическую политику, пошла на разрыв с оборонцами и стала на путь сближения с большевиками.
После победы Февральской революции, по мере того как события все больше разоблачали контрреволюционную сущность оборончества меньшевиков, возникли предложения о слиянии межрайонной организации с большевистской партией.
Урицкий играл в этой организации видпуго рочь. Стасовой было известно, что он выступал в печати под псевдонимами Борецкип и Совский и критиковал оборонческую позицию Плеханова, разоблачая империалистический характер мировой войны. Он даже пошел на открытый разрыв с Плехановым, а также весьма критически оценивал позицию так называемых меньшевиков-интернационалистов во главе с Мартовым.
Не будучи лично знакома с Моисеем Соломоновичем Урицким, Стасова хорошо знала яркие статьи журналиста Борецкого. И вот он стоит перед ней, застенчиво улыбаясь, косолапо переминаясь с ноги на ногу.
— Говорите, межрайонец? — весело переспросила Стасова. — Ну, ото ненадолго. В Петербургском комитете большевиков уже давно стоит вопрос об объединении с этой группой социал-демократов, очень близкой нам и по взглядам и по действиям. А что намереваетесь делать?
— Не знаю точно что, но намерен включиться в революционную работу немедленно, — твердо заявнл Урицкий.
— Вот и отлично. Революционер и журналист! Это же находка для Петросовета! Хотя вы еще и не делегированы в Совет, но можете работать редактором в его печатном органе «Известия», согласны? Галина Константиновна! — позвала Стасова.
В кабинет вошла молодая миловидная женщина.
— Вот наш новый сотрудник, — продолжала Елена Дмитриевна, — приехал из Дании, сейчас прямо с вокзала. Известный журналист. Познакомьте его с обстановкой в Питере, с редакцией «Известий». У вас есть где остановиться в Петрограде? — повернулась она к Урицкому.
— Пока не решил, но думаю, что это не проблема.
— Проблема, да еще какая. Вот адрес. — Стасова быстро набросала на листке бумаги адрес и несколько слов для хозяев квартиры.
— Галина Константиновна, — передавая Моисею Соломоновичу листок, попросила она, — позаботьтесь, пожалуйста, о новом сотруднике. Он, поди, живя по заграницам, совсем забыл российские порядки.
Галина Константиновна Суханова-Флаксерман была секретарем «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». На следующий день Урицкий от нее узнал, что редакция «Известий» в какой-то мере отражает соотношение сил в Совете между различными партиями. Главным редактором был меньшевик Стеклов, его помощниками — надежные сторонники меньшевистско-эсеровского большинства Исполкома Совета Дан, Гоц и другие. Противостоял им редактор-большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Именно он был инициатором издания этой газеты. В день Февральской революции он буквально один выпустил первый номер, в котором было напечатано воззвание Совета «К населению Петрограда и России», заявление от «Временного комитета Государственной думы», «К солдатам» и призыв «Не допускайте грабежей!». Затем, несколько позднее, Бонч-Бруевич сумел отпечатать Манифест РСДРП (б) «Ко всем гражданам России», что вызвало резкое недовольство меньшевиков и эсеров.
Появление в редакции Урицкого не очень обрадовало Бонч-Бруевича. Как-никак, а опять не большевик. Однако уже после первого знакомства, после первых бесед с ним понял, что опасения напрасны. Сразу же энергично взявшись за работу в редакции газеты, Моисей Соломонович как-то непроизвольно, без специального назначения стал исполнять обязанности заместителя главного редактора, поддерживая линию большевиков, остро критикуя соглашательскую и оборонческую политику меньшевиков.
Близкое общение с Бонч-Бруевичем было для Урицкого отличной школой большевизма. Для него стала ясной общая социально-политическая установка меньшевиков: социалистическая революция якобы возможна только через много лет после буржуазно-демократической революции, после длительной полосы капиталистического развития страны. Отсюда и соглашательство меньшевиков с буржуазными партиями, их отношение к Временному буржуазному правительству. Моисей Соломонович никогда не был «оборонцем», никогда, ни в своих статьях, ни в выступлениях, не поддерживал ратовавших за «войну до победы» и всегда считал главной целью социал-демократов пролетарскую революцию. Что же касается объединения всех социал-демократов в единую партию, что ранее казалось ему целесообразным, то нельзя не согласиться, подумал он, с решением собрания Петербургского Комитета РСДРП (большевиков), состоявшегося через неделю после возвращения его на родину. С этим решением познакомила Урицкого Елена Дмитриевна Стасова: «Петербургский Комитет считает возможным и желательным объединение с организациями меньшевиков, которые признают решения Циммервальда и Кинталя[3] и необходимость, как и неизбежность, революционной борьбы пролетариата в настоящий момент не только за политическую, но и за экономическую часть программы-минимум РСДРП».
Задумался Моисей Соломонович и над словами одного товарища, сказавшего о нем, что «его пребывание в группе меньшевиков — недоразумение».
Сильное впечатление произвели на Урицкого «Письма из далека» Ленина. Два из пяти привезла в Петроград Александра Михайловна Коллонтай и передала их для печати в редакцию «Правды». Ленин предупреждал, что «первая революция, порожденная всемирной империалистской войной, разразилась. Эта первая революция, наверное, не будет последней». Разве не эти же мысли высказывал и сам Урицкий за границей? В письме Ленина давалась характеристика Временному правительству: оно «не может дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы». Разве не так же думает и Урицкий? В этом же письме Владимир Ильич отмечал, что наряду с Временным правительством в революции родилось главное — неофициальное рабочее правительство в лице Советов. Ленин призывал к укреплению, расширению, развитию роли и значения Совета рабочих депутатов. Это было программой действий, программой, с которой теперь ежедневно выступает на страницах печати и Моисей Соломонович Урицкий.
Не прошло и двух недель с момента возвращения Урицкого в Петроград, а у него было ощущение, что другой жизнью он никогда и не жил. Последние дни марта, яркое весеннее солнце сгоняло темный снег с улиц Петрограда; казалось, что и сама природа принимает участие в революции, поднимает настроение, придает смелость и решительность действиям, рождает надежду на близкую победу. Дни Моисея Соломоновича были заполнены до предела: митинги, заседания, беседы, споры, а ночью редактирование статей, корректура. Он почти не бывает в своей комнате на Васильевском острове, в которой поселился по рекомендации Стасовой. Почти круглые сутки в Таврическом дворце. Сегодня там военные, идут митинги войсковых частей. Выступают эсеры, кадеты, меньшевики. Урицкий прислушивается. «Война до победы Антанты!» — лейтмотив их речей. Как-то странно Урицкому видеть генералов с красными бантами на френчах. Они довольно улыбаются, приветствуя призывы оборонцев. Но в зале находятся и окопные солдаты. Они-то знают цену солдатской крови и яростно поддерживают большевистских ораторов. «Долой войну!», «Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов!», «Землю — крестьянам, фабрика — рабочим!» — кричат они. А под окнами дворца толпа солдаток: «Верните наших мужей из окопов, хлеба — детям!»
23 марта 1917 года здание Таврического дворца опустело, все депутаты Совета вышли на улицы города, чтобы проводить в последний путь погибших в дни Февральской революции.
Урицкий шагает вместе с членами редакции «Известий». Толпа демонстрантов как-то незаметно оттерла Моисея Соломоновича от редакторской группы, и он оказался среди рабочих и солдат. В пути возникают импровизированные митинги. Охваченный общим порывом, Урицкий поднимается на самодельную трибуну:
— Не просить, а требовать от правительства прекратить войну, ввести рабочий контроль на фабриках и заводах, установить восьмичасовой рабочий день, покончить с голодом, отобрать у помещиков землю!
Кто-то мягко положил на плечо Урицкого руку. Разгоряченный выступлением, он не сразу узнал закутанную в теплый платок Стасову. С ней Галина Флаксерман.
— Слушали вас, Моисей Соломонович, слушали, — улыбается Стасова. — Думаю, что вам пора к нам в «Правду». Да и Бонч горой стоит за вас.
— Мой брат Юра Флаксерман, — представила Галина Константиновна шедшего рядом молодого человека. — Приехал из Нижнего, мечтает о журналистской работе.
— Ну что ж, дело хорошее, — пожал крепкую руку молодого человека Урицкий. — Вот уйду в «Правду», — пошутил он, — займете мое место в «Известиях».
— Ну, куда мне до вас, — густо покраснел Юра.
Судьба в дальнейшем свяжет их в работе, молодой журналист станет «тенью» опытного революционного журналиста Урицкого.
Вот и Марсово поле. Земля приняла навечно своих сынов. Люди запели «Интернационал». Пела тысячи друзой погибших. Песня гремела над Марсовым полем, над притихшим Петроградом. Играл духовой оркестр кронштадтских моряков. Единственный в Петрограде оркестр, который играл «Интернационал», правда, пока еще по нотам.
Утром 24 марта 1917 года вышел очередной номер «Известий» с отчетом Урицкого о похоронах героев революции.
В этот же день в буржуазных газетах было напечатано заявление министра иностранных дел Временного правительства о задачах России в войне. Заявление, которое несло в себе открытый вызов революционным массам. Игнорируя манифест Совета, обращенный к народам мира, Милюков даже не упомянул о свершившейся революции. Он провозгласил целью войны захват русскими войсками Константинополя и проливов.
Заявление Милюкова бурно обсуждалось в Таврическом дворце во фракциях депутатов Совета.
Большевики, которые знали не понаслышке, каким тяжелым бременем лежит империалистическая война на плечах рабочих и крестьян, после выступления Милюкова недвусмысленно заявили:
— Ни Константинополь, ни Дарданеллы рабочему классу не нужны. Война должна быть немедленно закончена без аннексии и контрибуций$7
А меньшевистско-эсеровское руководство Петросовета встало на путь поддержки буржуазии. Оно пыталось доказать, что война перестала быть империалистической, поскольку самодержавие уничтожено, и поэтому должна продолжаться.
С 29 марта по 3 апреля состоялось созванное по инициативе Исполкома Петроградского Совета совещание Советов, возникших в течение марта по всей стране.
— Ну, Юра, вот тебе первое серьезное журналистское задание, — сказал Урицкий Юрию Флаксерману. — Будем готовить отчеты для «Известий», нужно побывать во всех фракциях и сказать в отчетах самое главное.
Молодой журналист принялся за дело.
На объединенном заседании фракций, когда пришли делегаты-большевики и Чхеидзе предоставил слово для доклада Ленину, к Юрию Флаксермаиу быстро подошел Урицкий и сказал:
— Вы будете секретарствовать на этом совещании. Вот вам бумага, постарайтесь подробней и точней записать речь Ленина. Это очень важно.
Моисей Соломонович усадил Флаксермана на специальное место, предназначенное для секретарей.
Ленин поднялся на трибуну с тезисами, заппсапиыми на небольших листках из школьной тетради. Многие в зале впервые увидели Ленина — невысокий, коренастый человек с огромным лбом. Рыжеватые волосы, бородка клинышком, подстриженные «щеточкой» усы. Очень внимательные, охватывающие сразу весь зал глаза.
Ленин говорил стремительно, четко выговаривал каждое слово. Юра должен был все тщательно записывать, но неожиданно ото оказалось очень трудным делом: оратор поглощал внимание. Его речь захватила сразу и уже не отпускала. Надеясь на память, Юра быстро записывал первые буквы слов, полуслова.
Ленин читал по пунктам свои тезисы и последовательно их комментировал. Они, как лозупги, краткие, ясные.
— Война и при капиталистическом Временном правительстве остается грабительской, империалистской войной, — говорил Ленин, — поэтому недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству»… Никакой поддержки Временному правительству!
«Вот как можно в нескольких словах изложить свою точку зрения сразу по двум вопросам — и о войне, и о Временном правительстве», — думал Урицкий, а Владимир Ильич продолжал говорить о том, что фактически власть сейчас принадлежит Советам. Однако их меныпе-вистско-эсеровское, мелкобуржуазное руководство добровольно передало власть буржуазии. Партия большевиков должна вывести массы рабочих и крестьян из-под влияния мелкобуржуазных партий. Для этого необходимо разъяснить массам их ошибки, показывать на жизненном опыте, кто их обманывает. Наши ближайшие задачи, — подчеркнул Ленин, — не свержение Временного правительства, а политическое воспитание масс, завоевание большинства в Советах. Это и есть мирный путь развития революции.
Кто-то тихо окликнул Урицкого. Он отмахнулся. Нельзя пропустить ни одного слова, нужно слушать, слушать, слушать. Какая грандиозная задача! Вчера на Финляндском вокзале Владимир Ильич провозгласил: «Да здравствует социалистическая революция!»
В зале тишина. Все напряженно, так же, как Урицкий, слушают. Но вот Ленин перешел к вопросу о выработке новой программы и изменению названия партии.
— …Предлагаю переменить название партии, назвать Коммунистической партией. Название «коммунистическая» народ поймет. Большинство официальных социал-демократов изменили, предали социализм…
— Правильно!
— Клевета!
— Да здравствует социалистическая революция!
Урицкий не спускал глаз с Ленина. Владимир Ильич стоял молча, спокойный, уверенный в своей правоте. Вся его фигура излучала силу.
А зал бушевал. Казалось, что стены Таврического дворца не выдержат такого накала страстей. И, пожалуй, только сейчас для Урицкого стало совершенно очевидно: никакого объединения большевиков с меньшевиками быть не может. И свое место он видел там, где правда, так-ясно и точно изложенная Лениным, сказанная такими простыми, понятными словами. А в глубине души жил стыд: как же ты сам раньше-то не додумался?
Меньшевистскую позицию защищали Церетели и Мешковский. После них со страстной речью выступила Александра Коллонтай. Она поддерживала тезисы Ленина. Но этого уже не требовалось. Все слова, сказанные после Ленина, казались мельче, мысли менее важными, менее значительными, хотя в протоколе Юрия Флаксермана тезисы Владимира Ильича напоминали стенограмму, а последующие выступления были записаны почти дословно.
На следующее утро Юра, разыскав Урицкого, попросил отдать ему протокол и предоставить стенографистку или машинистку, чтобы расшифровать речь Ленина.
— Что вы, я вам не отдам. Вы не представляете, какая это ценность, — сказал Урицкий.
Как опытный революционер, он отлично понимал, что теперь Апрельские тезисы, провозглашенные Лениным, вызовут живую и острую реакцию всех слоев общества, привлекут внимание всех партий и прессы. Нужно постараться как можно скорее опубликовать их в «Известиях», изложив с максимальной точностью, чтобы не дать возможности противникам извратить, переиначить сказанное. Поэтому он сам занялся подробной расшифровкой записей, порой, действительно, напоминающих стенограмму.
На другой день после выступления Ленина в Таврическом дворце Бонч-Бруевич опубликовал в «Известиях» статью о торжественной встрече вождя на Финляндском вокзале. Как и следовало ожидать, на автора набросились меньшевистско-эсеровские лидеры Исполкома Петросовета.
— Необходима реформа «Известий», — шумели они, — этот влиятельный орган служит только расшатыванию наших позиций.
Воспользовавшись конфликтом редакторского меньшевистского состава с Бонч-Бруевичем, меньшевики вынесли на заседание Исполкома Совета вопрос об «Известиях». На этом же заседании была создана комиссия по реорганизации «Известий».
Возмущенный выпадами меньшевиков против Ленина, Бонч-Бруевич даже хотел выйти из состава редакции, но Владимир Ильич запротестовал:
— Ни в коем случае но уходите сами. Нам важно использовать возможность публикации в «Известиях» своих статей и резолюций. И мы должны ее использовать.
Несмотря на огромное значение для революции Апрельских тезисов, опубликовать их в «Известиях» Урицкому так и не удалось. Однако в номере от 5 апреля было опубликовано сообщение Ленина «Как мы доехали» — об обстоятельствах проезда через Германию группы политических эмигрантов, возвращающихся из Швейцарии в Россию, сделанное им на заседании Исполнительного комитета Петросовета.
Ох как извратили этот материал буржуазные газеты! С какой злобой и изобретательностью!
Бонч-Бруевич боролся. Он выступал на Исполкоме Петросовета о прекращении травли Ленина. Но чего стоят самые пламенные и правдивые слова, если их не хотят слушать?! Единственно, что ему удалось, это опубликовать 17 апреля в «Известиях» подготовленную вместе с Урицким передовую статью «Чего они хотят?». В этой статье были разоблачены планы реакции относительно Ленина. Статья призывала обуздать тех, кто хотел применить «насилие к человеку, всю жизнь свою отдавшему на служение рабочему классу, на служение всем угнетенным и обездоленным».
Естественно, что после этой статьи обстановка в редакции накалилась до предела. У Моисея Соломоновича Урицкого состоялся серьезный разговор с Чхеидзе и Даном, рассчитывающими найти в нем союзника в борьбе с большевиками. Но Урицкий, со свойственным ему спокойствием, выслушал их и поднялся со стула:
— Простите, но я целиком и полностью согласен с Бонч-Бруевичем. С вами мне не по пути. С сегодняшнего дня я себя сотрудником «Известий» не считаю.
Бонч-Бруевич еще какое-то время, пока это было возможно, оставался в составе редакции, но в середине мая сдал мандат члена редакции и сосредоточил свои журналистские силы в большевистской газете «Правда».
А Моисей Соломонович Урицкий стал одним из редакторов журнала межрайонцев «Вперед».
Выступления Владимира Ильича Ленина на заседаниях Исполкома Петроградского Совета, длительные беседы с Бонч-Бруевичем, Стасовой и другими большевиками, с которыми он теперь постоянно общался, окончательно убедили, что в период двоевластия, образовавшегося в результате Февральской революции, правда на стороне большевиков.
И вот 14 апреля 1917 года Урицкий принял участие в Петроградской общегородской конференции РСДРП (б), на которой с большим докладом выступил Ленин.
В решениях конференции указывалось, что нигде нет сейчас такой свободы, таких революционно-массовых организаций, как в России, и «поэтому нигде в мире не может быть совершен так легко и так мирно переход всей государственной власти в руки действительного большинства народа, т. е. рабочих и беднейших крестьян».
5 мая 1917 года, когда белая петроградская ночь не пускала даже сумерки в квартиру Урицкого на Васильевском острове, в дверь гулко постучали. Моисей Соломонович никого не ожидал, а каждый стук в дверь привычно вызывал ощущение опасности. Инстинктивно спрятав под подушку очередную статью, он подошел к двери.
— Что, брат, загордился, старых друзей не впускаешь, — раздался на лестничной площадке хорошо знакомый голос. Неужели Чудновский?
Урицкий широко распахнул дверь. Перед ним стоял элегантный молодой человек в сером отлично сшитом костюме с золотистым модным галстуком. Тщательно выбритое лицо загорело. Энергичным, привычным движением он отбросил со лба непокорные, густые волосы.
— К тебе первому, не считая старых друзей, у которых остановился, — после приветствия сказал Чудновский. — Хочу разобраться в обстановке. Да и по настоящему делу руки истосковались: последнюю статью в Нью-Йорке сдал более двух месяцев назад.
— Ну, насчет работы не беспокойся. Завтра же пойдем в редакцию «Правды», а затем станешь на учет в нашей организации. Ты ведь межрайонец?
— Да. Но ведь давно пора объединиться с большевиками!
— Да, к этому все идет. Но расскажи, как ты? Мы с тобой сколько не виделись, с Копенгагена? Уже больше года…
— Да что там вспоминать давно прошедшее. Ведь я вчера увидел наше «завтра», — горячо заговорил Чудновский, присаживаясь на единственную в комнате годную для сидения мебель — односпальную кровать. — Я вчера прочел Апрельские тезисы Ленина. Ты только вдумайся! «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции… ко второму ее этапу… Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни, масс пролетариата». Пролетариата! Разве мы и там, за рубежом, не боролись за пролетарскую революцию?
Моисея Соломоновича всегда радовала горячность друга, его пылкое отношение к революции. И сейчас, глядя на раскрасневшееся лицо, на горящие глаза, он радовался возвращению Григория на родину в эти горячие дни.
— А знаешь, мне сейчас в голову пришла отличная мысль. Ты собственными глазами видел Америку, познакомился и с рабочим классом, и с капиталистами, почему бы тебе не рассказать об этом нашим рабочим?
— Задача непростая, но ты прав, жизнь рабочих в Америке стоит того, чтобы о ней рассказать. Но сумею ли, чтобы нашим рабочим понятно было…
— Уверен, что сумеешь.
Раннее майское солнце уже заглядывало в окно Урицкого, когда друзья стали прощаться.
По совету друга Чудновский подготовил доклад на тему «Америка и война». В нем разоблачалась подлинная сущность американской «демократии». Урицкий оказался прав: лекции Чудповского, проходившие в цирке «Модерн» на Каменноостровском проспекте, с жадностью прослушивались рабочими, студентами, солдатами и матросами. Живое слово юного революционера, объехавшего многие страны капиталистического мира, находило горячий отклик в массах.
Моисей Соломонович и сам выбрал время послушать друга в рабочем клубе на Выборгской стороне.
— Ну, брат, вот ты и научился разговаривать по-настоящему с рабочей аудиторией, — похвалил он Григория.
С появлением в Петрограде Чудновского в межрайонке стали громче звучать призывы к объединению с РСДРП (б). Антонов-Овсеенко и Володарский, не ожидая формального объединения, вступили в партию большевиков. Вопрос объединения неоднократно обсуждался и на собраниях Петроградского Комитета большевиков и Центрального Комитета. Однако условия, выдвинутые межрайонцами, приняты не были. В них звучал сепаратизм — своя тактика по отношению к Временному правительству, стремление издавать свой, обособленный, журнал «Вперед».
Урицкий давно понимал, что в меньшевистской партии царит организационный и идейный разброд, она разваливалась на ряд политических течений, не имела даже своего центрального комитета. Организационный Комитет, созданный в 1912 году на августовской конференции, еще как-то функционировал. Урицкий еще числился членом этого комитета, но в его заседаниях участия не принимал ни в эмиграции, ни в Петрограде. Еще в 1913 году он определился как межрайонец и только наблюдал расслоение меньшевиков. На правом фланге их стояла оборонческая группа «Единство» во главе с Плехановым. Группа формально не входила в меньшевистскую партию.
Их правый фланг возглавлял Потресов. По политическим взглядам они мало чем отличались от плехановской, такие же «оборонцы».
Центр — основное течение меньшевизма возглавляли Дай, Чхеидзе и Церетели. После Февральской революции они чувствовали себя «на коне», захватив лидерство в Петроградском Совете. Однако и их идейные позиции можно было охарактеризовать, как «революционное оборончество».
Уходя из «Известий», Бонч-Бруевич справедливо говорил Урицкому:
— Нет разницы между открытыми оборонцами и теми, кто прикрывает свое оборончество «революционной» фразой.
Немного в стороне (левое крыло) стояла группа Мартова, называвшая себя меньшевиками-интернационалистами. Интернационализм этот был весьма относительным. Выступая против войны, они не могли указать путь к миру, так как не связывали его с уничтожением капитализма и завоеванием власти пролетариатом.
А в то же время большевики разработали конкретную программу борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, о чем говорилось на Седьмой (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), за ходом которой Урицкий внимательно следил.
В начале мая Урицкий получил два приглашения: на меньшевистскую конференцию и конференцию межрайонной организации. Сначала он пошел на конференцию меньшевиков. Выступления, выступления, выступления… Одобрение линии «революционного оборончества, одобрение вступления лидеров меньшевиков во временное коалиционное правительство». Как это все далеко от Урицкого. Он отказывается участвовать в выборах руководящего центра меньшевистской партии и выходит из состава Организационного комитета.
Другое дело — конференция межрайонцев. Совместно с Чудновским и Мануильским Урицкому удалось настоять на принятии решения о согласии по всем основным вопросам с линией большевистской партии.
10 мая на конференции межрайонцов выступил Владимир Ильич Ленин. Через несколько дней в статье «К вопросу об объединении интернационалистов» Ленин написал, что большинство ЦК нашей партии считает «чрезвычайно желательным объединение с межрайонцами», причем это «объединение желательно немедленно».
«Политические резолюции межрайонцев, — отметил Ленин, — в основном взяли правильную линию разрыва с оборонцами».
Тогда же Владимир Ильич выдвинул и конкретный план объединения этой организации с большевиками.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Прошло три месяца после Февральской революции, а коренные вопросы народной жизни — о мире, земле и хлебе — так и оставались нерешенными. Коалиционное правительство «развязало руки» притихшей было буржуазии, в армии контрреволюционное офицерство требовало «обуздать солдат». Классовые противоречия обострялись.
Урицкий вместе с Луначарским подготовили июньский номер журнала межрайонцев «Вперед». В нем было опубликовано заявление:
«Идейная группа „Вперед“, вследствие ненормального положения РСДРП, вынуждена была играть в последние годы роль маленькой отдельной фракции. В настоящее время в этом не представляется надобности. Группа „Вперед“ ликвидирует свое сепаратное существование как политическая единица…»
В том же помере журнала Урицкий выступил со статьей.
«…Русская революция, — писал он, — происшедшая вопреки ожиданиям и желаниям социал-патриотов всех стран, смешала все карты их, угрожая разрушением возводившегося ими домика упрочения современного буржуазно-империалистического государства. Свергнув царя, русский народ заявил ясно и определенно, что он желает мира „без аннексий и контрибуций и на началах свободного самоопределения народов“. Такой мир возможен только как результат революционной борьбы рабочих всех стран против империализма. Выставленное русскими рабочими требование демократического мира предполагает, таким образом, углубление и дальнейшее развитие русской революции и распространение революционного пожара на другие страны Европы…
…Не подлежит никакому сомнению, что вожаки Исполнительного комитета в лице „оборонцев“ — меньшевиков и социалистов-революционеров стремятся к „дипломатическому миру“, а не к революционной борьбе масс за него, и играют только на „революцию в Германии“, а не в других странах Европы. Эта не „пролетарская“ точка зрения уже проявилась в обращении Совета рабоч. и солд. депутатов к народам 14 марта. Еще резче она сказалась в двух воззваниях от 2 мая: „К социалистам всех стран“ и „К армии“. Первое убеждает всех прекратить мировую бойню, а второе — призывает русскую армию к наступлению. И это противоречие не случайно. Оно коренится в составе, в условиях деятельности Совета. Как я уже сказал, первую скрипку в нем играют „оборонцы“ — меньшевики и социалисты-революционеры. Но и те и другие ведут одну и ту же антиреволюционпую и антипролетарскую политику…»
Так теперь Урицкий разоблачал меньшевиков и эсеров.
В июньском и июльском номерах журнала «Вперед» Моисей Соломонович ратует за политическую самостоятельность финского народа, против чего выступали меньшевики и русская буржуазия.
Ленин в этот период нарастания пролетарской революции ярко обозначил тактику и политику рабочего класса. Журнал «Вперед» помещал на своих страницах лозунги большевиков: «Вся власть Советам», «Контроль рабочих над производством и распределением», «Вооружение народа и прежде всего рабочих», «Немедленное опубликование справедливых условий мира», «Против политики наступления», «Хлеба, мира, свободы».
В июне в Петроград прибыла «миссия», возглавляемая мистером Рутом, одним из самых яростных реакционеров среди государственных мужей Америки, а также техническая «миссия» мистера Стивенса. Очень скоро стало ясно, что задачей обеих «миссий» было выяснить, насколько возможно Соединенным Штатам использовать экономические богатства России для своих монополий, а «попутно» «противодействовать планам русских социалистов».
— Ну, Гриша, твоя задача — довести до рабочего люда смысл этих «миссий», — сказал Урицкий Чудновскому.
Вот когда пригодился «американский опыт» Чудновского и Воровского. Их лекции в цирке «Модерн» приобрели еще более точную цель — помешать коалиционному правительству разбазаривать русские богатства.
Значительным событием в жизни революционного Петрограда были выборы в районные думы. Моисей Соломонович стал гласным Выборгской, затем Нарвской районных дум. Чудновский был выдвинут по списку большевиков и межранонцов в Александро-Невскую. Урицкий стал в думе руководителем фракции большевиков и межрайонцев.
Однажды после выступления Чудновского один из «оборонцев» в думе грубо бросил ему: «Трус. Дезертир».
Для пылкого Чудновского это прозвучало, как пощечина.
— Завтра же, несмотря на освобождение от воинской повинности как гласного думы, я отправлюсь на фронт, — категорически заявил он Урицкому. Они шли по Невскому проспекту. Конец мая и начало июня в Петрограде прошли спокойно. На улицах не раздавались выстрелы, но на Невском проспекте то тут, то там стихийно возникали митинги. Вот и сейчас на импровизированной трибуне у Казанского собора благообразного вида старичок настойчиво убеждал солдат и рабочих в том, что борьба за всеобщий мир невозможна без укрепления армии.
Поправив сбившийся на сторону красный бант в петлице, старичок, напрягая голос, кричал:
— Пока силы немцев на русском фронте ослаблены — надо наступать! За нашей армией стоит мощь революционного народа!
Урицкий не успел опомниться, как рядом со старичком появилась стройная фигура Чудновского.
— Это он-то народ? — широким жестом он указал па растерявшегося старичка. — Сыновья народа гниют в окопах, гибнут за дело мировой буржуазии!
— Правильно!
— Долой войну!
Под свист и улюлюканье толпы старичок быстренько спрятался за одной из колонн.
— Завтра же подам прошение об отправке на фронт, — повторил Чудновский, когда друзья продолжили свой путь. И Урицкий понял, что его не отговорить.
Скоро «Письмо идущего на фронт» было опубликовано в «Правде». В этом письме был «весь Чудновский», как сказал Моисей Соломонович.
«Мы, революционеры, не дрожим за свою жизнь, без слов и жеста мы отдадим ее в рядах революционного народа, революционного пролетариата. Не мы дезертируем и прячемся по углам общественных и необщественных организаций. Это делают иные — из среды тех, кто с пеной у рта взывает к тюрьме и нагайке.
Мы не дезертиры. Из-за нас никто не подставит свою грудь под пули, предназначенные нам. И не мы заставили миллионы наших братьев годами бессмысленно сидеть в траншеях.
Мы против войны, которая неизменно сохраняет свой империалистический характер.
Мы не предадим наших братьев в рядах нашей армии и не оставим их гибнуть одних…»
Урицкий проводил Григория Чудновского на фронт в день опубликования этого письма. Гласный думы стал рядовым маршевой роты гвардейского Преображенского полка.
Письма от него приходили очень редко, но в каждом говорилось: «Солдаты не хотят воевать».
Большевики шаг за шагом отвоевывали солдатские масы у эсеров и меньшевиков, особенно в тылу. Приходя в виде пополнения во фронтовые части, солдаты несли с собой большевистскую правду в окопы. «В полки прибыло 43 роты пополнения из петроградских запасных батальонов, среди них большое число лиц, специально подготовленных для агитации с определенной задачей проводить недоверие к Временному правительству и отказ от наступления», — доносило, например, командование 1-го гвардейского корпуса XI армии. Одним из лучших большевистских агитаторов в армии стал Григорий Чудновский.
3 июня в Петрограде открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В его работе приняла участие тысяча девяносто делегатов, из которых только 105 большевиков. Эсеро-меньшевистский блок был представлен большинством делегатов.
С докладом выступил меньшевик Либер:
— Только союз революционной демократии с буржуазией является единственно возможной формой власти, — заявил он от имени Петросовета.
Его поддержал Церетели:
— В настоящий момент, — начал он свою речь, — в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет!
И вдруг, как выстрел, как взрыв, раздалось короткое, уверенное:
— Есть!!
Зал на секунду замер. Потом загудел, загремел, зашикал.
— Кто? Кто это сказал?
Урицкий видит, как Луначарский привстал со своего места, вглядывается в зал. Вскочил так стремительно что упали очки, Володарский.
— Ленин! Это сказал Ленин! — раздались возгласы из зала.
— Ленин!
— Ленин!
— Ленин!
— Есть партия, которая может взять власть в свои руки! Он говорил, — Владимир Ильич указал на Церетели, — что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».
Урицкий слушал Ильича и ощущал, как в нем самом вырастает победное чувство, чувство единения с могучим меньшинством съезда. Он ясно понимал, что меньшевистско-эсеровское большинство терпит поражение. И не важно, что съезд выразил доверие Временному правительству, одобрил готовящееся наступление русских войск на фронте и высказался против перехода власти в руки Советов. Все эти решения сметались уверенностью большевиков в скорой победе пролетарской революции, от которой сегодня меньшевики и эсеры отошли уже навсегда.
Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет. В основном в него вошли меньшевики и эсеры. Но от фракции большевиков были избраны Владимир Ильич Ленин и его ближайшие соратники. Членом ЦИК был избран и Моисей Соломонович Урицкий. Лозунг «Вся власть Советам» для борцов за пролетарскую революцию остался главным. Значит, надо разворачивать борьбу за большевизацию Советов. В эту борьбу включились и межрайонцы.
Пролетариат сказал свое слово 18 июня демонстрацией на Марсовом поле. Около полумиллиона петроградских рабочих вышли на улицу демонстрировать свое недоверие коалиционному правительству.
Меньшевики и эсеры надеялись использовать эту демонстрацию под видом единения революционной демократии против контрреволюции.
Однако большевики не собирались ограничиваться общим лозунгом «Долой контрреволюцию!». Над колоннами демонстрантов развевались полотнища с призывами: «Долой царскую думу!», «Против политики наступления!», «Долой 10 министров-капиталистов!»
Звучало главное требование большевиков — «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!».
С этим лозунгом почти ежедневно выступал Урицкий на фабриках и заводах, куда его приглашали для докладов «по организационным вопросам и текущему моменту». Под этим лозунгом шагал он в колоннах демонстрантов и сегодня. Около десяти часов утра мощное шествие рабочих приняло его в свои ряды прямо на Васильевском острове. Общий подъем, боевое настроение передались и ему, вселяли уверенность в скорую победу, радовали, что вся его жизнь, посвященная революции, прошла не даром.
А демонстрация, сузившись, влилась на Николаевский мост, разлилась широким потоком по Невскому проспекту и по Садовой улице, выплеснулась на Марсово поле.
У могил героев, обретших вечный покой на Марсовом поле, стояли делегаты I Всероссийского съезда Советов, представители различных организаций, члены ЦК РСДРП (б) во главе с Владимиром Ильичей Лениным. Чуть в стороне от них, приняв свою любимую позу со скрещенными на груди руками, стоял Плеханов. Его окружали меньшевики-партийцы. Когда колонна демонстрантов, в которой шел Урицкий, поравнялась с ним, Плеханов узнал Моисея Соломоновича и сделал чуть заметный жест, приглашая стать рядом.
Урицкий вышел из рядов демонстрантов, подошел к. Плеханову, вежливо раскланялся, как здороваются не с единомышленниками, а просто со знакомыми, и, пройдя несколько шагов, остановился рядом с группой большевиков, окружавших Владимира Ильича Ленина. Плеханов горько усмехнулся и что-то сказал стоящим с ним рядом меньшевикам. Выбор Урицкого не остался незамеченным и большевиками: как боевому товарищу ему крепко пожал руку Бонч-Бруевич.
В этот день Моисей Урицкий сделал свой окончательный и бесповоротный выбор. По поручению Владимира Ильича Ленина он возглавил фракцию большевиков и межрайонцев во временной городской думе, фракцию, которая насчитывала около сорока человек…
Дума заседает почти непрерывно. Однако Урицкий отлично понимает, что это не та организация, которая может принести существенную пользу в сложной обстановке июльских дней. В городе разруха и голод. Черные очереди людей стояли сутками у магазинов, чтобы получить полфунта хлеба. Нужно принимать срочные меры по доставке в город продуктов, восстановлению промышленности. Этого дума не делает… Рабочие и солдаты стремятся к вооруженным выступлениям против правительства. Выступление против правительства может вспыхнуть стихийно в любой точке города, но стихия в революционных делах может обернуться катастрофой. Живет еще в памяти Урицкого «Красноярская республика», ее ошибки. Какие нужно принять меры, чтобы их избежать теперь? Только организованность и дисциплина, только все силы, собранные в единый кулак.
2 июля несколько министров-кадетов Временного правительства решили уйти в отставку. 3 июля ОК партии меньшевиков постановил сформировать правительство с преобладанием в нем представителей буржуазии. К ним присоединились эсеры и соглашательское большинство ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Это уже была прямая измена революции. Узнав об этом, рабочие и солдаты все решительнее требовали, чтобы Советы рабочих и солдатских депутатов брали власть в свои руки. Анархисты подстрекали солдат к вооруженному выступлению, которое было явно не подготовлено и грозило обернуться тяжким поражением революции. Особенно влияние анархистов было сильным в 1-м пулеметном полку.
Утром 3 июля Урицкий в коридоре Таврического дворца встретил Анатолия Васильевича Луначарского. Тот был неузнаваем, возбужден и взволнован.
— Что-нибудь случилось? — участливо спросил Урицкий.
— Да нет, просто еще не пришел в себя после митинга в 1-м пулеметном полку, — устало улыбнулся Луначарский. И рассказал, как они с Петровским и Дашкевичем старались убедить полк не выступать.
— На митинге были рабочие завода «Нового Лесснера» и делегаты расформированного Гренадерского полка. Настроение взрывоопасное, — добавил Луначарский. — Правда, мы убедили их воздержаться от вооруженного выступления, но боюсь, что ненадолго.
Опасения Анатолия Васильевича подтвердились даже раньше, чем он предполагал. Узнав о выходе из правительства министров-кадетов, солдаты собрались на митинг. Анархисты призвали к немедленному свержению Временного правительства, не считая, однако, что власть должна перейти в руки Советов. Пулеметчики, разослав своих делегатов в части Петроградского гарнизона, решили начать вооруженное выступление.
Решил начать вооруженное восстание и 176-й запасной пехотный полк, дислоцированный в Красном Селе.
Такой настрой был и у других частей Петроградского гарнизона. На экстренном совещании ЦК, ПК и Военной организации большевиков 3 июля принимается решение призвать массы воздержаться от выступления. Такое же решение принимает и вторая общегородская конференция петроградских большевиков. Однако события развиваются так, что становится ясным: убедить массы в преждевременности выступления не удастся.
В ночь с 3 на 4 июля ЦК партии большевиков решает — возглавить стихийное движение солдат, матросов и рабочих$7
Днем 3 июля в Таврическом дворце Урицкий, как член ЦИК, принимал представителей воинских частей Петрограда.
В соответствии с решением совещания членов ЦК и ПК, Военной организации, комиссии рабочей секции Петросовета Урицкий порекомендовал 176-му запасному пехотному полку принять участие в мирной демонстрации 4 июля вместе с рабочими Нарвского района. Порядок и организацию шествия он поручил полковому комитету.
Чтобы подтвердить действенность постановления рабочей секции Петроградского Совета об организации мирной демонстрации, Урицкий сделал запись в книжке одного из солдат полка: «Завтра с утра явиться к Таврическому дворцу с лозунгом „Вся власть с. р. и с. д.“» и расписался: «М. Урицкий».
К предстоящей демонстрации 4 июля готовился и контрреволюционный лагерь — эсеровско-меньшевистская фракция ЦИК и Временное правительство.
Утром 4 июля над Петроградом свинцово нависли тучи. Сеялся мелкий дождик, чуть заметной водяной пылью покрывал тротуары и мостовую. К 12 часам хорошо организованное большевиками шествие рабочих разных районов города, солдат воинских частей и кронштадтских матросов со всех сторон приближалось к Таврическому дворцу. На Сенной площади, на углу Невского и Садовой, на Литейном проспекте и около Инженерного замка демонстрантов подвергли ружейному и пулеметному обстрелу.
Контрреволюция пролила кровь трудящихся, но не могла развеять ощущения силы демонстрантов. Представители рабочих, солдат и матросов вручили в Таврическом дворце свои требования руководству ЦИК о передаче власти Советам.
4 июля рабочие, солдаты и матросы целый день приходили к зданию Таврического дворца. Люди ждали ответа ЦИКа на свои требования взятия всей власти Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Временное правительство было деморализовано и не знало, чго делать, и сколько возможно затягивало заседание ЦИКа. В ответ на энергичные, настойчивые требования народа, обращенные к президиуму ЦИК, выйти к нему Церетели, пытаясь спрятать за наглостью свою растерянность, заявил:
— Стану я разговаривать с толпою хулиганов!
Уже вечерело, когда к зданию Таврического дворца подошел в полном боевом порядке, во главе со своим командиром 176-м запасный пехотный полк из Красного Села, Это был боевой полк, недавно вернувшийся с фронта и потерявший там половину своего состава. Полк прошел мимо стоящих в карауле солдат Волынского полка и расположился у подъезда дворца, составив ружья в аккуратные козлы.
Где-то совсем близко от дворца, на Шпалерной улице открылась артиллерийская стрельба. Бросив свои посты, волынцы побежали из здания. В панике заметались чиновники при ЦИКе. Заседание прервалось. Таврический дворец остался без охраны, и любая черносотенная группа могла начать провокационный погром. Об этом стало известно Урицкому.
Поправив пенсне, своей медленной медвежьей походкой Урицкий вышел к солдатам Красносельского полка. Негромко, но отчеканивая каждое слово, он распорядился:
— Товарищи красносельцы, стройтесь! Я приказываю вам занять караулы!
Эти простые слова были понятны и солдатам и офицерам. Раз так спокойно и четко этот человек в штатском костюме командует, значит, имеет право.
Разобрать ружья и построиться для дисциплинированного полка было делом минуты. К Урицкому подошел полковник и, держа руку под козырек, спросил:
— Где прикажете выставить караулы?
— Наружные — у всех входов и выходов из дворца, внутренние — у входов в зал заседаний.
Красносольцы бегом выполнили приказ полковника, а Моисей Соломонович вспомнил Красноярск. Как много ошибок было допущено тогда в революционной борьбе. Тогда думалось, что и большевики, и меньшевики, и эсеры должны действовать сообща. События этих дней выявили истинную природу Временного правительства, его контрреволюционную сущность и предательскую роль меньшевиков и эсеров, сдающих одну позицию за другой как русской буржуазии, так и силам мирового империализма. И еще подумалось: как хорошо, что теперь крепко связал свою жизнь с большевиками и что предстоящий VI съезд РСДРП (б) наконец решит вопрос о слиянии межрайонцев с большевиками.
Совместные действия рабочих, солдат и матросов всполошили лагерь буржуазной контрреволюции и ее меньшевистско-эсеровских пособников. Чтобы разрушить это единство, Временное правительство 7 июля отдало распоряжение об аресте Ленина. В тот же день были арестованы делегаты Центробалта, многие члены ЦИК и Петросовета, а в 176-м пехотном полку начато следствие об июльском выступлении полка.
Лишь один раз, 7 июля, представителю военной следственной комиссии полковнику Анохину прямо в Таврическом дворце удалось допросить Урицкого. Допрос этот больше походил на беседу. Однако юрист Урицкий сразу уловил намерение вежливого полковника: подготовить расправу над полковым комитетом.
— Как вы знаете, — говорил Урицкий, глядя прямо в глаза полковнику, — полк явился в полном составе с офицерами около 18 часов, выбрал делегатов для передачи своего заявления Центральному Исполнительному Комитету и отправился на отдых. Во время паники, около 21 часа, комендатура дворца назначила оставшуюся часть полка в караул.
Сделав вид, что он удовлетворен показаниями Урицкого, вежливо раскланявшись, полковник Анохин покинул Таврический дворец. Урицкий же, уже знавший об арестах, вспомнил приемы ухода от слежки, вышел из дворца со стороны Таврического сада…
Военно-следственная комиссия, расследовавшая события 3 и 4 июля в 176-м пехотном запасном полку, выяснила «…степень участия в вооруженном выступлении 176-го полка некоего Урицкого…».
Комиссия постановила:
«Предъявить обвинение Урицкому в том, что, не принимая непосредственного участия в вооруженном выступлении 176-го пехотного запасного полка, он, желая способствовать этому выступлению, в ночь на 4 июля с. г. в Петрограде, в помещении Таврического дворца, уверил делегированного… солдата Дардзинского, что… рабочая секция с. р. и с. д. стоит на точке зрения необходимости вооруженного выступления полков для требования передачи всей власти Советам и что многие полки Петроградского гарнизона уже выступили, а затем передал тому же Дардзинскому собственноручно написанную записку с призывом полку явиться к Таврическому дворцу с лозунгом „Вся власть Советам“, чем склонил 170 й полк к вооруженному выступлению против Временного правительства, каковое выступление и состоялось 4 июля с. г. Описанное преступление предусмотрено в отношении обвиняемого Урицкого 51 и 100 ст. ст. Уголовного уложения.
Ввиду необнаружения местожительства Урицкого, следственная подкомиссия, принимая во внимание серьезность улик и тяжесть наказания в случае розыска обвиняемого, постановила: на основании ст. ст. 416–421 Уст. уг. суд. избрать в отношении Урицкого мерой пресечения способов уклониться от суда и следствия безусловное содержание под стражей с зачислением за прокуратурой Петроградской судебной палаты, о чем и уведомить названного прокурора.
Председатель подкомиссии полковник Апохин».
Однако исполнить это постановление помешала предусмотрительность опытного конспиратора.
После демонстрации 4 июля против большевиков развернулась бешеная кампания клеветы и террора. Юнкера принялись громить редакции большевистских газет и журналов. Врываясь в помещения партийных и рабочих организаций, они ломали мебель, сжигали литературу, избивали и арестовывали служащих. Только случай спас Владимира Ильича Ленина от разбушевавшихся юнкеров при разгроме ими редакции «Правды». Он ушел из редакции за несколько минут до налета. Меньшевистско-эсеровские лидеры ЦИК и Исполкома Петроградского Совета делали вид, что разыскивают виновников «пролившейся в июльские дни на улицах Петрограда крови мирных демонстрантов». При Исполкоме Петросовета была даже создана комиссия, которая обязана была вести по этим делам следствие. И здесь, как в свое время в сибирской ссылке, не обошлось без казуса: юрист Урицкий, включенный в состав этой комиссии, в то же время по этому же делу был обвинен в государственной измене, попытке «ниспровержения существующего в России государственного строя путем насильственного изъятия власти из рук Временного правительства и передаче ее Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Меньшевнстско-эсеровская печать в эти же дни обрушила на большевиков волну лжи и клеветы. Дело дошло до бессовестного и нелепого обвинения Ленина в шпионаже в пользу Германии. Большинство большевистских газет было закрыто, в том числе «Правда», «Солдатская правда», «Голос правды», «Окопная правда» и другие. Сложно было давать отповедь клеветникам.
Особенно в своих инсинуациях изощрялись Бурцев и Алексинский. Отвечая на запросы из провинции по этому поводу, Урицкий писал:
«Обвинение Бурцева — ложь и клевета. Вся эта кампания — дело рук контрреволюции и трусости меньшвиков и эсеров и всей мелкой буржуазии. Пока еще кампания идет и контрреволюция поднимается в гору».
25 июля в еженедельнике «Вперед» Урицкий пишет:
«Братоубийственная война, в четвертый год которой мы вступили, не имеет оправдания. Ей должен быть положен конец как можно скорее. И, невзирая на тяжелые минуты, которые мы переживаем теперь, мы верим, что ей будет скоро положен конец.
Заминка, переживаемая русской революцией, пройдет. Русский пролетариат оправится от того поражения, которое он потерпел в июльские дни…
…Так или иначе, но будет и на нашей улице праздник, ибо жизнь за нас и ход истории за нас.
Только больше выдержки, больше стойкости, больше организованности. Не уступать ни одной позиции и укреплять уже сделанные завоевания.
Больше веры в свои собственные силы, больше понимания происходящего, больше классового сознания.
И социальные минусы войны будут скоро преодолены, и проблески будущего озарят своим могучим красным светом стонущий от страданий и купающийся в братской крови мир, который создан для борьбы за счастье всего человеческого рода, а не империалистических групп».
24 июля 1917 года состоялся новый торг между кадетами и меньшевистско-эсеровскими лидерами. В результате создано второе коалиционное временное правительство во главе с Керенским.
30 июля Урицкий пишет в журнале «Вперед»:
«Кризис власти „ликвидирован“. Точнее — сформирован кабинет. Надолго ли? Кадеты, несомненно, победили почти по всей линии: новое правительство будет тем, что оно, по мнению кадетов, должно быть: правительством „борьбы с анархией“ и „обороны от революции“.
Кадетские идеалы идут, конечно, дальше, но для „переходного момента“ они довольствуются тем максимумом, который при данных условиях можно было получить. Когда „порядок“ „упрочится“, можно будет заняться „реставрацией“ и от „обороны“ перейти к „наступлению“. Весь вопрос только в том, установится ли и когда „порядок“.
Началось, как известно, с разгрома большевистских организаций, но прихватили при этом и меньшевистские. И чем громче меньшевики и эсеры ругали большевиков, чем резче и отчетливее они отмежевывались от тех, которые остались верны пролетариату в самые тяжелые для него дни, тем смелее становились кадеты и темные силы, которые решили повернуть революцию вспять или задержать, по крайней мере, ее дальнейшее развитие. Кадеты убедились, что, невзирая ни на что, меньшевистско-эсеровские Советы власти не возьмут. А если так, то можно попробовать совсем устранить их с пути, если они вздумают мешать их борьбе за „порядок и оборону“.
Как в июньские дни во Франции в 1848 г., у нас объединились во имя „порядка“ против „анархии“, т. е. против пролетариата все партии, в том числе и органы, которым пролетариат хотел передать власть. Пролетариат стучался поэтому изо дня в день в двери Советов, предлагая им взять всю власть. Он демонстрировал свою волю в резолюциях и манифестациях, мирно и даже вооруженно. Если в трагические дни 3 и 5 июля одни демонстранты брали винтовки для самозащиты от провокаторских и контрреволюционных нападений, то другие хотели показать Совету, сколько штыков готовы его поддержать, если он возьмет наконец власть и ударит по руке, „замахнувшейся“ на Советы».
Еще 18 июня 1917 года Центральный Комитет РСДРП (б) принял постановление о созыве в Петрограде VI съезда партии. Подготовку к съезду вело Организационное бюро, в которое были включены и межрайонцы. Одним из активнейших членов бюро был и Моисей Соломонович Урицкий. Он же стал и делегатом съезда.
В ночь с 25 на 26 июля Моисей Соломонович почти не спал. Да и можно ли было спать в преддверии такого важпого события, как съезд большевиков, в котором ему, межрайонцу, впервые предстоит принять участие. Урицкий развернул газету «Рабочий и солдат». Вот оно, коротенькое сообщение о начале съезда в Петербурге 26 июля. Ни времени открытия, ни адреса, где должен начаться съезд, нет. Об этом коротком сообщении было немало споров в Организационном бюро. Однако большинство товарищей, в том числе и Урицкий, настояли именно на такой, урезанной, форме объявления. Сложившаяся в Петрограде к концу июля политическая обстановка не позволяет раскрыть ищейкам Временного правительства точное время и место съезда большевиков. Насколько правы были большевики, становилось ясно после беглого просмотра буржуазных газет Петрограда: реакционная пресса требовала расправы с участниками съезда.
Проглотив наскоро немудреный завтрак, Моисей Соломонович заторопился. Добраться с Васильевского острова на Выборгскую сторону, учитывая сегодняшнее положение с транспортом, далеко не просто. В начале Большого Сампсоньевского проспекта он сошел с трамвая и пошел пешком. По дороге то тут, то там группы рабочих. Не совсем умело делают вид, что вышли прогуляться. В такой-то ранний час! Урицкий знал, что съезд будет проходить под охраной рабочих Выборгской стороны. Вот это и были рабочие пикеты. Красногвардейской охраны не видно — она расставлена скрытно для круглосуточного наблюдения за обстановкой на близлежащих улицах.
Но вот и № 37. Здесь!
Несмотря на то что до открытия съезда оставалось еще около часа, в помещении было много народа. И сразу он ощутил чувство общности со многими делегатами. Вон у окна что-то горячо обсуждает с группой рабочих Володарский, заметив Урицкого, широко ему улыбнулся. Одним из первых встретился приехавший из Сибири Борис Шумяцкий. Он просто сгреб Моисея Соломоновича в охапку.
— Ты даже представить себе не можешь, как я рад именно здесь встретиться с тобой! — говорил оп, не выпуская товарища из объятий. — Наши сибиряки поручили мне тебя разыскать и доставить обратно в Сибирь. Заканчивать начатое в Красноярске.
— Погоди, так ты разберешь меня на составные части, нечего будет доставлять в Красноярск, — смеялся Урицкий, высвобождаясь из дружеских рук. — Пойдем в зал.
Точно в назначенное время один из старейших членов партии, Ольминский, тоже давний сибирский знакомый Урицкого, открыл съезд. В президиум были избраны Ломов, Ольминский, Свердлов, Сталин Юренев. Почетным председателем съезда избрали Владимира Ильича Ленина, делегаты приветствовали его имя дружными аплодисментами.
Все остро ощущали отсутствие на съезде Ленина. Это он должен был выступить с политическим отчетом ЦК, он должен был говорить о текущем моменте, о пересмотре партийной программы.
Урицкий отлично понимал, что ЦК поступил правильно, приняв решение об уходе Владимира Ильича в глубокое подполье. Ведь уже 22 июля было опубликовано сообщение «От прокурора Петроградской судебной палаты» о расследовании июльских событий и привлечении к суду «за измену и за организацию вооруженного восстания» Ленина и других большевиков. А в том, что контрреволюция мечтает расправиться с вождем партии большевиков, можно было не сомневаться.
Делегаты съезда выслушали доклад Сталина о политической деятельности ЦК, о курсе партии на социалистическую революцию. В заключительном слове Сталин разоблачил клеветнические обвинения, выдвинутые против Ленина.
Съезд поддержал решение ЦК о неявке Лештпа на суд, отметив, что в сложившихся условиях для пролетарского вождя нет элементарной безопасности, не говоря уж о том, что нет уверенности в беспристрастности суда.
Генерал Половцев, руководивший 4 июля расстрелом мирной демонстрации, писал впоследствии в своих воспоминаниях: «Офицер, отправляющийся в Териоки с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю ли я получить этого господина в цельном виде или в разобранном… Отвечаю с улыбкой, что арестованные очень часто делают попытки к побегу». Что это, как не прямое указание об убийстве вождя революции? И как были правы в своей предусмотрительности большевики!
Об организационной деятельности ЦК сделал доклад Свердлов.
Выступавшие в прениях по отчетным докладам делегаты рассказывали о деятельности своих организаций, вносили предложения по дальнейшей работе ЦК. Говорили деловито, интересно, конкретно. «Как это не похоже на меньшевиков, — думал Урицкий, — не имеющих, как правило, общего направления, решающих сплошь и рядом сугубо личные дела».
Стремясь помешать работе съезда, Временное правительство приняло специальное постановление, по которому военный министр и министр внутренних дел имели право «не допускать и закрывать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опасность в военном отношении или в отношении государственной безопасности». Поэтому делегатам приходилось собираться на очередные заседания в разных помещениях. Так, после восьмого заседания съезд продолжил работу в помещении Иарвского райкома партии и на Петергофском шоссе.
Урицкий, как, впрочем, и все делегаты-межрайонцы, с нетерпением ожидал, когда съезд начнет обсуждать вопрос объединения. По предложению докладчика Юренева съезд отверг лозунг единства с оппортунистами и проголосовал за вступление в ряды большевистской партии «межрайонной организации объединенных социал-демократов» в количестве около 4000 человек. В перерыве между заседаниями межрайонцы поздравляли друг друга. Урицкий, взволнованный до глубины души, крепко жал руки товарищей — Луначарского, Иоффе, Мануильского, Юренева, ставших большевиками.
Выборы в Центральный Комитет партии большевиков состоялись на закрытом заседании съезда. Обсуждались кандидатуры. Урицкий, услыхав свою фамилию, не поверил ушам своим. Его рекомендуют в состав Центрального Комитета? Но многие большевики хорошо знали Моисея Урицкого как профессионального революционера и опытного политического журналиста.
А 4 августа, на первом пленуме ЦК, Урицкий узнал, что он избран членом Центрального Комитета партии большевиков. Фамилия его прозвучала рядом с фамилиями Ленина, Свердлова, Дзержинского, Сталина, Стасовой и других видных большевистских деятелей. Елена Дмитриевна Стасова, первой встретившая его по возвращении из эмиграции, вручила Моисею Соломоновичу Урицкому партийный большевистский билет…
Моисей Соломонович подарил ей свою фотографию с надписью: «Е. Д. Стасовой от „молодого коммуниста“». Такую же фотографию он подарил и Якову Михайловичу Свердлову.
На этом же пленуме был избран узкий состав ЦК в количестве 11 человек. Членом узкого состава ЦК стал Моисей Соломонович Урицкий. Пленум делегировал Урицкого в Петербургский комитет партии большевиков с задачей войти в комиссию по выборам в Учредительное собрание для проведения там линии большевиков. А линия эта была прочерчена на съезде очень четко.
— Чувствуется во всем рука Ленина, — сказал Шумяцкий Урицкому, — везде и во всем. Владимир Ильич руководит съездом из своего подполья, в курсе всей его работы.
Урицкий вместе с подавляющим большинством съезда голосовал за предложение Ленина по отношению к лозунгу «Вся власть Советам». Действительно, можно ли этот лозунг считать главным, когда в Советах власть фактически перешла в руки контрреволюции и буржуазии? Сейчас другая задача — полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии, подготовка к завоеванию власти пролетариатом путем вооруженного восстания.
Весь еще под впечатлением съезда, Урицкий ехал в Москву. Там созывалось так называемое государственное совещание. Его устроители, судя по всему, стремились создать общероссийский контрреволюционный центр для открытого выступления против пролетарской революции.
— Ты — гласный Петроградской городской думы, и попасть на это совещание тебе не представляет особого труда. Для нас это очень важно, чтобы довести его смысл до широких рабочих масс, лучше тебя никто этого не сделает, — напутствовал Моисея Соломоновича два дня назад Феликс Эдмундович Дзержинский, с которым Урицкий как-то особенно близко сошелся по работе в узком составе ЦК.
Обстановка совещания «превзошла» все ожидания Урицкого, она его просто поразила. Казалось, что колесо истории бешено крутилось в обратном направлении. Повсюду на первых местах — царские генералы, давно снявшие со своих мундиров красные банты, представители буржуазии.
На совещании выступали верховный главнокомандующий Корнилов, казачий атаман Каледин, лидер кадетов Милюков… Без всяких обиняков вояки требовали ликвидации Советов, разгона солдатских комитетов, восстановления в армии старорежимной дисциплины, введения на фронте и в тылу смертной казни, военизации транспорта и промышленности. Из двух деятелей контрреволюции, Керенского и Корнилова, стремящихся к личной диктатуре, буржуазия остановила свой выбор на Корнилове.
С контрреволюционной военщиной все было ясно: это программа установления открытой военной диктатуры, программа удушения революции, продиктованная империалистами России и стран Антанты.
Вернувшись 16 августа в Петроград, Урицкий написал и напечатал в журнале «Вперед», ставшем органом Центрального Комитета партии большевиков, статью, озаглавив ее «Илоты[4] правительства».
«Московское совещание задумано было в трагические июльские дни, когда начавшийся еще в мае откол мелкой буржуазии от революционного пролетариата закончился объявлением ему войны. Мелкобуржуазные политики направили свои взоры в сторону „живых сил“ контрреволюции и решили ознаменовать свой новый „священный союз“ каким-либо торжественным актом там, где мазались на царство все коршуны России.
Контрреволюционеры выдвинули поэтому лозунг „независимости правительства от Советов“. Освобожденное от контроля общественных организаций, Временное правительство должно было превратиться в прямое орудие классовых и контрреволюционных целей помещичьих и крупнобуржуазных групп, опирающихся на империалистические элементы союзных держав. Этого не могли не понимать эсеры и меньшевики. Тем не менее они эти условия приняли. Правительство создалось в виде новой коалиции. Ввело смертную казнь в армии, восстановило старые порядки, разгромило армейские организации, преследуя революционно настроенные части. Здесь был торжественно закреплен союз с контрреволюционными элементами.
„Я и Временное правительство“, ни разу не упомянув в своей речи, продолжавшейся более полутора часов, Советов, Керенский говорил то шепотом, то криком, кланялся направо и угрожал налево…
Хозяева положения не стеснялись в своих выражениях. Пугая Керенского и его друзей „белым генералом“, какие-то элементы вызвали казачий полк с фронта. Генералы требовали от правительства введения смертной казни в тылу, восстановления царской дисциплины в армии, ограничения деятельности армейских комитетов исключительно хозяйственными вопросами.
Каледин развил контрреволюционную политическую программу реакционной части казачества и торгово-промышленных и помещичьих групп.
Эта программа дополняется и развивается декларациями и речами Гучкова, Шульгина, Родичева, Маклинова и др. „Война до полной победы“, мир с аннексиями, и контрибуциями, удаление „пораженцев“, хотя бы только-бывших, из правительства, передача всей власти буржуазии и помещикам, неумолимая расправа с рабочими, ограничение размеров заработной платы, усиление косвенных налогов и т. д. и т. д.
Что же ответили меньшевики и эсеры на заявления правительства и контрреволюционеров?
Когда Керенский после речи Каледина заявил, что „не подобает в настоящем собрании кому бы то ни было обращаться с требованиями к правительству настоящего состава“, Пуришкевич крикнул: „Мы не илоты правительства“. Они не илоты и открыто заявляют Керенскому, что он больше не их кумир, что у них на примете уже другой человек, который будет говорить и действовать не „как Федор Иоаннович, а как Борис Годунов“.
Не то эсеры и меньшевики. Они — илоты правительства. Пусть правительство уже давно порвало с демократией, они обязались ему служить верой и правдой и поддерживать до конца, и устами эсеров и меньшевиком сказали „Согласны“. И Церетели жмет протянутую ему руку Бубликовым.
Однако московский пролетариат не так оценил замыслы контрреволюционеров и встретил совещание забастовкой, объявленной вопреки постановлению эсеро-меньшевистского большинства Советов. Этой забастовкой он выразил должное отношение как к совещанию, так и к эсерам и меньшевикам. Участники совещания убедились, что вулкан пролетарского возмущения выбрасывает свою лаву не в одном только Петрограде. Провинция объединяется со столицей в одном общем чувстве протеста и жажды борьбы с контрреволюцией.
Контрреволюционеры одержали еще одну победу над эсерами и меньшевиками, которые не хотели и не могли предупредить созыва совещания. Отныне пролетариат и крестьянство знают, что эсеры и меньшевики только илоты правительства, независимо от того, какую программу оно проводит и чьи интересы отстаивает.
Революционный же пролетариат сказал свое слово, что „крови и железа“ не боятся те, чья кровь проливается, как вода, и кто железо превращает в сталь. Пролетариат не забудет слов о „крови и железе“, не забудет он и „рукопожатия“ бывшего министра Церетели и кандидата в министры Бубликова и сделает необходимые выводы. Он будет продолжать свою классовую борьбу за дальнейшее развитие революции, за власть вопреки илотам правительства и контрреволюции».
19 августа состоялось заседание узкого состава ЦК, на котором присутствовали Сталин, Смилга, Дзержинский, Сокольников, Муранов, Милютин, Свердлов, Стасова и Урицкий. На этом заседании была избрана комиссия по выборам в Учредительное собрание в составе Урицкого, Сокольникова и Сталина. И после сообщения о московском совещании, сделанного Урицким, принята резолюция, опубликованная в № 14 «Рабочего и солдата»:
«Государственная власть в России целиком переходит к настоящий момент в руки контрреволюционной империалистической буржуазии, при явной поддержке мелкобуржуазными партиями эсеров и меньшевиков. Политика разжигания и затягивания войны, отказ дать землю крестьянам, отобрание прав у солдат, восстановление смертной казни, насилие над Финляндией и Украиной, наконец, яростный поход против наиболее революционной части пролетариата — с. д. интернационалистов — таковы наиболее яркие проявления господства контрреволюционной политики…
Таким образом, московское совещание, прикрываемое и поддерживаемое мелкобуржуазными партиями — эсерами и меньшевиками — на деле является заговором против революции, против народа».
Партия большевиков призвала пролетариат Петрограда к защите города от корниловского мятежа — прямого следствия совещания контрреволюционеров.
Урицкий, как и все члены ЦК, днем и ночью проводит митинги среди рабочих, солдат и матросов.
В октябре 1917 года он выехал в Новгород на первую губернскую партийную конференцию. В здании Народного дома собрались большевики Новгородской губернии, большинство которых составляли солдаты. Моисей Соломонович выступил с докладом о текущем моменте. Он неоднократно бывал в Новгородской губернии и хорошо знал настроение солдат. И конференция постановила создать постоянную губернскую организацию. Затем Урицкий выехал в село на место дислокации 175-го пехотного запасного полка и выступил перед солдатами Новгородского гарнизона, которые в большинстве пошли за большевиками.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Владимиру Ильичу не спится. За окнами маленькой комнатки в Выборге, в которой он живет в одиночестве, еще темень. И на душе тревожно. На днях он послал письмо Питерской городской конференции большевиков для прочтения его на закрытом заседании — «Вывод ясен», и никакого ответа. А время уходит, мчится со смертельной скоростью. Революция погибнет, если правительство Керенского не будет свергнуто пролетариями и солдатами в ближайшем будущем. Вопрос о восстании ставится на очередь. И нужно, совершенно необходимо самому быть в Петрограде. С очередной почтой отправлено еще одно письмо Надежде Константиновне, в нем записка для Рахьи, связного ЦК, чтобы немедленно приехал в Выборг. Пора возвращаться в Петроград, пора…
Владимир Ильич посмотрел на часы — без четверти шесть. Как поздно в октябре приходит рассвет! Оторвал листок календаря — 9 октября. Понял, что все равно не уснуть, оделся, умылся, проглотил вчерашний бутерброд. По привычке сел к столу, тут же увлекся работой и совершенно не заметил, как пролетело полдня. Послышался условный стук в дверь.
— Да, да, войдите! — отозвался Ленин.
Дверь отворилась, и на пороге показался Рахья. Долгожданный Рахья.
— Здравствуйте, Константин Петрович, — обратился он к Ленину, называя его конспиративным именем. — Собирайтесь! Мы с вами едем в Петроград.
Немногословен товарищ Рахья, но ого речь лучше всякой музыки.
— Давно жду вас, дорогой Рахья, очень давно. Едем, и немедленно!
Сборы Ленина короткие, все имущество поместилось в маленький чемодан, привезенный Рахьей. Тот спрятал на себе рукописи последних писем и брошюр Ленина. Затем началось гримирование. Парик, черная шляпа с черной лентой, черная суконная рубашка с белым подворотничком, пальто, лицо гладко выбрито. Финский пастор, да и только.
Попрощавшись с хозяевами, Владимир Ильич и Ойно Рахья отправились на вокзал и в 2 часа 35 минут выехали в Райволу. До прихода поезда, который поведет в Петроград машинист Гуго Ялава, несколько часов. А Ленин уже всеми помыслами в Петрограде. Но вот наконец и поезд. Поздним вечером Ленин сходит на станции Удельная. Он в городе.
Рахья предупреждает Владимира Ильича о том, что его должен встретить Эмиль Кальске.
На квартире Кальске Ленина ждал Зиновьев. Эта встреча не радовала Владимира Ильича, но не в его правилах уклоняться от серьезного разговора. Около часа пробыли они наедине, а когда вышли из комнаты, Ленин решительно, видимо продолжая спор, говорил о необходимости немедленно созвать заседание ЦК, чтобы поставить на повестку дня вопрос о восстании.
Зиновьев говорил что-то насчет Учредительного собрания.
— Нет, вы глубоко неправы. Я буду отстаивать свою точку зрения, — твердо произнес Ленин и повернулся к своему спутнику. — Пойдемте, товарищ Рахья.
К двум часам ночи они добираются домой к Рахье в его квартиру в Певческом переулке и укладываются спать.
— Значит, так, товарищ Рахья, — еле дождавшись, когда проснется усталый Эйно, говорит Ленин, — немедленно найдите Свердлова или Сталина, я хотел бы ветретиться с ними в надежном месте. Передайте Свердлову, что я требую созыва заседания ЦК сегодня же. Пусть оповестят об этом всех членов Центрального Комитета.
Яков Михайлович жил в это время на Фурштадтской улице. Дома Рахья его уже не застал. Скорее в Смольный, Ильич ждет, беспокоится.
Свердлов очень обрадовался, услышав от Рахьи, что Ленин благополучно прибыл в Петроград. Направив с Рахьей к Владимиру Ильичу Сталина, Свердлов тут же принялся искать надежное место для заседания ЦК. В учреждениях нельзя: Ленин на нелегальном положении, его могут узнать, и может случиться катастрофа. Нужна надежная частная квартира, о которой не подозревали бы враги. А что, если?.. Он зашел в издательство ЦК «Прибой», устроившееся в одном из оборудованных кабинетов в Смольном, где за столом вычитывала очередную заметку темноволосая женщина с большими черными глазами — Галина Константиновна Суханова-Флаксерман.
Про семью Сухановых острословы говорили: «ни бе, ни ме», намекая довольно недвусмысленно на то, что Галина Константиновна — большевичка, а ее муж, Суханов Николай Николаевич, юношей ходивший в толстовцах, затем примкнувший к эсерам, теперь был активным меньшевиком. Услыхав шутку, Александра Михайловна Коллонтай, смеясь, переиначила ее: «По-моему, и бе, и ме». Свердлов был у Сухановых на набережной реки Карповки, в доме № 32/1. Квартира была удобная во всех отношениях: имела черный ход, была не в центре, а главное — у всех властей — и царских, и у Временного правительства — Суханов числился вполне благонадежным, и квартира не была на подозрении полиции.
— Галина Константиновна, где сегодня вечером будет ваш муж? — спросил Свердлов.
— Он сегодня выпускает газету «Новая жизнь», дома будет только завтра.
— Вот и отлично, — обрадовался Свердлов.
— Зачем вам мой муж?
— Не он, а вы, точнее, ваша квартира. А если всерьез, нам надо провести очень важное и секретное заседание ЦК. Вот я и подумал, что в данных условиях подходит ваша квартира.
— Это вполне возможно, даже прекрасно, — сказала Галина Константиновна. — Только надо кое-что подготовить.
— Конечно. Но помните: осторожность и еще раз осторожность.
Урицкий шел на набережную реки Карповки, предупрежденный Свердловым о встрече с Лениным. Было предвкушение чего-то огромного, что должно в корне изменить всю обстановку. Шел по малознакомому району, внимательно поглядывая по сторонам: сегодня конспирация должна быть многократно усилена, ведь речь идет о безопасности Владимира Ильича Ленина. Правда, природа словно задумала облегчить задачу членам ЦК: сплошной туман застилал улицы и переулки, вставал белесой стеной перед человеком, хотелось даже руки вперед вытянуть, чтобы не натолкнуться на препятствия. Ни одному самому глазастому филеру в таком тумане не под силу выследить свою жертву.
У дома № 32/1 Моисей Соломонович по старой привычке, прежде чем подняться в квартиру, заглянул во двор, но, как и на улице, ничего подозрительного не заметил.
На условный стук открыла Галина Константиновна, приветливо поздоровалась и провела в маленькую комнату рядом с кабинетом. В комнате всего одно окно, завешанное шерстяным одеялом. За столом Свердлов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Коллонтай и еще трое незнакомых Урицкому людей — двое мужчин и женщина.
— Знакомьтесь, наши московские товарищи: Ломов, Сокольников и Яковлева, — заметив вопросительный взгляд Урицкого, представил москвичей Свердлов.
Вскоре Галина Константиновна встретила Каменева и Зиновьева, которые, очевидно, нарушив предупреждение Свердлова приходить по одному, так и шагали по туманным улицам вдвоем. «А может, прикатили на извозчике», — почему-то подумал Урицкий. Потом прибыл Троцкий и вскоре за ним еще два не известных Моисею Соломоновичу товарища. Один, похоже, финн, второй — рабочий, наверно, прямо с завода, в старом пиджаке, темной косоворотке, перехваченной тонким ремешком. Стрижка тоже «пролетарская» — сзади в кружок, на лбу челка. Зиновьев и Каменев, поднявшись, поспешили к нему навстречу, протягивая приветственно руки. Бубнов, около которого остановился рабочий, посмотрел на него, не скрывая удивления.
— Ай-ай-ай, батенька, весьма и весьма невежливо и непохвально с вашей стороны не подать руки представителю революционного пролетариата. Давайте знакомиться, Иванов Константин Петрович. — Этот голос нельзя спутать ни с чьим иным. — Возгордились, товарищ Химик, непохвально…
— Здравствуйте, Владимир Ильич, — обрадовался Бубнов. Все поднялись со своих мест, приветствуя Ленина.
— Итак, все, кажется, в сборе? — быстрым взглядом окинув присутствующих, спросил Ленин. — Начнем, товарищи.
— Оглашаю повестку дня, — сказал Свердлов, избранный председателем собрания. — Румынский фронт. Литовцы, Минск и Северный фронт. Текущий момент. Областной съезд. Вывод войск. Возражении нет?
Урицкий, присутствуя на таком решающем совещании большевиков, все время мысленно сравнивал этот стиль обсуждения важнейших вопросов с пристрастием меньшевиков к расплывчатости решений, к длительным словопрениям.
Большевики Северного фронта предупреждали о «темной истории с отводом войск в глубь страны», который затевает Временное правительство. Представители Минска сообщали о том, что готовится новое наступление корниловцев, но его постараются не допустить: будет захвачен местный штаб и обнародованы документы, обвиняющие командование. Запрашивали, есть ли необходимость посылки в Петроград революционного корпуса.
Завершая повестку дня, члены ЦК подошли к обсуждению текущего момента. Слово предоставляется Владимиру Ильичу.
Урицкий боится упустить хотя бы одно слово, а Каменев, все время переговаривающийся с Зиновьевым, мешает. Вся речь Ленина — призыв к восстанию. Если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами, — говорит Ленин, — то совершенно недопустимо равнодушие к вопросу о восстании. Уже давно надо было обратить внимание на техническую сторону вопроса. Теперь же, хотя время значительно упущено, вопрос все же стоит остро, час решительного выступления близок. Международное положение требует нашей инициативы. Планы Временного правительства сдать Эстляндию немцам вплоть до Нарвы, а то и сам Петроград не позволяют медлить. Для немедленного восстания благоприятны и политические условия: большинство теперь за нами. И в аграрном движении лозунг перехода всей земли стал общим лозунгом крестьян. Однако некоторые большевики вслед за оборонцами считают систематическую подготовку восстания чем-то вроде политического греха. Ждать до Учредительного собрания, как рекомендует Троцкий, бессмысленно. Для начала надо воспользоваться съездом Советов Северной области и предложением большевиков Минска.
После Владимира Ильича выступил Ломов. Москвичи поддерживают предложения Ленина, изложенные в письме от 1 октября, но Московский комитет считает, что инициативу восстания должен взять на себя Петроград.
После Ломова выступил Урицкий. Он считал своим долгом высказать партии свои соображения. Мы слабы не только в технической части, о которой беспокоится Владимир Ильич, говорил Урицкий. Мы вносим массу резолюций. Действий решительно никаких. Петросовет дезорганизован. На какие силы мы опираемся? Сорок тысяч винтовок есть в Петрограде у рабочих, но это не решает дело, это — ничто. Гарнизон после июльских дней не может внушать больше надежд. Если держать курс на восстание, надо решиться на действия определенные.
Свердлов рассказал о росте сил партии по всей страие и поставил на обсуждение резолюцию, написанную Владимиром Ильичей, в которой говорилось, что международные, политические и военные обстоятельства ставят на очередь дня вооруженное восстание.
«Признавая, таким образом, — подчеркивалось в этом документе, — что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.)».
За резолюцию высказались десять членов ЦК. Против — двое, Зиновьев и Каменев. Даже Троцкий, не вымолвивший на этом заседании ни слова, проголосовал с большинством.
«Только теперь не наделать ошибок, — думал Урицкий, вспоминая эпизоды вооруженной борьбы рабочих с силами монархии в далекой Сибири. — Ленин прав, как всегда: нужно за самый короткий срок подготовить восстание технически, обязательно иметь превосходство над войсками Временного правительства, ну а рабочие к захвату власти в Петрограде готовы».
Заседание ЦК закончилось под утро 11 октября.
Расходились но одному. Перед выходом на улицу Бубнов прошел в кабинет, чтобы из окна проглядеть набережную. Урицкий решил заглянуть ио двор из окна кухни. Войдя туда, ои сделал быстрый шаг назад: у окца стоял юнкер в полном обмундировании петергофской школы прапорщиков. А в комнате Ленин!..
— Моисей Соломонович, это я! — юнкер шагнул в полосу света, и Урицкий узнал в юнкере Юру Флаксермана, молодого журналиста, брата Галины Константиновны. От сердца отлегло.
— Ну, брат, напугал ты меня, — сказал Урицкий. — Что ты здесь делаешь?
— Охраняю заседание ЦК партии большевиков, — по-военному доложил Юра. — Все? Заседание кончилось? Тогда я на улицу.
Юра прошелся быстрым шагом по набережной, вернулся под окно и кивнул головой — все спокойно.
Урицкий дождался, пока первым вышел из дома Владимир Ильич в сопровождении Рахьи, затем заторопился сам. Надо идти в Смольный.
Оставшись в меньшинстве, Зиновьев и Каменев решили апеллировать в письмах к петроградским организациям. В них они доказывали преждевременность вооруженного восстания. Чтобы подтвердить решение ЦК от 10 октября и отвергнуть доводы Зиновьева и Каменева, было принято решение провести расширенное заседание ЦК. Вот только где собрать тайно от ищеек Временного правительства столько людей?
Михаил Иванович Калинин, который был избран председателем управы Лесновско-Удельнинской районной думы, предложил собраться прямо в помещении думы, в отдельном двухэтажном деревянном домике на Болотной улице в Удельной. Поздним вечером на это заседание собралось более 25 товарищей. Радостно встретили они Владимира Ильича Ленина.
Собрание открыл Свердлов и тут же предоставил слово Ленину. Владимир Ильич сделал объективный анализ политического положения, убедительно разъяснил причины, учитывая которые ЦК принял решение о вооруженном восстании в ближайшие дни, и прочитал резолюцию, принятую Центральным Комитетом на прошлом заседании, 10 октября.
Зиновьев и Каменев занимали прежнюю позицию, призывая к «оборонительно-выжидательной тактике». Однако большинство собравшихся решительно поддержали Ленина, подтверждая конкретными фактами правильность ленинской оценки обстановки: «либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства».
Ленин предложил резолюцию:
«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».
За резолюцию Ленина проголосовало 19 человек, против — двое, четверо, не сумевшие аргументировать свою пессимистическую точку зрения, — воздержались.
Затем ЦК заседал в узком составе и принял решение организовать Военно-революционпьтй центр, который должен был войти в Военно-революционный комитет при Петроградском Совете, — в составе Свердлова, Сталина, Бубнова, Урицкого, Дзержинского. Заседание ЦК окончилось в шесть часов утра 16 октября. Вопрос о восстании был решен окончательно.
И конечно же Урицкий и другие члены Военно-революционного центра по непосредственному руководству восстанием прямо с заседания направились в Смольный.
Исполком Петроградского Совета па закрытом заседании принял Положение о Военно-революционном комитете (ВРК). ВРК поручалось установить количество боевых сил и вспомогательных средств, необходимых для обороны Петрограда и не подлежащих выводу из города, провести учет и регистрацию личного состава гарнизона Петрограда и окрестностей, предметов снаряжения, продовольствия, разработать план обороны города.
Главная задача Петроградского ВРК — организации которая создавалась как легальный центр для объединения сил революции, — состояла в практической подготовке их к вооруженному восстанию.
Деятельность Военно-революционного комитета проходила под непосредственным руководством ЦК РСДРП (б) во главе с Лениным. Кроме избранного на заседании ЦК 16 октября Военно-революционного центра в составе Бубнова, Дзержинского, Свердлова, Сталина и Урицкого в ВРК входили представители Петербургского комитета, Военной организации, Центробалта, Кронштадтского Совета, железнодорожного и почтово-телеграфного союзов и других организаций.
Солдаты и матросы Петроградского гарнизона приветствовали создание ВРК. На собрании полковых комитетов было принято решение:
«Приветствуя образование Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестностей обещает ВРК полную поддержку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее связать фронт с тылом в интересах революции».
18 октября Каменев от своего имени и от имени Зиновьева поместил интервью в непартийной газете «Новая жизнь», в котором заявил об их несогласии с решением ЦК о вооруженном восстании, тем самым выдав контрреволюционному Временному правительству решение Центрального Комитета РСДРП (б) о восстании. Узнав об этом предательстве, Владимир Ильич был потрясен. В тот же день он налисал «Письмо к членам партии большевиков», в котором заклеймил Каменева и Зиновьева как изменников.
«Я бы считал позором для себя, — писал Ленин, — если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии».
19 октября Временное правительство попыталось нанести решающий удар по партии большевиков: оно разослало секретную телеграмму всем комиссарам Петроградской городской милиции о проверке всех прибывших в Петроград за последнее время с целью обнаружения и задержания В. И. Ульянова (Ленина), а 20 октября петроградские газеты напечатали распоряжение министра юстиции Малянтовича об аресте Ленина. Прокурор Петроградской судебной палаты обратился к военным властям за содействием в розыске и задержании Владимира Ильича Ленина.
24 октября Временное правительство приняло решение арестовать членов Военно-революционного комитета и закрыть большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат». Для этого были вызваны из окрестностей Петрограда юнкера пригородных училищ, ударницы Петроградского женского батальона и приведена из Павловска артиллерия. Юнкера были размещены в Зимнем дворце. На площади стали английские броневики с английской прислугой.
Одновременно правительство, желая обескровить революцию, ослабить гарнизон, сделало попытку отправить на фронт революционно настроенных солдат.
В Смольном срочно собрался Центральный Комитет большевистской партии, который постановил принять меры по охране Смольного и вновь открыть газеты. Военно-революционному комитету поручалось привести в боевую готовность войска гарнизона и Красную гвардию.
Начиная с 19 октября Подвойский, Свердлов, Бубнов и Урицкий, выполняя указания Ленина, срочно стали готовить войска к скорому вооруженному восстанию. Во все воинские части Петрограда были направлены военные комиссары, задачей которых было, опираясь на большевистские ячейки, сместить комиссаров Временного правительства, стать практически во главе воинских частей и обеспечить переход власти в Петроградском гарнизоне в руки Военно-революционного комитета. К ночи 22 октября комиссары ВРК были уже во всех полках и на важнейших предприятиях Петрограда.
Военно-революционный комитет опубликовал воззвание, обращенное к населению Петрограда — «К сведению рабочих, солдат и всех граждан Петрограда объявляем:
В интересах защиты революции и ее завоеваний от покушений со стороны контрреволюции нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждении их уполномоченными нами комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны. Противодействие комиссарам есть противодействие Совету рабочих и солдатских депутатов. Советом приняты все меры к охранению революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. Все граждане приглашаются оказывать всемерную поддержку нашим комиссарам. В случае возникновения беспорядков, им надлежит обращаться к комиссарам Военно-революционного комитета в ближайшую воинскую часть.
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов».
Постановление было предъявлено командующему войсками округа, но он его не принял, чем практически порвал с революционным гарнизоном и впрямую стал на сторону контрреволюции. Но это уже был штаб без армии. Гарнизон Петрограда встречал комиссаров ВРК с огромным подъемом. Переизбранные полковые комитеты один за другим выносили решения о полной поддержке большевиков.
Но были воинские части, вызывающие у ВРК большое беспокойство. В частности, это относилось к Преображенскому лейб-гвардии полку, расквартированному на Миллионной улице, рядом с Зимним дворцом. В докладе на заседании Петроградского Совета 23 октября Антонов-Овсеенко назвал Преображенский полк в числе тех полков гарнизона, на которые Керенский и Краснов возлагают свои надежды.
Моисей Соломонович рекомендовал ВРК назначить в этот полк комиссаром своего старого товарища по эмиграции Григория Чудновского. Григорий был не только рядовым преображенцем, но и председателем комитета фронтового Преображенского полка. Однополчане-фронтовики, приезжавшие в Петроград, рассказывали преображенцам о Чудновском как о человеке большой храбрости, очень популярном среди фронтовиков.
И Чудновский блестяще справился со своей сложнейшей задачей. Он выступил 24 октября на заседании полкового комитета. Затем, выслушав членов комитета, он сделал вывод, что на офицеров полка надеяться нельзя. Тогда Чудновский, используя свои полномочия комиссара полка, вечером 24 октября начал рассылать караулы преображенцев по различным пунктам. Так, когда Временное правительство наложило арест на типографию, в которой печаталась газета «Рабочий путь», Чудновский послал туда охрану из двух взводов Преображенского полка, выведя солдат из непосредственного подчинения офицерам. К вечеру 25 октября казармы почти опустели. Но поверившие комиссару солдаты несли в эти дни не только караульную службу. Часть преображенцов Чудновский смог направить даже на Дворцовую площадь, где они заняли позиции напротив Зимнего дворца рядом с революционными воинскими частями.
Временное правительство перешло в решительное наступление. Штаб округа издал приказ:
«1) Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах впредь до получения приказов из штаба округа. Всякие самостоятельные выступления запрещаю. Все выступающие вопреки приказу с оружием на улицу будут преданы суду за вооруженный мятеж…
Ввиду незаконных действий представителей Петроградского Совета, командированных в качестве комиссаров названным Советом к частям, учреждениям и заведениям военного ведомства, приказываю:
1) Всех комиссаров Петроградского Совета, впредь до утверждения их правительственным комиссаром Петроградского военного округа, отстранить…»
Экстренное заседание ВРК поручило Кронштадтскому исполкому дать радио всем о подготовке нападения Временного правительства на Совет. Обратиться ко всем полковым, ротным и командным комитетам, к населению Петрограда с разъяснением обстановки, с призывом поддержать Петроградский Совет.
Общее соотношение сил было в пользу большевиков. 24 октября ВРК разработал последние мероприятия плана восстания. Завершающим звеном плана было окружение Зимнего дворца и штурм его. Для оперативного руководства войсками и рабочими отрядами на местах выделил тройку в составе Подвойского, Антонова-Овсеенко и Чудновского.
В ночь с 24 на 25 октября в Смольный пришел Ленин, и события начали развиваться молниеносно. Загудел, заволновался Смольный. Поток людей, лязг оружия. На улице горят костры, у которых греются красногвардейцы. У входа броневики, пулеметы.
В эту ночь на 25 октября началось победное шествие восстания. Боевой деятельностью восставших рабочих руководит сам Ленин и его «стальная пятерка» в составе: Свердлова, Сталина, Бубнова, Урицкого и Дзержинского.
В своей речи об Октябрьской революции Ленин говорил:
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.
Какое значение имеет эта рабоче-крестьянская революция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций.
Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма».
Все члены «стальной пятерки» были революционерами, прошедшими долгий и трудный путь борьбы с самодержавием, познавшими царские тюрьмы и ссылки. Владимир Ильич Ленин лично определял каждому из пятерки место в руководстве восстанием.
Когда Урицкий узнал, какое место отводит ему Ленин в подготовке и осуществлении восстания, у него не было сомнений, справится ли он с такой ответственной задачей. Раз это нужно пролетарской революции — значит, сможет, значит, справится.
У каждого человека есть свой звездный час. Наступил он и для Моисея Соломоновича Урицкого.
Вот как пишет об этих днях и роли Урицкого в руководстве восстанием Луначарский:
«Далеко не всем известна поистине исполинская роль Военно-революционного комитета в Петрограде, начиная приблизительно с 20 октября по половину ноября. Кульминационным пунктом этой сверхчеловеческой организационной работы были дни и ночи от 24-го по конец месяца. Все эти дни и ночи Моисей Соломонович не спал. Вокруг него была горсть людей тоже большой силы и выносливости, но они утомлялись, сменялись, несли работу частичную. Урицкий, с красными от бессонницы глазами, но все такой жe спокойный и улыбающийся, оставался на посту…
Я смотрел тогда нa деятельность Моисея Соломоновича, как на настоящее чудо работоспособности, самообладания и сообразительности. Я и теперь продолжаю считать эту страницу его жизни своего рода чудом. Но страница эта не была последней. И даже ее исключительная яркость не затмевает страниц последующих.
У всякого человека есть особый запас сил, который появляется в критический момент. Так и эти люди работали, не смыкая глаз, как титаны, и надо заметить, что никто не работал так, как Урицкий. В самые ужасные моменты, когда казалось, что все летит к черту, также и в самые радостные, когда казалось, что победа уже в наших$7
А вот как позже опишет эти дни Мануильский:
«В то время, как М. М. Володарский объезжал полки, зажигая своей вдохновенной, пламенной речью веру в колеблющихся людях, в то время, как Г. И. Чудновский вел эти полки на штурм Зимнего дворца, Урицкий в Военно-революционном комитете… с изможденным лицом, с глубоко впавшими главами, отдавал в памятную ночь короткие приказания…
Мне вспоминается наша короткая встреча утром в буфете Смольного института, когда первая военная операция занятия телефонной станции и главного штаба была закончена.
Он вошел своей медленной раскачивающейся походкой с видом человека уставшего, но хорошо выполнившего порученное ему дело. Он удивительно напоминал в эту минуту врача, произведшего тяжелую и опасную для жизни больного операцию. Два чувства боролись на его лице: одно — спокойного удовлетворенного сознания, другое — некоторой тревоги, поскольку не миновала опасность.
А опасность, действительно, в эту минуту не миновала… Петроград стоял накануне судорожной вспышки юнкерского восстания, провоцированного теми самыми политическими деятелями, которые при помощи иноземных штыков безуспешно пытались подавить рабочих и крестьян России. В Москве лишь закипал бой, принявший впоследствии такие ожесточенные кровавые формы. Победоносная Октябрьская революция проявила слишком много великодушия к своим врагам. Она амнистировала и Краснова под Гатчиной, и Руднева в Москве, и Авксентьева и Гоца в Петрограде, она простила тем самым людям, которые впоследствии подняли мятеж против нее и вооружили преступную руку, вырвавшую у нас Урицкого.
Но это потом. Теперь же практически за одни сутки свершилось наконец то, к чему уже многие годы шел русский пролетариат. Свершилась пролетарская революция».
По прибытии в Смольный Ленин сразу вошел в кабинет, где расположился Военно-революционный цента ВРК.
— Все готово, — встретил Ленина Свердлов.
— Приступайте, — коротко распорядился Владимир Ильич.
Урицкий снял телефонную трубку. Откликаются верные Военно-революционному комитету воинские подразделения. Никаких записок, никакой бумаги. Все в голове. Скоро начали поступать первые сообщения: войска захватили вокзалы — ни один поезд не выйдет из Петрограда, ни одно воинское подразделение, поддерживающее Временное правительство, не выгрузится из эшелонов на перроны петроградских вокзалов.
Рядом с Урицким Дзержинский. Он весь вдохновение, весь порыв. На его долю выпало командовать подавлением вспыхивающих то тут, то там мятежей. Бубнов контролирует железные дороги.
Заняты почта, телеграф, электростанции, банки. На мостах произошли стычки с караулами Временного правительства, но сопротивление быстро подавлено. Все мосты в руках матросов и рабочих вооруженных отрядов.
В течение ночи все опорные и решающие пункты города в руках ВРК.
— Владимир Ильич торопит взятие Зимнего дворца, — говорит Сталин.
Временное правительство под охраной юнкеров и женского батальона укрылось в Зимнем дворце.
Урицкий в соответствии с разработанным ВРК планом направляет к дворцу воинские части, рабочие отряды. Нужно окружить его и предложить Временному правительству сдаться без боя, не нужно лишнего пролития крови. Силы, обороняющие Зимний дворец, ВРК известны, известны и места расположения огневых точек. Вчера Урицкий совместно со Свердловым, Дзержинским и Бонч-Бруевичем разработали и осуществили уникальную разведывательную операцию: произвели военную разведку под видом съемок кинохроники. Идея эта принадлежит Якову Михайловичу Свердлову. Он хорошо знал солдата-большевика Кобозева, который до армии работал кинооператором. Солдат рассказал Свердлову, что откомандирован из части ставленником Керенского поручиком Дементьевым в Скобелевский просветительный комитет военного министерства для фотокиносъемок издательского отдела и киножурнала «Свободная Россия». Его-то и пригласил Свердлов в ВРК. Кобозев показал Свердлову удостоверение, подписанное поручиком Дементьевым.
— А ведь с этим удостоверением можно пройти в Зимний и кое-что там разузнать, — заглянув в документ, сказал Дзержинский.
— Конечно, а какие разведывательные данные нужны? — спросил Кобозев.
— Оборонительные сооружения, размещение огневых точек, ну и, естественно, настроение обороняющихся частей, — сразу загоревшийся идеей такого дерзкого проникновения в самую гущу вражеских рядов, быстро перечислил Дзержинский. Урицкий спокойно начертил на листке бумаги контуры Дворцовой площади и Зимнего дворца.
— Артиллерию наносите в виде палочек, броневики — кружками, пулеметные гнезда — просто точками, — по многолетней привычке к конспирации зашифровывал он будущее донесение.
Свердлов, напутствуя солдата на героический рейд, крепко пожал ему руку.
Выйдя из Смольного, Кобозев отправился на квартиру кинооператора Модзелевского и уверил его в том, что работа будет выполнена для киножурнала Временного правительства. Оператор бодро подставил свои плечи под тяжелую аппаратуру.
По счастью, скоро попался свободный извозчик, которого удалось нанять до конца дня.
На Невском проспекте операторов остановил конный патруль.
— Предъявите документы, — грозно потребовал казачий офицер.
— Пожалуйста, господин офицер, — Кобозев протянул мандат Скобелевского просветительного комитета.
— Куда направляетесь?
— В Зимний дворец, в Главный штаб, по съемочным делам.
— Значит, синематографщики?
— Так точно, ваше благородие.
— Можете следовать по назначению, — с явным удовольствием приняв «благородие», разрешил офицер.
У Зимнего юнкера разбирали штабеля дров, заготовленных для отопления дворца, и таскали поленья к воротам дворца, возводя оборонительное сооружение. Увидев операторов, слезающих с извозчика и устанавливающих на штатив киноаппаратуру, юнкера бросили работу и столпились, позируя у места съемок. К ним тут же присоединились девицы из женского ударного батальона: всем хотелось попасть в кадр.
— Что здесь происходит?
Кобозев сразу узнал командующего Петроградским воеиным округом полковника Полковникова.
Пояснив, Кобозев предложил полковнику запечатлеть и его, добавив:
— Увидите снятое в экстренном выпуске киножурнала «Свободная Россия». Что вы считаете важным запечатлеть из обороны дворца?
— Все важно. Снимайте сколько можете, чтоб было ясно, как мы готовились и обуздали взбунтовавшуюся чернь, — ответил Полковников. И приказал адъютанту поручику Максименко сопровождать операторов.
Поручик отлично знал расположение объектов обороны. Он провел операторов вдоль Зимнего, здания Главного штаба, рассказал о готовящейся обороне, о том, что предпринимает Временное правительство для подавления восстания. Пристроив на кинокамере листок бумаги, полученный от Урицкого, Кобозев еле успевал наносить условные знаки. Через час разведчик уже знал от разговорчивого офицера, какие части какие занимают позиции, их численность и настроение оборонявшихся.
Около 8 часов вечера Кобозев, распрощавшись с Модзелевским, добрался до Смольного. На площади горели костры, вокруг них толпились солдаты, матросы, красногвардейцы.
На лестничной площадке разведчика встретил Бонч-Бруевич.
— Как дела? Удалось что-нибудь разведать? — тревожно спросил он.
— Удалось! Все!
— Пойдем скорей!
На третьем этаже в комнате № 75 штаб ВРК. Завидя Кобозева, вскочили со своих мест Свердлов и Дзержинский.
Материалы разведки превзошли все ожидания. С ними срочно ознакомлены выделенные в боевую тройку по руководству осадой Зимнего Антонов-Овсеенко, Подвойский и Чудновский. Урицкий вместе с работником штаба занес точки, черточки и кружочки на карту оборонительных сооружений Зимнего, и эта карта легла на его стол рядом с телефонами, связывающими штаб с войсками, пошедшими на штурм.
Перед штурмом, в 8 часов вечера, в ВРК зазвонил телефон. Урицкий взял трубку и услышал голос Подвойского:
— Направил во дворец парламентером Чудновского с ультиматумом о немедленной сдаче.
«Гриша Чудновский в логове врага». 8 часов 30 минут. Опять Подвойский;
— Чудновский не возвращается. Видимо, задержан. Допросил одного из юнкеров — министры тянут с ответом, ждут Керенского с войсками, уговаривают юнкеров исполнить свой долг до конца.
Это сообщение Урицкий тут же докладывает Ленину.
— Действовать по плану, — говорит Владимир Ильич.
План был выработан утром на заседании ВРК: «оцепить Зимний дворец и Дворцовую площадь плотным кольцом и повести наступление, понемногу сжимая его».
Без пяти минут девять вновь звонок Подвойского:
— Чудновский вернулся. Был задержан генерал-губернатором Пальчинским, освобожден юнкерами. Ждем сигнала.
Выстрел носового шестидюймового орудия крейсера «Аврора» еле слышен за мощными стенами Смольного. Но ведь это начало последнего штурма! Моисей Соломонович посмотрел на часы — 9 часов 40 минут. Он видит, как, приподняв голову, прислушался Ленин, замерли Свердлов и Дзержинский, подошел к окну Бубнов.
Томительное ожидание. Телефон связи молчит.
Наконец глубокой ночью в комнату ВРК вихрем ворвался Подвойский. В каждом его движении — неостывший азарт штурма.
— Владимир Ильич, — явно стараясь сдержать распиравшую буйную радость, доложил Подвойский. — Зимний дворец взят. Временное правительство арестовано!
— А можно чуть поподробнее, — Ильич улыбается.
— После выстрела «Авроры» загремело по всей площади «Ура!». Матросы, солдаты, красногвардейцы потоком ринулись к дворцу. Ни пулеметные очереди, ни отдельные артиллерийские выстрелы не могли остановить или даже просто задержать этот порыв. Волной перехлестывая через построенные баррикады, смяли первую линию защитников Зимнего и ворвались в ворота. Опрокидывая юнкеров, бросились на второй, на третий этажи. Антонов-Овсеенко арестовал всех министров Временного правительства и препроводил их в Петропавловскую крепость, — на одном дыхании выложил Подвойский.
— Ну вот и отлично, нужно срочно довести эти сведения до всего народа. — И Владимир Ильич тут же начал составлять текст воззвания «Рабочим, крестьянам и солдатам!». — Анатолий Васильевич, — попросил Ленин Луначарского, — не сочтите за труд огласить это воззвание на заседании Второго съезда Советов.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Начавший свою работу 25 октября 1917 года в беломраморном зале Смольного Второй съезд Советов после краткого перерыва продолжил заседание, которое закончилось только к утру 26 октября. Весть о взятии Зимнего и аресте Временного правительства, обращение, в котором говорилось: «Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки», были встречены ликованием. За программу Советской власти — передача власти народу, предложение народам воюющих стран демократического мира и переход земли в руки крестьянства — проголосовали почти все делегаты.
Около пяти часов утра к Урицкому подошел Дзержинский:
— Моисей Соломонович, — тихо сказал Феликс Эдмундович. — Ильичу надо хоть чуточку отдохнуть. Мы с Яковом Михайловичем проводим его. А уж тебе…
— Понял, — Урицкий кивнул уходящему Дзержинскому и оглядел комнату покрасневшими от бессонницы глазами. Кто-то, прикорнув у подоконника, спит, кто-то пытается отогнать наваливающийся сон, меряет комнату шагами. Но Военно-революционный комитет не спит. Занять Зимний дворец и препроводить в Петропавловскую крепость министров — это еще не все. Надо навести порядок в городе, предохранить от разграбления дворцовые ценности, ставшие теперь принадлежностью государства. Нужно сохранить жизнь и имущество граждан Петрограда от уголовного элемента, освобожденного из тюрем незадолго до Октябрьской революции Керенским. А борьба с внешней и внутренней реакцией!
— Вот, посмотри своим опытным журналистским глазом.
Бубнов передает Урицкому текст радиограммы из Петрограда от ВРК армейским комитетам действующей армии, всем Советам солдатских депутатов:
«Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство, прошел бескровно, Петроградский Совет рабочих я солдатских депутатов торжественно приветствовал совершившийся переворот и признал, впредь до создания правительства Советов, власть Военно-революционного комитета. Оповещая об этом армию на фронте и в тылу, Военно-революционный комитет призывает революционных солдат бдительно следить за поведением командного состава. Офицеры, которые прямо и открыто не присоединились к совершившейся революции, должны быть немедленно арестованы как враги!..»
Урицкий вычитывает до конца текст обращения, составленного Бубновым и Свердловым, утвержденного Владимиром Ильичей. Связывается с самой мощной в Петрограде Царскосельской радиостанцией. Передает приказ ВРК о немедленном оглашении воинским частям программы новой, Советской власти.
В 8 часов 45 минут утра обращение ВРК ко всем армейским комитетам передано по радио всей стране. «Солдат воюет за мир, за хлеб, за землю, за народную власть», — заканчивается обращение.
Невиданная по напряжению всех сил и человеческих возможностей ночь позади. В 10 часов утра Военно-революционный комитет обнародует свое знаменитое сообщение:
«Временного правительства больше нет! Вся власть в стране переходит к Военно-революционному комитету — органу Советов! Рабочий класс и революционное крестьянство победили и немедленно предлагают мир, отбирают у помещиков землю, контролируют все производство и создают свое, Советское правительство».
Вечером 26 октября Второй съезд Советов продолжил работу. Первый свой доклад Ленин посвятил вопросу о мире. В Декрете о мире Советская власть обращалась ко всем народам и правительствам воюющих стран с предложением заключить мир. В нем сказано, что Советская власть отменяет тайную дипломатию и немедленно опубликует тайные договоры царского и Временного правительства, отказывается от тех из них, которые направлены «к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов…»
Но для того чтобы опубликовать документы тайной дипломатии, нужно их иметь.
В ночь на 26 октября принято решение о назначении комиссаров ВРК во все министерства.
Урицкий назначается временным комиссаром Военно-роволюционного комитета в министерство иностранных дел. 26 октября утром он прибыл на Дворцовую площадь, 6. «На Дворцовой, 6, пустынно, как после урагана, — сообщали не без радости буржуазные западные газеты. — Занятия посещают только несколько служащих. Но и те сидят без дела. Все сейфы и бронированные комнаты закрыты…»
К сожалению, в этих строчках была правда. Но ведь большевики после издания Декрета о мире обещали обнародовать тайные договоры России с правительствами Англии и Франции о переделе мира. Одетые в серые шинели рабочие и крестьяне должны знать, что не ради защиты родины их гнала под пули буржуазия. Урицкий по этому вопросу получил четкие указания Владимира Ильича Ленина. А массивные железные двери главных архивов министерства продолжают хранить тайны. У бывшего министра иностранных дел, арестованного Чудновским и Антоновым-Овсеенко в Зимнем дворце, ключей от бронированных комнат не оказалось, ответственные чиновники министерства бежали, и на розыски их может уйти уйма времени. Что же делать? Урицкий посоветовался со Свердловым.
— Хорошо, пришлю подкрепление, — пообещал Яков Михайлович, — но документы должны быть обнародованы в ближайшее время. На этом настаивает Владимир Ильич.
Перед Урицким — невысокого роста плечистый матрос. Усы и борода придают молодому лицу суровость.
— Прибыл в ваше распоряжение. Вот мандат.
— «Товарищу Маркину, секретарю Народного комиссара иностранных дел, поручается проведение необходимых действий для организации работы Народного комиссариата», — прочел Моисей Соломонович. — Вот и отлично. А вас уже ждет товарищ Залкинд, ученый, доктор Сорбонны, владеет восемью европейскими языками. Вам надлежит вместе открыть бронированные комнаты и подготовить тайные дипломатические документы к опубликованию.
В выборе секретаря Свердлов не ошибся. Дни и ночи продолжались поиски царских чиновников, и вот на Дворцовую, 6, доставлены бывший вице-министр Нератов, начальник канцелярии министерства Татищев и начальник шифровального отдела Таубе. Они передали Маркину ключи и шифры, рассказали об их назначении. Нет, не зря торопил Ленин с опубликованием тайных договоров. Одно сообщение в газете «Правда» было сенсационнее другого: мир узнал о военной конвенции 1882 года между Францией и Россией, об англо-русском секретном договоре и конвенции 1907 года, о разделе Ирана и Афганистана, о заключенном весной 1916 года соглашении между Великобританией, Францией и царским правительством о разделе Турции и многое другое.
Миллионы людей узнали правду об истинных целях мировой войны, развязанной империалистами. Ясна стала роль «оборонцев» в этой грязной войне. Прочтя документы, рабочие многих стран мира вышли на улицы с требованием прекратить войну.
Владимир Ильич высоко оценивал факт обнародования тайных договоров. Он писал: «Действительно революционная борьба за мир начата была в России только после победы революции 25 октября, и эта победа дала первые плоды в виде опубликования тайных договоров…» Не терять времени, отобрать для печати главное! Бонч-Бруевич позвонил на Дворцовую, 6, к Урицкому.
— Владимир Ильич хочет лично ознакомиться с документами, готовящимися к публикации, — сказал он. И добавил: — Уж если Ильич, несмотря на невиданную перегрузку, решил сам просмотреть эти документы, понимаете, какое он придает им значение?!
Это Урицкий понимал. Он не понимал одного: почему от всех вопросов работы Наркоминдела уклоняется Троцкий, который при формировании съездом правительства стал народным комиссаром по иностранным делам. А дел было действительно непочатый край. Саботаж чиновников министерства парализовал внешние отношения молодого государства Советов. Никто не занимался подготовкой условий для мирных переговоров воюющих стран, не обеспечивал выполнения торговых сделок, не осуществлял выдачу виз и, что очень важно, не переводил деньги через Красный Крест на содержание военнопленных. «Правда» писала, что саботажники обрекают на голодную смерть наших военнопленных в Германии и Австрии, прекратив высылку им денег.
Пока Троцкий бездействовал, всеми этими и многими другими вопросами занимался Урицкий, вынося их на обсуждение ВРК.
ВРК рассмотрел вопрос о положении дел в Наркоминделе и принял решение: бывший вице-министр Нератов подлежит аресту и преданию революционному суду. Что касается остальных чиновников, продолжающих саботаж, Урицкий вручил Залкинду подписанный им, но незаполненный бланк ордера № 2500, в который Залкинд и Маркин могли внести любые фамилии, если считали, что арест этих чиновников мог способствовать выполнению задач, поставленных перед Наркоминделом.
По Наркоминделу был издан приказ № 1: «Служащие министерства иностранных дел, которые не явятся на работу до утра 13 ноября, будут считаться уволенными с лишением права на государственную пенсию и всех преимуществ». Явилось только 5 человек. По указанию Урицкого Залкинд вывесил 14 ноября на дверях наркомата объявление: «Бывших чиновников МИД просят не беспокоить наркомат предложением своих услуг». А ВРК постановил арестовать руководителей «Союза служащих», организаторов саботажа.
Из коммунистов завода «Сименс — Шуккерт» был сформирован отряд, который взял на себя охрану здания министерства. 19 ноября Залкинд дал интервью журналистам: «Сегодня мы фактически вступили в управление министерством. Нам переданы также все ключи от шкафов, где находятся условные шифры, и, таким образом, мы теперь вправе сказать, что отныне внешняя политика России становится народной».
Утром 21 ноября НКИД официальной нотой оповестил всех послов союзных держав о создании Вторым Всероссийским съездом Советов нового правительства Российской республики во главе с Владимиром Ильичом Лениным. В ноте обращалось особое внимание на Декрет о мире, утвержденный съездом Советов, и говорилось, что на указанный документ следует смотреть как на формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров.
Народный комиссариат иностранных дел начал свою работу.
Казалось бы, Моисей Соломонович может теперь издохнуть посвободнее, но, видно, не то это время — утром в ВРК его встретил Луначарский.
— Моисей Соломонович, на вас вся надежда.
— Что случилось?
— Я о ценностях Зимнего дворца.
— Я полагаю, что там должно быть все в порядке. Ведь недавно я подписал товарищу Дашкевичу удостоверение от имени ВРК о назначении его уполномоченным по охране Зимнего.
— Дворцовые сокровища стали попадаться у скупщиков, на рынке, скупаются иностранцами!
— Это нужно пресечь немедленно. Художественно-приемочная комиссия Зимнего дворца получила особые полномочия для розыска похищенных из дворца ценностей.
Какие вопросы приходилось решать Моисею Соломоновичу Урицкому от имени ВРК, какие выполнять задания, видно из этих подлинных документов:
Приказ комиссару Петропавловской крепости. 30 октября 1917 года. 1. Оружие из Петропавловской крепости выдается только штабом для военных надобностей. 2. Не выдается оружие поштучно. 3. Выдавать оружие исключительно частям и организациям за подписью заведующих отделом вооружений товарищей Садовского и Урицкого.
За председателя Урицкий. Секретарь Ф. Дзержинский.Мастеру Финляндского железнодорожного моста. 1 ноября 1917 года. № 231. Военно-революционный комитет предлагает Вам по предъявлении настоящею предписания развести Финляндский железнодорожный мост для пропуска трех военных судов…
Председатель Урицкий.Предписание начальнику команды матросов. 15 ноября 1917 года. № 3611. Военно-революционным комитетом получено сообщение, что Вами предполагается выпустить спирт из склада на Калашникоиской набережной, № 56. Ввиду того что ни Военно-революционным комитетом, ни штабом такого распоряжения отдано не было, Военно-революционный комитет предполагает, что Вы введены кем-то в заблуждение, и предлагает Вам вернуться в казармы и спирта из склада ни под каким видом не выпускать.
За председателя Урицкий.Предписание местному комитету Главной полевой почтовой конторы. 22 ноября 1917 года. № 4393. …безотлагательно занять помещение Благородного собрания, угол Екатерининской и Итальянской улиц, состоящее из двух первых этажей, для размещения в нем полевой почты…
Председатель Урицкий.Комиссару ст. Белоостров. 22 ноября 1917 года. № 4415. Арестованного сегодня шведского курьера Васберга немедленно освободите, если причина — недоразумение или бумаги. В противном случае доставить немедленно в Комитет. Военно-революционный комитет.
Урицкий.Предписание правлению Общества Путиловских заводов. 23 ноября 1917 года. № 4463. Военно-революционнын комитет предписывает вам произвести оплату красногвардейцам, равную примерно их тарифным ставкам.
Председатель Урицкий.ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Весь день 22 ноября 1917 года Урицкий провел в Смольном. Дежурил по ВРК. Сначала составил предписание о размещении полевой почты в здании Благородного собрания. Затем телеграмму об освобождении шведского дипкурьера…
Неожиданно возник вопрос об организации питания делегатов съезда крестьянских депутатов. И его разрешил дежурный ВРК. И так целый день до позднего вечера.
Перед началом вечернего заседания Военно-революционного комитета к Урицкому обратился представитель бывшего градоначальства, ведавший уборкой улиц, — ему требовалось разрешение сваливать снег в Неву. Пришлось и этому делу уделить внимание.
Много вопросов было в этот вечер и на заседании ВРК: конфликт в 1-м Адмиралтейском районе с должностными лицами, не признававшими новой власти, ночная стрельба из дома около Исаакиевского собора, оплата работы милиционеров, незаконный обыск, проверка служащих Смольного, контрреволюционные прокламации, работа военно-следственной комиссии ВРК и еще десяток вопросов.
Переночевав в Смольном, Урицкий проводит утреннее заседание ВРК, а затем — снова дежурит по ВРК.
Вечером 23 ноября в Смольном проходило заседание Совнаркома, на котором управляющий делами СНК Бонч-Бруевич передал Урицкому документ, подписанный Лениным:
«Назначение М. С. Урицкого. 23 ноября 1917 года.
Моисей Соломонович Урицкий назначается комиссаром над Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией с правом смещения членов этой комиссии, назначения новых и вообще принятия всех мер по обеспечению правильности подготовительных работ к созыву Учредительного собрания.
Пред. Совета Нар. Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».
Это было новое, весьма сложное задание партии и правительства.
Взяв власть в свои руки, большевики понимали, что до Октября в широких массах жила надежда, что Учредительное собрание осуществит основные требования народа.
Теперь же, когда политической основой молодого пролетарского государства стали Советы, «лозунг „Вся власть Учредительному собранию“, — писал Владимир Ильич Ленин, — стал на деле лозунгом кадетов и калединцев и их пособников».
Учитывая настроение масс, все же было решено созвать Учредительное собрание и убедить его депутатов в необходимости признания Советской власти.
Назначая Урицкого «правительственным комиссаром над Учредительным собранием», большевики рассчитывали повлиять на комиссию по выборам в Учредительное собрание, созданную еще при Временном правительстве, чтобы изменить состав его депутатов.
Вручая Урицкому мандат о новом назначении, Бонч-Бруевич рассказал о том, как он ездил по поручению Ленина в Мариинский дворец, где работала комиссия под руководством кадета Набокова, и как тот настаивал на своей самостоятельности и независимости от новой власти.
Набоков в разговорах с Урицким пытался держать себя как лицо, на которое возложены чрезвычайные полномочия, и всем видом своим старался демонстрировать, что он не признает советского комиссара Урицкого. Советского комиссара он как будто бы не признавал, однако получал от Советской власти пайки для членов комиссии, бумагу, пишущие машинки и другую помощь и одновременно готовил контрреволюционный переворот посредством выборов в Учредительное собрание без участия большевиков. Этого-то и не должен был допустить Урицкий.
И вот когда была организована антисоветская демонстрация, под прикрытием которой несколько десятков депутатов — кадетов, меньшевиков и правых эсеров — все же пробрались в Таврический дворец, где пытались открыть Собрание, Урицкий с ведома Советского правительства распустил комиссию Набокова, а самого Набокова арестовал.
Несколько депутатов Учредительного собрания, участвовавших в этом антисоветском выступлении, были отозваны своими избирателями.
К сожалению, Урицкому пришлось бороться не только с прямыми контрреволюционерами.
Некоторые представители большевистской фракции Учредительного собрания, не оценив правильного значения Октябрьского восстания, считали, что созыв Учредительного собрания является завершающим этапом революции.
Ленин резко осудил правооппортунистическое выступление этих товарищей и позже выработал тезисы об Учредительном собрании.
Возражая Каменеву, который предлагал не контролировать подготовку к созыву Учредительного собрания, Урицкий говорил па заседании Петербургского комитета:
— Это то же течение, которое наблюдалось раньше в вопросе восстания. Сейчас некоторые товарищи смотрят на Учредительное собрание как на нечто такое, что должно увенчать революцию.
Урицкий получил записку от Владимира Ильича:
«Тов. Урицкий!
Черкните, что нового с Учредительным собранием. Знаете ли, что мы освободили арестованных! Приняты ли меры не впускать их в здание? Не составите ли заключение об их аресте (причины и значение и польза) Ленин».
Записку эту Ленин написал на заседании СНК на следующий день после освобождения членов избирательной комиссии во главе с Набоковым. Урицкий уже зная, что предписание об их освобождении было дано Лениным, чтобы лишить козырей правоэсеровскую фракцию Учредительного собрания в развязанной ею антисоветской кампании.
К этому времени, в связи с образованием народных комиссариатов, уже было принято постановление о ликвидации Военно-революционного комитета. Была создана так называемая Ликвидационная комиссия ВРК, в ее функции входили также экстренные меры борьбы с контрреволюцией. Урицкий покинул кабинет ВРК в Смольном и переехал в Таврический дворец.
Там не было ни охраны, ни коменданта. Урицкий попросил Бонч-Бруевнча прислать взвод латышских стрелков и сам стал исполнять обязанности коменданта…
Изучая списки депутатов Учредительного собрания, можно было легко убедиться в мелкобуржуазной его сущности. Созданный в ноябре — декабре 1917 года правительственный блок большевиков и левых эсеров не мог гарантировать большинство в Учредительном собрании. Это понимали представители контрреволюционных партий и готовились использовать для свержения Советской власти созываемое Учредительное собрание.
3 января 1918 года ВЦИК принял написанную Лениным «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой излагалась программа Советской власти. Одновременно ВЦИК принял постановление, в котором указывалось: «Вся власть в Российской Республике принадлежит Советам и советским учреждениям» и что «всякая попытка со стороны кого бы то ни было… присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное действие» и будет «подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской власти средствами вплоть до применения вооруженной силы».
Для подавления возможного выступления контрреволюционеров в Петрограде был создан Чрезвычайный военный штаб по охране города, в него вошли испытанные бойцы партии: Свердлов, Урицкий, Бонч-Бруевич, Подвойский, Еремеев, Благонравов и другие.
3 января 1918 года 600 матросов второго флотского экипажа в четком строю подошли к Таврическому дворцу. Командовал ими Анатолий Железняков. Отряд остановился у главного входа. Вышедшему навстречу Урицкому Железняков доложил:
— Товарищ комиссар! Военный караул, выделенный для охраны Учредительного собрания, в ваше распоряжение прибыл.
Урицкий вызвал командира латышских стрелков и дал указание передать охрану матросскому караулу.
С этого момента никто не мог войти в здание Таврического дворца без пропуска, подписанного комиссаром Урицким.
Вот самый первый пропуск:
«Предъявитель сего Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов-Ленин имеет право свободного входа и выхода в Таврический дворец, в зал заседаний Учредительного собрания, правительственную ложу и правительственный павильон.
Комиссар над Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией М. Урицкий».
Чтобы предотвратить попытку созыва Учредительного собрания в другом месте, взамен депутатского мандата всем прибывшим депутатам выдавалось временное удостоверение за подписью комиссара Урицкого. Оно-то и должно было служить пропуском в Таврический дворец в день открытия Учредительного собрания.
Первое такое удостоверение Моисей Соломонович заполнил на имя Владимира Ильича Ленина:
«2 января 1918 г.
Временное удостоверение.
Предъявитель сего член Учредительного собрания Ульянов-Ленин Владимир Ильич от Балтийского флота.
Удостоверение выдано по свидетельству Всероссийской комиссии.
Комиссар М. Урицкий».
5 января 1918 года в 4 часа дня Учредительное собрание начало свою работу. Комендант Таврического дворца Урицкий сделал все, чтобы подготовить помещение. Зал был полностью отремонтирован, тесная сцена была расширена за счет расположенной за ней комнаты, позади председательского стола поднимался второй амфитеатр.
В половине четвертого стали собираться делегаты. Первыми явились эсеры, уверенные в своем большинстве. В сюртуках, наглухо застегнутых доверху, с красными розетками в петлицах, торжественные, они заполнили центральные и правые ряды. Между эсерами разместились национальные группы. Немногочисленные кадеты устроились в сторонке, рядом с ними — Церетели, представлявший собой «фракцию меньшевиков». За дубовой оградой, окаймляющей сцену, расположились лидеры большевистской партии и почетные гости.
Перед началом пленарного заседания депутаты собрались на краткие совещания по фракциям. Фракция большевиков поручила открыть первое заседание Якову Михайловичу Свердлову от имени ВЦИК. Он должен предложить собранию обсудить ленинскую «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», и в случае отказа ее принять фракция должна немедленно уйти с собрания, объявив от имени правительства о его роспуске.
Но эсеры тоже не дремали: они поспешили открыть собрание до окончания совещания большевистской фракции. Открыл его эсер Швецов, а председателем был избран эсер Чернов.
Когда кончилось совещание большевистской фракции, Урицкий провел в президиум Ленина, Свердлова, Дзержинского, Бубнова, Коллонтай и других членов правительства. Выполняя поручение своей фракции, Свердлов прошел на председательское место и спокойно взял из рук оторопевшего от неожиданности Швецова колокольчик.
— Учредительное собрание объявляю открытым, — звучным голосом произнес Свердлов и, не обращая внимания на враждебные выкрики эсеров, предложил одобрить декреты и постановления Советской власти и прочитал текст «Декларации».
Обсуждать «Декларацию» эсеры отказались. Один за другим они поднимались на трибуну со злобной клеветой на Советское правительство.
Шел второй час ночи, когда, как говорилось в «Декларации», «не желая ни минуты прикрывать преступления врагов парода», большевики покинули Учредительное собрание, «с тем чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания».
Владимир Ильич попросил собрать народных комиссаров в правительственную комнату. Несмотря на то что вопрос о закрытии Учредительного собрания уже был обсужден в ЦК, Ленин посчитал необходимым принять окончательное решение после санкции Совнаркома. Обменявшись мнениями, все пришли к заключению: в настоящее время собрание не прерывать, дать возможность депутатам высказаться, а на другой день, не возобновляя заседания, объявить Учредительное собрание распущенным.
Эсеры же решили продолжать собрание и провести его в одно заседание, приняв все подготовленные решения.
Уже в пятом часу утра Моисей Соломонович подошел к матросам, которые по его указанию несли охрану собрания.
— Что скажешь, Анатолий, об этом собрании? — шутливо обратился он к матросу Железнякову, командиру отряда.
— Тягомотина, — зевнул Железняков.
— Пожалуй, пора прекратить, — как бы советуясь с товарищами, сказал Урицкий.
— Есть прекратить! — весело отозвался матрос.
В зале тишина, похоже, многие депутаты спят. Нудно, вполголоса тянется речь очередного оратора.
— Довольно! — раздается громко из матросской ложи. Сна как не бывало. Головы депутатов испуганно повернуты к матросской ложе.
— Довольно!
Председательствующий Чернов поднимает колокольчик, по не звонит, понимая, что звонить сейчас нельзя. По его знаку запнувшийся оратор продолжает чтение.
Но за спиной председателя вырастает мощная фигура матроса. Начальник караула властно кладет руку на плечо Чернова. В зале привстали со своих мост, депутаты смотрят на матроса с испугом, солдаты и матросы — с живым интересом.
— В чем дело? — пытается сохранить достоинство председатель.
— Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, караул устал, — говорит Железняков.
— Какую инструкцию? От кого инструкцию? — спрашивает Чернов.
— Я начальник охраны Таврического дворца и имею инструкцию от комиссара, — невозмутимо отвечает матрос.
— Все члены Учредительного собрания тоже устали, но никакая усталость не может прервать заседание, — повышает голос председатель.
В ответ несутся из зала голоса солдат и матросов:
— Довольно!
— Долой!
Возмущенные реплики депутатов-эсеров тонут в общем шуме, но отчетливо слышится:
— Караул устал. Я прошу покинуть зал заседания.
Комкая ход заседания, Чернов пытается все же как-то довести его до конца, исчерпать намеченную повестку.
— Внесено предложение закончить заседание данного собрания принятием без прений прочитанной части закона о земле, остальное передать комиссии, — скороговоркой говорит Чернов, — а также принять обращение к цивилизованному миру…
— Довольно! Половина пятого! Долой! — скандируют сотни солдат и матросов.
Чернов порывисто отодвигает кресло и выходит из-за стола:
— Заседание Учредительного собрания объявляю закрытым.
— Давно бы так! — несется из зала.
Там стало шумно и весело. В ложах перекликаются солдаты, потягиваются, разминаясь после длительного сидения. Понуро, втягивая головы в плечи, идут к выходу депутаты.
Так 6 января 1918 года бесславно закончилось сборище противников Советской власти, надеявшихся на этом Учредительном собрании утвердить буржуазную демократию, противопоставив ее диктатуре пролетариата.
Опустело здание Таврического дворца. Комендант Урицкий обходил все помещения, в воздухе еще чувствовался запах крепких духов и одеколона, смешанный с махорочным дымом, запахом солдатских сапог. Мысли уносили его в недалекое прошлое, оживала в памяти «Красноярская республика», железнодорожный батальон, выручивший социал-демократов от расправы монархистов. Но то были явные враги, борющиеся за сохранение всех благ и привилегий, которые так щедро дарила им царская власть за счет рабочих и крестьян. Эсеры же называли себя социалистами, а на деле… Нa деле — сегодняшнее собрание… На деле — открытый переход на сторону буржуазии. А раз так, нужно с ними бороться всеми имеющимися средствами…
Еще и еще раз вспоминал он события, происшедшие за истекшие сутки. Все ли сделано так, как просил Владимир Ильич Ленин? И удовлетворенно отвечал себе: кажется, все.
«И надо было видеть, — пишет Анатолий Васильевич Луначарский, — нашего комиссара над Учредительным собранием во все те бурные дни. Я понимаю, что все эти „демократы“ с пышными фразами на устах о праве, свободе и т. д. — жгучей ненавистью ненавидели маленького круглого человека, который смотрел на них из черных кругов своего пенсне с иронической холодностью, одной своей трезвой улыбкой разгоняя все их иллюзии и каждым жестом воплощая господство революционной силы над революционной фразой.
Когда в первый и последний день „учредилки“ над взбаламученным эсеровским морем разливались торжественные речи Чернова и „высокое собрание“ ежеминутно пыталось показать, что оно-то и есть настоящая власть, — совершенно так оке, как когда-то в Лукьяновке (в тюрьме), с той же медвежьей походкой, с той же улыбающейся невозмутимостью, ходил по Таврическому дворцу товарищ Урицкий и опять все знал, всюду поспевал и внушал одним спокойную уверенность, а другим полнейшую безнадежность.
„В Урицком есть что-то фатальное“, — слышал, я от одного правого эсера в коридорах в тот памятный день».
И конечно же эсеры не смирились со своей судьбой. Контрреволюция стала открыто выступать с оружием в руках. На второй день после разгона Учредительного собрания на улице прозвучал выстрел. Урицкий почувствовал, как что-то больно обожгло ухо. Схватившись за него рукой, ощутил тепло, меж пальцев тонкой струей потекла кровь. Стало ясно, что это первый ответ на разгон Учредительного собрания. Ответ эсеров.
В номере газеты «Правда» от 7 января 1918 года появилась короткая заметка:
«Покушение на жизнь товарища Урицкого.
Вчера утром было произведено покушение на жизнь М. Урицкого, комиссара над Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией.
Пуля, слегка задев ухо, пролетела мимо. Задержать стрелявшего не удалось».
В день открытия Учредительного собрания с Моисеем Соломоновичем произошел как будто забавный случай.
«Находясь уже в Таврическом дворце, — пишет Бонч-Бруевич, — Владимир Ильич снова захотел видеть Урицкого, которого в этот момент не было во дворце. Но вот открылась дверь, и Урицкий, расстроенный, бледный, пошатываясь, своей походкой вразвалку, пошел к нам и даже как-то смутился.
— Что с вами? — спросил его Владимир Ильич.
— Шубу сняли, — ответил Урицкий, понижая голос.
— Где? Когда?
— Поехал к вам, в Смольный, для конспирации на извозчике, а там вон, в переулке, наскочили двое жуликов и говорят: „Снимай, барин, шубу. Ты, небось, товарищ, погрелся, нам холодно“… Я: „Что вы?“ А они свое: „Снимай да снимай“. Так и пришлось снять. Хорошо, что шапку оставили. До Смольного ехать далеко, в Таврический — неловко. Так я пешком переулками и придрал в Таврический. Хорошо, пропуск был с собой, вот все обогревался…
Владимиру Ильичу было „и больно и смешно“, но он сделал серьезное лицо и громко спросил:
— Кто ответственный за этот район?
— Я, — ответил ему я.
— Что же это у вас, батенька, воры там пошаливают?
— От воров не убережешься…
— Прошу расследовать…
Я тотчас же написал эстафеты всем моим комиссарам нашего района. Они перерыли все, но ни жуликов, ни шубы тов. Урицкого не нашли».
Это курьез. Но не такой «курьез» готовили большевикам правые эсеры. Абсолютной уверенности в своем большинстве в Учредительном собрании у них не было. Ведь по многим избирательным округам избирались членами Учредительного собрания и левые эсеры, и большевики. Избран был в члены Учредительного собрания и Урицкий. Избран в трех округах: в Новгородском, Херсонском, Самарском.
«А что, если по большинству избирательных округов будут избраны большевики?» Эта мысль заставила правых эсеров прибегнуть к так называемым «мирным» демонстрациям, чтобы при поддержке «народа» вырвать власть из рук рабочих и крестьян.
Не было в числе демонстрантов ни рабочих, ни крестьян. «Мирно» демонстрировали чиновники-саботажники и контрреволюционеры, руководимые правыми эсерами, а также боевики, открывшие провокационный огонь по войскам, несущим охрану города. Нет, не напрасно в день открытия Учредительного собрания все подходы к Таврическому дворцу контролировались верными Советам войсками: после провокационной стрельбы у «мирных демонстрантов» были отобраны не только стрелковое оружие, но и бомбы.
За день до открытия Собрания Моисей Соломонович получил письмо от левой эсерки Марии Спиридоновой, которая, испугавшись последствий задуманного правыми эсерами, написала:
«Необходимо, тов. Урицкий, предотвратить возможность совершенно излишнего кровопролития. Учредительное собрание загаснет и умрет естественно, если не будет 5 января павших жертв лирическо-трагической романтики, которую нам нельзя для них создавать нашим врагам. Они же хотят вызвать нас на то, что не должно исходить от нас».
Одновременно с письмом Спиридоновой Моисей Соломонович получил открытку из Черкасс от Берты. Но письмо эсерки надо было немедленно показать Дзержинскому и Антонову-Овсеенко, непосредственно готовящим встречу «демонстрантов». Положив открытку от сестры в карман пиджака, Урицкий заторопился в Смольный.
Когда все, что было связано с Учредительным собранием, осталось позади, он достал открытку. Ровный, округлый, такой знакомый почерк звал в юность. Дорогая Берта, сколько хорошего ты сделала своему брату Моисею! Только с твоей помощью он смог и получить образование, и стать профессиональным революционером, посвятившим всю жизнь делу пролетарской революции. Поправив пенсне, Урицкий читает. Все по-прежнему: беспокоится о его здоровье, спрашивает, «не надо ли чем помочь?». Ни слова об обстановке в Черкассах, о политике. Нужно ей написать, чтобы передала «дело Урицких» государству и приезжала в Петроград. Совсем. Жить постоянно рядом с братом. А работу ей всегда можно будет подобрать. Но здесь не отделаться открыткой и несколькими словами привета, а на большое, серьезное письмо нет времени — Центральный Комитет поручил Урицкому обеспечить успешное проведение в Таврическом дворце III Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Но выкроить время на письмо необходимо. Нужно написать так, чтобы Берта поняла, как важно выполнить его совет. В Питере он познакомит сестру с Клавдией Тимофеевной Свердловой, женой Якова Михайловича. Она настоящий друг и поможет Берте найти себя в новых условиях даже лучше, чем родной брат.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
10 января открылся III Всероссийский съезд Советов. Таврический дворец выглядел деловито, строго. Более полутора тысяч делегатов собрались, чтобы сообщить миру, что «Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, что вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам…»
Состав делегатов съезда разительно отличался от состава Учредительного собрания. Большинство — более двух третей — большевики. Поэтому внутри дворца легко было поддерживать порядок, но с улицы можно ожидать любых провокаций. А чтобы этого не случилось — нужно все знать, везде присутствовать… Ну а письмо Берте пришлось отложить. Он напишет ей обязательно, как только удастся найти несколько свободных минут.
Съезд открыл председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов. Моисей Соломонович видел, с каким вниманием делегаты выслушали его краткую приветственную речь. «…Мы должны будем здесь вынести крайне ответственные и важные решения, — сказал Свердлов. — Акт роспуска Учредительного собрания мы должны сопоставить с созывом III Всероссийского съезда Советов — этого верховного органа, который единственно правильно отражает интересы рабочих и крестьян».
Съезд принял резолюцию, которая полностью одобряла политику Советского правительства и выражала ему полное доверие. Он утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Важным решением съезда было принятие закона о социализации земли, который привлекал на сторону Советской власти многомиллионные крестьянские массы из числа беднейшего и среднего состава жителей деревни.
Одним из главнейших вопросов, вынесенных на обсуждение съезда, был вопрос о войне и мире. Вопрос, который не снимался с повестки дня со времени II съезда Советов, состоявшегося 25–27 октября 1917 года. Тогда верховный главнокомандующий русской армией генерал Духонин, который отказался подчиниться приказу Совета Народных Комиссаров и вступить с германским командованием в переговоры о перемирии, был заменен народным комиссаром, прапорщиком Крыленко.
По поручению Совнаркома Крыленко 14 ноября послал к немецкому командованию парламентеров. 16 ноября немцы согласились вступить в переговоры. 20 ноября состоялась первая встреча русской делегации в Брест-Литовске с представителями Германии и Австрии.
Вопрос о мире стал главным для Советского правительства. За несколько дней до III съезда Советов, 7 января, Владимир Ильич Ленин составил тезисы о мире с Германией, в которых подчеркнул: обстоятельства таковы, «что из них совершенно определенно вытекает необходимость, для успеха социализма в России, известного промежутка времени… в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране и для налаживания широкой и глубокой массовой организационной работы».
Тезисы были обсуждены 8 января на совещании членов ЦК и большевиков — делегатов съезда.
11 января на заседании ЦК Ленин изложил три точки зрения по этому вопросу: 1. Сепаратный аннексионистский мир. 2. Революционная война. 3. Объявление войны прекращенной — демобилизовать армию, но мира не подписывать.
На предыдущем совещании ЦК и партийных работников большинство было за вторую точку зрения. Ленин указал, что «большевики никогда не отказывались от обороны, но только эта оборона и защита отечества должна иметь определенную, конкретную обстановку, которая есть в настоящее время налицо, а именно: защита социалистической республики от необыкновенно сильного международного империализма. Вопрос стоит только в том, как должны мы защищать отечество — социалистическую республику. Армия чрезмерно утомлена войной; конский состав таков, что артиллерию мы не сможем везти при наступлении; положение германцев на островах Балтийского моря настолько хорошо, что при наступлении они смогут взять Ревель и Петроград голыми руками. Продолжая в таких условиях войну, мы необыкновенно усилим германский империализм, мир придется все равно заключать, но тогда мир будет худший, так как его будем заключать не мы. Несомненно, мир, который мы вынуждены заключать сейчас, — мир похабный, но если начнется война, то наше правительство будет сметено и мир будет заключен другим правительством. Сейчас мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство, которое отойдет от нас при продолжении войны.
…Стоящие на точке зрения революционной войны указывают, что мы этим самым будем находиться в гражданской войне с германском империализмом и что этим мы пробудим в Германии революцию. Но ведь Германия только еще беременна революцией, а у нас уже родился вполне здоровый ребенок — социалистическая республика, которого мы можем убить, начиная войну.
…Конечно, тот мир, который мы заключим, будет похабным миром, по нам необходима оттяжка для проведения в жизнь социальных реформ (взять хотя бы один транспорт); нам необходимо упрочиться, а для этого нам необходимо время. Нам необходимо додушить буржуазию, а для этого нам необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки. Сделав это, мы освободим себе обе руки и тогда мы сможем вести революционную войну с международным империализмом…
…То, что предлагает тов. Троцкий — прекращение войны, отказ от подписания мира и демобилизация армии — это интернациональная политическая демонстрация. Своим уводом войск мы достигаем того, что отдаем немцам Эстляндскую социалистическую республику.
…Конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны это сделать. Если немцы начнут наступать, то мы будем вынуждены подписать всякий мир, а тогда, конечно, он будет худшим. Для спасения социалистической республики три миллиарда контрибуции не слишком дорогая цена. Подписывая мир теперь, мы воочию показываем широким массам, что империалисты (Германия, Англия и Франция), взявши Ригу и Багдад, продолжают драться, а мы развиваемся, развивается социалистическая республика».
Моисей Соломонович Урицкий был противником мира с Германией. Его длительное пребывание в эмиграции, и в частности в Берлине, живые связи с социал-демократами Германии, Швеции и Норвегии позволили ему предположить, что, если будет подписан мир с Германией, ее империалистическое правительство легко сможет задушить нарастающее революционное движение. С изложением своей точки зрения он неоднократно выступал на заседаниях ЦК, посвященных этому жгучему вопросу.
Как член ЦК, Урицкий защищал вначале вторую точку зрения — революционную войну, потом присоединился к третьей — ни мира, ни войны. И это было его серьезной ошибкой.
10 февраля Троцкий сделал авантюристический шаг — от имени русской делегации самостоятельно заявил в Бресте, что Россия отказывается подписать насильнический мир, войны продолжать не будет и демобилизует армию.
В результате германские аэропланы появились 17 февраля над Двинском. Разведка донесла, что идет переброска четырех немецких дивизий. По радио немцы объявили всему миру, что берут на себя задачу охранять цивилизованный мир от большевистской заразы. Как решается эта задача, объяснило сообщение: немцы повели наступление на Петроград. Взяли Псков и двинулись дальше, к станции Дно. Остатки полевых войск старой армии, гарнизоны города и станции Дно отступили, не оказав противнику никакого сопротивления. Над Петроградом нависла страшная опасность.
Совет рабочих и солдатских депутатов, заседавший теперь в Смольном, прервал свою работу: нужно было оповестить о случившемся питерских рабочих и солдат.
По заводам, фабрикам и воинским частям разъехались депутаты, и тревожный голос заводских, судовых и паровозных гудков поднял на ноги уснувший было Петроград. Рабочие собрались на своих предприятиях, солдаты и матросы — в частях, на кораблях и в подразделениях. Услыхав от депутатов горькую правду и призыв к оружию, рабочие стали организовываться в рабочие батальоны, выступили из казарм воинские части. Все, защищающее революцию, двинулось к Смольному. К утру 21 февраля сюда же стали прибывать готовые защищать молодую Советскую республику люди из окрестностей Петрограда, прибыл батальон матросов из Кронштадта. Возглавлявшие во время Октябрьского переворота отдел вооружения ВРК Дзержинский и Урицкий приступили к решению вопроса о вооружении защитников города.
В этот же день утром Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Смольном сел за стол и размашисто стал набрасывать текст знаменитого декрета Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности!»: «Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20(7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и кресгъян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой „порядок“ в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности… Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови…»
Продолжая наступление, Германия выдвинула еще более тяжелые для Советской страны условия мира. На заседании ЦК встал вопрос: принимать или не принимать новые условия мира. Ленин говорил: «Эти условия надо подписать…. Эти условия Советской власти не трогают». Урицкий же считал по-прежнему, что «наша капитуляция… задержит зарождающуюся революцию на Западе… Советская власть не спасется подписанием этого мира».
Когда все точки зрения выявились, перешли к голосованию. ЦК принял предложение Ленина немедленно подписать условия мира, предложенные Германией, Урицкий в числе нескольких товарищей подал в ЦК заявление об уходе с партийных и советских постов. Однако Урицкий заявил, что «товарищи уходят с ответственных постов, но не из партии». Вследствие сложности политической обстановки ЦК предложил этим товарищам временно остаться на место и вести чисто практическую работу.
Теперь Моисей Соломонович дни и почи проводит на заводах и фабриках, в частях и подразделениях армии, выступая перед уходящими на фронт солдатами и рабочими, вселяя в них уверенность в победе и решимость не щадить жизни, защищая родной Петроград от нашествия империалистических полчищ врага.
В течение одного-двух дней была приостановлена начавшаяся демобилизация армии.
С оркестром во главе боевым маршем шла с Варшавского вокзала к Смольному фронтовая дивизия, чтобы, сдав оружие, архив и кассу, распустить солдат по домам. К головному отряду подбежал молодой рабочий с пачкой воззваний.
— Воззвание Ленина! — кричал он. — Немцы на подступах к Петрограду! Социалистическое отечество в опасности!
Из рук рабочего взял листок комиссар дивизии и, быстро его просмотрев, что-то сказал командиру дивизии.
— Дивизия, стой! — раздалась громкая команда. Строй замер. Комиссар вскочил на какое-то возвышение и громко стал читать страстное воззвание Ленина.
Наступила тревожная тишина, в которой отчетливо были слышны ленинские слова. Комиссар кончил читать. Помолчал, вглядываясь в лица солдат.
— Ну как, товарищи, — вдруг громко спросил он, — идем в Смольный демобнлнзовываться?
— На фронт! — грозно откликнулась тысячеголосая дивизия. Неприукрашенная правда в словах вождя прямо говорила о нависшей опасности, звала всех, кто мог держать в руках оружие, к отпору врагу.
Через несколько часов дивизия, погрузившись на Варшавском вокзале в эшелоны, выехала на фронт.
Но встретить наступающие на Петроград немецкие войска готовились не только защитники социалистической республики, их с нетерпением поджидали всевозможные деятели контрреволюции.
Однако еще 21 февраля, накануне опубликования декрета «Социалистическое отечество в опасности!», был создан Чрезвычайный штаб Петроградского военного округа и в тот же день — Комитет революционной обороны Петрограда. Чрезвычайный штаб этого комитета возглавил Моисей Соломонович Урицкий.
Трудные это были дни для Советской России. Разбойничьи полчища германских империалистов, именовавшие себя защитниками прогресса и цивилизации, тысячами расстреливали пленных пролетариев, громили рабочие организации, возвращали землю помещикам, фабрики и заводы — капиталистам. Затягивая всемерно переговори, о мире, спешили поглубже вклиниться в тело Советской России, завладеть ее богатствами, с корнем вырвать все начинания молодой Советской республики. И в первую очередь захватить колыбель революции — красный Петроград, готовя смерть его защитникам, разгром всех организаций неокрепшего еще Советского правительства.
Петроградский военный округ объявляется театром военных действии. Комитет революционной обороны Петрограда в составе Урицкого, Володарского, Еремеева, Подвойского и Гусева мобилизует все силы рабочих, солдат и красногвардейцев для успешной обороны революционной столицы от неприятельского вторжения.
Вот одна из записок Владимира Ильича Ленина Урицкому, говорящая о том, какой ценой русский пролетариат и Советская власть готовились отстаивать свое существование:
«Мы полагаем, что завтра, 3 марта, будет подписан мир, но донесения ваших агентов в связи со всеми обстоятельствами заставляют ожидать, что у немцев возьмет верх партия войны с Россией в ближайшие дни. Поэтому безусловный приказ: демобилизацию красноармейцев затягивать, подготовку подрыва железных дорог, мостов и шоссе усилить, отряды собирать и вооружать; эвакуацию продолжать ускоренно, оружие вывозить в глубь страны».
«Победа или смерть» стало лозунгом, знаменем, которое высоко поднял рабочий класс в борьбе за пролетарию диктатуру.
3 марта был наконец подписан мирный договор с Германией. Договор был тяжелый и невыгодный для Страны Советов, но он все же вырвал Советскую Россию из империалистической войны. И подписание мирного договора стало возможным в результате героической обороны Петрограда, когда воинские части и рабочие отряды не только остановили наступление немцев на Петроград, но и заставили их отойти от станции Дно и оставить занятый Псков.
В этой напряженной обстановке 6 марта 1918 года открылся VII Экстренный съезд большевистской партии. Пролетарская диктатура, поставленная против германского империализма, должна была сделать выбор между невыгодным, «похабным» миром и неравной борьбой с вооруженным до зубов противником. В повестке дня съезда стояли такие важные вопросы, как пересмотр программы партии и ее наименования, но главное место на съезде занял вопрос о войне и мире. О заключении мира, необходимость которого диктовалась военным, политическим и экономическим положением страны. Практически пролетарская диктатура не имела армии, которая могла бы противостоять отлично вооруженным, дисциплинированным немецким войскам. Старая армия, усталая, захлебнувшаяся в крови империалистической воины, разбегалась, захлестывая железные дороги и города беспорядочно демобилизующимися солдатами.
Первое в мире социалистическое государство должно быть сохранено во что бы то ни стало, говорил Ленин, а следовательно, надо добиться мирной передышки для экономического оздоровления страны, укрепления ее обороноспособности, создания армии.
Содокладчиком по этому вопросу выступил лидер оппозиции, которая на съезде была в явном меньшинстве, Бухарин. «Русская революция либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала», — категорически заявил он. Бухарина пытались поддержать Бубнов, Осинский и Урицкий. Но Моисей Соломонович чувствовал, что аргументы, приводимые им для защиты так называемой «революционной войны», уже давно разбиты точными ленинскими обоснованиями необходимости мира. Когда же прозвучали слова выступления «левой коммунистки» Коллонтай: «И если погибнет наша Советская республика, наше знамя поднимут другие. Это будет защита не отечества, а защита трудовой республики. Да здравствует революционная война!», Урицкий начал понимать ошибочность своих взглядов. Нет, гибели Советской республики он не хотел ни при каких обстоятельствах.
Съезд принял резолюцию, предложенную Владимиром Ильичей Лениным, об одобрении заключенного мира с Германией.
С докладом о необходимости пересмотра программы партии и ее названия выступил снова Ленин. Ввиду большой важности проблемы и ограниченного времени решили создать комиссию во главе с Лениным для разработки новой программы.
Съезд постановил именовать партию — Российская Коммунистическая партия (большевиков).
Съезд избрал ЦК партии из 15 человек во главе с Лениным. Урицкий был избран кандидатом в члены ЦК.
Несмотря на опасения Урицкого, после подписания мирного договора наступление немцев прекратилось. Прямая опасность взятия германскими войсками Петрограда была снята. Но надолго ли? Аппетит германских империалистов растет с каждым днем. Новые условия мира, выдвинутые Германией после отказа Троцкого подписать Брестский мир, стали во много раз хуже, тяжелее и унизительней.
Моисей Соломонович достал карту Европы и синим карандашом стал делать пометки, обозначая территории, отходящие по договору к Германии: Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, Литва и Польша. К Турции отходили Каре и Ардаган, а также Батум. И ведь это не только территориальные потери, оккупанты восстанавливают господство помещиков и капиталистов, свергнутых революцией. Вывод русских войск из Финляндии и Украины позволял немцам наводить свои «порядки» и в этих странах. А вознаграждение за экспроприацию земельной собственности и концессий германских подданных в сумме трех миллиардов золотых рублей, уплата процентов за обязательства царского правительства — полмиллиарда и масса других унизительных политических и экономических требований… И все же. Прав ли он был, голосуя даже на узком составе ЦК против заключения мира? Прав ли был, подавая в ответ на принятое ЦК решение вместе с другими видными партийными работниками заявление об уходе с занимаемых ими постов, о праве для себя свободной агитации против Брестского мира? Но ведь наступление немцев прекратилось. Советская республика может быть спасена. Значит, Ленин сумел посмотреть дальше, предусмотреть больше. И как хорошо, что в ответ на заявление об уходе из ЦК предложил всем временно оставаться на местах, дал возможность обдумать свои поступки и помыслы. А революции опасны сейчас не только немцы. Разведывательные сведения, поступающие в Смольный, ясно показывали, что, пользуясь сложившейся обстановкой, контрреволюция направила в Петроград множество шпионов и диверсантов для подрыва и, если удастся, для уничтожения Советской власти. Каждый шаг рабоче-крестьянского правительства наталкивается на враждебный саботаж, а то и на прямое противодействие, не исключая террористических актов против руководителей правительства и партии.
Урицкий знал, что уже давно поднимается в правительстве вопрос о переводе столицы из Петрограда в другое место. Напряженная военная обстановка тоже подтверждала целесообразность такого перевода.
Вопрос о переезде столицы в Москву был решен на закрытом заседании Совета Народных Комиссаров. Незадолго перед заседанием член Военного Совета Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, брат управляющего делами Совнаркома Владимира Дмитриевича, докладывал Ленину о ходе военных операций под Петроградом и привлечении в Красную Армию русских генералов и офицеров, готовых стать на защиту родины.
— Не все они за Советскую власть, — признался Михаил Дмитриевич, — но Россию, свой народ они любят и будут честно воевать против захватчиков. — Оставив Владимиру Ильичу список, Бонч-Бруевич перешел к положению на фронтах. Изложив оперативную обстановку, он добавил: — Учитывая появление немецкого флота на Балтике, воинственные выступления немцев в Финляндии и сосредоточение финских контрреволюционных сил на нашей границе, оставлять правительство всей страны в Петрограде с военной точки зрения нецелесообразно.
— Где же, по вашему мнению, должно находиться правительство? — спросил Ленип.
— В Москве, — последовал уверенный ответ.
— Напишите это ваше мнение и представьте мне, — попросил Владимир Ильич.
На четком по-военному рапорте Бонч-Бруевичй Ленин написал: «Согласен». Срок отъезда был намечен на 10 марта 1918 года. Одновременно было решено, что Совет Народных Комиссаров и ВЦИК разместятся в Кремле.
О решении правительства переехать в Москву было по телеграфу сообщено всем советским учреждениям и всем крупнейшим столицам мира.
Люди в меблированных комнатах дома № 86 по Невскому проспекту жили тихо, стараясь не привлекать к себе внимания властей. Большую часть времени они проводили за игрой в карты и умеренном пьянстве. Но однажды, погожим мартовским днем, один из жильцов пришел с улицы, не снимая фуражки, прошел прямо к столу и бросил на него сложенную вчетверо газету. Прервавшим карточную игру пояснил:
— Господа! Поздравляю. День нашего выступления близок. Большевики бегут из Петербурга. Переселяются, так сказать, в глубь матушки России!
Руки, побросавшие карты, стремительно рванулись к газете.
«Известия» сообщали, что 11 марта 1918 года специальный правительственный поезд № 4001 отбывает в Москву.
— Неужели вывозят Совнарком? — недоверчиво спросил один из отроков.
— И Совнарком, н ВЦИК, и ВЧК — все вывозят, — захлебываясь от радости, ликовал пришедший. — Не сегодня завтра Петербург будет наш. Пора действовать!
По городу поползли слухи, будто большевики эвакуируются в Москву, оставляя Петроград наступающим немецким войскам. Подозрительные типы расклеивали на Невском проспекте фальшивое воззвание будто бы Петроградского Совета, в котором Петроград объявлялся вольным городом. Пряча холеные руки в карманы солдатских шинелей, разгуливали по улицам города бывшие царские офицеры.
Притихшие было в особняках враги революции воодушевились:
— Видно, худо большевикам! Господа, вот и настало время для сокрушающего удара!
Меньшевики и эсеры шныряли по коридорам учреждений, у проходных фабрик и заводов и, подливая масла в огонь, злорадствовали: «Нет сил у большевиков удержать власть. Не могут они ничего противопоставить разрухе, голоду и наступлению германских войск».
Решение о переводе столицы из Петрограда в Москву у многих вызвало беспокойство, даже у большевиков, не говоря уж о простых людях, сторонниках Советской власти.
Что станет с Петроградом после отъезда правительства? С этим вопросом многие шли в Смольный к Ленину.
Одним из первых обратился к Владимиру Ильичу народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.
— Владимир Ильич, в городе смятение! Население говорит, что большевики покидают его на произвол судьбы! Что можно сделать, чтобы поддержать спокойствие и порядок в городе?
Владимир Ильич вышел из-за письменного стола.
— Анатолий Васильевич, никто не собирается сдавать Петроград на милость победителей. Здесь остается Бюро ЦК нашей партии во главе со Стасовой. Остаются другие товарищи, вы, Анатолий Васильевич. И мы вам оставляем Урицкого…
После разговора с Лениным поздним вечером вышел Луначарский из Смольного. Постоял на ступеньках главного подъезда, посмотрел на окна третьего этажа. Бледно-желтым светом отражался в трех угловых окнах огонь настольной лампы, горевшей на письменном столе Ленина.
«Мы вам оставляем Урицкого», — сказал Владимир Ильич. Сказал, как о гарантии порядка в революционном Петрограде. «Нет, не случайно выбор пал на Урицкого», — подумал Луначарский, ясно представляя себе невозмутимого, улыбающегося Урицкого, по-медвежьи идущего по коридору Таврического дворца.
Известие о том, что в Петрограде остается Урицкий, успокоило многих сторонников Советской власти, по насторожило и остудило пыл ее врагов.
Несмотря на крайне сжатые сроки, большевики готовились к переезду в Москву спокойно и по-деловому. В Петрограде взамен отъезжающих учреждений создавались местные, губернские.
Вечером 7 марта 1918 года в особняке бывшего градоначальника на Гороховой улице, 2, где находилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, тоже шло заседание. Председательствовал, как обычно, Феликс Эдмундович Дзержинский, присутствовали члены комиссии: Ксенофонтов, Щукин, Евсеев, Полукаров и другие.
Феликс Эдмундович четко изложил план переезда правительства и партийного руководства в Москву:
— Нам ясно, что после ВЧК в Петрограде должна функционировать местная ЧК. Необходимо немедленно разослать телеграммы о том, чтобы представители всех районов города прислали не менее двух надежных товарищей для работы в Петроградской ЧК.
Во главе Петроградской ЧК Владимир Ильич Ленин предлагает поставить товарища Урицкого.
8 марта с первыми лучами раннего весеннего солнца Моисей Соломонович Урицкий отправился на Гороховую, 2. Но уже застал там Феликса Эдмундовича. Покрасневшие глаза и набухшие веки говорили, что председатель ВЧК Дзержинский провел сегодня еще одну бессонную ночь. Тепло поздоровавшись с Урицким, он протянул ему папку с бумагами.
— Тут я подобрал дела, которыми рекомендую заняться в первую очередь. Просмотри. Если что не ясно, обсудим. У нас ведь впереди еще целые сутки.
Но ни просматривать дела, ни обсуждать их не пришлось. В кабинет вошел секретарь ВЧК Иван Ильич Ильин и доложил Дзержинскому, что в приемной комнате собрались представители районов, рекомендованные на работу в Петроградской ЧК.
Весь день 8 марта практически ушел на формирование Петроградской ЧК, а 9-го Всероссийская чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским отбыла в Москву.
Урицкий не был новым человеком на Гороховой, 2. Еще в конце января он временно замещал Феликса Эдмундовлча Дзержинского на посту председателя ВЧК.
Направленные на работу в ВЧК старые революционеры-подпольщики, прошедшие царские тюрьмы и ссылки, не могли похвастаться здоровьем. Почти все вынесли из каторжных работ, шахт, сырых темных подвалов, сибирских этапов устойчивый туберкулез, или попросту чахотку. Одолевала она и Дзержинского.
Когда доложили Владимиру Ильичу, что председатель ВЧК даже во время допросов контрреволюционеров прикладывает к губам платок, который окрашивается кровью, Ленин категорически настоял, чтобы Феликс Эдмундович немедленно занялся своим здоровьем. Никакие отказы не помогли. По решению ЦК Дзержинский выехал под Петроград в санаторий «Халила».
Но долго работать председателем ВЧК тогда Урицкому не пришлось. Посчитав, что решение ЦК им выполнено, ровно через два дня Феликс Эдмундович, «пройдя полный курс лечения», вернулся в свой кабинет, уселся за письменный стол и приступил к работе.
Ночь с 9 па 10 марта показалась Моисею Соломоновичу самой длинной в его жизни. В эту последнюю ночь пребывания Ленина в Смольном могло случиться многое. Ведь не случайно именно в эту ночь происходило опасное брожение в двух стрелковых полках, куда, по сообщению представителей солдатских комитетов, пробрались корниловские офицеры. Не случайно на Обводном канале произошел грандиозный пожар жилых домов и складов. А ведь в Смольном вместо отлично несших караульную службу латышских стрелков под командованием Берзиня заступают солдаты и матросы, мало искушенные в делах караульной службы. Потому было решено временно оставить в Петрограде около трехсот латышских стрелков.
С отъездом ЦК партии и Совнаркома все управление Петроградом возложено на Бюро ЦК по Петрограду и Петроградский Совет.
Организацию военной обороны города и его защиту от внутренней контрреволюции поручено возглавить товарищу Урицкому.
Вся подготовка к переезду правительства в Москву, охрана его в пути и устройство в Москве была возложена на управляющего делами Совнаркома Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича.
Никому не говоря о точно намеченном сроке отъезда Совнаркома в Москву — 10 марта, Бонч-Бруевич стал подбирать верных людей, которые должны обеспечить безопасность этого сложнейшего мероприятия. Как председатель ПЧК, Урицкий должен был выделить чекистов в распоряжение Бонч-Бруевича и наблюдать за ходом подготовки. Непосредственная подготовка поездов, погрузка в них имущества и людей поручалась комиссару Николаевской железной дороги Петру Григорьевичу Лебиту. Бывший рабочий завода «Айваз», участник баррикадных боев еще в дни революции 1905 года, он в октябре 1917 года был назначен ВРК комиссаром железнодорожного вокзала и дороги и справлялся со своим делом безупречно.
Получив задание об отправке специального поезда, Лебит предложил сформировать конспиративно на Цветочной площадке железнодорожный состав, который затем, минуя вокзал, выйдет на линию, ведущую к Москве.
10 марта около десяти часов вечера несколько автомашин одновременно подъехали к поезду. Из первой вышел Бонч-Бруевич. К нему тотчас же подошли с керосиновыми фонарями в руках Лебит и машинист поезда. Лебит тихо доложил, что поезд к отправке готов. В окнах вагонов замелькали зажженные свечи, в тамбурax появились проводники с керосиновыми фонарями.
Бонч-Бруевич подошел к одной из машин:
— Можно грузиться.
Из машины вышли Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Мария Ильинична. Они вслед за Бонч-Бруевичем поднялись в вагон. В окне ярко загорелась настольная лампа. Владимир Дмитриевич быстро задернул занавеску.
Без гудков и свистков поезд тронулся и, медленно набирая скорость, скрылся в темноте…
А за сутки до отправки поезда № 4001 Урицкий на Гороховой, 2, продолжал допрос арестованных по пути следования правительственного поезда, эти люди были задержаны не только с огнестрельным оружием в руках, но и с бомбами и запасами взрывчатого вещества. При многих были документы, свидетельствующие об оживлении деятельности контрреволюции. Взрывчатка была обнаружена чекистами и на одном железнодорожном мосту, по которому должен был пройти поезд. Это было за день до намеченного отъезда.
Докладывая Владимиру Ильичу о плане переезда правительства в Москву, Бонч-Бруевич счел себя не вправе скрывать сведения о раскрытом заговоре — подготовке взрыва поезда.
Выслушав это сообщение, Ленин спросил:
— И что же, мы все-таки поедем?
— Конечно, — уверенно ответил Владимир Дмитриевич.
Ленин одобрил план переезда и предложил держать все в полном секрете, даже в Совнаркоме не делать переезд темой разговоров, чтобы кто-либо случайно не проболтался. Дезинформация о времени отправки поезда, бдительность чекистов сделали свое дело — поезд благополучно отбыл в Москву.
Предполагалось, что комендантом правительственного поезда с Советом Народных Комиссаров будет комендант Смольного матрос Павел Мальков. Он уже совсем было собрался отправиться на Цветочную площадку, когда его вызвал Урицкий.
— Товарищ Урицкий, по вашему вызову прибыл, — лихо, с выворотом ладони, откозырял Мальков.
— Очень хорошо. Получены сведения, что в двух стрелковых полках гарнизона затевается скверная история, — сказал Моисей Соломонович, с удовлетворенном оглядывая мощную фигуру матроса. — Пробравшиеся туда корниловские офицеры кое-кого обработали. Необходимо срочно принять меры.
— А как же быть с приказом? — спросил Мальков. — Ведь я имею распоряжение Якова Михайловича выехать с Владимиром Ильичом, а сегодня и от Бонча получил официальный приказ. Я уже начал сдавать дела…
В кабинет Урицкого вошел Володарский. Увидев Малькова, явно обрадовался.
— Вот он, Мальков! А я его по всему Смольному разыскиваю! Ко мне пришли товарищи, остающиеся в Петрограде, и выразили протест против сдачи им дел и скоропалительного отъезда… Как же так, дескать, и сам уезжает, и латышей увозит, оставляя практически без охраны Смольный. Никто, конечно, ничего не имеет против нового коменданта, но Мальков должен дела ему передать сам, когда будет организована новая охрана Смольного. Время-то какое — того и гляди, контрреволюция попытается овладеть Смольным.
Какое сейчас время, Урицкий знал не хуже Володарского. Взяв у Малькова приказ Бонч-Бруевича о передаче охраны Смольного новому коменданту, он обратился к матросу:
— Видишь, как получается. Ты действительно нужен в Петрограде. И не только для наведения порядка в полках, но и для организации охраны Смольного. Ну, с Бончем-то мы поладим, это полбеды, а вот как быть с распоряжением Якова Михайловича? Ни я, ни он, — кивнул Урицкий в сторону Володарского, — распоряжение Свердлова отменить не вправе. Это может сделать только сам Яков Михайлович, а его уже нет — вчера отбыл в Москву. Остается один выход: идти к Владимиру Ильичу. Если удастся его убедить, что твой отъезд сейчас нежелателен, то он отменит распоряжение Якова Михайловича. Кто же еще?
В день отъезда Ленин пришел в Смольный с рассветом. Выждав несколько минут, чтобы дать Владимиру Ильичу время сиять пальто, Володарский с Мальковым подошли к кабинету. Дверь была открыта. Ленин, выдвинув ящик письменного стола, доставал нз него какие-то рукописи.
— Заходите, товарищи, — приветливо позвал он, увидев остановившихся в дверях Володарского и Малькова.
Володарский постарался как можно яснее изложить Ленину цель прихода. Его доводы, что Смольный-де остается почти без охраны, Ленин выслушал довольно скептически: как же! Трехсот латышей мало?! Однако, когда Володарский и Мальков рассказали ему о напряженном состоянии в двух стрелковых полках и передали точку зрения Урицкого, Ленин тут же забеспокоился.
— Что же, — сказал он, — пусть Мальков остается. Можно оставить и часть латышских стрелков, выделенных для охраны поезда Совнаркома. Обойдемся меньшим числом.
— Коли падо, я останусь, — сказал Мальков. — Не уеду, пока не наведу порядок в полках и не организую охрану Смольного, но ни одного человека с поезда Совнаркома не сниму…
— Ну, смотрите, — согласился Владимир Ильич, глядя на решительного матроса, будущего коменданта Кремля, — вам виднее.
После доклада Урицкому о результатах разговора с Лениным Мальков отправил нескольких латышских стрелков в ненадежные полки на разведку, а сам поехал на Цветочную площадку, чтоб проследить за погрузкой и организацией охраны поезда.
Туда и доставили Малькову предписание секретаря Комитета революционной обороны Петрограда Гусева:
«Коменданту Смольного института.
Объявляю вам и предлагаю немедленно объявить всем караулам, что сегодня, 10 марта, к 3 часам дня, к Смольному институту придут наши броневики, почему предписывается не принимать эти броневики за белогвардейские и германские и не производить по ним стрельбы.»
«Спасибо, Моисей Соломонович побеспокоился, прислал поддержку на время „смены власти“ и смены охраны в Смольном, — подумал Мальков. — С мятежными полками мы разберемся ночью, после отъезда Ленина, а пока нужно принять все меры, чтобы этот исторический день 10 марта прошел спокойно».
А для беспокойства было немало поводов.
В этот день на вокзалах продолжались бесчинства демобилизованных, требовавших с оружием в руках внеочередной отправки их эшелонов. Двести вооруженных солдат из верных революции частей с четырьмя пулеметами были направлены Урицким на помощь красногвардейцам Николаевского вокзала для разоружения трехсот матросов; сто бойцов с шестью пулеметами — на Варшавский вокзал.
Ни Ленин, ни Бонч-Бруевич в черном лимузине, следующем на Цветочную площадку, не заметили, что на всем пути их сопровождают направленные Урицким броневики. Не мог Моисей Соломонович Урицкий, учитывая обстановку, разрешить следование Ленина к поезду Совнаркома без особой охраны…
Около восьми часов вечера поезд № 4001 благополучно прибыл в Москву. Получив телеграфное подтверждение об этом на железной дороге, Урицкий попросил продублировать его по билд-телеграфу Смольного.
11 марта 1918 года в Москву отправились новые поезда, в которых находились сотрудники СНК, ВЦИК и других центральных учреждений, а в Петрограде весь день проходила реорганизация исполнительных органов Петроградского Совета. Был создан Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны, заменивший Исполнительный комитет Петроградского Совета. Вместо отделов появились комиссариаты, назначены их руководители. Моисей Соломонович Урицкий стал комиссаром внутренних дел, оставаясь одновременно и председателем чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Всю ночь с 8 на 9 марта Феликс Эдмундович вводил председателя Петроградской ЧК в оперативную обстановку, сложившуюся в городе. Урицкому оставалось только удивляться, как глубоко проник председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии в замыслы руководителей многочисленных подпольных организаций. Перед Урицким разворачивалась картина деятельности контрреволюционных монархических организаций и представителей правых партий, которые налаживали тесные связи с немцами, французами и англичанами. В дело шло все: шпионаж, диверсии, террор, антисоветские восстания и мятежи. «Работа» подпольных организаций щедро оплачивалась и русскими капиталистами, и иностранными разведками. Все было направлено к одной пели — свержению Советской власти. Чиновники саботировали работу в новых совотских учреждениях; электроэнергия подавалась заводам и фабрикам, в учреждении и жилые дома с недопустимыми перебоями; не хватало продуктов питания и топлива; прекратили работу учебные заведения.
На улицах города открыто мародерствовали дезертиры, матерые уголовники, выпущенные из тюрем министром юстиции Керенским, грабили население, устраивали бандитские налеты на магазины, склады и квартиры.
Размещенные в посольствах и консульствах резиденты разведок стран Антанты собирали сведения о боеспособности создаваемой большевиками Рабоче-Крсстьянской Красной Армии. Готовилась военная интервенция.
Моисей Соломонович, назначенный еще в феврале начальником штаба Комитета революционной обороны Петрограда, вместе с Дзержинским, Подвойским, Бонч-Бруевнчем, Гусевым и другими большевиками делал все возможное по наведению порядка в городе. Петроград был очищен от выпущенных после революции из лагерей военнопленных немцев и австрийцев. Уж больно вольготно им жилось в Петрограде. Десятки тысяч бывших военнопленных свободно расхаживали по улицам города. Офицеры устраивались на квартиры к его жителям. Для голодающего города прокормить всю эту ораву было не под силу. Совнарком принял решение об эвакуации военнопленных в хлебные районы страны. Однако врагами Советской власти был пущен слух среди пленных, что их ссылают в Спбпрь. Они от эвакуации отказались.
Ответственным за проведение этой операции Совнарком назначив Урицкого. Вместе с чекистами Дзержинского бойцы Комитета революционной охраны Петрограда, применяя там, где не помогали уговоры, силу, в несколько дней очистили город от «нахлебников».
Нe успели выпроводить военнопленных, которых и военнопленными-то не назовешь, как порядок в городе был нарушен анархистскими выступлениями флотским экипажей. И с этим справились бойцы Комитета роволюционной охраны. И здесь, конечно, не обошлось без помощи Феликса Эдмундовича Дзержинского, который весьма своевременно опубликовал постановление ВЧК о расстреле врагов Советской власти прямо на месте. Очень многозначительным было объявление ВЧК о расстреле князя Эболи, бандита, грабившего граждан Петрограда используя поддельные документы ВЧК.
Но это открытые враги, с этими прохце. А что делать с горе-патриотамн, которые из самых лучших побуждений могут навредить больше, чем террористы и диверсанты. Важнее дела, чем безопасность Петрограда, нет. А кое-кто из руководителей стал готовить к взрыву предприятия города. Чтобы не достались немцам. Значит, допускали возможность сдачи Петрограда врагу. Урицкий начал тогда с Ижорского завода. Комитет революционной обороны предписал заводскому комитету: «Пустить завод полным ходом и ни в коем случае не принимать мер к взрыву». Экстренными мерами с трудом удалось предупредить опаснейшее паникерство.
…Урицкий поднялся из-за письменного стола, отложил в сторону бумаги, прошел к окну и прислушался к тишине. Город спит, доверяя ему — председателю ЧК — охранять свой покой. Закружилась голова: сказались последние бессонные ночи. Нужно хоть немного поспать, чтобы завтра быть работоспособным. Он прошел в закуток, выделенный в кабинете серыми, солдатского сукна, занавесями, улегся на узкую железную койку. Но сон, как нарочно, не приходил, события последних недель не покидали изнуренный длительной бессонницей мозг.
Наконец Моисей Соломонович уснул.
Вскочил он от телефонного звонка. Но телефоны молчали. Может, приснилось? Может, звонят в кабинете Феликса Эдмундовича?
Урицкий прошел в кабинет председателя ВЧК, взглянул на большой письменный стол, на котором не лежало ни одной бумажки. Как будто с отъездом Дзержинского в Москву все опустело, иссякли дела, приостановилась жизнь. После отъезда Феликса Эдмундовича в Москву Урицкий не занял его кабинет, а обосновался в том, который был предоставлен ему на Гороховой, 2, при временном замещении председателя ВЧК в январские дни.
— Кабинет Дзержинского должен оставаться кабинетом Дзержинского, — твердо и коротко сказал Урицкий.
В маленькую комнату Моисея Соломоновича провели линии двух телефонов, один из которых через Смольнинский билд-телеграф давал возможность поддерживать связь с Москвой, другой через телефонную станцию вести внутренние переговоры. По его же просьбе тут поставили солдатскую кровать, отгородив ее суконной занавесью.
Урицкий возвратился к себе, подошел к телефонному столику, снял телефонную трубку. Мгновенно отозвался звонкий девичий голос — связь работала безотказно.
— Соедините меня со Смольным. — Он назвал номер. В телефоне зазвучал знакомый бас Гусева. Значит, тоже нe спит. Сам не отказываясь ни от каких поручений, Урицкий всегда удивлялся энергии этого коммуниста. Тот умудрялся одновременно быть секретарем Совета Народных Комиссаров и Комитета революционной обороны Петрограда, теперь же ему приходилось исполнять обязанности управляющего делами Петроградского Совета. На нем же лежала ответственность за связь посредством аппарата Морзе с Москвой. Гусев сообщил, что в большом императорском Александрийском театре сегодня состоится специальное собрание Петросовета, посвященное годовщине Февральской революции, на котором желательно присутствие Урицкого.
— Подожди, подожди, какая же годовщина февраля в марте, — удивился Моисей Соломонович, в ответ в трубке раздался веселый смех.
— Ты что, забыл, что в связи с переходом на летосчисление по новому стилю февраль стал длиннее на 14 дней? И следовательно, по старому стилю сегодня 27 февраля.
— Хорошо, буду.
Урицкий положил трубку, обошел вокруг стола и сел в кресло. В ящике стола лежит папка с надписью «Неотложное». Раскрыв ее, Урицкий обратил внимание на тщательно заклеенный конверт. «Лично Урицкому» — синим карандашом помечено в уголке конверта. Когда же Дзержинский успел положить этот конверт в папку? Аккуратно, чтобы не повредить вложенное, Моисей Соломонович вскрыл его. Ну конечно! То, о чем предупреждал Феликс Эдмундович, — особый шифр для переписки между председателями ВЧК и ПЧК. Рукой Дзержинского на листке бумаги старательно выведена вся сложная механика шифра. С этим документом нельзя будет расставаться ни днем, ни ночью. Опустив шифр во внутренний карман пиджака и взяв папку с бумагами, Урицкий занялся изучением ее содержания. В работе Урицкий не заметил, как наступило утро. В коридорах затопали сапогами сотрудники ЧК, вошел секретарь Носилевич.
— Моисей Соломонович, стаканчик чаю.
— С удовольствием, спасибо.
К чаю — два сухаря и ложечка засахарившегося варенья.
Прихлебывая горячий напиток, заваренный сушеной морковкой, Урицкий попросил:
— Пригласите ко мне, когда придет, товарища Антипова.
— Он у себя в отделе.
Антипова, несмотря на его молодость, Дзержинский рекомендовал назначить начальником отдела борьбы с контрреволюцией. Бывший слесарь Адмиралтейского завода, член подпольного Петербургского комитета большевиков, он до революции арестовывался, высылался. Владел основами конспирации и борьбы с царской полицией.
— По вашему вызову прибыл, — четко доложил Антипов.
— Николай Кириллович, по сообщению жильцов, проживающих по Невскому проспекту, 66, в меблированных комнатах собираются контрреволюционные офицеры-корниловцы, — Урицкий достал из папки листок. — Нужно ими заняться.
— Там действительно осиное гнездо. Готовятся к восстанию, — улыбнулся Антипов.
— Так чему же вы радуетесь?
— Созреют — возьмем, сегодня у меня будет полный список всей компании, — еще шире улыбнулся чекист.
— Хорошо. Держите меня в курсе событий.
Отпустив Антипова, Урицкий снова углубился в изучение материалов из папки «Неотложное», когда в кабинет без стука вошел Бокий.
Глеба Ивановича Бокия Моисей Соломонович хорошо знал еще по работе в ВРК. Он был оставлен в Петрограде вместе с Урицким, и Дзержинский рекомендовал его заместителем председателя Петроградской ЧК. Это был испытанный боец партии большевиков. Много лет провел в тюрьмах и ссылках. Был секретарем нелегального Петербургского комитета РСДРП (б). Сейчас Урицкому и Бокию предстояло наладить работу чрезвычайной комиссии. Петроградские районные Советы направили для работы в Петроградскую ЧК рабочих, солдат и матросов, готовых отдать вою жизнь для борьбы с контрреволюцией, но не имевших ни знаний, ни опыта чекистской работы. И обучать их нужно было, ни на минуту не прекращая борьбы с сильным, ненавидевшим Советскую власть противником.
— Перед отъездом Феликс Эдмундовяч рекомендовал строить Петроградскую ЧК подобно ВЧК, — сказал Бокий, протягивая Урицкому подготовленный проект.
— Возражений нет, — сказал Урицкий, прочитав документ, — наша задача на ближайшее время будет заключаться в очистке города от вражеских агентов и контрреволюционеров, защите жителей от насилий и разбоев, мародерства и хулиганских выходок. Наиболее серьезные дела мы будем направлять в ВЧК.
Вместе с Глебом Ивановичем Бокием обсудили обстановку; она осложнялась тем, что лучшая часть петроградского пролетариата, солдат и матросов уходила на фронты — на Дон и Волгу, против Каледина, Краснова и других контрреволюционных генералов. Многие рабочие с оружием в руках добывали у кулаков хлеб для жителей голодающего города. Нити контрреволюционных организаций уходили в иностранные посольства и консульства, оставшиеся в Петрограде и пользующиеся дипломатической неприкосновенностью. Во главе всех разведок воцарились англичане, но для Урицкого это не было новым — еще в Дании и Швеции во время эмиграции он понял, что в конечном счете все пути иностранных разводок ведут в «туманный Альбион».
Одно из первых тревожных сообщений, поступивших в Петроградскую ЧК, касалось царской фамилии. Некоторые монархические организации, делая ставку на контрреволюционный переворот, хотят использовать членов семьи бывшего царя как «знамя борьбы против большевиков».
Единственно правильпьш решением могло быть только выдворение из Петрограда не только Николая II, но и всей его семьи куда-нибудь подальше, в глубь страны.
Урицкий предложил собрать у себя в кабинете членов Комргтета революционной обороны Петрограда. Однако приехал только Подвойский. Гусев был занят подготовкой пленарного заседания Пегросовета.
— Пожалуй, для царской семьи подходящим местом высылки может быть Екатеринбург, — сказал Урицкий.
Подвойский согласился.
Для сопровождения высылаемых решено было выделить комиссара Квятковского, которому за подписями Урицкого и Подвойского выдали удостоверение о наделении его особыми полномочиями, необходимыми в таком ответственном деле. Высылка должна была осуществляться секретно, дабы избежать попыток похищения. Не исключалась возможность нападения со стороны анархистов, бандитов или дезертиров с целью грабежа. Это могло вызвать ненужные толки и пересуды.
В Екатеринбург Моисей Соломонович направил телеграмму:
«Романовы высланы интересах предупреждения надзор установить рекомендую всякий случай порядок вашему усмотрению. № 98. Комиссар Урицкий».
В подтверждении Екатеринбургского Совета говорилось, что для размещения Романовым будет предоставлен дом купца Платова. В этом Урицкий усмотрел причуду судьбы: 14 марта 1613 года из Ипатьевского монастыря в Москве шагнул на царский престол Михаил Романов, первый царь из этой династии. В дом купца Ипатова уйдет с русского престола последний Романов, Николай. И надо думать, теперь уж навсегда.
Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны, созданный вместо Исполнительного комитета Петросовета, на пленарном заседании утвердил Урицкого не только председателем ЧК, но и комиссаром внутренних дел.
На Дворцовой площади, где разместился Комиссариат внутренних дел, появился второй кабинет Урицкого. Здесь ему предстояло проводить прием граждан и руководить работой милиции и другими подразделениями этого комиссариата.
Вновь созданный комиссариат насчитывал всего одиннадцать служащих.
В анкете для комиссаров Петроградской коммуны 25 марта 1918 г., характеризуя новый комиссариат, Урицкий написал: «Разряды дел еще точно не установлены. Пока ведает лишь внутренней и внешней охраной Петрограда. В работе соприкасается с Комитетом охраны Петрограда».
Позднее Урицкий указал, что комиссариат внутренних дел ведет следствие и розыск: «Все крупные и чрезвычайно важные дела по контрреволюции и спекуляции должны быть направлены в Чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Гороховая, 2».
Своим заместителем по комиссариату внутренних дел Урицкий предложил утвердить Благонравова Георгия Ивановича, известного по работе в ВРК и комендантом Петропавловской крепости.
21 марта 1918 года Моисей Соломонович Урицкий обратился от имени Петроградской Чрезвычайной комиссии к гражданам Петрограда с требованием в течение трех дней сдать незаконно хранящееся у частных лиц оружие. «Лица, у которых… будут обнаружены бомбы, гранаты, взрывчатые вещества и другое оружие, будут предаваться суду революционного трибунала», — значилось в обращении. И оно возымело действие, неожиданное даже для старых работников ЧК, прошедших школу ВЧК и 75 комнаты Смольного. На указанные пункты сдачи оружия понесли от полуигрушечных браунингов до пулеметов включительно с запасными ящиками патронов. Видимо, граждане Петрограда хорошо осознали, что ЧК слов на ветер не бросает.
В городе острая нехватка бензина. Единственный выход—резкое сокращение расходования горючего автомобильным транспортом. И Урицкий подписывает 22 марта от имени Чрезвычайной комиссии обязательное постановление «о прекращении с сего дня, 22 марта 1918 года, движения частных автомобилей». Тогда же подписал он декрет и о запрещении свободной продажи спирта-денатурата.
За ложные и панические публикации декретом, подписанным Урицким, закрыты некоторые петроградские газеты.
Очень беспокоили Урицкого сборища бывших офицеров, бывшей знати и прочих «бывших» во всевозможных клубах, гостиницах и на частных квартирах, где идут азартные картежные игры, пьянство, разврат, так называемое «дожигание настоящей жизни». К подобным явлениям всегда относился с отвращением и Дзержинский.
— Это хоть и мерзость порядочная, все же полбеды, — говорил он. — Дело обстоит хуже: есть данные, что кое-какие из этих клубов превратились в рассадники контрреволюции. Надо прощупать, — давал он указание, обычно Малькову. — Карты, вино, конечно, уничтожишь, клуб прикроешь, а наиболее подозрительную публику — сюда, здесь разберемся.
Вот и сейчас в одно из таких подозрительных заведений Урицкий направил Малькова с группой чекистов.
Они подъехали к большому богатому дому за полночь. Но в окнах горел яркий свет. На втором этаже в прихожей вдоль стены стояли вешалки, на них офицерские шинели, роскошные шубы, мужские и женские. У вешалки швейцар. Из-за двери слышался гул голосов, пьяные крики, женский смех и визг.
Когда группа Малькова вошла в прихожую, швейцар вскочил, испуганно заморгал глазами. Мальков приложил палец к губам и похлопал рукой по заткнутому за пояс пистолету. Швейцар жест понял, понимающе кивнул.
— Ну-ка, объясняй географию, — шепотом приказал Мальков, — что тут за заведение, сколько комнат, как расположены? Много ли сейчас народу, что за публика?
Испуганно поглядывая на пистолет, швейцар подробно разъяснил: большая двустворчатая дверь вела в главный зал, где сейчас, как и обычно, идет карточная игра. За этим залом две комнаты поменьше — буфет. За ним расположена кухня, в которую гости не заходят. Дверь прямо — в туалет, направо — коридор, вдоль которого расположено несколько небольших комнаток. Отдельные кабинеты.
— Только в отдельных кабинетах сейчас редко кто бывает, — пояснил швейцар, — не только господа, даже дамы совсем стыд потеряли, безобразничают на глазах у всех, в общем зале. Иной раз такое вытворяют…
— Ладно, — перебил его Мальков, — безобразия прекратим, лавочку вашу прикроем.
По команде Малькова чекисты выхватили пистолеты, дверь — настежь, и в зал:
— Руки вверх! Сидеть на местах, не шевелиться!
Мгновенно воцарилась мертвая тишина. Послышалось было пьяное бормотание, истерическое женское всхлипывание, и вновь все смолкло. Мальков быстро оглядел зал. В огромной, с высоким потолком, комнате у стены стояло десятка полтора столиков. В центре — свободное пространство. Большинство столиков покрыто зеленым сукном, на них — груды бумажных денег, золото, игральные карты. Несколько столов побольше уставлено закусками, бутылками, бокалами, грязной посудой. Вокруг столиков — преимущественно офицеры, есть и штатские, несколько роскошно одетых женщин. Одни сидят за столом — таких большинство, другие сгрудились за спинами игроков вокруг нескольких столиков, где, по-видимому, идет самая крупная игра.
Вдоль стен, между столиками, мягкие невысокие диваны. На них тоже офицеры, полуобнаженные женщины, некоторые в непристойных позах.
В воздухе плавают густые облака табачного дыма, стоит запах пролитого вина, спиртного перегара, крепких духов. Лица почти у всех землистые, под глазами темные круги.
— Советую вести себя спокойно. Оружие — на стол, документы — тоже. У кого в порядке, отпустим. В случае сопротивления церемониться не будем, — негромко сказал Мальков.
Это был только один из множества подобных эпизодов, когда Мальков привез из игорного дома мешок конфискованных денег, доставил нескольких офицеров, готовящихся к отъезду на юг, к Деникину, и двух шпионов, работавших на немецкую и английскую разведки. Эти игорные дома и офицерские клубы были одинаковы и как бы повторяли друг друга, отличаясь только количеством столиков для карточной игры и составом игроков. Так не проще ли?..
В конце марта Урицкий от имени комиссариата внутренних дел объявил постановление Исполнительного комитета Петроградского Совета о запрещении азартных игр, которое позволило чекистам значительно очистить город от контрреволюционной и уголовной накипи.
Одновременно ЧК под руководством Моисея Соломоновича проводило огромную работу, начатую еще ВРК и продолженную ВЧК, по розыску и возвращению государству ценностей, похищенных в революционные дни из дворцов и музеев. Еще во время работы в ВРК в ноябре 1917 года Урицкий предоставил Луначарскому особым полномочия «для розыска похищенных из Зимнего дворца ценностей — в ломбардах, на рынках, у антиквариев и т. д.». Тогда же Моисей Соломонович назначил уполномоченным по охране Зимнего дворца члена ВРК товарища Дашкевича.
10 марта 1918 года Урицкий от имени Комитета революционной обороны Петрограда отдает распоряжение об организации комиссии по охране художественных и исторических ценностей.
И вот 27 марта 1918 года теперь уже Урицкий получает от Феликса Эдмундовича сообщение о том, что на квартире некоего Каплана имеется цепная коллекция фарфора и картин, похищенных из петроградских дворцов. Поручалось принять необходимые меры к розыску и изъятию похищенных ценностей.
Но с чего начать? Ни адреса, ни предполагаемого места работы или службы этого Каплана, ни даже факта проживания его в Петрограде. Моисей Соломонович отлично понимал, что поручить розыск похищенных ценностей хорошо было бы человеку, близкому к искусству или хотя бы разбирающемуся в художественных изделиях, но где такого взять? Народ в ЧК в основном с фабрик и заводов, солдаты, матросы… Можно, правда, и просто любознательному товарищу с цепкой памятью… Урицкий вспомнил молодого чекиста Санина, пришедшего в ЧК перед отправкой правительственных поездов в Москву. Молодому чекисту тогда было поручено обследовать жилой массив в районе платформы Цветочная площадка и под видом человека, ищущего работу, установить, не интересуется ли кто отправлявшимися поездами. Первое свое чекистское задание молодой рабочий выполнил отлично, проявив при этом незаурядную наблюдательность и способность входить в доверие к разным людям, заполняющим питейные заведения и рынки.
— Вызовите ко мне Санина, — сказал секретарю Урицкий.
Санин видел Урицкого только по утрам, когда тот приходил в свой кабинет. Теперь у Санина своя работа. Утром его включают в оперативную группу и отправляют на задания. Возвращается, как правило, к ночи. Ему теперь выдан официальный мандат — удостоверение чекиста с его фотографической карточкой и подписью Урицкого. Получил он и личное оружие — бельгийский браунинг. Жаль, конечно, что не маузер, но браунинг тоже неплохо. Стрелять пока, правда, не приходилось, но ощущение тяжести пистолета в кармане придает Санину больше решительности. Спать вынужден в общежитии, в здании ЧК: до дома неблизко, а приказ есть приказ — всегда быть готовым к выезду на задание.
Взволнованный неожиданным вызовом, к председателю ЧК, Санин, войдя в кабинет, остановился у порога.
Урицкий сидел за письменным столом, низко наклонившись над бумагами, и писал. От папиросы, которую он держал между пальцами левой руки, к потолку тянулась тонкая струйка дыма.
Санин стоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь оторвать Урицкого от работы. Урицкий поднял глааа:
— Здравствуйте, товарищ Санип, проходите, садитесь, — он кивнул на кожаное кресло, стоящее у стола, — я сейчас освобожусь.
Санин опустился в кресло.
Закончив работу, Урицкий еще раз сквозь стекла пенсне внимательно посмотрел на молодого чекиста.
— Товарищ Санин, я хочу вам поручить выполнение одного очень важного задания, — сказал он. И, достав из папки депешу, подписанную Дзержинским, прочел ее.
Санин почувствовал, как краска заливает лицо. Чго может он, рабочий парень, сделать для розыска и возвращения музейного фарфора, похищенного из петергофских дворцов? Его знания о фарфоре ограничивались китайской чашечкой, стоящей в отцовской квартире на полочке с разными собачками ислониками, чашечке которую бабушка называла «безделюшка».
Видимо, прочтя на лице Санина обуревавшие его сомнения, Урицкий продолжал ободряюще:
— Начнете свой поиск с поездки в Петергоф. Там работает специальная художественно-историческая комиссия Наркомпроса по учету дворцового имущества. Вам покажут различные образцы художественного фарфора, а может быть, и подскажут, кто такой Каплан.
Поездка заняла у Санина целый день, но практически ничего ие прояснила. От работников комиссии Санин узнал, что осенью 1917 года из Петергофа были вывезены более ста ящиков с фарфором, бронзой и живописью Однако дальнейшая судьба ящиков неизвестна. Никто ничего не мог сказать и о человеке по фамилии Каплан. Кто он? Как к нему могли попасть петергофские ценности?
На телеграфный запрос Урицкого ВЧК ответила, что Каплана следует искать среди скупщиков антиквариата. Стала ясна и судьба увезенных ящиков: они оказались эвакуированными в Москву. Именно в момент эвакуации часть ценностей перекочевала в частные руки.
Санин отправился на городские рынки, превратившееся в трудные для Петрограда годы в основные источники товарообмена среди населения. Рынки были давно облюбованы также и спекулянтами, скупщиками краденого и прочими любителями легкой наживы.
— Там и поищите следы Каплана среди скупщиков антиквариата, — сказал Моисей Соломонович.
Скованные утренним морозцем лужи быстро таяли под лучами теплого мартовского солнца. На сухих островках, разбросанных среди слякоти рыночных площадей, тотнп-лись люди, шумно торгуясь. Санин, быстро сориентировавшись, стал находить среди них людей, торгующих фарфором. Это, как правило, люди пожилые, и было ясно, что толкнула их на торговлю не жажда наживы. Голод заставлял их расставаться с дорогими, памятными вещами. Было здесь чем поживиться опытным скупщикам антиквариата, приобретающим его порой за бесценок. Их можно было сразу узнать по сытым лицам и жадным глазам. Но как среди них отыскать Капана…
Однажды в знакомой уже толпе торговцев он увидел девушку, почти девочку, с ясными голубыми глазами, широко раскрытыми не то от испуга, не то от удивлении; она неуверенно предлагала купить фарфоровую чашечку с блюдцем и как будто выискивала среди снующих покупателей доброжелательное лицо.
Обычно Санин лишь слушал, о чем говорят продавцы и покупатели, стараясь уловить, кто что продает, а кго покупает. Но на этот раз он решил заговорить с девушкой.
— Что хотите за чашечку, барышня?
— Мне обычно давали фунт хлеба, — смущенно ответила девушка.
— Так вы здесь не в первый раз?
Подавив смущение, девушка рассказала, что живет без отца, с больной матерью. Им едва удается сводить концы$7
От Веры, так звали девушку, Санин узнал о конъюнктуре рынка и спросе на фарфор больше, чем за все свои походы. Она рассказала, что секрет изготовления фарфора привезен из Китая почти двести лет назад. И сейчас китайский фарфор является самым ценным. Но Россия уже полтораста лет изготавливает свой фарфор, так называемый «русский».
Вера рассказывала увлеченно, а Санин с огромным интересом слушал; беседуя с девушкой, он проводил ее до самого дома.
А на следующий день Вера познакомила Санина с пожилым человеком, обычно покупающим у нее чашечки.
— Юноша, если вы серьезно интересуетесь фарфором, советую побывать на Мальцевском рынке, — сказал он. — Там вы найдете китайский и саксонский фарфор, но смею вас заверить, что русский не хуже. Видел я там на прошлой неделе вазу работы Виноградова. Это, брат, середина XVIII века. Для самой Елизаветы — дочери Петра — эта ваза сработана.
— А кто же мог такую вазу продавать? — спросил Санин, с трудом подавляя охватившее его волнение.
— Да есть там «любители», — не скрывая сарказма, сказал Верин покупатель. — Нам такие приобретения не по карману, — добавил он.
Всю дорогу до Гороховой Санин бежал, и Урицкий принял его, прервав даже какое-то заседание.
— Молодец, — похвалил он молодого чекиста, когда тот закончил рассказ. — Видимо, там и следует искать… Постарайтесь выяснить у вашей знакомой, что за человек ее покупатель. Заслуживает ли он доверия. Быть может, его можно будет привлечь для опознания.
Сергей Григорьевич Рубанов оказался весьма полезным человеком. Работал он в только что созданной начальной трудовой школе рабочей молодежи, сочувствовал Советской власти. Урицкий решил пригласить его в ЧК. Рубанов охотно взялся помочь чекистам в розыске петергофского фарфора. К этому времени уже стало известно, что ваза работы Виноградова была в коллекции Петергофского дворца. Операция «Петергофский фарфор» завершалась. Теперь Моисей Соломонович решил «подкрепить» Санина опытными сотрудниками под руководством Бокия. Мелькнувшая на рынке ваза работы Виноградова позволила установить ее владельца. Дельца, торгующего на рынке дворцовым фарфором, опознал и Сергей Григорьевич Рубанов.
Обыск на квартире Каплана закончился поздно ночью. С интересом рассматривал Санин скромную яйцеобразную вазу с незатейливым рисунком. Ручки вазы были в виде пучков водорослей. На вазе можно было рассмотреть и маленькое изображение двуглавого орла.
Как истинный знаток фарфора, Сергей Григорьевич объяснил чекистам, что ваза эта сделана в 1748 голу Дмитрием Ивановичем Виноградовым, мастером русского фарфора и сподвижником самого Ломоносова.
На квартире Каплана чекисты изъяли много фарфоровых изделий, картин и бронзового антиквариата.
На следующий день в кабинете Урицкого похищенные из дворцов ценности были переданы представителям петергофской комиссии.
Но такие радостные события в кабинете председателя Петроградской ЧК были, к сожалению, не часты…
Одновременно с работой в Петроградской ЧК и Комиссариате внутренних дел М. С. Урицкий выполнял различные партийные поручения как кандидат в члены ЦК и член Петроградского комитета РКП (б). Нагрузка была огромна. Однако он никогда не жаловался на это. И не кичился своими должностями.
Скромность Урицкого отразилась в заполненной им анкете члена Исполнительного комитета Петроградскою Совета.
АНКЕТА
члена Исполнительного комитета
Петроградского Совета
1. Имя, отчество и фамилия и точный адрес с телефоном. Ответ: Моисей Соломонович Урицкий. В. О., 8 л., 9, кв. 7. тел. 577-07.
2. Семейное положение. Ответ: Холост.
3. Образовательный ценз.
Ответ: Окончил юридический факультет.
4. Какую функцию выполняли в комиссариате, совете, профессиональном союзе, партийной организации? Ответ: Комиссар внутренних дел. Председатель Чрезвычайной комиссии. Разные задания партийной организации.
5. Сколько часов в день заняты работой в комиссариат, совете, профессиональном совете, партийной организации?
Ответ: Неопределенное.
6. Как давно находитесь в партии? Ответ: С. Д. с 1894 г.
7. Какую партийную работу выполняли и где, занимали ли ответственные посты?
Ответ: Разную и разные посты.
8. С каких пор работаете в Советах и какие должности в них выполняли?
Ответ: С момента организации Советов. Разные.
9. Подвергались ли наказанию за принадлежность к партии и какому?
Ответ: Много раз тюрьма и ссылка.
10. Какую работу ведете в настоящий момент и где именно?
Ответ: Комиссариат внутренних дел. Председатель Чрезвычайной комиссии.
11. Работал ли в провинциальных городах, уездах и волостях, когда и где именно?
Ответ: В старые годы.
12. В каком отделе желали бы работать в Петроградском Совете?
Ответ: В каком прикажут.
М. Урицкий
Своей деятельностью Урицкий сумел завоевать безграничное доверие рабочих. И безграничную пепависть врагов Великой Октябрьской революции.
«Сколько проклятий, сколько обвинений, — вспоминает Луначарский, — сыпалось на его голову в это время. Да, он был грозен, он приводил в отчаяние не только своей неумолимостью, но и своей зоркостью. Соединив в своих руках и Чрезвычайную комиссию, и Комиссариат внутренних дел, и во многом руководящую роль в иностранных делах, он был самым страшным в Петрограде врагом воров и разбойников империализма всех мастей и всех разновидностей. Они знали, какого могучего врага имели в нем. Ненавидели его и обыватели, для которых он был воплощением „большевистского террора“.
Но мы-то, стоявшие рядом с ним вплотную, мы знаем, сколько в нем было великодушия и как умел он необходимую жестокость и силу сочетать с подлинной добротой. Конечно, в нем не было ни капли сентиментальности, но доброты в нем было много. Мы знаем, что труд его был не только тяжек и неблагодарен, но и мучителен… Но никогда мы не слышали ни одной жалобы от этого сильного человека. Весь — дисциплина, он был действительно воплощением революционного долга».
Товарищи знали, что на долю Моисея Соломоновича выпала самая тяжелая работа в пролетарской революции. Они отлично понимали, что невозможно даже представить себе более ответственную и трудную работу, чем работа по обезвреживанию врагов революции, которая лежала на плечах Урицкого.
Буржуазно-белогвардейская печать обычно изображала Урицкого «кровожадным чудовищем». Но по-настоящему правдиво рисует нам его однажды состоявшийся разговор с одним из чекистов.
— Слушайте, товарищ, вы такой молодой, — сказал Урицкий, — и такой жестокий; сразу видно, что вы — еще но перебродившее революционное випо.
— Я, Моисей Соломонович, настаиваю на расстрелах не из чувства личной жестокости, а из чувства рсволюционной целесообразности, — ответил чекист, — а вот вы, Моисей Соломонович, против расстрелов исключительно из мягкотелости. Я думаю, что во время революции лучше быть жестоким, чем мягкотелым.
Урицкий ответил:
— Ничуть я не мягкотелый. Если не будет другого выхода, я собственной рукой перестреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спокоен. Я против расстрелов потому, что считаю их нецелесообразными. Это вызовет лишь озлобление, не даст положительных результатов.
И Моисей Соломонович все чаще вспоминал о покушении на Владимира Ильича Ленина 1 января, незадолго до созыва Учредительного собрания. Враги собирались обезглавить социалистическую революцию, обеспечить победу эсеро-меньшевистскому большинству Учредительного собрания. Ленин выступал в Михайловском манеже по случаю отправки на фронт первых петроградских полков Красной Армии. Возвращался он вместе с Марией Ильиничной Ульяновой и швейцарским социал-демократом Фридрихом Платтеном. Па мосту через Фонтанку автомобиль был обстрелян из револьверов. До десятка пуль пробили кузов и переднее стекло. Только случай спас Владимира Ильича от возможной гибели. Пуля задела руку Платтена, когда он пригнул голову Ленина, услыхав выстрелы. Урицкий знал, какую огромную работу проделали чекисты ВЧК по выявлению преступников, покушавшихся на жизнь вождя революции. И наконец все они были установлены и арестованы.
Когда дело было завершено, встал вопрос, что с этими людьми делать.
— По-моему, — высказал свое мнение Бонч-Бруевич, — их необходимо немедленно расстрелять: это контрреволюционная группа. Нужно положить конец подобным покушениям, нужно, чтобы все знали, что Советская власть, власть диктатуры пролетариата, с подобнои публикой будет расправляться самым твердым образом, применяя к ним высшую меру наказания.
В это время из Пскова было получено сообщение, что немцы двинулись в наступление.
Через четыре дня в газетах было напечатано знаменитое ленинское воззвание «Социалистическое отечество в опасности». В тот же день на имя Ленина поступило запечатанное письмо из арестного помещения. Письмо с просьбой о помиловании от пятерых преступников, стрелявших в Ильича, было написано на обратной стороне воззвания. Заканчивалось оно просьбой послать на фронт.
Владимир Ильич прочел письмо и сказал:
— Вот и прекрасно.
На письмо появилась его надпись: «Дело прекратить. Освободить, послать на фронт».
— Пускай поживут юнцы, — сказал Владимир Ильич одному из комиссаров 75-й комнаты, — осмотрятся и подумают. Пойдите к товарищу Бонч-Бруевичу и скажите, что я не возражаю против освобождения арестованных.
Первым бронепоездом эти пять бывших офицеров были отправлены на фронт.
Что руководило Владимиром Ильичей, когда он принимал это решение? Этот вопрос часто задавал себе Моисей Соломонович, проводя допрос того или иного контрреволюционера. Ответ напрашивался сам — что бы ни руководило, это был акт милосердия и великодушия пролетарской революции. И это было Урицкому близко. Однако ему не довелось узнать, что Зинкевич, вернувшись с фронта, бежал к Колчаку и воевал против Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке; Волошинов стал офицером деникинской армии, служили в белой армии Некрасов и Мартьянов. Только уехавший в Сибирь к Колчаку Ушаков был обвинен в большевизме, сдался в плен Красной Армии и воевал в ее рядах.
Во всяком случае, это решение Владимира Ильича Ленина поддерживало Урицкого в его отношении к применению расстрелов, хотя дальнейший ход событий заставил председателя Петроградской ЧК согласиться с товарищами и порой принимать самые жесткие меры для защиты завоеваний Октябрьской революции от вражьих посягательств.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
— Моисей Соломонович, совсем зашился. Не могу продолжать работу, пока не разберусь, что написано в этих показаниях! — Антипов положил на стол председателя ЧК пачку аккуратно скрепленных листов бумаги, исписанных на немецком, французском и английском языках. — Ведь знаю, что большинство может говорить и писать по-русски. Они просто издеваются надо мной.
Урицкий полистал показания задержанных резидентов.
— Что касается немецких текстов, оставь мне на ночь, переведу, а вот как быть с английскими и французскими… — Он обвел взглядом сидящих в комнате чекистов отдела борьбы с контрреволюцией. Они скромно потупились, отвели глаза.
— Товарищ Урицкий, разрешите! — со стула поднялся молодой следователь ЧК Ваня Калугин. — У меня есть друг, Исаак Бабель. Вот он мог бы…
— Говоришь, мог бы? Так за чем остановка? — обрадовался Урицкий. — Тащи его сюда.
По вызову Ивана Калугина Исаак Бабель, молодой человек, мечтавший стать писателем, прибыл в Петроград. Прямо с Николаевского вокзала он отправился на Гороховую. Два пулемета, стоявшие в вестибюле и встречавшие посетителей, показались юноше похожими на сторожевых собак, оскаливших на него свои железные морды.
Oн даже сделал шаг назад и тут услышал голос охранника:
— Тебе куда?
— Мне бы повидать Ивана Калугина, — довольно неуверенно сказал Бабель.
— Подожди, сейчас вызову коменданта.
Стараясь не смотреть на пулеметы, молодой человек отступил к двери, но тут же показался комендант с маузером в деревянной кобуре.
— Вот. — Исаак протянул коменданту письмо Ивана Калугина. Тот внимательно прочел, вернул письмо.
— Ступай в Аничков дворец, — сказал комендант, — он сейчас там работает.
Наутро Калугин привел товарища прямо в кабинет председателя ЧК. Рабочий день еще не начинался, и кабинет казался пустым. Лишь кашель за занавеской подсказал вошедшим, где находится хозяин кабинета.
Калугин, попросив разрешения, прошел за драпировку. До Бабеля долетели обрывки слов.
— Парень свой, я за пего ручаюсь, — приглушив свой зычный голос почти до шепота, говорил Калугин. — Языки знает…
Ждать Бабелю долго не пришлось. Моисей Соломонович вошел в кабинет, поздоровался и, садясь за стол, пригласил Бабеля садиться.
Беседа продолжалась недолго. Юноша с интересом разглядывал человека, имя которого уже знала вся страна. За стеклами пенсне угадывались тяжелые, разрыхленные бессонницей веки. И юноша вместо страха вдруг ощутил в себе добрую жалость к этому усталому человеку, принявшему на свои плечи непосильный такой груз. Со своей стороны и Урицкий присматривался к будущему сотруднику. Ему показалось, что юноша чем-то напоминает младшего брата Соломона. Пахнуло детством. Днепр, Черкассы.
— Вот попробуйте перевести, — протянул он Бабелю листок, исписанный мелким почерком по-немецки.
— Но он… — начал было Калугин, зная, что в первую очередь требуются английские и французские переводы, но что-то во взгляде Урицкого заставило его замолчать.
Бабель попросил листок бумаги и бегло начал писать перевод.
— Вот, — протянул он листок Урицкому.
— Неплохо, неплохо, хотя я в этом месте вставил бы другое слово, тут не совсем точно, — просмотрев перевод, сказал Урицкий.
— Так зачем же вам переводчик, если вы сами… — густо покраснел Бабель.
— Но если я займусь переводами, кто же будет руководить ЧК, — улыбнулся Моисей Соломонович.
— Выдать солдатское обмундирование и талоны на обеды, — сказал он вызванному коменданту. И Бабель стал переводчиком иностранного отдела ЧК.
Свободных кабинетов не было, и новый сотрудник ЧК, будущий известный писатель Исаак Эммануилович Бабель, занял рабочее место в углу зала бывшего петербургского градоначальства и тут же принялся за переводы.
Поздно вечером закончил Бабель свою работу. Из переводов ему стало ясно, что в Петрограде существует несколько подпольных белогвардейских организаций германской ориентации, которые установили тесные связи с подпольными организациями монархического направления. Во главе одной из них, как показали изъятые чекистами документы, стояли бывший царский министр Трепов и барон Нольде.
Другая подпольная белогвардейская офицерская организация, называвшая себя «Великой единой Россией», вела прямой шпионаж в пользу Германии. В бумагах этой организации упоминался Дидерихс, бывший офицер военно-морского флота.
Видно было, что немцы вели переговоры с этими организациями о выработке общего плана борьбы с Советской Россией…
Читая переводы, Урицкий снова похвалил нового сотрудника, тихо сидевшего у стола председателя.
— Вот видите, — обратился он к Бокию и Антипову, — бывший морской офицер Дидерихс организовал в Петрограде сеть «трудовых артелей» и других «коммерческих предприятий», и это дает ему возможность собирать шпионские сведения, вербовать новых агентов.
— Дидерихса надо задержать, — сказал Глеб Иванович Бокий. — Тем более что его шпионская связь с немцами легко доказывается имеющимися документами.
— Да это так, но у Дидерихса в наших войсках наверняка уже есть свои люди, немецкие агенты, этим арестом мы их спугнем, — сказал Антипов. — С арестом надо повременить и посмотреть, проследить его связи.
— Дельно, — согласился Урицкий и предложил выработать план действий чекистов с таким расчетом, чтобы все связи Дидерихса были установлены.
— Арест Дидерихса и его сообщников надо провести одновременно, — заключил Урицкий.
Когда Бокий и Аптипов ушли, Урицкий обратился к Бабелю.
— Вы, дорогой мой, очень помогли, но это лишь начало. Такой работы у нас много, и вам следует хорошо отдохнуть, а завтра жду вас в кабинете прямо с утра.
Вторую свою ночь в Петрограде снова провел Бабель в Аничковом дворце у Калугина.
На следующее утро Урицкий спросил Бабеля:
— А как вы в английском и французском?
Получив удовлетворивший его ответ, Урицкий положил перед переводчиком новую стопку бумаг.
— Вот здесь вы увидите иную ориентацию. Если монархисты делают ставку на немцев, то кадеты и эсеры держат равнение на Антанту. Постарайтесь, пожалуйста, и в этих бумагах раскопать нам рациональное зерно…
Многое узнал Бабель во время работы переводчиком в комиссии Урицкого, как часто называли Петроградскую ЧК. Теперь он уже не удивлялся тому, что бывшие царские офицеры состояли на содержании двух, а иногда и нескольких иностранных разведок, с одинаковым рвением выполняя задания своих как германских, так и антантовских хозяев.
Особенно оживились английские и французские шпионы с начала вооруженной интервенции Англии и Франции.
Летом, когда проходила мобилизация в Красную Армию, в числе других питерских чекистов Бабель отбыл на Украину, где служил в гражданскую войну в Первой Конной армии. О работе в Петроградской ЧК и о встрече с Урицким он написал небольшой рассказ.
Однажды матросы, патрулирующие по городу, задержали группу офицеров-мародеров. Была с ними и женщина. Всех доставили в уголовный сектор комиссариата юстиции Петроградской коммуны, к товарищу Менжинскому. Испытанный большевик-подпольщик, Вячеслав Рудольфович Менжинский был первым народным комиссаром финансов Советской России. В первом составе Совета комиссаров Петроградской коммуны он также вначале стал комиссаром финансов, но затем был переведен на работу в комиссариат юстиции Петроградской коммуны. Оставаясь одновременно членом коллегии ВЧК, Менжинский принял активное участие в работе Петроградской ЧК.
Просмотрев документы задержанных мародеров, он попросил доставить к нему гражданку Серпову.
Конвойный ввел в кабинет накрашенную женщину лет пятидесяти, в шубке из основательно потертой белки.
— Садитесь, пожалуйста, — указал ей на стул Менжинский.
— Спасибо, я постою, — улыбнулась женщина. — Надеюсь, что недоразумение скоро выяснится, так как я не имею никакого отношения к этим спившимся офицером.
— Возможно. Но меня сейчас интересует другое. Где вы получили паспорт?
— В Петрограде.
— И вы утверждаете, что это ваш паспорт? — открыл документ Менжинский.
— Да, конечно. — Женщина искренне изумилась вопросу.
— Юлия Эрастовна Серпова, 1867 года рождения, прописана по Церковной улице Санкт-Петербурга, — прочел Менжинский и тут же спросил: — Юлия Эрастовна Серпова и Юлия Осиповна Серпова, проживавшая и 1907 году на Церковной улице и носившая партийную кличку «Люся», — одно и то же лицо?
Женщина промолчала.
— Скажите, «Люся», помните собрание Петербургского комитета в марте 1907 года в психоневрологическом институте, на Невском, 104?
— Товарищ «Техник»?
— Узнали? А теперь расскажите, как случилось, что Петербургский комитет в полном$7
Естественно, эти вопросы «повисли в воздухе».
С делом Серповой Менжинский ознакомил Урицкого. Моисей Соломонович назначил по делу следствие, которое документально доказало длительную провокаторскую деятельность последней. Платный агент охранки по кличке Ворона, Серпова предала многих партийных работников и нанесла большой вред революционному подполью. Но приговору революционного трибунала она была расстреляна. И этот расстрел не вызвал в душе Моисея Соломоновича протеста против смертной казни. Провокаторы другого не заслуживают.
А заботы наслаивались на заботы. Ну, от провокаторов, контрреволюционеров всех мастей очищать Петроград будет ЧК, а как быть с улицами, площадями? Теплое апрельское солнце согнало снег, оставив на асфальте жидкую грязь. Правда, усилиями городского головы Михаила Ивановича Калинина организована разовая уборка дворов и улиц: дело ведь идет к празднику 1 Мая. А как быть в дальнейшем? Вопрос стоит о восстановлении дворницкой службы, а это вопрос не такой уж и простой. Моисей Соломонович по личному опыту нелегальной революционной работы знал, что многие дворники были агентами царской охранки и участвовали в полицейском сыске. Таких надо от службы освободить, а кое-кого и привлечь к ответственности. Организация же новой дворницкой службы — дело городского головы. Не откладывая дела в долгий ящик, Урицкий решил тут же навестить Михаила Ивановича непосредственно в городской управе.
Войдя в кабинет Калинина, Урицкий осмотрелся. В кабинете все как будто выглядело казенно, по-дореволюционному. Но стоило взглянуть на огромный стол, за которым когда-то восседал представитель монархического Петербурга, как становилось ясным, что времена изменились. За столом сидел человек с внешностью крестьянина, среднего роста, в поношенном пиджачке и косоворотке. Лицо спокойное, даже, можно сказать, суровое, а глаза улыбаются вошедшему из-под очков в простой металлической оправе.
Увидев у себя Урицкого, Михаил Иванович искренне удивился. С тех пор как тот стал председателем Петроградской ЧК и комиссаром внутренних дел Петроградской трудовой коммуны, он перестал заниматься муниципальными делами, которые были ему поручены в свое время городской думой, и на Невском, 33 никогда не бывал. Городской же голова сам наведывался к Урицкому, когда была необходимость утвердить какое-либо постановление.
Михаил Ивапович обрадовался встрече. Выбравшись из-за своего необъятного стола, Калинин дружески усадил Урицкого в удобное кресло, сам уселся напротив и достал папиросы. Закурили, Моисей Соломонович рассказал, какие дела привели его в городскую управу.
— Вот, казалось бы, простая проблема—заставить работать дворников, ан нет. И здесь, видно, без классоьой борьбы не обойтись, — теребя бородку, сказал Калинин, узнав, что привело к нему председателя ЧК.
Обсудив служебные вопросы, как-то незаметно перешли на личные. Калинин рассказал о своих детишках.
— Моисей Соломонович, выбрали бы свободный часок, заглянули бы к нам на огонек, вот бы я вас с ними и познакомил, — сказал Михаил Иванович.
— Обязательно как-нибудь загляну, — пообещал на прощанье Урицкий. И это не было дежурной фразой. После отъезда в Москву Якова Михайловича Свердлова, в доме которого часто отдыхал душой Моисей Соломонович, стало острее чувствоваться одиночество.
Обратно на Гороховую Урицкий пошел пешком. Яркий, совсем не петроградский день вернул в далекое прошлое, в Черкассы, в Одессу. Вдруг вспомнилась девочка, дочь младшего брата, названная в честь старшей сестры Бертой. Это было в Одессе, в 1912 году. В те редкие минуты, когда дядя Моисей появлялся в доме, она забиралась к нему на колени, снимала его очки и пыталась увидеть в них какой-то другой, сказочный мир, о котором ей рассказывая Моисей Соломонович. Ничего не разглядев в мутных, не по глазам стеклах, малышка ужасно смешно сердилась, обвиняя дядю в обмане. Тогда «сказочный мир», за который боролся революционер Урицкий, был еще далек, но он уверенно обещал девочке, что стоят ей подрасти, как она очутится в этом мире, где все будут равны, не будет богатых и бедных и не нужно будет бояться полицейских и жандармов.
Об этом иносказательно, чтобы не придралась царская цензура, он писал ей письма из Дании и Швеции, но, видимо, сам недооценил цензуру — ни ей, ни братьям письма эти, очевидно, не попадали, так как никаких ответных вестей не было. Не получил он ответа и на свои письма родным уже по возвращении в Россию. Сейчас со стыдом подумал, что не пробовал их разыскать, не знал даже, живы ли они и как сложилась их судьба после Октябрьской революции. Да и где было взять время на розыски, когда все его дни и ночи поглощала пролетарская революция и жестокая борьба с ее врагами. «Все разво тяжко на душе — не можешь связаться с братьями и сестрой», — корил он себя. Но перед ним уже вырос дом № 2 на Гороховой, и все мысли о личной жизии отступили перед неотложными делами.
— Товарищ Урицкий, к вам просится какой-то парень, говорит, ваш племянник, — едва Моисей Соломонович снял шляпу и пальто, доложил дежурный.
«Пословица говорит: „сон в руку“, а тут „мысль в руку“», — подумал Урицкий.
— Проси, — сказал он дежурному.
Урицкий пристально всматривался в вошедшего невысокого, но ладного парня в военной гимнастерке, стараясь разглядеть в нем черты одного из братьев, но это ни к чему не привело. Пожалуй, лицо больше всего напоминало лицо старшей сестры Берты.
— Здравствуйте, дядя, — сказал парень и смутился. Видно, вот так просто назвать «дядей» председателя грозного ЧК ему было нелегко.
«Скромен. Это уже хорошо. Но кто он? Чей сын?»
— Вот вам письмо, — вывел племянник дядю из затруднительного положения.
Моисей Соломонович вскрыл конверт. Короткая записка без всяких родственных излияний: «Если есть возможность, пристрой учиться сына Семена». И подпись — «Петр».
— Ну, расскажи о себе, — усадив племянника в кресло, попросил Моисей Соломонович.
Рассказ Семена прост и бесхитростен. Ему уже 23 года. Родился в Черкассах. В начале 1900 года семья переехала в Одессу. Учился в казенной гимназии, материальная нужда заставила бросить четвертый класс и пойти работать по найму. В июне 1912 года вступил в ряды Одесской организации РСДРП (большевиков). Досрочно призван в армию, в 1915 году служил прапорщиком драгунского полка и вел агитационную работу среди солдат. В ноябре 1917 года возглавил отряд Красной гвардии, боровшийся за установление Советской власти в Одессе. Семен Урицкий все время ощущал недостаток образования. Вот отец и направил его к младшему брату Моисею.
Моисей Соломонович тут же написал записку в комиссариат по военным делам Борису Павловичу Позерку.
— Я прошу направить тебя на курсы красных командиров, — сказал он, отдавая записку племяннику. — Больше ничем помочь не смогу.
Сожалеть о рекомендации, которую он дал Семену Урицкому, не пришлось. Весь дальнейший путь племянника был достоин Моисея Соломоновича.
Семен был зачислен в кавалерийское краткосрочное училище, которое успешно закончил в течение трех месяцев. 1 августа состоялось специальное заседание Петросовета, посвященное выпуску первых красных командиров пехотного, кавалерийского и артиллерийского училищ.
Получая Красное знамя выпуска, молодые красные командиры дали торжественную клятву бороться за Советскую власть до последней капли крови.
Эту клятву Семен Урицкий пронес с собой в боях под Царицыном, в Крыму, в легендарном походе южной группы войск на Украине. Будучи помощником начальника штаба 58-й дивизии, которой командовал прославленный герой гражданской войны Иван Федорович Федько, Урицкий проявил удивительную находчивость при спасении своего комдива от банды Махно. В 1919 году в районе города Николаева Махно заслал в полки 58-й дивизии своих агентов для вербовки солдат в свою банду. В момент, когда спровоцированные бандитами бойцы из тыловых частей дивизии арестовали Федько и комиссара, Урицкий поднял по тревоге батальон связи и вызволил от бандитов своих командира и комиссара. За это приказом Реввоенсовета республики он был награжден орденом Красного Знамени.
Второй орден боевого Красного Знамени Семен Петрович Урицкий получил за участие в подавлении кронштадтского мятежа в 1921 году. Тогда же Петросовет наградил слушателя Военной академии Семена Урицкого именными золотыми часами. Закончив в 1922 году Военную академию, Урицкий направляется иа специальную работу за рубеж. Вернувшись, он командует крупными военными соединениями: корпусами, штабами военных округов, механизированными частями.
С апреля 1935 года Семен Петрович Урицкий возглавляет советскую военную разведку. Он напутствовал Рихарда Зорге, Льва Маневича в их ответственных миссиях.
В 1936 году по заданию Советского правительства Семен Петрович Урицкий проводит большую работу по оказанию помощи Испанской республике. Он подбирает кадры военных советников, организует снабжение республиканских войск, эвакуирует из горящих, разрушенных фашистами городов испанских детей, заботится об их устройстве на Советской земле.
Не суждено было узнать Моисею Соломоновичу Урицкому о яркой, порой героической жизни племянника Семена, которого сегодня он направил к товарищу Позерну с просьбой зачислить на курсы красных командиров.
А пока, провожая до дверей кабинета своего племянника, Моисей Соломонович вдруг остро ощутил горечь: ведь и у него мог быть такой сын. Но ведь еще не вся жизнь прожита. Вот кончится гражданская война, нe потребуются, как сказал Михаил Иванович Калинин, профессиональные революционеры, и тогда… Что «тогда» — Урицкий не стал додумывать. Опустившись в кресло за своим столом, он открыл ящик и достал тоненькую папку с делом группы бывших юнкеров, расследование по которому он вел сам.
По делу о контрреволюционной деятельности группы бывших юнкеров, возбужденному ВЧК в Москве, в апреле Петроградская ЧК арестовала сына царского генерала Николая Аносова. Показания, изобличающие Николая Аносова, дал арестованный в Москве по анонимному письму его младший брат Всеволод Аносов.
Урицкий лично допросил Николая Аносова, и тот сообщил, что ему о заговоре юнкеров в Москве ничего не известно, а его брат Всеволод склонен к фантазии и преувеличению. Что-то в ответах арестованного Аносова заставило Моисея Соломоновича поверить в его показания. Девизом первого председателя Петроградской ЧК было: «Ни одного несправедливого приговора, ни одной лишней жертвы в работе чрезвычайных комиссий». Он посылает в Москву две телеграммы. Было это 12 апреля 1918 года.
«Вне очереди. Москва, Совнарком. Комиссару юстиции. Комиссии Дзержинского сидит пятнадцатилетний Всеволод Аносов. Распорядитесь освобождении. Председатель Чрезвкома Урицкий».
«Вне очереди. Москва. Чрезвычайная комиссия борьбе контрреволюцией. Николай Аносов арестован заговоре не знает. Сообщите телеграфом какие вопросы поставить. Освобожден ли Всеволод Аносов. Николая освобожу если до 15 не получу вопросов или другого распоряжения. Председатель Чрезвкома Урицкий».
15 апреля Урицкий получил из ВЧК телеграмму, в которой было сообщено, что несовершеннолетний Всеволод Аносов «освобожден поручителю», а Николая Аносова предлагалось препроводить в Москву.
Феликс Эдмундовпч сам занимался расследованием факта ареста и содержания в ВЧК несовершеннолетнего Всеволода Аносова и обстоятельствами его допросов следователями ВЧК.
О деятельности московских юнкеров Николай Аносов действительно ничего не знал. Это была правда.
Серьезную озабоченность вызвала активизация анархистских групп, которые под видом защиты революции создавали вооруженные отряды, занимались экспроприацией, грабежами и погромами.
Урицкому доложили, что анархисты на Васильевском острове захватили особняк бывшего миллионера барона Гинзбурга. Вывезли все ценности.
Комиссар по делам печати Володарский утром положил на стол Урицкому одну из анархистских газет, выпускаемых в Петрограде.
— Вот, посмотрите, Моисей Соломонович, как анархисты «теоретически» обосновывают неизбежность участия преступных элементов в их движении.
Газета писала: «За нами идет целая армия преступности. Мы это хорошо знаем. Почему же мы идем вместе? Вернее, почему они идут под нашим прикрытием? У нас с внешней стороны одна цель: мы разрушаем современное общество, и они разрушают. Мы выше современного общества, а они ниже. Но мы с глубоким презрением к современному обществу протягиваем руку этим преступникам. У нас общий враг — современное общество… Мы приветствуем всякое разрушение, всякий удар, наносимый нашему врагу. Разите его, доконайте его — вот возгласы поощрения, издаваемые нами при всяком покушении, при всяком посягательстве на современное общество».
Отложив газету, Урицкий показал Володарскому на стопку документов, лежавших у него на столе.
— Газета — это «теория» анархистов, а вот «практика». Но и «теории» и «практике» анархистов придет конец. Дзержинский начал в Москве операцию по разоружению анархистов, а мы в Петрограде ее закончим.
27 апреля комиссар по делам печати Володарский с удовлетворением опубликовал в петроградских газетах сообщение Петроградской ЧК о разоружении анархистов, проведенном чекистами 23 апреля 1918 года. Это был еще один удар по контрреволюции.
Но сколько таких ударов было сделано, и сколько ещо питерские чекисты должны будут нанести по врагам революции…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
«Обстановка в Петрограде остается сложной. Главные очаги контрреволюции все еще остаются здесь», — написал Урицкий и, отложив ручку, задумался. Отчет о работе ПЧК за первые два месяца Моисей Соломонович готовил сам.
Дзержинский попросил особое внимание уделить деятельности контрреволюционных организаций, созданных бывшими царскими офицерами. Урицкий понимал, что ВЧК готовит проведение серьезной контрразведывательной операции.
«В Петрограде существует еще контрреволюционная организация гвардейских офицеров, в которую входит группа бывших офицеров гвардейской пехоты и полевой артиллерии и группа бывших офицеров гвардейской кавалерии и конной артиллерии. Первую группу возглавляет генерал Гольдгоер, вторую — генерал Арсеньев. Членам этой организации удалось попасть в ряды Первого корпуса Красной Армии, который формировался в Петрограде. Нами разоблачен немецкий агент Розенберг, пробравшийся на пост начальника оперативного штаба этого корпуса», — написал Урицкий и отложил ручку.
Он вспомнил, что гвардейская офицерская организация поддерживала тесный контакт с монархической группой генерала Маркова второго. Именно он и генерал Юденич осуществляют общее руководство офицерской организацией и монархической группой.
«Эта организация имеет германскую ориентацию», — дописал Урицкий. Интуитивно он чувствовал, что Дзержинского весьма интересуют и организации английской и французской ориентации.
Он вызвал начальника контрразведывательного отдела Антипова и попросил его подготовить данные о связях и явках членов этих организаций.
Урицкий не ошибался, Дзержияокий задумал серьезную операцию для раскрытия и разоблачения контрреволюционного заговора, зреющего в посольствах Англии, Франции и Америки. Урицкому в этой операции отводилась серьезная роль.
Направленные в Петроград под именами Шмидхена и Бредиса чекисты Ян Буйкис и Ян Спрогис конспиративно встретились с председателем Петроградской ЧК.
В переданной ему от Дзержинского шифровке было предложено вывести присланных чекистов на Френсиса Алена Кроми — военно-морского атташе, обосновавшегося и бывшем английском посольстве в Петрограде.
Чекистам было необходимо связаться с Кромн под видом бывших офицеров, войти в одну из контрреволюционных офицерских организаций.
По совету Урицкого Шмидхен и Бредис стали посещать места сборищ контрреволюционеров.
Много ценных сведений сообщили они Урицкому о различных группах. Многих бывших офицеров, ставших на путь грабежей и налетов, помогли они разоблачить петроградским чекистам.
Но главное — они сумели выполнить и основное задание, полученное от Дзержинского. Они быстро сошлись с завсегдатаями латышского клуба, среди которых были члены контрреволюционной офицерской организации, связанной с морским атташе английского посольства капитаном Кроми. Вскоре заговорщики познакомили Шмидхена и Бредиса с английским разведчиком. Кроми искренне поверил в то, что ему удалось завербовать новых агентов для борьбы с Советским государством. С этого момента ВЧК знала все о «заговоре трех послов».
А комиссия Урицкого успешно продолжала борьбу с контрреволюционными организациями.
В мае 1918 года началось расследование по делу бывшего капитана царской армии Александра Фельденкрейца, задержанного Петроградским управлением уголовного розыска.
16 мая 1918 года Урицкий получил в ЧК материалы дознания уголовного розыска о незаконном обыске у гражданина Церса, произведенном якобы чекистами:
«Протокол № 8243
1918 года мая 13 дня в Петроградское Управление уголовного розыска явился гражданин Федор Яковлевич Церс, прож.: Троицкая ул., д. 15/17, кв. 406, и заявил, что сегодня в 11-ом часу дня к нему позвонил по телефону некто Фридман, в лицо его он не анал, последний обещал скоро к нему зайти на квартиру. Спустя немного времени в квартиру кто-то позвонил. Дверь открыл сам Церс, полагая, что пришел названный Фридман. В квартиру вошел к нему неизвестный господин и заявил, что он комиссар, должен произвести у них обыск, притом предъявил ордер, при сем прилагаемый, который налетчики ошибочно обронили в квартире. Вслед за вошедшим в квартиру вошли еще четыре человека в военной форме, вооруженные „наганами“. Церс хотел позвонить по телефону, справиться в подлинности комиссара. Тогда эти лица связали его, угрожая револьверами, перерезали телефонные провода и начали обшаривать квартиру, потребовали открыть хранилища. Церс открыл шкаф, оттуда грабители взяли 100 000 рублей, с письменного стола взяли финскими марками 800 марок и 1200 руб. пяти- и десятирублевыми кредитками. В числе похищенных 100 000 руб. были 90 000 руб. тысячерублевыми билетами, 1000 руб. — в 250-рублевых билетах, остальные керенками. Кроме названных пяти лиц, вошедших с парадной, еще стояли несколько лиц на черной лестнице, одеты в солдатскую форму. Приметы налетчиков: назвавшийся комиссаром — роста среднего, бритый, худощавый, интеллигент, одет в черное пальто, мягкая шляпа; один — кавказского типа, одетый во френч цвета „хаки“; один — в офицерской летней шинели саперной формы, с героической ленточкой, шатен с небольшими усиками. Во время налета у него в квартире находились в гостиной посетители, их оттуда налетчики не выпускали. Когда грабители покинули квартиру, вслед за ними Церс и его посетители вышли на улицу, швейцар говорил, что налетчики уехали на извозчике, в каком направлении не заметил.
Заявитель просит о производстве розыска похитителей и похищенного. Федор Церс».
Ниже в протоколе следовала приписка о том, что «1918 года мая 14 дня потерпевший Федор Яковлевич Церс к своему заявлению дополнил, что… при налете сначала ему было предъявлено удостоверение на имя тов. Ларионова на право производства обысков, ареста и конфискации ценностей, написано на бланке Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем от 25 марта с. г., № 725, за подписью Зофа».
Внимание Урицкого привлек прежде всего не факт ограбления, а использование при этом поддельных документов Петроградской ЧК. Не впервые ограбления со-вершаюся бандитами под видом обысков, производимых чекистами.
Знакомясь с документами по делу об ограблении Церса, Урицкий встретился с Менжинским, который еще работал тогда в уголовном секторе Комиссариата юстиции.
Внимательно, через лупу, рассматривают они ордер на обыск, оставленный грабителями на квартире Церса.
Урицкий вслух читает:
— «Поручается товарищу Ларионову произвести обыск у гражданина Ф. Я. Церса по Троицкой улице, № 15, квартира 406, реквизировать ценности и арестовать по усмотрению…»
— Подделано, — коротко заметил Менжинский.
— Бланк наш, но все остальное — фальшивка, — отозвался Урицкий. — Вытравили старые строчки кислотой и вписали свое.
— Помните «дело князя Эболи»?
— Помню. И то и это, безусловно, политическая диверсия. Враги хотят подорвать доверие к Советской власти, авторитет ЧК, веру в чекистов.
Моисей Соломонович нечасто выезжал на места происшествий, хватало и других забот. Но на этот раз он поехал сам.
Многоэтажный дом на углу Троицкой улицы и Щербакова переулка встретил чекистов закрытыми подъездами. В доме жили служащие иностранных концессий, и ранним утром им не надо было спешить на работу.
Богатый промышленник-концессионер Федор Яковлевич Церс был немало удивлен, увидев на пороге своей квартиры Урицкого.
Он начал сбивчиво рассказывать то, о чем Урицкий уже знал из протокола. Он не перебивал Церса, дал выговориться, затем стал расспрашивать о приметах грабителей…
Выйдя на улицу, Урицкий заметил сопровождавшим ого товарищам:
— Особо обратите внимание па «словесный портрет» грабителей. Судя по рассказу Церса, это все бывшие офицеры.
В управлении милиции Урицкого уже ждал начальник уголовного розыска Илья Тарасович Шматов. Минувшая ночь не прошла даром: на стол один за другим ложились листы донесений.
— Это сообщение инспектора Рыбакова о том, что Церс последнее время в английском торговом представительстве особым уважением не пользуется.
Штришок тоже кстати. Такая фигура, как Церс, безусловно, связана с каким-либо представительством западных стран, и если англичане от него вдруг отвернулись…
— Сообщение инспектора Никитина. Дворник дома, где живет Церс, рассказал, что накануне ограбления с ним беседовал чекист по фамилии Ларионов, внешность которого весьма совпадает с описанием главаря банды, ограбившей Церса. Приезжал этот «чекист» на коляске, запряженной породистой лошадью.
В сообщении инспектора Маркова Урицкий обратил внимание на то, что в меблированных комнатах дома № 66 по Невскому проспекту собираются бывшие офицеры, играют в карты, живут состоятельно, имеют конные выезды. Бывают там и англичане. Вчера, поздно вечером, несколько офицеров выехали из дома на извозчике. Назад не вернулись…
Еще сообщение о том же доме: в комнате № 6 числится проживающим некто Фельденкрейц, бывший царский офицер. Ходит в шинели и фуражке офицерского образца.
— Совпадение? Очень уж очевидное совпадение!
К дому № 66 по Невскому чекисты прибыли поздно вечером, по их сигналу работники милиции перекрыли все выходы.
Дом загудел, как потревоженный улей. Кто-то пробовал протестовать, кто-то грозился писать Дзержинскому, жаловаться. Но чекисты делали свое дело: одну за другой обыскивали комнаты. Ценностей, похпщенных у Церса, по было. Зато обнаружили целые груды холодного оружия — сабель, шашек, офицерских кортиков. Попадалось и огнестрельное оружие: кольты, браунинги, бульдоги, наганы… Комнату № 6, где проживал Фельденкрейц, обыскивали Марков и Чумаков, и в письменном столе Чумаков обнаружил тайник со спрятанными там бумагами.
— Андрей, — позвал он Маркова, — иди-ка сюда, читай. — Марков взял в руки несколько листков обыкновенной ученической тетради, исписанных карандашом убористо и четко. Подошел к свету, вгляделся в написанное.
«План овладения гор. Петроградом и боевые действия в самом городе, ставшем объектом арены действий, связанных с переворотом», — прочел он.
Вскоре тетрадные листки уже лежали на столе Урицкого. План был обширным. Составлен по законам военного искусства. Он предусматривал захват всех учреждений Советской власти, военных объектов, вокзалов, телеграфа и телефонной станции, мостов. Планировались многочисленные аресты.
«Применение на первых порах самого ужасного террора, — читал Урицкий, — вплоть до расстрела включительно, следуя заповеди: два ока за око, два зуба за зуб. Благоприятнее и желательнее всего в рабочих кварталах».
— «Благоприятнее», — вслух повторил Урицкий. — Слово-то подобрали… Доброе!
Через час в Смольном он уже докладывал о заговоре. Были приведены в боевую готовность красноармейские части, усилены органы ЧК, взяты под охрану военные объекты.
Урицкий сам объехал добрую половину города, проверяя посты охраны, давая указания на местах. Домой добрался на рассвете, а утром ему уже доложили по телефону:
— Задержан Фельденкрейц. Он действительно бывший царский офицер, владелец бумаг из обнаруженного тайника.
— Доставьте на Гороховую, — приказал Урицкий…
Фельденкрейц сидел на краешке стула.
— Расскажите о плане военного переворота, — твердо потребовал Урицкий.
Кажется, именно этого Фельденкрейц ожидал меньше всего. Считал, что попался с бриллиантами старого Церса. А тут! Даже запираться бесполезно: на столе лежат его листки, исписанные карандашом. План от «а» до «я» по пунктам.
— Не окажись алфавит таким коротким, вы бы наверняка предусмотрели бы виселицы по городу и повесили всех большевиков? — спросил Урицкий, — Такая, кажется, эсеровская политика?
Фельденкрейц, опустив голову, молчал. Документы, изятые у него при обыске, полностью изобличали не только его контрреволюционную деятельность, но и наличие в Петрограде разветвленной сети заговорщиков.
Дело Фелъденкрейца было одним из многих подобных дол, раскрытых Петроградской ЧК весной и летом 1918 года. Группа правых эсеров, возглавляемая царским офицером Погуляевым-Демьяновским, совершила ряд бандитских ограблений советских учреждений и частных квартир, чтобы получить источники финансирования правоэсеровского контрреволюционного подполья. Члены военной организации правых эсеров, наряду со шпионажем в пользу Антанты, не брезговали грабежами, порой даже с помощью матерых уголовников.
К одной из таких организаций, как показало расследование, и принадлежал Фельденкрейц.
На допросе, который вел сам Урицкий, Фельденкрейц показал: «Состою членом Отечественного союза с 25 марта 1918 года. Цель союза — создать кадры общественных деятелей и офицерского состава, дабы когда власть нынешнего правительства исчезнет, то в тот же момент все наличные силы общественных деятелей займут соответствующие посты и тем самым создадут государственный аппарат, точно так же готовые кадры офицеров займут соответствующие посты в армии.
После падения большевизма — единоличная диктатура (военная). Первые средства для начала организации мы получили от англичан».
Далее, убедившись в том, что ЧК уже известно очень многое из деятельности организации, Фельденкрейц в своих показаниях раскрыл структуру организации, пути получения поддельных бланков Чрезвычайной комиссии и прочих документов, используемых при совершении вооружейных грабежей квартир богатых граждан Петрограда под видом обысков, проводимых сотрудниками ЧК. Говоря о планах своей организации, Фельденкрейц цинично заявил, что они готовили ряд террористических актов против членов правительства и партийных руководителей-большевиков. Отдельно стоял вопрос об убийств председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого, для чего за ним была организована систематическая слежка.
— Если вы до сих пор находитесь на этом свете, — заявил в глаза Урицкому бывший капитан царской армии, теперь английский агент, — то только благодаря нашей чрезмерной осторожности. Ваша квартира на Васильевском острове и подходные пути к ней давно находятся под наблюдением наших людей, готовых освободить мир от кровожадного чудовища, заливающего кровью русских патриотов землю Петрограда.
Ненависть. Ненависть ко всему светлому, что пришло на смену темным силам монархии, сквозила в каждом слово контрреволюционера. Урицкий понял, что отпустить такого даже под самое честное слово значило бы совершить непоправимую глупость. Тем более что с каждым днем, с каждым часом нарастает активность и внешпей и внутренней контрреволюции. Фельденкрейц и другие руководители организации, раскрытой чекистами Урицкого, были расстреляны.
Характерным для этого периода было дело, расследование которого ПЧК начала также в мае 1918 года. В городе были распространены антисоветские документы нелегальной контрреволюционной организации, именовавшей себя «Каморра народной расправы».
Попавший в Петроградскую ЧК документ был адресован домовым комитетам и назывался «Предписанием Главного штаба Каморры народной расправы». В этом документе предлагалось установить в целях последующей расправы «места проживания большевиков и жидов»…
На предписании стоял оттиск круглой печати с православным крестом в центре и с текстом по окружности — «Каморра народной расправы». В ряде все еще выходивших в мае месяце газет буржуазного направления появились сенсационные заметки, посвященные «Каморре».
В кабинет Урицкого на Гороховой была собрана группа чекистов, которой надлежало раскрыть эту контрреволюционную организацию. Был приглашен и начальник уголовного розыска Илья Тарасович Шматов.
— Как вы полагаете, товарищи, что означает слово «каморра»? — спросил Урицкий собравшихся.
— Мы уже думали над этим, товарищ Урицкий. Тут что-то уголовное или торгашеское, — произнес кто-то.
— По-моему, слово это итальянское, — сказал начальник контрразведыватсльного отдела ЧК Аптипов.
— Вы правы, Николай Кириллович, слово действительно итальянское, но перенесенное в нашу действительность. И перенесенное не без претензии и не бессмысленно. — Моисей Соломонович передал Антипову отпечатанный на пишущей машинке листок с круглой печатью, — Каморрой называлось разбойничье общество, зародившееся в Неаполе еще в 16 веке. Общество тайных убийц и бандитов. Оно просуществовало четыре века и дошло до наших дней… Его члены владеют оружием не хуже каморристов и также благополучно уходят от преследования полиции. В наших условиях это может быть террористическая организация, готовящая, судя по тексту предписания, расправу над советскими людьми. И наша с вами задача — как можно скорее эту организацию обезвредить. Ясно, товарищи?
— Уж куда ясней, — ответил за всех обычно молчаливый чекист Юргенсон.
Отпустив сотрудников готовиться к предстоящему розыску, Урицкий задержал Антипова и Шматова.
— А мы с вами наметим направление нашей работы.
Будем исходить из наличных материалов. — Моисей Соломоновнч взял из рук начальника коптрразведывательного отдела «предписание». — Начнем с названия организации. Мы только что убедились: знать, что означает слово «каморра», может только достаточно образованный человек, имеющий к тому же юридическую подготовку. Дальше, — Урицкий приподнял пенсне и внимательно осмотрел бумагу, — документ напечатан на пишущей машинке…
— Понимаю, Моисей Соломонович, немедленно приглашу экспертов и попрошу проверить, не папечатан ли текст на одной из известных нам машинок, — сразу же подхватил Антипов.
— Дальше, — Урицкий продолжал рассматривать документ. — Печать не самодельная, а выполненная по всем правилам искусства квалифицированным работником…
— Сейчас же распоряжусь проверить все мастерские по изготовлению штампов, клише и печатей! — поднялся Антипов.
— Отлично. Поручаю вам возглавить оперативно-розыскную группу. Держите меня в курсе событий постоянно.
— А вас, Илья Тарасович, — обратился Урицкий к Шматову, — хочу попросить поработать вместе с чекистами. Хорошо бы заняться бывшим князем Боярским, который, как известно, организует вывоз за границу золота, бриллиантов и произведений искусства из дворцов и особняков бывшей знати…
Было установлено, что текст воззваний и предписаний «Каморры народной расправы» отпечатан на пишущей машинке, принадлежащей статистическому отделу продовольственной управы 2-го городского района, находящегося на Казанской улице, 50. А клише печати изготовлено в мастерской Дворянчикова на Гороховой улице, 63.
21 мая Моисей Соломонович с утра был в Смольном, где решался вопрос о мерах, которые необходимо принять в отношении буржуазных газет, еще выходящих в Петрограде. По его предложению было решено организовать над ними показательный суд, а комиссару по делам печати Володарскому выступить на этом суде в качестве обвинителя. Доказательства контрреволюционных направлений газет, в частности по публикациям «Каморры», должен до 25 мая представить Урицкий.
Вернувшись в ПЧК в середине дня, Моисей Соломонович сразу увидел на своем столе список фамилий и адресов лиц, заподозренных в причастности к организации «Каморры». И тут же выписал ордера: чекисту Юргенсону на обыск и арест всех мужчин на Николаевской улице, дом 1, кв. 29, где проживает хозяин мастерской Дворянчиков; чекисту Шейнкману на обыск письменного стола заведующего статистическим отделом продовольственной управы Леонида Николаевича Боброва.
Доставленный на Гороховую, 2, Дворянчиков показал:
«13 мая с. г. пришел ко мне Золотников и заказал печать „Каморра народной расправы“ с просьбой выполнить заказ срочно. 14 мая печать была им лично получена».
В вещественных доказательствах — документах, изъятых Юргенсоном из письменного стола Боброва, были:
«программа антисоветского спектакля для „дикой дивизии“ с участием одесского артиста Сушкевича-Ронского и программа „Союза спасения родины“, в которой обосновывалась идея неделимой, единой и великой России с государственным монархическим строем, основанным на принципе народного представительства».
22 мая в 1 час дня Урицкий подписал новый ордер: «…произвести обыск и арест Леонида Николаевича Боброва и всех мужчин, находящихся в его квартире».
Выполняя поручение Урицкого, глубокой ночью оперативная группа уголовного розыска, возглавляемая инспектором Креневым, на старом, полученном в ЧК автомобиле прибыла на Офицерскую улицу. Оставив автомобиль в ближайшем переулке, группа направилась к светло-голубому особняку, в котором проживал один из руководителей пресловутой «Каморры», бывший князь Боярский. Прихватив с собой дворника, поднялись по черной лестнице в бельэтаж. Кренев постучал в дверь.
— Кто там? — раздался за дверью робкий женский голос.
— Уголовный розыск. Откройте, — громко сказал Кренов.
— А что вам нужно?
— Ищем налетчиков. Откройте!
Дверь приоткрылась. Увидев дворника, женщина, видимо, успокоилась и, сняв цепочку, открыла дверь. Группа вошла в тускло освещенную комнату, в которой никого не было.
— Где Боярский? — спросил Кренев.
— Они уже почивают.
Кренев предъявил женщине ордер па обыск, но она даже не взглянула на него и остановилась у двери, задернутой шторой.
— Разрешите! — И Кренев рывком распахнул дверь. В большой спальне на тахте, покрытой ковром, лежал мужчина. Он явно не спал и прислушивался к разговорам за дверью. Это и был бывший князь Боярский. Он поднялся с постели и, нарочито зевая, спросил:
— Чем обязан?
— Одевайтесь! — Кренев предъявил ордер на обыск.
— Это безобразие! Я буду жаловаться, — начал было Боярский, но Кренев его уже не слушал. — Приступайте к обыску, — распорядился он.
Сотрудники пересмотрели все книги огромной библиотеки, простучали полы, стены. Ничего предосудительного обнаружить не удалось. Наступало утро, и Кренев готов был закончить обыск, но тут его взгляд упал на небольшую статуэтку в виде танцующей женщины. На статуэтке висел золотой кулон. Кренев снял кулон. Он состоял из двух половинок. Раскрыв их, инспектор извлек тончайшую папиросную бумагу, сложенную в несколько раз и исписанную бисерным почерком — длинный перечень фамилий. До этого Кренев внимательно изучил записную книжку Боярского. На первый взгляд в ней ничего подозрительного не было. Целые страницы исписаны какими-то цифрами в рублях и копейках, а также именами людей, к которым эти цифры, очевидно, относились: «Станислав Павлович — 274 рубля 11 копеек, Владимир Дмитриевич — 504 рубля 70 копеек» и так далее. А не имеют ли эти рубли и копейки связи с перечнем фамилий, найденным в кулоне?
— Алексей Андреевич, посмотрите, — попросил он эксперта Салькова, принимавшего участие в обыске. Тот положил перед собой оба документа. Странно, что князь занимался расчетами с какими-то должниками. Это первое пришло в голову при виде цифр. Но может этого быть. А что, если это не рубли и копейки, а номера телефонов людей, поименованных в списке? А если попробовать позвонить?
— Сергей Николаевич, — обратился он к Крепеву, — попросите барышню соединить вас с номером 2-74.
Кренев снял телефонную трубку, назвал номер. В трубке послышался мужской голос.
— Станислав Павлович слушает.
— Очень хорошо. Николай Петрович просит вас приехать к нему, и как можно быстрее — моментально нашелся Кренев.
Догадка Салькова блестяще подтвердилась. В записной книжке и на листке папиросной бумаги были зашфрованы многие участники организации «Каморры», занимающиеся вывозом ценностей за границу.
Прихватив с собой Станислава Павловича, прибывшего по вызову, группа отбыла в управление.
Когда «трофеи» были положены на стол, а задержанные предстали перед ним самолично, начальник уголовного розыска, посеревший от бессонных ночей и нечеловеческой перегрузки, просветлел лицом. Илья Тарасович пробежал список глазами и крепко пожал руки инспектору Креневу и эксперту Салькову.
— Спасибо, товарищи! Теперь есть что и кого передать в комиссию Урицкого.
Вскоре в Петроградскую ЧК были доставлены все лица, причастные к «Каморре».
27 мая по делу «Каморры» Петроградской ЧК было вынесено постановление:
«Лука Тимофеевич Золотников. Арестован 3 июня 1918 года. В связи с распространением по городу прокламации „Предписание гл. штаба Каморры народной расправы“ следствием установлено, что автором и главным распространителем был Золотников. В. П. Мухин арестован за ссуживание деньгами черносотенной погромной организации „Каморра народной расправы“. В преступлении не сознался, но оно явствует из дела Луки Золотникова».
Золотников и Мухин были расстреляны. Молниеносные действия чекистов и сотрудников уголовного розыска ликвидировали организацию в зародыше.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Ненависть контрреволюционеров к Советской власти разливалась гнусными измышлениями на страницах издававшихся тогда в Петрограде буржуазных газет: «Новый вечерний час», «Вечерние огни», «Петроградское эхо».
В мае Петросовет, обсуждая вопрос о печати, предложил «принять твердый курс в отношении таких газет».
Тогда же, в мае, состоялись судебные процессы по делам о преступлениях в печати, где в ряде случаев в качестве обвинителя выступал комиссар по делам печати Володарский. Усилиями Урицкого и Володарского с этими газетами было покончено.
Трудно сказать, кого контрреволюционеры ненавидели больше — Урицкого или Володарского. Видимо, обоих.
Первым пал от руки террориста Володарский. Это случилось 20 июня 1918 года — в дни, когда в Петрограде проходили перевыборы в Советы.
Володарский с двумя сотрудницами Смольного выехал для предвыборного выступления за Невскую заставу. Когда автомобиль по пустынной набережной подъезжал к районному Совету, шофер вдруг заявил, что кончился бензин. Володарский вышел из машины и в сопровождении спутниц пошел в сторону Совета. Неожиданно перед Володарским появился незнакомец и в упор сделал несколько выстрелов из пистолета. Побежавшего террориста попытались задержать прохожие, он бросил бомбу и, воспользовавшись взрывом, скрылся…
…Выступавший в этот день на заседании Петросовета Урицкий был бледен. По долгу службы он лучше всех знал о преступной деятельности врагов революции. И хотя убийца Володарского еще не был найдеп, Урицкий твердо сказал:
— Володарского убили правые эсеры.
Моисей Соломонович горько переживал тяжелую утрату. И даже искал причину гибели товарища в своей гуманности по отношению к врагам революции, в своей вере в возможность морального перевоспитания люден, не принявших революцию.
Он сам проводил расследование этого убийства. Поведение шофера, «случайная» встреча с убийцей давали повод думать о подготовленном заранее нападении, о террористической организации. К сожалению, тогда раскрыть ее полностью не удалось, но очень скоро Урицкому стало ясно, что это убийство действительно дело рук правых эсеров, которые давно уже перешли к открытой борьбе с Советской властью. Питерский пролетариат требовал ответить врагам их же оружием, но петроградские партийные и советские органы сдерживали рабочих.
Узнав об этом, Ленин написал 26 июня Зиновьеву, Лашевичу и другим петроградским работникам письмо, в котором было сказано:
«Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.
Протестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.
Это не-воз-мож-но!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».
Уже с момента создания Петроградской трудовой коммуны в марте 1918 года близкие Зиновьеву люди стали называть его «председателем Совнаркома», он не пресекал подхалимство. Когда в Петрограде в апреле собрался съезд Советов Северной области и принял решение образовать Союз коммун Северной области. Зиновьев и сам охотно называл себя председателем Совнаркома и не терпел возражений против проводимой и реорганизации комиссариатов. По многим вопросам Урицкий возражал Зиновьеву, это привело в мае к передаче поста комиссара внутренних дел Северной области, который занимал Урицкий, Прошьяну, одному из лидеров партии левых эсеров.
На съезде Зиновьев сам уговаривал левых эсеров войти в состав Совета Комиссаров и упрекал их в боязни ответственности. После этого левым эсерам были переданы четыре комиссариата: почты и телеграфа, путей сообщения, земледелия и контроля, а теперь еще и внутренних дел. Этого шага не понимали ни Урицкий, ни другие сотрудники комиссариата внутренних дел. В адрес Петроградского Совета помощник комиссара внутренних дел Благонравов направил запрос, в котором пытался выяснить, «под чьим же руководством они должны работать и в чьем ведении находится Комитет революционной охраны Петрограда?». Петроградский Совет предусмотрительно не пошел на передачу Комитета революционной охраны Петрограда новому комиссару внутренних дел и, воспользовавшись реорганизационной неразберихой, оставил Комитет в ведении Петроградской ЧК, то есть Урицкого.
Тайно готовясь к июльскому восстанию, левые эсеры в Петрограде во главе с Прошьяном были недовольны таким решением Петросовета и развернули в своих газетах бешеную травлю комиссии Урицкого, обвиняя его и чекистов в нарушениях революционной законности. Зашевелились и сотрудники комиссариата юстиции, в котором преобладали левые эсеры. Они выступили в печати с предложением распустить комиссию Урицкого.
Но попытка левых эсеров ликвидировать Петроградскую чрезвычайную комиссию не удалась. Большую поддержку питерским чекистам оказал своим письмом в Петроградский Совет Феликс Эдмундович Дзержинский. Он писал:
«В газетах имеются сведения, что Комиссариат юстиции пытается распустить Чрезвычайную комиссию Урицкого. Всероссийская чрезвычайная комиссия считает, что в настоящий, в наиболее обостренный момент, распускать таковой орган ни в коем случае недопустимо, напротив, Всероссийская конференция чрезвычайных комиссий по заслушании докладов с мест о политическом состоянии страны пришла к твердому решению о необходимости укрепления этих органов при условии централизации и согласованной их работы, о вышеупомянутом комиссия ВЧК просит сообщить товарищу Урицкому».
Установка Владимира Ильича на необходимость резкого усиления борьбы с террористами всех мастей, письмо Феликса Эдмундовича о необходимости укрепления органов защиты пролетарской революции были как нельзя более своевременны.
6 июля в Москве левым эсером Блюмкиным был убит германский посол Мирбах. Левоосеровские лидеры на V Всероссийском съезде Советов призвали к разрыву мирного договора с Германией, к продолжению военных действий. Блюмкин скрылся в отряде ЧК, которым командовал левый эсер Попов. В этом отряде обосновался штаб левоэссровских заговорщиков — их ЦК.
Феликс Эдмундович Дзержинский лично отправился в отряд Попова и потребовал выдачи Блюмкина, но был арестован заговорщиками и обезоружен. Были арестованы и другие ответственные сотрудники ВЧК и председатель Моссовета Смидович. Их объявили заложниками. Один из лидеров левых эсеров, комиссар внутренних дел Северной области Прошьян, приехавший в Москву на V Всероссийский съезд Советов, через Центральный телеграф стал передавать воззвания заговорщиков в другие города. Партия левых эсеров объявила себя «правящей партией».
Однако принятыми мерами мятеж левых эсеров в Москве 7 июля был ликвидирован. По указанию Ленина на борьбу с мятежниками были мобилизованы большевистские партийные организации и верные революции воинские части. Левоэсеровскис делегаты Всероссийского съезда Советов во главе со Спиридоновой были изолированы. Советские войска повели артиллерийский обстрел здания, которое занимал отряд Попова, мятежники начали сдаваться в плен. Заложников освободил сам караул. Активные мятежники по решению ВЧК были расстреляны.
Урицкий в это время как делегат съезда Советов находился в Москве. Как только Якову Михайловичу Свердлову стало известно, что левые эсеры начали мятеж, он пригласил Урицкого и секретаря Петроградского комитета большевистской партии Заславского и предложил им немедленно выехать в Петроград.
— Надо опередить левых эсеров, которые в Петрограде также готовят вооруженный мятеж, — сказал Свердлов.
Для подготовки специального поезда па Петроград было дано два часа. Железнодорожники уложились в срок. Поезд — паровоз и один вагон — мчался, минуя все станции. Два раза в пути менялся паровоз. Урицкий и откомандированные с ним из Москвы чекисты прибыли вовремя.
6 июля группа левых эсеров, укрепившаяся в здания Пажеского корпуса, была разоружена. Решением очередного съезда Советов Северной области эсер Прошьян был снят с поста комиссара внутренних дел и на эту должность по совместительству с должностью председателя ЧК был снова назначен Моисей Соломонович Урицкий.
После ликвидации левоэсеровского мятежа Петроград постигло новое испытание. Вспыхнула эпидемия холеры. И тут вновь «зашевелились» правые эсеры. В водокачку, обеспечивающую город питьевой водой, были заложены бомбы. Одна из них взорвалась. Взрыв причинял лить незначительные разрушения. Часть организаторов взрыва была арестована и доставлена на Гороховую, 2.
Военное положение молодой Советской республики было крайне тяжелым.
На Волге и в Сибири вспыхнул контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, Украина и Белоруссия оккупированы немцами, на Дону и Кубани хозяйничали белоказаки, в Мурманске высадились английские, американские и французские войска…
В Петроградской ЧК появились дела о белогвардейских организациях, вербующих добровольцев в белую армию.
Однажды к Урицкому пришли двое рабочих с Путиловского завода и рассказали о том, что некто Николай Корольчук предлагает им хорошо оплачиваемую работу не то в Мурманске, не то в Архангельске.
— Это похоже на вербовку, которую проводили в войсках Каледина в начале нынешнего года, — сказал Урицкий, обращаясь к Бокию.
— Надо проверить этого вербовщика, — согласился Бокий.
Урицкий и Бокий предложили рабочим продолжить знакомство с Корольчуком.
Очень скоро чекисты получили данные о вражеской организации, занимающейся переправкой бывших офицеров и антисоветски настроенных лиц на Север. Чекистам стал известен и пароль, с которым должны прибывать завербованные: «13», ответ— «57».
С этим паролем и выехали чекисты для ликвидации сборных пунктов завербованных белогвардейцев. Как показало расследование, вербовка велась на щедрые денежные субсидии англичан.
Но не только англичане оплачивали ненависть бывших царских офицеров к Советской власти. Петроградские чекисты сумели обнаружить и ликвидировать каналы нелегальной переправы офицерских кадров в Псков, в распоряжение немецких оккупантов.
В августе Урицкий лично закончил расследование по делу группы заговорщиков — офицеров Михайловского артиллерийского училища, вдохновляемых правыми эсерами и субсидируемых англичанами.
Была ликвидирована и подпольная антисоветская организация в 1-й авиационной группе. Для конспирации бывшие царские офицеры занимали технические должности. Главарь группы Поморский был тесно связан с будущим террористом Канегиссером. Группа, имея в своем распоряжении автомобили, пыталась производить налеты на тюрьмы, чтобы освободить заключенных в них белогвардейцев. В этих операциях должны были принимать участие наемные банды уголовников.
20 августа 1918 года в связи с обострившейся в Петрограде обстановкой Совет комиссаров Союза коммун Северной области издал следующее постановление: «Враги народа бросают вызов революции, убивают наших братьев, сестер, сеют измену и тем самым вынуждают коммуну к самообороне. Совет комиссаров заявляет: за контрреволюционную агитацию, за призыв красноармейцев не подчиняться распоряжениям Советской власти, за тайную или явную поддержку того или иного иностранного правительства, за вербовку сил для чехословацких или англофранцузских банд, за шпионство, за взяточничество, за спекуляцию, за грабежи и налеты, за погромы, за саботаж и т. п. преступления виновные подлежат немедленному расстрелу. Расстрелы производятся только по постановлению Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией».
Урицкий реорганизовал комиссариат внутренних дел, в частности отдел охраны, на который он возложил общее руководство охраной Петрограда.
В то же время Урицкий занимался и иностранными делами. В его кабинете на Дворцовой площади часто происходили приемы послов Швеции, Дании и других нейтральных стран. Приемная всегда была полна лиц, хлопочущих о получении выездных виз.
После убийства Мирбаха германская миссия переехала в Петроград. Вести с ней переговоры вместе с другими представителями Северной коммуны было поручено Урицкому. Вот как рассказывает об этом Борис Павлович Позерн:
«Мы разговаривали с представителем германской миссии, и мы смотрели ему в глаза, стараясь прочесть в них ответ па мучительно стоявший перед нами вопрос: „Что же завтра, возьмут они Петроград или нет?“ Это был для нас вопрос, который представлялся огромным, мучительным, поставленным, может быть, над всей русской революцией. И вот в те дни, когда во многих кругах у нас распространялось состояние неуверенности и колебаний, нужно было видеть Моисея Соломоновича, когда он принимал представителей дипломатической миссии и нейтральных держав, когда он разговаривал с генеральным консулом Германии. Нужно было видеть, как он сумел внушить им величайшее уважение, почти робость, по отношению к себе — этим искушенным во всяких дипломатических передрягах, во всяких дипломатических увертках людям. Он — человек, который никогда не подготовлялся к этой работе, он сумел им внушить такое чувство, что когда заходила речь об Урицком, то сразу у всех этих почтенных представителей кисло-сладкая улыбка сменялась на мину полную серьезности и тень невольного уважения скользила по их лицам.
Да, это был человек, который умел говорить властным тоном, умел говорить спокойно, не повышая голоса, умел говорить так, что его понимали и подчинялись. Дипломаты должны были признать превосходство этого умного человека, умевшего заставить говорить их в должном тоне с представителем ненавистной им большевистской власти».
Утро 30 августа 1918 года обещало жаркий день. Безоблачное небо дышало теплом.
Урицкий ночевал дома, на 8-й линии Васильевского острова. Встал рано. Возле дома его уже ждал автомобиль. Заботливая хозяйка квартиры обратила внимание, что Моисей Соломонович не завтракал, и буквально навязала ему маленький пакетик с бутербродами. В машине рядом с шофером сидел Шатов, комендант Петроградской ЧК. Значит, привез что-то важное.
— Есть новости от Дзержинского, — сообщил он, едва машина тронулась. — Феликс Эдмундович сообщает, что в Петроград нелегально выехал специальный агент английской разведки Сидней Рейли. По мнению Москвы, поездка эта связана с подготовкой нового заговора контрреволюционеров.
— Следует усилить наблюдение за правыми эсерами, — отозвался Урицкий.
Шатов кивнул и продолжил:
— Не исключена возможность появления в Петрограде главы правых эсеров Бориса Савинкова.
— Появится ли, нет ли, революционную охрану города надо усилить в любом случае, — подвел итоги Урицкий.
Автомобиль проскочил мост, свернул налево и быстро домчал пассажиров до Гороховой, 2. Урицкий привычно пересек двор и поднялся на второй этаж. Приятная прохлада кабинета несколько успокоила. На столе уже лежала стопка свежих документов, приготовленных секретарем Борщевским.
Урицкий углубился в чтение, подчеркивая отдельные строки красным карандашом.
В десять часов собрался президиум Петроградской ЧК. Моисей Соломонович кратко обрисовал обстановку, сообщил последние сведения.
— Как видите, кое-что о заговорщиках мы уже знаем. И даже немало знаем, — заключил он. — Думаю, что эту нашу осведомленность до поры до времени обнаруживать нельзя. Но нельзя и оставлять без внимания, без контроля ни одного шага заговорщиков.
Заседание прервал телефонный звонок: помощник военного коменданта города Дыхвинский-Осипов просил с ним встретиться.
— Хорошо, — ответил Урицкий, — минут через десять заканчиваю совещание и выезжаю на Дворцовую. Там и увидимся.
На Дворцовой, у входа в Комиссариат внутренних дел, стояла толпа лиц, хлопотавших об иностранных гражданствах, чтобы выехать из ненавистной им «Совдепии». Увидев Урицкого, они молча расступились, давая ему возможность пройти в здание.
В вестибюле также было много посетителей. Урицкий прошел прямо к лифту.
Неожиданно за его спиной появилась фигура молодого мужчины в кожаной тужурке и офицерской фуражке. Выхватив из-за пазухи кольт, он почти в упор выстрелил в затылок Урицкому.
Вскрикнула рапенная тем же выстрелом женщина. Ахнула толпа. Толкая друг друга, люди бросились к дверям. Вместе с ними выбежал на улицу и убийца.
Вскочил на велосипед, стоявший у входа, и помчался в сторону Александровского сада.
Вслед за преступником бросился комиссар Дыхвинский-Осипов. Достав браунинг, он три раза выстрелил, но неудачно. В это время из арки Главного штаба выехала автомашина германского консульства. Дыхвинский-Осипов и красноармеец охраны остановили ее.
— Всем из машины! — закричал красноармеец пассажирам, щелкая затвором винтовки.
Дыхвинский-Осипов бросился на сиденье рядом с шофером и, показав, куда скрылся преступник, приказал ехать.
Велосипедист свернул за угол на Дворцовую набережную. Когда преследующая его автомашина тоже повернула, красноармеец, лежавший на ее крыле, стал стрелять. Велосипедист юркнул в Мошков переулок, успев сделать несколько ответных выстрелов, при выезде на Миллионную улицу он бросил велосипед и вбежал во двор Северного английского общества.
К этому времени на место событий подъехали еще три автомобиля, в одном из них был комендант Шатов и два чекиста охраны.
Из бывших Преображенских казарм на Миллионной улице бежали красноармейцы Стального отряда. По команде Шатова они окружили дом, в котором укрылся убийца. Шатов приказал прекратить стрельбу.
— Убийцу надо взять живым! — крикнул оп красноармейцам.
Из окруженного здания вышла женщина и сказала, что преступник спрятался в одной из комнат верхнего утажа. Шатов и два чекиста вошли в дом.
Желая взять преступника без кровопролития, чекисты соорудили из шинели караульного подобие чучела, поместили в лифт и подняли наверх в расчете на то, что убийца примет сгоряча эту бутафорию за преследователя и расстреляет все патроны. Но провести убийцу не удалось. Преступник натянул на себя эту шинель и спустился по лестнице вниз, надеясь под видом красноармейца незаметно проскочить на улицу и скрыться. Он сказал преследователям, что убийца поднялся выше. Однако караульный узнал свою шинель, и преступник был схвачен и обезоружен.
В тот же день комендант Петроградской ЧК Шатов допросил убийцу.
Леонид Канегиссер показал, что готовился к убийству Урицкого заранее, узнавал о днях и часах приема посетителей. На убийство решился, желая отомстить за расстрел петроградскими чекистами своих друзей, участвовавших в офицерском заговоре в Михайловском училище…
Узнав об убийстве Урицкого, Владимир Ильич Ленин позвонил в ВЧК и попросил Дзержинского лично выехать в Петроград для проведения расследования.
Когда Дзержинский приехал в Петроград, он тут же, на Николаевском вокзале, узнал о том, что в Москве стреляли в Ленина.
31 августа 1918 года во всех газетах было опубликовано официальное сообщение:
«Сегодня, 30 августа, в семь с половиной часов вечера, выстрелом из револьвера ранен в руку товарищ Ленин.
Покушепие совершено на заводе б. „Михельсона“, где товарищ Ленин беседовал после митинга с рабочими.
Задержаны двое.
Покушение на тов. Ленина, убийство тов. Урицкого делают несомненным организованный поход черных сил против революции и ее вождей».
Прибыв на Гороховую, 2, Дзержинский приказал принести убийцу. Леонид Акимович Канегиссер, 22 лет, дворянин, сын инженер-директора некоторых металлических заводов, бывший юнкер Михайловского военного училища, студент-политехник, он же, как выяснилось, был двоюродным братом правого эсера Филоненко, впоследствии ставшего активным участником расстрела 28 бакинских комиссаров.
Спокойным и властным тоном Дзержинский стал задавать вопросы Канегиссеру. Тот отвечал нервно, с вызовом:
— На вопрос принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению. После Октябрьского переворота я был все время без работы и средства на существование получал от отца. Где и каким образом приобрел я револьвер, показать отказываюсь… Дать более точные показания отказываюсь.
Дзержинский приказал увести арестованного.
Ему и так было ясно, что убийство Урицкого — не акт мести одиночки, а одно из звеньев заговора.
Убить Урицкого, стрелять в Ленина! На это могли пойти только правые эсеры.
Дзержинский знал, что правьте эсеры играют немаловажную роль и в заговоре иностранных дипломатов. Чекисты-разведчики Берзин, Буйкнс и Спрогис уже докладывали об этом. Они сообщили, что 25 августа на тайном совещании обсуждалась программа диверсий на железнодорожных путях.
29 августа в Петроград к английскому военно-морскому атташе Кроми главой «заговора трех послов» Локкартом направлен Сидней Рейли для связи с вожаками белогвардейского подполья.
Однако в стане заговорщиков произошло то, чего не мог предвидеть ни Локкарт, ни Кроми, ни Рейли. Видимо, желая взять на себя инициативу, правые эсеры со свойственным им авантюризмом решили опередить своих западных союзников.
«Ну что ж, — подумал Дзержинский, — это почерк правых эсеров, но наша задача не только разоблачить их, но и ликвидировать „заговор послов“».
Связавшись по телеграфу со своим заместителем Яковом Христофоровичем Петерсом, Дзержинский дал указание арестовать Локкарта.
Оперативную группу чекистов, созданную для ареста другого руководителя заговора в Петрограде, Кроми, Дзержинский инструктировал сам.
Вечером, когда отряд чекистов окружил здание английского представительства в Петрограде, Дзержинский товарным поездом уже ехал в Москву…
На следующий день газеты сообщили, что Петроградской чрезвычайной комиссией произведен ряд обысков особой важности… При входе в английское посольство чекисты были встречены выстрелами.
Помощник комиссара Шейкман был ранен в грудь, тяжело ранен следователь Петроградской ЧК Бартновский, убит наповал разведчик Янсон. Чекисты открыли ответный огонь, в результате которого оказался убитым один из наиболее ярых врагов молодой республики Советов — морской атташе посольства, разведчик Кроми.
При обыске было обнаружено и изъято много оружия и документов, подтвердивших, что иностранные дипломаты преимущественно занимались шпионажем и подготовкой свержения Советской власти. Рассчитывая на скорую гибель Советской власти, они скупали акции фабрик и заводов, разрабатывали планы срыва мирного договора Рос-сип с Германией и даже хотели захватить весь русский торговый флот. Главным руководителем всех заговоров, зревших в Петрограде, был Кроми.
В тот же день в Москве чекисты произвели обыски и аресты среди сотрудников английской и французской дипломатических служб. По поручению ВЧК обыск на квартире английского дипломата Локкарта произвел Мальков. Он же доставил Локкарта в ВЧК.
В ответ на этот справедливый акт возмездия правительство Великобритании без всяких оснований арестовало в Лондоне представителя РСФСР Литвинова и его сотрудников.
«Известия» ВЦИК 5 сентября 1918 года поместили обращение Совета комиссаров Северной области «Ко всему цивилизованному миру»:
«Неслыханные, чудовищные преступления совершаются на нашей земле. Английская и французская буржуазии, кичившаяся своим мнимым демократизмом, взяла на себя задачу восстановления монархии в России… Англо-французскими шпионами кишат наши родные города. Мешки англо-французского золота употребляются на подкуп различных негодяев… Мы получили совершенно точные данные, что официальные английские представители подготавливают взрыв железнодорожных мостов около Званки и Череповца, чтобы отрезать нас от Перми и Вятки и тем оставить нас совсем без хлеба. Они готовят ряд взрывов наших фабрик и заводов, подготовляют крушение поездов, подготовили ряд террористических покушении. Мы не можем молчать, когда посольства превращаются в конспиративную квартиру заговорщиков и убийц, когда официальные лица, живя на нашей территории, плетут сеть кровавых интриг и чудовищных преступлений против нашей страны».
Выражая волю многомиллионного советского парода, ВЦИК сразу же после убийства Урицкого и покушения на Ленина обратился ко всем трудящимся с призывом усилить борьбу с контрреволюцией: «На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции».
1 сентября 1918 года питерский пролетариат прощался с Моисеем Соломоновичем Урицким. В Таврическом дворце, в большом зале на помосте, покрытом черным сукном, стоит дубовый гроб, обитый кумачом. Над изголовьем — венок от металлистов Петрограда с надписью: «Чем ненавистнее для буржуазии, тем дороже для пролетариата».
Среди бесконечного количества венков выделяются: от ЦК РКП (б) — «Старому, испытанному борцу Интернационала»; от Исполкома Совета коммун Северной области—«Защитнику пролетарской и крестьянской бедноты»; от коммунистов ЧК по борьбе с контрреволюцией — «Светить можно — только сгорая!».
2 часа дня. У гроба собрались члены Бюро ПК РКП (б), комиссары Северной коммуны, весь состав Исполкома, руководители профсоюзов, весь состав Петроградской чрезвычайной комиссии.
Как и на похоронах Володарскою, делегацию из Москвы на похоронах Урицкого возглавляет Яков Михайлович Свердлов.
Под траурные звуки «Вы жертвою пали в борьбе роковой» боевые товарищи поднимают и выносят на руках гроб. Последний путь — от Таврического до Смольного, oт Смольного до Марсова поля. На всем пути—живые стены людей, провожающих человека, отдавшего свою жизнь делу пролетарской революции.
В 6 часов вечера траурная река вливается на Maрсово поле — усыпальницу погибших борцов революции. Проститься с Урицким прилетели на своих аэропланах летчики, подкатили со знаменами броневики. Открытый гроб плывет на сотнях рук. Короткая остановка. Последние слова прощания.
С верков Петропавловской крепости гремит прощальный салют. Знамя Комиссариата внутренних дел медленно опускается и покрывает свежую могилу.
2 сентября 1918 года, открывая заседание ВЦИК, Яков Михайлович Свердлов сказал:
«…Прежде всего я напомню об убийство в Петрограде Урицкого и предложу ВЦИК почтить память нашего славного товарища вставанием…
Я нe стану говорить о том, как дорога для нас память товарища Урицкого, не стану говорить о его громадных заслугах перед рабочим движением. Все мы знаем, что товарищ Урицкий больше двух десятков лет с честью занимал ответственные посты в рядах нашей партии. Наша партия в лице товарища Урицкого потеряла крупного работника. Но мы можем быть уверены, что пролетарские массы, выделившие из своей среды ряд сильных, мощных борцов за дело социализма, поставят на посты, — с которых снимаются единицы, — десятки и сотни новых товарищей!»
Три серебристых ели стоят сейчас у изголовья могилы Урицкого. Словно обнявшись, пушистыми ветвями они укрывают от непогоды надгробие из красного гранита. Ежедневно к вечному огню на Марсовом поле приходят девушки в подвенечных платьях и молодые люди в строгих черных костюмах, чтобы в свой самый радостный день отдать дань уважения тем, кто жизнью заслонил Родину от черных ветров контрреволюции. Цветы ложатся на могильные плиты — розы, лилии, тюльпаны, нарциссы, красные гвоздики… К концу дня трудно прочесть на красной гранитной плите, покрытой цветами, скромную надпись — Моисей Соломонович У рицкий.
Примечания
1
Так революционеры называли в Киеве Лукьяновскую тюрьму.
(обратно)2
Польский социал-демократ, участник революционного движения в Киеве в копце 19 в.
(обратно)3
Международные социалистические конференции в Циммервальде (август 1915 года) и в Кинтале (апрель 1916 года), принявшие документы антивоенного характера.
(обратно)4
Здесь — «бесправные», «рабы» (гр.).
(обратно)


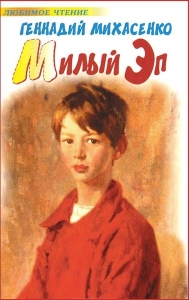
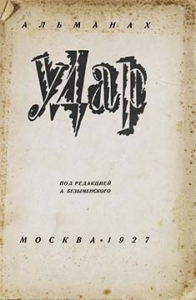
Комментарии к книге «Светить можно - только сгорая», Леонард Николаевич Гаврилов
Всего 0 комментариев