Зинаида Николаевна Гиппиус Собрание сочинений в пятнадцати томах Том 6. Живые лица
З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, Д. С. Мережковский. Музей ИРЛИ. Санкт-Петербург
Живые лица*
Мой лунный друг О Блоке*
. . . . . . . . . .
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье…
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да внидут в царствие Твоё!
Это не статья о поэзии Блока. Не мало их у меня в свое время было. Это не статья и о Блоке самом. И уж, во всяком случае, это не суд над Блоком. И не оценка его. Я хочу рассказать о самом Блоке, дать легкие тени наших встреч с ним, – только.
Их очень было много за двадцать почти лет. Очень много. Наши отношения можно бы назвать дружбой… лунной дружбой. Кто-то сказал, впрочем (какой-то француз), что дружба – всегда лунная, и только любовь солнечная.
1
Осень на даче под Петербургом. Опушка леса, полянка над оврагом. Воздух яблочно-терпкий, небо ярко-лиловое около ярко-желтых, сверкающих кудрей тоненьких березок.
Я сижу над оврагом и читаю только что полученное московское письмо от Ольги Соловьевой.
Об этой замечательной женщине скажу вкратце два слова. Она была женой брата Владимира Соловьева – Михаила. Менее известный, нежели Владимир, – Михаил был, кажется, глубже, сосредоточеннее, и, главное, как-то тише знаменитого брата. Ольга – порывистая, умная, цельная и необыкновенно талантливая. Ее картины никому не известны; да она их, кажется, мало кому и показывала; но каждый рисунок ее – было в нем что-то такое свое и новое, что он потом не забывался. Она написала только один рассказ (задолго до нашего знакомства). Напечатанный в «Сев[ерном] вестнике», он опять был такой новый и особенный, что его долго все помнили.
Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти, в Москве. Тогда же, когда в первый раз увидались с Борей Бугаевым (впоследствии Андреем Белым). Семьи Бугаевых и Соловьевых жили тогда на Арбате, в одном и том же доме, в разных этажах.
Кажется, весной 1903 года Михаил Соловьев, очень слабый, заболел инфлуэнцей. Она осложнилась. Ольга не отходила от него до последней минуты. Закрыв ему глаза, она вышла в другую комнату и застрелилась.
Вместе их отпевали и хоронили. Ольга была очень религиозный человек и – язычница. Любовь ее была ее религией.
Остался сын Сергей, шестнадцатилетний. Впоследствии – недурной поэт, издавший несколько книг (немножко классик). Перед войной он сделался священником.
2
В тот яркий осенний день, с которого начинается мой рассказ, из письма Ольги Соловьевой выпало несколько отдельных листков. Стихи. Но прочтем сначала письмо.
В нем, post scriptum: «…а вы ничего не знаете о новоявленном, вашем же, петербургском, поэте? Это юный студент; нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, вы с ним случайно знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я… право не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько. Напишите, что Вы думаете».
Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их – было блоковское, которое не оставляло его и после и давало ему своеобразную прелесть.
И тема, помню, была блоковская: первые видения Прекрасной Дамы.
3
Переезд в город, зима, дела, кажется – религиозно-философские собрания… Блок мне не встречался, хотя кто-то опять принес мне его стихи, другие, опять меня заинтересовавшие.
Ранней весной, – еще холодновато было, камин топился, значит – в начале или в середине марта, – кто-то позвонил к нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.
День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый; пятно светло-серой тужурки.
– Я пришел… нельзя ли мне записаться на билет… в пятницу, в Соляном Городке Мережковский читает лекцию…
– А как ваша фамилия?
– Блок…
– Вы – Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки…
И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону камина, прямо против высоких окон. За окнами, – они выходят на соборную площадь Спаса Преображения, – стоит зеленый, стеклянный свет предвесенний, уже немеркнущее небо.
Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (все в лице и в нем самом – узкое и высокое, хотя он среднего роста) – густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно из дерева или из камня. Очень интересное лицо.
Движений мало, и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но он при этом низкий и такой глухой, как будто идет из глубокого-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.
Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз, – во всем облике этого студента – есть что-то милое. Да, милое, детское, – «не страшное». Ведь «по-какому-то» (как сказал бы юный Боря Бугаев) всякий новый взрослый человек – страшный; в Блоке именно этой «страшности» не было ни на капельку; потому, должно быть, что, несмотря на неподвижность, серьезность, деревяиность даже – не было в нем «взрослости», той безнадежной ее стороны, которая и дает «страшность».
Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.
Не помню, о чем мы в первое это свидание говорили. Но говорили так, что уж ясно было: еще увидимся, непременно.
Кажется, к концу визита Блока пришел Мережковский.
4
В эти годы Блока я помню почти постоянно. На религ[иозно]-философских собраниях он как будто не бывал, или случайно, может быть (там все бывали). Но он был с самого зарождения журнала «Новый путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о Прекрасной Даме. Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева… Стоило бы просмотреть старые журналы.
Но и до начала «Нового пути» мы уже были так дружны, что летом 1902 года, когда он уезжал в свое Шахматово (подмосковское именьице, где он потом жил подолгу и любовно устраивал дом, сам работая), – мы все время переписывались. Поздней же осенью он приехал к нам на несколько дней в Лугу.
Дача у нас была пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные.
Мы бродим по перелеску, кругом желтое золото, алость сентябрьская, ручей журчит во мхах, и такой – даже на вид холодный, хоть и солнце в нем отражается. О чем-то говорим, – может быть, о журнале, может быть, о чем-то совсем другом… вряд ли о стихах.
Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, будучи с вами, еще был где-то, – я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых – каждое из его медленных скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое, или даже много легких слов, не годились в ответ.
Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга, в двух разных линиях; многие, при мне, так и говорили с Блоком, – даже о «возвышенных» вещах; но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: между словами и около них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно – «несказанно».
Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказáнное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но… не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.
Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности; еще менее, что он «не умен». А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией – отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева – Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех встречах» – самой «несказанной» из поэм – вдруг написать, захохотав, строчку: «Володенька, да как же ты глюпа!» – Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уж не до невинных улыбок над собой.
5
Чем дальше, тем все яснее проступала для меня одна черта в Блоке, – двойная: его трагичность, во-первых, и, во-вторых, его какая-то незащищенность… от чего? Да от всего: от самого себя, от других людей, – от жизни и от смерти.
Но как раз в этой трагичности и незащищенности лежала и главная притягательность Блока. Немногие, конечно, понимали это, но, все равно, привлекались и не понимая.
Мои внутренние восстания на блоковскую «несказанность», тяжелым облаком его обнявшую и связавшую, были инстинктивным желанием, чтобы нашел он себе какую-нибудь защиту, схватился за какое-нибудь человеческое оружие. Но для этого надо было в свое время повзрослеть. Взрослость же – не безнадежная, всеубивающая, о которой говорилось выше, но необходимая взрослость каждого человека, – не приходила к Блоку. Он оставался, при редкостной глубине – за чертой «ответственности».
Знал ли он сам об этом? Знал ли о трагичности своей и незащищенности? Вероятно, знал. Во всяком случае чувствовал он их, – и предчувствовал, что они готовят ему, – в полную силу.
6
Блок, я думаю, и сам хотел «воплотиться». Он подходил, приникал к жизни, но когда думал, что входит в нее, соединяется с нею, – она отвечала ему гримасами.
Я, впрочем, не знаю, как он подходил, с какими усилиями. Я пишу только о Блоке, которого видели мои собственные глаза.
А мы с ним даже и не говорили почти никогда друг о друге, – о нашей человеческой жизни. Особенно в первые годы нашей дружбы. Во всяком случае, не говорили о фактах, прямо, а лишь «около» них.
Мне была известна, конечно, общая биография Блока, то, что его родители в разводе, что он живет с матерью и вотчимом, что отец его – в прибалтийском крае, а сестру, оставшуюся с отцом, Блок почти не знает. Но я не помню, когда и как мне это стало известно. Отражения фактов в блоковской душе мне были известнее самих фактов.
Мы засиделись однажды – над корректурой или над другой какой-то работой по журналу – очень поздно. Так поздно, что белая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло и стояло, маленькое и бледное, уже довольно высоко. Но улицы, им облитые, были совершенно пусты: город спал, – ведь была глубокая ночь.
Я люблю эти солнечные часы ночного затишья; светлую жуть мертвого Петербурга (какое страшное в ней было предсказанье!).
Я говорю Блоку:
– Знаете? Пойдемте гулять.
И вот мы уже внизу, на серых, скрипящих весенней пылью плитах тротуара. Улицы прямы, прямы, тишина, где-то за забором поет петух… Мы точно одни в целом городе, в нашем, нам милом. Он кажется мертвым, но мы знаем, – он только спит…
Опять не помню, о чем мы говорили. Помню только, что нам было весело и разговор был легкий, как редко с Блоком.
Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда он меня проводил, я почему-то спрашиваю его:
– А вы как думаете, вы женитесь, Александр Александрович?
Он неожиданно быстро ответил:
– Да. Думаю, что женюсь. И прибавил еще:
– Очень думаю.
Это все, но для меня это было так ясно, как если бы другой весь вечер говорил мне о своей вот-вот предстоящей свадьбе.
На мой вопрос кому-то:
– Вы знаете, что Блок женится? Ответ был очень спокойный:
– Да, на Любочке Менделеевой. Как же, я знал ее еще девочкой, толстушка такая.
7
В это лето мы с Блоком не переписывались. Осенью кто-то рассказал мне, что Блок, женившись, уехал в Шахматово, что жена его какая-то удивительная прелесть, что у них в Шахматове долго гостили Боря Бугаев и Сережа Соловьев (сын Михаила и Ольги Соловьевых).
Всю последующую зиму обстоятельства так сложились, что Блок почти не появлялся на нашем горизонте. Журнал продолжался (р[елигиозно]-ф[илософские] собрания были запрещены свыше), но личное горе, постигшее меня в начале зимы, приостановило мою работу в нем на некоторое время. У нас не бывал никто – изредка молодежь, ближайшие сотрудники журнала, – все, впрочем, друзья Блока.
Помнится как-то, что был и он. Да, был, – в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся.
Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, – и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме.
И разговор наш был такой же; только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности:
– Не правда ли, ведь, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?
Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы:
– Ну, конечно нет, никогда.
И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо же было видеть, что женитьба изменила его… пожалуй, даже слишком мало.
При прощании:
– Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?
– Нет. Не хочу. Совсем не надо.
8
Мне не хотелось бы касаться никого из друзей Блока; только одного его друга (и бывшего моего) – Бориса Бугаева, «Андрея Белого» – обойти молчанием невозможно.
Он не умер. Для меня, для многих русских людей он как бы давно умер. Но это все равно. О живых или о мертвых говоришь – важно говорить правду. И о живых, и о мертвых, одинаково, нельзя сказать всей фактической правды. О чем-то нужно умолчать, и о худом, и о хорошем.
Об Андрее Белом, специально, мне даже и охоты нет писать. Я возьму прежнего Борю Бугаева, каким он был в те времена, и лишь постольку, поскольку того требует история моих встреч с Блоком.
Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению.
С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда и с Блоком (когда, вероятно, и Блок с ним познакомился). И хотя Б. Бугаев жил в Москве, куда мы попадали не часто, а Блок в Петербурге, отношения наши с первым были внешне ближе, не то дружественнее, не то фамильярнее.
Я беру Б. Бугаева в сфере Блока, а потому и не останавливаюсь на наших отношениях. Указываю лишь на разность этих двух людей. Если Борю иначе, как Борей, трудно было называть – Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».
Серьезный, особенно неподвижный, Блок – и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока – и бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом, вечно меняющимся, – почти до гримас; он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь; потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно: «да-да-да»… и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный, – Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори – они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.
Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок, – в нем чувствовали это и друзья и недруги, – был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание или ощущение – очень прозрачное для собеседника, – что он ничего не понимает. Смотрит, видит, – и во всем для него, и в нем для всего, – недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит ничего не понимать.
Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают» и редкостность Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что ничего «не понимает», а все другие – не чувствуют?
Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, – затейно, – подчас прямо блестяще. О, не только понимает, – он даже пере-перепонял… все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи», – она называлась, кажется, «Белая стрела». Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.
Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее – он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. «Ты, Петр, камень»… А уж если не верен – так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен – ведь «ничего не понимает»…
Боря Бугаев – весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, – он танцуя перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать, – туда, сюда… направо, налево… вверх, вниз…
Боря Бугаев – воплощенная неверность. Такова его природа.
9
Что же связывало эти два, столь различные, существа? Какая была между ними схожесть?
Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они – поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее – о их образах.
Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неисцелимо «невзрослые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев – это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это все было вместо зрелости, но отнюдь не она сама.
Стороны чисто детские у них были у обоих, но разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте; в Боре – сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий.
Блок мало знал свою детскость; Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.
Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм, – Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен.
На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались, – скажем прямо, – людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца – оскорбительно. И признание «ненормальности», и прощение за «поэзию». Что требовать с внешних? Беда в том, что этот взгляд незаметно воспринимался самими поэтами и писателями данного поколения, многими и многими (я не говорю тут собственно о Блоке и Бугаеве). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и невзрослость свою – именно причастностью к «искусству». Не видели, что отходят от жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все им за это снисходительно позволяющей…
Впрочем, я отвлекаюсь. Вернемся к рассказу.
10
Весной 1904 года мы ездили за границу. Останавливались в Москве (мы тогда были в Ясной Поляне), конечно, видели Бугаева, хотя особенно точно я этого свидания не помню. Знаю лишь, что с Блоком в то время Бугаев уже был очень близок (а равно и молодой С. Соловьев).
Началом их близости было, помимо прочего, конечно, и то, что Бугаев считал себя не меньшим последователем Влад. Соловьева, чем Блок. Чуждый всякой философии и метафизики, Блок был чужд, как упомянуто выше, и подосновы В. Соловьева – христианства. Он принимал его в «несказáнном». Напротив, Бугаев только и говорил, что о христианстве, – с христианами преимущественно. К метафизике и философии он имел большое пристрастие, – хотя я не думаю, чтобы с Блоком он развивал свои философские теории. Надо сказать правду: Бугаев умел находить с каждым его язык и его тему.
Мы были с ним уже так хороши, что условились: Боря в Петербурге, куда он вознамерился приезжать часто, останавливается у нас.
Общие события лета и осени 1904 года памятны всем: убийство Плеве, «весна» Святополка-Мирского – банкеты… У нас были свои частные события: привлечение в журнал «Новый путь» так называемых «идеалистов» (Булгакова, Бердяева и др.).
Я не пишу воспоминаний этого времени, а потому скажу вскользь: «Новый путь», по многим причинам разнообразного характера, мы решили 1904-м годом закончить, и, конечно, желательнее было его кому-нибудь передать. Одна из причин была та, что мы хотели уехать года на три за границу. Срока отъезда мы, впрочем, не назначали, и если б удалось привлечением новых людей к журналу перестроить его так, как того требовало время (не изменяя, однако, его основ), мы рады были бы его продолжать. Короче и яснее – «Новый путь», журнал религиозный, был слишком индивидуалистичен: ему недоставало струи общественной. «Идеализм» группы Булгакова – Бердяева был тем мостом, по которому эта группа вчерашних чистых общественников (эсдеков) переходила к религии – может быть, сама еще того не зная… (Будущее показало, что мы угадали верно, – в общем. Всем известно, как далеко в последующие годы ушли в сторону религии Булгаков и Бердяев и как скоро мосты за ними были сожжены.)
Надежды наши оправдались не вполне. Идеалисты вошли в «Новый путь», но при самом соединении было ясно, что для совместной работы еще не настал момент: они – еще слишком «эсдеки», мы – еще слишком индивидуалисты.
И, фактически, уже к концу года журнал был передан им, с тем чтобы далее он, переименовавшись в «Вопросы жизни», продолжался без нашего участия. Естественно изменялся и состав сотрудников. Это было решено полюбовно, хотя не могу сказать, что у нас было больше воли к соединению и уступкам. Но привычное недоверие чистых общественников к людям искусства, да еще с уклоном к христианству (но привычно ли «религия – реакция»?) – не удивило нас и в «идеалистах».
Секретарь журнала Чулков оставался секретарем и в «Вопросах жизни». Он уже и при конце «Нов[ого] пути» перешел всецело на сторону новой группы. С ним и с Булгаковым у меня было – в декабре, кажется, – единственное журнальное столкновение, очень характерное для наших взаимоотношений и показательное для тогдашнего положения Блока. Ибо оно вышло как раз из-за моей статьи о Блоке, первой, кажется. Она была, конечно, о его стихах. И вот Чулков и Булгаков дали мне понять, что тема недостаточно общественна, а Блок недостаточно замечателен и статейка моя, при новом облике журнала, не может пойти. Признаюсь, эта нелепость меня тогда раздосадовала, и правдами и неправдами – заметку удалось напечатать. Все-таки это был еще «Новый путь»! В «Вопросы жизни» мы больше ни с чем не ходили, конечно, хотя до конца оставались со всеми его участниками в самых дружеских отношениях, – с Бердяевым в особенности.
Но не показательно ли это приключение с первой моей статьей о Блоке, чуть ли не одной из первых о нем вообще? Он писал четыре года. А в журналистике был так неизвестен, что и говорить о нем не считалось нужным!
Со всеми памятными датами тех времен у меня больше связывается образ Бугаева, чем Блока. Связывается внешне, ибо по странной случайности Боря, который стал часто ездить в Петербург и останавливался у нас, являлся непременно в какой-нибудь знаменательный день. Было ли это 9 января или 17 октября, или еще что-нибудь вроде (в самый последний раз, увы, тоже случилось 1–2–3 марта 1917 г.), – помню обязательно тут же гибкую фигуру Бори, изумленно косящие голубые глаза, слышу его своеобразные речи, меткие и детские словечки… Боря все видел, везде был, все понял – по-своему, конечно, и в его восторженность вплетается ирония.
Наезжая в Петербург, Боря постоянно бывал у Блока. Рассказывал ли мне он о Блоке? Вероятно. Однако я не помню, чтоб он говорил мне о том, как отражаются на Блоке события. Раз он мне прочел (или показал) новое стихотворение Блока, где рифмовало «ниц» и «царицу». Стихотворение было хорошее, но рифма меня не очаровала.
– Вам нравится, Боря, это «цариц-у»?
Он неистово захохотал, подпрыгнул, чуть ли в ладоши не захлопал:
– Да, да, это именно у-у-у! Как тут нравиться, когда цариц-у-у-у!
Вот в таких пустяках являлся тогда Блок между нами.
11
Зима 1905–1906 года – последняя зима перед нашим отъездом за границу надолго – памятна мне, в конце, частыми свиданиями уже не с Блоком только, но с ним и с его женой. Как случилось наше знакомство – не знаю, но помню часто их всех трех у нас (Боря опять приехал из Москвы), даже ярче всего помню эту красивую, статную, крупную женщину, прелестную тем играющим светом, которым она тогда светилась.
В феврале мы уехали, расставшись со всеми очень дружески, даже нежно.
Но по каким-то причинам, неуловимым – и понятным, ни с кем из них, даже с Борей, у меня переписки не было. Так, точно оборвалось.
12
Со сведениями о России, много, конечно, приходило к нам и вестей о Блоке. С одной стороны – о его общественных выступлениях, участии в газете А. Тырковой, очень недолгом, правда, и окончившемся как-то неожиданно. С другой – известия о внезапной его чуть не славе в буйно завившейся после революции литературной среде – театр Коммиссаржевской, «Балаганчик»…
Но все это смутно, из вторых, третьих рук.
И только однажды, на несколько месяцев, Блок выступил из тумана. По крайней мере, имя его стало у нас постоянно повторяться.
Кто-то позвонил к нам, днем.
«Monsieur…» не понимаю имени. Выхожу в переднюю. Там стоит, прислонившись к стене, в немецкой черной пелерине, – и в самом несчастном виде – Боря Бугаев.
Явление весьма неожиданное в нашей парижской квартире.
Оказалось, что Боря уж давно странствует за границей. Не понять было сразу, как, что, зачем, почему. Шатался – именно шатался – по Германии. Вывез оттуда гетры, пелерину и трубку. Теперь приехал в Париж. Вид имел неулыбающийся, растерянный. Сказал, однако, что намерен остаться в Париже на неопределенное время.
И остался. Жить в нашей парижской квартире было негде, и он поселился недалеко, в маленьком пансиончике, – мы видались, конечно, всякий день.
Скажу в скобках, что в этом пансиончике он ежедневно завтракал… с Жоресом! И, в конце концов, они познакомились, даже вели постоянные долгие разговоры. Боже мой, – о чем? Но воистину не было человека, с которым не умел бы вести долгих разговоров Боря Бугаев!
13
Об этих месяцах с Борей в Париже, о наших прогулках по городу и беседах не стоило бы здесь говорить, если бы темой этих бесед не был, почти постоянно, – Блок.
Мой интерес к Блоку, в сущности, не ослабевал никогда. Мне было приятно как бы вызывать его присутствие (человек, о котором думаешь или говоришь, всегда немного присутствует). То, что Боря, вчерашний страстный друг Блока, был сегодня его таким же страстным врагом, – не имело никакого значения.
Да, никакого, хотя я, может быть, не сумею объяснить, почему. Надо знать Борю Бугаева, чтобы видеть, до какой степени легки повороты его души. Сама вертится; и это его душа вертится, туда-сюда, совсем неожиданно, – а ведь Блок тут ни при чем. Блок остается как был, неизменяемым.
Надо знать Борю Бугаева, понимать его, чтобы не обращать никакого внимания на его отношение к человеку в данную минуту. Вот он говорит, что любит кого-нибудь; с блеском и проникновением рисует он образ этого человека; а я уже знаю, что завтра он его же будет ненавидеть до кровомщения, до желания убить… или написать на него пасквиль; с блеском нарисует его образ темными красками… Какое же это имеет значение, – если, конечно, думать не о Бугаеве, а о том, на кого направлены стрелы его любви или ненависти?
Как бы то ни было, эти месяцы мы прожили, благодаря Бугаеву, в атмосфере Блока. И хотя отношение мое к Бугаеву самое было доброе, на мне нет участия греха в мгновенной перемене его к Блоку. Боря ведь и мой был «друг»… такой же всегда потенциально предательский. Он – Боря Бугаев.
А Блок, сделавшись более понятным со всех сторон, – сделался мне ближе. Опять думалось: какие разные люди эти два «друга», два русские поэта, оба одного и того же поколения и, может быть, связанные одной и той же – неизвестной – судьбой…
14
Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике, отделяющем мою кушетку от кресла, где сидит тот же Блок.
Как будто и не было этих годов… Нет, нет, как будто прошло не три года, а три десятилетия.
Лишь понемногу я нахожу в Блоке старое, неизменное, неизменяемое. По внешности он изменился мало. Но при первых встречах чувствовалось, что мы еще идем друг к другу издалека, еще не совсем узнаем друг друга. Кое-что забылось. Многое не знается. Мы жили – разным.
Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком – около слов. Тут неизменность. Стал ли Блок «взрослым»? У него есть, как будто, новые выражения и суждения – «общие»… Нет, и это лишь внешность. Так же мучительно задумчивы и медленны его речи. А каменное лицо этого, ныне такого известного и любимого, поэта еще каменнее; на нем печать удивленного, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного, – только трагичного.
Впрочем, порою что-то в нем новое настойчиво горело и волновалось, хотело вырваться в слова – и не могло, и тогда глаза его делались недоуменно, по-детски, огорченными.
Блок читает мне свою драму, самую – до сих пор! – неизвестную вещь из своих произведений. (Не помню ее ни в печати, ни на сцене.) По тогдашнему моему впечатлению – она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порою дикость. Его позднейшая пьеса, «Роза и крест» – какая сравнительно слабая и узкая!
Эта – в прозе. Заглавия не помню – мы, говоря о ней, называли ее «Фаиной», по имени героини. Блок читает, как говорит: глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению.
Очень «блоковская вещь». Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного, вечного Блока. Фаина? Вовсе на Фаина, а все та же Прекрасная Дама, Она, Дева радужных ворот, никогда – земная женщина.
Ты в поля отошла без возврата, Да святится Имя твое…Нет, не без возврата…
…года проходят мимо. Предчувствую: изменишь облик Ты.Я говорю невольно:
– Александр Александрович. Но ведь это же не Фаина. Ведь это опять Она.
– Да.
Еще несколько страниц, конец, и я опять говорю, изумленно и уверенно:
– И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь Она – Россия! И опять он отвечает так же просто;
– Да. Россия… Может быть, Россия. Да.
Вот это и было в нем, в Блоке, новое, по-своему глубоко и мучительно оформившееся или полуоформившееся. Налетная послереволюционная «общественность» на нем не держалась. В разговорах за столом, при других, он произносил какие-то слова «как все», и однако не был «как все», и с нашими тогдашними настроениями, довольно крайними, совсем не гармонировал.
Наедине с ним становилось понятней: он свое, для себя вырастил в душе. Свою Россию, – и ее полюбил, и любовь свою полюбил – «несказанную».
15
Блок был нездоров. Мы поехали к нему как-то вечером, в маленькую его квартирку на Галерной.
Сжато, уютно, просто; много книг. Сам Блок дома сжатый и простой. Л. Д., жена его, – очень изменилась. Такая же красивая, крупная, – слишком крупная для маленьких комнат, маленького чайного стола, – все-таки была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть.
Мы знали, что за эти годы она увлеклась театром, много работала, ездила по России с частной труппой. Но, повторяю, не это ее изменяло, да и каботинка в ней, такой спокойной, не чувствовалась. В ней и свет был, но другой, не тот, не прежний, и очень вся она была иная.
Помнилась и она, однако, такой, как была перед отъездом нашим, и хотелось с ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Надо сказать, что за время нашего отсутствия в Петербурге создалось (из остатков прежних Религ[иозно]-философских собраний) целое Р[елигиозно]-ф[илософское] Общество, официально разрешенное. Мы в нем принимали, конечно, участие, – это был как раз «сезон о Боге», когда начались наши столкновения с эсдеками (эсдеки и выдумали нелепое разделение на «богостроителей» и «богоискателей»). Но Общество, многолюдное и чисто интеллигентское, не удовлетворяло нас. И мы вздумали создать секцию, нечто более интимное, но в то же время и более широкое по задачам. Чтобы обойти цензуру – назвали секцию секцией «по изучению истории религий». Непременно хотелось привлечь в эту секцию обоих Блоков. Блок несколько раз приходил к нам, когда создавалась секция, был чуть ли не одним из ее «учредителей».
Однако, после нескольких заседаний, и он, и жена его – исчезли. Да так, что и к нам Блок перестал ходить.
Встречаю где-то Л[юбовь] Д[митриев]ну.
– Отчего вас не видно на Гагаринской? (Там собиралась секция.) Надоело? Заняты?
Ответ получаю наивно-прямой, который сам Блок не дал бы, конечно: на Гагаринской говорят о том, что… должно быть «несказáнно».
В наивном ответе была тень безнадежной правды: и мы поняли, что ни в каких «секциях», даже самых совершенных, Блок бывать не будет и бывать не может.
16
В эти годы, такие внешне шумные, порою суетливые, такие внутренне трудные, тяжелые и сосредоточенные, – я помню Блока все время около нас, но не с нами; не в нашей жизни – а близ нее. У меня была потребность видеть его; очевидно, была она и у него, – он приходил часто. Но всегда один, и тогда, когда мы бывали одни. Приходил надолго; мы засиживались с ним – иногда и наедине – до поздней ночи. Читал мне свое, или просто говорили… о чем? Не о стихах, не о людях, не о нем, – а то, пожалуй, и о стихах, и о людях, и о нем, в особом аспекте, как über dieletzten Dinge – как «о самых важных, последних вещах» – около них, разумеется.
Нам, конечно, известно было то, что говорили о Блоке: говорили, что он «кутит»… нет, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам… Удивлялись: один! Точно это было удивительно. Не удивительно; а если важно – то не само по себе, а вот то, что тут опять и блоковское одиночество, трагичность – и «незащищенность»… от рока, от трагедии?
Между нами разговора об этом не было. Да и зачем? Были его стихи.
Еще менее, чем о нем, говорили мы обо мне. Никогда, кажется, слова не сказали. Раз он пришел – на столе лежала рукопись второй книжки моих стихов, приготовленная к печати. Блок стал смотреть ее, очень внимательно (хотя все стихи он уже знал давно).
Я говорю:
– Хотите, А. А.? Выберите, какие вам больше нравятся, я вам их посвящу.
– Можно? Очень хочу.
Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие – не знаю, во всяком случае, те, которые мне были дороже других.
17
А вот полоса, когда я помню Блока простого, человечного, с небывало светлым лицом. Вообще – не помню его улыбки; если и была – то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.
Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего – в первые дни после его рождения.
Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» – спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше».
День за день; наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик.
Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «Он такой большой». Выбрал имя ему – Дмитрий, в честь Менделеева.
У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло – и рассеянно.
– О чем вы думаете?
– Да вот… Как его теперь… Митьку… воспитывать?…
Митька этот бедный умер на восьмой или десятый день.
Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумленное.
Еще пришел несколько раз, потом пропал.
Уже [через] долгое время, когда Л. Д. совсем поправилась, они приехали к нам оба, прощаться: уезжают за границу. «Решили немножко отдохнуть, другие места повидать…»
У обоих лица были угасшие, и визит был ненужный, серый. Все казалось ненужным. Погасла какая-то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь.
18
Может быть, кто-нибудь удивится, не поймет меня: какая надежда для Блока в ребенке? Блок – отец семейства! Он поэт, он вечный рыцарь, и если действительно был «невзрослым», то не прекрасно ли это – вечный юноша? Останься сын его жив, – что дал бы он поэту? Кое-что это отняло бы скорее; замкнуло бы, пожалуй, в семейный круг…
Трудно отвечать на размышления такого порядка. Скажу, впрочем, одно: Блок сам инстинктивно чувствовал, чтó может дать ему ребенок и как ему это нужно. А мог он ему дать кровную связь с жизнью и ответственность.
При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при отнюдь не легкой, но тяжелой и страдающей душе, я повторяю – он был безответственен. «Невзрослость» его – это нечто совсем другое, нежели естественная, полная сил, светлая юность; а это вечное хождение около жизни? а это бескрайнее, безвыходное одиночество? В ребенке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской; возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда. Не в отцовстве тут было дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить его как человека.
Сознавал ли это Блок так ясно, так грубо, как я сейчас пишу? Нет, конечно. Но весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла – погас и он. Вернулся в свою муку «ничегонепониманья», еще увеличившуюся, ибо он не понимал и этого: зачем была дана надежда и зачем была отнята.
19
Своеобразность Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит – он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ – он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато – и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и – готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частностях.
Столкновения, которые когда-либо происходили между нами и Блоком, были только на этой почве. Мимолетные, правда: ведь общих дел у нас не было, приходил он к нам один, да и касаться этих вопросов мы избегали. Но подчас столкновения были резкие. Не помню их ясно; о последнем, главном, речь впереди.
Иногда Блок совершенно исчезал. Возвращаясь раз в ярко-солнечный вечер, мы заехали к нему.
Светлая, как фонарик, вся белая, квартирка в новом доме на Каменноостровском. Как непохожа на ту, на Галерной!
Нас встретила его жена. А Блок еще спал… Вернулся поздно, – как дала нам понять Л. Д. – только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий, каменный, как никогда. Мы посидели недолго. Было темно в светлой, словно фонарь, квартирке.
На возвратном пути опять вспомнился мне – вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик Прекрасной Дамы:
По вечерам, над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. . . . . . . . . . . . . . . . И каждый вечер, в час назначенный (Иль это только снится мне?) Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука… . . . . . . . . . . . . . . . В моей душе лежит сокровище И ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине.«Незнакомка» всем известна; но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого, строки страшные и пророческие:
О, как паду, и горестно, и низко, Не одолев смертельныя мечты!Ужас предчувствия: «изменишь облик Ты» – исполнялся, но еще далеко было до исполнения. «Она» в черном, не в белом платье и не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а «меж пьяными» – о, это еще не так страшно. Это еще не все.
20
Так как я пишу почти исключительно о том Блоке, которого видели мои глаза, то сами собой выпадают из повествования все рассказы о нем, о его жизни, – правдивые или ложные, кто разберет?
Друг-враг его, Боря Бугаев (теперь уже окончательно Андрей Белый), давно, кажется, опять стал его «другом». Но я плохо знаю их новые отношения, потому что в последние годы перед войной редко виделись мы и с А. Белым: он женился на московской барышне (на сестре ее женился Сергей Соловьев), долго путешествовал и, наконец, сделавшись яростным последователем д-ра Штейнера, поселился с женой у него в Швейцарии. Однажды, проездом в Финляндию (Штейнер тогда был в Гельсингфорсе), А. Белый явился к нам. Бритый, лысый (от золотого пуха и воспоминаний не осталось), он, однако, по существу был тот же Боря: не ходил – а танцевал, садился на ковер, пресмешно и премило скашивал глаза, и так же водопадны были его речи, – на этот раз исключительно о д-ре Штейнере и антропософии. А главное – чувствовалось, что он так же не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как раньше. И было скучно.
С Блоком в эти зимы у нас установились очень правильные и, пожалуй, близкие отношения. Приходил, как всегда, один. Если днем, – оставался обедать, уходил вечером.
Несколько раз являлся за стихами для каких-то изданий, в которых вдруг начинал принимать деятельное участие: «Любовь к трем апельсинам» или сборник «Сирин».
По моей стихотворной непродуктивности, найти у меня стихи – дело нелегкое. Но Блоку отказывать не хотелось. И вот мы вместе принимались рыться в старых бумагах, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили там (да если и в книжке моей), являлось новое затруднение: надо стихи переписывать. Тут Блок с немедленной самоотверженностью садился за мой стол и не вставал, не переписав всего, иногда больше, чем нужно: так, у меня случайно остался листок с одним очень старым моим, никогда не напечатанным, стихотворением – «Песня о голоде», переписанным рукой Блока.
Блок уже издал «Розу и крест», собирался ставить ее в Москве, у Станиславского. «Роза и крест» обманула мои ожидания. Блок подробно рассказывал мне об этой пьесе, когда только что ее задумывал. В ней могло быть много пленительности и острой глубины. Но написанная – она оказалась слабее. Блок это знал и со мной о пьесе не заговаривал. Мне и писать о ней не хотелось.
21
Каждую весну мы уезжали за границу; летом возвращались – но Блок уже был у себя в деревне. Иногда летом писал мне. А осенью опять начинались наши свиданья. В промежутках, если проходила неделя-две, мы разговаривали по телефону – бесконечно, по целым часам. Медлительная речь Блока по телефону была еще медлительнее. Как вчера помню, – на мое первое «allo!» его тяжелый голос в трубку: «Здравствуйте», – голос, который ни с чьим смешать было нельзя, и долгие, с паузами, речи. У меня рука уставала держать трубку, но никогда это не было болтовней, и никогда мне не было скучно. Мы спорили, порою забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, как после свиданья.
22
Война.
Трудно мне из воспоминаний об этих вихревых первых месяцах и годах выделить воспоминание о Блоке. Уж очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцию, создала новые группировки и новые разделения.
Насколько помню – первое «свиданье» наше с Блоком после начала войны – было телефонное. Не хотелось – да и нельзя было говорить по телефону о войне, и разговор скоро оборвался. Но меня удивил возбужденный голос Блока, одна его фраза: «Ведь война – это прежде всего весело!»
Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно; страшило скорее, что он увлечется войной, впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его «весело» уже смущало…
Однако, скажу сразу, этого с Блоком не случилось.
Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но от «упоения» войной его спасала «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность. Рыцарское обожание… ведь она была для него в то время, – Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама»…
23
Мы стали видеться немного реже и, по молчаливому соглашению, избегали говорить о войне. Когда все-таки говорили, – спорили. Но потом спор обрывался. Упирались, как в стену, в то, что одни называли блоковским «черносотенством», другие – его «аполитичностью».
Для меня – это была «трагедия безответственности». И лучше, думалось, этого не касаться…
Ранней весной должна была идти, в Александрийском театре, моя пьеса «Зеленое кольцо». (История ее постановки с Савиной, Мейерхольдом и т. д. сама по себе любопытна и характерна; но к Блоку отношения не имеет, и я ее опускаю.) Блок пьесу знал еще в рукописи. Она ему почему-то особенно нравилась.
Шли репетиции; ни на одну мне не удавалось попасть. Их назначали по утрам. Случайно единственную назначили вечером. Принесли извещение, когда у нас сидел Блок.
– Хотите, поедемте вместе? – говорю ему. – Заезжайте за мною, и назад привезите. Не хотите – пусть Мейерхольд обижается, не поеду.
– А меня не погонят? – с шутливой опаской спросил Блок и сейчас же согласился.
Был февраль. Еще холодно, не очень снежно. Едем в автомобиле по ровной, как стрела, Сергиевской, – полутемной (война!). Я, кажется, убеждаю Блока не писать в «Лукоморье» (нововременский журнал). Потом переходим на театр. Я не верю в театр. Не должен ли он непременно искажать написанное?
– Вы были довольны, А. А., вашими пьесами у Коммиссаржевской?
Блок молчит. Потом с твердостью произносит:
– Нет. Меня оскорбляло.
Кажется, и он не верит в театр.
В темной зале, невидные, мы просидели вместе с Блоком все акты (3-й, с Савиной, не репетировался). Конечно, чепуха. Привыкнув играть любовников – актеры не могли перевоплотиться в гимназистов. Когда один, перед поцелуем, неожиданным (по смыслу) для него самого, вдруг стал озираться, даже заглянул за портьеру, Блок прошептал мне: «Это уж какая-то порнография!»
Лучше других была Рощина-Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. В первом перерыве он ей послал записочку: «Спросите Блока. Он вам хорошо скажет».
Кажется, они потом долго разговаривали.
Мейерхольд был в ударе. Собрал всех актеров в фойе, произнес горячую назидательную речь. И мы уехали с Блоком домой, пить чай.
24
Блок не пошел на войну. Зимой 15–16 года он жил уединенно, много работал. У меня в эту зиму, по воскресеньям, собиралось много молодежи, самой юной, – больше всего поэтов: их внезапно расплодилось неистовое количество. Один приводил другого, другой еще двух, и так далее – пока уж не пришлось подумать о некотором сокращении. Иных присылал Блок; этим всегда было место. Блок интересовался моими сборищами и часто звонил по телефону в воскресенье вечером.
Приходил же, как всегда, когда не было никого. Раз, случайно – днем – столкнулся у нас с Марьей Федоровной (женой Горького). Она у нас вообще не бывала; очевидно, дело какое-то оказалось, какой-нибудь сборник – не знаю. Мы иногда встречались с нею и с Горьким в эти зимы у разных людей (Горький заезжал и к нам – чуть ли не предлагал стихи мои издать, но мы это замяли).
Жена Горького, впоследствии усердная «комиссарша» совдепских театров, была, пока что, просто зрелых лет каботинка, на всех набегавшая, как беспокойная волна.
Вижу ее и Блока сидящими за чайным столом друг против друга. Пяти минут не прошло, как уж она на Блока набежала с какими-то весьма умеренными, но «эсдечными» – по Горькому – мнениями.
Ей удавалось произнести слов 50–60, пока Блок успевал выговорить четыре. Это его, очевидно, раздражило, и слова, спокойные, становились, однако, все резче.
Марья Федоровна без передышки наскакивала и стрекотала: «Как вы можете не соглашаться, неужели вы не знаете положения, кроме того общество… кроме того правительство… цензура не позволяет… честные элементы… а она… они… их… оно…» Блок словно деревянным молотком стучал, упрямо: «Так и надо. Так и надо».
С художественной точки зрения эта сцена была любопытна, однако мы вздохнули свободнее, когда она кончилась и Марья Федоровна уехала.
Уехала, но с Блока не сошло упрямство. Он и без нее продолжал твердить то же, в том же духе, ни на пядь не уступая. Доконала она, видно, его. Мы постарались совсем повернуть разговор. Не помню, удалось ли это.
25
Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос очень современный и, на мой взгляд, важный: о безответственности поэта, художника, писателя – как человека. На примере Ап. Григорьева и В. Розанова Блок старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева (зачем осуждала бесшабашность и перекидничество его), так и на нетерпимость (?) новой, по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик (этот типичнейший русский нигилист), не смотревший ни на гражданскую, ни на человеческую мораль Розанова.
Много чего еще было в статье Блока. И в ответной моей тоже (впоследствии напечатанной в сборнике «Огни») – суть ее определялась эпиграфом:
Поэтом можешь ты не быть, Но человеком быть обязан.Печатать статью, не прочтя ее раньше Блоку, мне и в голову, конечно, не приходило. Мы сговорились с ним, – это было поздней весной 16-го года, – и он явился вечером – светлым, голубеющим, теплым: помню раскрытые, низкие окна на Сергиевскую, на весенние деревья Таврического парка, за близкой решеткой.
Мне памятен этот вечер со всеми его случайностями. Когда мы еще сидели в столовой, – в передней, рядом, позвонили, и вбежала незнакомая заплаканная девушка. Бросилась ко мне, забормотала, всхлипывая:
– Защитите меня… Меня увозят, обманом… Вы написали «Зеленое кольцо»… вы поймете…
И вдруг, взглянув в открытую дверь столовой, вскрикнула:
– Вот, у вас А. А. Блок… Он тоже защитит, поможет мне… Умоляю, не отдавайте меня ему…
Блок вышел в переднюю. Мы стояли с ним оба беспомощные, ничего не понимая. Девушка, неизвестная и Блоку, была явно нервно расстроена. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут опять позвонили, и вошел «он», брат девушки, очень нежно стал уговаривать ехать с ним – домой (как он говорил). Общими силами мы ее успокоили, уговорили, отправили.
Впоследствии узналось, что девушка, хоть и действительно нервно расстроенная, не совсем была неправа, спасаясь от брата. Темная какая-то история с желаньем братьев из расчета упрятать сестру в лечебницу… Темная история.
Но что мы могли сделать? Мог ли когда-нибудь человек помочь человеку?
Мы, однако, невольно омрачились. И без того грусть и тревога лежали на душе.
Все это было, кажется, в последний, В последний вечер, в вешний час. И плакала безумная в передней, О чем-то умоляя нас. Потом сидели мы под лампой блеклой, Что золотила тонкий дым. А поздние, распахнутые стекла Отсвечивали голубым…В моем кабинете, под этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нем довольно резкие строки. Мне хотелось стряхнуть с нас обоих беспредметную грусть этого свидания. Лучше спорить, горячиться, сердиться…
Спор был, но и он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Через минуту заговорил о другом, – но понятно было, что не о другом, о том же, только не прямо о предмете, а как всегда он говорит – около.
Не хотелось говорить и мне. Да, все это так, и нельзя не требовать от каждого человека, чтобы он был человеком, и не могу я от Блока этого не требовать, но… как больно, что я не могу и не перестану! В эту минуту слабости и нежности хотелось невозможного: чтобы прощалось вот таким, как Блок, непрощаемое. Точно от прощения что-нибудь изменилось бы! Точно свое непрощаемое, свою трагедию не нес Блок в самом себе!
Мы сидели поздно, совсем заголубели окна; никогда, кажется, не говорили мы так тихо, так близко, так печально.
Даже на пустынной улице, около свежего сада, он еще остановился, и мы опять говорили о чем-то, о саде, о весне, опять по-ночному тихо, – окна у меня были низкие.
…Ты, выйдя, задержался у решетки, Я говорил с тобою из окна. А ветви юные чертились четко На небе – зеленей вина. Прямая улица была пустынна. И ты ушел в нее, – туда… Я не прошу. Душа твоя невинна. Я не прошу ей – никогда.Вернувшись осенью 16-го года в Петербург из деревни, мы узнали, что Блок если не на фронте – то недалеко от фронта: служит в Земско-Городском Союзе. Вести о нем приходили хорошие: бодр, деятельно работает, загорел, постоянно на лошади… Мать сообщала мне, что очень довольна его письмами, хотя они кратки: – некогда.
26
Я, может быть, увлекаюсь и злоупотребляю подробностями встреч моих с Блоком. Но кому-нибудь из любящих его память будут интересны и они. Теперь досказать осталось немного.
Дни революции. В самый острый день, а для нас даже в самый острый момент (протопоповские пулеметы с крыш начали стрелять в наши окна, то с улицы, то со двора) – внезапное появление Б. Бугаева – Андрея Белого. (Он уже с год как приехал из Швейцарии в Москву, один, говорил, что ввиду призыва, но на войну не пошел. Связался с издательством одной темной личности – Ив[анова]-Разумника, что-то писал у него, ездил к нему в Царское Село.) В этот день он мирно ехал из Царского, где было еще тихо, и обалдел, выйдя из вагона прямо на улицы революционного города. В шубе до пят – он три часа волокся к нам пешком, то и дело заваливаясь под заборы, в снег от выстрелов. Так обезножел, что у нас в квартире и остался (да и выйти побаивался).
Опять вижу в эти дни танцующую походку, изумленно-скошенные глаза, гомерические речи и вскрики: «Да-да-да, теперь русский флаг – будет красный флаг? Правда? Правда, надо, чтоб был красный?»
Без моего погибшего дневника не могу восстановить даты, но скоро, очень скоро после революции, через неделю или две, – вот Блок, в защитке, которая его очень изменяет, взволнованно шагающий по длинной моей комнате. Он приехал с фронта, или оттуда, где он находился – близ северо-западного фронта.
В торопливо-радостные дни эти все было радостно и спешно, люди приходили, уходили, мелькали, текли, – что запоминалось? что забывалось?
Но Блок, в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий по моему ковру, – ярко помнится; и слова его помнятся, все те же он повторял:
– Как же теперь… ему… русскому народу… лучше послужить?
Лицо у него было не просветленное; мгновеньями потерянное и недоуменное; все кругом было так непохоже на прежнее, несоизмеримо с ним; почему вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова:
– Как же теперь… его… Митьку… воспитывать?
Тогда только промелькнуло; а теперь, когда вспоминаю это воспоминание, – мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды? Слишком поздно?
27
Наступил период, когда я о Блоке ничего не помню. Кажется, он опять уехал к месту службы. Потом мы уехали на несколько недель на Кавказ. Там – два-три письма из Москвы, от А. Белого. По обыкновению – сумасшедше-талантливые, но с каким-то неприятным привкусом и уклоном. С восторгами насчет… эсдеков. С туманными, но противными прорицаниями. Что же спрашивать с Белого? Он всегда в драме – или мелодраме. И ничего особенно ужасного и значительного отсюда не происходит.
Наше возвращение. Корниловская история, – ее мы переживали изнутри, очень близко, и никак не могли опомниться от лжи, в которую она была заплетена (и до сих пор заплетена). Виделись ли мы с Блоком? Вероятно, мельком; потому, думаю, вероятно, виделись – что мой телефон осенью, совершенно поразивший меня, был действием простым, как будто и не первой встречей после весны.
Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось – чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж, смириться, молчать, ждать? Все хватались за что кто мог. Не могли не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевицкую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.
Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я, спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!), объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.
Пауза. Потом:
– Нет. Я, должно быть, не приду.
– Отчего? Вы заняты?
– Нет. Я в такой газете не могу участвовать.
– Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?
Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.
– Вот война, – слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. – Война не может длиться. Нужен мир.
– Как… мир? Сепаратный? Теперь – с немцами мир?
– Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.
У меня чуть трубка не выпала из рук.
– И вы… не хотите с нами… Хотите заключать мир… Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?
Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):
– Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира, они…
Тут уж трудно было выдержать.
– А Россия?!.. Россия?!..
– Что ж Россия?
– Вы с большевиками, и забыли Россию. Ведь Россия страдает!
– Ну, она не очень-то и страдает…
У меня дух перехватило. Слишком это было неожиданно. С Блоком много чего можно ждать, – но не этого же. Я говорю спокойно:
– Александр Александрович. Я понимаю, что Боря может… Если он с большевиками – я пойму. Но ведь он – «потерянное дитя». А вы! Я не могу поверить, что вы… Вы!
Молчание. Потом вдруг, точно другой голос, такой измененный:
– Да ведь и я… Может быть, и я тоже… «потерянное дитя»?
Так эти слова и остались звенеть у меня в ушах, последний мой телефон с Блоком:
«Россия не очень и страдает… Скорее уж с большевиками… А если и я „потерянное дитя“?»
О катастрофе не буду, конечно, распространяться. Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики – позор России, не смываемое с нее никогда пятно, даже страданиями и кровью ее праведников не смываемое.
…Но и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне!К счастью, Блок написал эти строчки задолго до большевизма, и «такая» – не значит (в этом стихотворении) «большевицкая». Однако – чем утешаться? Сомнений не было: Блок с ними. С ними же, явно, был и Андрей Белый. Оба писали и работали в «Скифах» – издательстве этого переметчика – не то левого эсера, не то уж партийного большевика – Ив[анова-] Разумника.
Слышно было, что и в разных учреждениях они оба добровольно работают. Блок вместе с Луначарским и Горьким. Его поэма «12», напечатанная в этих самых «Скифах», неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела. Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создалась об этих «апостолах» еще при жизни Блока. Наверно, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И, наверно, он не сказал, – «потому что это несказáнно». Большевики, несказáнностью не смущаясь, с удовольствием пользовались «двенадцатью»: где только не болтались тряпки с надписью:
Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем.Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся, – не раздувался.
Видали мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:
…Эй, не трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь! – и еще что-то вроде.Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. Немножко от боли не хотелось. А думалось часто. Собственно, кощунство «двенадцати» ему нельзя было ставить в вину. Он не понимал кощунства. И, главное, не понимал, что тут чего-то не понимает. Везде особенно остро чувствовал свое «ничегонепониманье» и был тонок, а вот где-то здесь, около религии, не чувствовал, – и был груб. И невинен в грубости своей; что требовать от Блока, если «христианнейший антропософ» А. Белый в это время написал поэму «Христос воскресе», – не имевшую успеха, ибо неудачную, – однако столь ужасную по кощунству, что никакие блоковские красноармейцы в сравнение с ней идти не могли.
Об А. Белом думалось с жалостью [и] презреньем. О Блоке – с жалостью и болью. Но не всегда. Кощунства – пусть, чтó с него тут требовать, не понимал никогда и не лгал, что понимает. Но его Прекрасная Дама? Его Незнакомка? Его Фаина – Россия – «плат узорный до бровей» – его любовь?
И уж не боль – негодование росло против Блока.
О, как паду, и горестно, и низко, Не одолев смертельныя мечты!28
Мы думали, что дошли до пределов страданья, а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, чтó им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят – ничего, осмелеют. Хапнут.
Так, весной 18 года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевицкая интеллигенция, – а другой тогда не было, исключения считались единицами – оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат – она вообразить не могла.
За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов, все написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, «Последние стихи», необыкновенно скоро была отпечатана в военной, кажется, типографии (очень недурно), и затем все издание, целиком, кому-то продано, – впрочем, книгу свободно можно было доставать везде, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать как «запрещенную».
Упоминаю об этом вот почему.
Эту новую беленькую книжечку, с такими определенными стихами против «друзей» Блока – трудно было удержаться не послать Блоку. Я думаю, все-таки и упрямое неверие было, все-таки! что большевики – друзья Блока. Ведь это же с ума сойти!
Одна из моих юных приятельниц – много у меня еще оставалось дружеской молодежи, честной, – вызвалась книжку Блоку отнести. Письма не было, только на первой странице – стихотворение, ему посвященное: «Все это было, кажется, в последний – в последний вечер, в вешний час…» – «…Душа твоя невинна. – Я не прощу ей никогда».
Немного упрекала меня совесть… «Не прощу», – а книгу все-таки посылаю? На что-то надеюсь? На что?
После ответа Блока уж и надеяться стало как будто не на что.
Тоненькие серые книжки… Поэма «12», конечно, и стихотворение «Скифы». Тут же и предисловие Ив[анова-] Разумника, издателя… Лучше не говорить о нем. На одной из книжечек – стихотворение Блока, написанное прямо мне. Лучше не говорить и о нем. Я его не помню, помню только, что никогда Блок таких пошлостей не писал. Было как-то, что каждому своя судьба (или вроде), – …«вам – зеленоглазою наядой плескаться у ирландских скал» (?) «мне» – (не помню что) и «петь Интернационал»…
Нет, кончено, кончено, прячу брошюрки без возврата, довольно, взорваны мосты…
И еще прошли месяцы – как годы.
29
Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных, газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко.
Нравственная и физическая тяжесть так растет грозно, что мимо воли тянешься прочь, вон из Петербурга, в ту Россию, где нет большевиков. Верится: уже нет. (А если – еще нет?)
Все равно, мечта – повелительная – не дает покоя, тянет на свободу.
День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей – к другой: эта другая – именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.
Мы сидим с Ш. рядом, лицом к заколоченному Гостиному двору. Трамвай наполняется, на Сенной уже стоят в проходах.
Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит:
– Здравствуйте.
Этот голос ни с чьим не смешаешь. Подымаю глаза. Блок.
Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была – не шляпа) длинное, сохлое, желтое, темное.
– Подадите ли вы мне руку?
Медленные слова, так же с усилием произносимые, такие же тяжелые.
Я протягиваю ему руку и говорю:
– Лично – да. Только лично. Не общественно.
Он целует руку. И, помолчав:
– Благодарю вас.
Еще помолчав:
– Вы, говорят, уезжаете?
– Что ж… Тут или умирать – или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении…
Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо:
– Умереть во всяком положении можно.
Прибавляет вдруг:
– Я ведь вас очень люблю…
– Вы знаете, что и я вас люблю.
Вагон (немного опустевший) давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко, при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть) – что и сцена им кажется трагичной.
Я встаю, мне нужно выходить.
– Прощайте, – говорит Блок. – Благодарю вас, что вы подали мне руку.
– Общественно – между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда… Но лично… как мы были прежде…
Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним, опять он наклоняет желтое, больное лицо свое, медленно целует руку, «благодарю вас»… – и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и еще вижу на площадку вышедшего за мной Блока, различаю темную на нем… да, темно-синюю рубашку…
И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле.
Великая радость в том, что я хочу прибавить.
Мои глаза не видали Блока последних лет; но есть два-три человека, глазам которых я верю, как своим собственным. Потому верю, что они, такие же друзья Блока, как и я, относились к «горестному падению» его с той же болью, как и я. Один из них, по природе не менее Блока верный и правдивый, даже упрекнул меня сурово за посылку ему моих «Последних стихов»:
– Зачем вы это сделали?
И вот я ограничиваю себя – намеренно – только непреложными свидетельствами этих людей, только тем, что видели и слышали они.
А видели они – медленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение, победный конец трагедии. Из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, остававшиеся твердыми и зрячими. Но Блок, прозрев, увидев лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его Возлюбленную – его Россию, – уже не мог не идти до конца.
Есть ли из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой, в петербургском плену, хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенной из вражьих рук? Я – знаю. И вкус этой корки – пайка проклятого – знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов, – тоже знаю.
А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «12» – возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы – уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но – говорили – он ничего не хотел принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его. Он буквально задыхался; и задохнулся.
Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, в свое время, они будут известны. Довольно сказать здесь, что страданьем великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России.
…И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком воронье… Те, кто достойней, Боже, Боже, Да внидут в царствие Твое!Радость в том, что он сумел стать одним из этих достойных. И в том радость, что он навеки наш, что мы, сегодняшние, и Россия будущая, воскресшая, – можем неомраченно любить его, живого.
1922
Одержимый О Брюсове*
…Но, всех покоряя, – ты вечно покорен:
То зелен, то красен, – то розов, то черен…
Нет на свете ничего интереснее «человека». Настоящего, живого человека, созданного природой, историей (или Богом). Но природное (или Божье) творчество необыкновенно тонко, сложно, узор его не для всех уловим. Писатели, создавая выдуманных людей, – типы – истолковывают «человека» непонимающим. Подчеркивают, огрубляют тонкие черты, усиливают звук отдельной души, или дополняют его схожим звуком другой; бросают краски мазками, пятнами, как на декорациях. Это громадное дело; его можно делать и гениально, и бездарно…
В моих «сказках действительности» я не истолковываю «человека». Я рассказываю о нем подлинном, настоящем, каким он прошел перед моими глазами, – или даже мелькнул – и каким он мне показался. Известен ли человек, обладает ли он какими-нибудь исключительными талантами или нет, – все равно; ведь часто самые неизвестные, незаметные люди бывают интереснее, как люди, знаменитейших писателей и общественных деятелей.
Я пишу лишь о тех, с кем встреч уже не жду на этом свете, – потому ли, что они отошли за его черту, или потому, что отошли за непереступимую для меня черту человеческую, как Брюсов-большевик и другие. Повторяю, впрочем, то, что было сказано в рассказе «о Блоке»: о живых или о мертвых пишешь – надо говорить правду; и о живых или о мертвых пишешь – надо о чем-то, о какой-то фактической правде, хорошей и дурной, – умолчать. Эти умолчания не искажают образа. Но не надо прикасаться к «тайне Личности», которая должна быть, – и все равно будет – сокрыта навсегда.
* * *
Поэт Валерий Брюсов – с 18-го, кажется, года – коммунист. Мало того: он сразу же пошел в большевицкую цензурную комиссию, – не знаю, как она у них там называется, чуть ли не сделался ее председателем и заявил себя цензором строгим, беспощадным, суровым. Была у него издана, еще при нас, брошюрка: «Почему я стал коммунистом», но мне не попалась, да, признаться, и не заинтересовала меня: догадаться, как Валерий Брюсов стал «коммунистом», можно и без брошюрки, если немного знать автора.
Между нами никогда не было ни дружбы, в настоящем смысле слова, ни внутренней близости. Видимость, тень всего этого – была. В продолжение долгих лет видались мы постоянно, периодами же работали вместе, в одних и тех же изданиях. Говоря о нем, я, как в рассказе о Блоке, ограничусь лишь непосредственными с ним встречами, – по возможности, разумеется. Если с Блоком у нас отношения внутренние были шире внешних, то с Брюсовым даже не наоборот, а почти сплошь они были внешние. Но внешний облик Брюсова так характерен и так проницаем для долгого и внимательного взора, – что я вряд ли ошибусь в определениях сущности этой своеобразной души.
Брюсов не умер физически[1]. Но, ввиду его данного положения в большевицкой России, я могу со спокойной совестью считать, что он умер для меня и для большинства русских: ведь никакой больше «встречи» с ним на земле у меня произойти не может. Поэтому и вызвать из прошлого его тень (если уж вызывать) – дело вполне своевременное.
Добавлю еще, что Брюсов умер и как поэт. Мне это кажется естественным и логичным. Иначе, по-моему, и быть не могло. А сомневающихся я отсылаю к недавно изданной им в Москве книжке стихов, – не просто плохой, а какой-то даже не совсем вероятной: безграмотной.
1
Летом одного очень дальнего года, 1895, кажется[2], в редакцию «Северного вестника» была прислана книжечка «Chefs d'оeuvre».
Подобных книжонок, маленьких, тоненьких, с заглавиями еще менее скромными, присылалось тогда в редакции тьма-тьмущая: годы «декадентства». Последние годы, правда, «декадентство» в чистом своем виде близилось к закату. Будущая ответвь, символизм, – едва нарождалась. Сологуб только что начинал печатать свои странные и ясные рассказы, новые и такие свежие стихи.
«Шедевры» были несомненным декадентством. Все известное – «нарочное». И вдруг одно стихотворение меня остановило. Называлось оно «Сумасшедший», содержания не помню, как будто этот сумасшедший сидел под мостом, или что-то вроде…
Уверяю скептических редакционных критиков, что стихотворение недурное, что автор «явно не без таланта».
– Кто он? Какая странная фамилия. Неужели псевдоним? Напоминает календарь Гатцука: предсказания Брюса на такой-то год…
Вскоре мне сообщили, что «Брюсов» не псевдоним, а настоящая фамилия, что это – очень молодой москвич из среднего купечества и, кажется, в Москве им интересуются. В Москве закат «декадентства» еще не чувствовался, стояло оно пока в зените.
Литературная Москва и литературный Петербург всегда рознились между собою. Не то чтобы по времени: Москва вовсе не «шла» за Петербургом, опаздывая; нет, разница более сложная, подчас неопределимая. Разница в общем темпе жизни, в мере размаха, в различии вкусов. Многое Москва захватывала глубже и переживала длительнее. Петербург был зато зрячее и сдержаннее.
2
За книжкой «Шедевров» очень скоро последовали другие, подписанные именем Брюсова. Туча «декадентов» ограничилась десятком-двумя стихотворений и рассеялась. Замолкли. А Брюсов не уставал писать и печатать (в журналы, толстые, его, как вообще «декадентов», не пускали. «Сев[ерный] вестник» составлял исключение, – но он был в Петербурге!).
В эти годы, до 1900, мы в Москву редко ездили и с Брюсовым познакомились в Петербурге, у нас.
Скромный, приятный, вежливый юноша; молодость его, впрочем, в глаза не бросалась; у него и тогда уже была небольшая черная бородка. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка; и еще тоньше, еще гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя; во всяком случае, интересное лицо, живые глаза. Только если долго всматриваться, объективно, отвлекшись мыслью, – внезапно поразит вас сходство с шимпанзе. Верно, сближенные глаза при тяжеловатом подбородке дают это впечатление.
Сдержанность и вежливость его нравились; точно и не «московский декадент»! Скоро обнаружилось, что он довольно образован и насмешливо-умен.
Поз он тогда никаких не принимал, ни наполеоновских, ни демонических; да, сказать правду, он при нас и впоследствии их не принимал. Внешняя наполеоновская поза – высоко скрещенные руки – потом вошла у него в привычку; но и то я помню ее больше на бесчисленных портретах Брюсова; в личных свиданиях он был очень прост, бровей, от природы немного нависших, не супил, не рисовался. Высокий тенорок его, чуть-чуть тенорок молодого приказчика или московского сынка купеческого, даже шел к непомерно тонкой и гибкой фигуре.
3
Он стал часто наезжать в Петербург. После каждого свиданья делалось все яснее, что этот человек не пропадет: помимо талантливости и своеобразного ума, у него есть сметка и – упорство. Упорство или воля… это решить было трудно.
Не много прошло времени – и вот Брюсов вместе с молодым Поляковым создает журнал «Весы», первый русский журнал нового типа, еще «декадентский» – но культурный. Вокруг него и вокруг связанного с ним издательства «Скорпион» начинают группироваться молодые силы, все «отверженные» – справедливо и несправедливо – традиционным русским «толстым журналом».
Брюсов – «декадент», но он же и «классик»: он пушкинист, поклонник забытого Тютчева и отошедшего в тень Фета. Он неутомимо работает над исследованием сокровищ русской поэзии и освобождает их из-под хлама «либеральщины», как он говорит. Под его редакцией в издательстве «Скорпион» начинают выходить сборники «Северные цветы», названные так в память пушкинских «Северных цветов».
Но Брюсов, кроме того, тянется к «европеизму». Стремится наладить связь новой русской литературы с соответственными уклонами во Франции и в Скандинавии.
Конечно, не Брюсов создал новые течения в литературе. Они создались сами, естественно. Декадентство, символизм (к нему Брюсов близко не примкнул), принцип «чистого» искусства, тяга к европеизму, наконец, – все это было неизбежной революцией против многолетнего царствования наследников Белинского и Писарева, приведшего действительно к литературному оскудению.
Ломались старые рамки. Много при этом было и уродливого, и ненужного – но и неожиданного. Молодые работники являлись тогда из самых разнообразных слоев общества. Все зависело от личных способностей и упорства. Вот этого упорства и работоспособности, при громадной сметке, у Брюсова оказалось очень много. Он по праву занял видное место в новом литературном течении; из него тогдашнего Брюсова не выкинешь. Между тем среда и обстановка, из которой он вышел, мало благоприятствовали избранной им линии. Сыну московского пробочного фабриканта, к тому же разорившегося, пришлось-таки потрудиться, чтобы приобрести солидное образование и сделаться «европейцем» – или похожим на европейца. Но брюсовское упорство, догадливый ум и способность сосредоточения воли – исключительны; и они служили ему верно.
4
Дело в том, что Брюсов – человек абсолютного, совершенно бешеного честолюбия. Я говорю «честолюбия» лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной «самости», самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим Брюсов. Тут иначе как одержимым его и назвать нельзя.
Это в нем не сразу было видно. Почему? Да потому, что заботливее всего скрывается пункт помешательства. У Брюсова же в этой точке таилось самое подлинное безумие.
Ну, а скрывать, если хотел он что-нибудь скрыть, он умел. Самые дюжинные безумцы хитры на скрывание пунктиков. А Брюсов, крайне ловкий от природы, вне этой точки был разумен, сдержан, холодно и остро насмешлив, очень владел собою. (Говорю о Брюсове тех первых годов.) Он отлично видел людей и знал, на сколько пуговиц перед каждым стоит застегнуться. Что какое-то безумие есть в нем, сидит в нем, – это видели почти все; где оно, в чем оно, – не видел почти никто. Принимали огонек, мелькавший порою в глубоко сидящих, сближенных глазах, за священное безумие поэта. Против такого восприятия Брюсов, конечно, ничего не имел. Он не прочь был даже усилить впечатление, где можно, насколько можно. Отсюда его «демонические» и всякие другие позы.
Честолюбие может быть лишь одной из страстей, и в этом случае оно само частично: честолюбие литературное, военное, ораторское, даже любовное; тогда другие страсти могут с ним сосуществовать, оставаясь просто себе страстями. Так, военное честолюбие вполне совместимо со страстью к женщинам, или честолюбие литературное со страстью к вину, что ли. Но брюсовское «честолюбие» – страсть настолько полная, что она, захватив все стороны существования, могла быть – и действительно была – единственной его страстью.
Любил ли он искусство? Любил ли он женщин, вот этих своих «mille etre»[3]? Нет, конечно. Чем он мог любить? Всесъедающая страсть, единственная, делала из женщин, из вина, из карт, из работы, из стихов, даже собственных, – только ряд средств, средств, средств… В конце концов и сам Брюсов (как это ни парадоксально) должен был стать для нее средством. Цель лишь она.
В расцвет его успеха – глупые, но чуткие люди говорили: Брюсов холодный поэт. Самые «страстные» его стихи не зажигали их. Еще бы! Самые «страстные» стихи его – замечательно бесстрастны: не Эрос им владеет. Ему нужна любовь всех mille e tre, всех; и ни одна из них сама по себе, вместе с любовью как таковой не нужна. Лишь средства, средства…
Об остатках – рудиментарных – человеческих чувств в этой сожженной душе я скажу дальше.
А пока вернемся к рассказу.
5
«Секрет» Брюсова о единой таинственной его страсти не сразу мне открылся. Это постепенно определилось, когда мы стали чаще видаться.
К «Весам» и «Скорпиону» мне пришлось стать в довольно близкие отношения. Не могу даже вспомнить всех моих в этом журнале псевдонимов.
Приезжая в Москву (а мы стали ездить туда часто), мы останавливались обыкновенно в «Славянском базаре» и в комнатах, окна которых выходили, через какой-то двор, прямо на гостиницу «Метрополь». В «Метрополе», тогда не вполне достроенном и не открытом, помещалась редакция «Весов». По вечерам, как только зажгутся знакомые окна, – идем туда. Я смеюсь: ваша редакция – самый новый, самый культурный уголок Москвы. И действительно, чего новее: первые отделанные комнаты еще неоткрытого, еще пустого, пахнущего штукатуркой, гигантского современного отеля. В редакции все чисто, солидно, все блестит. Кое-какие красивые вещи, книги, рисунки: Поляков недаром богат, Брюсов недаром «искусник» и «европеец». Чай – в электрических, тогда еще редких чайниках. (Если б мне кто-нибудь сказал, что через несколько лет этот самый Брюсов будет «раздувать мировой пожар» на «горе всем буржуям»! Впрочем, столько случилось невероятного, что, очевидно, никаких невероятных вещей нет.)
Мы бывали также и у самого Брюсова. Он был женат. Давно, с самой, кажется, ранней молодости. Жена его, маленькая женщина, полька, необыкновенно обыкновенная; если удивляла она чем-нибудь, то именно своей незамечательностью.
Удивление, однако, напрасное, ибо она воистину была замечательна. Еще бы! Ведь это единственная женщина, которую во всю жизнь Брюсов любил. При сумасшедше честолюбивой жажде женского успеха, при утонченной погоне за женщинами, при всех своих mille e tre и драмах, которые он разыгрывал порою до самообмана – любил он, по-человечески, сколько мог, одну вот эту незаметную женщину – свою жену. Он никогда с ней не расходился, даже редко расставался. Когда она бывала при смерти, – несколько раз, при несчастных родах, – на Брюсове лица не было, он делался неузнаваем. Эта любовь, между прочим, была причиной и той единственной из его драм, которой на мгновенье мы стали свидетелями. Но о ней потом, она случилась гораздо позже.
В то время, 1901–2–3 года, Брюсов жил на Цветном бульваре, в «собственном» доме. Т. е. в доме своего отца, в отведенной ему маленькой квартирке.
Тут уже не электрические чайники редакции «Весов» style moderne[4], а самая старинная Москва. В калитку стучат кольцом; потом пробираются по двору, по тропинке меж сугробами; деревянная темная лесенка с обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри маленькие комнатки жарко натоплены, но с полу дует. Стиль и книги редактора «Весов» – и рядом какие-то салфеточки вязаные и кисейные занавесочки.
Насмешливое остроумие, изредка граничащее со сплетничеством, никогда не покидало Брюсова; но у себя он был особенно жив, мил, по-московски радушен. Вообще москвичом он оставался, несмотря на весь «европеизм» – и даже некоторую «космополитическую» позу.
Известный московский «Кружок», душой которого (да и председателем) долгое время был Брюсов, – в 01–02 гг., кажется, еще не вполне расцвел. Мережковский, когда мы приезжали в Москву, читал лекции не в Кружке, а в какой-то университетской аудитории.
Вот ужин, после одной из этих лекций, в отдельной зале «Славянского базара», за большим столом. Присутствующие – профессора, солидные, седоватые, бородатые; но между ними и тонкий молодой Брюсов.
Мне особенно ясно запомнился профессор Н. Бугаев, математик, лысый и приятный[5]. Он, к общему удивлению, весь вечер говорил… о чертях. Рассказывал, с хохотом, как черт его на извозчике возил, и другие случаи из своей жизни, где чертовское присутствие обнаруживалось с несомненностью.
Потом Брюсов читал стихи. Поднялся из-за стола и начал высоким тенорком своим, забирая все выше:
Я долго был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц… . . . . . . . . . . . . . . . И вздрогнула она от гнева: Месть оскорбителям святынь!..Брюсов читает порывисто, с коротким дыханьем. Высокий голос его, когда переходит в поющие вскрики, например, в конце этого же стихотворения –
Но эту ночь я помню! Помню! –делается почти похож на женский.
6
Естественно, в силу единой владеющей им страсти Брюсов никакого искусства не любил и любить не мог. Но если он «считал нужным» признавать старых художников, заниматься ими, даже «благоговеть» перед ними, – то всех своих современников, писателей (равно и не писателей, впрочем) он, уже без различия, совершенно и абсолютно презирал. Однако природная сметка позволила ему выработать в отношениях с людьми особую гибкость, удивительную тонкость. Даже неглупый человек выносил из общения с Брюсовым, из беседы с ним убеждение, что действительно Брюсов всех презирает (и поделом!), всех – кроме него. Это ведь своего рода лесть, и особенно изысканная, бранить с кем-нибудь всех других. А Брюсов даже никогда и не «бранился»: он только чуть-чуть, прикрыто и понятно, несколькими снисходительно-злыми словами отшвыривал того, о ком говорил. А тот, с кем он говорил, незаметно польщенный брюсовским «доверием», уже начинал чувствовать себя его сообщником.
Очень действительный прием с людьми, пусть и неглупыми, но не особенно тонкими.
Мне – Брюсов нравился уже тем, что был так ясен для меня. Нравилось и презрение, искусно спрятанное, строго последовательное. Без него образ был бы неполным, недостаточно художественным.
7
Мы на Брестском вокзале, в Москве. «Скорпионы» провожают нас за границу.
Опять мы с Брюсовым болтаем… о стихах. О, не о поэзии, конечно, а именно о стихах. С Блоком мы о них почти никогда не говорили. А с Брюсовым – постоянно, и всегда как-то «профессионально».
Выдумываем, нельзя ли рифмовать не концы строк, а начала. Или, может быть, так, чтобы созвучие падало не на последние слоги оканчивающего строку слова, а на первые?
Как-то потом, вдолге, мне вспомнилась эта игра. В «Весах» было напечатано несколько стихотворений под общим заглавием «Неуместные рифмы». В книги мои они, конечно, не вошли, и я их едва помню:
…Сквозь цепкое и ле-пкое Скользнуть бы с Ча-шей… По самой темной ле-стнице Дойти до сча-стья…Что-то в этом роде. В другой раз вышло интереснее. Мы подбирали «одинокие» слова. Их очень много. Ведь нет даже рифмы на «истину»! Мы, впрочем, оба решили поискать и подумать. У меня ничего путного не вышло. Какое-то полушуточное стихотворение (обращенное к Сологубу):
……извлек Воду живую он из стены; Только не знает, мудрец и пророк, Собственной истины.А Брюсов написал поразительно характерное стихотворение, такое для него характерное, что я все восемь строчек выпишу. Рифма, благодаря которой стихотворение и было мне посвящено, не особенно удалась, но не в ней дело.
Неколебимой истине Не верю я давно. И все моря, все пристани Люблю, люблю равно. Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И Господа, и Дьявола Равно прославлю я…Ну, конечно, не все ли равно, славить Господа или Дьявола, если хочешь – и можешь – славить только Себя? Кто в данную минуту, как средство для конечной цели, более подходит – того и славить.
Насчет «свободной» ладьи – ужимка, поза, рифма. Какая «свобода», или хоть мысль и понятие о ней, могут быть у одержимого брюсовской страстью?
8
В годы японской войны и революции мы с Брюсовым видались мало. Мы заняты были ликвидацией «Нового пути», журнала, который очень отвлек меня в последнее время от «Весов».
Успел ли Брюсов тогда начать «прославление» революции или мудро воздержался, выжидал – я решительно не знаю. Мы видели его в это время лишь раз, мельком, в Петербурге, у Вяч. Иванова. Очень скоро потом мы уехали в Париж, где оставались подряд два с половиной года. Но в Париже именно с Брюсовым у меня была самая деятельная переписка; и вновь началось сотрудничество в «Весах», из книжки в книжку (даже корреспондентский билет у меня был оттуда).
В Москве (да и в Петербурге) это было время «литературного возрождения» и литературной суеты; у «Весов» появились соперники в виде «Золотого руна» и других «эстетических» журналов. С другой стороны, пышным цветом расцветал Андреев (Горький тут несколько затмился).
Остроумные, едкие письма Брюсова позволяли мне разбираться в общем положении дел; позиция «Весов» была самая воинственная.
Тогда же вышла книга рассказов Брюсова: «Проза поэта» (мне пришлось писать о ней не в «Весах», конечно, а в «Русской мысли»). По существу она ровно ничего к Брюсову не прибавляла и ничего от него не отнимала. Лишь уясняла, – для меня – знаемое. Проза очень голит поэта как человека. Как раз для человека-то в прозе гораздо меньше, чем в стихах, «кустов», куда можно спрятаться.
И в рассказах, всегда фантастических, и в романах, полуисторических-полуфантастических, – все тот же Брюсов, одержимый все той же единственной тайной страстью, мертвый ко всему, что не она. Фантастика, а главное – эротика, с отчаянным на нее напиранием, – одежды, которые Брюсов натягивает на свой темный провал. То, что на обычном языке называется «внутренней бессодержательностью», а на эстетическом – «бестенденциозностью», у Брюсова налицо. Но это сквозит его провал темный, его глубокое – решительно ко всему – равнодушие.
И все моря, все пристани Я не люблю равно,–хотя готов «прославить» что угодно, кому угодно… смотря по моменту.
Прославление так называемой «любовной» страсти, эротика, годится во все времена. Мертвенный холод Брюсова в этой области достаточно ощутим и в стихах; но в прозе, где труднее спрятаться, он, без меры, с отчаянием подчеркивая «любовные» сцены, делает их почти… некрофильскими.
Кстати сказать, ни у кого нет такого количества «некрофильских» стихов, как у Брюсова. На той «среде» Вяч. Иванова, где мы единственный раз в 1905 году встретили Брюсова, вышел забавный случай.
Присутствовал «цвет» современной поэзии (впрочем, и не цвет тоже). Литературный эстетизм переживал тогда момент судороги – революция, неудавшаяся, сказывалась. Оживление немножко сумасшедшее, напряженно-разнузданное… Частью оно потом выродилось в порнографию.
На средах было заведено, читает ли признанный поэт или начинающий, слушатели, поочередно, тут же высказывают свое мнение. В критике не стеснялись, резкости даже преувеличивали. Но она касалась главным образом формы; и выходило, что профессионалы критиковали молодых, обижаться было некому.
Сологуб сидел неподвижно и говорил мало. Кажется, он ничего не читал. А Брюсов, когда до него дошла очередь, прочел целый цикл… некрофильских стихотворений. Содержание в первую минуту удивило даже и собравшихся смелых новаторов; но скоро все оправились, и стихи, прочитанные «дерзновенно», высоким брюсовским тенором и по-брюсовски искусно сделанные, вызвали самые комплиментарные отзывы. Дошло до Сологуба. Молчит. И все молчат. Хозяин со сладкой настойчивостью повторяет свою просьбу «к Федору Кузьмичу – высказаться». Еще секунда молчанья. Наконец – монотонный и очень внятный, особенно при общей тишине, ответ Сологуба:
– Ничего не могу сказать. Не имею опыта.
Эти ядовитые, особенно по тону, каким были сказаны, слова были тотчас же затерты смехом, не очень удачными шутками, находчивостью хозяина. Но Брюсов, я думаю, их почувствовал – и не забыл.
9
Очень скоро по возвращении в Россию – мы поехали в Москву. «Русская мысль» перешла тогда в заведованье П. Б. Струве, Кизеветтера, Франка и других. Послереволюционное оживление в журналистике и в газетном деле было необыкновенное. Нарождались новые журналы, толстые и тонкие, старые реформировались и преобразовывались. Расцвел литературный альманах.
Мы, в Петербурге, уже успели потерпеть довольно глупое поражение с одним толстым журналом. Хотели мы, вкупе с кружком Кусковой и Богучарского, приобрести его у тогдашнего его владельца, печальной памяти Василевского He-Буквы (который тогда впервые, вместе с Гржебиным, и выплыл). He-Буква нам журнал этот продал (с понедельничной газетой вместе), но на другой же день (буквально на другой) так нас всех обманул, ни одного своего слова не сдержав, что мы только руками развели и остались без журнала.
Вскоре после того Струве пригласил меня и Мережковского заведовать литературным отделом «Русской мысли», и для ознакомления с редакцией и нашими обязанностями мы в Москву и поехали.
Московское кипенье поразило нас еще больше, чем петербургское. Не говорю о Воздвиженке, степенной редакции «Русской мысли»: там была сравнительная тишина. Но где крутились «Золотые руна», «Альционы», да и «Весы», и «Скорпионы», был сущий базар. И как все изменилось – в моем поле зрения, по крайней мере, – до мелочей!
Мы жили не в старых, темноватых комнатках «Славянского базара» – а в «Национале», едва успевшем загрязнить свой показной «confort moderne». С утра – люди, писатели и редакторы; причем скоро выяснилось, что лучше каждого принимать отдельно, ибо неизвестно, кто с кем на ножах; пожалуй, все со всеми.
Вот и Брюсов… тоже изменившийся. Нервный, порывистый, с более резкими движениями, злее, насмешливый. Он, оказывается, не встречался с редактором «Золотого руна», который у нас или только что был, или должен был придти – не вспомню. Заговорили о дуэли Брюсова с этим редактором. Тут же путался и Андрей Белый, не то в чине «секунданта», не то в каком-то другом – не знаю и припомнить не могу; все это как было для нас темной путаницей, которую не хотелось распутывать, так и доселе осталось.
Затем пошел Кружок, превратившийся в большой клуб с «железкой», ужин там после доклада Мережковского, еще какие-то ужины, доклады, опять ужины…
Брюсов покинул Цветной бульвар и отцовскую квартиру в деревянном флигеле, за дворовыми сугробами. И он жил теперь не без «confort moderne»[6] в расписном гez-de-chaussée против Сухаревки, в комнатах с красными стенами и какими-то висячими фонариками. Все было иное. Не изменилась только жена Брюсова. Такая же тихая, ровная, плотно и незыблемо сидящая на своем месте – брюсовской вечной жены. У писателей известных, как и у других «знаменитостей», часто бывают жены типа «верного», особенного, самоотверженные «служительницы гения», видящие только его, любящие до конца, прощающие, даже впредь простившие, – все. Жена Брюсова имела нечто сверх этого. Верная – конечно; всепростившая – конечно; но прежде-то всего – «вечная» жена: так тихо она покоилась на уверенности, что уж как там дальше ни будь, а уж это незыблемо: она и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется в конце концов с ней.
Что ж, она была права. И если теперь жива – я не сомневаюсь: Брюсов с ней.
«Весы» уже близились к закату. Едем по Тверской вечером на извозчике с Брюсовым; он мне подробно рассказывает о Полякове (издателе), о положении «Весов» и «Скорпиона»… Вскоре и действительно «Весы» сошли на «нет». Дольше держались альманахи «Северные цветы».
10
Заведовать литературным отделом журнала, издающегося в другом городе, дело не легкое. Мы были рады, что к нему привлечен и Брюсов, москвич. Ему, впрочем, отданы были стихи. Брюсов заботился о присылке книг для очередной моей литературной статьи. Рукописи (прозаические) присылались беспорядочной кучей из редакции, и порою было от чего прийти в отчаяние! Чувствовалось, что дело не налажено. Вскоре наше с «Русской мыслью» дело и совсем разладилось.
Виноваты были мы. Вместо того чтобы ограничиться, по условию, чтением беллетристических рукописей, мы вздумали предлагать редакции вещи некоторых писателей, на наш взгляд достойные напечатания, но не чисто беллетристические. Между тем следовало бы помнить, что наши взгляды вне «искусства» не совпадают со взглядами редакторов журнала.
Мы всех их знали давно. Особенно хорошо знали П. Б. Струве, этого прелестного, умного и талантливого человека, этого… писателя? профессора? журналиста? политика? ученого? Как его назвать? Он всегда, делая, как будто делал не вполне свое дело, не главное, – и, однако, делал всякое прекрасно. Мы знали его еще в те далекие времена, когда он и М. Туган-Барановский были «первыми русскими марксистами». Воды много утекло, но по существу П. Б. Струве оставался все тем же: немножко тяжелым, упрямым, рассеянным, глубоким – и необыкновенно, исключительно – прямым. Много он от марксизма сделал поворотов; но умел, благодаря прямоте и серьезности, именно поворачивать: он никогда не «вертелся».
И в то время, о котором пишу, поворот его был не на нашу дорогу. Мы сохраняли – и сохранили – с ним наилучшие отношения; впоследствии мы даже сблизились на одних и тех же вопросах; однако совместная работа, конкретная, хотя бы журнальная, требует иных степеней близости, – если она не чисто формальная, конечно.
Франк, и особенно Кизеветтер, были нам более далеки.
Повторяю, ошибка была на нашей стороне: не следовало нам выходить за изгородь «литературы».
Что это, однако, «литература» или «не литература» – «Тройка» Блока, из-за которой вышло первое наше столкновение? По-моему – литература, и даже «изящная», не в переносном, а в прямом смысле. Но «изящной» называется «беллетристика», а «Тройка» Блока имела вид «статьи». Она была лирична – тем хуже, раз это «статья». В ней говорилось о России – тем еще хуже; статья с Россией – это уж статья с политикой. Надо решить, значит, соответствует ли эта политика политике журнала. Пожалуй, и не стоит решать, и так ясно: никакая «лирическая» политика журналу не соответствует.
Блок читал эту статью на первом (после нашего возвращения) собрании Религ[иозно-]философ[ского] О[бщест]ва. Она показалась нам тогда очень свежей, очень сильной. Но в «Русской мысли» ее не напечатали.
Дело все больше расклеивалось, пока не пало окончательно. Заведованье литературной прозой с нас было снято, мы остались просто сотрудниками, я – ежемесячным литературным обозревателем.
Заместителем нашим по части литературной прозы официально стал числиться Брюсов, но фактически он делил работу с самим П. Б. Струве. Об этой общей работе Брюсов, при наших дальнейших встречах, постоянно говорил. Постоянно на нее жаловался. Не удивительно. Гораздо удивительнее, что два таких разных человека – Струве и Брюсов – могли все же долго работать вместе.
11
По тонкости внешнего понимания стихов – у Брюсова не было соперника. Способность к «стилю» и форме (не странно ли, что даже ее он утерял ныне!) позволяла ему «шалости» вроде издания целого сборника стихов от женского имени, под таинственным псевдонимом «Нелли». Это был, конечно, тот же Брюсов, холодный в эротике (и потому циничный), естественно бессодержательный. Но благодаря внешнему мастерству замаскирован он был ловко.
Внутреннего же вкуса и чутья к стихам, предполагающего хоть какую-нибудь любовь к поэзии, у него совершенно не имелось. Случаев убедиться в этом у меня было много. Вот один.
Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал – не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и – мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предела).
В стихи этого юнца «что-то попало», как мы тогда выражались.
Решаю про себя, что мальчик не без способностей, и вызываюсь (в первый раз в жизни, кажется, без просьбы) где-нибудь напечатать стихи: «в „Русской мысли“, например; я пошлю их Брюсову».
Ответ получился не очень скоро, и даже, между прочим, в письме по другому поводу. Ответ насмешливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца «со способностями», то таких юнцов с такими же и даже большими способностями у меня слишком достаточно и в Москве. Советую этому не печататься… Еще что-то было в том же роде, если не хуже.
Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро, – поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее – поэт в сорте Брюсова. Это был О. Мандельштам.
В красивой кожаной книжке, которую Брюсов мне подарил в январе 1909 года для моих стихов (в ней, вывезенной из Совдепии, и записаны они все с 1909 г., и книжка еще не кончена, хотя ей уже четырнадцатый год), – на первой странице есть милое и довольно длинное, любезное посвящение дарителя. Это стихотворение Брюсов где-то потом напечатал. Как оно ни любезно – я сознаю, что к моим-то писаньям оно совершенно не относится. Я естественно разделяю участь всех современных собратьев Брюсова: он с ними при случае любезен, при случае груб, как будто всех презирает, а в сущности, никого и не видал: нужды не чувствовал смотреть, времени не было.
Впрочем, в заказанной ему статье в «Истории русск[ой] литературы» Брюсов с большой тонкостью разобрал аллитерации одного моего стихотворения с подсчетом согласных и гласных…
Случился довольно долгий перерыв в наших свиданьях, чуть ли не года в полтора. Мельком мы слышали, что Брюсов болел, поправился, но изнервничался, ведет довольно бурную жизнь и сильно злоупотребляет наркотиками.
Когда, после этого долгого времени, он заехал к нам впервые – он меня действительно изумил. Вспоминался самый давний, тонкий, как ветка, скромный молодой человек с черной бородкой, со сдержанными и мягкими движениями, спокойно самоуверенный, спокойно насмешливый. А это… Брюсов? Впрочем, воспоминание мелькнуло и погасло; я уже узнаю опять Брюсова; хотя даже с недавним – какая внешняя разница!
Вот он сидит в столовой за столом. Без перерыва курит… (это Брюсов-то!), и руки с неопрятными ногтями (это у Брюсова-то!) так трясутся, что он сыплет пепел на скатерть, в стакан с чаем, потом сдергивает угол скатерти, потом сам сдергивается с места и начинает беспорядочно шагать по узенькой столовой. Лицо похудело и потемнело, черные глаза тусклы – а то вдруг странно блеснут во впадинах. В бородке целые седые полосы, да и голова с белым отсветом. В нем такое напряженное беспокойство, что самому становится беспокойно рядом с ним.
Все говорит, говорит… все жалуется на Струве. Который раз уж он приезжает по делам «Русской мысли». Что они там делают! Что печатают! Струве сам занимается литературными рукописями. На него, Брюсова, смотрит, как на редакторского служащего. Он, Брюсов, решил уйти, если это будет продолжаться. Он, Брюсов… Он, Струве…
Я, очевидно, не в состоянии припомнить, в чем был виновен Струве, из-за чего происходили эти волнующие конфликты. Да и никто не мог бы вспомнить, так это неинтересно. Мы, обеспокоенные брюсовским беспокойством, советовали ему лучше уйти, если так.
– Я уйду, я уйду, – повторял он – и, однако, не уходил. Опять являлся из Москвы; опять бегал у нас по комнате и жаловался на Струве: так не может продолжаться: я уйду…
Понемногу мы привыкли к новому виду Брюсова, да он в самые последние перед войной годы как будто немного успокоился, стал больше напоминать прежнего – насмешливого и остроумного Брюсова.
Никогда, конечно, ни о чем внутреннем мы не говорили. Не только ни разу не коснулись вопросов, которыми занят был весь наш кружок и которые имели широкое отражение в Религиозно-фил[ософском] Обществе, – но мы вообще ни о чем не говорили, только о литературе, да и то в смысле литературных дел и делишек, а всего больше о «Русской мысли» и о Струве…
Струве, кстати сказать, к вопросу религиозному, занимавшему тогда часть русской интеллигенции, имел довольно близкое касанье. Он был даже членом Совета Религиозно-фил[ософского] Общества. В Совете имелись свои правые и левые. Впоследствии, когда борьба между ними обострилась и победили левые (вопрос, в связи с делом Бейлиса, об исключении В. В. Розанова из числа членов О[бщест]ва в многолюдном собрании был решен положительно) – Струве и его группа из Совета вышли. Струве был принципиально против внесения струи общественной, даже морально-общественной, в область религии.
С Брюсовым говорить о чем-нибудь таком и в голову не приходило. В далекие годы «декадентства» он не упускал случая выразить свое презрение или даже ненависть к «либералам». Но это уж так водилось. А затем – я не припомню ни одного брюсовского мнения по какому-нибудь вопросу более или менее широкому. Никогда не слышали мы, чтобы он и где-нибудь, не с нами, общих вопросов определенно касался. Стеклянный колпак накрывал его; под ним, в безвоздушном пространстве своей единой, на себя обращенной страсти он и оставался. Изумительно, однако, что никто даже ни разу не спохватился: да что же это за человек? Да живой он или мертвый?
Никто, ни разу: с такой мастерской хитростью умел Брюсов скрывать своеобразную мертвость души, мысли и сердца.
12
Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и о его жизни. Да мало и запоминаются такие рассказы. Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь – невольная или вольная. Факты, имеющие значение, узнаются сами собой. Что Брюсов стал кидаться в разные эксцессы, но не утопал ни в одном с головой и, наконец, прибег к наркотикам – было только логично, не верить не приходилось. Любовные драмы? Они, вероятно, происходят все по одному и тому же, Брюсову свойственному, образцу, – а количество их неинтересно.
Но раз мы услышали, что в Москве застрелилась молодая, скромная поэтесса, тихая девушка; и что это самоубийство связано с Брюсовым.
Подробностей не помню, да, может быть, мне их и не рассказывали. Этот случай проник даже в газеты.
Было неприятно, как всегда, когда слышишь о самоубийствах. Но, каюсь, о Брюсове мало думалось. Он невинен, если даже и виноват: ведь он вины-то своей не почувствует…
И нисколько не удивило меня известие, очень вскоре, что Брюсов приехал в Петербург: мы, петербургская интеллигенция, собирались тогда чествовать заезжего гостя – Верхарна. С Верхарном же Брюсов был хорош, чуть ли не ездил к нему в свое время гостить. По своему «европеизму» Брюсов деятельно поддерживал связи с заграничными писателями. Андре Жид даже давал статейки для «Весов».
Ну, очевидно, приехал для Верхарна. Занят, к нам заехать некогда, увидимся на банкете.
Но вот, накануне банкета, является Брюсов. Мы были одни – я, Мережковский и Философов. Время предобеденное, и уже горели лампы.
Брюсов так вошел, так взглянул, такое у него лицо было, что мы сразу поняли: это совсем другой Брюсов. Это настоящий, живой человек. И человек – в последнем отчаянии.
Именно потому, что в тот день мы видели Брюсова человеческого и страдающего, и чувствовали близость его, и старались помочь ему, как умели, мне о свидании этом рассказывать не хочется. Я его только отмечаю. Был ли Брюсов так виноват, как это ощущал? Нет, конечно. Но он был пронзен своей виной, смертью этой девушки… может быть, пронзен смертью вообще, в первый раз. Драма – воистину любовная: она любила; верила в его любовь. Когда убедилась, что Брюсов, если любит, то не ее, – умерла.
Он так и сказал ей. Предсмертному зову не поверил, – не поехал. Увидел уже мертвую.
Но довольно. И это говорю, чтобы понятна была «пронзенность» Брюсова, страдание его, – такое, как в его положении было бы у всякого настоящего глубокого человека.
В этот странный, единственный час и он чувствовал нашу близость. И, может быть, она немного помогла ему.
О, конечно, он не к Верхарну тогда приехал: он «убежал» в Петербург, как в пустыню, чтобы быть совсем одному. Не знаю, кто еще его в этот приезд в Петербург видел. Во всяком случае, ни на каких банкетах он не показывался.
К нам тоже больше не пришел. Через несколько времени – письмо из Москвы, еще не брюсовское: теплое, глубже, ближе. Ну, а затем все и кончилось. Когда много месяцев спустя мы его опять увидели у себя (чуть не перед самой войной) – это был обыкновенный, старый, вечный Брюсов, по-обыкновенному нервный, по-обыкновенному зажигал он дрожащими руками папироску за папироской и презрительно-надменно раздражался делами «Русской мысли». И в глазах мелькал старый сумасшедший огонек старой страсти.
13
У очень многих людей есть «обезьяны». Возможно даже, что есть своя у каждого мало-мальски недюжинного, только не часто их наблюдаешь вместе. Я говорю об «обезьяне» отнюдь не в смысле подражателя. Нет, но о явлении другой личности, вдруг повторяющей первую, отражающей ее в исковерканном зеркале. Это исковерканное повторение, карикатура страшная, схожесть – не всем видны. Не грубая схожесть. На больших глубинах ее истоки. «На мою обезьяну смеюсь», – говорит в «Бесах» Ставрогин Верховенскому. И действительно, Верховенский, маленький, суетливый, презренно мелкий и гнусный, – «обезьяна» Иван-Царевича, Ставрогина. Как будто и не похожи? Нет, похожи. Обезьяна – уличает и объясняет.
Для Брюсова черт выдумал (а черт забавник тонкий!) очень интересную обезьяну. Брюсов – не Ставрогин, не Иван-Царевич, и обезьяна его не Верховенский. Да и жизнь смягчает резкости.
Брюсовская обезьяна народилась в виде Игоря Северянина.
Можно бы сделать целую игру, подбирая к чертам Брюсова, самым основным, соответственные черточки Северянина, соответственно умельченные, окарикатуренные. Черт даже перестарался, слишком их сблизил, слишком похоже вылепил обличительную фигурку. Сделал ее тоже «поэтом». И тоже «новатором», «создателем школы» и «течения»… через 25 лет после Брюсова.
Что у Брюсова запрятано, умно и тщательно заперто за семью замками, то Игорь Северянин во все стороны как раз и расшлепывает. Он ведь специально и создан для раскрытия брюсовских тайн. Огулом презирает современников, но так это начистоту и выкладывает, не боясь, да и не подозревая смешного своего при этом вида. Нисколько не любит и не признает «никаких Пушкиных», но не упускает случая погромче об этом заявить, даже надоедает с заявлениями. Однако от гримасы на Брюсова и тут вполне воздержаться не может: если Брюсов «считал нужным» любить Пушкина и Тютчева, то Игорь «признает»… Мирру Лохвицкую (благо, и она умерла). Но верен себе и опять выдает некую тайну: Брюсов мог бы, но ни разу не сказал: «Хороши вы, не признающие меня и Тютчева» или «меня и Пушкина». Игорь же, ругая на чем свет стоит «публику», читающую и почитающую каких-то поэтов, поясняет:
А я и Мирра – в стороне!«Европеизм» Брюсова отразился в Игоре, перекривившись, в виде коммивояжерства. Так прирожденный коммивояжер, еще не успевший побывать в людях, пробавляется пока что «заграничными» словцами: «Они свою образованность показать хочут», – сказала чеховская мещаночка.
Игорь, как Брюсов, знает, что «эротика» всегда годится, всегда нужна и важна. «Вы такая экстазная, вы такая вуальная…» – старается он, – тоже с большим внутренним равнодушием, только надрыв Брюсова и страшный покойницкий холод его «эротики» – у Игоря переходит в обыкновенную температуру, ни теплую, ни холодную, «конфетки леденистой».
Главное же, центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую, Игорь Северянин не преминул вынести на свет Божий и определить так наивно-точно, что лучше и выдумать нельзя:
Я гений, Игорь Северянин, Своей победой упоен: Я повсеместно оэкранен, Я повсесердно утвержден…Брюсовское «воздыхание» всей жизни преломилось в игоревское «достижение». Нужды нет, что один только сам Игорь и убежден, что «достиг». Для «упоенного своей победой» нет разницы, победой воображаемой или действительной он упоен.
Обезьяна Брюсова, конечно, нетерпелива. Где-то, чуть не в том же стихотворении «я гений», она объявляет, что дала себе для «повсесердного утверждения» гениальности годичный срок:
…сказал: я буду! Год отсверкал, и вот – я есть!Ужели что-нибудь изменится, если мы докажем бытие Игоря Северянина и в этом году сомнительным, а в сверкании последующих – превратившимся в полное небытие?
Игорь Северянин сразу произвел на меня беспокойное впечатление. Так беспокоишься, когда что-то вспоминается, но знаешь, что не вспомнишь все равно.
У Сологуба (он тогда очень возился с новоявленным поэтом) было в этот вечер всего два-три человека, кроме нас. Длинный бледный нос Игоря, большая фигура – чуть-чуть сутулая – черный сюртук, плотно застегнутый. Он не хулиганил – эта мода едва нарождалась, да и был он только э г о – футурист. Он, напротив, жаждал «изящества», как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолустьем; он, должно быть, в тот вечер и сам это чувствовал и после каждого «смелого» стихотворения – оседал.
Может быть, первое, в чем для меня смутно просквозил Брюсов, – это манера читать стихи. Она у обоих поэтов совершенно разная. Игорь Северянин – поет; не то что напевно декламирует, а поет, ну, как певец, не имеющий голоса, поет с эстрады романс, притом все один и тот же. Брюсов читает обыкновенно. Лишь тонкий тенорок его, загибая все выше, надрывно переходит иной раз во вскрик – и во вскрике нота, грубо повторяемая Игорем Северянином. С этой ноты Игорь прямо и начинает свое:
Я гений…У Брюсова есть трагическая строчка:
Мне надоело быть «Валерий Брюсов»…Игорь Северянин мог бы ответить ему: мало что надоело; ты все равно есть, ибо
вот – я есть!Игру с обезьяньими параллелями можно продолжать без конца. О некоторых еще придется упомянуть. Но пока укажу, что Игорь Северянин, подобно Верховенскому, невольно льнувшему к Ставрогииу, и сам ощущал нитку, которая с Брюсовым его связывала. Он о ней не раз говорит, бесцеремонно и бездумно, как обо всем говорит. Вспоминаю лишь строки насчет всеобщей, кажется, ничтожности перед ним, Игорем Северянином:
…кругом бездарь; И только вы, Валерий Брюсов, Как некий равный государь…14
Кто не загремел о будущих победах наших, едва началась война? И беллетристы, и драматурги; про стихотворцев и говорить нечего. Напрасны были все тихие уговоры:
Поэты, не пишите слишком рано, Победа еще в руке Господней; Сегодня еще дымятся раны, Никакие слова не нужны сегодня…Через год, впрочем, эта волна несколько схлынула. Но некоторые остались. Между ними – Валерий Брюсов (и, конечно, Игорь Северянин).
Никто так упрямо и так «дерзновенно» не прославлял войну год за годом, как Брюсов. Никто не писал таких грубо шовинистических стихов во время войны, как Брюсов (Иг. Северянин сделал эту грубость грубостью словесной, срифмовав: «Бисмарк – солдату русскому на высморк»).
Константинополь и Св. София в свое время вдохновили Брюсова на целый ряд стихотворений, где славилась будущая мощь Руси. Мы всех прославлений, конечно, не читали, и перечислить их я не могу. Отчасти благодаря настроениям этим, между нами и Брюсовым сообщение во время войны прекратилось. Мы слышали, что он постоянно в автомобиле ездит на фронт с какой-то не то гражданской, не то военной организацией; или, по знакомству, с военным агентом… не знаю, боюсь неточностей. Ему до нас и нам до него в это время дела было мало.
Игорь Северянин шатался в Петербурге. Вдруг его взяли да и мобилизовали. Заперли в казармы. Поклонники и поклонницы бросились во все канцелярии – освобождать; хотя бы из казарм; успели. Иг. Сев[ерянин] вернулся к Невскому проспекту. Это не уменьшило его военного жара. Написал, что гулять по Невскому «еще не значит быть изменником», а что когда все другие дрогнут, о, знайте –
тогда ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин!Упоминание о «поклонницах» да не будет истолковано превратно: Игорь Северянин, несмотря на всех экстазных и вуалевых дам, на кокаин, на эскапады, даже на обещание вести полки в Берлин – по существу добрый муж своей жены, любящий отец.
Революция. Краткие, бурные месяцы керенщины, – февраль-октябрь. О Брюсове за этот период мы мало слышали, а что до Игоря Северянина – то он положительно растаял в туман, будто ветром его сдуло. Не было его и после октября нигде, ни в октябристах, ни в контр-октябристах. Я до поразительности ничего о нем не знаю; стараюсь вспомнить – и мерещатся какие-то глухие вести, а может быть, и не было их. Превратился в призрак.
В Петербурге первый писатель, перешедший к большевикам, почти немедленно после их воцарения, – был старец Иероним Ясинский. Единственный – он находился у большевиков тогда в почете. Они его славили в газетах, возили с собой на автомобилях, таскали в Кронштадт. Долго он был единственным русским… все-таки писателем, продавшим и предавшим свое имя; а вторым был москвич – Брюсов.
У нас еще Мейерхольд зычно кричал против большевиков в Союзе писателей, среди трясущихся, но непримиримых старых интеллигентов, как уж о Брюсове пришли первые смутные, странные вести.
Почему, однако, странные? «И Господа, и Дьявола равно прославлю я»…
Брюсовское «я» требует, раз прославление началось, крайности и поспешности: ведь надо быть первым, впереди. Игорь Северянин мог не успеть и запропаститься, но ведь он не Брюсов, а только брюсовская обезьяна…
Еще не была запрещена за контрреволюционность русская орфография, как Брюсов стал писать по большевицкой и заявил, что по другой печататься не будет. Не успели уничтожить печать, как Брюсов сел в цензора, – следить, хорошо ли она уничтожена, не проползет ли в большевицкую какая-нибудь неугодная большевикам контрабанда. Чуть только пожелали они сбросить с себя «прогнившие пеленки социал-демократии» и окрестились «коммунистами» – Брюсов поспешил издать брошюру «Почему я стал коммунистом».
И так ясно – и так не удивительно – почему. В брошюре, конечно, свои объяснения, если там есть объяснения. Брошюра неинтересна. И только один вопрос можно еще поставить относительно Брюсова: почему он, при таком своем упорстве, при таких жертвах (обязательная дружба с Луначарским чего стоит понимающему, что Луначарский причастен к литературе не более Хлестакова, написавшего «Юрия Милославского»), – почему Брюсов не достиг более высокого положения? Почему нет в нем «упоения своей победой», да и «победы» особенной как будто нет?
Страстно сосредоточенный на одном, весь на одном себе, – он до сих пор не достиг ни «повсеместного обэкранения», ни «повсесердного утверждения». Годами сидеть с Луначарским, годами ему повторять, что
Лишь Анатолий Луначарский, Как некий равный государь,–это и Брюсову может надоесть при малых результатах.
Даже Маяковский как-то более на виду. Брюсов уже обратил на это внимание. Недавно выступил с лекцией о поэзии Пушкина. Он Брюсову больше не «нужен», как «средство негодное». И Пушкин, – говорит Брюсов, – не мог найти созвучий, соответствующих русскому языку: их нашел Маяковский.
Я боюсь, что страстное чутье Брюсова на склоне лет начинает ему изменять. Боюсь, что, хватаясь за все «средства», он уже не тонко отличает годные от негодных. Его «ладья» действительно «всюду плавала». Ведь
Все моря, все пристани Он не любил – равно…Теперь, в море дьявольском, не начинает ли она тонуть?
Если Брюсов это видит, он должен безмерно страдать. И в сожженной страстью душе, даже страстью самой страшной и ненасытной, остается способность к страданию.
Как жестока жизнь. Как несчастен человек.
1922
Маленький Анин домик Вырубова*
1
Это было вчера…
Хочется начать, как сказку: в некотором царстве, в некотором государстве, жили-были царь с царицей…
Что ж, разве это не страшная сказка – русская быль?
Длинна и недосказана сегодняшняя, самая, кажется, страшная. Но как изумительна вчерашняя, ее породившая. Сказка, где в неповторимом сочетании действуют трое: царица, верная слуга ее, Анна Вырубова («Аня», как обычно звала ее царица, да и мы, бессильные, невольные участники совершавшегося), а третий – сибирский мужичонка Распутин.
Заранее скажу, что не для осуждения, даже не для суда я пишу. Судей много и без меня. Я только рассказываю. Сказка не нова – но ведь каждый рассказывает по-своему; со своего места видит свое; да и в каждом повторении она только страшнее.
2
Аня
Мы увидели «царицыну верную слугу» Анну Вырубову (Аню) в первый раз уже после революции; потом встречались постоянно.
Незадолго до первой встречи мне показали ее большой портрет. Странно: с первого взгляда – узнаешь ее, как давно знакомую. И даже, с первого взгляда, схватываешь ее всю: такое… не открытое, но откровенное лицо; так ясно для умеющего читать написана на нем ее несложная внутренная сущность.
Портрет старый, т. е. снятый еще до ареста и мытарств по тюрьмам. Круглощекая русская «Красна-девица», и платье русское, придворное, идет ей как нельзя лучше.
Портрет старый, но в голову не пришло усомниться, такая ли она теперь, после всего, что пережила? Не изменилось ли это лицо? Нет, оно неизменяемо. То, что, высвечиваясь, делает лицо человеческое таким или другим – здесь неизменяемо. Неподвижно.
Вот она сидит, в черном платье, скромно причесанная, пополневшая, но она, – Аня портрета. Верная слуга царицы. Верная «другиня» Распутина. Верная – это прежде всего.
Сидит в кресле немножко тяжело (она вся тяжеловата и хромает сильно после неудачного сращения переломов), но держится прямо и все рассказывает, рассказывает, с детскими жестами пухлых ручек. У нее и говорок детский – или бабий – скорый, с захлебыванием, с чуть заметным пришепетыванием. «Каша во рту», – обмолвилась однажды рассерженная царица.
Рассказывает Аня… все о своих последних несчастьях, о крепости, об издевательствах в тюрьме.
– Сколько раз Господь спасал от солдат… сама не вспомню, как…
Вид у нее, может быть, по привычке, делано-искренний, делано-детский. Ведь и глаза такие: широкие, открытые, светлые… но непроницаемые, вдруг стеклянные – слепые. Я не сомневаюсь, впрочем, в искренности ее рассказа: ведь ни о царице, ни о Распутине она слова не обронила.
Это молчание радует; чувствуешь облегчение. Не хочется, чтобы кто-нибудь вдруг спросил ее… о важном, о прошлом. Как-то жалко. Ведь она сейчас же, непременно, начнет лгать, побежит по каким-то окольным тропинкам, хитрым, путаным и вывертливым, тоже невинно, – физиологически. Она не может иначе, она верная. Она совершенна в самоотдаче, в каком-то круглом самопредании… Это делается с ней само, но уж если сделалось – она железнокрепка, упряма и хитра.
Царица тоже упряма и верна. Но как они различны, эти две женщины, царица и ее единственная подруга – Анна Вырубова!
Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была юной невестой наследника. Не нравилось ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими поджатыми губами; не нравилась немецкая угловатая рослость. Кто-то сказал при мне: «Погодите, а может быть, она замечательна. Ведь какое имя выбрала? Екатерина!»
Вышло вздор, Алису в православии нарекли Александрой. Но не совсем, должно быть, вздор, если через многие годы пишет Алиса мужу: «…Как хорошо, что ты дал мне Верховный Совет!.. Вообрази меня сразу со всеми министрами!.. Со времени Екатерины ни одна императрица не принимала лично и одна. Григорий (Распутин) в восторге».
Кстати, здесь о письмах ее, т. е. не о них, а о факте напечатания, обнародования интимнейших писем женщины, жены к мужу. Да еще взятых у мертвой, только что вместе с мужем и детьми убитой столь жестоко и позорно.
Само по себе – такое обнародование чудовищно. Средний культурный человек, особенно до войны, не поверил бы, что это возможно. Однако недопустимое сделано, и – хорошо, что оно сделано. Без него никогда не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине как верной и любящей женщине, как верной и любящей жене, как самоотверженной матери.
Не знали бы мы и правды о ней – императрице. Не знали бы с потрясающей, неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать. Эта правда ей не принадлежит. И хорошо, что не осталась она скрытой.
3
При дворе
В 14-м году, летом (о войне еще никто не помышлял), к нам на дачу приехал редактор газеты «День» и без конца рассказывал о путешествии в Сибирь корреспондента в одном вагоне с Гр. Распутиным (тогда, вскоре, Распутина и ранили).
Корреспондента посылали платонически: о Распутине было строго запрещено упоминать.
Задавленная правда растет криво, вкось – сплетнями. Вот годы это длится с Распутиным, ужас – в одежде скандала. Там, при дворе, в сущности, ничего не понимают. Там идет какая-то своя жизнь, со своими большими и маленькими горестями, там свои дела и своя среда… Мещанская? Не знаю, во всяком случае – потрясающе некультурная, невежественная.
Царица, впрочем, помнит, что она царица, а муж ее – самодержавный царь. Это значит – что он неограниченный владыка над всеми решительно и по воле Божией может делать в своей стране, что хочет. Люди злы, рабы часто бунтуют; для этого нужна строгость. Так хочет Бог.
Другого ничего царица никогда не слышала и потому, естественно, не знает. Ум от природы у нее был, но очень обыкновенный; а нужен исключительный, чтобы пробиться сквозь эту толщу невежества.
Но царица все-таки восприняла твердо то малое, что слышала, чему ее учили. У нее своя линия. Аня – живет как рыба в воде, как птица на ветке. Она везде бы искала, кого обожать, кому служить, кому отдаться. И везде бы нашла.
Царица чуть-чуть презирает Аню, однако Аня ей нужна. Без ее отдающейся верности она жить не может. Но часто и несправедливо раздражается против Ани и даже ревнует ее к мужу.
Серьезной ревности у нее, конечно, нет. Она не сомневается в верности мужа. Неизвестно, не было ли тут и психологически обратной ревности. Кому предана Аня больше, кого вернее обожает, царицу или царя? Считалось, что царицу. Но вот оказывается, что она так же безоглядно обожает и царя. И царица в раздражении, находит, что Аня с ней «груба», «нелюбезна»… «После ее поведения в Крыму – что-то пропало, разорвана связь… Она никогда не будет так близка мне, как была…»
Раздражение неглубокое, но совсем исчезло оно только в конце 16-го года. Незаметно окрепла их нерушимая связь – Распутин.
4
Юродивые бабники
В Петербурге жила когда-то очаровательная женщина. Такая очаровательная, что я не знаю ни одного живого существа, не отдавшего ей дань влюбленности, краткой или длительной.
В этой прелестной светской женщине кипела особая сила жизни, деятельная и пытливая. Все, что так или иначе выделялось, всплывало на поверхность общего, – мгновенно заинтересовывало ее, будь то явление или человек. Не успокоится, пока не увидит собственными глазами, не прикоснется, как-то по-своему не разберется. Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики, чего угодно, – который не побывал бы в ее салоне в свое время. Иные оставались дольше, другие закатывались немедля. На моих глазах там прошли Репин, Ге, Стасов, Урусов, Андреевский, Влад. Соловьев, Чехов… Она умело комбинировала людей, и «светские» знакомые никогда не смешивались с друзьями «ее духа». Впрочем, сидел там иногда молчаливый старик, никому не интересный. Его называли «серым другом». «Серый друг» этот, превратившись из серого в белого и одряхлев, был сочтен достойным поста премьера во время войны. Он пленяет, в 15-м году, царицу своим «здравым суждением», он находит, что царю «следовало бы быть увереннее в себе». Распутин благожелательно называет его «старцем». «У меня надеты невидимые штаны, уверяет царица, и я могу заставить старика приходить и поддерживать в нем энергию. Сегодня он пришел ко мне как к „soutien“[7], ибо, по его словам, я – l′énergie[8]. Наш Друг пошлет ему ободрительную телеграмму…»
Это был Горемыкин.
Но я продолжаю о салоне очаровательной женщины.
Мог ли в нем не появиться Григорий Ефимович Распутин, едва он взошел на петербургский горизонт?
Он и появился. Спешу сказать, что очаровательница не сделалась распутинкой. Она обладала исключительной уравновешенностью и громадным запасом здравого смысла. Всех «пытала» и ко всем, в сущности, оставалась ровна. Но чутье к значительности – даже не человека, а его успеха – было у нее изумительное.
Распутин, вероятно, понял, что тут много не возьмешь, но захаживал нередко. Надарил ей кучу портретов с безграмотными надписями. Она, смеясь, показывала нам портреты, рассказывала о «старце» и все звала к себе – повидать его.
Но мы к ней не пошли, как и впоследствии, когда Распутин бывал чуть не всюду, мы никуда не ходили «на него».
Слишком хорошо мы знали Распутина, не видав; знали раньше, чем попал он в первый нарядный салон. Пожалуй, раньше несчастного еп[ископа] Феофана, которого толкнул злой дух направить сибирского «старца» в дом Романовых. Еп. Феофан – был монах редкой скромности и тихого, праведного жития. Помню его, маленького, худенького, молчаливого, с темным, строгим личиком, с черными волосами, такими гладкими, точно они были приклеены. Но он смотрел «горе», поверх человека, – где ему распознать было сразу хитрого сибирского мужичонку!
Распутин, в самом начале, терся около белого духовенства. Бывал на вечеринках у довольно известного тогда чудачливого священника М. Возлюбил эти вечеринки: там собиралось много барышень – гимназисток и курсисток. К ним он, конечно, лез целоваться. Одна, очень мне близкая, рассказывала, что долго от этого уклонялась, а когда он все-таки ухитрился ее поцеловать – побежала к хозяйке в комнату умываться. «Я ему сказала, что если он еще раз посмеет, я ему дам самую „святую“ пощечину. Теперь издали, но еще хуже пристает: „Черненькая! черненькая! подь, я не трону, сердитая!“»
Но вообще «бабничество» Распутина никого особенно не удивляло: ведь так предлежит «старцу», если он «с юродством». К юродству же в каждой русской душе премирная тяга. Даже слова «юродивый» ни на каком европейском языке нет, а русский человек без юродства как будто и святости не понимает.
В Распутине, конечно, настоящего «юродства» никогда не было, но юродствовал он постоянно, и с большой сметкой: соображал, где сколько положить.
Кто ни писал о Распутине, все, даже враги его, признавали его замечательность, ум, необыкновенную проникновенность взгляда и т. д.
Я же утверждаю, что он был крайне обыкновенный, незамечательный, дюжинный мужик. Замечательно его положение, так сказать, место во времени и пространстве, его роль, но не он сам. И события делаются от этой заурядности как-то еще страшные. Француз Жильяр при мимолетной встрече увидел во взгляде Распутина «злую силу»… Но откуда знать французу, что Россия издавна полна вот такими сметливыми, кряжистыми и похотливыми «святыми странниками»? Интеллигенция русская в эту сторону не привыкла смотреть и наивна. Но даже мне приходилось встречаться с несколькими подобиями Распутина.
Один в особенности был точно вылитый. Об Илиодоре я не говорю, он глупее, беспорядочнее и мельче как мошенник. Но Щетинин, чемряцкий «батюшка» – да его не отличишь от Распутина. В то же приблизительно время он и в Петербург прибыл. Видали мы не только его, но и главного ученика – Легкобытова, и последовательниц его из рабочей среды. Щетинину не повезло: совался повыше, но не вышло случая; продолжал поневоле действовать среди рабочих.
И сапоги бутылками, и рубаха русская, и кафтан на крючках, и взор «пронзительный» из-под бровей, и тоже кряжистый, темпераментный, покрепче сколочен разве – а то ни дать ни взять Распутин. Правда: Щетинин не только практик, но и теоретик, и даже графоман. Распутин темным, угрозным и юродливым языком своим, нарочито безграмотным, изрекает краткие пророчества или пишет личные телеграммы высоким особам. И всегда в его ахинее есть простая, определенная цель, то или другое конкретное внушение, требование. Ахинея старца Щетинина – безудержна, водопадна и возвышенно-отвлеченна: он брал иногда тем, что одуревал слушателей. Наконец и писать стал; мне приходилось видеть его напечатанные брошюрки и листки. Думаю, однако, что, попади он в распутинский «случай», бросил бы он и «общину крутить», и растеканье в словесных ерундах.
Вел он себя совершенно так же безобразно, как и Распутин, так же юродливо-бабнически. Он действовал в Петербурге несколько лет подряд (перед войной) и попал под уголовщину совершенно случайно. Было начато дело (скоро притушенное, Щетинина просто убрали куда-то), но следствие успело дать такую картину разврата этого безобразника, что если б не документальные подтверждения, не показания «жертв», то и поверить бы нельзя. Как Распутин, он любил сниматься. Любопытна его фотография в женском платье, в кругу поклонниц.
Да и Варнава – удешевленное издание Распутина и Щетинина. Он только сразу признал себя «младшим» и стал под покровительство Распутина (всегда ему тайно завидовал, впрочем). Питирим, последний царский митрополит, того же типа, хотя, связанный «саном», пошел по своим рельсам, размаха того не мог иметь и даже на оргии распутинские посылал только своего секретаря.
Я беру первых попавшихся из прошедших на моих глазах; можно бы вспомнить и других. А что будет, если мы заглянем повнимательнее в прошлое, – в историю?
5
Царь и царица
Да, Распутин как личность – ничтожен и зауряден. Лишь как тип – он глубоко интересен, и мне много еще придется о нем говорить. Аня – ясна, как стеклышко; царица сложнее, хотя ограниченность ее несомненна. Зато сочетание этих трех во времени и пространстве – почти грандиозно. Они вместе написали страницу русской истории, которая не скоро забудется.
А царь? Не покажется ли странным, что я ни слова не говорю о царе?
Пора сказать о нем, хотя это очень трудно. Потому трудно, что царя – не было. Отсутствие царя при его как бы существовании – тоже вещь сама по себе очень страшная. И царица, и слуга ее верная, и «старец» Гришка все-таки были, «царя» же не было окончательно и бесповоротно. Николай Александрович Романов, человек – чуть-чуть был; бледная тень, и даже в приятных очертаниях. Его супружески любила данная ему жена; может быть, дети были к нему привязаны. Но уже марево – обожание стеклоглазой Ани, которая думала, что обожает «царя», бледную же тень человека она вовсе не различала.
Да и трудно было различать. Оттого трудно и любить. Оттого с удивляющей легкостью ушли от него почти все, едва было объявлено, что «царя нет». Царя нет, от Николая Романова ушли, как от пустого места.
Что нет царя и что едва есть человек – муж, царица бессознательно, чувственно, кошмарно подозревала. В этом было ее напряженное страдание. Отдать отчет она себе, конечно, не могла, робкая и неумелая в размышлении, упрямая в том малом, чему ее научили. Но все время, с изумительной непрерывностью, ищет она увидеть, ощутить, что царь есть, есть, есть, настоящий царь по ее понятию, настоящий человек по ее любви. Она и сыном («наследником») дорожит не только как сыном, а как одним из воплощений царского бытия. Цепляется за «наследника», почти смешивает их обоих в слепом надрыве и, не разбираясь, бросается вместе с ними, – куда же еще? К Богу, конечно. Уж Бог-то не может не помочь и ее правду не поддержать, – ведь это Его, Божья правда!
Но царица материалистка. В области, которую она называет «религиозной» и «духовной», – ей нужно осязательное, видимое, телесное, человеческое. Ей необходим Распутин: без него ей не на что ноги поставить, неоткуда делать свои понятные земные дела. Ей для них нужна постоянная Божья санкция, словесная, слышимая.
Распутин ей необходим для всех больших и маленьких, но определенных чудес – начиная от семейных удач до выздоровления наследника и превращения Ники в Петра Великого, в полной своей явной славе.
И, немужественная, робкая, даже трусливая по природе, – она делается безоглядно самонадеянной, уверившись, что за ней стоит «высшая сила», знаков от которой она жадно ищет и всегда находит: это сны, видения, темные и как бы исполняющиеся пророчества… Распутина. Гребешки, бутылочки, яблоки, иконки – его же, от него же. Все – вещественное, несомненное, видимое, как он. Он делает для нее «невидимое видимым»; сделает и «желаемое и ожидаемое» – настоящим…
Распутин ей необходим.
6
Анины «мемуары»
Аня зашла к нам на минуточку по делу. Это было между двумя ее арестами: еще не все успели у нее отобрать. Остались фотографии – целые громадные альбомы. И она пришла посоветоваться, где бы их сохранить от следующего обыска.
Как всегда, смотрит ясно хрустальными – стеклянными глазами; по бабьей привычке прибедняется: «Что ж, мол, ведь я простая глупая женщина. Я по воле Божьей… Как Богу угодно…»
Но вдруг, говоря о фотографиях, по-новому оживилась. Ведь все снимки ее путешествий… с государыней и государем. Много ее собственных. Есть снимки очень редкие, на «Штандарте»…
Это в первый раз она говорит о бывшем, о царской семье. Увлеклась воспоминаниями. Как все они мирно, скромно и беззаботно жили до войны! Гуляли, читали, чай пили, потом опять гуляли… Императрица любила рисовать, занималась рукодельем… Государь делал большие прогулки…
Слушаю этот невинный рассказ, немножко страшный, – какая, подумаешь, идиллия! и опять мне не хочется, чтобы кто-нибудь спросил ее о позднейшем, о войне, о Распутине. Жалко. Будет лгать, метаться, вывертываться…
Мне и теперь жалко, что ее убедили написать и выпустить какие-то «воспоминания».
Тем же детским или бабьим говорком рассказывает она и о страданиях после революции, и о прежнем житье, я прогулках на «Штандарте». Но вот надо – тут уж надо, ничего не поделаешь! – сказать о войне, о Распутине; – она долго, трогательно крепится, потом бросается в ложь, как в воду. Хитрости ее не очень хитры, все тот же незамысловатый прием, – под прикрытием явно нелепой сплетни – выдать за ложь и заведомую правду. Путает, мечется… Кому это нужно? Так же не нужно, как не нужны были допросы, держанья в тюрьмах, следствия.
Все, что она могла сделать страшного и непоправимого, она уже сделала. Вернее – оно уже сделалось, прошло через нее, кончилось. Теперь она – пустота в пустоте. И невинно нема, никакой правды «открыть» не может, ибо ее не знает.
Анина ложь правды не сокрушит, конечно, но порою оседает на правде, как пыль. И мне придется кое-где обращаться к «воспоминаниям», чтобы стереть эту пыль.
7
Маленький домик
Война ошеломила царицу; но скоро она оправилась. Война входила в круг ее понятий, имела, как возможность, свое место. Кроме того, царица относилась к войне, в первую голову, как к делу семейному. Нам трудно понять, а между тем это естественно. Ведь воюют между собою все «Джорджи», «Вильямы», «Ники». Война – дело Ники, и победа над Вильямом будет его победой, его славой.
Царица не забывает о «России»; о России, для этого случая, есть все готовые слова, как есть и предписания, что следует делать главным заинтересованным лицам: Нике и ей самой.
Ей, царице, «матери России» (и наследника), нужно, прежде всего, стать «утешительницей», ухаживать за ранеными, служить «царскому воинству»; она принимается за дело без промедления. Создает лазареты, одевается сама и одевает молоденьких дочерей сестрами милосердия. Что за беда, что в Царскосельском лазарете – главным хирургом г-жа Гедройц, врач малосведущий и женщина малосовестная. «Она любит нас», – остальное приложится.
Аня, конечно, тоже в лазарете, тоже перевязывает. Но царица, решив исполнить какой-нибудь «долг», уже не оставляет его, не устает. Аня – другая; ей, естественно, надоели беспросветные лазареты; тут нет еще никакой вины, она не «царица». Но царица беспощадна: «Вначале каждый день просила операций, а теперь они ей надоедают. Постоянно уходит. Небрежно перевязывает…» «Хотела иметь крест, об этом и хлопотала. Теперь получила, и интерес упал».
Долга своего в деле войны царица не ограничивает, однако, вот этой работой, ранеными, лазаретами. Именно потому, что война – дело личное, близкое, семейное, она обязана действенно вмешаться в него, бороться рядом с Ники не только против «Вильяма», но и против других его врагов – всех, кто может отнять у него славу победы. Например, великий князь Николай Николаевич («Николаша», как она его называет). Ники добр и прост, не видит зла, но она-то, царица, видит. Ведь ей это открывает тот, кто все видит, все знает – Бог (через Распутина). Ники должен взять свое дело в свои руки, должен сделать его сам, должен быть царем, должен быть, быть, быть!
Распутин, выздоровев от раны, поспешил приехать (в сентябре). Наследник опять болен, но царица не особенно встревожена: «Он скоро поправится теперь, раз что Друг наш его видел». (Распутин везде называется «Нашим Другом», с большой буквы.)
Как относился к Распутину сам Николай II? Может быть, недурно, а может быть, равнодушно. Никто не знал, да и не жаждал знать. Никто и не узнает никогда. Николай IIнедаром был завязан в молчание, точно в платок. Так, в молчании, и отошел к прошлому. Ни одного слова от него не осталось; те, что читал он по бумажке на приемах – забылись.
Пожалуй, и сама царица не знала хорошенько его отношения к Распутину. Просто предпочла уверить себя, что они оба относятся к нему одинаково. Если Ники еще не всегда понимает, что Распутин – «наше общее спасение», – она поможет ему понять это, заставит понять – все.
«Друг счастлив за тебя, что ты поехал (в Ставку), и был так рад видеть тебя вчера», – пишет она 20-го сентября. «Он любит тебя ревниво и не выносит, чтобы Николаша играл какую-нибудь роль».
Видел царя вчера, царицу увидит сегодня…
Аня, в своих записках, вертится: вот сколько неправды говорили. Например, говорили, что Распутин «постоянно» бывает у их величеств. А я могу засвидетельствовать, что он бывал во Дворце очень редко. Во Дворце есть охрана, велись записи (тут долго и подробно об охране), можно проследить по записям, говорю ли я правду.
Можно бы, но не стоит: она говорит правду; но этой формальной правдой старается прикрыть существенную ложь. Дело ведь не в том, где виделся постоянно Распутин с царицей и царем, а в том, что он постоянно с ними виделся. Эту правду – свиданий царицы с Распутиным по два, по три раза в неделю, а с царем всякий раз, когда он приезжал из Ставки, можно проследить по не менее верным, чем охранные, записям самой царицы.
Свиданья происходили не во дворце, а в «маленьком домике» – у Ани. О них она молчит. О «домике» упоминает вскользь, «я там жила одна». Между тем этот «маленький домик» вблизи Царскосельского Дворца должен быть отмечен историей. Там писался четвертый акт русской трагедии. Там заседало последнее самодержавное правительство.
Главная работа царицы в первые месяцы войны – это укрепление веры Ники в Распутина, утверждение полной связи между ними. Это фундамент, на котором она будет строить. Цель ее ясна, план постройки несложен. Надо найти и отобрать людей верных, преданных и любящих Ники и ее, царя и царицу, и дозволить им помогать Ники в его победе не только над Вильямом, но также и над всеми остальными людьми, далекими, чужими и родными, но неверными, непреданными и нелюбящими, – «врагами». Неясно рисовалось, что есть «народ» вообще, «войско» вообще; какое-то необходимое, подданное «оно». Но не о нем речь, оно вне игры, вне борьбы, которая происходит здесь, в Царском, в этой самой комнате, где царица принимает «старика», пишет письма. Все решается здесь – и в Маленьком Домике.
Как, однако, находить нужных, верных людей, как их узнавать? Это царицу не заботит. Она верит себе и указанью свыше, которое ей всегда будет дано – через Распутина. Еще нужно, конечно, чтобы Ники вел себя, как царь. И для этого есть – ее помощь, во-первых, Божья, во-вторых (Распутин).
Вот и вся «политика» царицы. Другой у нее никакой не было.
Зато работает она не покладая рук. Начинает исподволь, потихоньку. Да в первый год и не успела приноровиться, еще не вошла «в войну». Ее еще занимает старая, мирная, домашняя жизнь, отвлекают семейные, неважные сплетни, заботит здоровье наследника, сердит Анино настроение и случайный Анин флирт… Но первое дело уже намечено и ведется систематически: смещение «Николаши». Во-первых, если царь – глава всей России! – не глава войск, – он еще не совсем царь. Во-вторых, – «Николаша» враг (враг Друга). Ники должен понять, что отставка Н. Н. – воля Божья (которая открывается через Распутина).
8
Война объявлена
– Вы знаете, «Аня» так серьезно ранена в царскосельском поезде, что вряд ли выживет.
– Выживет! И, в конце концов, ее просто жалко. Чем она лично виновата в этом царском скандале? Обожает Гришку? Да мало ли баб его обожает! Какая-то роковая она, это правда, но вины ее тут нету.
Аня выжила, несмотря на всю небрежную жестокость, с которой была ей подана первая помощь. Невежественная г-жа Гедройц весьма удачно оставила ее калекой на всю жизнь.
– Распутин это все предсказал! – уверяет Аня. На самом же деле Распутин, когда Аня лежала при смерти и царица спросила, чего ожидать, с необыкновенной ловкостью ответил:
– Если она еще нужна тебе и России – Господь сохранит ее. Если же, напротив, она чем-нибудь может повредить – Бог возьмет ее к себе.
Аня выжила, – ну, значит, «на благо России».
Царица, однако, продолжает с ней быть холодна. Катастрофа не помогла. Уже 22-го января, через неделю приблизительно, пишет: «Сидела у Ани, которая поправляется… Она вечно просит, чтобы с ней сидели… Говорит, что похудела, но я нахожу, что ее ноги колоссальны… Лицо розовое… Как она от меня далеко ушла со времени своего гнусного поведения… Отношения наши никогда не могут стать прежними…»
Впрочем, это так, попутно; главное не забывается и тут: «Аня просит тебя, от имени нашего Друга, чтоб ты ни в коем случае не упомянул ни разу имени Главнокомандующего (Николаши) в Манифесте…»
Февраль, март – те же «любящие письма от Друга»… «Аня несносна, ворчит, притворяется, пристает… Мы ее слишком избаловали…» В апреле – Аня уже опять в «маленьком домике». Начинается новая цепь свиданий с «Другом» (дети там постоянно).
Письма – немножко в стиле церковных Соборов: «Нам и Духу Святому изволится…»
«Нашего Друга и меня… одинаково поразило, что Н. (Николай Николаевич) составляет телеграммы, отвечает губернаторам, как ты…» «Ты слишком добр и мягок… Громкий голос и строгий взгляд делают чудеса…»
До конца июня главная кампания против Николая Николаевича ведется в темпе ускоряющемся; но параллельно начались и другие. Распутин почти не выходит из «маленького домика».
«Аня передала Ему сейчас же, что ты телеграфировал. Он благословляет тебя и так доволен…» После одного из свиданий: «Был очень добр, массу о тебе расспрашивал…» Идут военные соображения, не послать ли несколько казачьих полков к Либаве и т. д., – очевидно, из беседы, ибо прибавляется: «Наш Друг говорит, что немцы страшно хитры».
В июне царица бежит в 10 часов вечера в «маленький домик» с детьми. Бежит «кружным путем», чтобы обмануть охрану. Друг уезжает на родину, но все задуманное не только на мази, оно вполне готово к исполнению. Даже «крестные ходы», приказ о которых должен исходить отнюдь не от Синода, а прямо от царя.
В это свиданье Распутин «говорил много и чудесно».
Он входит во все детали: заботится, чтоб не увеличивали трамвайную плату, чтоб новые денежные знаки были такого, а не иного образца, чтоб был приказ конфетным фабрикам делать снаряды…
«Он сожалеет, что ты не говорил с Ним немного больше обо всем, что ты думаешь и намерен сделать, и о чем предполагаешь говорить с твоими министрами, и о переменах, которые предполагаешь сделать… Он может больше помочь, когда ты откровенно говоришь с Ним».
Оплошность исправляется, и через несколько времени царица благодарит мужа за посланные военные и другие разъяснения, «чтобы я могла сказать нашему Другу…». «Никому не скажу, кроме Него…»
Бедная Аня! Зачем довели ее до того, что она пишет: «Это был простой сибирский странник. У Их Величеств разговоры с ним были всегда только на отвлеченные темы или о здоровье Наследника».
Царь должен приехать домой. Царица ждет его возбужденная, уверенная. Великий князь Н. Н.? «Он знает мою волю и боится моего влияния на тебя, направляемого Григорием…»
Недаром боится, можно сказать.
Царь вернулся 25-го июня – готовый совершенно. Исполнения начинаются: он – во главе армии, вместо Николая Николаевича, – это, конечно, первое; затем все как по нотам – и назначения, и смещения, и крестные ходы… Намечен и роспуск Думы.
И первое письмо после его отъезда, в августе, – ликующее, благодарное, подхлестывающее: «Еще месяцы назад говорил это наш Друг… Бог с тобой, Друг за тебя… Теперь все дело в армии. Ты – Самодержец, ты доказал это!..»
Царица так уверена в себе и в своей (с Распутиным) правоте, и так презирает «врагов» (общество, Думу и т. д.), что не особенно заботится о сокрытии «влияний» Маленького Домика. Царь – Главнокомандующий, – она считала это необыкновенно важным и не раз впоследствии поминала: «Наш Друг вовремя разглядел карты и пришел, чтобы спасти тебя, умолив выгнать Николашу и самому взять командование…» Или: «Не бойся называть имя Гр., говоря с генералом Алексеевым, – благодаря Ему ты остался тверд и год назад взял командование». Рассказывает и Саблину, что это был Распутин, «который заставил нас поверить в безусловную необходимость этого шага».
Только Аня, бедная Аня самозабвенно лепечет: «После падения Варшавы Государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или Государыни, стать самому во главе армии; это было единственно его личным, непоколебимым желанием и убеждением. Свидетельствую, что Императрица А. Ф. ничуть не толкала его на этот шаг».
Может быть, нам уже больше и не стоит отмечать подобные «свидетельства»?
В обществе принятие царем командования породило чувство болезненного недоумения. Слишком этот акт, при всей совокупности обстоятельств, был «неполитичен». Другие, за ним последовавшие, столь же неполитичные, уже начали вызывать панику. Да что же это такое, наконец? Мало-помалу все поняли, что это такое. Поняли, что у русского правительства – два врага и что войну оно ведет на два фронта: с Германией – и со всем русским обществом.
«Не мешайте нам вместе с вами бороться с немцами за Россию», – вот была первая просьба общества и Думы к правительству (т. е., в сущности, к царю). – Нет, отвечало правительство, германская война – моя, вы – мои враги, а так как я и Россия – одно, вы враги и России.
И все стало напрасным: и уступки, и блок умеренных с правыми, и воззвания: «Но перед лицом общего, могучего врага внешнего…» Все. В «маленьком домике» у Ани решалась эта вторая война. Что значил Таврический дворец перед «маленьким домиком»? Мог ли он все-таки не принять эту войну? Военные действия были открыты.
Таврический дворец знал, что принять ее – гибель. Не принять – тоже гибель. И он принял ее… наполовину.
Как видим, и это была тоже гибель, третья.
9
Против церкви
Успех окрылил царицу. Энергия ее удвоилась. Теперь надо спешить с подбором нужных людей, с устранением всех остальных. Много дурных, злых, не любящих ее и Друга… Но с Ним она чувствует себя непобедимой.
Заботы с министрами, а тут еще начинает путаться церковь, – Синод, епископы… С обер-прокурором, «государевым оком» в Синоде – была большая возня.
Смещения ненавистного Самарина (честного москвича, довольно популярного в умеренно либеральных кругах) царица легко достигла, но пока добралась до последнего ничтожества, Раева («он обожает нашего Друга»), – сколько хлопот, примериваний, кратких назначений и выгонов. Вообще с церковью (она думает, что с Синодом, с епископами) борьба неустанная, кропотливая. Сибирский монах Варнава, прожженный мужичонка распутинского типа, сразу отдал себя в распоряжение «Друга» и затем, ничего уже не боясь, выступил против Синода. Самовольно открыл на родине Распутина мощи нового святого и потребовал его канонизации. Ввиду такой наглости (Варнава, почти неграмотный и грубый, вел себя в Синоде непозволительно) началась прескверная и прескандальная история. Царица вне себя от бешенства. Не царь ли глава православной церкви? «Крикни на них, душка, на этих животных (епископов). Они не смеют… Твой приезд сюда должен быть карательной экспедицией…»
Варнаву она принимает и даже ласкательно зовет «Сусликом».
Кончилось это весьма позорно… для Синода. Половина епископов была выгнана, митрополитом назначен Питирим, избранник Распутина (сколько твердила о нем царица, с каким нажимом!). Варнава получил сан архиепископа и награжден крестом, открытый им «святой» признан. «Враги», – на этот раз представители Церкви, – были еще раз побеждены царицей и ее Другом.
Впрочем, церковные дела не заставляют царицу забывать о делах более важных: необходимо выбрать министра внутренних дел.
Что касается «премьера» – о нем подумают после. «Старик» (бывший «серый друг» – Горемыкин) еще сидит, ничего. Но, конечно, стар, и под рукой Распутин ездит на поиски: «Завтра Друг увидит X., а потом я Его повидаю вечером. Он скажет мне, годится ли тот быть преемником Горемыкину…» На другой день царица пишет: «Ну, видела Друга с 5–7 у Ани. Он не может примириться с мыслью об увольнении старика. Думает, что лучше подождать… Называет его премудрым…» Очевидно, испытуемый не сгодился. И Горемыкина пока держат.
10
Гришкина «безмерность»
Но если Аня так фатально, очевидно и наглядно лжет, лепеча: Распутин не имел влияния на политику… он политикой не занимался… мог бы заниматься, к нему министры ездили, но не занимался… Он только об отвлеченных вещах… – если она лжет и мы видим, что Распутин, кроме дебошей, только и занимался, что «политикой», – пора спросить себя, какая же у Распутина была политика?
Несложная и незамысловатая политика царицы? Утверждение самодержавия в лице любимого Ники? Но какое дело до Ники Распутину? Не хочет ли он «торжества правды», как ее понимает, не думает ли о России?
Нет, в беспардонной Аниной лжи есть доля страшной правды. Непрерывно занимаясь политикой, – можно сказать, делая ее, – Распутин, в сущности, ею не занимался или не ею занимался: о политике он даже первого понятия не имел, и ровно никакой политики у него не было; совсем никакой, даже самой примитивной, царицыной.
Заглянем, чтобы понять, в чем дело, в самое нутро вот такого русского мужика – лесного, земляного Гришки Распутина.
Во-первых, – он невежествен, почти непредставимо и – непоправимо. Во-вторых, – он умен. В соединении получается то, что зовут «мужицким умом»; какая-то гениальная «сметка», особая гибкость и ловкость.
Сметка позволяет Распутину необыкновенно быстро оборачиваться, пронизывать острым взором и схватывать данное, направлять его так и к тому, чего он желает. Но сами желания его до крайности просты, и без всякого подобия «политики». Распутин даже не «честолюбив»: слишком тонкое это для него понятие. Если попытаться выразить в словах, чего, собственно, желал Распутин, то выйдет приблизительно так: «Чтобы жить мне привольно, ну и, конечно, в почете; чтобы никто мне не мог препятствовать, а чтобы я, что захочу, то и делаю. А другие пусть грызут локти, на меня глядя».
Кроме этих: «Чтобы жить мне…» – никаких у него желаний не имеется; он и не подозревает, что могут существовать еще какие-то другие. Сами по себе – они обыкновеннейшие из обыкновенных. И мы в Распутине опять ничего не поймем, если не поймем еще одного свойства его, очень важного.
В душе – или в «натуре» – такого русского «странника» каждое из его простых желаний доведено до размеров гомерических и вообще ничем не ограничено. Привольная жизнь? Он ее представляет себе безобразно и неопределенно, в каком-то таком виде, что «небу жарко». Почет? Такой уж почет, чтоб неслыханно. А делать, что хочется, – это значит на целый свет размахнуться, в вихрях закрутиться, без препоны, без удержу, и все прочь с дороги!
При такой непомерности волевого устремления самое простое желание принимает образ чудовищный. Понятие о мере является лишь с началом какой-нибудь культурности. Но Распутин – первобытный человек из вековой первобытной среды.
Как многие, ему подобные, – из более одаренных – он с юности томится тяжелыми страстями своих желаний; бросается в «божественность» (это одно – доступно, одно – рядом: и монастыри, и странники, и «святость»). Конечно, и тут он безмерен в размахе; тотчас стихия завивает его – и он тычется в разгул, в похабство – знай наших, все прочь с дороги!
Но «мужицкий ум» – сметка – не дремлет. Настоящей сладкой, почетной, вольной жизни нету. И чуть ему «пофартило» – он маху не дал. Зацепился – и поехал – поплыл по молочной реке к своим кисельным берегам.
Похоть, тщеславие, страх – обычная человеческая триада, первоначальный двигатель воли; но время кует ее на своей наковальне, а молот – сознание и то, что мы называем культурой. У Распутина – похоть, тщеславие и страх – в девственном, нетронутом виде и в русской, острой безмерности, бескрайности. И только они. Ничего другого ни в нем, ни у него не было. Как же и зачем станем мы говорить о какой-то «распутинской политике»?
11
Бахвал и немцы
Попав на «кисельные берега», Распутин смекнул остро, чем держится и что ценится. С гениальным тактом юродствует, темнит свои прорицания, подчеркивает «народную», «мужичью» святость. Да особой хитрости, тонкости и не требовалось. Среда, в которую он попал, была ведь тоже по-своему некультурна и невежественна. Шелковая русская рубашка Распутина – это для нее убедительно, умилительно, а попробуй он надеть дешевенький пиджак, заговори он человечьим языком (отлично знал его, понатершись), назови кого-нибудь на «вы», а царя и царицу не «папой с мамой» – еще неизвестно, чем бы обернулось.
Осторожный, опасливый, он не лез туда, где мог сорваться. Бывало, конечно, – при его-то безудержности – но он быстро поправлялся. В начале войны ошибся: запророчествовал более определенно, заехал в «политику» и «географию»: будет, мол, победа, как подплывут к городу Вене русские корабли…
Главная «политическая» роль – указывать, подыскивать, ставить «верных» людей – сразу пришлась ему по душе. Нехитро, почетно и выгодно. Он и выбирает таких, которые не только не сковырнут его, не лишат приволья и почета, но еще всячески стараться для него будут из одной благодарности за такое место.
Распутин, как и царица, уверен, что все совершается вот тут, в этом месте, около царей. Подальше, пошире? Там стены тумана, непоправимое невежество. А он и не любопытен. Схватывает остро лишь то, что, думает он, может коснуться его самого. Через полгода войны он, конечно, не сказал бы, что надо посылать корабли в Вену. Он вот рассуждает о будущей роли Англии и находит благоприятной гибель Китченера… Но об Англии он знает так же мало, как о России, и к обеим одинаково равнодушен.
Войны он не хотел (ни один русский мужик не хочет войны и ненавидит ее из своего угла). Но раз война – он обязательно хочет победы русского царя над Вильгельмом (царица по-своему, Распутин по-своему, по-мужицки, но оба смотрят на войну как на борьбу царей). Его прямой интерес, чтобы победил царь, около которого ему привольно и почетно живется. Все россказни о немецких симпатиях Распутина (не говорю уж царицы) – совершенный вздор. Он видел в победе прямое благо для себя, – как же не желать ее?
Не забудем, однако: в Распутине сидит еще и пьяный разгульник и похотник. «Чего захочу – чтоб не было мне никакой препоны…» Пьянство его – русское, гомерическое, с плясом диким и с гиком, непременно со скандалом… и с «бабами». Даже из наикультурнейшего русского человека выскакивает, если он пьян, Гришкин дебош и скандал. Что же после этого Гришка, в первобытности своей и безмерности?
Пил он действительно без меры. С ног не скоро валился, очень был крепок. А потому говорили, что он пьет – не пьянея. Как бы не так: если он пьет – он пьян до дна. Все – до дна: и гик, и крик, и пляс, и гомерическое бахвальство. В эти минуты расчет и хитрая сметливость отступают от него. Ему действительно «море по колено». Ему надо уж не удивлять – поражать на месте.
Грубые и грязные сплетни о его отношениях к царице – порождение самого Распутина. В известный момент он был способен на все. Неосторожное или намеренно ловкое слово собутыльника – и Распутин выхватывает из кармана кучу смятых бумажек – письма царицы. Не выпускает из рук, но махает в воздухе ими, тычет пальцем, хрипит: «а? что? Не писала этого? Да она у меня… Да я ее…»
Ловкому, холодному человеку ничего не стоило обойти его в эти минуты.
И меня не удивляет такой факт, не всем, может быть, известный, но достоверный: в Петербурге имелась очень серьезная немецкая организация – из русских состоящая. Люди достаточно тонкие, чтобы употребить на пользу и Распутина. Они ничего у него не просили; это были только верные товарищи и участники грандиозно безобразных его кутежей. Сами даже задавали сутками длящиеся кутежи, иногда прямо «в честь» Распутина.
И «собутыльники» эти уж, конечно, умели узнавать от Распутина все, что знал он. Треть его речей была чепухой, треть бахвальством, но треть, случалось, шла на пользу: в последние годы царица не устает расспрашивать царя о военных (секретных) планах и намерениях «для нашего Друга, который может помочь», не устает повторять: «Говори с Ним откровеннее обо всем».
И вот сам Распутин постепенно как будто втягивается в военные дела. То советует «наступать около Либавы», то настойчиво требует «приказать Брусилову немедля остановить южное наступление». Детальные военные письма царицы с названиями полков для защиты тыла, левого фланга и т. д. – даже странны своей определенностью. Она, конечно, повторяет чужие слова и, конечно, Распутина. Но и для Распутина они странны.
Уж не вложены ли в уши пьяного бахвала где-нибудь на «Вилле Роде» под утро? Не внушены ли с незаметной ловкостью грозному внушителю?
Слишком точно знали немцы наши «секретные» планы; слишком последовательны были наши военные неудачи. Кое-что можно отнести на долю и Гришкиной бахвальной, пьяной безмерности. Утвердим, однако: он никогда сознательно «своих царей» не предавал. Это было не в его интересах.
Не предавал и не продавал. Немцы недурные психологи в этих делах; думаю, они и не делали ему прямых денежных предложений, хотя знали, что Распутину деньги нужны и что он берет, по пословице, «с живого и с мертвого».
Брал он так и с такой оглаской, что даже министры струсили; пошушукались с охранным отделением и решили выдавать ему определенное ежемесячное содержание, в два срока, тайным порядком, конечно, из секретных сумм. История эта известна. Гришка явился, денежки принял, но толку не вышло никакого: не сократил гомерического побора. Да и что ему жалкие охранные тысчонки? Слизнуть. Поклонницы баловали его невероятно, одевали в шелк и бархат, квартиру заваливали цветами, конфетами и всяким добром посущественнее; с богатеньких просителей Распутин брал и натурой: шубой или чайным сервизом. Но все это было не то: требовались деньги. И не потому, что он жаден к деньгам: он жаден к их швыряныо. Тоже русская черта: попойка – не попойка, море разливанное, денег не жалеть, не считать; захочу – псу под хвост суну, захочу – все себе загребу.
Для этого денег нужно было много; и не диво, что Гришка брал, не обинуясь.
Но никогда не брал у царицы, держал себя крепко. Скупая, она и не дала бы, пожалуй. Однако вряд ли взял бы, если б и дала. Ему нужно было слыть «там» – бессребреником. И слыл. Не опасался, что дойдут слухи до Царского: возьмут за «сплетню», а то и так: богатый дал – а он бедному отдал.
Недаром Аня «вспоминает»: «Сколько он добра делал! У него на приемах бывала всякая беднота, и он всем помогал».
Ане-то, положим, ведома эта «беднота», и она рассказывает о Распутине здесь с обычной своей правдивостью. Но царица верила, кажется, искренно.
12
Выборы министров
Жизнь в Царском несколько изменилась, когда царь стал главнокомандующим. Он все время теперь в Ставке. Еще меньше существует.
У царицы по горло хлопот. Ее хозяйство расширяется. Мальчика она упорно держит в Ставке, у отца. Болен? Поправится. Главное – пусть учится быть царем.
Общими усилиями (Аня действует, как никогда) найден, наконец, министр внутренних дел – Хвостов.
Начал Хвостов с Распутина, конечно. Пригласил его в Нижний (он еще нижегородский губернатор) и такие закатил ему пиры, что царица спешит: «Наш Друг телеграфировал, что Хвостов был бы хорош» министром.
Затем, с неразлучным Андрониковым, Хвостов переходит на Аню.
Андроников – толстый господин без определенных занятий, всем известный авантюрист. Но известное всем – никогда не известно при дворе. Да если б и узналось, как смотрят на него «все»? «Они» осуждают – значит, хороший человек. Враг «им» – друг нам.
Андроников и Хвостов очаровали Аню. И вот царица начинает на скорую руку (дел так много!) обрабатывать царя.
«Хвостов опять был у Ани и умолял, чтобы я его приняла, что я и сделаю сегодня. Некоторые боятся, что я вмешиваюсь в государственные дела, а другие считают, что я должна помочь, – Андроников, Хвостов, Варнава…»
«Ну, душка, я беседовала с „хвостом“ (фамильярно-ласкательные клички – слабость царицы) и полна лучших впечатлений. Я несколько беспокоилась, так как Аня способна увлекаться, но, переговорив с ним, нашла, что работать с таким человеком – удовольствие. Ясная голова. Энергичен. Знает крестьян, народ. Будет охранять нашего Друга». «У него колоссальное тело, по словам Ани, но душа его возвышенна и чиста». Вечером польщенная приписка: «Толстый Андроников телеграфировал Ане, что Хвостов очень доволен моей беседой, и передавал другие любезности».
Андроников, Хвостов, Белецкий… Аня принимает их всех в Маленьком Домике и очень горда, что тоже «помогает». С непривычки трусит чего-то. Но – «Андроников дал Ане честное слово, что никто не будет знать, что Хвостов у нее бывает». «Назначь его скорее, душка!»
В первый же приезд царя все желания Маленького Домика были исполнены. Хвостов и Белецкий назначены. Остальных, намеченных царицей, убрали.
Хвостов и после назначения не забывает Аню, считает, что очарование стоит поддерживать. Но царица уже ворчит: «Хвостов и Белецкий обедают у Ани, я нахожу, это жаль, – точно она хотела играть политическую роль, а она так тщеславна, самоуверенна, недостаточно осторожна, но они просили принять, верно им надо опять что-нибудь передать, а наш Друг всегда желал, чтобы она жила для таких вещей». (Неблагодарная Аня! Забыла и очарование свое, и все любезности, и уверяет теперь: «Хвостов производил неприятное впечатление…»)
Эта печальная зима с ее систематическими военными неудачами (15–16) – зима сугубо безобразных систематических кутежей Распутина. Скандал разрастался. Аня, может быть, знала, вздыхала, негодуя на «сплетни», но царица не знала ничего: и не слушала, да и некогда ей: принимает «своих» министров, ездит в Верховный Совет – «Как хорошо, что ты дал мне Верховный Совет!» – и ходит вечером к Ане, где Друг бывает… трезвый, серьезный, настойчивый: «Питирима – сюда. Друг просит тебя быть твердым, так как это единственный подходящий человек». Кроме того, Друг опять предлагает много вопросов о планах царя насчет Румынии, о рескриптах, о Думе, когда ее сзывать. «Он находит, что если будет какая-нибудь победа, то Думу совсем не надо сзывать…»
А вот у Друга – «ночное виденье. Просит приказать начать наступление возле Риги. Просит тебя серьезно…».
Это в ноябре-то наступать, потому что у Распутина ночное виденье!
Но если начинают наступление без него – он сердится: «Начали движение, не спросивши Его, – пишет царица. – Он всегда обдумывает, когда придет хороший момент для наступления».
Опять приезжает царь. Молча, как манекен, подписывает все, что от него требуют, назначает, смещает, – уехал.
Только что назначенный митрополит Питирим (он распутинского типа) добро помнит. Дает в честь Распутина завтрак, окружает его подобострастным вниманием – «привольная жизнь в почете!». Ане занездоровилось – митрополит сидит у ее постели в Маленьком Домике. «Добрый человек!»
В Петербурге жизнь шла странная, – стыдная. Все чувствовали, что наваливается что-то на плечи и тяжелеет. Думу созывали редко, с вечными отсрочками. Когда созовут, наконец, – думское колесо вертится в пустоте. Дела делаются там, за стенами маленького Аниного домика. И немножко на Троицкой, где Гришка принимает министров, облеченный в белую хламиду. Наиболее усердные целуют полу этой хламиды. Губы не отвалятся, а уж все равно, – раз Гришка, то почему не в хламиде? А раз в хламиде – почему и не приложиться к ней? Кто сказал «А» – почему ему не дойти и до «Z»?
Все же хламида – знак, что Распутин и в трезвое время, дома, не совсем нынче выходит из перегара. Ему хочется все большего, все большего «почета». Зудит что-нибудь выдумать самому. Хламиду выдумал. Пусть видят и чувствуют.
На Хвостова мы все, зная его, смотрели сначала с презрительным равнодушием. Потом стали ждать какого-нибудь скандального выверта. Уж очень пошла сильная чепуха. Филеры Хвостова следили за филерами, приставленными к Распутину, последним был отдан приказ следить за хвостовскими. Кончилось тем, что все столкнулись лбами, потом подружились, потом все так перепутались, что ни один уже не знал хорошенько, за кем следить.
Но Распутин был покоен. Ночами дебоширил, драл нос и безобразничал вволю, кочуя из одного притона в другой. К утру его привозили замертво из последнего, самого низкосортного – домой. Проспавшись, прочухавшись, умывшись, а то и в баньку съездив, он начинал свой день: министры, дамы, просители, цветы, еще дамы, опять министры, снова дамы… Это, конечно, если его по телефону не требовали в Царское или если Аня самолично за ним не являлась.
В Маленьком Домике – новая горячая работа: выбор премьера. Как ни тянули со слабеющим «стариком» – нет, видно, пора погадать о заместителе.
Распутин останавливается на Штюрмере. Человек пожилой, старцу Горемыкину не будет обидно; известный, почтительный, давно около ходит, богат, а уж как благодарен-то будет…
«Душка, возьми Штюрмера, он настоящий человек. Наш Друг так сказал. Он очень ценит нашего Друга, а это большая вещь…»
С каждым месяцем царь податливее, исполнительнее.
Царица, положим, не скупится на повторения и настояния, но как-то все происходит быстрее. В январе (16 г.) царь приезжает домой и в десять дней, безмолвно, успевает поставить свой штемпель на всех решениях Маленького Домика: «старец» Горемыкин удален, Штюрмер назначен. Тут же, кстати, выгнаны неугодные Питириму епископы («наглые животные!»). Сообщены «конфиденциально» военные планы, в больших подробностях: куда будет послана артиллерия, идет ли гвардия «к югу от Келлера», какие где силы остаются «для защиты левого фланга» и т. д. Сомневаюсь, чтобы осовелый от пьянства Гришка мог все с точностью запомнить; но кое-что, наверно, запомнил. Вскоре он зачем-то стал требовать назначения генерала Иванова. И царица принимается за свой благодарный труд: «Подумай, подумай, подумай о генерале Иванове…» «Что же насчет Иванова? Наш Друг так хочет, чтоб он был назначен…» (Конечно, исполнено.)
Со Штюрмером, новым премьером, «правительство маленького домика» переживает медовый месяц. Штюрмер у царицы с докладами каждый день.
Кто – Штюрмер? Лет 12–15 тому назад он – ярославский губернатор. И тогда уже немолодой, высокий, ширококостный, в белом военном кителе, любезный, гостеприимчивый – производил он скорее приятное впечатление, хотя немножко двойственное. Он видимо хотел показать себя перед «петербургскими писателями» прежде всего культурным человеком. Мягко либеральничал.
Но при этом – подчеркнутое тяготение к церквам, священникам, вообще к «православию». Немецкая фамилия и отдаленное немецкое происхождение видимо мучили его: они мешали, думал он, его карьере. И он старался играть русского коренного аристократа. На стене растреллиевских губернаторских покоев висели под стеклом, напоказ, масонские знаки «прадеда». В драгоценном альбоме автографов – «фамильном» – имелись записи русских царей и даже самой Екатерины…
«Немецкая тень» преследовала его воображение; отсюда и русофильство сугубое, и подчеркнутое православное благочестие.
Нам как раз случилось присутствовать при приеме знаменитого тогда о. Иоанна Кронштадтского (его впоследствии называли «Распутиным Александра III», но это неверно и несправедливо: у о. Иоанна, при всей бессознательности и грубоватости, было другое ядро; в голубых, рассеянных глазах светилась наивная, детская праведность).
Мы ездили со Штюрмером и о. Иоанном по всем домам, куда о. Иоанна звали. Видели человеческие волны, заливающие о. Иоанна. Удивительное зрелище. Но и Штюрмер был любопытен. Какое смирение, какое благоговение! Весь – елей.
На пышных званых обедах своих – он совсем другой. Знающий себе цену сановник. Мягкие, придворные манеры… Но какое окружение! Один Гурлянд, вечный его фаворит, чего стоил. Этого Гурлянда он довлек до своего премьерства и тотчас посадил на тепленькое местечко, уволив 25 лет служившего там человека. Царица и та удивилась.
Мы прозвали его тогда «лукавый царедворец». Он таким и остался, попав в премьеры. И если в конце концов не пришелся, то лишь потому, что безумие этого исключительного Двора даже его захлестнуло. Чтобы приспособиться, мало тонкого или даже грубого лукавства, надо самому быть сумасшедшим.
Штюрмер же все-таки пытался действовать по расчету. Полагал, что если существует, к несчастью, Дума, то разумнее бороться с ней исподволь, а не лезть нахрапом с дубиной. Понимая положение, он заискивает у Распутина и льстит царице, грубо, как ребенку, поддакивая. Но гнет к умеренности, действует с осторожностью. Это грубое лукавство долго спасало его. Не спасло… Запутался и сам махнул рукой. Царица, незадолго до его отставки, в конце 16-го года, замечает: «Он давно не видел нашего Друга – и потерял точку опоры».
13
Маленький скандал
Но пока – лучше Штюрмера нет, и он «постоянно беседует с Другом».
В самый разгар медового месяца разражается скандал с одним из вернейших избранников: Хвостовым. Этой конфузной и грязной истории я не буду касаться в подробностях. Не то спутавшиеся охранники соединенными силами что-то пронюхали, не то завистливый бывший монах Илиодор донес – словом, открылось, что возлюбленный «Хвост» – заговорщик и подкупает каких-то лиц, чтобы убить Распутина. В этой истории, негласной, конечно, было много комизма. Кто и для чего втравил в нее Хвостова и было ли это серьезно – осталось во мраке неизвестности. Проваливаясь, Хвостов попытался было выставить себя перед общественными кругами «пострадавшим за освобождение России»: он хорошо знал всеобщую к Распутину ненависть. Но и это не удалось. Так шутом он и сошел со сцены, никого особенно не взволновав.
В Царском – другое. Царица и Аня «переживают тяжелые дни». «Я так несчастна, – пишет царица, – что мы с Аней, через Друга, рекомендовали тебе Хвостова…» Она, впрочем, сваливает все на них: «Я только уступила их давлению…» О собственном восторге перед «ясной и возвышенной душой» Хвостова она забыла – может быть, искренно. Потрясение Ани принимает бурные формы: «Она была убийственна со своими телефонами, визитами и историями про нашего Друга, кидала палкой по комнате, хохотала!»
Но все это ничто перед потрясением самого «Друга». Он действительно вне себя, и не от возмущения, не от досады – от страха. Самого обыкновенного, животного страха перед «убивцем», как зовет Хвостова. В бешеной ярости он бросается с кулаками на бедную Аню. Ежеминутно требует ее к себе (сам засел дома, носу не высовывает), если она медлит, – посылает жену, которая тоже делает ей сцены. Даже царица не может скрыть: «В теперешнем своем настроении Он кричит на Аню и так страшно нервничает… Боится уехать, говорит, что Его убьют… ну, мы увидим, это как Бог даст…»
14
«Прощайте, родные…»
Лето 16-го года было прохладное, тихое.
В июньский вечер я стою на балконе нашей квартиры в Петербурге. Балкон во втором этаже, уличные торцы так близко. Наш дом – последний, и направо, за решеткой, кудрявятся свежие высокие деревья Таврического сада. Чуть виден в зелени широкий купол дворца – это Дума. А налево – как стрела прямая, широкая Сергиевская улица, такая прямая, что конец ее потерян в золотом тумане заката, в небесном сиянии.
Улица пустынна и безмолвна. Но вот как будто далекие, слитые звуки, голоса – песня. Далекие – они приближаются, близятся, вытягиваются, вот совсем близко… и я вижу, как прямо на меня, из переулка, что вьется вдоль решетки, выходят рядами солдаты. Стройные ряды тотчас заворачивают на прямую улицу – туда, к закату. Они идут, идут – но не проходят; они не могут пройти, их слишком много. Каре за каре выступают все новые, огибают угол, наполняют длинную улицу, и не видно уже перерывов между каре – точно широкая, светло-серая змея тянет к заходящему солнцу свои кольца, наливает воздух стонущей песней, все той, опять той же, той же, винтом ввинчивающейся в душу:
Прощайте, родные, Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Невеста моя…Издалека-издалека, от тех первых, что теперь уж едва видны в золотом тумане, – только сверкают над ними какие-то огоньки-точки, зажженные солнцем, – опять несется это –
Прощайте, родные…Улица, зыблясь, поет –
Прощайте, друзья…И плачут близкие, ровные волны –
Прощай, дорогая Невеста моя!Как расскажешь это? Навстречу пологим лучам, золотым острым мечам, катилось звенящее море людское и в них таяло. Там был конец им всем – невидный, – и к нему все новые и новые шли, в закате пропадали:
Прощайте, родные, Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Невеста моя…Летнее позднее солнце точно остановилось на небе. Я ухожу, запираю балкон, не могу больше. Но и сквозь стекла, сквозь стены просачивается песня – значит, еще идут, идут, идут…
Это война. Это необходимость. Люди текут, идут умирать… за родину? Пусть они думают, что за родину. Или пусть ничего не думают. Потому что вот эти, сейчас проходящие, сейчас поющие, пойдут в огонь – за Гришкину привольную и почетную жизнь. И тогда пойдут, когда ничего не знающему, ни аза не понимающему Гришке взбредет в голову приказать наступление…
Я знаю, что преувеличиваю. Но нельзя уберечься от кошмара в густом воздухе войны – двойной; и вторая, война «маленького сумасшедшего домика» со всей Россией, – горше, пожалуй, первой.
15
Враги
Можно сказать, что летом 1916 года уже все общественные русские круги были в эту вторую войну вовлечены. Незаметно, один за другим, вовлекались, – от умеренно левых до неумеренно правых. Между «врагами» не делалось различия. Всякое движение пальцем; всякая, самая робкая, попытка принять участие в германской войне – преследовалась и каралась. Земские, городские союзы? «Послать туда „глаза“ следить… Тотчас же убрать…» Дума? «Не бойся, только скорее распусти Думу. Государственный Совет? он поступает безумно…» «Как бы я хотела отхлестать и выгнать министров. Раздави всех».
Эти «все», которых рекомендовалось «раздавить», отлично угрозу чувствовали. Кошмар Маленького Домика висел тяжело. Кто стоял дальше и политикой не занимался – винили во всем Гришку. И ненавидели его жестоко.
Но, может быть, отсюда и пошла легенда о Гришкиной «силе» – необыкновенной, хотя и злой, – о его «замечательности». Ведь трудно и стыдно признаться, даже себе, что вот пришел ледащий, заурядный мужичонка, сел на спину тьме-тьмущей народу, поехал, и его покорно везут.
Великие князья, родственники царя, – люди, за немногими исключениями, самые дюжинные, выросшие в малокультурной, невежественной среде гвардейской военщины. Привычно праздные, невоспитанные, склонные к кутежам. В зрелые годы иной становился хорошим семьянином, что не мешало ему оставаться таким же бездельником, с таким же узким кругозором.
На распутинский скандал они смотрели прежде всего как на семейный позор. Но чувствовали этот позор весьма сильно, ведь семья-то «царская»! Маленький Домик не замедлил открыть и по ним военные действия. Николай Николаевич пал первой жертвой, а когда пошли уговариванья, увещанья, семейные советы, письма с просьбами спасти «семейную честь», удалить Гришку, – Маленький Домик поспешил открыть военные действия и по другим родственникам. Начались высылки…
16
Последний избранник и последние битвы
Для ускорения работы царица ездит в Ставку и сама. Аня сначала остается. Едет в Евпаторию, потом на родину «Друга», с ним и его поклонницами, к мощам нового «святого», открытого Варнавой.
В Евпатории она познакомилась с караимом Гаханом, которого потом царица называет полупрезрительно ее «предметом». Аня даже представляла его царице, причем караим этот с первого слова такой понес вздор о заговоре английского посланника Бьюкенена на жизнь Распутина, что надо быть Аней и русской императрицей, чтобы слушать и верить.
Скоро «Друг» потребовал, чтобы Аня тоже ездила в Ставку. Едут. Не раз и не два. Аня пишет: «Императрица не сознавала, какой нежеланной гостьей была там… Иностранные офицеры во всеуслышание делали замечания: вот она опять приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита ненавидела ее приезды; это обозначало перемену в правительстве…»
Даже не веришь, что это Аня такую святую правду написала. Приказания Распутина там быстро исполнялись, а он подваливал новые, телеграммами. В одно из пребываний царицы в Ставке было их послано десять, самых длинных.
Но время не терпит, ведь нужен же министр внутренних дел.
Григорий не забыл Хвостова. Он не верит больше никаким «светлым головам». Ему давай такого, «чтоб был попростее». То есть, говоря обыкновенным языком, – с идиотизмом. Наконец находится такой: Протопопов. Не доверяя больше и Ане, Распутин испытывает его сам; главным образом – таская по своим оргиям, даже московским. Ничего, «ладный»…
В сентябре – свиданье царицы с Протопоповым, при Друге, в Маленьком Домике. Мгновенный энергичный нажим, еще один визит в Ставку – и Протопопов министр. И такой «плотный» министр, каким не был ни один до него. Он (и царь) – власть исполнительная, покорная власти законодательной – Маленькому Домику.
Некий серьезный общественный деятель, вполне разумный, на моих глазах начал истерически хохотать, узнав о назначении Протопопова. А когда нам показали стенограмму «чашки чая» – первого свиданья министра с думцами и политиками, – мы все чуть не впали в такую же истерику неудержимого хохота.
– Да это нарочно! Кто это выдумал?
– Не выдумал, а официозная стенограмма…
Протопопова периодами, на 2, на 3 месяца в году помещали в лечебницу; выйдя, он не сразу опоминался, ходил растерянный, рассеянный, то глупо-предупредительный, то наивно-дерзкий. Его идиотизм был хотя и маниакального свойства, но не в той мере, чтобы при неусыпном бдении нельзя было этого министра «направлять».
Царица и Распутин оценили счастливую находку. Об Ане и говорить нечего. Аня хоть и пишет теперь: «Протопопов мне лично казался слабохарактерным», – но он ей, в сущности, – как брат, как равный по своей «простоте» и покорности. В Маленьком Домике он ей сплетничает насчет «врагов»: Родзянки, Гучкова, Трепова… Оба, раскрыв рты, невинно смеются… Но время не ждет, царица серьезна: «Наш Друг и Калинин (так почему-то прозвали они дорогую находку) умоляют тебя закрыть Думу… Я бы не писала, если б не боялась за твою мягкую доброту, готовую сдаться, когда я, Аня и Друг не поддерживают тебя. Дурные ненавидят наше влияние, а оно на благо. Поскорее распусти Думу. Помни о снах нашего Друга. Тебе никого, кроме Протопопова, принимать не нужно… Брусилов – дурак, запрети ему…»
Как будто чувствуя сдвигающиеся стены ненависти (Распутин – ничего не чувствует, покоен с Протопоповым, предается разгулу, бахвальству, ласкам и баловству дам), – царица начинает впадать в напряжение, близкое к безумию.
Она уже почти не пишет о детях, о доме. О родственниках – только с бранью и с требованиями: «Сошли, вышли, прекрати… ведь ты царь!» О мальчике почти не вспоминает: он в Ставке непрерывно, и какие резоны ни представляет ей француз-воспитатель Жальяр, доказывая, что ребенку это вредно физически и морально, – не слышит. Для нее муж и сын уже странно слиты в одном понятии «царя»; около царя «наследник», как бы утверждающий его бытие. Не разбирается, конечно, и сама в этом кошмаре, но твердит: «С тобой Бэби… Ради Бэби, который тебя должен укреплять, будь самодержцем!»
Распутин для нее давно слился с Христом. «Как Христа, его гонят книжники и фарисеи…» Видятся у Ани почти ежедневно. Днем министры, главным образом Протопопов, вечером – Друг и его (Божьи!) указанья.
Кроме военных дел (они разрабатываются очень подробно) – есть важный внутренний вопрос – продовольственный. Друг настаивает – со Ставкой сноситься некогда – и царица берет решение на себя:
«Прости мне, что я это сделала; но Друг сказал, что это безусловно необходимо». И она посылает в Ставку на подпись срочную бумагу, передающую продовольствие в руки Протопопова, – «прежде, чем соберется Дума. Мне пришлось взять этот шаг на себя, так как Гр. говорит, что тогда Протопопов покончит со всеми Союзами и таким образом спасет Россию».
Дума, союзы… и далее открытое признание: «Мы с ними со всеми в войне и должны быть тверды».
Аня стерлась: она лишь «служба связи» между царицей и Другом. Каждое утро летает к нему от царицы – с портфелем. Но и она чувствует, что атмосфера сгущается, лепечет что-то о заговоре в Ставке, о том, что царицу хотят «заключить в монастырь…». Распутин спокоен. Ему важно одно: чтобы остался Протопопов: «тогда все будет хорошо».
А «подлые рабы-враги», Дума и все остальные, вплоть до некоторых еще не успевших полететь министров, возроптали против бедного «Калинина». До такой дошли «наглости», что стали требовать удаления министра с идиотизмом, министра, у которого оказалось «все в руках».
И письма царицы делаются все бешенее. В них теперь только одно: «Держи, держи Протопопова. Не меняй, не меняй Протопопова». Без доказательств, уговоров, просьб: голое повторенье, по пяти – семи раз в день, одних и тех же слов: молоток по черепу.
Тринадцатого ноября, не стерпев, она опять бросилась, с Аней, в Ставку. Туда, ежедневно, телеграммы Распутина. Темно, то угрозно, то ласкательно, с нарочитым косноязычием, и все о том же: держать «Калинина». «Моя порука этот самый Калинин, а вы его маленько кашей покормите. Дай власть одному, чтобы работал разумом Новый».
Калинина держат, но «рабы» продолжают свои протесты, а царица свой бешеный нажим: «Не меняй, не меняй… Хвати кулаком по столу, не уступай. Царь правит, а не Дума!»
Лишь после краткого визита царя в декабре – царица отдыхает: «Не напрасно мы страдали. Ты выдержал борьбу за Протопопова. Будь тверд, не сдавайся. Я страдаю за тебя, как за нежного ребенка (мальчик опять с ним в Ставке). Ты нуждаешься в руководстве, но Посланец Божий говорит тебе, что надо делать».
Насчет Протопопова царица успокоилась, но бешенство ее тем сильнее обращено на «врагов».
«Наш Друг просил же тебя закрыть Думу, Аня и я тебе об этом писали. Будь Императором. Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом… Львова – в Сибирь. Гучкова, Милюкова, Поливанова – тоже в Сибирь…»
Накануне рокового для нее дня она еще пишет: «Почему Милюков на свободе? Почему у нас рамольная тряпка в должности министра Двора?.. Не мешкай, милый, поверь советам нашего Друга и Протопопова…»
Эти советы – репрессии. Что ж, война так война!
Но вот короткое, взволнованное последнее письмо: «Я не верю, я не могу верить, что Он убит… Приезжай поскорее…»
Газеты писали: «Одно лицо было у другого лица еще с несколькими лицами. Первое лицо после этого исчезло; Одно из других лиц заявило, что первое лицо у второго лица не было, хотя известно, что второе лицо приехало за первым лицом поздно ночью» и т. д.
Распутина убили во время попойки. Убили члены царской семьи и крайне правый думский депутат – Пуришкевич.
Это убийство было отнюдь не началом войны, но первым актом обороны в войне, которую объявило русское правительство, – фактически правительство Маленького Домика – всем своим подданным. Войне беспримерной: в ней погибли все боровшиеся, с той и с другой стороны. И почти все не боровшиеся – тоже.
На опустелое поле битвы пришли третьи и завладели им.
17
«Прощай, дорогая…»
Июньский вечер; я на том же балконе. Направо, за решеткой, кудрявятся деревья Таврического сада. Чуть виден широкий купол дворца, но это уже не Дума: это «дворец Урицкого». А прямая, как стрела, улица – не улица: зеленая тропа, заросшая травой. Но то же солнце пологими лучами осверкало широкую тропу, – и так же, как три года тому назад (только три года!), потерялся ее конец в золотом тумане.
Босые, полуголые ребятишки роются меж плитами развороченного тротуара. Напротив – грязный, с осыпающейся штукатуркой дом. Окна открыты. На подоконниках лежат – солдаты.
А может быть, и не солдаты. Если те, что тогда, давно, выливались сомкнуто и стройно из-за угла, пели «прощайте, родные, прощайте, друзья» и пропадали в закатном солнце, если они – солдаты, эти – не солдаты. Просто деревенские парни, молодые мужики без дела, неизвестно зачем надевшие трепаные защитные куртки, расстегнутые или без пуговиц.
Навалившись животами на подоконники, мужики плюют на улицу. За их спинами, в комнате свистит и хрипит граммофон. Что-то веселенькое, романсик теноровый, искаженный пластинкой.
Войны больше нет, – войны «с Вильгельмом». Может быть, есть где-то, далеко, в стороне, где солнце закатывается, но чего ж туда смотреть? Солдаты и не смотрят, смотрят вниз, на тротуар, куда плюют. У них с Вильгельмом теперь мир, а если «похабный», по их определению, то ведь они своей жизни в этом мире так же не понимают, как не понимали смерти в войне.
Улица – солнечная пустыня; даже ребятишек больше нет. Прохожий виден далеко-далеко, за полверсты.
Вот как раз кто-то идет. Удивительно! Идет в нашу сторону.
Очень скоро узнаю, кто идет. По знакомой, припадающей походке. Идет хромая Аня. Вот она совсем близко, с палкой своей, на которую налегает, но движется она бодро и живо. В скромной блузке, старенькая юбка черная, под мышкой пакет – провизию какую-то добыла опять.
Увидала нас, остановилась под балконом, разговариваем.
Она идет в наш дом. Поднялась на минуточку в квартиру знакомой семьи, потом – к нам.
Сидит тяжеловато, но прямо – в кресле, в длинной моей комнате, смотрит круглыми глазами, похожими на хрустальные или стеклянные, и рассказывает.
Ее опять возили в Че-Ка. По доносу сестры милосердия, наверное, которая их грабила, ковер даже с полу стащила… Ну, опять допрашивали, целую ночь, как будто она не рассказала всего, что знает! Были любезны, не мучили, скоро отпустили.
– Вам бы уехать, Анна Александровна, – говорю я тихонько. – Если только возможно…
Аня, по сцеплению идей, перескочила на «затворника», – он ей не велит еще бежать, велит оставаться. Затворник в Александро-Невской лавре. Он сидел там в затворе 25 лет, только в самое последнее время показался. Аня сподобилась видеть его, беседовать с ним. Как он говорит! Этого описать нельзя. Истинный посланец Божий. Аня ходит теперь к нему в Лавру постоянно. И вот он не велит ей уезжать. Велит, чтобы оставалась…
Совсем особенно произносит она это: «велит, не велит». Как воздух для дыханья, ей необходим кто-то «велящий» или «не велящий». Я не думаю, чтоб затворник смог ей заменить Распутина. Это лишь первые инстинктивные и неизбежные поиски. Их будет очень много…
Аня, конечно, не забыла Распутина. Нет, она по существу верная, по природе верная; она не предаст Распутина никогда, хоть жги, хоть режь ее. Но Распутина нет. А она живет. Ей нужна постоянная «Божья», как она думает, помощь, чтобы жить. И помощь осязательная, видимая, наглядно-чудесная. Ведь Аня – материалистка, совершенно как царица; только царица активная материалистка, Аня же в каждой капельке крови своей пассивна. Чтобы действительно жить, ей необходимо потерять себя, носить в себе чужую волю, радостно слушать чужое приказание. Бог ей, в конце концов, бесполезен. Но ей совершенно необходим человек, который позволил бы верить в себя, как в Бога.
Смотрю в Анины хрустальные глаза. Слушаю детский ее, незабавный, лепет. Жалко? Не знаю. Странно, что вот кончилась та, первая сказка, другая началась, еще, пожалуй, страшнее, – но другая, не Анина: Аня – живой тенью перешла в нее, из одного мира в другой, словно из одной пустоты в другую, – ничего не знающая, неизменная, неуязвимая.
И кажется, так хорошо. Есть вина, страшная вина – но кто в ответе? Немой царь, призрак, несуществующий, как сонное марево? Убитая, на куски разрезанная, в лесу сожженная царица? Обалделый от удачи, похотливый и пьяный сибирский мужик? Или уж не эта ли стеклоглазая, круглолицая русская баба-фрейлина, хромая Аня?
Все равно. Все равно. Нельзя сделать, чтобы не было бывшего. Не для осуждения, не для мести надо вспоминать его, понимать его, держать в уме. Но в бывшем – теперешнее, а главное – будущее. Сказка, которую еще будут рассказывать…
Те же окна, тот же свет в них золотой, улица та же:
Прощайте, родные, Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Невеста моя…Аня болтает, граммофон журчит напротив. Я не слышу. У меня кошмар будущего. И мне кажется – идут, идут за окнами невидимые полки, текут в закат и тают –
Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Россия моя!1923
Задумчивый странник О Розанове*
«Странник, только странник, везде только странник…»
«Иду. Иду. Иду… Даже «несет», а не иду. Что-то «стихийное, а не человеческое».
«Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость».
(Уединенное)Часть первая
1
Василий Васильевич Розанов
Что еще писать о Розанове?
Он сам о себе написал.
И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что…
Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем», – что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал – «выговаривал» – все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.
Писанье у писателя – сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки приблизительно. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове – всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо – но то самое, оно; само движение души.
«Всякое движение души у меня сопровождается выговариваньем», – отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это – инстинкт».
Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело; и, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через „ѣ“ или через „е“ это слово пишется».
Отсюда упреки в цинизме; справедливые – и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря:
«Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».
Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то около себя, на ему самому неведомых глубинах.
«Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное – моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.
Я каменный.
А камень – чудовище…
…В задумчивости я ничего не мог делать. И с другой стороны все мог делать („Грех“).
Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».
Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое»; он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он – явление, да, но все же человеческое явление.
Объяснять это далее – бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уж тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».
Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем – человеке, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе – ведь равных по точности слов не найдешь.
Больше я ничего не могу сделать. Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных; и даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».
2
Весной
Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897? или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.
Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).
– Да… Вот весна… Весна! – сказал Философов (он был с нами у Розанова, и еще кто-то был).
Мы все думали молча о весне и потому не удивились.
– Весна. «Клейкие листочки»… А что же вы скажете о Розанове?
И заговорили о Розанове.
Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется в связи с этим вопросом (о браке и деторождении) еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).
У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала интимность. Делала каким-то… шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).
В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8–9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами косилась и дичилась в уголку.
Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.
Ведь вот и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал!), – а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.
Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), – но, думается, тоже никуда.
3
Всегда наедине
Кажется, с 1900 года, если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренно «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен – и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира искусства», быстро тогда расцветшего.
И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов – фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый – преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.
Как они дружили – интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».
Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, – не сердился, не отвечал.
С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова в редакции «Мира искусства» не так ладно.
Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один или с кем-нибудь «наедине», то с тем – то с другим, и не удаляясь притом с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или в каждый момент видел кого-нибудь одного и к нему обращался.
Ни малейшей угрюмости; веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки и вид – самый общительный.
В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.
Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!) – Сологуба я там не помню.
Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.
– Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас – и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!
Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:
– А я нахожу, что вы грубы.
Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, – груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб.
Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная: и прелестная, и противная.
4
Наименее рожденный
Вот сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи на Литейном, – трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе – меленько-меленько, непонятно, – если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.
Это он забежал с каким-то спешным делом, по Рел[игиозно-]философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить или к докладу заседания что-то прибавить… все равно.
Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время – набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам; сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)
Давно присмотрелись мы к его лицу и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое… А глаза вдруг такие живые, и плутовские – и задумчивые, что становится весело.
Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:
– Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учителишка и учителишка.
Потом он это и написал (в «Уединенном»):
«Неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом…»
«Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса… торчат кверху… какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: «Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал». «…В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего…»
Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов „так отвратительно“», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».
«Да просто я не имею формы… Какой-то „комок“ или „мочалка“. Но это оттого, что я весь – дух; субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого». «И отлично…» Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). «И отлично! Совсем отлично!». На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе – бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок… Хорошо! Совсем хорошо!..»
С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он – как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шепотный, интимный. И открытость полная – всем, т. е. никому.
Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении; никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыханье.
Розанов уже не в контроле; он на жалованьи в редакции «Нового времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики; Суворин издает его книги. Старик Суворин, этот крупный русский нигилист, или, вернее, «je m'en fісhе'ист»[9], очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову – он протянул руку помощи Розанову, не заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места – и написать прекрасно. Ну, почеркают «розановщину», и живет.
Мы все держались в стороне от «Нового времени»; но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.
Так называемые розановские «вопросы» – то, что в нем главным образом жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, – было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.
Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него – скажу грубо – одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским; вопрос о поле – тоже. Последний «вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или в загоне; как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?
Пожалуй, не круги – а «кружки». Ведь и «эстетизм» и другие петербургские едва намечавшиеся течения – были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».
5
Духовные отцы
В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет – благодаря его отношению к христианству и Христу.
Однако мысль «Религиозно-философских собраний» зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться; чистая эстетика уже не удовлетворяла; давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить – стены раздвинуть.
В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным – тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский у Николаевского вокзала разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем: terra incognita. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.
Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р[елигиозно]-ф[илософских] собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.
К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеньких. Знакомства эти пришлись кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.
Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным; он не понимал, органически, никакого «секрета» и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадется. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)
Поэтому ему просто говорили: вот теперь мы идем к такому-то или туда-то просить о том-то; брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.
Наконец собрания, получастные, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель – еп. Сергий Финляндский, тогда ректор Духовной академии; вице-председатель – арх. Сергий, ректор семинарии, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословения митрополита Антония и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был – «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен и в тщеславии своем, желании попасть «в хорошее общество» – прекомичен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского обозрения» в настоящий «журнал».
Каюсь, мы нередко потешались над ним: посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова; невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.
Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.
Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный и церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.
А раз было следующее.
Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог сам прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.
Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2–3, молодого приват-доцента Духовной академии – А. В. Карташева. Карташев тогда впервые появился в Петербурге – из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, – такие они были иные по быту, по культуре; но изумительнее всего оказался их упрямый… рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!
Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, по дежурству, у дверей залы Собраний, – принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы около полутемного столика тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.
– Верю ли? Если б верить, как в детстве… Но нет… рацио… рацио… – шептал он, приседая.
Так вот, Карташев, на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные), согласился. Прочел. На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого сравнительно мягкого и «либерального» иерарха самый грубый выговор. Хотел было оправдаться – я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:
– Чтобы – впредь – этого – не было.
И Карташев ушел, если не ошпаренный – то лишь потому, что привык; держали их там в строгости и в повиновении удивительном.
Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?
6
Усердный еретик
«Православие» видело «еретичество» Розанова и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело.
Что ему, что этот «безбожник» говорит:
«…Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я… слишком мог бы… Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое „теплое“ для меня. С Богом никогда не скучно и не холодно.
В конце концов Бог – моя жизнь. Я только живу для Него, через Него; вне Бога – меня нет».
И еще:
«Выньте из самого существа мира молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, – чтобы я этого не мог; и я с выпученными глазами и с ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить… Без молитвы – безумие и ужас.
Но это все понимается, когда плачется… А кто не плачет, не плакал – как ему это объяснить?»
Или еще:
«Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня – я теряюсь?»
Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог понять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали; например, исключительной глубины и прелести человек – священник Устьинский (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург) да, может быть, Тернавцев, тогда молодой и независимый; итальянская кровь давала ему большую силу жизни: весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливым.
Ну, а другие «церковники» – приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением. За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»… да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец своих.
7
Собрания
В первый же год Р[елигиозно]-ф[илософские] собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было не легко, а «гости» вовсе не допускались.
Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «соблазна»), – никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи – вплоть до мохнатого льва Иннокентия, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец) и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе – Антонина (теперешнего «живца»); тут же и эстеты, весь «Мир искусства» до Дягилева; студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, держащиеся с опаской, но с любопытством.
Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.
Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.
Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его – Ефим Е[горов].
– Ефим – пес, – говорил на своем образном языке, с хохотом, «кудрявый Валентин». – Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!
Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собраний сторожил, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдружился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам – где Ефим непременно заказывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скоромное; вместе забегали к нам, если Антонин «опозднялся» в городе, то у Ефима и заночевывал.
С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый путь».
Но о журнале потом; здесь отмечаю лишь это любопытное приятельство «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего секретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» – вряд ли заветы 60-х годов были в нем особенно крепки. Он через несколько лет поступил, по рекомендации Розанова, в «Новое время», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оставался заведующим иностранным отделом.
Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом»: ведь в Англию во время войны ездила в виде «представителей русской печати» такая неподобная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Нового времени» и купленный ныне «для сраму» большевиками – Ал. Толстой. Жаль, что Василевского He-Букву не прихватили. Была бы полнота «представительства».
8
Тяжелая старуха
Летом 1902 года мы ездили за Волгу, в г. Семенов; оттуда, с двумя нижегородскими священниками, – на раскольничьи собеседования за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-Град»).
На возвратном пути мы зашли в Нижнем с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на озере со староверами.
Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадья не убегала от нас и не пряталась, высылая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостиной осталась занимать нас молоденькая поповна.
О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.
Показывала и объясняла: вот это тетенька; вот это о. Никодим, дядя; вот это знакомый наш, из Костромы!..
Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по-старинному прямо, в очень пышном платье, сборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике. Губы сжаты, злыми глазами смотрит на вас.
– А это кто? – спрашиваю.
– А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.
– Какая Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?
– Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.
– Покажите мне.
Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными перилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.
– Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.
– А фотография ее… давно снята? Она такая старая?
– Да, она уж совсем старая. Ну ведь и он, кажется, не молодой.
Хочу возразить, что Розанов «против нее – робенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:
– Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить и с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.
Мы вернулись в гостиную; и долго еще, охотно, рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.
Никогда Розанов не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других; впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко подолгу рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время – ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.
Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как он ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочетал, того человек не разлучает».
– Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! – возмущался Тернавцев. – Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она было думала тут на себе его женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Василь евичу на горе.
Розанов мне шептал:
– Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану – и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так и осталось – умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так и помнится.
– Да почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?
– Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности… Ведь я был мальчишка…
Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда раз он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину.
Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.
Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному учителишке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умываться – приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старея, она делалась все похотливее; и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.
Кое с кем дело удавалось, а с одним наиболее Розанову близким, – сорвалось. Авансы были отвергнуты.
Совершенно неожиданно студента этого арестовали.
Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свиданья. Шел, радовался – и что же? Друг не подал руки; не стал и разговаривать.
Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга.
Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности; но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только при упоминании о ней сказал:
– Да, я так плакал…
– И все-таки не бросили ее? Как же вы наконец разошлись?
– Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться – я уж ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала.
И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения – есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене», как к чему-то раз навсегда святому и непотрясаемому. «Жена» – этим все сказано, а уж какая – второй вопрос.
И ни малейшей в этом «добродетели»; таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.
9
Пустота вокруг
Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Собрания, – стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в Лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергия Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония.
У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там раз даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви». Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем, без всякого успеха.
Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.
У Сергия было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользким и светлым – хоть смотрись в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черненькие послушники.
В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, а варенье засахаренное.
Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте»… Он видел всякую мелочь.
Раз мы вышли, уже часов в 11, поздно, из Лавры и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель; необозримые снежные пустыри, окружающие Лавру, скользки, точно лаковые, а ухабы по чуть видной дороге – как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянется белая высокая ограда – не знаем, куда повернуть.
Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит – о своем. Он неиссякаем «наедине»: с кем наедине – ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их; даже вдвоем – он наедине с собою.
«…Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении пустоты около себя – пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде, – что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне „современничают“ другие люди…»
В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что оба одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил.
Я смеюсь:
– Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?
– Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим не в одну и ту же минуту, а в разные. Вы скользите, когда я стою, а когда я – вы не скользите, и я держусь за вас…
– Ну, вот видите. А если б мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.
– Да, да, удивительно… В разные минуты…
Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, мы бы полетели вниз – и в одну и ту же минуту.
10
О любви
Всю жизнь Розанова мучили евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним – отлипал от них, притягивался – отталкивался.
Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.
Не забудем: Розанов жил только Богом и – миром, плотью его, полом.
«Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием».
И тотчас же далее:
«Связь пола с Богом – большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом…»
Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение – да поймут меня те, кто могут, – еще усугублялось острым и таинственном ощущением их чуждости. Розанов был не только архиариец, но архирусский, весь, сплошь, до «русопятства», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России). В нем жилки не было нерусской; без выбора понес он все, хорошее и худое – русское. И в отношение его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».
Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».
Влюбленный однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:
– Вот рука… а кровь у нее там какая? Вдруг – голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших…
Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановскои «несерьезностью», сплетением пустяков с важным, и его… как бы «грязцой». Ну конечно! И уж если на то пошло, разве выносимо вот это само: «связь Бога с полом?» Разве не «грязь» и «пол»-то весь? В крайнем случае – «неприличие», и позволительно говорить об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Розановские «мелочи» казались «игривостью» и нечистоплотностью.
Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религиозный обычай, для внешних неважный и непривлекательный, – его умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евреев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол – грязь» – он главным образом и боролся.
Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос? Розанов и к Нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было диаметрально противоположно. Христос – Он свой, родной, близкий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый, его чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех людей, и это что-то – весь мир, его светлость и теплость. Выгнал из дома в стужу; «будь совершен, иди и не оглядывайся, отрекись от отца, матери, жены и детей…».
Розанов органически боялся холода, любил теплое, греющее.
«С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» – и вдруг – иди в холод, оторвись, отрекись, прокляни… Откуда это? Он не уставал бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них, не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе. Постоянно нес упрек Ему в душе – упрек и страх перед собственной дерзостью.
У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:
– Ну, что там, ну ведь не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек… А вот что Он… Господи, прости! – (робко перекрестился, поспешным крестиком), что Он, может быть, Денница… Спавший с неба, как молния…
Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за нападки на церковь, нежели за восстания против первопричины – Христа. Почему? Это просто. В христоборчестве его было столько личной любви ко Христу, что она властно побеждала именно страх и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем другое.
Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «каялся», что не был достаточно нежен, справедлив – к церкви, к духовенству; не покорялся смиренно, возражал, протестовал… Вот Бог и наказывает… и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду! В связи с этим в «Уединенном»:
«Иду в Церковь! Иду! Иду!»
И потом еще:
«Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным».
Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:
«Конечно, я умру все-таки с Церковью…конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее…»
Однако:
«Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них».
Это борьба с «церковью». А вот «Христоборчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его – книга «Темный лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, придя, «охолодил, заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница, – повторяет он прикрыто, т. е. Дух Темный, а не Светлый.
И что же, кается, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного лика» читались при нем на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался – Библией, Ветхим Заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливаясь с ним.
С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался.
Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству; доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством; что евреи и понятия не имели о нашем чувстве влюбленности – в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь Песней», и любовь, и огонь еврейства.
Принялся упрекать поэта в измене еврейству; тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов – больше еврей, чем он сам.
Этим спор окончился – Розанов внезапно замолчал. Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «расстаюсь с ними вечным расставанием». Но собеседник – еврей, а еврей не может быть атеистом. Нет, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом все равно «Бог – насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:
«Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница».
И вдруг, и вдруг… словно чья-то тень – тень Распятого? – проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее – и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг – «болит душа! болит душа! болит душа!», и – потерявшись – он становится резок, почти груб… к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.
«…Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темн. лик». Тут я сказал себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).
Они думали, что я не вижу: но я, хоть и «сплю вечно», а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:
– Ну, а все-таки – он лжец.
Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: «Н-н-н-да… Я прочла „Темный лик“. И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.
Таких физиологических (зрительно-осязательных) вещиц надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то ненависть между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом – становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: „распни Его“.
Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются».
Любовь к Христу, личная, верная, страстная – была куском розановской души, даже не души – всего существа его. Но была тайной для зорких глаз тайновидца: «смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая; тогда он тревожился; бросался в сторону евреев и своего к ним отношения; отрекался, путался, сердился… Но жизнь повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться, подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновенья прорывов.
«…Тогда все объясняется… Тогда Осанна… Но так ли это? Впервые забрезжило в уме…»
Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь – по-настоящему; и забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?
11
«В своем углу»
Осенью 1902 года мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый путь».
Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали и даже довели без долгов до 1906 года. Он точно сам начался – естественно вышел из Р[елигиозно-]ф[илософских] собраний.
Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженного Перцова да очень малой, внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами – обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился.)
Перцову удалось получить разрешение на журнал благодаря той же приманке: «сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его группа участников Собраний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собраний.
Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке; сначала шла к обыкновенному цензору, а затем в Лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на существование, то религия без разбирательства была осуждена; и нас записали в реакционеры.
Но среди всех огорчений с деньгами да с двумя официальными цензурами нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.
Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из неимущих. Литературная молодежь – все мои приятели – помогала и работала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты (Блок, Семенов, Пяст), кроме стихов, давали, когда нужно, рецензии, заметки, отчеты. Несколько неопытных «выходцев из-за железного занавеса» – приват-доценты Дух[овной] академии Карташев, Успенский – тоже приучались к журнальной работе, но эти – в глубокой тайне, без всяких подписей, ибо, если б узнало Лаврское начальство, им бы не поздоровилось.
И нас, старых литераторов, было изрядное количество, так что в материале, совсем не плохом, недостатка не чувствовалось. Вячеслав Иванов печатал там «Религию страдающего Бога». Мережковский – свой роман «Петр и Алексей». Брюсов – ежемесячные статьи об иностранной литературе и даже… об иностранной политике.
О Розанове что и говорить. Он был несказанно рад журналу. Прежде всего – упросил, чтобы ему дали постоянное место «на что захочет», и чтоб названо оно было «В своем углу». Кроме того, он из книжки в книжку стал печатать свою длинную (и замечательную) работу «О юдаизме».
Вечно торчал в редакции, отовсюду туда «забегал». В редакции жил секретарь – «пес» Ефим Е[горов] (он же секретарь Собраний). Не лишенный юмора и весьма, при случае, энергичный, он и тут, как секретарь, был очень ценен. Возил в Лавру, к отцам-цензорам весь наш материал (не один «духовный», «светский» тоже). И если отцы тревожились, подозревая скрытый «соблазн» в каком-нибудь стихотворении Сологуба, В. Иванова, Блока, – нес им самую беззастенчивую, но полезную чепуху. Отстаивал порою статьи довольно смелые, хотя с великими жертвами: у В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество»; а так как статья была о Вл. Соловьеве – то можно себе представить, что получилось.
Посетителей (неизвестных) принимал тоже Ефим. И препотешно умел рассказывать об этих приемах. Он был, что называется, «pince sans rire»[10]. Никто лучше него не мог бы справиться с «авторами». Его важность, отрывистые, безапелляционные реплики хорошо действовали на слишком назойливых. Бывали и застенчивые.
– А… могу я спросить, сколько вы платите? – говорил какой-нибудь явно безнадежный обладатель явно безнадежной толстой рукописи.
Ефим не задумывался:
– А мы очень много платим… если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.
Собственно говоря, вся редакционная работа велась Перцовым и мною. Молодежь помогала, но положиться ни на кого из них мы не смели. А Розанов не только не помогал, но если б вздумал, мы бы в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считанья с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Розанов ни на что подобное не был способен. Он, действительно, «всегда спал»; во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в круге его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.
Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.
И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал – главу «Юдаизма» и «Угол», бесконечные простыни бумажные, меленько-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое время» и с набором должны экономничать. Без того приходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной, – второй набор; как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления… И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе – Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно, – а по очереди.
Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.
Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем… жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли для косвенного его поучения:
– Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдержит?
Скажу, впрочем, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.
Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы ни звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.
Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики…
Чаще всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым.
Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.
– Какой вздор! – говорю я. – Она (стенографистка) недослышала. Или не поняла… Ведь тут, помните, ведь тут…
– Ну да! – кричит неистовый Валентин. – Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть»… Он так и осел… Вставляйте сюда «голос из публики»!
Валентин Тернавцев был не нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «церковника», и мы оба увлекались, стараясь превратить казенную запись в образную картину Собрания.
– Здесь еще «голос из публики»! – орал Валентин. – Обязательно голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее, – секты исследует, она около меня сидела. Пишите тут – из публики!
Иногда мы посылали розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок записи. А он возвращал – совершенно измененную вещь, почти новую статью. Что было делать? Звали его, бранились, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.
Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.
Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму; а Ефим разленивался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.
К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время – к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.
12
Будь верен в любви…
На ревнивых жен Розанову везло.
Ну, та, первая, подруга Достоевского, – вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая – тоже ревновала его ужасно.
Ревновать Розанова – безрассудство. Но чтобы понять это – надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.
Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него – его жена, и она единственная, но эти другие – тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные особенно радовали. Интересовали и девушки – будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные – и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил.
(Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)
Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще к окружающим. Если с интересом порою – то уже без специфического оттенка в интимности.
Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть – нет. Неинтересно, ибо это ни малейшего значения не имеет, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает – ощущает – свою органическую верность.
«Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность.
Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять».
В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно – можно, о Розанове – непредставимо! И если все-таки вообразить – делается смешно, как если бы собака замурлыкала.
Собака не замурлычет. Розанов не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен – «ноуменально».
Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.
Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страданья. Единственно, что он считал и звал «грехом», – это причинять страданье.
«Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы – это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть».
Что же ему делать, чтобы не видать страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным; страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает – никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать? И он при ней изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глупым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому; в жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения понемногу начал скрывать от жены. На всякий случай, – а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.
В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял – вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».
Он действительно заботился только о ее спокойствии; о себе – как бы по неловкости не «согрешить», т. е. недостаточно уверенно соврать. Ведь –
«…я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения „встать“ и „сесть“. Просто не знаю, как. Никакого сознания горизонтов…»
Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату; не услышат и будут правы: у них свои.
«Даже и представить себе не могу такого „беззаконника“, как я сам. Идея „закона“ как „долга“ никогда даже на ум мне не приходила.
Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. „Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснять слабых. И только дурак ему повинуется“. Так, приблизительно…
Только всегда была у меня Жалость. И была благодарность. Но это как „аппетит“ мой; мой вкус.
Удивительно, как я уделывался с ложью. Она меня никогда не мучила… Так меня устроил Бог».
«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное – бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все наши понятия. Легкомыслие? –
«Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение».
Дайте же ему «невеститься». Тем более что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?
Часть вторая
1
Душа озябла
Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р[елигиозно]-ф[илософские] собрания.
«Отцы» уж давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене – одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил – о ужас! – после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и, вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)
При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.
Вскоре подоспела японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.
«Новый путь» продолжался – очень трудно: без главного подспорья своего – отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.
Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов понемногу начал отходить тоже.
Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение – не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.
Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир; равноценность в религии духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал к полу и личности; другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.
Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в этой области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать, и отвращался.
«Общественность», кричат везде, «побуждение общественного интереса!»…
«…Когда я встречаю человека с „общественным интересом“, то не то чтобы скучаю, не то чтобы враждую с ним: но просто умираю около него».
«Весь смокнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души.
Умер».
И далее:
«Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков…
– Ну? Ну?.. Хх…
– Это – что частная жизнь выше всего.
– Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!
– Да, да! Никто этого не говорил; я – первый… Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!..».
И «воля к мечте»… И «чудовищная» задумчивость…
«– Что ты все думаешь о себе? – спрашивает жена. – Ты бы подумал о людях.
– Не хочется…»
Не хочется – интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится – и ускользает, убегает.
Перед революционными волнениями он уже льнет больше к литературно-эстето-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там водят «хороводы» и поют вакхические песни в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины, и каплю ее крови опускали в бокал с вином.
Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены, – тайком.
В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его – не помню, продолжались ли; кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.
Мы виделись, кажется… Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно, – что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой…
Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит, – со своего боку. Полюбил «митинги».
– Что вы там слушаете, Василий Васильевич?
– Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть – курсистки. Глаза так и горят. И много прехорошеньких.
В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло» – такую же… даже не подберу выражения – осязательную, что ли, как все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осязательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось» – брошюра была запрещена.
Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову, Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906 мы собирались надолго за границу.
Розанов этой последней зимой бывал у нас иногда – не часто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).
С трагически скошенными глазами, сдвинув брови, – ко мне:
– Послушайте, послушайте. Ведь Розанов – это пло! П-л-о!
– Что такое? Какое еще «пло»?
Оказывается, это он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть) Пло. И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» – то можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов – П-Л-О.
Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боится» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.
Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал… долго. И вдруг, чуть не через год, – письмо за письмом, в Париж.
Что такое?
Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные – содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж конечно компрометантных и, конечно, блестящих – ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!).
В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма – было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.
Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осязательное» ощущение – смерти.
Не то чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило «но – не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения. (Да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет.)
«Я говорил о браке, браке, браке… а ко мне все шла смерть, смерть, смерть».
И еще:
«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь…»
Наконец:
«Смерти я совершенно не могу перенести…» «…Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было».
«Самое обыкновенное, самое „всегда“: и этого я не видел».
«Конечно, я ее видел: но значит я не смотрел… Не значит ли это, что и не любил?» «Вот „дурной человек во мне“, дурной и страшный. В этот момент как я ненавижу себя, „как враждебен себе“».
У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслью». Каждая в нем – непременно и пронзительное физическое ощущение. К «рассуждениям» он поэтому не способен, что и сам знает:
«Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!»
Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость, – греющим, светящим огнем).
«Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно!»
И когда он говорит:
«Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души» – это не метафора, не образ, – где его «душа», где тело? – но опять физическое, телесное ощущение холода, – ощущение смерти.
Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.
Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Вряд ли до больной женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории; а если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.
А все же в то время очень мне было Розанова жалко.
2
В чужом монастыре
Я не пишу дифирамба Розанову. Не говоря о том, что – «Никакой человек не достоин похвалы; всякий человек достоин только жалости» – есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова как редчайшее явление, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, что оно, такое, как есть, может дать нам или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.
«Иду! Иду! Иду! Иду!..
И где кончается мой путь – не знаю.
И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не человеческое. Скорее „несет“, а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».
Где уж тут «человеческое»!
Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них, – и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.
Может быть, и нельзя иначе, – нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстух и серые брюки, имел детей, дар слова… и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил среди нас, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество – монастырь. Для Розанова – чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел… со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».
«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», – говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом времени» одно, – в «Русском слове», под прозрачным и не скрывающимся псевдонимом, – другое.
Обеими руками он пишет искренно (как всегда), от всей махровой души своей.
Он прав.
Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской мысли» рядом параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве».
Однако я забегаю вперед.
Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интимничающим, полушепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.
Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было вместе делать, а тут почувствовалось, что и нечего делать.
В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать», – во всяком случае, тянулись к активности.
О Розанове ходило тогда много слухов, вернее – сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.
Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).
Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил – остался, разговорился. Так в крылатке и бегал нервно по комнате, блестя очками.
Разговор был, конечно, о религии и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:
– Вы ведь «апокалиптические» христиане… А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю… Я даже четвертое евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте, откажитесь от синоптиков – будем вместе…
Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, – и на них тотчас обратилось все его внимание.
– Вот бы детям… Ах, Боже мой… Вот бы детям свезти…
– Да возьмите, Василий Васильевич, выберите, какого лучше, и тащите с собой на дачу.
– Ах, Господи… Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы…
Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где будто бы Василия Васильевича… отвращают от православия.
– Скажите, что на улице нашли, – продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.
– Не поверят… Нет, не смею… Так и ушел, не взял.
3
Какие «да»! Какие «нет»!
Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р[елигиозно]-ф[илософских] собраний, целое Рел[иги-озно-]фил[ософское] общество, легализированное и многолюдное.
Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель – Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) – покинуть Духовную академию. Он решился наконец (тем более что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.
Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира»; но понемногу он приучался к «светской» свободе.
Р[елигиозно]-ф[илософское] общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве – и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».
Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в Совет общества и естественно внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.
Розанов в Совете не состоял. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов – или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени – острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном поле, а о религиозной общественности.
Годы мелькали – последние, предвоенные. О них можно бы много рассказать, но я пишу не о них – о Розанове.
Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими… а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («2 короба»).
Именно слышали его в этих трех… книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их – надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом – надо быть в полноте «Розановым».
Для знавших его, как мы знали, – ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил, не раз, и та же интимность до… до полного душевного раздевания. Был в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая; с евреями, его притягивающими и отталкивающими; и даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» – ощущением смерти, холода.
Только все «да – нет» чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались; он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница…» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.
Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях; дойти до глубины страданий; «выговорить» их в предсмертных тетрадях своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевской Лавре – умереть на руках самого, кажется, умного и жестокого священника – П. Флоренского)?
4
Мне все можно
Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом пути»). Потом встречали в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония. Но действительно узнали и поняли через сестру его, Ольгу. Она любила его, ездила к нему в Лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу живала у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду.
Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинило бы это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, сильная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.
Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая…»
Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Ф[лоренского], начинает выступать против евреев – в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое время» – радостно хватались грязной, погромной газеткой.
Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев, а Ф[лоренский], человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови – жертва.
А Ф[лоренский] сказал тогда сестре: если б я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского.
В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция – относились уже довольно враждебно. Повторяю: какая «совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их неписаных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например – напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.
– Нельзя? – говорит Розанов. – Мне – можно. «На мне и грязь хороша, потому что я – я».
– А вы все – «к черту!..».
Он прав, что ему – можно. Но «все», – люди, посылаемые к черту, – правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».
Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент – делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было – общественно – защищаться.
Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религ[иозно-] философского общества.
Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его как явление исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда лично не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.
Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова; в данном случае – за необходимость исключения его из членов Общества.
Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком «человек»; и предельная безответственность его как человека мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, – и как я о них теперь жалею!
5
Мелькнули дни…
После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй – Розанов совсем скрывается с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом времени» самые непозволительные ругательные статейки против «интеллигенции», приходил на каждое Р[елигиозно]-ф[илософское] собрание, чуть не до последнего, на котором его торжественно исключили. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко; это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях не было: ведь его «наплевать» – слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» – то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.
А вскоре и Бейлис, и Розанов – все было забыто: пришла война.
Что писал и делал Розанов во время войны?
Писал, конечно, в «Новом времени» – неинтересно. Думаю, сидел тихо у себя; жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма – вернее, трагедия – в подробностях. Знаю только, что дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца).
Может быть, Розанов в военные годы работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной). Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидал раз у меня на столе большого скарабея (приятельница-англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.
– Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты – египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.
Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.
В военные годы, еще до революции, Розанов начал и свой «Апокалипсис». Выпускал его периодически; небольшими тетрадями.
Мне помнится там рассказ – встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя сила, только голая сила; тяжелая, грубая, «мужская»; перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому, – чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»…
Вот опять мелькнули годы – мгновенья. Как вспыхнувшая зарница – радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь, и – последнее молчание.
Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».
Наступил восемнадцатый год.
6
Ледяные воды
Сначала еще видались кое с кем.
– Не знаете ли, что Розанов?
– Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал, с семьей, – или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Троицко-Сергиевском Посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки…
– Их, вероятно, Ф[лоренский] в Лавре устроил?
– Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна – почти не ходит… И вы знаете, сын их умер.
– Как? Вася умер?
У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.
– Да, умер. Его взяли в красную армию…
Перебиваю:
– Да ведь ему лет 15–16?
– Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заразился в поезде сыпным тифом и умер. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь – не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.
Окурки собирает… Болен… Странный стал… Жена почти не встает… И Вася, сын, умер…
Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: теперь казалось естественным. У всех, кажется, все умерли; все, кажется, подбирают окурки…
Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.
Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, – от этого скука потрясающая. Кто не видал революции – тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.
И было три главных телесных ощущения: голода (скорее всего привыкаешь), темноты (хуже гораздо) и холода (почти невозможно привыкнуть).
В этом длительно-однообразном тройном страдании – цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.
И Меньшикова расстреляли.
– За «Новое время». Он в Волочок уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.
– Вот как.
– Да, говорят, и Розанова расстреляли. Тоже за «Новое время», очевидно. Это слух.
– И Розанова?
– А. В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.
– Я?
Мне донельзя противно писать Горькому. Но действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?
Однако вяло беру бумагу. «Дорогой…», «уважаемый…»? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович…»
Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы вот русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю – Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух…
Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно.
К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню; но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.
Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя X[овина], к нам пришедшего. Этот Х[овин] умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний Розановский «Апокалипсис».
Х[овин], оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с Лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы; надеялся добыть еще и свезти их Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому смертельно, болен.
– Было кровоизлияние; немного оправился – второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.
Х[овин] принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».
Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, – у него были. Тьма, голод и холод – смерть.
«Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии „холода“ – организму человеческому как организму „теплокровному“. Он боится холода и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как „гусиная кожа на холоду…“».
Вот он снова его страх перед холодом. И как страшно холод настигал его. Настиг, внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью; схватил, внутренний, в болезни; и уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал – в смерти.
А защищаться было нечем. «Топлива для организма», еды, – не было.
«Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек…»
Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:
«Устал. Не могу. 2–3 горсти муки, 2–3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц – может часто спасти день мой…»
Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.
Скоро, через X[овина] (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного, – написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).
Первое, потом второе, потом третье… Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю, – вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете. Наверно, писал он Горькому (и наверно, Горький письма сохранил, ведь его собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке», – ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.
Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени…» Потом вдруг шутил; и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги – уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все подымается выше… Но – как передать? – ни в одной, самой страшной строке – не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.
«Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлебца кусочек, и так хорошо».
Но потом вдруг:
«Пирожка бы… Творожка бы…»
О дочерях писал; какие они, как за ним ухаживают: «На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь…»
О жене – кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске – для нее.
Эти письма, писанные дочерью, до такой степени сам Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он, в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да – нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода – смерти» – были уже так заострены, что куда же дальше? И однако они еще обострились, отточились; дошли до колющей тонкости, силы и яркости.
Ледяные воды поднимались к сердцу.
7
Слова любви
– Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской Лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф[лоренским], который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.
Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.
– Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот – дружба с Ф[лоренским] и, параллельно, отход от евреев; обращение к христианству, к православию, переезд в Лавру…
Это говорили люди, судя Розанова по-своему, – во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было похоже на правду.
А что – на самом деле? Посмотрим.
«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя, обжигает меня.
Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ».
Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Ф[лоренского], не в Лавре ли? О нет! до войны, до Ф[лоренского]; в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В «Лавре» же, в последние месяцы, вот что писалось – выговаривалось:
«Евреи – самый утонченный народ в Европе…» «Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским…» «И везде они несут благородную и святую идею „греха“ (я плачу), без которой нет религии… Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева – из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». Социализм? но «ведь социализм выражает мысль о „братстве народов“ и „братстве людей“, и они в него уперлись…».
Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф[лоренского]? Это – о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет теперь, в Лавре?
«Ужас, о котором они не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую». «Попробуйте распять Солнце, и вы увидите, который Бог». «Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству…»
Что же это такое? Что скажем?
Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и любви своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за 6 лет до смерти:
«…все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет». «Впервые забрезжило в уме. Если Он – Утешитель: то как хочу я утешения; и тогда Он – Бог мой. Неужели?
Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он – Бог наш! И все – объяснится.
Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа…
Ужасно странно.
Т. е. ужасное было, а странное наступает.
Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела…»
И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:
«Душа восстанет из гроба; и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую „песнь песней“. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь».
Всегда возвращается; всегда – он, до конца – он, нашими законами не судимый, им неподклонный.
Вот почему не нужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял.
Звонок по телефону:
– Розанов умер.
Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.
Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Ф[лоренского], под шапочкой Преподобного Сергия.
Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он – «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.
Христианин или не христианин – что мы знаем? но верю, и тогда, когда лежал он совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:
«Господи, неужели
Ты не велишь бояться смерти?
Неужели умрем, и ничего? Господи, неужели это – Ты».
1923
Отрывочное О Сологубе*
1
Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь…
. . . . . . . . . .
И все твои пути мне милы.
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,–
Я не хочу с него свернуть.
О Блоке можно было написать почти все, что помнилось: он умер. И о Розанове. Да и о Брюсове: он хуже, чем умер, он – большевицкий цензор, сумасшедше жестокий коммунист, пишет оды на смерть Ленина и превратился из поэта в беспомощного рифмоплета… что даже удивительно (или, напротив, не удивительно).
Но могу ли я говорить о Сологубе?
Он в России.
Я его знаю, люблю неизменно, уважаю неизменно вот уже почти тридцать лет. В последние годы, пожалуй, еще более люблю, еще более уважаю.
Но он в России.
По-прежнему я считаю его одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков. Для меня было бы только удовольствием написать еще одну (которую?) статью о его произведениях.
Но… он в России. Об это «он в России» – разбиваются, как о камень, все мои намерения. Нельзя писать о его литературе, у нас нет здесь его книг (есть ли они там?). Нет старого; о новом же мы почти и совсем ничего не знаем. Едва настолько, чтобы не сомневаться в непрестанном росте его души и таланта.
Он в России, в России, в родном городе святого Петра – Санкт-Петербурге, – на его глазах разрушенном до последнего камня, до Ленинграда… и одну ли эту потерю видели его глаза? Он в России… и пусть, кто может, поймет, почему мои слова о Сологубе будут сегодня краткими, отрывочными, целомудренно бледными. Главное – отрывочными.
Даже хотелось бы никаких не говорить… но все равно. Не для себя и не для него – для других вызову из прошлого милые тени наших встреч.
2
Быть с людьми – какое бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?
«Тени» – первый рассказ Сологуба, напечатанный в «Сев[ерном] вестн[ике]». Свежий и сейчас, как тогда. Но ранее там было напечатано его стихотворение – кажется, «Ограда». Коротенькое, но такое, что пройти мимо нельзя. Магия какая-то в каждой вещи Сологуба, даже в более слабой.
Мы уже знали, что это – скромный учитель, школьный. Петербуржец, но служил до сих пор в провинции. Молодой? Даже не очень молодой. А фамилия его – Тетерников.
Н. Минский, тогда секретарь «Северного вестника», решил, что с такой фамилией нельзя выступать. Предложил ему наскоро, очевидно по неудачной ассоциации (выдумать не умел) – псевдоним «Сологуб». Только и было его выдумки, что одно «л», – вместо двух в имени старого, весьма среднего писателя – графа Соллогуба.
Не знаю, как понравился псевдоним новому поэту, но он его принял. Минский очень увлекался и псевдонимом, и самим поэтом. В то время (дни декадентства) «Сев[ерный] вестник» шел навстречу «новым талантам», даже искал их (добрая память ему за это).
У меня, при моем и тогда не увлекающемся характере, увлечения Сологубом не было; просто он мне очень нравился. Даже он один из всех и нравился; а немало было их, новых, из которых иные пропали, а многие имеют ныне старые, заслуженно или незаслуженно громкие имена.
На Пушкинской улице в Петербурге был громадный пятиэтажный дом – гостиница, не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам.
Не избег ее и Минский. Говорил про себя тогда:
Он жил в Пале, Он пел в Рояле.Немало интересных собраний повидали на своем веку номерки этого Пале-Рояля, скромные, серым штофом перегороженные. Там впоследствии жил Перцов, там бывал Розанов, эстеты «Мира искусства»…
Там пришлось мне в первый раз увидать и Сологуба-Тетерникова.
Это было в летний или весенний солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью, стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый человек. Прямая, невьющаяся борода, такие же бледные, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на черном шнурочке.
В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы «суетиться». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил – это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь – такая же спокойная непроницаемость, как и молчание.
Минский болтал все время, конечно, Сологуб слушал… а может быть, и не слушал, просто сидел и естественно, спокойно молчал.
– Как же вам понравилась наша восходящая звезда? – пристал ко мне Минский, когда Сологуб, неторопливо простившись, ушел. – Можно ли вообразить менее «поэтическую» наружность? Лысый, да еще каменный… Подумайте!
– Нечего и думать, – отвечаю. – Отличный; никакой ему другой наружности не надо. Он сидит – будто ворожит; или сам заворожен.
В нем, правда, был колдун. Когда мы после подружились, то нередко и в глаза дразнили его этим колдовством.
3
«…Приветствую тихие стены
Обители бедной моей…»
На Васильевском Острове, в одной из дальних линий, где по ночам едва тусклятся редкие фонари, а по веснам извозчик качается на глыбах несколотого льда – серый деревянный домик с широким мезонином. Городская школа.
Внизу – большие низкие горницы, уставленные партами. Там вечером темно и еще носится особый школьный запах: пыли меловой, усыхающих чернил, сапог и мальчишеских затылков.
А наверху – квартира Сологуба, «казенная». Он учитель и директор (или что-то вроде) этой школы.
Совсем они особенные – квартиры в старых деревянных, с мезонинами, домах. Свой лик во всем: в стенах, в порогах, в убранстве… Как милое лицо деревенской девушки исказилось бы под парижской шляпкой, так и уют квартирки исказило бы современство, все равно в чем: в мебели, в занавесах, даже в самих людях, там живущих. Исчезла бы гармония.
Квартира Сологуба воистину была прекрасна, ибо вся гармонична.
Он жил с сестрой, пожилой девушкой, тихой, скромной, худенькой. Сразу было видно, что они очень любят друг друга. Когда собирались гости (Сологуба уже знали тогда), – так заботливо приготовляла чай тихая сестра на тоненьком квадратном столе, и салфеточки были такие белые, блестящие, в кольце света висячей керосиновой лампы.
Точно и везде все было белое: стены, тюль на окнах… Но разноцветные теплились перед образами, в каждой комнате, лампадки: в одной розовая, в другой изумрудная, в третьей, в углу, темно-пурпуровый дышал огонек.
Сестра, тихая, нисколько не дичилась новых людей – литераторов. Она умела приветливо молчать и приветливо и просто говорить.
Я еще как будто вижу ее, тонкую, в черном платье, часто кашляющую: у нее слабое здоровье и по зимам не проходит «бронхит».
После чаю иногда уходили в узкий кабинетик Федора Кузьмича (он всегда писал свое имя с «фиты»). В кабинетике много книг и не очень светло: одна лампа под зеленым фарфоровым абажуром (в углу лампадка тоже бледно-зеленая).
Сестру Сологуба, если память не изменяет мне, звали Ольгой; Ольгой Кузьминишной. Иногда помогала разливать чай ее подруга, такая же тихая, в таком же глухом черном платье.
Шли годы, Сологуб становился все известнее. Появлялись, одна за другой, его книжки – первая, тоненькая, стихи; потом роман, ранее напечатанный в «Сев[ерном] вестнике», рассказы… Он занял в литературе такое свое место и так твердо стоял на нем, что не понявшие его сначала – остались непонимающими и тогда, когда не признавать его уже сделалось нельзя.
Он бывал всюду, везде непроницаемо спокойный, скупой на слова; подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун. Ведь и в романах у него, и в рассказах, и в стихах – одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом и не перестает быть сказкой.
Мечта и действительность в вечном притяжении и в вечной борьбе – вот трагедия Сологуба.
…Хочу конца, ищу начала, Предвижу роковой предел. Противоречий я хотел, Мечта владычицею стала.Его влечет таинственная «звезда Маир» и – не наша «земля Ойле»… с которой он вдруг опять хочет возвратиться на родную, свою, нашу. Но на ней Дульцинея не превращается ли слишком часто в «дебелую Альдонсу»? и Сологуб, как праотец Адам, которому неожиданно была дана Ева, горько тоскует об ушедшей, легкой Лилит.
Когда Сологуб выходил на эстраду, с неподвижным лицом, в pince-nez на черном шнурочке, и совершенно бесстрастным, каменно-спокойным голосом читал действительно волшебные стихи, – он сам казался трагическим противоречием своим, сплетением здешнего с нездешним, реального с небывалым. И еще вопрос: может быть, настоящая-то реальность и есть это таинственное сплетение двух изначальных линий?
Сологуб – скажу кстати – совершенно не мог слышать своих собственных стихов, когда их с эстрады читал кто-нибудь другой, «с выражением». Я, впрочем, тоже; и на одном вечере, где читали все его и мои стихи, мы с ним столкнулись в дверях, оба стремясь вон из залы. Но это что! Воображаю, как был бы доволен поэт, если б слышал свои «Чертовы качели», исполнявшиеся раз в Минске (под поляками, в 20 году) на шумной студенческой вечеринке! Рыжая молодая любительница, дебелая «Альдонса», вопила истошным голосом, мечась по эстраде, а когда зыкнула уже совершенно как труба: «Качайся, черт с тобой!» – зал радостно захохотал и зааплодировал.
Хорошо, что не было Сологуба!
Вспоминается один мой деловой визит на Остров, в светлый, холодный весенний вечер.
Брат и сестра кончали обед, на том же шатком четыреугольном столе, у окна с тюлевыми занавесями.
Свет бело-зеленый, неумирающий. Виноградная кисточка в стеклянной вазе. Я зову Сологуба участвовать на благотворительном вечере. В частной квартире, ибо цель его не может быть указана. Один из вечеров, которые устраивали постоянно русские писатели в пользу политических заключенных (Полит[ический] Кр[асный] Крест). Богатые люди, аристократия, генералы – охотно давали свои квартиры, рассылая билеты-приглашения «на чашку чая», и эти билеты недурно оплачивались.
Ближайший вечер – в квартире пожилого генерала, литераторам почти не знакомого (погиб, помнится, во время революции).
Объясняю все это Сологубу. Он согласен, конечно, только затрудняется:
– Что же мне прочитать?
– Ну вот, мало ли у вас стихов! Мне куда труднее… Знаете что? Давайте прочтем нашу переписку шутливую? Хотите? Вы свое читайте, а я свое… Будет забавно.
Мы так и решили, и действительно прочли на этом вечере нашу краткую переписку в стихах (Сологуб, конечно, читал и другие вещи).
Оба прекрасные ответные стихотворения Сологуба вошли потом в его книги; мои не были напечатаны и затерялись. Помню лишь первое, совсем шутливое, поводом к которому послужили разные мелкие «колдовства» Сологуба – над чьими-то калошами, а главное, случай с Вяч. Ивановым только что приехавший тогда из-за границы поэт-европеец отправился знакомиться с Сологубом. Да так пропал, с утра, что жена тщетно искала его по всему городу. И сидела у нас, в ужасе, когда ей дали знать, что он обретен наконец у себя в постели и в крапивной лихорадке. Словом, смешные пустяки; не знаю, почему и запомнилось:
Все колдует, все морочит Лысоглавый наш Кузьмич. И чего он только хочет Колдовством своим достичь? Невысокая природа Колдовских его забав: То калоши, то погода, То Иванов Вячеслав… Нет, уж ежели ты вещий, Так не трогай эти вещи, Потягайся с ведьмой мудрой, Силу в силе покажи… О, Кузьмич мой беднокудрый, Ты меня заворожи!Он и принялся меня «завораживать» прекрасным стихотворением о «Кругах». Отсюда уж пошла у нас поэтическая геометрия:
…Ты не в круге, весь ты в точке, Я же в точку не вмещусь… …будешь умирать, И тогда поймешь и примешь Троецветную печать…О следующем стихотворении Сологуба помню только, что было оно написано мастерски, в удивительном ритме.
А кто знает здесь его строки, такие загадочные и таинственные, что даже духовные цензора (в журнале «Новый путь») долго сомневались, пропускать ли их:
Водой спокойной отражены, Они бесстрастно обнажены При свете тихом ночной луны. Два отрока, две девы творят ночной обряд…Эти стихи были специально выучены мною наизусть – чтобы дразнить В. В. Розанова. Он от них в ярость приходил.
Стопами белых ног едва колеблют струи И волны, зыбляся у ног, звучат, как поцелуи…– Ерунда, чепуха! – сердится Розанов. – Какие это поцелуи?
Огонь, пылавший в теле, томительно погас, В торжественном пределе настал последний час…– Да вы скажите, сколько их, сколько их? Двое или четверо? «Отражения в воде видны»… значит, двое?
Стопами белых ног, омытыми от пыли, Таинственный порог они переступили…Этот «порог» и «предел» приводили Розанова в особый раж. Непременно желал знать, что это такое. Однако самого Сологуба спросить никогда не решался. Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подъедешь: «кирпич в сюртуке!»
4
…в молчании
Ты постигнешь закон бытия.
Все едино в создании,
Где сознанью возникнуть – Там Я.
…Я – все во всем, и нет иного,
Во мне родник живого дня.
Во тьме томления земного
Я – верный путь. Люби меня.
Костюмированный вечер.
Небольшая зала изящно отделанного особняка в переулке близ Невского. Розово-рыжие панно на стенах. Много электричества. Есть забавные костюмы. Смех, танцы… В открытые двери виден длинный стол, сервированный к ужину. Цветы.
Что это за бал? Большинство без масок, и какие все знакомые лица! Хозяйка – маленькая, черноволосая, живая, нервная молодая женщина, с большими возбужденными глазами. А хозяин – Сологуб.
Он теперь похож на старого римлянина: совсем лысый, гладко выбритый. В черном сюртуке, по-прежнему несуетливый и спокойный, любезный с гостями. Он много принимает. Новый литературный Петербург, пережив неудачную революцию, шумит и веселится, как никогда.
За время моего трехлетнего отсутствия многое изменилось. Умерла тихая сестра Сологуба: не «бронхит» у нее был, а чахотка. Очень выросла известность писателя. Какой он теперь «городской учитель»! Да и есть ли, существует ли еще серенький домик на Острове? Может быть, – да, может быть, еще пахнет внизу пылью и мелками, но уж наверху-то, наверно, не теплятся разноцветные лампадки…
Сологуб женился на молодой писательнице и переводчице А. Н. Чеботаревской.
Порывистая, впечатлительная, она окружила его атмосферой самого ревнивого поклонения. Слава Сологуба возрастала; никто не думал ее оспаривать, только любящей жене все казалось, что к нему несправедливы, что у него там или здесь – враги.
Сам Сологуб остался верен себе. Так же он замкнут в кольце холодка – «не подступиться». Так же, если не больше, спокоен, непроницаем, зло-остроумен. Если б нужно было одним словом определить узел его существа, первый и главный, то это можно бы сделать даже одной буквой: Я. В самом глубоком смысле, конечно: в смысле понятия личности. Не знаю человека с более острым, подземным, всесторонним ощущением единства человеческой личности.
Каждая строка его стихов; его лирика, его нежность и горечь насмешки; его сказка, вплетенная в обыденность; его лучшие рассказы (и лучший из лучших, Иринушка, «Помнишь, не забудешь?») – все это о том же, о неумирающей памяти, о неумирающей единой любви единого Я. Весь он в этом божественном узле… или в этой одной, воистину божественной, точке.
Да и теперь, в наши неслыханные дни, не то же ли звучит в его отрывочно долетающих к нам строках? То же; и только еще новая какая-то нота, мудрая и сильная. Мне вспомнилось недавно тютчевское «непризнание времени», а в звуках – шиллеровское:
Не узнавай, куда я путь склонила, В какой предел от мира перешла…Но лишь вспомнились они, Тютчев и Шиллер, а сравнивать с ними Сологуба я не хочу. Пусть будут они, и пусть будет он, единственный: ведь в этом все, что каждый – единственный. Только этого-то как раз никто и не понимает.
5
Я здесь один, жесток мой рок,
А ты покоишься далече.
Но предуставлен Богом срок,
Когда свершиться нашей встрече.
Темно. Серые, промозглые сумерки. Очень холодно в нетопленой комнате. Сидим за столом, у нас. Сереется каждый, закутанный. И кажется закутанным в тряпки.
Впрочем, так оно почти и есть. На Сологубе пальто старое пузырится, на Анастасии Николаевне какая-то серая кофта в мохрах, валенки; а личико у нее – в кулачок, только глаза беспокойно блестят.
И мы не лучше. Мережковский в женском бархатном, вытертом шушуне и в калошах на туфлях войлочных.
Это Сологубы пришли к нам (пешком, конечно) с Вас. Острова, как часто приходят. На Васильевский они перебрались давно, еще с войны (потянуло на «родную сторону», говорил Сологуб). Но едва стукнул «красный Октябрь» – их с квартиры выгнали, забрав все, и мебель, и книги, и теперь они ютятся на Острове же, в каком-то «павильоне», где за ночь нарастает ледяная кора на полу.
– Видите, видите, Федор Кузьмич, – говорит с нервным хохотом Анастасия Николаевна, – вон у них какой хлеб, целый кусок…
На столе действительно лежит целый фунт черного хлеба, иглистого от соломы.
– Не завидуйте, Анастасия Николаевна. Не надо завидовать. И у нас вчера был хлеб.
У Сологуба такой же спокойный голос, чуть-чуть разве поглуше.
Мы беседуем… ну, как беседовали в то время в Петербурге люди, чуть живые не от холода и голода только, а от того, что отнята у них с пищей и теплом еще свобода самого дыханья.
Чуть живые, а все-таки живые. Говорим друг другу, что есть на земле иные страны. Есть, например, Франция. Париж. Там улицы, по улицам люди ходят, т. е. по тротуарам, а посередине – ездят. И ничего. И даже кафе есть, не запрещены. Анастасия Николаевна вдруг вспомнила, что долго жила в Париже. Уверяет, что русскому писателю при всех обстоятельствах хорошо быть наполовину парижанином.
– Вот и Федор Кузьмич так думает. Он даже по-французски стал стихи писать…
Но я хочу не французских, а русских стихов Сологуба. И он начинает читать, медленно, монотонно, твердо – одно стихотворение за другим.
Они такие, что я прошу А. Н. в передней: «Перепишите их для меня. Хочу их иметь. Все». Вышло много листков. Об одном. Было и ужасно – и хорошо перечитывать их. Но я их не помню, их нет, не надо о них.
Так мы видались, над коркой хлеба, в мертвом холоде – не раз…
Через долгие, долгие месяцы после разлуки, весной – письмо. В тот самый Париж, где «улицы, и люди ездят, и ничего». Бездомная воля! Горька ты, а все слаще и достойнее такой же бездомной неволи…
Писали нам оба, и сам Сологуб, и она. Писали радостно, что свершилось наконец, что их «выпускают». Дело только за «формальностями». Едут, конечно, в Париж.
Не приехали. Не выпустили их: обещали выпустить. Прошла весна, лето прошло, и новая осень наступила.
Этого томленья уже не могла выдержать А. Н. Ни душа ее, ни тонкое, как призрак, тело. Глухой осенней ночью она бросилась в замерзающую, черную воду Невы. Говорили, будто видел это какой-то прохожий… Но не знали. А нашли ее только после половодья, следующей весной.
И было еще одно письмо Сологуба – вот об этом. Что нашли тело и похоронили Анастасию Николаевну.
Больше ничего не было. Больше я ничего не знаю.
Пылавшие в огне – сгорели, Сказала мне она. Тебе, в земном твоем пределе, Я больше не нужна. Любовью сожжена безмерной И смертью смерть поправ, Я вознеслась стопою верной На росы райских трав. И ты найдешь меня, любимый…Да, вот это я знаю, твердо, что он ее найдет. Знаю потому, что для него нет мертвых, но все живы.
1924
Благоухание седин О многих*
1
Можно ли писать о тех, кого встречал в годы ранней юности?
Можно, только очень трудно. Юность занята собою, на окружающих смотрит вполглаза. Самый неблагодарный – да и неприятный – возраст 17–20 лет. К жизни еще не привык; к себе самому тоже; ни жизни, ни смерти, ни людей не понимаешь, а между тем убежден, что отлично все видишь, понял и даже во всем слегка разочаровался.
Досадно это юное невнимание к внешнему, усиленное внимание к себе. Но оно естественно, ничего не поделаешь. Я буду писать о юных встречах – о знаменитых стариках – просто что заметилось и что и как запомнилось (соблюдая всегдашнее мое правило – держаться лишь свидетельства собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук – опасно сливаются со сплетнями). Если придется кое-где упоминать о себе – прошу меня извинить: это возраст. Седовласые друзья мои извиняли не только неблагодарный возраст, но и соответственно неблагодарный вид мой: вид и манеры избалованного подростка. Журналы уже печатали мои «произведения», но и это не делало меня солиднее.
Старая литература в то время была на кончике. Достоевский, Тургенев, Алексей Толстой умерли; но некоторые, если не столь знаменитые, – все же известные, – «высоко держали знамя» русской литературы: были живы Полонский, Майков, Плещеев, Григорович, Вейнберг… не говоря о других, ныне забытых.
Был, наконец, жив Лев Толстой (его, впрочем, мне пришлось увидеть много позже).
Признаться, меня в первое время удивляло, что и эти «еще живы». Удивляло не разумно, конечно, а в ощущении: если в хрестоматии учишь стихи Пушкина, Полонского и Плещеева, если с одиннадцати до шестнадцати лет одинаково читаешь Гоголя, Толстого, Григоровича и Достоевского – начинает казаться, что всех их, без изъятия, давно нет как людей – есть их книги. Это, впрочем, странное чувство, его трудно передать, а юности оно свойственно.
Первым знакомцем моим был Плещеев. С него у меня и началось влечение к «благоуханным сединам». «Благоуханье седин» – не теперешнее, а именно тогдашнее мое выраженье.
А. Н. Плещеев заведовал стихотворным отделом «Северного вестника» (самая первая редакция: Анна Михайловна Евреинова с мопсом, издание Сабашниковой).
Мы пригласили Плещеева обедать и решили постараться: знали, что он любит покушать.
Приехал он с очень тонкой любезностью: привез мне на прочтение редакционные стихи. Я, не без гордой радости, соглашаюсь ему «помочь».
– Это вот, – говорит Плещеев, – настоящие поэты. Льдов – молодой, но уж печатался. Аполлон Коринфский… А это – не знаю, всякие, в редакцию присланы…
Мне, однако, и льдовские не очень нравятся: врожденное, верно, чувство к стихам. Я ведь и самого Плещеева считаю «детским» поэтом и уже отлично понимаю, чем пушкинский «Пророк» лучше лермонтовского…
Стараюсь убедить себя, что к «живым» поэтам надо быть снисходительнее (хотя почему?), но льдовские, вот эти, все не нравятся:
…И грезят ландышей склоненные бокалы О тайнах бытия…Мережковский кричит, что Льдов настоящий поэт, что у него есть «дивные» стихи:
Как пламя дальнего кадила, Закат горел и догорал. Ты равнодушно уходила, Я пламенел – я умирал…Плещеев склоняется к «бокалам», я скромно не противоречу. Зато из вороха несчастных «неизвестных» извлекаю немедля презабавные строки – описание весны:
Лес листвою одеётся, Зеленеют деревья, И в кустах уж раздается Громкий голос соловья…Плещеев мне очень нравится. Он – большой, несколько грузный старик, с гладкими, довольно густыми волосами, желто-белыми (проседь блондина), и великолепной, совсем белой бородой, которая нежно стелется по жилету. Правильные, слегка расплывшиеся черты; породистый нос и как будто суровые брови… но в голубоватых глазах – такая русская мягкость, особая, русская, до рассыпанности, доброта и детскость, что и брови кажутся суровыми – «нарочно».
Нравилось мне в Плещееве и его добродушное эпикурейство. Когда-то он имел состояние, но покойный Щедрин говорил, что он его «в Москве на сладких пирожках проел». И на хлебосольстве, вероятно. Теперь, в Петербурге, он жил стесненно, почти в нужде. Получал из «Сев[ерного] вестника» грошовое жалованье…
Против собора Спаса Преображения – у Плещеевых скромная квартира в партере, с очень низкими потолками. Случались там «вечеринки» (не часто). И когда набьется куча всякого народу, старых, молодых, знаменитых и неизвестных – душно. Молодежь пела хором, потом затевались танцы. Старик Плещеев так бодро и благостно глядел на танцующих, что вот, кажется, сам сейчас пойдет вальсировать.
Мы бывали в семье Плещеева и запросто. Сына его тогда не помню, а лишь вторую жену, Катерину Михайловну, ее дочь, молоденькую Любочку, и дочь Плещеева от первого брака, Леночку, представительную, красивую блондинку с изящными руками.
К нам Плещеев любил приходить один, обедать или так. Мы болтали о стихах и о чем придется. Ему нравилась моя живость и юность: уверял, что юность его вообще «расшевеливает».
О стихах мы, однако, говорили больше о редакционных, и если о литературе – то скорее о современных литературных делах и делишках. Раз, впрочем, Плещеев рассказывал о Некрасове: как Некрасов, поздно ночью, читал ему у себя, вслух, только что написанную поэму «Рыцарь на час». И читал так, что когда дошел до известных строк обращенья к матери:
…Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви,–то и Плещеев, и сам Некрасов (кажется, был и еще кто-то) – плакали, Плещеев даже рыдал, уронив голову на стол.
Плещеев рассказывал об этом очень просто, но когда рассказывал – было понятно, что и нельзя иначе и что сам в ту минуту, верно, так же бы плакал.
Никогда Плещеев не говорил ни о Полонском, ни о Майкове. И вот я, приглядываясь к петербургской жизни, делаю открытие: существует какая-то черта, разделяющая литературных людей, литературных стариков, да и всех вообще, пожалуй. Есть, оказывается, «либералы», как Плещеев, Вейнберг, Семевский, и затем другие, не либералы или менее либералы. Самым худшим считался еще неизвестный мне старик Суворин, редактор «Нового времени». Газету все читают, а писать в ней «нельзя».
Но как все-таки удивляло меня вначале: вот два поэта, их мы и называть привыкли вместе, и в хрестоматиях они рядом, и оба «живы» оказались, и в одном городе живут: Плещеев и Полонский. А никогда не видятся, друг у друга не бывают… Лишь понемногу начинаю я разбираться. Полонский? Да, и он старый русский поэт, и в тех же хрестоматиях напечатан, и так же небогат, как Плещеев, и даже в квартире, чуть получше плещеевской, почти такие же низкие потолки, – только и разницы, что она на самой вышке, на пятом этаже, а плещеевская совсем на тротуаре. И у Полонского в семье молодежь – юная дочь, сыновья-студенты… Но Полонский – цензор. Теперь ли цензор, или был во время оно – не знаю, однако уже понимаю смутно: Плещеева, с его прекрасной, почтенной бородой и стихотворением «Вперед, без страха и сомненья!» – должна разделять некая бездна с цензором, который «запрещает». У П. И. Вейнберга тоже великолепная борода (в другом стиле) и свое, соответственное, стихотворение «Море» –
Бесконечной пеленою Развернулось предо мною…–и Вейнберг тоже не бывает на пятницах Полонского-цензора…
Таковы мои первые, формальные наблюдения. Детали от меня еще ускользают: почему мы – я, Мережковский и другие молодые литераторы и даже некоторые не совсем молодые, – можем бывать и у Плещеева, и у Полонского… и ничего? Почему у Суворина, к примеру, и мы бывать не можем, хотя он не цензор?
Но эти детали не очень беспокоят меня; я с удовольствием пока что иду и к Полонскому.
2
«Пятницы» Полонского – совсем другое, нежели вечеринки Плещеева. Разницу я еще не могу определить, ибо это оттенок, но я ее чувствую.
Большая зала с окнами на две улицы, Знаменскую и Бассейную (вышка Полонского – угловая). Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?).
За столом – гости.
Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя… Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол.
Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил.
Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом.
Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли.
У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая – но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем.
От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немножко с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе.
Ко мне Полонский проявил сразу большое благоволенье. Часто усаживал около себя.
Гости в кабинете подбирались все солидные, вероятно, известные (не мне, в то время). Молодежь – дети Полонского со своими гостями, студентами и барышнями, хохотала в смежной комнате, куда была открыта дверь.
Признаюсь: сначала эта смежная комната возбуждала во мне грустную зависть. Ужасно хотелось туда, к ним, где было так весело. Хотелось – и, увы, было невозможно. Что ж такое, что мне лет меньше, чем многим из них; они – петербургская «молодежь» и у них свои дела. Я – другое, я уж литератор, я печатаюсь. Мне надо сидеть в кабинете и слушать, что говорят литераторы.
Безвыходность положения смирила меня. Что ж, постараемся и здесь не скучать. Если бы дверь они, однако, затворяли!
Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом.
Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко.
Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось.
Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось.
Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыкании Полонского.
Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение:
Что мне она? Не жена, не любовница И не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая Спать не дает мне всю ночь?..Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне), и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе, как громовержно продекламировал бы его Яков Петрович:
Писатель, если только он Волна, а океан – Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена – стихия. Писатель, если только он Есть нерв великого народа, Не может быть не поражен,Когда поражена – свобода!
Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высокой степени наплевать.
Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря, в день рождения Полонского, бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра.
Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг.
Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами… Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют… Мне подумалось: а ведь это ей написано:
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты…Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица?
Люблю ли тебя – я не знаю, Но кажется мне, что люблю…Какая магия в этом стихотворении! И какое волшебство – душа человеческая! Не видал лица – и лишь «казалось», что любит. Увидал – такое некрасивое (в молодости она была еще некрасивее) – и вот – уже наверно знает, что любит.
Среди толпы, то в той, то в этой комнате прохаживался, особняком, какой-то странноватый человек. Мы с ним все поглядывали друг на друга, я на него, он на меня. Не очень высокий, худощавый, походка неторопливая, зацепляющая каблуками пол. Бледный… старик? нет, неизвестного возраста человек-существо с жилистой птичьей шеей и – главное (это-то меня и поразило) – с особенно бледными, прозрачными-восковыми, большими ушами. В этих ушах было даже что-то жуткое.
Все ходит ушан, все посматривает. Ни с кем не говорит. Нет, вот остановился, разговаривает с дочерью Достоевского… Опять пошел. И возвращается. Ах, теперь они о чем-то разговаривают с Минским. Надо спросить Минского.
Но Минский затерялся в толпе и нашелся только через долгое время, когда ушан совсем исчез.
– Скажите, пожалуйста, кто это был… с ушами? Подошел к вам недавно, у окна?
– Как, вы не знаете? А он меня о вас спрашивал. Да это Победоносцев!
3
Я вернусь к Полонскому, ибо помню еще одну черту в нем, не лишенную интереса, но сейчас мне хочется дорисовать милый облик все-таки первого из моих старых друзей – Плещеева.
Мы часто виделись, а если не виделись – то писали друг другу записочки и даже целые письма. Когда же летом разъехались – он на дачу, на станцию Преображенскую, мы – под Москву, переписка наша стала необыкновенно оживленной. Я как будто вижу его меленький-меленький черный почерк, на небольших почтовых листиках, по линейкам. О чем только не писал он мне! И о стихах, и о жизни, и о людях, и о даче… Но тон был всегда прелестный: никогда – как старший пишет младшему; детская и нежная шутливость, ну совсем точно не лежало между нами четыре десятка лет.
Писал о журнальных делах… И вдруг однажды такое письмо: «…скажите Дм. С-чу (Мережковскому), чтобы он не спешил искать издателя для своих двух книг и к Суворину подождал бы обращаться: я, может быть, сам их издам. Вы удивитесь, спросите, откуда у меня деньги? Дело в том, что случилась неожиданность: я, кажется, скоро буду богат, и очень богат…»
Действительно неожиданность: на голову Плещеева свалилось громадное наследство. Боюсь напутать, но, кажется, от какой-то дальней родственницы, на которую он и рассчитывать почти не мог. Наследство спорное; однако после хлопот его утвердили, и Плещеев очень быстро, со всей семьей, уехал в Париж.
В тот год, к весне, и мы с Мережковским решили съездить недель на шесть за границу – в Италию.
Это было мое первое заграничное путешествие. По России-то пришлось покататься – «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», – но Европа… ведь Европа совсем другое!
И она захватила меня с самой Вены. Венеция, первый итальянский город, так навсегда и осталась в воспоминании «самым первым городом на свете».
Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:
– А ведь это Суворин! Другой, что с ним, – Чехов. Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.
Чехова мы оба считали самым талантливым из молодых беллетристов. Мережковский даже недавно написал о нем статью в «Сев[ерном] вестнике». И, однако, меня Чехов мало интересовал: детское убеждение, во-первых, что все равно никто из теперешних не сравнится с Гоголем, Толстым и Достоевским, а во-вторых, и безотносительно – писанья Чехова казались мне какими-то жидкими. Ну, а познакомиться со «страшным» Сувориным – хотелось: и привычка к старикам, да и любопытно.
Я отступаю от моей темы, касаясь Суворина: ведь его седины – совсем не «благоухали»! Позволяю себе такое отступление ради интереса, который имеет его характерная для России личность.
Но ранее я, кажется, дерзну на еще большую вольность: скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было «седин», но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Не оттого, что приходила мысль о его ранней смерти. Но оттого, что Чехов, – мне, по крайней мере, – казался природно без лет.
Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов; и при каждой встрече – он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое; оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа.
А эта основа – статичность.
В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один (если и это дар) был дар – не двигаться во времени.
Всякая личность (в философском понятии) – ограниченность. Но у личности в движении – границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть – то есть; чего нет – того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был – сразу. Не возрастая – естественно был он чужд и «возрасту». Родился сорокалетним – и умер сорокалетним, как бы в собственном зените.
«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента», – сказал про него однажды С. Андреевский. Да, именно – момента. Времени у Чехова нет, а момент очень есть. Слово же «нормальный» – точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему – писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе – и грубоватые манеры, что тоже было нормально.
Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или – как Гоголь постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер» и лишь потом – умер. Иногда Чехов делал попытки (довольно равнодушные) написать что-нибудь выходящее из рамок нормального рационализма. Касался «безумия» (не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумец ли со своим «Хозяином»?), но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и – по-докторски извне. Или же получалась – это гениально сказал про «Черного монаха» один мой друг – просто «мрачная олеография».
Так же извне смотрел Чехов и на женщину – ведь он мужчина! и в нем самом ни одной черты женской! Он наблюдает ее, исследует ее; нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма (недавно выпущенные) к невесте и жене. Как все в них «соответственно», все на своих местах и как «нормально»!
Чехов, уже по одной цельности своей, – человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к «норме» и к статике, но бессловесным. Он их выразитель «в искусстве». Впрочем – не знаю, где теперь эти души: жизнь, движение, события все перевернули, и Бог знает что сделали с понятием «нормы». Ведь и норма – линия передвижная; Чехов был «нормальный человек и писатель момента», т. е. и нормы, взятой в статике.
Отступление мое, однако, затянулось. Давно пора вернуться в Венецию.
«Страшный» Суворин (он даже у «цензора» Полонского не бывал!) мне понравился. Какой живой старик! Точно ртутью налит. Флегматичный Чехов двигался около него, как осенняя муха. Это Суворин «вытащил» его за границу и явно «шапронировал», показывал ему Европу, Италию. Слегка тыкал носом и в Марка, и в голубей, и в какие-то «произведения искусства». Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно «ничему не удивлялся», чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину.
Но было в Чехове немножко и настоящего безразличия к «чудесам Европы». У него уже имелся на них свой, чеховский взгляд. Суворин, смеясь, с досадой жаловался:
– Вот, все просится скорее в Рим. Авось, говорит, там можно где-нибудь хоть на травке полежать!
Последние дни в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно» в роскошный длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными зеркалами и люстрами со сверканьем стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех – Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и… вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:
– А черт его знает! Может, оно все и не так.
Меня эти его переверты, к собственному мнению презрительные, тогда просто забавляли. Лишь вдолге (мои личные отношения с Сувориным Венецией не кончились; встречались мы, положим, редко, случайно, но временами начинали переписку, довольно резкую) – лишь очень вдолге стал мне понятен глубокий душевный нигилизм этого примечательного русского человека. Талантливый, с хитрецой умный, он всего себя, черт знает почему, даже без удовольствия, душевно выпустил в трубу. По-русски.
Очень русское было у него и лицо. Как у Плещеева, как у Полонского. Но Плещеев, хоть и звал «вперед, без страха и сомненья», был настоящий русский барин, родовитый, мягкотелый, с широкой повадкой, с ленцой. В чертах Полонского – меньше добродушия; мелькало что-то, чуть-чуть, от петербургского чиновника. Настоящим чиновником, из важных, смотрел красивый, сухонький, подобранный Майков с пронзительно умными глазами. Должно быть, Тургенев имел барственно-помещичий вид: его не сохранил или не достиг слишком живой и мелочный Григорович, когда (в те годы) устроил свою прическу и бородку «совсем под Тургенева».
А у Суворина было – тоже русское, но русское мужицкое лицо. Не то что грубое, и сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость – никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем; и черты, и весь облик его – именно облик умного и упрямого русского мужика. Седоватая борода не коротко подстрижена; глаза из-под густых бровей глядят весело и лукаво; зачесанные назад волосы (прежде, верно, русые) еще не поредели, только зализы на лбу. Оттого, что высок – сутулится, голова немного уходит в плечи.
Моя живость, очевидно, нравилась ему, как Плещееву; но чужая молодость, чтобы самому молодеть около нее, была ему не нужна: имелся как будто достаточный запас собственной.
Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я – впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский. Пока мы продолжаем наш спор, и Суворин горячится, и отлетают во все стороны полы его коричневой размахайки, – Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку», – quanto[11]? Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему: «cinque[12]»…
Мы все в одном и том же купе выехали в Пизу. Дорогой спорили о Буренине. Впрочем – не спорили: на все мои резкости Суворин виновато пожимал плечами и говорил:
– Да черт его знает… Нехороший человек, нельзя сказать, чтобы хороший…
Начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять. Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике – Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна – от цветных стекол – на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов… Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где-нибудь «на травке полежать»…
4
Мы рассчитывали быть в начале мая уже в России. Но вот середина мая, а мы – в Париже! В новом для меня Париже, с совсем еще новенькой Эйфелевой башней, – ведь ее не так давно, к последней выставке построили. Еще и парижане к ней не привыкли.
Что же случилось?
Случилось, что пришло в Рим очаровательное, нежное письмо Плещеева: раз уж мы за границей – как не приедем к нему? «…Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май – лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу…»
Гостиница эта оказалась отелем Mirabeau (тогда еще не перестроенным). Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною – скромная золотая вывеска «Worth». Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позванивают бубенчики фиакров.
– Правда, хорошо? – спрашивают нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж. – А как вас папа ждал!
Старик тоже с нами. А потом мы пьем чай на круглом столе, в салоне. Алексей Николаевич оживлен. Очень обрадовался мне – да и я ему. В нем, впрочем, есть какая-то перемена. Не та, что вот, вместо низенькой залы на Спасской, он сидит в кресле лучшего парижского отеля на rue de la Paix. Но он похудел, осунулся и в кресле сидит тяжелее; он, несмотря на оживление, больше «старик», чем был в Петербурге, когда взбирался к нам на пятый этаж.
Но это еще едва заметно. Париж его «расшевеливает», говорит он, как вечная молодость. Дома не сидится. Мы ходим с ним по улицам, едем в Булонский лес, а вечером – в кафе des Ambassadeurs[13], где молоденькая, тоненькая diseuse в черных перчатках, Ivette Guilbert[14], производит фурор.
Бывает, что обед особенно вкусен (а Плещеев любит покушать); раз, после особенно плотной трапезы, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в assommoir!», – и тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:
– Тьфу ты, я хотел – в ascenceur[15]! А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в ассомуар!
Но и тут, отдохнет немножко, – и опять за цилиндр (он стал франтом):
– Пойдемте, хоть так по бульварам пройдемся, поглядим!..
Внезапное богатство после нужды, да еще на старости лет, хотя бы для человека и состоятельного когда-то, – вещь нелегкая. А то, что разбогател Плещеев, «передовой» (как тогда говорили) поэт, со всем своим «светлым» прошлым (он был замешан в дело петрашевцев и даже приговорен к смертной казни), – все это положения не облегчало, а очень осложняло.
Однако могу засвидетельствовать, что неожиданная перемена судьбы не исказила ни одной черты в образе этого милого человека. Напротив, его нежная, по-русски немного безалаберная доброта, его невинное, трогательное эпикурейство только подчеркнулись. Он радовался каждой мелочи в Париже; радовался голубому небу, потом, в Швейцарии, и голубому морю в Ницце; радовался так, что на него весело было смотреть. Любил каждый трепет жизни, хватался за него, чувствуя, верно, что жизни уж немного осталось.
Сказал как-то:
– Что мне это богатство? Ведь вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью.
Здоровье его действительно очень пошатнулось, и даже на зиму он в Петербург не приехал; а очень хотел. С тех пор в России он бывал только летом, в Петергофе на даче. Там мы с ним, после Парижа и Ниццы, и виделись. Эти два года были для него решительным подарком Судьбы. Воистину жизнь «блеснула ему улыбкою прощальной».
«Вечерний день» его отгорел в Париже, поздней осенью. Кажется, он умер без страданий, внезапно.
Серый сумрак Казанского собора, панихида. В толпе замечаю, там и сям, мерцающие седины моих друзей – сверстников Плещеева.
При выходе Петр Исаевич Вейнберг наклоняет ко мне белую бороду и шепчет:
– А знаете, ведь хорошо, что он умер. Наследники выиграли дело, и все, что осталось, у него бы отняли. К счастью, он успел обеспечить семью.
Если так – тем удивительнее маленькое чудо, прощальная улыбка Судьбы, посланная этой милой, детской душе.
5
Полонский, как я понемногу убеждаюсь, считает себя обиженным, непризнанным… прозаиком.
Он, по пятницам, все чаще усаживает меня около себя, бесконечно рассказывает о себе, о своих литературных успехах… и «неуспехах», потому что, как он жалуется, его «ославили» поэтом и совершенно знать не желают его прозы. Между тем проза – повести, романы – ближе его сердцу, чем стихи, и написал он их не мало, пожалуй, не меньше, чем Тургенев.
– Что – стихи! И Тургенев писал стихи. Прескверные, положим… Кроме поэмы. Поэму его я любил…
Кончались эти разговоры (недолгие, гости отвлекали) тем, что Яков Петрович тяжело подымался со своего обычного места, стуча костылями, ковылял к шкафику у боковой стены и вытаскивал неразрезанные экземпляры своих романов и повестей.
– Прочтите, прочтите, – ворчал он, делая на книгах нежные надписи. – Вот, сами судите. А как прочтете – я вам и другие томы дам. И напишите мне, что думаете.
Провожал меня с этими книгами нежно, благодарно – за то, что я буду их читать.
Случалось, что сам потом досылал мне новые томы. У меня долго хранились его письма, длинные, обстоятельные, история каждого романа – и опять негодующие жалобы, что проза его недостаточно оценена.
Почему он вдруг избрал меня в критики, и что ему был мой юный суд? Думаю, потому, что всем уже успел эти книги передавать, всех переслушать, а я – свежий человек, да и молодой «литератор» – новое поколение. Ну вот, еще раз послушать, что скажут о его прозе, которую он, наверно, в глубине души считает не хуже тургеневской, а может быть, и лучше.
У меня создалось впечатление, что именно по отношению Тургенева у Полонского было обиженное чувство. Все признают Тургенева, а его, Полонского, проза – неизвестна…
Тут я опять сделаю маленькое отступление. Через много лет, уже во время войны, вот что рассказывала нам о Тургеневе и Полонском Марья Гавриловна Савина.
Она приехала поздно, с какого-то концерта, в белую весеннюю ночь. (Последний раз: той же осенью она умерла.)
Савина рассказывала неповторимо. Можно спорить о ней как об актрисе, но рассказчица она была гениальная. Очаровательный юмор в ее речах, то нежный, то злой – и всякий раз не в бровь, а прямо в глаз…
С Тургеневым у них был когда-то «голубой» роман. И до дня его смерти не прекращалась переписка. Савина рассказывала нам об его последних годах, о Кларе Милич…
– А когда он написал «Песнь торжествующей любви» – я как раз гостила у него в Спасском-Лутовине[16]. И Яков Петрович Полонский тоже, они ведь были большими приятелями. Иван Сергеевич предложил нам прослушать только что оконченную вещь. Это и была «Песнь торжествующей любви». Читал вечером, на балконе, при свечах. Было самое начало лета, все цвело, и к ночи, тихой и теплой, сад особенно благоухал. Тургенев волновался, я чувствовала, что эта вещь ему дорога, у него даже голос звенел. Когда кончил – Полонский помолчал некоторое время, а потом встал и басом своим недовольно зарокотал: он-де ничего не понимает, и чтó это тут напущено… «Эта вещь тебе – нет, не удалась…» Тургенев не возражал, не спорил, но я сердцем чувствовала, как его Полонский своим отзывом на месте убивает. Притом я чувствовала, что Полонский говорит вздор, по глупости или по зависти – уж не знаю… А сама я не могла ничего сказать, не могла, не умела… Но Тургенев, верно, понял, чтó у меня на душе. Мы потом – Полонского уже не было – сошли вдвоем в темный сад, и долго молча ходили, среди благоуханья трав, и на скамейке так же молча сидели, и точно я этим как-то по-женски, по-бабьи, без слов его утешила, молчаньем сказала ему все, что хотела… А сад и тихая ночь мне помогали.
Романы Полонского, конечно, были непохожи на «чепуху» вроде «Песни торжествующей любви». В то старое время они, даренные таким настоятельно-ласковым Яковом Петровичем, мне, пожалуй, нравились. Но ничего, ни тени от них не осталось в памяти. Даже странно, ведь прочитанное в юности, какое бы ни было, всю жизнь помнится. А тут – дотла исчезло. Должно быть, не так уж несправедливы были те, кто ценил прозу Полонского ниже тургеневской.
6
Из моих старых друзей и знакомых единственный, живший менее особняком, старавшийся поддержать какую-то «литературную среду» – был Петр Исаевич Вейнберг. Правда, он и не был таким всепризнанным русским «поэтом», как Полонский, Плещеев, Майков. Его почитали, уважали, знали; его «Море» обожала молодежь, но… все-таки он был – главным-то образом – переводчик, «Гейне из Тамбова», душа всех литературных вечеров, хранитель «честного» литературно-общественного направления. Худой, с приятными живыми манерами, весело-остроумный – он был совершенно лыс и в профиль походил на библейского пророка. Чудесная, с серым отливом борода его – не плещеевский веер: и борода у Вейнберга – как у Авраама.
Вероятно, в нем была еврейская кровь; не знаю, ибо этот вопрос никого, даже самого Вейнберга, не интересовал. Заслуженный литератор, знаток русского языка, талантливый стихотворец, всеми любимый Петр Исаевич – чего же еще? Надо сказать, что в тогдашней литературе «еврейский вопрос» вообще мало существовал (только с Надсона начал выдвигать его Буренин). А в «старой» литературе он решительно не имел места и значения. Не имел значения даже в глазах таких «нелиберальных» писателей, как Майков, друживший с Тертием Филипповым, или Полонский, близкий Победоносцеву.
Как бы то ни было, мне никогда, ни от одного старого, настоящего писателя не случалось ничего об этом слышать. Даже сам Суворин в разговоре стеснялся касаться еврейского вопроса, чувствуя, верно, что это, по коренным литературным традициям, «не принято». Мало того: гораздо позже, чуть ли не в 1906 г., на мое резкое письмо к нему по поводу его отношения к евреям, конфузливо написал: «…Что я могу вам на это ответить? Ничего я не могу ответить…»
Настоящая, исконная «литературная среда», хотя существовали тогда уже разные кружки, Шекспировский и «понедельничное» Лит[ературное] Общество, – была все же только у Вейнберга. Он жил один, очень скромно. В его «подвале» на Фонтанке – маленькой квартирке у Аничкова моста – кого не встретишь! И не в отдельных писателях было дело, а именно в атмосфере литературной, в среде.
Но Вейнберг, так нежно и так верно любивший литературу старую, так знавший и ценивший ее традиции, даже быт, интересовался и новым, и, пожалуй, более других. Он пытался схватить и понять, как умел, движение литературы во времени. Может быть, чувствовал, что ему суждено пережить почти всех своих сверстников (он и Чехова пережил!), что, как-никак, придется не одну еще перемену увидать. Да и был у него гибкий и живой дух.
Очень скоро, едва занялась заря декадентства (почти и не занялась еще), он дерзнул пригласить на традиционный вечер литературного фонда (ежегодный вечер в зале Коммерческого училища) – меня. Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, «старую» молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость. Из году в год он устраивал эти вечера. Из году в год там читали Плещеев, Майков, Григорович, Потехин, сам Вейнберг, прежде, когда был здоров, – Полонский, а когда были живы – Тургенев, даже Достоевский…
И опять старики, тот же Григорович, Вейнберг и – я! Вейнберг, положим, очень хорошо относился ко мне лично, однако была у него тут немножко и шалость: вот вам, не одни мы, послушайте-ка и новенького! Мы порою чувствовали себя с ним как проказливые дети. Подымется шум – Вейнбергу и горя мало: пусть пошумят, тем веселее. Сам, бывало, выйдет со мной на эстраду несколько раз. А в конце, для полного успокоения, прочтет свое «Море» – делая, впрочем, вид, что оно ему смертельно надоело, – он только уступает требованию публики.
Примешивая к старикам более молодых, Вейнберг приучал к ним мало-помалу публику. Но очень «мало-помалу»; добрая старая традиция все-таки преобладала на вечере Фонда.
Майков при мне читал только раз. Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения «Дож и догаресса»):
…Слышит – иль не слышит? Спит – или не спит?Удивительно читал он и «Три смерти»:
Простите, гордые мечтанья, Осуществить я вас не мог. О, умираю я как Бог Средь начатого мирозданья!Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию; оттого, вероятно, он и забыт так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже Майкова.
Близки мы с Майковым никогда не были (да и кто был с ним близок? не припомню). Встречались часто, иногда он бывал у нас. Одно время увлекся романом Мережковского «Юлиан» и даже устраивал у себя чтения этого романа.
Совсем не производил впечатления «старика», так был бодр и жив. Смерть его показалась неожиданной; но в литературных кругах прошла почему-то не очень заметно. Впрочем – не знаю, нас тогда в Петербурге не было.
На вечерах Фонда и на других, им подобных, меня всего более занимала «артистическая». Там пришлось мне видать буквально всех известных и полуизвестных людей своего времени. Вот Фигнер – еще совсем молодой человек с каштановой бородкой, ходит в ожидании своего номера из угла в угол – волнуется. Жена его, красивая итальянка Медея Фигнер тоже ходит, по другой диагонали; тоже волнуется. Я с удивлением гляжу: оперные певцы, чего они волнуются? Они уверяют меня, что это всегда перед выходом. Профессиональное, должно быть. Савина, впрочем, сидит спокойно за столом и пьет чай. Короленко, уже седеющий, коренастый и черноглазый, говорит, кажется, с Гариным: высоченный беллетрист, написал «Детство Темы», которое все хвалят; мне – не нравится.
Но перейдем из этой светлой комнаты в другую, как бы совсем «за кулисы». Там сейчас интереснее. Там тесный кружок участвующих и неучаствующих писателей. Душа кружка – Григорович. Он рассказывает «анекдоты» (он вечно что-нибудь рассказывает) – вполголоса, чтобы не слышно было в зале. Времени много, потому что читает Ольга Шапир – «О любви», Вейнберг только что заглядывал в залу и объявил:
– Все пока прекрасно. Спит только один. Она еще не дошла до середины.
Григорович всегда рассказывает потрясающие вещи. Говорят, что он половину выдумывает, но не все ли равно, если интересно.
Мне долго не верилось, что это тот самый Григорович, автор с детства знакомых «Проселочных дорог», «Антона-горемыки». На портретах он – полный господин с бакенбардами. А этот – высокий, тонкий, подвижной, белая бородка у него коротко подстрижена (под Тургенева).
Мы с Григоровичем большие приятели. Постоянно встречаемся, весело болтаем. Он любезно меня расхваливает:
– Пишите! пишите!
И даже крестит маленькими крестиками, благословляя мой дальнейший литературный путь. А маленькие крестики – потому что нельзя же размахнуться большими где-нибудь на людях, даже в «артистической».
В артистической, т. е. во второй, «за кулисами», он и рассказывал нам про Достоевского. Подробно и картинно описывал, как отца Достоевского, из врача сделавшегося помещиком, возненавидели мужики и в роще разорвали, на глазах сына, Федора Михайловича, тогда еще мальчика. Я помню, что он говорил «на глазах» и спрашивал: «Ну мог ли Федор Михайлович забыть это? Мог ли? Это очень многое объясняет…»
Никто из нас такого рассказа ранее не слышал, и всех он потряс. А я до сих пор не знаю, правда это или нет.
7
Неиссякаема была веселость и остроумие П. И. Вейнберга, как неиссякаемы его экспромты. Не существовало слова, на которое он тотчас не открыл бы рифмы. Переписывались мы с ним всегда стихами. У нас бывал он часто. Взбирается на наш пятый этаж – что ему трудненько – и пока взбирается, уже сочинил длинную оду, которую с порога декламирует, заканчивая:
А затем, si vous aimez[17], Вот конфеты от Гурмэ.В конце вечера все мы, небольшим кружком человек в 6–7, начинаем соображать, куда бы поехать ужинать. К Палкину? К Донону? Я и Мережковский предлагаем – в «Медведь». Спорят. Но тамбовский Гейне, песенки которого, вроде песенки о титулярном советнике и генеральской дочери, были некогда у всех на устах, подхватывает:
Хозяева сказали ведь, Ну и поедем в «Медведь»!И ехали, и там опять веселил Петр Исаевич своими экспромтами, рассказами о «преданьях старины глубокой». Был настоящий кладезь этих литературных преданий. Знал даже, что такое «безобразный поступок „Века“», журнала, о котором все забыли со всеми его поступками. Для будущего собирателя древних литературных мелочей скажу вкратце, что это был за «поступок»: либеральный журнал какой-то, или общество – устроило литературный вечер и выпустило на эстраду очень красивую даму (чуть ли не тоже литературную) в «Египетских ночах» Пушкина. Дама столь выразительно прочла:
Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю! –что вызвала бурю – несколько двусмысленных – восторгов. По поводу этих восторгов «Век» обрушился на устроителей вечера, да отчасти и на даму. Поднялась жаркая полемика, припутали к ней «женский вопрос» – и «Век» (в нем тогда участвовал брат Достоевского) вместе со своим «безобразным поступком» – посягновением на «женскую свободу» – был посрамлен.
Раз как-то Вейнберг принес мне вместо конфет от Гурмэ красную сафьянную тетрадь для стихов. На первом листке шутливое посвящение:
Хоть у вас седьмой этаж, Но любовь моя все та ж, Как была бы, если б вы Жили ниже дна Невы. Справьтесь в сердце вы любом, Чувства нет нигде такого, Как в дарящем сей альбом Старом Гейне из Тамбова.И затем, впоследствии, внизу приписано:
Три года прошло, леденеет уж кровь, Но к вам – точно так же пылает любовь.(Эта тетрадь, где записывались потом и мои стихи целых 15 лет, пропала в Совдепии вместе со всем моим архивом, далеко не лишенным исторического интереса.)
Вейнберговская нежность к литературе вовсе не была только книжной. Вечно заседал он в каких-то комитетах, в Фонде работал бессменно, принимал всю мелкую литературную братию, бедствующим устраивал ссуды. Всех приходящих к нему, даже просто графоманов, терпеливо слушал. Кого следует – вышучивал, но с таким веселым, добрым юмором, что на него не обижались и графоманы.
Время, однако, шло. Старики, сверстники Вейнберга, – уходили, умирали. В литературе народились новые течения. Вейнберг не мог примкнуть к ним, конечно, да и попыток к тому не делал, слишком был искренен. Но он по-прежнему относился ко всему новому с интересом и благостью: не была ли это все та же «русская литература», верным рыцарем которой он оставался?
Старческие немощи уже одолевали его (как он добродушно над ними шутил!). Ездил лечиться за границу – мы раз случайно встретились с ним в Германии. Тогда умер Чехов – помню, как огорчился, даже возмутился этой смертью П. И.: высоко его ценил. Впрочем, раньше как-то сознавался, что в Чехове ему чужд подход к жизни «уж очень мелочной, хмурой, без положительного… А ведь талант-то какой, тургеневский!». Я его поддразниваю: «Положительного! Вы привыкли к писателям с „идеалами“! Теперь другие песни!»
Горького Вейнберг определенно не терпел, хотя и за ним признавал талант. В Андрееве просто ничего не понимал, и даже не хотел понимать, отмахивался от него. Мы часто болтали о современных писателях. Раз он сказал мне о Бунине, которого почему-то в Петербурге мы мало знали: «Этот – хороший писатель, крепкий. А только…»
– Только что? И он без «идеалов»?
– Нет; а что он любит! Надо ведь писателю что-нибудь без оглядки любить…
Вообще Вейнберг не просто принимал всякий новый ветер, откуда бы он ни дул. Посильно разбирался, очень присматривался. Наиболее типичный из «стариков», один проживший несколько лет среди «новых» течений – не литературы только, но и жизни – он был очень показателен. Где неизбежный разрыв между поколениями, где необходимая связь? Есть ли связь? Куда повернули дети, куда пойдут внуки?
При начале нео-религиозных веяний Вейнберг нередко приходил к нам (уже в третий этаж, но и это было ему трудно). Приходил – и долго, серьезно расспрашивал, откуда этот уклон к религии, что он означает, что думаем мы.
Он называл себя материалистом. О, конечно. Все они, люди 40–70 годов, так себя называли. Но было бы грубой ошибкой – я подчеркиваю это, я настаиваю на этом – смешивать «материализм» Плещеева, Вейнберга, Полонского, Майкова, Григоровича и тысячи их современников, просто русских интеллигентов, – с материализмом позднейших поколений. Этот, так называемый «научный», – всегда туп и нетерпим, роковым образом самодоволен. Он представляет из себя известный культурный срыв и неизменно кончается потерей понятия личности.
Ничего похожего на такой «материализм» не было у наших знаменитых (и не знаменитых) «стариков». Они просто не имели еще соответственных слов для изменившихся по времени чувств своих; называли себя «материалистами» в отличие от прежних бездумно «верующих»… церковников; но они, ей-Богу, и не понимали вовсе, что такое «материализм». Они сохраняли в целости все человеческие чувства, ни одно не было выщерблено – какие же они материалисты?
Впрочем, вопрос этот столь же интересен, сколь сложен, и я пока скажу одно: если уж называть русских людей того поколения материалистами, – то разве идеалистическими, романтическими материалистами. Я не исключаю ни Белинского, ни Писарева, ни Чернышевского, ни даже Базарова – стоит перечесть «Отцов и детей»! – Лишь тонкая пленка бессознания отделяла их от подлинной религиозности. Поэтому и были они, в большинстве случаев, «носителями высокой морали» (это старомодное выражение вовсе не смешно). Поэтому и могли в то время появляться люди крепости душевной изумительной (Чернышевский), способные на подвиг и жертву[18]. Настоящий «материализм» гасит дух «рыцарства». А скажут ли, что не было этого духа в тогдашней литературе нашей, да и во всей русской интеллигенции?
Но я говорю сейчас не об интеллигенции, не о путях ее, так страшно потом разделившихся, а лишь об одном из ее представителей, о скромном рыцаре старой русской литературы – о Вейнберге.
Он слушал печально и жадно то, что мы ему говорили. Да, но что ж, если он – «не верит»? И правда: за столько долгих лет привык он думать, что не верит! Разве словами, в полчаса, можно победить эту привычку?
Но вставая, уже уходя, он вдруг сказал:
– А должно быть, «там» все-таки что-то есть. Я ее видел.
Мы поняли, что «она» – женщина, которую он всю жизнь любил, умершая несколько лет тому назад.
– Как видели? Когда?
– Видел, вот как вас сейчас вижу. И не раз, а раза два-три за эти годы. Я лежу в постели, утром или вечером, – и вдруг она войдет и сядет рядом. И говорит со мной, только не знаю, слышу ли я ее слова – или вижу, что она думает. Странно, я даже в первый раз не испугался и не назвал ее мысленно «привидением»… Тогда и пришло в голову, что, пожалуй, «там» что-то есть…
Подумал, улыбнулся и прибавил с прелестной своей, привычной иронией:
– А может, это уж от старости… Признаки слабоумия старческого… Кто знает? Я знаю только, что видел ее, и в смерть ее с тех пор не верится…
Мы скоро после японской войны уехали за границу и в последние годы с Петром Исаевичем Вейнбергом не видались. Он скончался в Петербурге, кажется – летом 1908 года.
8
Рассказ мой о «благоуханных сединах» людей, встреченных на заре юности, – окончен. Тут следовало бы поставить точку. Если я расскажу об единственной моей встрече еще с одним старцем – яснополянским – то уже в виде приложения. От моей темы я не отступаю: благоухание этих седин знает весь мир. Но встреча наша произошла поздно, в 1904 году, была почти мимолетной, и рассказ о ней будет краток.
Поехать к Толстому? Увеличить толпу и без того утомляющих его посетителей? Но у Мережковского были особые причины желать этого посещения – отчасти паломничества: только что выпустил он свою трехтомную книгу о Толстом («Л[ев] Т[олстой] и Достоевский»), где был к Толстому не совсем, кажется, справедлив, и только что произошло знаменитое «отлучение» Толстого от церкви, акт, всех нас тогда больно возмутивший. Словом, чувствовалось не то что любопытное желание «взглянуть» на Толстого, а просто какое-то к нему влечение.
Мы стороной решились узнать, когда можем и можем ли приехать, не обеспокоив, – и лишь получив, через Сухотиных, записочку, прямое приглашение (и даже маршрут!), поехали в Ясную Поляну.
На станции нас ждут лошади. Начало мая. Светло, только что пробрызнул холодный дождь. Над полями пронзительно поют, точно смеются, жаворонки. В аллее, когда мы подъезжали к дому, деревья роняли на нас крупные радужные капли.
Внизу, в маленькой, не очень светлой передней к нам навстречу выбежала (действительно выбежала) полная, но еще стройная женщина: это Софья Андреевна.
– Ах, вот они!
Вмиг овладела нами, распорядилась, повела нас в приготовленные две комнаты – это были комнаты совсем внизу; кажется, в одной из них помещалась когда-то рабочая комната Льва Николаевича – она есть на рисунке Репина.
Пока Софья Андреевна вела нас туда – успела рассказать, что осталась на сегодняшний вечер только для нас, что завтра в 6 часов утра должна ехать в Москву – «все по делам изданий!», – но чтобы мы не беспокоились, она уже отдала все распоряжения насчет лошадей (мы уезжали на другой день с двенадцатичасовым).
– Вот, поправьтесь с дороги и приходите наверх, сейчас будем обедать!
Убежала. Ее живость меня сразу привела в удивленье и даже слегка обеспокоила.
Мы в длинной столовой-зале, с окнами на обоих концах. Стол тоже длинный. Народу много, но не очень: все, кажется, родственники.
Софья Андреевна знакомит, хлопочет:
– Садитесь, садитесь! Лев Николаевич сейчас выйдет!
Мы уже начали усаживаться, когда из дальней двери налево, шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине.
Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило почему-то, что он – маленький. Это – Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они – Толстой, то этот худенький старичок – не Толстой. Словом – не могу их соединить, нового живого – с неживым и привычным.
Софья Андреевна сидит на конце стола, я – сбоку, налево от нее, Толстой направо, прямо против меня. Стол узкий, я вижу хорошо и серую блузу, и редкую седую бороду, слегка впадающую в желтизну, и темные, густые брови: они как-то не грозно, а печально нависают над глубоко сидящими глазами. Глаза детские – или старческие – с бледной голубизной.
Толстой говорит с Мережковским; что-то о дороге, кажется, я не слышу, за столом очень шумно. Софья Андреевна ест быстро, с манерой всех близоруких – немножко «под себя». Не забывает потчевать пирожками. Блюда подает лакей в белых перчатках. Середина стола, вся – в бутылках с винами. А скоро перед Софьей Андреевной (т. е. и перед Толстым) воздвиглось блюдо с жареным поросенком – даже помню его оскаленные зубы.
Толстой, впрочем, не смотрит, он ест свое, отдельное, в маленьких горшочках, ест по-старчески внимательно, долго жует губами.
После обеда Софья Андреевна тщательно и весело показывала нам яснополянский дом, все картины, все портреты: «Вот это – Берсы!» – говорила, не без гордости, указывая на ряд потемневших полотен. В ее комнате мольберт, она занимается живописью.
– А вот спальня Льва Николаевича. Небольшая комната, белая пружинная кровать, столик, почти ничего больше…
Мы выходим на деревянный широкий балкон; парк внизу полон душистой весенней сыростью.
– Вы из Москвы за границу едете? – говорит Софья Андреевна и тотчас, обратившись ко мне, шутит:
– Вот оставайтесь здесь со Львом Николаевичем, а я вместо вас поеду за границу! Ведь я никогда за границей не была!
Бледными сумерками Софья Андреевна ведет нас в парк. Она, как девочка, прыгает через канавки, торопится все показать, все рассказать… Мы обходим кругом, она объясняет, какая роща какому принадлежит сыну, какая будет нынче сведена… И уже опять о завтрашней своей поездке в Москву, об изданиях – дела, дела…
Возвращаемся в длинную залу. В дальнем углу, где стоит диван и кресла вокруг круглого стола – Софья Андреевна теперь за broderie anglaise[19], на диване, и низко клонится к лампе с широким белым абажуром. Толстой сидит немного в стороне, на своем, должно быть, кресле, в привычно усталой позе. Случайных посетителей нет, только двое или трое каких-то, видно, постоянных жителей, да молчаливый мужчина в коричневом охотничьем костюме.
Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни… О молитве… Но Софья Андреевна и тут, схватывая момент, успевает сказать напротив. Молитва? Нет, а она верит, что можно в молитве просить о чем-нибудь и непременно исполнится. Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба… Софья Андреевна срывается с места, хватает с рояля номер иллюстрированного журнала и прочитывает вслух стихотворение Сологуба.
– А мне – нравится! – говорит она не без вызова, возвращаясь к broderie anglaise.
Скоро мы перешли на другой конец залы, к чайному столу. Чай пить явились не все сразу. И очень быстро, один за другим, исчезали. А Толстой тут-то и стал оживляться. Сам затеял разговор. Слушали его лишь какие-то два крайне молчаливых человека. Даже Софья Андреевна ушла (завтра к раннему поезду вставать!), простившись с нами весело и прелюбезно.
Разговор, в подробностях, забылся, скажу лишь о том, что помню наверное. Да и говорил Толстой, вероятно, то, что всегда и многим говорил, что много раз записано, но тон был очень оживленный, и чувствовалось, когда он обращался к Мережковскому, что книгу его о себе он читал. (Так оно и было: Толстой все читал, знал всю современную литературу. Даже наш религиозный журнал «Новый путь» читал!)
– Все хочу настоящий дневник начать и не могу. Ведь если б записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно…
– Как, – перебиваю я, – теперешней вашей жизни? Толстой кивает головой: да, да, теперешней…
Мне странно. Что это? Такая бездна смирения? Чем он считает себя так грешным – теперь?
Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл».
– Здравый смысл – это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги…[20]
Самый тон такого преувеличенного восхваления «здравого смысла» раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здравому смыслу», понятию, к тому же, весьма условному… и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького, упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то что этот хуже или лучше: а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.
В сущности же маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой – «материалист». Но я понимаю (утверждаю это и теперь), что Толстой – совершенно такой же «материалист», как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже имеет вид настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.
Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности. И вдруг Толстой произнес, ужасно просто, – потрясающе просто:
– Когда буду умирать, скажу Ему: в руки Твои передаю дух мой. Хочет Он – пусть воскресит меня, хочет – не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет…
После этих слов мы все замолчали и больше уж не спорили ни о чем.
Утром, часов в восемь, мы столкнулись, выходя из своих комнат, со Львом Николаевичем в маленькой передней. Он возвращался с прогулки, бодрый, оживленный, в белой поярковой шляпе.
– А я к вам стучал, чтобы вместе пройтись, да вы еще спали! Пойдемте чай пить…
На невысокой внутренней лесенке, ведущей в залу, он остановился на минуту вдвоем с Мережковским и сказал, глядя ему в лицо старчески-свежим взором:
– А я рад, что вы ко мне приехали. Значит, вы уж ничего против меня не имеете…
В столовой было пустовато. Кто-то – не помню, кто – разливал чай, но пили мы его втроем. Чай вкусный, со сливками, со свежими булками.
Хозяйки не было, но в «графском» доме шло все по заведенным порядкам. Слуги приходили и уходили бесшумно. Метрдотель принес даже «его сиятельству» меню на утверждение: видно, такой был издавна обычай. Толстой бегло взглянул (и что бы он стал там читать да обсуждать?), сделал утвердительный и слегка отстраняющий жест рукой, метрдотель ушел, удовлетворенный.
Все это утро мы проговорили втроем. Толстой был весел, куда веселее вчерашнего. Коренных и спорных тем не касались, говорили хорошо обо всем. Тут-то и выяснилось, между прочим, что Толстой все читает и решительно за всем следит.
Подали лошадей. Толстой вышел нас провожать на крыльцо. Трава блестела, мокрая от ночного дождя. На солнце блестела и белая с желтизной борода Льва Николаевича, а сам он ласково щурился, пока мы усаживались в коляску.
И мы уехали – опять через поля, где еще пронзительнее вчерашнего пели-смеялись жаворонки…
* * *
Это – в виде «приложения». А вот, для эпилога, последнее… не воспоминание, а упоминание еще об одном человеке, овеянном благоуханьем седин. Рассказывать о нем не нужно, он жив, все знают о нем столько же, сколько я; о своей жизни, замечательной и волнующей, он расскажет сам, если захочет… Это – Николай Васильевич Чайковский.
О, конечно, он моложе тех, друзей моей юности. А все-таки он не сын их, он – младший брат. Он того же поколения и шел тем же путем, каким шли они. Только он успел, как младший, сделать на этом пути еще один, последовательный, шаг. Н. В. Чайковский – уже не романтик-идеалист, называющий себя «материалистом». Но и не имеет идеализм его облика религии, только облика. Оставаясь по существу таким же, какими были лучшие люди его поколения, – Н. В. Чайковский исповедует христианскую религию.
Если знали многие из сынов тех лет России настоящую юность, если благоухали в старости их седины, – не оттого ли, что зерно религиозной правды таилось в душе каждого? И напрасно обманывать себя: не будет та поросль истинно молодой и живой, которая не пойдет от крепких, старых корней.
Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но «от них взять» – надо; взять и идти дальше, вперед… и тогда уж, пожалуй, действительно «без страха и сомненья».
1924
Дмитрий Мережковский[21]*
Париж
3 июня 1943 г.
четверг
(Вознесение)
Мне хочется сегодня начать мою тяжелую работу – эту запись. Хотя бы несколько слов написать. Продолжать буду после. Завтра – или через год (е. б. ж., как прибавлял Толстой, начиная что-нибудь писать, – в последние годы. «Если буду жив…»)
Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о них воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, если б имела фактическую возможность. Я ее не имею – почему – скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых – со дня смерти Дмитрия С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о себе, – о нас. Говорить же о себе мне в высшей степени неприятно – было и есть. Те, кто читал мою книгу воспоминаний о некоторых моих (и общих) друзьях («Живые лица» – Блок, Брюсов, Розанов и др.), могут заметить, что там я особенно избегаю говорить о себе – да и не там только.
Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала меня. Но потом я поняла, что, отказавшись от задачи написать то, чего от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я буду писать свободно, не думая о препятствиях, – кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи все, что будет для меня звучать неприятно. На случай внезапной смерти моей – оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название – ОН и МЫ.
Часть I
1
Фактические сведения о себе Д. С. Мережковский дал сам в двух своих биографиях: одна, давняя, приложена к полному собранию его сочинений – перед войной 14 года. Другая – напечатана в одной из парижских русских газет, уже в эмиграции, в 1935 г., когда был его 70-летний юбилей. Тоже написанная, по чьей-то просьбе, им самим.[22] Но лучше всего третья, это его «Старинные октавы», поэма, вошедшая в полное собрание его сочинений. Там – очень правдивое изображение его детства, юности, семьи. Там дана, кроме сухих сведений, атмосфера, в которой он рос, и, конечно, образ матери.
К его биографии я поэтому буду лишь возвращаться попутно и, когда придется, дополнять кое-что по его рассказам. Мать его умерла 20 марта 1889 года, т. е. через два с половиной месяца после нашей свадьбы (8 января 1889 г.) и моего приезда в Петербург. Я ее часто видела и могла понять удивительную взаимную любовь ее и его, для меня, впрочем, не очень удивительную, так как я так же глубоко любила свою мать. Отец Д. С. прожил еще около 20 лет, – умер в 1908 году, тоже в марте, в СПБ, – мы тогда жили в Париже.
Только благодаря матери Д. С. мог добиться согласия отца на свою женитьбу и обещания выдавать ему ежемесячно известную сумму денег на житье. До женитьбы он жил в семье, в большой квартире на Знаменской, где, кажется, жил еще кто-то из братьев. Из них Д. С. был младший, после него была только одна сестра Вера. Всех сестер было три. Что касается братьев – их было шесть человек.
Ни с одним из них Д. С. не был близок. Да и все эти девять человек не были, кажется, близки друг другу. Семья держалась только благодаря матери, вечной заступнице перед суровым отцом, и с ее смертью, естественно, распалась. Об отце, которого я знала, я скажу впоследствии. Он был очень богат, но взрослым детям от этого было не легче. Отец, по принципу, считал, что каждый должен сам зарабатывать и жить на собственные деньги. Дочерей он спешил выдать замуж. Давал ли он им какое-нибудь приданое – я не знаю. Он считался скупым, но скупость его была какая-то особенная, ее трудно определить. Человек, во всяком случае, с большим характером. Жену он любил безгранично, но и мучил достаточно – все из-за детей. У нее тоже был характер, и, когда ей что-нибудь казалось нужным, она, не жалея себя, добивалась, чего хотела. Младший сын, Дмитрий, был ее любимцем. И если отец дал ему кое-что на первое обзаведение и затем ассигновал на житье какую-то сумму, то это лишь благодаря ей. Если бы не она – наша свадьба была бы отложена на неопределенное время, так как у меня не было ничего, мы жили на пенсию матери после умершего в 1881 г. отца, – он служил в судебном ведомстве. В этом году закончилась и карьера Сергея Ивановича Мережковского: после убийства Александра II он, в чине действительного тайного советника, вышел в отставку. Какое точно место занимал он в Дворцовом ведомстве при Александре II – я не умею сказать. В биографии Д. С. это определено. Знаю, что семья жила на казенной квартире на набережной, а летом – на Елагине, в доме около Елагинского дворца, где 2 августа 1865 г. Дмитрий С. и родился. Он очень любил Елагин остров и много рассказывал о том, как он в детстве проводил там лето, показывал мне даже деревья, на которые залезал с книжкой, чтобы быть совсем одному. В «Старинных октавах» много об этом и об Амалии Христиановне, бонне-немке, часто остававшейся, и одной, со всей этой кучей детей. Потому, что отец, по долгу службы сопровождавший нередко двор за границу – например, больную жену Александра II или наследника, непременно брал с собою и жену, с которой не мог расстаться. Она покидала всех детей и ехала с ним, хотя, может быть, это и было ей тяжело. Об ее отъездах и приездах опять-таки сказано в «Октавах». В одно из материнских отсутствий младший сын, Дмитрий, еще совсем маленький, заболел дифтеритом. Тут уж мать прилетела и сама выходила его. С этого случая, кажется, и стал он ее любимцем, и началась их особенная взаимная любовь.
Я не пишу собственно биографию, ни его – ни мою, хотя в общем рассказе буду более или менее последовательна. Ради этой последовательности рассказа мне надо коснуться нашей встречи, случайной или провиденциальной (это как угодно), для которой нужна была целая цепь событий в его жизни, как и в моей, и без которых она не могла бы произойти.
Как сказано выше, мой отец служил в судебном ведомстве. Начал службу он рано, кончив Московский университет, и был товарищем прокурора в Туле (или, кажется, еще только кандидатом, начал же службу после своей ранней женитьбы, в Белеве, где я родилась. В Тулу он был переведен тотчас после моего рождения). С матерью моей, сибирячкой, он встретился до Белева, в Туле. Семья моего отца была московская, т. е. семья немецкая – кажется, из Мекленбурга (не знаю точно), переселившаяся в Москву в шестнадцатом веке (1534 г.), где родоначальник открыл, в Немецкой слободе, первый книжный магазин.
Отцу еще не было 30 лет, когда его назначили товарищем обер-прокурора Сената. Мы переехали в Петербург (из Харькова), но туберкулез отца не позволил ему там долго оставаться. Пришлось «перемениться» (не знаю точно, но это случалось) с чиновником на юге, и отец сделался председателем Суда в Нежине (где воспитывался Гоголь), где он от острого туберкулеза через несколько лет и умер. Мать перевезла тело в Москву, куда и мы все вскорости переехали. (С нами жила незамужняя сестра матери, бабушка, и были уже у меня три маленькие сестры, одна даже грудная.) По переезде в Москву, где жила grand’maman[23], мать отца, мать отдала меня в частную классическую гимназию Фишер на Остоженке, где мы и поселились. Мне шел одиннадцатый год.
Классическая гимназия была дорога и потому тяжела для матери, но она помнила, что отец не хотел отдавать меня в «простую» гимназию (это его предубеждение было, может быть, тогда по времени), институт же, после неудачного опыта с киевским, еще при жизни отца, был для меня невозможен и нежелателен. Мать и тогда, в Нежине, лишь уступая отцу, отвезла меня в Киев и предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Моя привязанность к отцу и к ней была такая страстная, что разлуки я пережить не могла, почти все время провела в институтской больнице, – отец уступил, и меня вернули домой. Мой отец был не суров, но строг и требователен. Когда он был чем-нибудь недоволен – он переставал обращать на меня внимание, и я знала, что необходимо идти просить прощения. После – все выяснялось, и мы опять были «друзья». Именно друзья, потому что он говорил со мной обычно как с «равной», с большой (а я была так мала, что в институте меня называли «маленький человек с большим горем», и, кажется, все, начиная с grand’maman, были рады, когда меня взяли домой). Дома – в Нежине – первый период моего «домашнего воспитания»: куча учителей из Гоголевского института. Помню одного, русского языка, которого я любила и спрашивала: «А вы знаете еще другую маленькую девочку, которая умела бы так писать, – без одной ошибки?» Гоголя я уже знала, – отец был его поклонником и даже устроил два любительских спектакля (играли его сослуживцы), чтобы в городском сквере этого городишки был поставлен бюст Гоголю. Он и был поставлен. Театра там, конечно, не было, играли в зале Гоголевского института, а репетиции все происходили у нас.
В одном только отец не мог меня переупрямить: я ненавидела гувернанток, особенно немок, и не желала учиться немецкому языку. И гувернантки-немки у нас не уживались. Положим, и были они неудачны, даже бонны. Если бы попалась такая Амалия Христиановна, которой в «Октавах» поет «хвалу» Д. С. Мережковский, – было бы, м. б., все другое.
Классическая гимназия мне очень нравилась. Я была второй ученицей, но из этого тоже ничего не вышло, хотя по другой причине, чем из Киевского института. Я заболела, доктора нашли у меня начало туберкулезного процесса (к ужасу матери, боявшейся наследственности) и запретили мне выходить зимой. Гимназию пришлось бросить, это было начало второго периода «домашнего воспитания» – опять с учителями, но уже не профессорами, а студентами Московского университета. Не могу сказать, чтобы они много мне дали. Настоящим учителем этого времени был мой дядя, один их двух братьев моей матери, очень известный в то время присяжный поверенный в Туле. Он заболел туберкулезом горла, приехал лечиться у московских докторов и жил с нами, в нашей маленькой квартирке. Очень культурный, он, не обращая внимания на моих студентов, вел живые со мной уроки, главным образом по литературе. Я уже читала теперь все, без отцовского выбора, а дядя не только это чтение направлял, но пояснял и задавал мне сочинения… на очень трудные, как теперь вижу, темы. Не всегда я с ними справлялась, но он был терпелив. Через год, к несчастью, приехала его невыносимая, полусумасшедшая жена и увезла его в Тулу, где он вскорости и умер.
Я не поправлялась, и одно время мать даже подумывала переселиться всем семейством в Швейцарию, в Лозанну, где жила тогда жена ее второго брата с детьми. Если бы это случилось – не думаю, чтобы мы встретились когда-нибудь с Д. С. Мережковским. Но случилось другое.
Весной, после довольно тяжелой зимы, когда две младшие сестры мои перенесли очень серьезный плеврит, мать решила – не переселиться, а прожить год в Крыму. Мне тогда было уже 16 лет. Была нанята дача около Ялты, на горе, в долине… т. е. над долиной Учан-Су. Она принадлежала генералу (т. е. действ. ст. советнику) А. Н. Драшусову, он был (как я узнала после) учителем А. Ф. Кони. Уже в то время глубокий старик – он занимал мезонин дачи, летом, а весь низ сдавал. Мать моя договорилась на год с его сыном, и в мае мы все двинулись на юг, с детьми, с няней (еще когда-то моей), с теткой и бабушкой. Страсть к путешествиям, к новым местам, юности свойственна. Но у меня оставалась всю жизнь, так же, как и у Д. С. А ехать тогда в Крым в первый раз… Это ли не счастье?
Д. С. в Крыму бывал с ранней юности. Кажется, еще в те времена, когда отец его сопровождал какого-нибудь больного члена царской семьи, но не за границу, а в Крым, и мать успевала уговорить взять «Митю» с собой. Я говорю «кажется», потому что я не помню, как это было в точности. Знаю, что Д. С. бывал и живал в Алупке и в общении с тогдашними ее владельцами. Он навсегда остался влюбленным в Алупку и Ореанду, еще при мне остававшуюся в руинах и запустении. Но у Сергея Ивановича было и собственное имение в Крыму, небольшое, кажется, – в долине Учан-Су, очень близко от самого водопада, и в то время когда мы жили на даче Драшусова, там проживал старший сын С. И. – Константин (в одиночестве и нам совершенно неизвестный). Д. С. там бывал тоже, но раньше этого года. Мать его как-то сказала, при мне: помнишь, как ты там (в этом имении) на балконе вдруг стала повторять: умереть хочу, умереть хочу! – да чуть и не умерла, заболела тогда тифом?
Не знаю, когда было это имение продано. Но к нашей свадьбе его уже не было, и Д. С. гораздо более часто говорил об Алупке, нежели о нем.
Наш год на даче Драшусова подходил к концу, я и сестра чувствовали себя хорошо, но было еще не решено, куда же мы отсюда поедем? Опять в Москву? Ничто не связывало мать мою с Москвой особенно, кроме могилы мужа. Детей учить (в гимназии) рано, меня – поздно. Но и оставаться в Крыму, искать новую дачу – бессмысленно. Мне нравилась эта неопределенность: что-нибудь да будет же, и новое, а значит – хорошее. В Крыму я начинала скучать: не было кругом никого, даже той кузины московской, которую одну я и любила. Не было и книг. Уроки, которые я давала второй сестре, – надоедали мне. Единственное развлечение – переписка, все равно с кем, лишь бы писать. Когда старик Драшусов уезжал в Москву – я писала ему, и он отвечал, и даже потом сказал, что хорошо, если бы я попробовала вообще что-нибудь писать. Но я писала только бесконечные дневники и – шуточные стихи, на кого попало: на тетку, на старика Драшусова… (тетка эта, старая дева, в него влюбилась). Такими упражнениями я заразила и тетку, и барышню, которая с нами жила, и даже на один раз – мать. Если писали другие – то они оставались втайне.
Было еще одно, довольно жалкое развлечение (это уж под конец) – ялтинский жалкий театр. Шли только оперетки, – но не все ли равно. Гора наша была тяжелая, но я уговорила маму спускаться в Ялту хоть раза два в неделю, в этот театр. Однажды, в сумерки, спускаясь, мы встретили кого-то, к нам как будто едущего, на извозчике. Вернувшись поздно, мы узнали, что был у нас из Тифлиса приехавший второй мамин брат, Александр. Он уже давно жил в Тифлисе – был тоже адвокат и даже издавал газету «Юридический вестник». Вот этот приезд и решил нашу судьбу – мою в особенности.
Переезд нашей семьи на Кавказ разрешал много затруднений и вопросов. Во-первых – вопрос материальный. Дядя был почти богат, он брал к себе бабушку (свою мать) и тетку (сестру). Жена его с детьми вернулась из Швейцарии, и лето мы должны были провести все вместе, в горном Боржоме, – и тут разрешался и вопрос о климате, – о моем здоровье, которое должно было укрепиться. Мои новые кузен и кузина (я их видела только в самом раннем детстве) писали мне восторженные письма о Боржоме.
И в конце мая мы сели на пароход, отходящий в Батум. В том же составе ехали, как из Москвы. Был, впрочем, и лишний пассажир: бабушкина черная кошка.
Лето в Боржоме с дядиной семьей… Это была, и вправду, новая жизнь. После Москвы, после скучной крымской дачи – музыка, танцы, верховая езда… Для шестнадцатилетней провинциальной барышни – нельзя лучшего и желать. С кузеном Васей, гимназистом, одних лет со мной (будущий думский депутат) мы сразу крепко подружились. Да и природа Боржома – обворожила меня.
Осенью мы переехали в Тифлис, в собственную квартиру. И зимой не было скучно. Мы все, младшие, надеялись, что весной вернемся в Боржом. Но у дяди Александра был странный характер: он был немножко самодур и деспот. Почему-то он решил, что довольно Боржома, надо попробовать и другое место, – например, Манглис. Никто там не был, хорошего о нем слышно не было тоже, но – жена дяди поехала и наняла дачи там.
Добра из этого не вышло. Не буду вспоминать ни этого неприятного места, ни трагического лета. Дядя Александр, приехав на дачу позднее всех, особенно угрюмый (но уже больной) – через две недели там, и умер, от воспаления мозга.
Опять новая жизнь? Почти. Для моей матери, т. е. и для нас, она осложнялась большими заботами. Бабушку и незамужнюю тетку, после смерти дяди, их брата и сына, моя мать снова должна была взять к себе. «Богатство» дяди Александра оказалось доходами с его работы, семье своей он не оставил почти ничего, и жена не могла же брать на себя содержание мужниных родных. После смерти дяди они переехали в маленькую квартирку, англичанка кузины Сони была отпущена, девочку намеревалась мать отдать просто в гимназию.
Мы тоже переменили квартиру. Зиму провели тихо, – смерть, как всегда, перевернула во мне, в душе, что-то очень серьезно. Я много читала, – увы, без всякого руководства, а что придется, что можно было достать. Пристрастилась, конечно, к стихам. А тут как раз началась «надсониада», если можно так выразиться. Только что умерший Надсон проник со своей «славой» и в провинцию. Тифлисские гимназисты, приятели кузена Васи, нас окружавшие, все записали стихи, особенно потому что и я их в то время писала не так мало, – довольно скверные, конечно. Но я отмечу странный случай. Мне попался петербургский журнал, старый, прошлогодний, – «Живописное обозрение». Там, среди дифирамбов Надсону, упоминалось о другом молодом поэте и друге Надсона – Мережковском. Приводилось даже какое-то его стихотворение, которое мне не понравилось. Но неизвестно почему – имя запомнилось, и как… – об этом ниже.
К весне (1888 г.) мы, по молодости лет, оправились от манглисского кошмара и беззаботно стали мечтать о… нашем Боржоме. Было бы бесцельно нашим матерям, моей и кузины, убеждать нас, что время другое, что денег для Боржома теперь нет… Мы бы не поверили, – да и почему в Боржоме жить дороже, чем в Тифлисе. А дачки можно нанять маленькие, дешевенькие…
Так оно и вышло. Две маленькие дачки, обе на горе, но не близко одна от другой, были наняты, и в конце июня (раньше в горные места, от дождей, переезжать нельзя) мы все очутились, наконец, в нашем Боржоме.
Мать Д. С. Мережковского эти последние годы болела печенью, и Сергей Иванович увозил ее в Vichy. Так было и в этот год, когда Д. С. сдал кандидатскую диссертацию и только что издал первую книжку стихов. Ему было 23 года. Но и до этого лета мать, уезжая в Vichy, приберегала какую-то сумму для своего «Мити», чтоб он мог поехать, куда хочет: знала его любовь к путешествиям. Он уже ездил по России, был у Глеба Успенского и у знаменитого тогда (не знаю чем) крестьянина Сютяева. А еще раньше был ненадолго в Париже с семьей музыканта Давыдова.
В год нашей встречи (1888) он начал путешествие с поэтом Минским, но потом они расстались, когда Д. С. спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье и случайно (кто-то в дороге же ему посоветовал) – попал в Боржом.
Встретил его Боржом неприветливо: это было в мае – и шел непрерывный дождь. Серое небо, сырость, а гостиницы в тогдашнем Боржоме были ужасные. Да Д. С. еще и не попал в лучшую, «Кавалерскую», а в какой-то просыревший барак. Он хотел уже уезжать. Пошел на почту, спросить, нет ли писем из Vichy, от матери, да и лошадей до станции Михайлово там же заказать можно было. Начальником почтовой конторы был хороший наш, по первому пребыванию в Боржоме, знакомец – молодой латыш Якобсон. Весь год, после боржомского знакомства, я была с ним в деятельной переписке. Стихотворная и вообще литературная зараза нашего юного гимназического кружка очень его коснулась, он вообразил себя тоже писателем и присылал мне, вместе с красивыми тетрадями для моих дневников, свои «произведения», смешные «стихотворения в прозе». Надо признаться, что мы над ним много насмешничали, хотя, может быть, и два главные наши поэты-гимназисты, Глокке и другой, не помню фамилии, писали не многим лучше. Белобрысый, красноносый, он говорил с акцентом, выговаривая «л» как «l», и звали его «Сила» (как Sila). В силе своей (литературной) он был уверен, и Силой мы звали его потому, что он, убеждая меня однажды выйти за него замуж, сказал: «Вы sila, и я sila; вместе мы горы сдвинем». Я, конечно, этими горами не убедилась, но вот к этому-то Якобсону и попал Д. С., спрашивая письма на имя Мережковского. Наш знаток литературы имя петербургского поэта знал и очень обрадовался случаю: как, уезжать? Сезон начинается, вы увидите, что такое Боржом. В гостинице вам плохо, переезжайте ко мне. У него была своя уютная и благоустроенная дачка, куда он и перетащил своего нового пленника, за которым всячески стал ухаживать. Прочел его новенькую книгу стихов, конечно. Вдохновившись Буддой, придумал довольно глупую фантазию: попросил гимназиста-поэта Глокке, тоже приехавшего в Боржом, сказать мне, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. Глокке, всем и всегда покорный, все это исполнил, едва мы, в последних числах июня, водворились на нашей дачке. И вот тут-то произошла странность, которую я не могу сама объяснить: когда Глокке, со своими еще подробностями, рассказал мне про буддиста, у Якобсона, я вдруг сказала: все это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у Ивана Григорьевича просто Мережковский. Глокке опешил: кто вам сказал? Но мне никто ничего не сказал, и после «Живописного обозрения», я нигде не видела, не слышала имени Мережковского, да никогда о нем и не думала.
Видя, что тайна раскрыта (или угадана), Глокке мне все рассказал, что знал, прибавив: «Да, Мережковский, я книгу читал, и с ним познакомился. Но он не танцует и верхом не ездит». Последнее замечание еще ослабило мой интерес к поэту (единственное стихотворение в «Живописном обозрении» мне тогда не понравилось). «Но Иван Григорьевич хочет все-таки его с вами познакомить – продолжал Глокке, – вот, в ротонде, в воскресенье. Вы будете?»
Еще бы! Как пропустить танцевальный вечер?
К залу боржомской ротонды примыкала длинная галерея, увитая диким виноградом, с источником вод посередине. По этой галерее гуляют во время танцевальных вечеров, или сидят в ней, не танцующие, да и танцующие – в антрактах. Там, проходя мимо с кем-то из моих кавалеров, я увидела мою мать, и рядом с ней – худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский. Глокке уже приносил мне его книгу и уже говорил о нем с восторгом (которого я почему-то не разделяла и не хотела, главное, разделять). Я была уверена (это так и оказалось), что и Глокке, и Якобсон уже говорили обо мне Мережковскому (о нашей «поэтессе», как тогда меня называли), и, может быть, тоже с восторгом, Глокке даже, может быть, читал ему мои стихи. Думала также, что Мережковский их восторга, как я о нем, не разделял. Не последнее, а все это вообще мне было неприятно. Потому, должно быть, когда в зале ротонды, после какой-то кадрили, меня Глокке с М. познакомил, я встретила его довольно сухо, и мы с первого же раза стали… ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне стихи его казались гораздо хуже надсоновских, что я ему не преминула высказать. Маме, напротив, Мережковский понравился, и сам он, и его говор (он слегка грассировал).
Однако после первой встречи мы стали встречаться ежедневно, и в парке, на музыке, и у Якобсона, куда он нас с мамой часто зазывал. Но почти всегда разговор наш выливался в спор. Моему кузену Васе, совсем не поэту, Мережковский тоже понравился. Не потому, что писал стихи, а потому, что читал Спенсера.
В нашу компанию вошел новый элемент чего-то более все-таки взрослого. Ведь 23-х летний Мережковский был, однако, старше всех нас. Да и чувствовалось, что он из другого совсем мира, не того, к какому принадлежало и большинство наших «взрослых», – старых. В Боржоме бывала куча всякого сброда во время сезона. Их Мережковский называл «архаровцами» (пошляками) и старался быть от них подальше. Он много гулял один (погода стояла божественная), и я уже знала, что он сочиняет теперь длинную поэму из испанской жизни под названием «Силвио».
Почтарь Якобсон был, в конце концов, даже рад, что мы с Мережковским не очень дружны, все будто ссоримся. Он стал рассказывать, что Мережковский влюблен в одну тамошнюю барышню, Соню Кайтмазову, которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке. Эта барышня, очень, действительно, скромная и милая, кажется, была чеченка. Ее темная коса была так длинна, что касалась подола платья – тоже длинного, по тогдашней моде. Мережковский не отрицал, что она прелестна, что они встречаются… Но, как потом он мне рассказывал, она раздражала его живой характер своим тупым молчанием: точно ничего не понимала, о чем с ней говорят.
В это же время в Боржом приехал один недавний наш знакомец, какой-то дальний родственник моего отца, А. И. Гиппиус. Приходился он мне дядей, но таким дальним, что в шутку он звал меня «тетушкой» и, между прочим, имел намерение на мне жениться. Он был ко мне очень мил, но его намерение меня не трогало. Он мне казался «старым» – больше 30 лет! И хотя он мне подарил все сочинения Надсона – чувствовалось, что мы с ним не пара, любой гимназист был мне как-то веселее.
Он, впрочем, надеялся, что молодая живость моя скоро угомонится. Гимназисты ему были, конечно, не соперники. Но познакомившись с Мережковским, он раз сказал мне: «Вы видите, тетушка, какие есть блестящие молодые люди в Петербурге. Я там их встречал. Но хоть и легко, не следует этим блеском увлекаться».
Я, впрочем, и не была, или не считала себя увлеченной. Мы с Мережковским продолжали полуссориться, хотя встречались теперь постоянно, несколько раз в день. Все мое молодое окружение было от Мережковского в восторге, – и, может быть, это меня немножко раздражало. Особенно рассердилась я, когда кузен Вася сказал, что Мережковский считает меня необразованной, что это жаль и что он советует мне почитать Спенсера. Хороший ли был совет – другое дело. А что я была действительно редкий неуч – тут какой же спор, я это и сама знала, потому и рассердилась на всех троих: на Васю, на Мережковского и на Спенсера.
В эти дни устраивались часто дальние поездки целой компанией. Устраивал их чаще А. И. Гиппиус, с помощью почтаря Якобсона, который сам в них не участвовал. Мережковский всегда приглашался мною, но вдруг начинал капризничать: говорил, что ему скучно с «архаровцами», что все это пошлость и т. д. Я сердилась и уходила из парка. А потом, в последнюю минуту, Д. С. являлся без капризов и мы ехали в двух или трех экипажах – раз в Абас-Туман, горное место, на два дня, в другой раз – на «Ацхурские огни» – таинственное место, где ночью горел неизвестный огонь, видный лишь с нижней дороги. Мы туда ночью ходили исследовать, где горит огонь. Ничего, конечно, не нашли, вернулись к лошадям, и в Боржом приехали только утром.
Во время таких поездок и вообще среди нас Д. С. был центром. Но отнюдь не был он тем, кого называют «душой общества». Никого он не «занимал», не «развлекал»: он просто говорил весело, живо, интересно – об интересном. Это останавливало даже тех, кто ничем интересным не интересовался. Но понятно, что все мои гимназисты, которых я, признаться, и раньше, от них того не скрывая, считала дураками, – тут уж совсем поглупели – даже в своих, кажется, глазах. Один мой кузен Вася, хоть и не поэт, не терял апломба перед Мережковским, но ведь Вася читал Спенсера.
Пока происходило это завоевание Боржома, почтарь Якобсон, наша Sila, стал, напротив, как-то косо поглядывать на Мережковского. Они давно уже не жили вместе. Д. С. переехал в открывшуюся с сезоном «Кавалерскую» гостиницу. Может быть, Якобсон заметил, что мои споры с Д. С. не мешают нашему сближению, а может быть, возревновал его к своему литературному «имени» или званию, потому что принялся устраивать у себя свои литературные вечера со своими поэтами в черкесках, над которыми и гимназисты справедливо издевались. Не понравилось Якобсону и первое, шутливое, стихотворение, которое мне написал Мережковский. (Я его помню, но не стоит его здесь выписывать.) Каждый день, в парке, Якобсон мне повторял, что М. скоро уезжает. Однако он же, в одно прекрасное утро, объявил мне торжественно и – мне показалось – злобно: «Он остается».
С самим М. мы о его отъезде или неотъезде не говорили, хотя видались теперь в парке всякое утро – и наедине. Он спрашивал накануне, в котором часу я приду, просил прийти пораньше. Я однажды сказала, совершенно просто: «А если я просплю?» И вдруг удивилась его неожиданной обиде. Я была избалована, однако почему-то мысль, что Мережковский серьезно ухаживает за мной, что я ему серьезно нравлюсь, мне пришла тогда впервые. Если он… а что же я? Так вдруг я еще не умела себе ответить. Я только полюбила наши утренние прогулки вглубь ущелья, наши почти уже мирные, всегда интересные, разговоры… Любопытно, что у меня была минута испуга, я хотела эти свиданья прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать? Он – умнее меня. Я это знаю, и все время буду знать, и помнить, и терпеть… Этой мгновенно промелькнувшей мыслью я доказала, кстати, что умней меня и не трудно быть.
Через несколько дней очень многое неожиданно выяснилось… или запуталось. Во всяком случае, изменилось.
В сущности, весь период нашего первого знакомства с Мережковским был короток: несколько последних дней июня, когда мы приехали в Боржом, и первые десять дней июля, потому что 11 июля и наступила та перемена в наших отношениях, о которой сказано, и начался уже второй период.
11 июля, в Ольгин день, в ротонде был танцевальный вечер, но не воскресный, не обычный, наш, а детский. Он устраивался во все лето лишь один раз, и мы все туда, конечно, тоже отправились, смотреть. Д. С. Мережковский, хотя не танцующий, бывал, однако, и на воскресных вечерах, встретили мы его и на этом. Бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, кажется, веселее, мне же скоро наскучило. Д. С., конечно, тоже. Да в зале – духота, теснота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в арке стояли серебряные от луны. И мы с Д. С. как-то незаметно оказались вдвоем, на дорожке парка, что вьется по берегу шумливого ручья-речки Боржомки, далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы все дальше, так что и музыка уже была едва слышна. Я не могу припомнить как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение». Еще того чаще слышала я «объяснение в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения»: мы, и главное, оба – вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно и естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного и не случилось. После, вспоминая этот вечер, особенно во время наших размолвок (их потом случалось немало), я даже спрашивала себя, уже не из кокетства ли я тогда ему не возражала, и действительно ли хочу выходить за него замуж? Уже бывала, и не раз, «влюблена», знала, что это, а ведь тут – совсем что-то другое! Первое мое влюбление, в 16 лет, было кратко (как, впрочем, и другие) – в талантливого и красивого скрипача, сына нашего домохозяина, часто у нас бывавшего и очень за мной ухаживавшего. Он был уже тогда смертельно болен, туберкулезом, но состояния своего не знал, и, вероятно, сделал бы мне предложение, если б, к счастью моей матери, которая все видела и ни за что бы на этот брак не согласилась, мы не уехали внезапно из Тифлиса. Через полтора месяца я все забыла, а мой Jerome В. осенью от своей болезни и умер. Последующие мои влюбленности вызывали у меня отчаяние и горестные страницы в дневниках: «Я в него влюблена, но ведь я же вижу, что он дурак».
И вот, в первый раз с Мережковским, здесь, у меня случилось что-то, совсем ни на что не похожее…
Мы вернулись в ротонду, когда вечер уже почти кончился и мама начинала тревожиться, меня не находя. Мать моего кузена Васи, с ним и с его сестрой Соней отправилась к нам пить чай. Она (тетя Вера, как мы ее называли) первая обратила внимание на мой странный, какой-то растерянный, вид. Дома я немножко пришла в себя, но отвечая на все расспросы, никак все-таки не могла рассказать то, что произошло в точности, ибо сама его себе не объясняла, да и мамы наши этого бы не поняли. И я сказала понятнее, что, мол, Мережковский сделал мне предложение. «Как, и он?» – засмеялась тетя Вера, зная, сколько у меня тогда было «женихов». И прибавила: «Зина, кажется, и сама удивлена этой неожиданностью».
– Что же ты ему ответила? – спросила мама.
– Я? Ничего. Да он не спрашивал ответа!
И, рассердившись, я ушла в свою комнату.
На другой день, утром мы, как было условлено, встретились в парке и… продолжали тот же разговор. Он рассказывал мне о своей семье, об отце, главное, конечно, о матери. Рассказывал и о Петербурге, и о своих путешествиях. Молодую живость, увлекательную образность речей он умел сохранить до конца жизни, но у юного, 23-хлетнего Мережковского была в его речах еще и заразительная веселость, не злая, а детская насмешливость.
С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром, вдвоем. Днем, если мы не ехали никуда всей компанией, Д. С. бывал у нас. Никакого «объявления» о нашей будущей свадьбе не было, но как-то это, должно быть, зналось. Мои поэты-гимназисты сами были увлечены «настоящим» поэтом, и ревновать меня к нему им и вообще было не к месту. Один только латыш-почтарь (Sila) почему-то нашим сближением был недоволен. Глокке, бывший у него в подчинении и у него, кажется, живший, мне это довольно чепушисто передавал, а однажды, уже поздно вечером, в мое окно, из сада, влетел толстый букет цветов, очень нас испугавший (я была с мамой). Я выглянула в окно, из черной-пречерной ночи раздался жалобный голос Глокке: «Это от И. Г. Он спрашивает: „Если бы не то – то что?“» Таинственный вопрос. Он так и остался для меня тайной. Подумав, я, однако, решила сделать вид, что понимаю. – Скажите, что тогда было бы еще лучше, но и теперь недурно. – Этим дело не кончилось, и латыш, вообразив неизвестно что, вдруг предложил как-то, в галерее, Д. С. – «обменяться пулями». Это было до такой степени глупо и непонятно, что Д. С. – он мне рассказывал потом – только рассмеялся ему в лицо, а почтарь сам сконфузился.
Рассказывая мне о петербургских поэтах, Д. С. заговорил как-то о Льдове: «Пришел ко мне невзрачный человек, принялся читать стихи, довольно скверные, и вдруг прочел одно – прекрасное»: «Как пламя дальнего кадила, закат горел и догорал. Ты равнодушно уходила…» и т. д.
Стихотворение, правда, казалось нам тогда хорошим, хотя не было похоже на Надсона. Главное же, что немедленно прельстило наших поэтов, – льдовские попытки писать стихи… не то что «вольно», как потом это вошло в моду (не так скоро), – а просто полуритмической прозой. Это было не то, что я же сама, освободившись от Надсона, уже в СПБ, начала вводить, написав свое «Хочу того, что нет на свете». (Этой «Песни» никто не хотел печатать, находя, что это «не стихи», а более ранние я уже тогда везде печатала.) Льдовскую полуритмическую прозу писать – казалось легко, меня же всегда соблазняла «трудность» писать стихи, а потому я этим жанром не прельстилась, хотя и сам Д. С. пробовал его в то время. Я даже помню две строчки из одного такого «стихотворения»:
Мы два товарища орла, Летим, летим под тучу грозовую…(Если б мы тогда представить себе могли, под какую грозовую тучу мы с ним в жизни попадем.)
Но это к слову, наши же доморощенные «поэты» схватились за эту стихотворную прозу с особым увлечением – чего легче? Глокке, так тот писал это буквально каждый час, – услышит что-нибудь, и в другую комнату, за перо и бумагу, готово новое стихотворение.
Лето, однако, приходило к концу. Из горных мест уезжают рано, в начале сентября мы двинулись в Тифлис. Д. С. поехал туда же, очень ненадолго. У нас было решено, что он уедет в Петербург, на два месяца, чтоб устроиться с отцом, нанять квартиру, а венчаться мы будем в январе (1889 г.). И опять «решено» все это было как-то без лишних слов, а само собой. Мама почти примирилась с моим Петербургом. Д. С., кажется, уговорил ее обо мне не беспокоиться. А я знала, что она в Тифлисе не останется, да и смысла не было, после смерти брата. Степановская семья и сама не оставалась на Кавказе: через год Вася кончал гимназию, Соня тоже, и оба мечтали о высшем образовании. Они должны были переехать в Петербург. Маме же со всей семьей (бабушка, тетя Леля, старая дева, няня Дашенька, три девочки, племянник Паша, – ну, и черная кошка) решила поселиться в Москве, но уже первое лето после моей свадьбы мы провели вместе, на даче под Москвой.
В сентябре Д. С. уехал из Тифлиса, и тогда-то мы и стали писать друг другу каждый день. Это была наша единственная разлука, после свадьбы мы уже не разлучались, потому никакой «переписки» между нами и не было.
2
Зима в Тифлисе 1888–1889 г. была очень суровая и началась рано. На Военно-Грузинской дороге – непрерывные обвалы, а так как в то время иного сообщенья с Закавказьем не было, то почта зачастую опаздывала на целую неделю. Тогда я получала сразу целый пакет писем от Д. С. Он не привык к запозданью и очень беспокоился, особенно когда в это время у меня был дифтерит. Несколько писем от него получила и мама – более реального содержания, насчет того, как он думает устроиться со мною в Петербурге.
Он вернулся туда раньше возвращенья отца и матери из Vichy. Но они не замедлили, и потом он рассказывал мне, да и мать его тоже, что пока она, больная, взбиралась на пятый этаж (они жили на Знаменской, 35, отец почему-то всегда предпочитал пятые этажи), – он уже на лестнице рассказал ей все. И она, конечно, уж знала, какое тяжкое дело ей предстоит с отцом. Нужно было уговорить его дать несколько тысяч на обзаведение, и потом назначить ежемесячно минимальную сумму на прожиток. Не знаю, сколько времени длились переговоры, представляю себе, как они были тяжелы ей, совершенно в Vichy не поправившейся, но своего любимца Митю она все время утешала, что дело выйдет. Утром, как всегда, приходя к нему поздороваться, когда он лежал еще в постели, шутила с ним, как с ребенком (не был ли он для нее ребенком). «Будет тебе, будет твоя цаца!» В письмах ко мне он не сомневался, что мать все устроит. И был прав. У нас, кроме самых близких, никто и не знал о моей предстоящей свадьбе. Моя мать старалась приготовить мне что-то вроде приданого, но при нашем положении какое уже приданое! Настроение мое было не очень веселое, мне почему-то было страшно, хотя и переписка уже очень сблизила нас с Д. С. Первая разлука с матерью уже пугала меня, хотя и недолгая: переезд в Москву и общее житье летом были решены. В общем – жизнь моя, в эти два с половиной месяца, шла без перемен.
Мы ждали приезда Д. С. в начале декабря, но он приехал неожиданно раньше. В конце ноября, кажется, 23-го, хорошо помню: меня не было дома, а когда, вернувшись, я вошла в нашу длинную залу, я увидала его стоящим около одного из окон, и так удивилась, что довольно бессмысленно спросила: «Откуда – вы?», на что последовал естественный ответ:
– Непосредственно из Петербурга.
Меня удивило только его красивое грассированье, от которого я отвыкла, забыла его.
Об этом времени перед нашей свадьбой мне почти нечего рассказывать. Мы, конечно, проводили целые дни вместе, читали (помнится, читали и вышедший тогда роман Золя – «Le Rêve», который обоим нам не очень, однако, нравился. Но он привез немало новых русских книг и журналов, Чехова, между прочим, о котором только что написал статью в «Северном вестнике». Очень подробно рассказывал он мне об этом журнале, о редакции, с Анной Михайловной Евреиновой во главе (и ее муже). Там работал тогда и А. Н. Плещеев.
Гаршина, которого уже не было (в припадке безумия он выбросился в пролет лестницы), Д. С. знал хорошо и любил его. Привез Д. С. и первые мои, полудетские, конечно, стихи, напечатанные Плещеевым в том же «Северном вестнике» за подписью З. Г. Говорят, что видеть себя в печати впервые – приводит молодого автора в особо неистовый восторг. Я этого восторга не испытала, может быть, – потому, что в печати мне уж стало слишком ясно, какие это стихи, сколько в них Надсона, к которому у меня началось охлаждение.
Стихи, впрочем, я продолжала писать (увы, все такие же), хотя Д. С. очень советовал мне попробовать прозу. Но о первых моих дебютах, столь неудачных, в прозе – потом, если придется к слову.
Всех «наших» Мережковский, конечно, очаровал сызнова своей молодой живостью и все той же способностью заинтересовывать тем, что он говорил и чем сам интересовался. Даже 14-летний племянник мамы, перешедший из дядиной в нашу семью, какой-то невинно-придурковатый (сумасшедшая мать успела этому посодействовать), – вдруг стал за обедом объясняться Д. С. в любви и «высоком уваженьи». Даже мой учитель музыки, молодой поляк, очень талантливый пианист, но тоже, по-своему, придурковатый, и тот возгорелся этим самым «уважением и восхищением», хотя Д. С. не обращал на него никакого внимания, – он не любил и не понимал музыки. Оттого ли не любил, что не понимал, или обратно, – не знаю. Но это было предметом наших полуссор. После ялтинских опереток я пристрастилась к опере, а опера тогда, в Тифлисе, была превосходная. В ту пору приезжал Чайковский (мы его видели в театре), и с удовольствием слушал своего «Евгения Онегина». Часто Д. С. хотел, чтобы я осталась вечером дома, а я стремилась в оперу, предлагая ему оставаться дома, если он не желает ехать со мной. Он сердился: «Неужели вы думаете, что я не предпочту слушать с вами самую скучную оперу, но не сидеть один в номере гостиницы?», и ехал со мной – без всякого удовольствия. Сопровождал он меня и в Кружок, где по четвергам были скромные танцевальные вечера. Там однажды мы встретились с Соней Кайтмазовой, боржомской барышней с длинной косой, в которую Д. С. был – как уверял – влюблен до меня. Оба не танцующие, они прохаживались по зале, или сидели у окон, о чем-то разговаривая, пока я танцевала… уже не с гимназистами, – они в Кружок не допускались. Да моя гимназическая компания уже распалась сама собой: ведь это были гимназисты 8-го класса, и они все разъехались по университетам и разным институтам, а кое-кто пошел в военную службу, «чтобы раньше взять жизнь», как эти говорили.
У нас дома только наша няня и тетя Леля, старая дева, не были Мережковским очарованы. Обе – из-за приверженности к Ал. Ив. Гиппиусу (он совсем исчез из Тифлиса, поехал, как оказалось, жениться на барышне Зубовой, которую присмотрел на случай, если со мной не выйдет). А тетя Леля была в него безнадежно и тайно (явно для других) влюблена. Не могла понять, как я ему предпочла Мережковского, неизвестно откуда взявшегося. А моя няня Даша (удивительное она была существо!) любила «важность». Ал. Ив. ей казался более важным и солидным. Что у Мережковского папаша – генерал (тайный советник) – она еще не знала. Впоследствии, когда наша семья из Москвы переехала в Петербург, и вплоть до нашего бегства, она жила у нас с Д. С. Да и сестры мои уже тогда подросли. Я сразу хотела взять ее с собой в СПБ, – ни за что.
В этот период мы с Д. С. ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и в первый год после свадьбы, но все же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие «свадьбы» и «пиры» – противны, что надо сделать все попроще, днем, без всяких белых платьев и вуалей, – мы были согласны. Венчанье было назначено на 8 января (1889 г.), но уехать в тот же день, или даже на другой, мы не могли: билеты в дилижанс мы достали только на десятое. Я не хотела даже шаферов, но оказалось, что они необходимы: венцы нельзя надевать на головы, как шляпу, надо их над головами держать. Мой шафер был кузен Вася (он только перешел в 8 класс), а второй – какой-то его товарищ.
Утро было солнечное и холодное. Мы отправились с мамой в Михайловскую церковь, близкую, как на прогулку: на мне был костюм темно-стального цвета, такая же маленькая шляпа на розовой подкладке. Дорогой мама говорила мне взволнованно: «Ты родилась восьмого, в день Михаила Архангела, с первым ударом соборного колокола в Михайловском соборе. Вот теперь и венчаться идешь 8-го, и в церковь Михаила Архангела».
Но я была не то в спокойствии, не то в отупении: мне казалось, что это не очень серьезно. В церкви (холодной) мы нашли наших шаферов, свидетелей и двух теток – жену (и ее сестру) покойного дяди. Свидетели были их знакомые, какие-то адвокаты. Нашли мы и жениха. Он был в сюртуке и в так называемой «николаевской» шинели, – их тогда много носили – с пелериной и бобровым воротником. Она была петербургская – пригодилась и для суровой тифлисской зимы. В шинели венчаться было, однако, нельзя, и он ее снял. Говорил потом, что не почувствовал холода, ведь все это продолжалось так недолго. Еще бы, ведь не было ни певчих, ни даже, кажется, диакона, и знаменитое «жена да боится своего мужа» прошло совершенно незаметно. Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон – на всю церковь. На розовую подстилку мы вступили вместе и – осторожно: ведь не в белых туфельках, – с улицы, а это все идет после священнику. Как не похоже было это венчанье на толстовское, которое он описал в «Анне Карениной» – свадьба Китти! Когда давали нам пить из одного сосуда, поочередно, я, во второй раз, хотела кончить, но священник испуганно прошептал: «Не все! Не все!» – кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, и вот – мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.
– Мне кажется, что ничего и не произошло особенного, – говорю я одному. Тот смеется: «Ну, нет, очень-таки произошло, и серьезное».
Затем мы, так же пешком, отправились к нам домой, свидетели ушли к себе. Дома нас ждал обыкновенный завтрак, только не знаю кто, мама или тетки, решил все же отметить столь не пышную, а все-таки свадьбу: во время завтрака явилось шампанское, его дали даже Паше, который, как выяснилось, потихоньку в церкви был и остался доволен. Стало весело, – впрочем и раньше никто не грустил (кроме мамы, может быть, – ведь все-таки разлука!).
Затем гости (тетка и шафера) ушли домой, а наш день прошел, как вчерашний. Мы с Д. С. продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали. Вечером, к чаю, зашла случайно бывшая моя гувернантка-француженка. Можно себе представить, что она чуть со стула не упала от неожиданности, когда мама, разливая чай, заметила мельком: «А Зина сегодня замуж вышла».
Д. С. ушел к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем. Да так забыла, что на другое утро едва вспомнила, когда мама, через дверь, мне крикнула: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!»
Муж? Какое удивленье!
Я думаю, из людей, бывших в Закавказье только в конце века и после, мало кто знает Военно-Грузинскую дорогу. В те же времена туда было только два пути: морем на Батум – и вот эта горная дорога на лошадях, до Владикавказа. Я не буду описывать ее красот, ни зимних, ни летних (мы проезжали с Д. С. ее дважды). Лермонтов достаточно хорошо описал Кавказ, и мне напрасно было бы стараться что-либо к нему прибавить. Скажу только, что Швейцария, если не кажется перед ним мизерной (конечно, нет), то, во всяком случае, мало его напоминает: это совсем что-то иное, не то линии другие, не то воздух самый: трудно определить. Может быть, это и воображение.
Мы выехали довольно рано. Со второй станции громоздкий дилижанс был покинут: нас по-двое рассадили в сани и мы покатили по узкой снежной дороге. Мне навсегда запомнилось это нестерпимое солнечно-снежное сверканье, как бы длительная молния. От него и синий вуаль, которым меня снабдили, не помогал. Когда снежные стены с обеих сторон дороги делались круче и мелькал черный флажок на них, – даже легкие сани замедляли ход: флажок обозначал опасность обвала. А такой обвал – не пустое: гибель от него в диких местах почти наверное. Другой флажок – красный – советовал, напротив, проезжать это место как можно скорее: тут обвал уже был, но возможен второй.
Возница наш, грузин, был словоохотлив, но громко говорить избегал: это тоже благоприятствует обвалу. Мы почти не заметили, как свечерело, снега потускли. Близок был высший пункт – Крестовая гора, где обычно ночевка. Никаких на ней Палас-отелей, конечно, не было, да и не было их, конечно, и после, – никогда. Никто их и не ждал. Несколько деревянных гостиничных построек, неудобных, конечно, но теплых. Мы все-таки почти не раздевались и укрылись – я своей белой бараньей шубой, он – шинелью. Предварительно нас недурно накормили.
Утром надо было выезжать рано, чтобы к темноте попасть в город. И от высокого Креста, полузанесенного снегом, – пошла опять та же белая дорога, только вокруг горы теснились еще ближе, ущелья были еще суровее. Возница раз обернулся к нам и, указывая направо, на какое-то невозможное острие, проболтал: «Замок царицы Тамары…» Д. С. засмеялся: «Скажите, какая эрудиция…» Но вряд ли грузин знал Лермонтова: должно быть, так у них повелось, указывать проезжающим на это острие над пропастью.
Когда мы приехали на станцию Казбек (у подножия этой величественной горы, стоявшей как-то особняком), погода начала пopтиться, подымался ветер. Казбек «курится» и в хорошую погоду, но тут понемногу стали наплывать настоящие тучи.
Не помню, на какой станции мы оставили наши сани, перебрались опять в местный дилижанс: снег почти исчез. В город (Владикавказ) приехали очень поздно, было темно и накрапывал дождь. За вторую половину пути мы устали больше и рады были постелям какой-то плохонькой гостиницы.
На другой день обыкновенный поезд помчал нас в Москву.
«Москва! Как много в этом слове…» Для Д. С. не особенно много, он, коренной петербуржец, Москву знал мало, бывал в ней проездом. Другое дело для меня: я волновалась, сейчас увижу то и тех, кого не видала больше трех лет – вечность для молодости. Увижу Остоженку, мою кузину, grand’maman. Как должно все измениться за эту «вечность»!
Однако ровно ничего не изменилось. Как и я сама, – по наружности, во всяком случае. Такая же была у меня за спиной толстая рыжеватая коса (я не изменяла прическу и в дальнейшие пять или шесть лет), в той же квартирке с низенькими потолками жила grand’maman, в том же угловом доме против церкви Воскресенья, и так же золотилась вывеска над «колониальным магазином Медведева с сыновьями».
Мой «муж» grand’maman не очень, кажется, понравился (ни она ему). Узнав же, что я венчалась без белого платья, без флердоранжа, и что после венчанья не было традиционного молебна, она пришла почти в гнев. Другим она не интересовалась, и проводила нас почти сухо, заметив еще, что как мы ни торопимся, а на немецком кладбище, на могиле отца моего, нам побывать бы следовало…
Мы, однако, в тот же вечер уехали с почтовым поездом в Петербург.
3
Первый Петербург
Приехав утром, Д. С. не повез меня сразу в нашу квартиру, хотя она была готова до последних мелочей и я ее, по рассказам Д. С., уже хорошо знала. Устроена она была, конечно, с участием матери Д. С., ею была нанята и прислуга. Но Д. С. не хотел показывать мне эту квартиру в мутное петербургское утро, кроме того, днем он хотел поехать на Знаменскую к матери. Поэтому мы взяли номер в «Северной» гостинице, против Николаевского вокзала. Там я до вечера могла отдохнуть после дороги. Но в 18–19 лет – нужен ли долгий отдых? Не очень был он нужен и 23-хлетнему Мережковскому. И он уехал, придумав, чтобы я пошла в Гостиный двор к Вольфу, купила там ему уже не помню какую книгу. Приблизительно рассказал мне, как туда пройти. Да и не трудно, все прямо.
Конечно, я не помнила Петербурга. В первый раз мы жили там, когда мне было всего 4 года, мне помнятся только кареты, в которых мы ездили, да памятник Крылову в Летнем саду, куда меня водила няня Даша и где играло много детей. Впрочем, еще Сестрорецк, лес, море и белые снежинки, падавшие на мое белое пальто (в мае). Второй раз – мне было уже 8 лет, или около, это помнится лучше, но как-то скучно: и гувернантка, которой я помыкала, и мокрая Гатчина, и малярия, которая тогда на меня напала. И болезнь отца (он тогда-то и должен был перемениться местами с председателем в Нежине. В СПБ он был тогда товарищем обер-прокурора Сената).
Теперь, после долгого юга, петербургский зимний день мне казался сумерками. Но не скучными, – новый город интересовал меня. Я надела свою серую шубу на белом меху и отправилась искать Вольфа, которого благополучно и нашла. Невский мало поразил меня, – ведь Головинский проспект в Тифлисе еще шире. Уже смеркалось совсем, когда я вернулась в гостиницу. Д. С. был уже там. Мы пообедали, и тогда, наконец, поехали «домой». Единственно, чем Д. С. был не совсем доволен в нашей первой квартире, это ее местоположением: это был очень недурной, не старый, дом на Верейской улице, № 12, в третьем (по-русски) этаже. (В пятый Д. С. особенно не желал меня поселять.) Эта Верейская улица – почти переулок – была, действительно, далеко и от центра, и от Знаменской: она выходила на Звенигородский проспект, налево, если ехать от Невского, и ехать надо было, на тогдашних извозчиках, весьма долго.
Квартирка была очень мила. Ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого и блестящего. Очень узенькая моя спальня, из которой выход только в мой кабинет побольше (или салон), потом, на другую сторону, столовая, по коридору – комната Д. С., и все. Ванны не было, но она была устроена на кухне, за занавеской. Мне понравились цельные стекла в широких окнах. У меня были ковры и турецкий диван. Помню лампу на письменном столе (керосиновую, конечно, как везде) – лампу в виде совы с желтыми глазами.
Было тепло, уютно, потрескивали в каждой комнате печки. Марфа отворила нам дверь (она была солидная, и я ее сразу стала немного бояться), подала самовар. И тут все новое, незнакомое, – приятное. И я принялась разливать чай…
Д. С. был очень горд своим устройством (воображаю, как бы он справился без матери), и доволен, что все это мне нравится. Ведь он даже добыл откуда-то рояль (он знал, что я привыкла играть) – должно быть мать отдала свой. Он был не новый, но хороший, длинный.
На другой, кажется, день я поехала с Д. С. знакомиться с его семьей.
«Генерал» – Сергей Иванович Мережковский (фамилия, как он же говорил, кажется, происходила от старого какого-то есаула Мережко, переделавшего ее на русский (не польский) лад), – был тогда маленький, сухенький старичок, с седой бородкой, которую отпустил только выйдя, после смерти Александра II, в отставку. По первому взгляду сам Д. С. в последние годы жизни его напоминал. Он был очень прям и что-то было в нем – как тогда показалось – такое… не умею определить, но ощущенье – «не подходи близко». Он встретил нас в передней и странно отрекомендовался мне: «Я – отец вашего мужа». Что надо было сказать мне и сделать – я не знала, и, кажется, просто подала ему руку. Странно, но как я увиделась в первый раз с его матерью, – я не помню. Помню ее хорошо в последующее время, и у нас, и у них (мы каждое воскресенье у них обедали), помню ее и в последнее перед ее смертью, воскресенье, в постели, – а в этот первый день – не помню.
Мы пошли в столовую пить чай. Столовая довольно темная, длинный стол. Тогда в семье жили два брата: Сергей, оставленный при Медицинской Академии, бактериолог, и Николай – чиновник особых поручений – не знаю при ком. Тут я с ними познакомилась. С Николаем мы никогда близко не сходились, а Сергей потом часто бывал у нас, и несколько раз даже проводил лето у нас, с моей семьей вместе. Женат он не был никогда, как и Николай, и умер уже после большевиков, после долгой болезни, когда нас в СПБ не было. Николай умер позже, где-то в Болгарии.
О чем мы тогда говорили – я совершенно не помню. Я, должно быть, молчала, только во все глаза глядела на этих новых «родственников», которых таковыми не признавала, как и они, видимо, меня. Затем мы уехали. Д. С. прощался с «папашей» традиционно – поцелуем (едва-едва) в щеку: «Adieu, папочка».
И началась наша новая жизнь в Петербурге, особенно новая для меня, все с новыми и новыми лицами, в новом кругу интересов. И все менялось с удивительной быстротой.
Прежде, чем я буду продолжать рассказ о первых месяцах нашей совместной жизни, я сделаю небольшое отступление.
Д. С. Мережковский – писатель религиозный, как всем известно. Что таким был в течение нескольких последних десятилетий своей жизни – слишком ясно, но был ли он религиозен с юности – это вопрос. И во всяком случае – как он таким сделался, где истоки этого, каким шел путем? Вот это я хочу немного определить, коснуться этого, – иль этих начал, – прежде, чем мне придется определять самую его религиозность и его тут идеи.
Мы с Д. С. так же разнились по натуре, как различны были наши биографии до начала нашей совместной жизни. Ничего не было более различного, и внешне и внутренне, как детство и первая юность его – и мои. Правда, была и схожесть, единственная – но важная: отношение к матери. Хотя даже тут полной одинаковости не было.
Очень часто религиозные люди выходят из религиозной семьи. Я совершенно не знаю, какова была мать Д. С. в этом отношении (слишком мало времени я ее знала), но несомненно, что в детстве никакая, ни религиозная, ни даже клерикальная атмосфера (а это ведь громадная разница), маленького Митю не окружала. Какая-то мистическая точка, однако, была, в отце (его превращение после смерти жены в ярого спирита-теософа), но ранее он был, вероятно, просто чиновник. Дмитрий, с постоянным отсутствием матери, оставленный на руках бонны Амалии Христиановны, вместе с кучей старших и далеких братьев. Затем – гимназия. Можно себе представить гимназическую атмосферу. Университет (историко-филологический факультет) – другие, подобные товарищи… Все, что он мог иметь в душе во все это время – он имел, вероятно, от себя же – никак не извне.
Чтобы оттенить разницу – скажу, что мое детство было несколько иное. Нельзя сказать, что наша семья была религиозная. Моя мать – была верующая, я иногда видела ее вечером на молитве; но об этой вере она никогда не говорила, и совсем была не клерикалка: бывала в церкви только по понедельникам (день смерти отца), и то не у обедни, а после нее, когда в церкви уже никого не было. Но… у меня была бабушка, – не grand’maman, эта, жена лютеранина (сколько раз она мне рассказывала, что два раза венчалась, в церкви и в кирхе), совсем, кажется, в церкви не бывала, – нет, другая бабушка, сибирячка, с темной старой иконой в углу, с зеленой перед ней лампадкой, с чулком в руках и с рассказами о Симеоне-столпнике и Николае-чудотворце. Бабушка, которой я, когда выучилась читать, читала «Жития святых», а когда маленькая сестра моя умирала, – говорила мне, шестилетней: «Помолись за нее, детская молитва доходчива». Я молилась – сестра выжила, а я уже с тех пор уверилась, что если помолиться – хоть о хорошей погоде, – непременно будет. Вот только – не всегда успеешь…
Тут же связалась у меня, однако, и первая смерть в нашем доме – чахоточной тети Маши, – вообще смерть тогда на всю жизнь завладела моей душой.
Глядя на нас с Д. С., – более извне, конечно, – трудно было бы сказать, что у меня фон души (если можно так выразиться) – темнее, у него – светлее. А это было именно так. И с годами даже подчеркнулось, хотя другим он, с годами, казался, подчас, даже угрюмым, а я жизнерадостной. Но это кстати, вернемся к Дмитрию в 23 года.
Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всякой обрядности (отсутствие известных традиций в семье сказалось). Когда я в первую нашу Пасху захотела идти к заутрене, он удивился: «Зачем? Интереснее поездить по городу, в эту ночь он красив». В следующие годы мы, однако, у заутрени неизменно бывали. Но, конечно, не моя детская, условная и слабая вера могла на него как-нибудь повлиять. Его, в этот же год молодости, ждало испытанье, которое не сразу, но медленно и верно повлекло на путь, который и стал путем всей его деятельности. Замечу здесь еще одно, и коренное, различие наших натур. Говорю о своей – чтобы лучше оттенить его. У него – медленный и постоянный рост, в одном и том же направлении, но смена как бы фаз, изменение (без измены). У меня – остается раз данное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется. Росту предела или ограничения мы не можем видеть (кроме смерти, если дело идет о человеке). А распускающемуся цветку этот предел виден, знаем заранее. Раскрытие цветка может идти быстрее, чем сменяются фазы растущего стебля (или дерева). Но по существу все остается то же.
Однако оттого и случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д. С. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была ему встретиться на его пути. В большинстве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним.
Потому что – это необходимо прибавить – разница наших натур была не такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, между собою известную гармонию. Мы оба это знали, но не любили разбираться во взаимной психологии.
Иногда случалось, что первая идея принадлежала ему. Если я ее не понимала и была не согласна, я редко следовала за ней, пока не убеждалась в ее правоте. Так же и он, и тогда происходили между нами ссоры, мало похожие на обычно-супружеские. Моя беда была в том, что я, особенно в молодости, не умела найти нужные аргументы, чтобы доказать неправильность его идеи в том или другом его произведении, и оказывалась побитой. Я не понимала, например, что идея «двойственности», которую он развивал в романе «Леонардо» («небо внизу – небо вверху»), необходимая фаза его роста: идея казалась мне фальшивой, и я (слишком для него рано) принялась ему это доказывать. Конечно, не сумела, и кончилась эта наша «сцена» для меня, вообще никогда не плачущей, – слезами. А уж это – какое же доказательство. Через годы он доказательства нашел сам, и такие блестящие, до каких я бы и впоследствии, вероятно, не додумалась.
Его лекция во Флоренции в 33-м году, в Palazzo Vecchio, все ее начало, – это, как раз, обвинительная речь против идеи романа «Леонардо да Винчи», романа, кажется, самого популярного из им написанных.
Но пора вернуться к последовательному «рассказу», к началу нашей совместной жизни, к молодому, 23-хлетнему Мережковскому.
У него не было ни одного «друга». Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда – реже – сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Д. С. никакого «друга» никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом. Он, в сущности, был совершенно одинок, и вся сила любви его сосредоточилась, с детства, в одной точке: мать. В «Старинных октавах» он сам рассказывает об этом лучше, чем я могу это сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери, – очень редко, – так целомудренно хранил эту любовь в душе до последнего дня.
Я видела их вместе, когда она, первые месяцы, приезжала к нам, привозила в наше новое (и скудное) хозяйство что-нибудь из своего, украдкой, конечно: пару рябчиков, домашние пирожки… мало ли что. Всегда закутанная в салопе. У нее было измученное лицо, но очень нежное. Черные, гладкие волосы на прямой пробор. Почти не было седины, да ведь она не была и стара. Болезненная желтизна лица, обострившиеся черты, – а была она, видно, очень красива. Ее большой овальный портрет, висевший в кабинете отца и потом завещанный сыну Дмитрию, – на нем она молодая и красивая очень. Этот портрет висел у нас до нашего бегства, конечно, – пропал, как все у большевиков.
Я помню ее в моем салончике-кабинете, на турецком диване, и Дмитрия около нее, прислонившись головой к ее коленям. Она его, как ребенка, гладила по голове: «Волоски-то густые…» Она мне нравилась, но я чувствовала, что я ей, пока что, – чужая.
По рассказам Д. еще на Кавказе, я знала уже почти всех его наиболее близких знакомых. Не мало говорил он мне про Минского: «Он в тебя непременно влюбится, вот увидишь. Его прозвали „Вилочкой“, потому, что его фамилия Виленкин, а Минский – псевдоним». Особенно много рассказывал о баронессе В. И. Икскуль, в которую и он сам, да и Минский, да и все окружающие были влюблены. Это была совершенная правда, я ее и на себе испытала. Мгновенно влюбилась в эту очаровательную женщину, с первого свиданья, да иначе и быть не могло. Кроме баронессы, у Д. была дружественная семья музыканта Давыдова, с которой он, еще студентом, ездил в Париж и в Швейцарию. Сам Давыдов только что умер, вдова его Александра Аркадьевна, женщина довольно примечательная (впоследствии редактор и создатель журнала «Мир Божий», скоро переименованный в «Современный мир»), еще не успела в то время переменить громадную свою квартиру на более скромную. У нее была дочь Лида (вышедшая потом замуж за М. И. Туган-Барановского, но скоро умершая) – ее одно время Ал. Ар. прочила, кажется, за Мережковского. Но Лида была очень некрасивая. Был еще сын Кока, но этот никакой роли не играл и скоро куда-то далеко уехал, где и умер от болезни спинного мозга, молодым. И была девочка – приемыш – Муся, хорошенькая, первая – несчастная – жена Куприна. После она вышла замуж за какого-то известного эсдека, пробольшевика, с которым не была, кажется, более счастлива. В то время ей было лет 10, я играла с ней нередко в большой пустынной зале давыдовской квартиры, поджидая заветного звона браслетов, – через залу проходила к Ал. Ар., моя любимая – баронесса.
Конечно, Д. повез меня и в редакцию «Северного вестника». Его редактировала тогда Анна Михайловна Евреинова, а издавала – Сабашникова (не знаю, какая, ее никогда в редакции не было). Анна же Михайловна была любопытный тип. Нерасстанная с любимой своей мопсихой, седые волосы подстрижены, старая малиновая бархатная кофта на плечах, и непрерывное пребыванье «в трех волненьях». При ней жила и не то секретарша ее, не то dame de compagnie[24] – Марья Дмитриевна, остроносая и всегда спокойная fine mouche,[25] как ее звал старик Плещеев. Он заведовал исключительно литературным отделом, а главный покровитель и «царь и бог» в журнале был Н. Михайловский. Близкий приятель А. А. Давыдовой и самый, в то время, знаменитый «либерал» (шестидесятник, конечно). С Анной Михайловной он был в частых конфликтах, суть которых для меня была глубоко темна. В момент одного из них я, тогда, в редакцию в первый раз и попала. А. М. была в отчаянии, – кажется, Михайловский какую-то свою статью отдал в другое место, притом намеренно и демонстративно. К Д. С. Михайловский относился крайне недоброжелательно, статью о Чехове едва пропустил, а другие все время браковал. Теперь мне это понятно: взялся какой-то Мережковский, вчерашний студент, без преклоненья перед ним и без традиционного «либерализма». (Я видела его только раз, у Давыдовой, он сидел в кресле, окруженный венком сидящих около него – на ковре – молоденьких курсисток.)
В редакции я познакомилась и с Плещеевым (о нашей последующей дружбе я уже писала в моей книге «Живые лица»), и с Map. Вал. Ватсон, верной, на всю жизнь, поклонницей Надсона, и со многими другими людьми, о которых ничего не помню. Видела там однажды и вдову несчастного Гаршина.
Д. С. был в приятельских отношениях с кн. Александром Ив. Урусовым, известным адвокатом (лишь недавно переехавшим тогда в Москву) и с его другом, поэтом и адвокатом петербургским – С. Арк. Андреевским.
Их обоих Д. С. приглашал вечером к нам. Они мне показались очень разными, но оба приятными. Урусов удивлялся моей молодости, оба они были очень милы. Андреевский сделался даже, потом, моей «подругой», – единственной зато настоящей, и постоянно у нас бывал (до его смерти, уже при большевиках).
Куда только не возил меня Д. С., кого только не показывал! Очень было интересно, только очень уж много разнообразных кругов. Особенно пришелся мне тогда по душе кружок проф. Ореста Миллера. И сам он был удивительно приятный, и бывавшие у него студенты. Они напоминали мне недавний кружок моих гимназистов, и я там чувствовала себя хорошо, да и Д. тоже. Напротив, у Семевского – все мне было чуждо: и стриженые (все еще!) курсистки, и их песни и вообще какой-то… книжный воздух. В том смысле, что мне вспоминались старые романы вроде Чернышевского «Что делать?» и всякое старое «студенчество».
Но я, конечно, ни в чем еще разобраться не могла, а Д. С. не особенно старался мне все это разъяснять. Приходилось самой присматриваться. Но мне казалось, что Д. С., хотя всюду был вхож, но среди шестидесятников тоже чужой.
Орест Миллер скоро умер, и я теперь не могу себе объяснить, почему в его кружке было не то, – может быть, потому, что была там какая-то простота, прямая естественность.
Был еще журнал «Живописное обозрение», где Д. С. хорошо принимал редактор, старый романист Михайлов-Шеллер. После «Северного вестника» и я там печатала первые свои стихи (через год и романы, о том, как они писались, – расскажу впоследствии).
Наше любимое путешествие было, конечно, к Аларчину мосту, где тогда находился особняк баронессы Икскуль.
Минский в эти месяцы был у нас только раз: у баронессы нам говорили, что Вилочка едет в Сан-Ремо. Он всегда – в Сан-Ремо.
Бывали мы, конечно, на всех литературных вечерах: особенно помнятся мне вечера Литературного фонда. На одном из них читал Майков, сухой и красивый старик, но совсем «из другой оперы», чем Плещеев, с которым я сразу сдружилась.
Так прошел январь, февраль, наступили мартовские светлые дни, с не зимней, не сырой оттепелью.
У Д. С. была неизменная привычка (как у его отца) гулять каждый день утром (перед завтраком, после работы, а работать каждый день с утра, это тоже было неизменно) – потом среди дня и вечером. Если мы никуда не ехали вместе, то дни его так регулярно и проходили. Это осталось у него (и у отца его) на всю жизнь. Только самое последнее время, последний год, когда Д. С. был уже слаб, он выходил только раз в день, и со мною. Тогда же, и потом, он «гулял» один, а я, днем, выходила тоже одна. Но утреннюю работу он не покидал никогда, вплоть до дня своей смерти. Даже в путешествиях, если мы где-нибудь оставались на более долгое время.
Мы регулярно ездили по воскресеньям обедать на Знаменскую, – последний месяц мать Д. С. уже не приезжала к нам, а иногда не было ее и за столом, она лежала. 19 марта, в воскресенье, мы обедали там, как всегда, С. И. сказал, что «голубушка» (так он звал жену) плохо себя чувствует, но просит все-таки зайти к ней. Я хорошо помню ее спальню и ее, на постели, укрытую множеством одеял, она дрожала в лихорадке, – у нее, вероятно, был сильный жар. Но никакого особенного беспокойства Сергей Иванович не высказывал, должно быть эти припадки бывали у нее и раньше. Дмитрий, который бывал у нее и на неделе, тоже привык, вероятно, к ее положению. Он целовал ее, наклоняясь над постелью, она что-то ему говорила, но мы посидели недолго, скоро уехали.
На другой день утром, довольно рано, Д. С. вошел ко мне в спальню и показал записку отца: «Приезжай немедленно».
Мы, кажется, не сказали друг другу ни слова, он уехал, я осталась. Прошло целое утро.
Не помню, в котором часу возвратился Д. С. Он, из передней, прошел прямо в мой кабинет, сел у окна на кресло – и зарыдал: «Она умерла!»
Он никогда мне не рассказывал, а я не расспрашивала, как, когда это случилось, застал ли он ее в живых или нет. Об этом нельзя, не надо было с ним говорить, так чувствовалось. Да он мертвой ее никогда не ощущал, и все последующее, сбор семьи, панихиды, похороны, отпевания, – все это было ему чуждо, это была не «она». Отец снял фотографию ее в гробу. Д. С., которому отец дал эту фотографию, не любил и смотреть на нее. Она лежала там в чепчике, которого никогда при жизни не носила, и он говорил, что не узнает ее.
В этот понедельник, я помню, мы вышли вместе, но пошли не на Знаменскую, а долго-долго ходили по набережной Невы, мартовский день был погожий, светлый. На Знаменскую мы пошли вместе только во вторник, в этот же день вовсе не расставались, и даже ночью я спала не в своей спальне, а в его комнате, на кушетке, на которой он отдыхал.
Мой отец тоже умер в понедельник утром. А я его так любила, что иногда, глядя на его высокую фигуру, на него в короткой лисьей шубке, прислонившегося спиной к печке, думала: «А вдруг он умрет? Тогда я тоже умру». Но ведь мне тогда было 10 лет…
Вспоминая потом часто о смерти матери Д. С. – странная мысль о какой-то, уже нездешней о нем заботе приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись совершенно один, то есть, если бы, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его. Я не могла заменить ему матери (никто не может, мать у каждого только одна), но все же он не остался один.
Это очень важно. Когда, через 23 года, умерла моя мать… Но, впрочем, об этом после.
Я не могу, конечно, продолжать с теми же подробностями описывать всю нашу совместную жизнь. Это были бы мои собственные, многотомные мемуары, а не книга о нем. Мне придется много пропускать, стараясь лишь отметить более важные этапы. Пока – продолжаю рассказ.
Сбор семьи на Знаменской по случаю кончины матери был все-таки не полный: отсутствовали старший брат Константин (он – был человек довольно замечательный, я расскажу, что знаю о нем, впоследствии), старшая сестра Надежда, жившая где-то далеко, замужем за Защуком, да, кажется, и братья Владимир и Александр, оба женатые, но не жившие в СПБ.
Любили ли все эти дети мать так, как ее любил Дмитрий? Не думаю. Но все-таки любили, она была всем верная заступница перед отцом, далеким и непреклонным. А он ее действительно любил, по-своему, но беспредельно. Пережил ее на много лет, он умер в 1908 году, когда мы жили в Париже, и тоже в марте, но не забывал никогда. Похоронен он рядом с ней, по своему завещанию, в Новодевичьем монастыре (там же, в 1903 г., похоронена и моя мать).
Наша жизнь, после этого события, очень, конечно, сузилась. Мы, естественно, стали меньше видеть людей, что-то в корне изменилось в Д. С., хотя перемена, извне, для других, не была заметна. Я очень обрадовалась, когда оказалось, что весной, в апреле, мы можем уехать из СПБ – и, конечно, в Крым, любимое место Д. С. Кстати, у меня имелась надежда увидеть мою мать раньше лета, так как моя семья должна была в мае переезжать в Москву, морским путем, и я надеялась увидеть ее на ялтинском пароходе.
Квартиру на Верейской мы решили оставить, найти другую, а эту пока брал отец С. И., – дочь Елизавета, кончив институт, должна была переехать к нему, и тут же проектировалась и ее свадьба.
Квартиру для будущей зимы мы скоро нашли, в том громадном доме на углу Литейного и Пантелеймоновской, известном как «дом Мурузи». Квартира была на пятом этаже, но просторнее Верейской. В этом доме мы потом, в разных квартирах, жили много лет. Предстояло нам, по пути на юг, нанять около Москвы и дачу на лето, где бы поместились мы – с моей семьей.
Так все и вышло. В конце апреля мы покинули Петербург. Дачу (довольно скверную, но какая была весна) мы нашли около станции Поворово, очень близко от Москвы, по Николаевской дороге, и через несколько дней уже были в Алупке.
Дмитрий, в этих любимых местах, немножко прояснился. Особые крымские запахи, лаврами и розами, обоим нам знакомые, особенно ему милые… Он показывал мне Алупкинский дворец, где мальчиком целовал руку современнице Пушкина. Тихие руины Ореанды, и там, на высоте, белая колоннада, и сохранившаяся надпись на одной из колонн (почему-то прелестная):
Здесь луной и морем любовалась Герцогиня Белая Сирень…Трудно было нам, среди всего этого, да и по молодости лет, думать о смерти. Но мы думали, только как-то светло, о светлой, а не темной смерти.
У меня была еще своя радость, близкого свиданья с матерью.
Но это свиданье не состоялось. Мы точно приехали в Ялту, когда должен был прибыть пароход. И сейчас же на него отправились. Но… там оказалась только одна «тетя Оля» (сестра дядиной жены Веры, баронесса Энгельгардт). Оказывается, море, с самого Батума, было такое бурное, что все мои были больны, и мама решила сойти в Новороссийске, вместо Севастополя, откуда они все прямо проехали в Москву (дядина семья переселилась из Тифлиса в СПБ только через год).
Наше путешествие едва начиналось, и в Москву нам не было смысла ехать. Мы решили прямо приехать на дачу, когда уж там будут все, а пока… Д. С. предложил мне поехать в Боржом. Туда из Крыма мы и отправились.
Почему-то, во Владикавказе, мы очень ссорились. Мне хотелось поехать, кстати, и на воды, в Кисловодск (Лермонтов, княжна Мери…), но Д. не хотел. Я уступила, и вот летняя Военно-Грузинская дорога, такая на первую непохожая! С потоками, водопадами, иначе красивая…
В Тифлисе была такая неистовая жара, что мы оттуда прямо бежали.
Этот наш второй Боржом – как бы пелеринаж – не очень мне и помнится: должно быть, я была уже другая, да и он другой. Я стремилась, кроме того, к матери. Пробыли мы там недолго и, на этот раз морем, вернулись «в Россию» (как говорят кавказцы).
Под Москвой была еще нежная весна, еще не лето. И, хотя природа в Поворове красотой не отличалась, – провели мы там лето очень недурно. Д. много гулял, и даже с моей собачкой. Об этой собачке надо сказать два слова.
Как-то очень скоро после нашего приезда в СПБ, еще зимой, Д. вдруг вернулся с прогулки неожиданно и закричал из передней: «Зина, мопс!» Я выбежала и увидела крошечного черно-серого щенка, на руках продавца. Заплатили мы за него 3 рубля, и эта собачка – Буленька оказалась нашим товарищем потом лет десять. Она была очень породистая, злая, и решительно никого не признавала, кроме Д. и меня. Нас она зато обожала, не позволяя никому к нам и близко подойти. Мы, я и Д., тоже ее любили. Возвращаясь из какого-нибудь путешествия на дачу – я ее немедленно выписывала. Вот с ней-то Д. и гулял по лесам и болотам Поворова, если не ходила и я.
Мама уже нашла в Москве маленькую квартирку, не на Остоженке, а где-то далеко, – поблизости к частной гимназии, куда поступила моя сестра Анна, старшая из трех.
Мы же осенью вернулись в СПБ, тоже на новую квартиру, в доме Мурузи.
Новая зима… Усиленная дружба с А. Н. Плещеевым, который приходил к нам обедать, приносил мне всякие редакционные стихи для забавы. Дружба с поэтом-адвокатом Андреевским, знакомство с Льдовым, частые визиты Минского (я его не особенно любила). Д. С. писал в это время длинную свою поэму «Сергей Забелин», и почему-то пользовался, для нее, моими письмами. Или хотел пользоваться. «Но ведь не похоже на нашу историю», – уверяла я. «И твоя девица – вовсе не я. Все по-другому». Писал он, в это же время, и отдельные стихи. Я печатала кое-какие старые, новых пока что не хотелось еще писать.
Каждый понедельник Д. С. отправлялся в «Литературное общество». Председателем его был Исаков, ни малейшего отношения к литературе не имевший. Д. познакомил меня с Фофановым (тогдашняя знаменитость), мы даже были раз у него – где-то на чердаке. Он ютился с кучей детей и женой – самой простецкой. Он был, конечно, пьян, – из этого состоянья он и не выходил – подобно Бальмонту, который появился лишь в следующую зиму у нас, и даже трезвый. На Рождество, как правило, – мы в Москву.
Следующее лето мы опять провели под Москвой, но уже в лучших условиях и лучшей природе: в Дубровицах (где когда-то жили Вл. Соловьев и многие другие известные москвичи).
В это лето надо отметить вот что: Д. С. пришел ко мне и объявил, что наше условие нарушается. Какое? А такое, что я буду писать только прозу, но не стихи. А он – стихи. Из моей прозы пока ничего не выходило. Д. С. советовал мне попробовать переводы, но тут уже меня с самого начала ждал провал: к переводам я оказалась абсолютно неспособна (первая и единственная попытка – «Манфред» – не пошла дальше первых строк). Д. С., напротив, и любил, и умел переводить.
Но условие я соблюдала, стихи оставила, а прозе решила научиться. И вдруг Д. С. объявляет, что он намерен заняться прозой! Да, он уже начал роман. Какой? Оказывается – исторический, об Юлиане-отступнике.
Мы тогда страшно поспорили, но потом помирились на свободе: пусть каждый пишет, как хочет и что хочет. И стихами, и прозой…
Мне, однако, пришлось – именно пришлось – приняться за прозу очень скоро, и раньше, чем я могла ей научиться. Но к этому я приду.
Лето в Дубровицах мне памятно по моей болезни. У меня внезапно сделалась такая головная боль, что я несколько дней ничего не слышала, кроме моего же крика, и ничего не понимала. Вызванный из Москвы доктор (тот же, который до Крыма лечил меня от туберкулеза) определил воспаление мозга и сказал, что надежды нет. Мама только перекрестилась, а Д. С., кажется, не поверил, хотя совершенно потерял голову.
Однако я так же внезапно, вдруг, выздоровела. Не совсем, хотя сама сочла себя здоровой и вести себя стала соответственно, даже более деятельно, чем обычно. Вероятно, это был возвратный тиф, потому что я после этого «здорового» периода, по возвращении с дачи в Москву, уже не могла ехать в Петербург, а слегла в маминой квартире, в настоящем брюшном тифу, с очень высокой температурой. Можно себе представить, как это было удобно в крошечной квартире, где нам с Д. С. очистили единственную свободную комнату, а в остальных ютились все семеро – остальная семья.
Болезнь моя продолжалась больше двух месяцев. И то в СПБ меня привезли еще нездоровую, там меня ждали и рецидивы…
Совершенно поправилась я только к Рождеству, мы уж в Москву не поехали, – мама приехала к нам.
А что же «Юлиан Отступник»?
В Москве, когда я очень была больна, Д. С. его не продолжал, но зато потом принялся за него вплотную. Это не значит, что он писал его день и ночь. Нет, утренних часов работы он не менял, и днем уже к нему не прикасался (писать вечером, да еще поздно, – он не мог никогда). Но, занятый какой-нибудь серьезной, большой работой, он только ею и занимался, и вне писанья, днем, читал почти всегда то, что ее касалось.
А что же отец, семья Д. С. на Знаменской? Семьи больше не существовало. Ни квартиры на Знаменской, ни бывшей нашей, на Верейской. Отец взял себе другую, и тоже большую, квартиру на углу Пушкинской и Невского, на пятом этаже, – для себя одного. Выдав тогда очередную дочь замуж (помещик Миллер сейчас же и увез ее к себе, в Западный край), определив младшую, Веру, в институт, – он уехал за границу, один, никому не оставив и адреса. Так он, после смерти жены, делал потом все годы. На зиму возвращался, но не надолго. Брат Сергей переехал на Выборгскую, ближе к лаборатории, Николай тоже куда-то… Отец видел в СПБ только нас (из своих). По воскресеньям то он у нас обедал, то мы у него. Он усиленно погрузился в спиритизм. Издавал романы каких-то двух старых дев (Крыжановских), которым диктовал их дух – Рочестер. И являлся он только им.
Спириты его обманывали, и грубо: я простым глазом видела булавки, которыми была сколота кисея, облекавшая (на фотографии, которую он приносил) – являвшегося «духа». Приносил и письма, которые будто бы писала ему «голубушка», своим же будто бы почерком. Но почерк был, как говорил Д., не похож. Мы, конечно, старика не разубеждали, это было все его единственное утешение. Но не странно ли, что этот твердый, «реальный» человек – верил всему этому так искренне. Пожалуй, нет, не странно: ему нечем было бы без этого жить, а умершая жена была его единственной любовью.
Возвращаясь к нам, я замечаю, что хронологически делаю ошибку: опыт моей «прозы» уже был сделан раньше, чем Д. С. начал писать «Юлиана», а уже тогда, когда он его задумал и к нему подготовлялся. В зиму до моей болезни я написала коротенький рассказ, историю нашей новой горничной Паши, под заглавием «Простая жизнь», и Д. С. послал его в «Вестник Европы», под неизвестным никому именем З. Гиппиус. Д. С. знал Стасюлевича, тогдашнего редактора этого старого журнала, но журнал этот к нему не благоволил, ни тогда, ни после, когда Стасюлевич отверг и его «Юлиана», а потом и «Леонардо». Журнал считался строгим и со строжайшими «либеральными» традициями. И с традициями всякими вообще. Ни малейшего намека на «религию» там не допускалось. Исключение делалось только для Владимира Соловьева. Раз признанные беллетристы печатались там из года в год, как Боборыкин, например, или Ольга Шапир, – теперь всеми забытые. Рекомендация Д. С. ничего не стоила, да он мой рассказ и не рекомендовал, просто послал. Но он был написан с величайшей простотой, так, как тогда не писали, а тема могла показаться и «либеральной». Редактор ответил, что рассказ может пойти, но там есть места «смелые» (все-таки! вот уж ничего «смелого» там не было!) и автор должен сделать изменения, выпуски, для которых он приглашается в редакцию. Я «страшной» редакции не испугалась и туда отправилась. Но, кажется, испугалась редакция, увидев автора «смелого» рассказа в виде полудевочки с косой за плечами и с совершенным непониманием, зачем надо выпускать невинные места. Чинные седовласые старики были, я думаю, шокированы моим появлением, по крайней мере долго не могли его забыть. «Места» они, конечно, выпустили, но кроме того, не сказав даже мне о том, переменили мою «Простую жизнь» на… «Злосчастную», и, чтобы оправдать заглавие, прибавили в конце: «Ах, я злосчастная», что было и некстати, и не в тоне.
Но мне это было довольно безразлично, немножко смешно – и только. Через год я напечатала там еще два маленьких рассказа, или три – не помню. В общем, Стасюлевич и Пыпин, оба старца, помня мое первое появление, были ко мне снисходительно-милостивы, но утвердиться я там, конечно, не могла, да и не хотела.
Пишу я об этом вот почему: наш более чем скромный бюджет пополнялся все-таки отдельными работами Д. С. в разных местах: в «Северном вестнике», в «Вестнике иностранной литературы». Были, кроме того его поэмы… Когда же он принялся за «Юлиана» – все это кончилось, и наступила моя очередь. Тут-то я и принялась, как умела, за свои романы: главным образом – у Шеллера-Михайлова, в «Живописном обозрении», и у Гайдебурова («Наблюдатель»). Особенно мил был Шеллер, все мое принимавший и плативший недурной гонорар. Романов этих я не помню, – даже заглавий, кроме одного, называвшегося – «Мелкие волны». Что это были за «волны» – не имею никакого понятия, и за них не отвечаю. Но мы оба радовались необходимому пополненью нашего «бюджета», и необходимая Д. С. свобода для «Юлиана» этим достигалась.
Но вот – весной 1891 г. – наша первая поездка за границу, – в Италию, конечно. Смешно сказать, с какими капиталами мы пустились в путь! Мне самой не верится! У нас было скоплено на это – 400 рублей. По тогдашнему курсу – около 1200 франков. Но это нас не смутило, все ведь так дешево.
Через Варшаву (где у меня сделалась ангина, но и на это мы не обратили вниманья) мы – в Вене, а через несколько дней – в Венеции. О нашей встрече в Венеции с Сувориным и Чеховым я уже писала подробно, и новым рассказом не буду здесь отвлекаться. С Сувориным, этим пугалом «интеллигенции» нашей (подумать, редактор антилиберального «Нового времени»), я в Венеции сдружилась, он мне показался любопытным. В нем сидел русский народный «нигилизм». Народный и природный «Ame slave»[26] в самом скверном проявлении (по существу), но соединенная в нем и с природной талантливостью, а также с чуткостью к талантам. Он угадал и любил Чехова, он же понял и вывел на свет Божий почти гениального, Европе неизвестного и непереводимого писателя – Розанова. Его теперь и в России, конечно, забыли… Вспомнят.
Д. С. уже сделал, в глазах тогдашней русской интеллигенции, ужасную gaffe:[27] он издал у Суворина вторую книгу своих стихов, под названием «Символы» (с эпиграфом из Гете). Как можно пользоваться нововременским издательством. Он (Д. С.) собирался издать, там, однако, и еще одну книгу, сборник статей. По этому поводу Плещеев (мы с ним были в переписке) написал мне еще до нашего путешествия в Италию: «Убедите Д. С. не издавать эту книгу у Суворина. Я, может быть, сам ее издам. Вы удивлены?» (А мы, зная, как ограничены средства Плещеева, как он живет с семьей, действительно были удивлены.) Он прибавлял: «Я, может быть, скоро буду богат, и очень. Это совершенно, однако, факт». Вскоре мы узнали, что Плещеев действительно получил громадное наследство и уехал за границу.
Суворин с Чеховым путешествовали очень быстро, Д. С. это было несвойственно, и они, кажется, уже вернулись в Россию, когда мы едва доехали до Рима. Ведь раньше была Болонья! Была Флоренция!
Из Рима мы спустились в Неаполь, оттуда на Капри. Рубли наши, однако, иссякали, пора было и нам возвращаться. На дачу, на этот раз в деревню, в старое именье «Глубокое», 25 верст от Вышнего Волочка, где уже была и моя семья, и дядина – переехавшая из Тифлиса в СПБ.
Мы предприняли обратный путь. И вдруг, в Риме… Без того, что я писала выше о Плещееве, было бы непонятно случившееся в Риме. Я получила там письмо от Плещеева из Парижа. Он просил, дружески «молил» нас приехать к нему в Париж. Зная наши обстоятельства, дружески просил позволенья и прислать аванс – тысячу рублей.
Таким образом мы пустились в Париж, я – в первый раз.
Об этом нашем Париже я опять здесь не пишу, как намеренно не описываю и первого нашего путешествия в Италию. Скажу только, что «Леонардо» уже тогда зародился, может быть, в душе Д. С. И уже тогда он мне говорил, что чувствует Италию особенно ему родственной.
Когда «Юлиан Отступник» был кончен, – приюта ему не оказалось ни в одном русском журнале. «Северного вестника» давно не было в живых, куда девалась Евреинова – не знаю. Исторический роман нового фасона других редакторов не привлекал, однако Майков начал устраивать у себя чтения этого романа, и он, и присутствовавшие на чтениях какие-то сановники были от него в восторге. Но поэт Майков считался «реакционером», и его «восторг» мог только повредить выходу романа в свет.
Следующей весной у меня сделался очередной «бронхит» и мы опять уехали за границу. Этих «бронхитов» было у меня порядочно, и тогда Д. С. действовал особенно энергично: с такой решимостью отправлялся к отцу и требовал денег на путешествие, что всегда, к моему изумлению, успевал. Да и путешествовали мы тогда очень скромно. Во второй раз – мы поехали в Ниццу. Там был и милый мой друг А. Н. Плещеев, – здоровье не позволило ему на зиму вернуться в Россию. Но в Ницце Д. С. было скучно, и когда я немножко поправилась – мы уехали опять в Италию, ненадолго: ухитрились оттуда вернуться в Россию самым приятным для Д. С. путем – морским: Корфу, Греция, Константинополь – Одесса. В Афинах мы пробыли всего два дня. Жара была такая страшная, какой я не знавала в июльском Тифлисе. Но зато я еще не видела Д. С. таким счастливым, как в Парфеноне. Уцелевшие колонны не были в то время даже еще связаны проволокой, как позднее, – Парфенон был тогда воистину прекрасен. Никакой жары мой спутник не замечал. Не заметил бы ее, вероятно, если б она была втрое сильнее. Вообще это путешествие осталось для нас памятным навсегда. И не только Грецией, – не меньшее впечатление произвела на Д. С. и св. София в Константинополе – другое, но тоже на всю жизнь.
Турция была тогда старая (мы видели потом и новую), Константинополь – еще с собаками, с пятницей (выезд султана и его жен), но св. София – была вечная.
В Константинополе нас ждала расплата за нашу смелость: приходилось менять пароход, а денег на билеты уже не было. И мы отправились в Одессу на угольном грузовике, а в Одессе телеграммой просили мою мать прислать нам минимальную сумму, чтобы доехать до Москвы и Вышнего Волочка – попасть в «Глубокое».
Но Д. С. не раскаивался, – да и что это за беда – в молодости! Он уже думал о новых работах – до следующего романа, который был для него еще в тумане, но был, и наверно.
Я думаю, однако, что уже с «Юлиана» у Д. С. был поворот к христианству, начало углубления в него, хотя в следующем романе, «Леонардо», поворот еще не казался явен. Ведь именно там проскальзывала «двойственность», – Армузд и Ариман, – с которой ему еще приходилось считаться. Но тут мне надо сказать несколько слов об общем облике Мережковского, писателя-человека.
Он был очень далек от типа русского писателя, наиболее часто встречающегося. Его отличие и от современников, и от писателей более старых, выражалось даже в мелочах: в его привычках, в регулярном укладе жизни и, главное, работы. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью… я бы сказала – ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна. Начиная с «Леонардо» – он стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об «Иисусе Неизвестном», и в Испании, когда он писал (это уже в последние годы жизни) «Терезу Авильскую» и «Иоанна Креста», – не осуществилась. Но наше путешествие «по следам Франциска I» (которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Винча, где родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер, – было первым такого рода. Вторым – в глубину России, к раскольникам-старообрядцам, ко «граду Китежу», – когда Д. С. собирался писать «Петра I». Третьим – почти двухлетнее следование за Данте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Повторяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман, – трудно было у кого-нибудь встретить. Германию и Францию он хорошо знал, а потому для своего «Лютера» и «Наполеона» особых путешествий совершать не стремился. Ведь во Франции мы провели, в общей сложности, 30 лет, – более трети его жизни. Прибавлю, что только обстоятельства, наша вечная бедность (да, бедность, это был русский – и, можно сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший – в крайней бедности) не позволили ему поехать в Египет, когда этого требовала работа, и на о. Крит, куда он особенно стремился. В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) громадные фолианты, в которых он нуждался. Замечу, что работать он мог только дома, в своем скромном кабинете, и в Париже, например, в Национальную библиотеку не ходил.
Ему, конечно, много помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере – было полное отсутствие лени. Он, кажется, даже не понимал, что это такое.
Вот все это, вместе взятое, и отличало его от большинства русских писателей, заставляло многих из них звать его «европейцем». Гениальный самородок – писатель В. Розанов, русский из русских до «русопятства» (непереводимый термин), для которого писание – как он говорил – было просто и только «функцией», уверял даже, что, видя Мережковского на улице, когда он гуляет, каждый раз думает: вот идет «европеец». Да таким русским, как Розанов, сыном «свиньи-матушки» (как он называл Россию) – Мережковский не был. Но что он был русский человек прежде всего и русский писатель прежде всего – это я могу и буду утверждать всегда. Могу – потому что знаю, как любил он Россию, – настоящую Россию, – до последнего вздоха своего, и как страдал за нее… Но он любил и мир, часть которого была его Россия…
Следующая зима, или, может быть, следующие зимы петербургские, мне помнятся, как литературное оживление. В близком нам кругу, по крайней мере. В Москву мы перестали ездить, так как мать моя с семьей переехала в Петербург. Возродился «Северный вестник», но уже ничего общего с прежним не имевший. Редактором была теперь дочь профессора Гуревича, Л. Я. Гуревич, совместно с близким другом ее Акимом Львовичем Флексером, писавшим под псевдонимом Волынского. Его со мной познакомил Д. С. на каком-то литературном вечере давно, сказав мне после, что он занимается философией. Он у нас не бывал, и мы долго не имели связи с новым «Северным вестником». Я в это время писала уже везде, бывала и в Литературном обществе и даже в еще более закрытом Шекспировском кружке, членами которого состояли, или должны были состоять, только литературные критики. Но большинство там были известные адвокаты, как кн. Урусов, часто приезжавший из Москвы, Спасович и другие. Впрочем, был там и старый, ныне забытый, романист Боборыкин. Там Урусов, помню, сделал первый доклад о Ницше, тогда в России еще мало известном.
«Юлиан» Д. С. остался ненапечатанным, и Д. С., между приготовлением к новому роману, писал случайные статьи где придется. Как сейчас помню ненастный осенний вечер: мы только что получили грустную весть о кончине в Париже милого нашего старого друга – А. Н. Плещеева. Д. С. хотелось написать о нем, но… у него была спешная работа, ему заказана (значит, напечатают) статья для захудалого журнала «Вестник иностранной литературы», о – китайцах. Пришлось писать о китайцах, да при манере Д. С. перечитать раньше немало книг, которые его довольно слабо интересовали.
После долгого перерыва я в это время стала писать стихи, но уже совсем другого рода, с непринятым тогда ритмом и вольным размером. Первое такое стихотворение, с известной тогда заключительной строкой – «Хочу того, чего нет на свете» и ее повторением, – долго тогда ни один журнал не хотел печатать, а так как вскоре заговорили о «декадентстве», то и моя манера была признана «декадентской». Настоящее «декадентство» явилось позднее. Явилось ли оно у нас под влиянием французского – не думаю, – течение это было мелко, утрировано, и до настоящего возрождения литературы, находившейся тогда в большом упадке, было еще далеко. Как раз в это время Д. С. прочел публичную лекцию «О причинах упадка русской литературы». Эта статья его, довольно интересная, ни в одну книгу не вошла, и я не знаю, куда она девалась.[28]
Что касается тогдашних французских новаторов, то их у нас мало знали. Появившийся только что молодой Бальмонт был своеобразен, хотя внешне из старых рамок не выходил, а Брюсов совсем еще не появлялся. Только Минский читал и старался меня увлечь, а сам был менее всего способен на какое бы то ни было новшество.
Случайно, на улице, я встретила нового редактора нового «Северного вестника», Флексера-Волынского (которого сначала не узнала), и мы разговорились. Он рассказывал мне, что хочет поставить журнал более свободно, в смысле привлечения молодых сил, и это мне понравилось. Я, впрочем, не очень верила в его «литературность», и даже в его способность литературно писать (впоследствии оказалось, что я была права). Это был худенький, маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный. Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов-Розенблюм), а, напротив, им даже гордился.
Не помню, как вышло, что он после появился у нас. Ко мне он относился очень хорошо, тотчас же предложил напечатать мои «новые» стихи, нигде не признаваемые, а Д. С., отличавшийся необычайной доверчивостью (вот черта его характера, которую я подчеркиваю, – она мне казалась удивительной, часто досадной, но привлекательной, так как в ней было что-то детское, до конца жизни его не оставлявшее), Д. С., говорю я, с совершенным доверием отнесся к новому редактору и всем его благим намерениям. Скоро зашла речь и о напечатании «Юлиана» в «Северном вестнике». Тут я должна сказать, что даже и на Д. С. при всей его скромности манера «принятия» в журнал этого романа Флексером, – произвела неприятное впечатление. Флексер распоряжался текстом без больших церемоний: он пришел к нам с рукописью, которую брал читать, и почти грубо (может быть, он просто и держать себя не умел?) – указывал на отмеченные куски: «Это – вон! Вот это тоже вон!» Чем он свои «вон» мотивировал – совершенно не помню.
В результате роман «Юлиан Отступник», первый в трилогии, появился в «Северном вестнике» в урезанном и местами искаженном виде.
Это было уже в 1893 году, незадолго до появления мелкого нашего «декадентства», а также перед появлением таких серьезных «новых» поэтов, как Ф. Сологуб и В. Брюсов. В истории русского чистого «декадентства» интересен был только один человек, притом, не как поэт, а именно как человек, с его характерно «русской» историей жизни. В один прекрасный вечер к нам явились два гимназиста: один – оказался моим троюродным братом, Владимиром Гиппиусом, – раньше я его не знала. Его товарищ, черноглазый, тонкий и живой, – был Александр Добролюбов. Они уже знали мои «новые» стихи. Сами же писали такие, в которых мы сразу увидели то нарочитое извращение, что, на мой взгляд, уже с самого начала было «старым» и настоящим decadence – упадком. О В. Гиппиусе много писать нечего. Мы потом видались нередко, он напечатал тоненькую книжку своих стихов, которую я убедила его не выпускать в свет. Писал впоследствии и другие стихи (под псевдонимом «Бестужева») – неважные. Любопытно в нем лишь одно: через годы и годы, когда он был уже профессором в известном Тенишевском училище, он заявился «евразийцем», – первым, кажется. Незадолго до революции он перешел в православие (был, как Гиппиус, лютеранином), перевел в православие и жену (тоже, как Гиппиусы, был женат на немке). Эмигрировать не пожелал и умер в Петербурге. Вот и все. Но Ал. Добролюбов был другого склада. Свое «декадентство» он, прежде всего, провел в жизнь. Мы с ним не видались уже, но было известно сразу, что он живет в каких-то черных комнатах и черных одеяниях, что у него много молодых последовательниц (или поклонниц), которым он проповедует, и успешно, самоубийство. И вдруг… вдруг с ним случилось то, что не поймет ни один европеец, но человек русский к подобным делам привык, – Добролюбов «ушел». Такие «уходы» – не пропаданье: это лишь погруженье в море российское, из которого обычны краткие временные выплывания. (Я знаю еще один такой «уход», гораздо позднее, молодого, очень красивого студента из знатной семьи, и талантливого поэта притом. Он погиб уже при большевиках[29].) Декадент-Добролюбов нырнул глубоко, выплыл не скоро, и выплыванья его были не часты, кратки. Он являлся босой, в армяке, с такими же своими «учениками». Сидели все на полу, мало разговаривали, а когда их расспрашивали, – то, немногословно ответив, прибавляли: «Брат мой, помолчим». Так Добролюбов приходил один раз к Брюсову, другой раз к нам. Что это была за секта – никто путем не знал. Говорили только, что там «все сидят поникши». И что «учеников» у Добролюбова было очень много.
По-моему (да простит мне «ame slave»), было это тоже своего рода декадентство. Д. С. со мной не соглашался, Добролюбов его интересовал, и он всех о нем расспрашивал, пока тот совсем не исчез из виду.
Ну, а что до «поэзии» декадентской, то она писалась нашей мелкотой с расчетом и стараньем, главное – «удивлять». «Epater le bourgeois»,[30] a ведь с таким заданьем далеко не уйдешь.
С журналом «Северный вестник» и его редактором Флексером мы продолжали отношения. И, пожалуй, эти наши длительные хорошие с Флексером отношения имели некоторые основания. Во-первых, Флексер в своем журнале предпринял борьбу против засилия так называемых «либералов», попросту – против крепких тогда и неподвижных традиций (во всей интеллигенции) шестидесятых годов – Белинского, Чернышевского, Добролюбова и т. д. Те и то, что было вне этого течения (или стояния), считалось «реакцией» и уже не разбиралось. Между прочим, считалась «реакцией» и всякая религия, и тоже не разбиралось, какая и в чем она находила выражение. Это последнее – «религия – реакция» – держалось очень долго, даже тогда, когда к началу нового века литература уже частью освободилась из-под этого общественного гнета. На нее интеллигенция в старом смысле просто перестала обращать внимание, так как литература освободилась «во имя свое», с лозунгом «искусство для искусства».
Но я забегаю вперед. Флексер в «Северном вестнике» начал борьбу с традициями шестидесятников чисто критическую, негативную, даже не во имя искусства (в котором он не понимал ничего, хотя этого-то как раз сам и не понимал). Но и такая борьба, по времени, было уже нечто. Кроме того, «Северный вестник» действительно давал место молодым силам, и попадал иногда верно, – как, например, с таким писателем, и поэтом, как Сологуб, который без «Северного вестника» не скоро пробил бы себе дорогу.
Однако в том же Флексере были черты, которые не могли в конце концов не привести нас к разрыву с ним. Его самоуверенность прежде всего. Со второго года он начал писать в журнале литературную критику, из месяца в месяц. И вот каждый раз по выходе книги у меня начиналась с ним очередная ссора. У меня, так как Д. С., занятый своими работами, флексеровских статей, пожалуй, и не читал.
Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько… против невозможного русского языка, которым он писал.
В холодном бешенстве он ходил из угла в угол в моей комнате, тяжелой походкой на пятках, повторяя: «Вы бррраните, а дррругие хвальят…» Потом эта стычка наша замазывалась до… следующей книжки.
Вначале я была так наивна, что раз искренне стала его жалеть: сказала, что евреям очень трудно писать, не имея своего собственного, родного языка. А писать действительно литературно можно только на одном, и вот этом именно, внутренне родном языке. Язык древнееврейский? Мало кому из современных евреев он родной. Писать на жаргоне? Этого евреи не хотят. Они пишут (когда пишут) на языке страны, в которой живут. Но этот язык, даже в тех случаях, когда страна – данная – их «родина», то есть где они родились, – им не «родной» не «отечественный», ибо у них «родина» не совпадает с «отечеством», которого у евреев – нет. Ни Лермонтов, ни Некрасов, ни Толстой или Достоевский, не могли бы быть евреями, как ни Гете, ни даже Ницше.
Все это я ему высказала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю – с наивностью, без всякого антисемитизма, а как факт, и с сожаленьем даже к судьбе писателей-евреев. И была испугана его возмущенным протестом. В дальнейшем я этого общего вопроса старалась не касаться.
Кстати, об антисемитизме. В том кругу русской интеллигенции, где мы жили, да и во всех кругах, более нам далеких, – его просто не было. Я уж не говорю о традиционных «либералах»-шестидесятниках. Но среди вообще более или менее культурных людей никакого «еврейского вопроса» в то время просто не существовало. Единственное место, где он возник, и то лишь в начале 90-х годов, это в «нигилистическом» окружении Суворина, в его «Новом времени». Эта газета, конечно, считалась «реакционной», но суть ее была даже не в «реакции», ее и настоящие «реакционеры» довольно презирали, и более верно определяли, как «чего-изволите», т. е. «куда ветер дует», и что повыгоднее. Там был, между прочим, довольно талантливый и остроумный литературный критик,[31] но такой последней грубости, что трудно себе представить. Он-то и начал кампанию против евреев. Начал с Надсона, и особые поклонники Надсона уверяли даже, что от его фельетонов Надсон и умер, хотя известно, что этот болезненный офицер (Д. С. его хорошо знал) умер от чахотки. Да и что это за писатель, который может умереть от критического фельетона. Нововременский критик не щадил никого, но евреев преследовал в особенности. Не щадил он и нас с Д. С., но был так остроумен, что его фельетоны, его пародии, касались ли они нас, или того или другого еврея, не могли нас не забавлять.
Впрочем, мы с Д. С. прошли, в этом смысле, такую школу, что никакая критика уже не могла нас так или иначе трогать. Каждый из нас шел своим путем, не смущаясь и не обращая внимания на привычные неодобрения. Когда я сама сделалась литературным критиком, я была поражена чувствительностью писателей: всякое мнение, если оно не было восторженным, а просто критическим разбором, уже погружало писателей в неврастению и часто делало его моим личным врагом. Особенно, если это мнение было, как часто оказывалось впоследствии, правильным и касалось писателя, вкусившего мгновенной славы и окруженного такими же мгновенными поклонниками. Но это к слову, и я не буду приводить примеров.
Добавлю только, что европейцу, французу, скажем, непонятно тогдашнее положение русской литературы и непонятно положение критиков, потому что здесь – мудро, может быть, – критика более или менее упразднена. Но в России, и в то время, о котором я пишу, и раньше, – было иначе. Другое дело, что она стояла плохо, требовала преобразования.
Д. Мережковский, в известном смысле, был ее преобразователем. Его книга «Лев Толстой и Достоевский», – что это, критика или исследование? Конечно, исследование, но, конечно, и критика. То же самое можно сказать и о других его книгах, и вот эта новая, тогда непривычная манера подходить к образу писателя и человека, от непривычности возбуждала недоверие. Считалось, что романист или пишущий рассказы (беллетрист, занимающийся belles lettres[32]) должен это и писать, а критик – писать критику, большей частью «фельетоны». Считавшийся «поэтом» – писал стихи. Бывали, конечно, и отступления от этого правила, я говорю об общем.
В том году, когда Д. С. уже серьезно стал заниматься «Леонардо», – мы весной поехали опять в Италию. Флексер, с которым в это время мы были в дружеских отношениях, поехал с нами. Не помню, как это устроилось, но знаю, что раньше он никогда не был в Италии, ни вообще за границей. О задуманном романе Д. С. он, конечно, знал. В его журнале, однако, мы не были постоянными сотрудниками, я там печатала лишь изредка стихи, да, кажется, один или два рассказа. Но Д. С., конечно, надеялся там напечатать будущего «Леонардо».
Я не могу теперь припомнить последовательно этого нашего первого для «Леонардо» путешествия (записная книжка моя с набросками давно пропала), помню лишь, что с Флексером мы оставались только в главных городах, во Флоренции, в Риме и в Неаполе (куда спустились даже сначала). И надо сказать, что еще в Неаполе Флексер, как я смеялась (не при нем, конечно), – «не умел отличить статую от картины». Не говорил, конечно, по-итальянски (хотя пытался), и с ним случалось немало комичных эпизодов. Но он почти всюду следовал за нами. Д. С., когда был занят предварительной работой, имел обыкновение рассказывать о ней мне, очень подробно (и красноречиво). А так как Флексер был с нами, то слушал все это и он. И однажды Д. С. сказал: «Вы бы, А. Л., занялись своей какой-нибудь темой, вот, например, Маккиавелли…» Он как бы согласился и стал ездить на прогулку с толстым томом Маккиавелли в руках. Привычка его не видеть ничего вокруг, особенно природы, когда мы ездили по окрестностям Флоренции, например, а сидеть в экипаже, читая книгу, очень меня раздражала. А также и его рассматриванье картин в музеях (когда уж он начал их «видеть»), его фигура с вечно поднятым воротником пальто, с каталогом в руках.
Из Флоренции он тогда вернулся в Россию, а мы отправились по всяким маленьким городкам, как ехал Франциск I с Леонардо: Фаэнца, Форли… до Синегаллии, на юге. Оттуда – уже на север, опять через Флоренцию (захватив Мантую).
Остановились в маленьком городке около Флоренции, откуда путь уже не железнодорожный, в местечко около Монте-Альбано, где находится деревушка Винчи. Этот путь мы совершили дважды: второй раз с профессором Уциелли, тогдашним знатоком Леонардо. В этой деревушке сохранился домик, где жили (в то время) потомки семьи Леонардо, рыжебородые крестьяне, и даже чудом сохранился старинный камин, на который нам с торжеством указал Уциелли. Мы с ним пешком перешли через гору Альбано – в другую долину, где находится другой городок, откуда уж и вернулись во Флоренцию. Гора Альбано – лесистая. Молодые дубки (это было в мае) еще не потеряли прошлогодних листьев, из-под них пробивались новые. На этой горе (Белой – Albano), названной так неспроста, мы видели то, чего, кажется, нигде больше видеть нельзя, – белую землянику. Рассказы о ней мы считали выдумкой, пока не собрали ее собственными руками (и во Флоренцию даже привезли). Спелые ягоды, не бледные, не зеленоватые, а снежно-белые, с розоватыми крапинками-семечками, как на землянике. Кроме цвета, – от земляники самой обычной, лесной, она не отличается. Нас уверяли, что на Monte Albano водятся белые дрозды… но их мы не видали. Странная, однако, гора!
Оттуда мы поехали в Милан, – как не повидать эту полуразрушенную фреску – «Тайную вечерю»! И наконец – во Францию, в Амбуаз, где Леонардо умер. Нас долго не пускали в этот небольшой замок за каменной стеной, но в конце концов, я помню, настояния Д. С. возымели свое действие, мы были в темноватой комнате со стенами, обшитыми деревом, где Леонардо умер.
Это было так давно, мне трудно быть точной, пишу лишь, что помнится.
В июне мы вернулись в Россию, где Д. С. уже вплотную принялся за новый роман, рассказывая мне его по главам, и затем эти главы, окончив, мне их читая.
Наша дружба с Флексером (и его журналом) продолжалась с 1894 до весны 1897 года. Он относился, в общем, ко мне лучше, чем к Д. С., несмотря на мои постоянные протесты против его «литературы». Он даже издал мою первую книгу рассказов «Новые люди», где, в середине, были несколько стихотворений последних годов. Не много, потому что я вообще никогда не писала «много» стихов, даже в юности. Первый том рассказов «Яблони цветут» имеет свою историю, о которой я, может быть, упомяну в дальнейшем, так как она имеет отношение к Д. С. Но сейчас кончу о Флексере.
Ранее разрыва нашего, должно быть в 1895 году, в конце (точно не помню) я наконец совсем, и резко, отказалась печататься в «Северном вестнике» из-за отвращения к уродливым статьям Флексера. Может быть, это было глупо, но его язык оскорблял мое эстетическое чувство. Тут был первый толчок к разрыву.
Я, однако, не думаю, чтобы я этим моим бескорыстным бунтом повредила Д. С., то есть, что роман «Леонардо» не был напечатан в «Северном вестнике». Как это вышло – я не помню точно, помню лишь, что роман, по окончании, предлагался в «Вестник Европы» и в другие большие журналы, и везде без успеха. Кажется, он сразу вышел отдельным изданием. (Постараюсь это проверить). Окончив «Леонардо», Д. С. раньше третьего, который уже имел в виду (Петр I), занялся большим трудом своим «Лев Толстой и Достоевский». Где и как был он напечатан уже в 1901 году – я скажу дальше.
Что же касается Флексера, с которым мы после 1897 года уже никогда более не встречались, он, может быть, потому и не напечатал «Леонардо» в своем журнале, что уже тогда задумал сам написать большую книгу о «Леонардо да Винчи». После нашего совместного путешествия в Италию он туда, кажется, возвращался, пополняя свои сведения, и книгу свою написал, но уже когда журнал прекратился. Он, как известно, выпустил ее в роскошном издании. Судить о ней не могу, так как мы ее не видели. В последние годы, как было слышно, он сделался балетоманом (?). Умер уже в 20-х годах, при большевиках.
Возвращаясь к концу века, когда роман Д. С. «Леонардо» еще не вышел, отмечу следующий случай. К нам пришли однажды две незнакомые дамы, одна из них высокая и полная, среднего возраста. Они прошли в кабинет Д. С., откуда до меня доносился громкий говор одной из дам: «C’est du Flaubert et d’Anatol France!»[33]
Ушли они не скоро, но потом Д. С. мне рассказал, что одна из дам была дочь настоятеля парижской русской церкви на rue Daru – о. Васильева, и явилась она с просьбой разрешения перевести роман «Юлиана» на французский язык, рассыпалась ему в похвалах и сказала, что имеет возможность издать его у Calmann Zévy. Разрешение она, конечно, получила… Это был первый шаг Д. С. в Европу.
Материально издание не принесло нам ничего, – с Россией у других стран не было конвенции. Не было ее и после. Так что и со следующих переводов, которых было вскоре много, особенно в Германии, мы получали какие-то гроши лишь тогда, когда издатель этого желал, или желал переводчик, чтобы имелась надпись «autorisé»… Если M-lle Васильева пришла просить «разрешения» – то сделала она это из учтивости, да и привыкнув к европейским порядкам.
В годы 1898–1899 мы, по веснам, ездили за границу, в 99-м – в первый раз в Сицилию, но оба раза возвращались на лето и зиму в Петербург. На даче жили неизменно с моей семьей. И только осенью 1899 года мы уехали из России на целый год, – сначала зима в Риме, весной опять Сицилия, летом 1900 года – в Германии. В сентябре 1900 – Петербург.
Но эти последние годы века были такими важными для жизни Д. С. (и моей), что, не остановившись на них, – нельзя понять и последующих 1901–1903, а потому я к ним возвращаюсь.
Наши путешествия, Италия, все работы Д. С., отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны – плоский материализм старой «интеллигенции» (невольно и меня толкавший к воспоминанию о детской религиозности), все это вместе взятое, да, конечно, с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., – не могло не привести его к религии и к христианству. Даже, вернее, не к «христианству» прежде всего, – а ко Христу, к Иисусу из Назарета, образ которого мог и должен пленять, думаю, всякого, кто пожелал бы, или сумел взглянуть на него пристальнее. Вот это «пленение», а вовсе не убеждение в подлинности христианской морали, или что-нибудь в таком роде, оно одно и есть настоящая отправная точка по пути к христианству. Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Д. С. о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были поняты, как понимаются сейчас и где, или совсем не понимаются или забыты.
Мы должны были бы, в эти годы (1897–1900) сойтись с Вл. Соловьевым, но этого почему-то не случилось. Мы его знали лично, встречали и у баронессы Икскуль, и у графа Прозора, читали вместе с ним на литературных вечерах (не студенческих «демократических», а более «фешенебельных»), с его младшей сестрой, Поликсеной, я даже была и тогда, и после его смерти, долгие годы, в самых приятельских отношениях, – а все-таки у нас с ним – лично – что-то не вязалось. Он жил в Москве, в СПБ бывал наездами, когда приезжал – был окружен кучами «приятелей», которые «нам ничего не говорили», – да, пожалуй, и ему самому. Я не помню, чтобы он где-нибудь при нас (в обществе) говорил о чем-нибудь серьезном. У него была привычка «острить» (не остро, такая же привычка оказывалась у сестры, Поликсены), а хохот его, каким он свои «остроты» сопровождал, был до такой степени необычен и неприятен (он был знаменит), что – мне по крайней мере – никакого удовольствия встречи с ним и не доставляли.
Помню, однажды мы, в белую ночь, поехали на «острова» – с ним и с милым приятелем нашим, старым рыцарем баронессы Икскуль – M. Кавосом. Кто-то из нас вспомнил древнего философа, на лысину которого упала черепаха, которую нес орел, и убила его. Соловьев, захохотав, сказал, что лучше умереть от черепахи, чем от рака. Это все-таки была еще «острота», но почему он, с тем же хохотом, объявил, – когда мы проезжали мимо Елагинского дворца, и я сказала, что тут, вблизи, домик, где родился Д. С., – что это – «le comble de l’amour conjugal»[34] – уже совершенно было непонятно.
Между тем это был один из самых замечательных религиозных мыслителей, даже европейских, и когда я, уже после его смерти, его перечитывала сплошь – я там нашла столько идей, от которых можно и должно было, приняв их, идти дальше, что не переставала ему удивляться. Д. С. никогда не читал его пристально, между идеями обоих были совпадения иногда, но именно совпадения, как бы встречи. Об этом знали, редкие тогда, поклонники Соловьева, но, настоящие, как П. П. Перцов, например, который, благодаря этому, пришел к Д. С. и сблизился с нами, так, что наш общий журнал «Новый путь» (1901–1904 гг.) был основан им и в программе было упомянуто имя Владимира Соловьева.
А. Блок и А. Белый (Бугаев) оба, в юности, были как будто даже под влиянием Вл. Соловьева, но это уж в другом плане, так сказать, – поэтическом, ибо в их первых стихах было подражание стихам Соловьева.
Можно сказать, в общем, что мало кто Вл. Соловьева в то время читал и понимал. И мне кажется, что умер он раньше, чем сказал все, что еще мог сказать, или лучше, яснее определить свои идеи. Он умер сравнительно молодым, накануне XX века, в последний год XIX, летом, когда нас в России не было.
Я упоминаю об этом замечательном русском философе для того, чтобы подчеркнуть: его идея Вселенской Церкви не была у него заимствована Д. С., она к последнему пришла совершенно самостоятельно, и даже не вполне с соловьевской совпадала. Соловьевская брошюра, изданная за границей (в России цензура ее бы не пропустила), нам была тогда неизвестна, а кому известна – понята превратно: римская церковь, считающая себя Вселенской, как бы приняла Соловьева в свое лоно, да и в России держался миф, что Соловьев «перешел в католичество». Как будто в идею о Церкви Вселенской включалась возможность перехода из одной церкви в другую!
В 1898–1899 годах в нашем кругу появился и Розанов, о котором я уже упоминала (специально писала в моей книге). Это – с одной стороны, с другой же – мы близко стали к серьезному эстетическому движению того времени, не чисто литературному, но тому, где зарождался тогда журнал «Мир искусства». Это известный, так называемый «дягилевский» кружок. Он, в то время, был немногочислен, но очень сплочен. Искусство, настоящее, какого бы рода оно ни было, к какому бы веку оно ни принадлежало, не может находиться в плане чисто материалистическом. Эстетика, в абсолютно чистом виде, тоже не имеет подлинного бытия. Естественно, поэтому, что между кружком «Мира искусства» и нами завязались очень дружеские отношения. Розанов был к ним дальше, чем Д. С., с его широкими взглядами и знаниями. Но и они понимали ценность Розанова, и он бывал тоже у них. В них, кроме всего прочего, было влечение к новому, к выходу из тупика, в котором тогда находилась культурная Россия.
«Пленение» Д. С. Христом, наши разговоры (они не всегда велись наедине, но пока и не в кружке «Мира искусства») – несомненно должно было привести Д. С. к вопросу о христианстве – и к вопросу о церкви. Он, с его привычкой изучения вопроса в прошлом (исторически), чтобы затем перейти к нему в данном, не мог не почувствовать, что нам тут каких-то опытных сведений не хватает. Я в то время некоторые разговоры наши записывала. И вот, помню, раз, летом 1899 года, когда я писала что-то о «плоти и крови» в евангельских словах Христа, Д. С. пришел в мою комнату и быстро сказал: «Конечно, настоящая церковь Христа должна быть единая и вселенская. И не из соединения существующих она может родиться, и не из соглашения их, со временными уступками, а совсем новая, хотя, может быть, из них же выросшая. Но тут много еще чего, что нам надо знать…» Мне действительно вопрос казался таким громадным, что я, прежде всего, предложила ему ни с кем об этом и не говорить пока. А что тут, и как нужно еще знать, я тоже себе еще не представляла.
Д. С. со мной согласился. Сказал даже, что и хорошо, что мы осенью уедем на целый год за границу, там, в уединении, можно будет ему самому, только со мной, обо всем этом подумать. Он кончал тогда третий том исследования своего – «Религия Льва Толстого и Достоевского».
Однако при живом характере Д. С., при его как бы самоотдаче идее, которая им всем владела в данное время, и при его доверии к людям он не мог не говорить хотя бы просто о христианском вопросе с теми, с кем встречался дружественно. С Розановым (которого занимал главным образом вопрос пола и отрицание всякой плоти в христианстве), с Перцовым (хотя и поклонником Соловьева, но человеком очень сдержанным и осторожным), с Влад. Гиппиусом (тогда студентом) и даже кое с кем из дягилевского кружка. В эту осень я помню бесконечные разговоры на религиозную тему, и даже сходились мы для них то у Перцова, то у нас. Как-то, у Перцова, был даже «сам» Дягилев (ему-то, в особенности, тема эта была чужда). Но Д. С. казалось, что почти все его понимают и ему сочувствуют. Да, по правде сказать, так думала иногда и я, ибо Д. С. умел говорить увлекательно, говорил, по-моему, верно и прямых возражений ему не было. Но не обладая все-таки доверчивостью Д. С., я была рада, когда эти псевдосоглашения с нами прекратились: в октябре мы уехали в Рим.
Весною, как я уже упоминала, мы опять были в Сицилии, в той же Таормине и на той же вилле, над заливом Ионического моря, но, к сожалению Д. С., не проехали опять всю Сицилию, через Джирдженти, до Палермо, как в первый раз, а прямо вернулись в Рим, потом во Флоренцию (где пробыли довольно долго), на лето уехали в Германию. Д. С. любил ее леса, похожие на русские.
Все это время мы вели оживленную переписку с петербургскими друзьями (переписку вела больше я, так как Д. С. не любил писать письма, да и занят был все время окончанием вот этой большой своей работы – «Лев Толстой и Достоевский», как уже сказано).
Еще в Сицилии мы узнали, что журнал «Мир искусства» – основан и с осени (если не ошибаюсь) будет выходить. И Д. С., и я должны были быть там близкими сотрудниками, – хоть журнал проектировался скорее художественный, нежели литературный. Впрочем, в первое время, он был столько же литературным, сколько и художественным.
Он уже выходил, когда осенью (1899 г.) мы вернулись в Петербург. Журнал, естественно, сблизил нас с «кружком Дягилева», – на этом кружке и на журнале мне надо остановиться.
Я не могу здесь говорить подробно о тех «новых» людях данного времени, которых мы встречали, но о которых у меня уже есть подробная запись в моей книге «Живые лица», – как о Розанове, Сологубе, Брюсове, Блоке и других. Многие из них по-своему замечательны, все характерны для эпохи конца и начала нового века, а равно и другие, другого слоя, с которыми немного позже пришлось нам столкнуться. Но об этих последних – речь впереди. Сейчас, когда я пишу, почти все, и замечательные, и просто любопытные, – забыты. Но будущая Россия вспомнит о них, – о Розанове, например.
Кроме нежеланья повторяться, – писать подробно о тех, о которых я уже писала, – я не желала бы отходить и от прямой моей темы, ибо я не пишу общих мемуаров, а лишь о жизни Д. С. Мережковского, которая вся проходила и прошла перед моими глазами. Но, конечно, и для этого мне приходится говорить и о тогдашней русской эпохе, и о людях, наиболее близко с нами соприкасавшихся, и о наших с ними взаимных отношениях.
Время было, по-моему, интересное. Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись, или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих. Во Влад. Соловьеве, умершем как раз накануне XX века, например. Но в нем, несомненно, имелась пророческая жилка. А человек позднейшего поколения и склада, Блок, – он весь был – как я о нем писала – ходячая «трагедия и беспомощность». Но о Блоке и его предчувственной трагедии (не личной) говорено было много и другими.
Возможно, что среди людей эстето-художественного возрождения это не так замечалось, в кружке «Мира искусства», например, – если его брать en bloc,[35] но ведь и там, несмотря на первоначальную его сплоченность, люди все-таки были разные…
Я назвала этот кружок «дягилевским», и название имело точный смысл. Без Дягилева вряд ли создался бы и самый журнал. Без его энергии и… властности. Дягилев был прирожденный диктатор. Скажу об этом ниже. Когда мы познакомились с участниками кружка (гораздо ранее возникновения журнала), он состоял из окружения Дягилева следующими лицами: во-первых – Д. В. Философов, двоюродный брат Дягилева, затем А. Н. Бенуа, Л. Бакст, В. Нувель и Нурок, который, впрочем, скоро умер и остался для нас поэтому загадочным. Остальные (главное ядро) были и далее на своих местах.
Редакция «Мира искусства» помещалась тогда в квартире Дягилева, на углу Литейного и Симеоновского, – там были и первые «среды». Позднее все это перенеслось в более пышное помещение на Фонтанке.
«Среды» были немноголюдны. Туда приглашались с выбором. Кажется, это были тогдашние художественные и литературные «сливки», – так или иначе – под знаком эстетизма, неоэстетизма. Все, на чем лежала малейшая тень или отзвук 60-х годов, было изгнано, как и слишком долго царившие в России идеи «общественные» – с их узкими мерками. К людям прилагалась лишь мера таланта или хотя бы воли к освобождению от традиционных пут. Нельзя было там вообразить, например, какого-нибудь художника из «передвижников»,[36] а среди литераторов – писателя или поэта, давно «общепризнанного» за гражданский уклон.
Но Розанов, мало разбиравшийся в художественном искусстве, Сологуб, и даже старый, но поэт Минский, отказавшийся от своих первых «гражданских» стихов (их и забыли все, так они были плохи: «О родина моя, о родина терзаний»), – все бывали на средах постоянно.
Любопытный Розанов скучал там порою, он не умел участвовать в общем разговоре, умел лишь – все равно с кем – говорить интимно, – а с Сологубом не поинтимничаешь. Женщин же (с ними это ему больше удавалось) на «средах», кроме знаменитой Дягилевской нянюшки, я не помню, их как будто совсем там не появлялось.
«Мир искусства» был первым в России журналом эстетическим – в хорошем смысле. Он начал необходимую борьбу за возрождение пластических искусств в России. Возрождение литературы, даже как словесное искусство, не входило непосредственно в его задачу. Но при широте взглядов новаторов-создателей журнала не могла остаться в стороне и новая литература. Отсюда наша близость к этому кружку и его журналу. Мы в нем пользовались непривычной нам свободой. Не говоря о стихах, я помню две мои статьи, которые совершенно не подходили к главной задаче журнала (что признавалось и мною, и редакцией), были, однако, там напечатаны.
Длинное исследование Д. С. о «Льве Толстом и Достоевском» было кончено, – и, разумеется, ни в каком тогдашнем русском журнале (из «толстых», как их называли, т. е. «литературных» ежемесячников) не могло появиться. Это было так ясно, что и попытки мы считали лишними. И вот серьезный, почти трехлетний, труд Мережковского впервые был напечатан на страницах «Мира искусства». Эти широкие страницы часто были покрыты (тогдашнее новшество), поверх текста, прозрачными, иногда цветными рисунками того или иного художника. По тексту «Льва Толстого и Достоевского» гуляли, помнится мне, и бредовые тени Гойя. Но это никого из нас не смущало и серьезного отношения редакторов к Мережковскому не изменяло.
Было там напечатано и письмо-статья Андрея Белого, весьма отвлеченное (первое его выступление в печати), – он никому, ни редакторам, был тогда неизвестен – даже по имени, – так как подписался просто «студент-естественник».
Журнал тогда был в расцвете: Дягилев действовал с обычной энергией: вел журнал (сам в нем почти никогда не писал, зная, вероятно, что это не «его» дело), устраивал попутно и всякие выставки, очень удачные. Лишнее, думаю, упоминать, что о «балетах» тогда еще речи не было, это явилось у Дягилева гораздо позже.
Конечно, вопросы, которые главным образом занимали в последние годы века Д. С. и о которых осенью 1899 года, перед годом нашего отсутствия из Петербурга, Д. С. говорил с людьми, дружественно к нему относящимися, между прочим – и с людьми дягилевского кружка, – не были главными для них, и менее всего для самого Дягилева. Но для того, кто мог бы знать хоть немного общее положение культурного русского слоя в эти годы, было бы понятно, что все так называемые «новые» группировки не могли быть чужды друг другу. Отсюда близость кружков, естественное скрещиванье путей, – хотя бы на краткое мгновенье, за которым шла часто и перегруппировка, и вливанье во все группы новых людей.
Идея петербургских Религиозно-философских собраний (о них я далее буду писать подробно) родилась, конечно, не в кружке «Мира искусства», хотя в журнале, задолго до их открытия, была напечатана моя статья о смысле и желательности таких собраний. Но не только они, а даже то, что они привели нас к созданью собственного журнала, задачи которого весьма отличались от задач «Мира искусства», не послужило к разрыву с «дягилевским» кружком, только ослабило наше сотрудничество в журнале.
Как ни сплочен был этот кружок, но люди-то, тесно Дягилева окружавшие, были все-таки разные (что я уже заметила выше). Большинство, конечно, подходило Дягилеву, гармонировало с его идеями и задачами: редкая сплоченность не могла же объясняться только диктаторскими свойствами Дягилева. А сплоченность – действительно редкая: ведь даже на те собеседованья, осенью 99 года, когда поднялись впервые разговоры о религии и христианстве в частности, кружок являлся почти в полном составе. То же было и тогда, когда открылись Собрания. Там можно было, положим, встретить всех. Но Дягилеву, кажется, менее других было свойственно интересоваться тем, что делалось в зале Собраний, – однако он там бывал вместе с другими своими… не знаю, как сказать точнее: друзьями? приближенными? содеятелями? – все равно.
Конечно, ни Бакст (лично мы с ним очень дружили), ни Нувель (тоже наш приятель) не могли тоже иметь много связи с занимавшими нас вопросами: но Ал. Бенуа, например, считавшийся и считающийся только «эстетом», отнюдь не был тогда этим вопросам чужд, – стоит взглянуть в старый наш журнал. А ближайший друг и помощник Дягилева, его двоюродный брат Д. В. Философов, сразу проявил самый живой интерес к этим вопросам и даже принимал участие в хлопотах по открытию собраний.
Мы этому, конечно, радовались. На кружок в целом, и на главу его – Дягилева – никто и не возлагал надежд в этом смысле. Слишком он был совершенен. Все диктаторы более или менее совершенны, – как prédestinés.[37] A Дягилев, повторяю, был прирожденный диктатор, фюрер, вождь.
Я отнюдь не отрицаю диктаторов и диктатуры, напротив, я признаю, что диктатор может быть явлением провиденциальным, спасительным, во всяком случае – положительным (все равно в какой области и какие мы возьмем «масштабы»). Это не мешает нам, однако, относиться к диктатуре и ко всякому диктатору с каким-то внутренним отталкиванием. Дело, должно быть, просто во «власти» одного над многими. Отсюда получаются нередко превосходные результаты, особенно если диктатор действительно талантлив. Их нельзя не признавать, не ценить. Но внутреннего отношения к диктатору это не меняет.
Такое отталкивание было у многих и у нас от прирожденного диктатора – Дягилева.[38] Без всякой враждебности (ведь мы смотрели со стороны), с признанием всех его талантов и заслуг, с уверенностью в его дальнейших успехах, но – со всегдашним чувством чего-то в нем неприемлемого: в его барских манерах, в интонации голоса, в плотной фигуре, в скорее красивом тогда – полном, розовом лице с низким лбом, с белой прядью над ним, на круглой черноволосой голове. Говорили, что он капризен и упрям. Но я не так вижу его. Он был человек по-своему сильный, упорный в своих желаниях и – что требуется для их достижения – совершенно в себе уверенный. Если эта самоуверенность слишком бросалась в глаза, – тут уж дело ума, в котором ему, при его хорошей образованности, не было никакой нужды, его заменяла разнородная талантливость и большая интуиция.
Его двоюродный брат, Д. Философов, обладая совсем другим характером, скорее пассивным, находился тогда вполне под его властью. В интерес, который Д. Философов проявил к вопросам, нас занимавшим, Дягилев, кажется, не очень верил, по крайней мере в серьезность такого интереса. Он нисколько не рассчитывал потерять такого верного, долголетнего своего помощника и не сомневался, что по уже намеченному дальнейшему пути они пойдут вместе. На всякий случай он хотел все-таки знать, что делается в новом углу, в нашем, где стал бывать его друг и спутник, а потому бывал и у нас, и сопровождал его на Собрания. Его мать, – не родная, но любившая его, как родного сына, Елена Валерьяновна, женщина удивительной прелести, с которой мы были близки (и Д. Философов тоже), бывала на Собраниях постоянно, говорили даже, что всю жизнь их и ждала.
Но мне пора перейти к этим собраниям и остановиться на них, так как они занимают довольно серьезное место в жизни Д. С. Мережковского, в его жизненном опыте, имевшем влияние на его последующую внутреннюю эволюцию, а кроме того, они имеют и объективный интерес, – для людей даже не русских, но интересующихся русской общественной жизнью того времени.
Осень и зима 1900–1901 гг., после нашего возвращения в Петербург, прошла вся внутренне – под знаком новых наших с Д. С. мыслей (о христианстве и церкви), а внешне – в работе в «Мире искусства», в сближении с некоторыми из кружка (главным образом с Философовым), а также кое с кем из «духовного мира». Последние – были завсегдатаями Розанова, – с ним мы тоже видались довольно часто. Эти лица из «духовного» мира были не священники и не имевшие никакого официального положения в духовном ведомстве, а просто безобидные «церковники», может быть, из старых его знакомых: он был женат на вдове священника (Первая его жена, которая его бросила и на которой он женился 19-тилетним мальчишкой, была лет на 25 его старше. Это не кто-нибудь иная, а известная любовница Достоевского, от которой он достаточно пострадал, а после него, и еще горше, пострадал и несчастный Розанов – от ее неистовства, – пока она его не бросила. Это – Полина в известном рассказе Достоевского «Игрок». О ней, об ее историях с Достоевским и с Розановым у меня написано в статье о последнем.
Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа (см. «Темный лик»). С первого взгляда это кажется странным. Розанов ведь был «светский» писатель при этом, – то есть «интеллигент», слово, в духовном мире тогда «страшное». Но, во-первых, был не интеллигент как прочие, «пугала из тьмы», которые, мол, никакого Бога не признают, как и «благонамеренных» журналов: он писал в «Новом времени». Во-вторых (и это особенно для белого духовенства) чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он «еретик» – не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко enfant terrible,[39] которому многое прощалось. Так было и дальше, несмотря на его жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовества, в особенности против монашества.
Д. С., между своим длинным исследованием «Лев Толстой и Достоевский» и подготовительной работой к новому роману «Петр и Алексей», писал более краткие статьи о целом ряде старых и новых, русских и иностранных писателей и деятелей, составивших целую книгу под названием «Вечные спутники». Были ли эти более краткие «исследования», хотя бы некоторые, напечатаны где-нибудь, кроме «Мира искусства», я сейчас не припомню: но книга была целиком издана новым нашим другом П. П. Перцовым, поклонником Вл. Соловьева. Перцов вообще был первым издателем Д. С. Мережковского, как первым издателем-редактором нашего общего журнала, который стал выходить в 1901 году (с отчетами Собраний). Перцов был наш «содеятель». Сам, как писатель не очень яркий, но человек с большим вкусом и большим умом.
Что касается книги «Вечные спутники» – любопытно отметить, что тогдашнее ее появление не вызвало никакого внимания, если не считать всяких грозных нападок со стороны «либеральной» прессы, хотя никакого «либерализма», ни антилиберализма она не касалась: но это была одна из традиций – бранить Мережковского. Между тем в последние годы перед войной 14 года эта книга была особенно популярна и даже выдавалась, как награда, кончающим средне-учебные заведения.
Работа Д. С. не мешала нам сходиться в частные кружки для разговоров на ту же тему, как осенью 99 года, перед нашим путешествием. Приблизительно и участники их были те же. Но мне показалось (и Д. С. согласился, да и сам это заметил), что разговоры эти мало-помалу вырождаются в беспощадные споры, не очень даже оживленные, и что каждый из тех, кого мы считали «близкими», думает больше о чем-то своем, личном, нежели о вопросе общем. Один из них, помнится, любил отвечать на те или другие предложения откровенным: «Да, но у меня свои задачи».
Особенно чувствовался тут разлад с членами «дягилевского кружка». Поэтому я предложила Д. С. поговорить отдельно с Философовым, как с несомненно более к нам близким, и устроить иногда разговоры только втроем. Это имело успех, и, помимо вечеров, где собирались и другие, мы виделись в определенный вечер у нас. У него, оказывается, у самого уже была эта мысль.
Так шла зима. Собственно с «Миром искусства» у нас никакого охлаждения не было. Мы бывали там каждую «среду», где так же было интересно и весело. Мы с Перцовым часто увлекались в то время «домашними» пародиями, в прозе и в стихах. В них мы не щадили и самих себя, поэтому некому было обижаться. Да это вообще не было принято. В том же «Мире искусства» имелась налево от передней маленькая комната, увешанная карикатурами «своих» художников на «своих же», т. е. на участников и сотрудников. И всех это лишь забавляло.
Дело, однако, шло к лету, когда все мы разъезжались.
Отмечу, что этой ранней весной Д. С. был болен воспалением легких, а я – сильным ларингитом, но к маю мы оба поправились. Надо было все-таки уезжать скорее на дачу – мы жили это лето под Лугой, с моей семьей, как всегда.
В самые последние дни перед отъездом я несколько раз видалась с одним из членов «дягилевского» кружка,[40] по его просьбе. Он хотел будто бы выяснить свою бóльшую близость к собственно нашим темам, чем мы это, видимо, считаем.
Из наших разговоров ничего, конечно, не вышло. Я убедилась только, что в дягилевском кружке Философов ценится не одним Дягилевым. Тот, наш приятель, с которым я говорила, был обеспокоен вовсе не нашими вопросами, а интересом, который Ф. к ним проявлял. Он точно хотел «спасти» Ф. от них – и от нас. Я прямо сказала ему, что если это его «задача», – то, во всяком случае, у Д. С. и у меня «другие задачи», в которых Ф. не играет главной роли.
Мы, впрочем, не поссорились, даже переписывались летом, но из переписки тоже ничего не вышло.
Летом Д. С. много, как всегда, работал: подготовка к новому роману. О наших новых «вопросах» мы не говорили, – их, конечно, не забывая.
В сентябре семья моя уехала в город, – у сестер начинались занятия: одна была на медицинских курсах, другая в рисовальной школе Штиглица, третья – в Академии. Мы остались в пустой даче вдвоем.
Мы возвращались как-то с прогулки, из лесу, на закате. (Я пользуюсь здесь старыми моими записями, дневниками, которые привезла в Париж в 1905 году и нашла их сохранными в нашей квартире, когда в 20 году мы вернулись сюда эмигрантами. Потому за точность рассказа о Собраниях – и далее – я ручаюсь. Сохранились у меня также и записные книжки парижские, годов 1907 – 08.)
Итак, возвращаясь осенью 1901 г. с прогулки, я спросила Д. С.:
– Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать вот эти наши беседы?
Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:
– Да… я думаю продолжать. Собрать их всех и предложить высказаться определенно, чего они хотят – и чего не хотят. Там и посмотрим…
В этот день я ничего больше не сказала, но на другой, за завтраком, решила продолжать разговор:
– Разве ты не видишь, – отлично видишь, – что все эти беседы ни к чему нас не ведут. Говорим о том же, с теми же людьми, у которых у каждого своя жизнь, и никакого общения у нас не происходит. То есть внутреннего, настоящего. Даже с Ф., который нам ближе других и больше понимает главную идею. Разве не стоял все время между нами страшный и нерешенный вопрос: а какая она, эта идея, и вообще все это имеет отношение к жизни? Нашей, и не только даже нашей, а просто к жизни?
Д. С. сказал только задумчиво: «Да». А я продолжала:
– По-моему, нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем, – я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение, – зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были… ну, чиновники, деньги, дамы, чтоб оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились и не сходятся, и чтобы…
Д. С. вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Я очень обрадовалась, мне хотелось договорить, что ведь это не помешает нам создавать и внутренние наши круги, если он найдет это нужным, – напротив… Но договаривать не пришлось, так как Д. С. все это сам уже понял во всем объеме, – вероятно давно понимал и знал. Мы в тот день ходили до вечера по осеннему лесу и только об одном этом и говорили.
Очень скоро вернулись мы в Петербург и тотчас принялись за дело.
Определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, по возможности официальное, общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры.
Конечно, мы не обманывали себя: самый проект таких собраний, такого общества, казался, на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить, в какое время, при каких условиях, все это происходило.
Прежде всего: ведь идея Д. С., или идея нашей группы, идея христианства, была, в то же время (как идея и Вл. Соловьева), идеей церкви. В открытом обществе мы, говоря «люди религии», не могли не разуметь представителей данной русской церкви (исторической). Должна была, таким образом, произойти «встреча» между ними и представителями русского (по тогдашнему слову) «светского», т. е. не духовного, общества, даже так называемого «интеллигентского».
Подлинность и святость «исторической» христианской церкви никем из нас не отрицалась. Но вопрос возникал широкий и общий: включается ли мир-космос и мир человеческий в зону христианства церковного, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической церковью?
Для этого нам нужно было услышать «голос церкви» (а как его услышать, если не из уст ее представителей?).
То, что церковь эта была лишь одна из христианских церквей, – мало что меняло. По существу в области главного вопроса все христианские церкви находились в одинаковом положении. Теоретически вопрос был предложен всем христианским церквам. Вопрос «о христианстве вселенском», как говорил Вл. Соловьев. Практически же, несмотря на полную зависимость нынешней православной церкви от российского государства в то время, – он все-таки мог быть предложен только православию, благодаря его внутренней свободе по сравнению хотя бы с церковью римской.
Подобные Собрания, и такое откровенное высказыванье на них, православными иерархами, невозможны были бы, если б это была церковь не православная, а католическая. «И даже лютеранская», – говорил тогда Д. С. Позднейшие его исследования христианских церквей укрепили в нем эти мнения – я их передаю в общем.
Однако, и внешние условия, закрепощение прав церкви государством (самодержавием) казались почти непреодолимыми препятствиями для устройства Собраний. Но тут помогла смешанность, текучесть и несколько разнообразный состав наших частных кружков. Люди, имеющие соприкосновение с духовными кругами, – которых мы узнали через Розанова. С некоторыми мы даже успели сблизиться (вне «дягилевского» кружка). Мысль Собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешении (пути официальные были, конечно, заказаны).
В то время царил всесильный обер-прокурор Синода, известный своей строгостью и крепостью – Победоносцев.[41]
Вот к этому-то «неприступному» Победоносцеву и отправились 8 октября 1901 г. пятеро уполномоченных членов-учредителей по делу открытия «Религиозно-филосовских Собраний в СПБ»: Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов, В. Миролюбов и Вал. Тернавцев.
О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях немалую роль, я скажу ниже. А Миролюбов – был из далеких сочувствующих (и то, может быть, потому, что происходил из духовного звания, но это скрывал). Он издавал плохонький «Журнал для всех», был типичный «интеллигент» старого образца, но глупый, и в Собраниях, порою, немало причинял нам досады.
Вечером того же дня «уполномоченные» (кроме Философова) посетили тогдашнего митрополита Петербургского Антония, в Лавре.
С этого времени на разрешение Собраний – получастных, со строгим выбором и только для «членов» – можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда-то началось наше настоящее знакомство с совершенно новым для нас «церковным» миром – как бы некое сближение двух разных миров.
Да, это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, – все было другое, точно другая культура.
Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию – «ряса» – не играли тут роли. Человек тогдашнего церковного мира, – кто бы он ни был, – чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, и одинаково: умный и глупый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, – неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на наш обычный «светский» (по выражению церковников) мир.
Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Собраний, значение «встречи». Другим эта встреча рисовалась просто в виде расширения церковью проповеднической деятельности, в виде «миссии среди интеллигенции».
Признаться, мы этому толкованию особенно и не противоречили, оно могло послужить в пользу разрешенья. Только бы разрешили, а там будет видно.
«Интеллигенция» представлялась, конечно, духовному миру в виде одной компактной массы «светских безбожников». Все оттенки от него ускользали. Не только ни о каких новых, по времени, формациях никто там не имел понятия (до открытия Собраний, во всяком случае), но не видели они даже особой разницы между Меньшиковым из «Нового времени» и каким-нибудь типичным старым «интеллигентом» из либеральнейшей газеты, для которого и сотрудники «Мира искусства», и мы были «отщепенцы»! (Ведь религия – реакция. Да и все, что не на базе позитивизма, – эстетика, идеализм, всякий спиритуализм – реакция!)
Таким образом, если говорить о некоторой запоздалости, малого осведомления в мире «духовном», то, по сравнению с вот этой частью тогдашней «интеллигенции», остававшейся «на посту», – мир духовный не мог назваться «миром невежества». Оно и там, и здесь было одинаково.
«Миссия среди интеллигенции»… Как заманчиво прозвучало это для многих, – между прочим для одного весьма любопытного, как тип «хитрого мужичонки», человека, чиновника особых поручений при Победоносцеве, Вас. Скворцова, редактора «Миссионерского обозрения» – журнала, о существовании которого мы раньше и не подозревали, но который, когда начались Собрания, стал выписывать… даже «Мир искусства».
Фигура интересная. Отчасти комическая, – над ним и свои подсмеивались, – но достоин он был не только смеха. Официальный миссионер, он славился жестокостью по «обращенью» духоборов и всяких «заблудших» в лоно православия. Вид у него был мужичка не без добродушия, но внутри этого «Висасуалия» (по непочтительной кличке) грызло тщеславие: давно мечтал стать «генералом» (дослужиться до «действительного»), а тут еще замечтал попасть в «среду интеллигенции». Перспектива миссии уже не среди нижегородских раскольников – совершенно увлекла его. У него появился зуд «светскости», и только заботила мысль – какие когда надевать надо галстуки, идя в «салоны» обращаемых.
Уж, конечно, не Валентин Тернавцев (один из замечательных людей того момента) мог помышлять о Собраниях, как о «миссии». На первом же заседании (давшем тон всем другим) он и высказался против этого взгляда.
На нем тоже лежал отпечаток иного, не «нашего» мира. В этом смысле была в нем и «чуждость». Однако, надо сказать, что именно он стоял тогда всего ближе к нашим идеям.
Так как Тернавцев сыграл в Собраниях большую роль, то я скажу о нем несколько слов.
Это был богослов-эрудит, пламенный православный, но происходил он не из духовного звания. Русский по отцу – итальянец по матери, и материнская кровь в нем чувствовалась. Все в нем было ярко – яркость главная, кажется, его черта.
Высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-русски, а по-итальянски (как бы «с ленцой»), чернокудрый и чернобородый, он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские у него были глаза и такой детский смех. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука. Замечательна его талантливость, общее пыланье и переливы огня. Оратор? Рассказчик? Пророк? Все вместе. От пророка было у него немало, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема.
Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища образов: сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, тоже не вполне «интеллигентский» (мы, смеясь, называли последний, с готовыми сухими фразами, – «является-представляется»), его фанатически-узкая трактовка некоторых идей, – все это заслоняло вопрос о его уме.
В Петербурге «кудрявый Валентин» появился не так давно. Жена – скромная, незаметная полька (перешедшая в православие), она нигде не появлялась. Жили они с детьми, где-то в маленькой квартирке. Тернавцев нигде не служил.[42] Был занят своей бесконечной работой, – исследование хилиастического учения (Апокалипсис).
В ноябре разрешенье было получено: собственно, полуразрешенье, попустительство обер-прокурора, молчаливое обещанье терпеть Собрания «пока что». (Увлеченный «светскостью» и «миссией» Скворцов немало, кажется, этой удаче посодействовал).
Сочувственно отнеслось и высшее духовное начальство (менее властное). Узнав, что «Ведомство» Собрания разрешает, митрополит Антоний (благообразный, с мягкими движениями, еще не старый, – он слыл «либеральным») благословил ректору Духовной Академии, Сергию, еп. Ямбургскому, быть председателем, ректору Семинарии – арх. Сергию – вице-председателем. Дозволял участие всему черному и белому духовенству, академическим профессорам и пр. доцентам, разрешил даже студентам Духовной Академии, по выбору, Собрания посещать.
К этому времени уже многие из будущих участников успели перезнакомиться между собой. Мы знали молодых профессоров (двое наиболее часто посещали нас: Ант. Карташев и Вас. Успенский), священников, кое-кого из высшего (черного) духовенства. Доклад Тернавцева, написанный для первого заседания, «Интеллигенция и Церковь», был нам хорошо известен.
Собрания открылись 29 ноября (1901 г.). Неглубокая, но длинная слева-направо «малая» зала Географического общества, на Фонтанке, – переполнена. Во всю ее длину, прямо против дверей, по глухой стене – стол, покрытый зеленым сукном.
Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с бледным, одутловатым лицом, с длинными вялыми, русыми волосами по плечам, в очках, – сидел посередине.[43]
Рядом – красивый и злой арх. Сергий, вице-председатель. Духовенство белое и черное преобладало. Черного было даже, кажется, больше. С левой стороны – ютились мы, «интеллигенты», учредители и члены просто. В углу – гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому обществу, но закутанная (как и на дальнейших собраниях) темным коленкором.
Еп. Сергий произнес вступительную речь, малозначительную, с обещанием искренности и доброжелательности со стороны церкви и с призывом к тому же «подходящих с совершенно противоположной стороны» (интеллигенции).
Слово это не было обращением от лица церкви к «противоположной стороне», с признанием разъединения и взаимного непонимания. К кому была обращена речь Тернавцева? Прямо к Церкви, и ценность доклада увеличивалась тем, что докладчик стоял сам на церковном берегу. Если тут уместно говорить «мы» и «они» (впрочем, это положение установил и Сергий) – то Тернавцев, в своей речи, оказался целиком «с нами», не переставая быть «с ними».
Никакой «интеллигент», хотя бы искренний прозелит, не мог бы, обращаясь к церкви с основным вопросом о религиозной общественности, поставить его в более понятной для церкви форме, с такой упрощенной резкостью. Интеллигент и языка бы подходящего не нашел. То, что для нас казалось примитивным, общеизвестным, – и оно было нужно. Тернавцев знал степень осведомленности церковных представителей о нашем, новом для них (но не для него) и давал, где следует, просто информацию.
Но тут мне надо сделать два небольших замечания.
Ничего даже приближающегося к тому, что сказал Тернавцев и что – и как – было говорено на Собраниях, не могло быть тогда сказано в России, в публичной зале, вмещающей более 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали называться «единственным приютом свободного слова». Что они были полуофициальны и «как бы» не публичны, – им только помогало: никакой тени полицейского, обязательного на всех «публичных» заседаниях. А полицейский, какой он ни будь, хоть полуграмотный, имел право остановить любого оратора, кто он ни будь. Условие же не допускать «гостей», а только «членов», ничего не меняло.
Второе мое замечание по поводу выписок из доклада Тернавцева. Я их делаю не только потому, что этот доклад был и остался как бы краеугольным камнем всех заседаний: к нему всегда возвращались, какая бы ни была очередная тема. И не только потому, что это первое заседание, с данным докладом, имеет известную историческую ценность, а по некоторым «пророческим замечаниям, в годы и десятилетия дальнейшие приняло даже как бы актуальное значение. В самом деле, ведь если бы вопросы, с такой остротой поставленные в 1901 году, были услышаны, если бы не только русская церковь, но и большая часть русской интеллигенции не забыли о них вовсе, – быть может, не находилась бы церковь, в течение двух с половиной десятилетий в таком бедственном положении, а русская интеллигенция, ее не убитые остатки, не вкушали бы горечь скитальчества». И не видели бы мы Россию «в состоянии такого духовного упадка и полного экономического разорения ее народа». Все это, этими же словами, как предупреждение, было сказано… четверть века тому назад.
Я нахожу нужным сказать более подробно о докладе Тернавцева и сделать из него некоторые выписки, главным образом потому, что этот доклад очень определенно выразил одну из главнейших идей Д. Мережковского о христианстве, а именно – воплощении христианства, об охристианении земной плоти мира, как бы постоянном сведении неба на землю, – по слову псалма – «истина проникнет с небес, правда возникнет с земли». Мережковский утверждал, что эта идея уже заключена в догматах, которые не суть застывшие формулы, какими считают их все исторические церкви, но подлежат раскрытию соответственно росту и развитию человечества.
Тема тернавцевского доклада вся была посвящена именно этому вопросу, причем на конкретном примере – в обращении его к «церкви русской и противопоставлении ей русской интеллигенции» – она отнюдь не потеряла ни своей глубины, ни остроты, хотя «интеллигенцию» он несколько идеализировал. Впрочем, он оговорился: «Состав ее случаен… Есть часть, которая ко Христу не придет никогда. Религиозное противление заведет ее, куда она сама не ожидает и не хочет. Об этой части пока говорить не буду…»
Но «интеллигенция» – это обширный общественный слой, сильный своей отзывчивостью, умственной и нравственной энергией… «Она есть общенародная величина». «Она имеет свои заслуги… и свой мартиролог». «Люди эти проявляют в своей деятельности и жизни часто нечто такое, что решительно не позволяет их принимать как силу, чуждую света Христова…» «Идея человечества и человечного есть душа их лучших стремлений…» «Они отстаивают веру, что человечество найдет путь к единению, и носят эту веру в себе, как некий золотой сон сердца». «Вопрос об устройстве труда, о его рабском отношении к капиталу, проблема собственности, противообщественное ее значение, с одной стороны, и совершенная неизбежность с другой – это для людей интеллигенции есть предмет мучительных раздумий…» «Мироохватывающие идеи… имеют над их совестью таинственную силу притяжения…» «Это не толпа, и не партия: она движется, в цельности, идеей нового общества – „одухотворенного…“»
А что же христинская (русская) церковь? Указав на разделение ее с «этим слоем общества» и подчеркнув его, Тернавцев говорит: «Все эти вопросы, – несмотря на то, что деятелям Церкви больше, чем кому-либо, приходится быть свидетелями совершенного разорения народа, – религиозно, нравственно, общественно чужды…» «Церковь не покидала народа в трудные времена. – Но оставаясь сама безучастной к общественному спасению, она не могла дать народу ни Христовой надежды, ни радости, ни помощи в его тяжком недуге. Его бедствия она понимает, как посылаемые от Бога испытания, перед которыми приходится только преклоняться».
«Отсутствие религиозно-социального идеала у Церкви есть и причина безвыходности и ее собственного положения…» «Она бессильна справиться и со своими внутренними задачами. Все разбивается о безземность ее основного учительского направления». И «невозможны никакие улучшения без веры в Богозаветную положительную цену общественного дела».
В самом начале Тернавцев, как историк и серьезный исследователь, обрисовывает общее положение тогдашней, самодержавной России, так: «Внутреннее положение России в настоящее время сложно и, по-видимому, безвыходно. Полная неразрешимых противоречий, как в просвещении, так и в государственном устройстве своем, Россия заставляет крепко задуматься над своей судьбой…»
«Преобразовательное движение эпохи Александра II кончилось… Россия остается сама с собой, лицом к лицу с фактом духовного упадка и экономического разорения своего народа…» «Сама географическая необозримость России, огромность и разноплеменность ее населения, рядом с внутренним идейно-нравственным ее бессилием, еще усугубляет нашу тревогу».
«Но мы, как Христиане, – подчеркивает Тернавцев, – верим, что Возрождение России может совершиться на религиозной почве».
Отсюда он, спросив, «где же деятели и проповедники этого возрождения», переходит к исследованию сил Церкви, а затем уже рисует облик «интеллигенции».
«Силы Церкви не неизвестны… Они слабы: широты замысла, веры низводящей Духа, в них нет. И самое главное – они в Христианстве видят и понимают один только загробный идеал, оставляя весь круг общественных, земных интересов – пустым. Единственно, что они хранят как истину для земли, это самодержавие… с которым сами не знают, что делать».
И Тернавцев, приводя еще много других доказательств, приходит к выводу, что Церковь «с ее вооружением» не может и приступить к делу возрождения России. И прибавляет знаменательные слова: «А ведь им (церковным деятелям) придется скоро лицом к лицу встретиться с силами уже не домашнего, поместно-русского порядка, а с силами мировыми, борющимися с Христианством на арене истории…»
Для предстоящей борьбы нужны иные, новые силы. Оратор, параллельно рассматривая идеалы Церкви и людей «интеллигенции» потенциально в последней, и даже не русской только, а мировой, находит живые силы.
«Дело совести и высшей свободы… составляет для них святыню… Есть много оснований думать, что в таких людях, теперь неверующих, скрыт особый тип благочестия и служения». «Великий сан человека, право быть человеком, сказывается в интеллигенции как способность к мучению над общечеловеческими вопросами – чуждыми Церкви. От этих вопросов она не отречется, даже если б от них отказалась вся Европа…»
О русской интеллигенции Тернавцев, однако, заметил, тоже очень знаменательно: «Всеобщая историческая гибель открывается для них (людей интеллигенции) с возрастающей ясностью. И люди эти переживают тяжелый нравственный кризис… Это не вырождение, так как жажда высшей жизни в них остается, но… кризис глубок.
…В самой интеллигенции должен произойти мучительный, теперь пока еле обрисовывающийся, разрыв: она должна будет расколоться…»
Несмотря на все смелые истины, которые Тернавцев высказал Церкви, он вопрошал именно ее, он был в ее лоне, верил в нее (может быть, потому и мог так остро ей правду высказывать) и, к замечанию, что об обращении интеллигенции можно говорить только в целом (обращение хотя бы множества отдельных лиц не решит ничего), а это возможно, только если Церковь ответит на указанные запросы, – он прибавил горестно: «Дать ответ Церковь… должна. Может ли статься, что вопросы действительные, роковые – есть, и нет отвечающего?»
Закончил же он свой доклад, прочитанный с тем подъемом, какой был ему свойственен (атмосфера в зале была напряженная), резюмировав его с необычайной ясностью: «Положение русского благочестия (т. е. Церкви) в настоящее время чрезвычайно: для всего Христианства наступает пора не только словом, в учении, но и делом показать, что в Церкви заключается не один лишь загробный идеал. Наступает время открыть сокровенную в Христианстве ПРАВДУ О ЗЕМЛЕ».
Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе – вот о чем свидетельствовать теперь наступило время.
Это должно совершиться «во исполнение времен» дабы, по словам Апостола, «все небесное и земное соединить под главою Христа».
Этот первый доклад на первом Собрании и поставил целиком ту единую тему, которая, далее, с разных сторон, и была предметом обсуждения на всех последующих заседаниях. Это – вопрос о «всехристианстве» (вопрос и Вл. Соловьева) – объемлющем, в долженствовании, мир, жизнь человека и жизнь человеческого общества. И это также вопрос о Церкви. О единой, вселенской (о которой говорил и Соловьев), но и о реальных, ныне существующих христианских церквах. Могут ли они при своих, отъединенных от земного, идеалах исполнить «новую великую задачу», встающую перед ними, ответить на всечеловеческие вопросы, послужив к религиозному объединению человечества?
Из доклада Тернавцева, откуда я делаю столько выписок, можно бы сделать их вдвое больше. Я могла бы также, с помощью стенографических отчетов, напечатанных в нашем журнале «Новый путь», и моих личных записей, притом как человек, на всех собраньях присутствовавший, описать дальнейшие заседания, отметив вопросы и ответы противоположных сторон. Но пусть займется этим будущий историк, если найдется когда-нибудь такой, для кого эти, на мой взгляд, немаловажные в истории России, Собрания покажутся интересными. Во свяком случае – это не тема для книги, которую я сейчас пишу. Как важен был для внутренней жизни и главных идей Д. С. Мережковского опыт «встречи» с исторической христианской церковью – здесь уже отмечено. Мне остается лишь кое-что добавить – не много.
Доклад Тернавцева, который, по моему выражению, был в «наших» идеях, точнее, совпадал с одной из главных тогда идей Д. С., – о Христианстве, включающем «плоть мира», и во многих частях совпадал с идеями Вл. Соловьева, встретил со стороны представителей Церкви не то что отпор, а совершенное непонимание ни его сути, ни главного вопроса, ни попутных. Он был точно не услышан, или услышаны были не те слова, которые Тернавцев произносил. Обсуждению доклада были посвящены два вечера. На обоих происходило что-то весьма странное. Достаточно отметить самого председателя, еписк. Сергия. Он сказал, что не видит нужды для Церкви «менять фронт» (?). Что Церковь не может «отказаться (?) от неба». Что незачем Церкви ставить новую задачу – «раскрытия правды на земле: устремляясь к небесному, представители церкви достигали и земного, как Николай Чудотворец…» Еще пример: «Церковь не восставала прямо против рабства, но проповедовала истину небесного идеала… и этим, не чем-либо иным, она достигла отмены рабства…» Но довольно. Не могу воздержаться от замечания: если еп. Сергий, теперешний московский патриарх, уже 26 лет проповедует «истину небесного идеала» – сколько еще лет ему понадобится, чтобы «достичь отмены рабства…» куда горшего, чем старое, крепостное!!!
Кстати: на одном из следующих заседаний Тернавцев, при случае, сказал очень верно о патриаршестве вообще. Назвав воздыхания о нем славянофилов – риторикой, он очень убедительно, и со знанием дела, доказал, что, «если не исходить из понимания Церкви как священнического авторитета, – что религиозно мертво и бесплодно», – патриаршество совершенно не нужно. «Оно, – вернее обгоревшие остатки его, – и теперь существует на Востоке. Но что дают они там? Сообщают ли церквам своим царственное величие исполняющейся истины? Что дают они всему Христианству? Ищут ли путей для его объединения, углубления? То же было бы и у нас… Патриаршество отменено не по прихоти Петра I. Оно перед своей отменой сделалось центром реакции… (мое примечание: вот чего не досмотрели наши деятели первой, февральско-мартовской, революции, тотчас же принявшись за церковные дела, учредив патриаршество). Кроме того, докончил Тернавцев, и учреждено было патриаршество светской властью, совершенно так же, как нынешний Синод»: (Мое прим.: как учредил его ныне Сталин, в лице Сергия, учредив ранее и свой Синод).
Повторяю, что о дальнейших заседаниях этих Собраний, просуществовавших до 5 апреля 1903 г., как ни были они любопытны (да и люди, их участники), я рассказывать не буду. Общая тема и направление их ясны. Уже здесь, в эмиграции, Д. С. хотел, чтобы я подробно написала о них несколько статей, изложив последовательно наиболее интересные заседания, подчеркнув разнообразие их участников и, насколько возможно, передав атмосферу в зале Географического общества. Прежде чем начать работу, я (мы) условились с одним давним нашим «другом», редактировавшим тогда толстый эмигрантский журнал и близкое участие принимавшим в другом (уже прямо «религиозном»), что эти мои статьи, конечно, будут у него напечатаны. Этот наш друг, типичный «интеллигент», старый эмигрант, давно, однако, склонялся к христианству (в последнее время даже крестился), и не верить ему у нас не было оснований. Однако вышло не так. Моя работа не пошла далее описания начала Собраний, вот этого первого доклада Тернавцева и нескольких следующих. Эту мою рукопись я лишь недавно нашла в бумагах (I статью) с надписью красным карандашом: «Отвергнуто… …ским»[44]). По каким мотивам он нарушил условие, – я теперь не помню, но не могу все же этому не удивляться: мне до сих пор непонятно, что «странное» мог в ней увидеть даже и не такой православный en herbe[45], как наш редактор. Впрочем, надо заметить: Д. С. Мережковский (и я), мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много. Он издавал свои труды отдельными книгами, и то – по-русски – в белградском, а не в парижских издательствах. А большинство его книг выходило раньше на том или другом иностранном языке. Я тоже издала две книги в Праге, одну в Берлине, одну в Белграде, а как журналист – давно перестала существовать.
Впрочем, о жизни и книгах Д. С. в эмиграции я скажу позже – в свое время.
Теперь – вернемся к старому времени и докончим мои воспоминания о тех, далеких, Собраниях (имевших в жизни Д. С. большое значение) записью в моем дневнике 1902 года. Я к ней не прибавляю и не вычеркиваю из нее ни одного слова, чтобы не нарушать «историчности». Это было, конечно, не одно мое личное мнение, те же наблюдения были близки и Д. С.
…«Мы узнали много новых людей. Узнавали все больше, из кого состоит Церковь, православная, которая, как нам казалось, нуждается в движении, в приятии нового, ибо в ней не отвечающая современной душе косность…
Вот из кого состоит ныне она (учащая): из верующих слепо, по-древнему, по-детскому, с детской подлинной святостью (о. Иоанн Кронштадтский). Им наши запросы, наша жизнь, наша вера – непонятны, не нужны и кажутся проклятыми.
Затем – из равнодушных иерархов-чиновников. Затем – из милых, полулиберальных душ: митр. Антоний.
Из тихих, малокультурных полубуддистов: еп. Сергий. Из диких, злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых… (вот это самое удивляющее, самое неожиданное, на что мы натолкнулись здесь: позитивизм! Иной раз кажется: да это главное! Да все они позитивисты!)
Но продолжаю: из позитивистов-нравственников, с честолюбием, жестких: Гр. Петров. Попадаются блестящие схоласты, как арх. Антоний, грубый и настоящий „еретик“, не верующий даже в историческое бытие Иисуса.
Профессора и прочие доценты Духовной Академии – почти сплошь позитивисты, хотя есть и с молодыми студенческими душами. Но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны. И как-то уж неисцелимо.
Так вот из кого ныне состоит учащая Церковь. Говорим, зная, имея опыт. И веруя в подлинность Церкви.
Отстранив всех, лишь внешне в ней находящихся, получим одного о. Иоанна и тех, кто с ним (невинная святость). Я знаю, наверно есть подвижники, схимники, старцы – там – где-то, „в глубине России“. Но ведь их святость – она хоть и далекой, но той же ниточкой связана с о. Иоанном Кронштадтским…
Увы! Увы! Как нам отсечь нашу жажду разумения, нашу молитву о жизни, о ее правде, – о всем человеке?»
Летом 1902 г. (мы жили опять под Лугой, но на другой даче) к нам приехал П. П. Перцов с проектом издания нового журнала. Эта идея возникла, конечно, из Собраний – и для Собраний. Ведь все заседания были стенографированы, начиная с первого. А где они могли быть напечатаны? Конечно, нигде… Да и с других сторон – журнал наш нам был нужен. «Мир искусства» уже перестал совпадать с нашими устремлениями – нашей группы. Мы с ним не порывали связи, но даже Философов, который такое деятельное участие принимал в хлопотах на разрешение Собраний и почти на всех присутствовал, – стал каким-то странным образом, к весне, от нас отдаляться. Иногда, неожиданно, казался даже враждебным. Д. С. очень этим огорчался, предполагал, что Ф. снова подпал под власть своего кружка и, в частности, Дягилева, пытался увидаться с Ф. в Публичной библиотеке (Ф. там служил), но узнал, что он все время хворает, на службу не ходит и живет у Дягилева.
Д. С. через день, кажется, был у Дягилева, сказал, что Ф. с нами поссорился, но мы не понимаем из-за чего, и Д. С. хочет его видеть. Это не удалось. Дягилев сказал, что он и болен и в таком ужасном настроении, что лучше его оставить в покое. Так Д. С. и ушел, сам весьма расстроенный. Вечером же было Собрание, на котором он должен был читать свой реферат.
К нашему удивлению, на этом заседании был почти весь дягилевский кружок, Дягилев сам – и «больной» Философов.
Впрочем, он действительно был болен.
Начинать новый наш журнал – было в некотором роде безумие. У нас (ни у Перцова) не было никаких денег, не было разрешения, не было, как будто, и сотрудников. А журнал проектировался «литературный», но с еще небывалым направлением: в его программе должно было упоминаться имя Вл. Соловьева, а в конце каждого номера – отчет религиозных Собраний…
Однако мы каким-то таинственным способом, сведя с Перцовым смету, – нашли (как он говорил) «последний пятачок» и журнал решили основать.
В это время Д. С. уже кончил свою книгу «Гоголь и отец Матвей». Она, конечно, вся вышла из вопросов Собраний. Часть ее и читалась, как реферат, на одном из зимних заседаний. А другую, самую важную, Д. С. решил прочесть прямо митрополиту в его лаврском «палаццо». Я уговаривала не делать этого, – никакого не видела толку, – только лишние обиды. Но Д. С., когда он забирал себе что-нибудь в голову, уговорить было трудно. Ему все казалось, что если не эти – то вот эти люди непременно «все поймут». Если, мол, не понимает Сергий, то митрополит-то уж наверно поймет…
У Сергия, в его уютном кабинете, в который вела пустынная, с блестящим, как зеркало, полом, зала, мы бывали не раз. Вот отправились и к митрополиту. У Сергия чай нам подавали тоненькие, черненькие «служки» (будущие монахи). У митрополита в его раззолоченной гостиной – ливрейные лакеи. Розанов, утонувший в соседнем со мной кресле, тихонько шептал мне: «А варенье-то у Владыки – засахаренное. У Сергия лучше».
Нас было человек пять (Философова не было). И, кажется, столько же гостей Антония – почти все те же высшие иерархи – как на Собраниях. Разговор был мягкий и незначительный. Митрополит также «ничего не понял», говорил потом Д. С., как и остальные. Я оказалась права (что было нетрудно).
Но так как книга Д. С. была кончена – он, при первой мысли о журнале, объявил с радостью, что отдаст ее в журнал (без гонорара, конечно), – вот уже готовый материал для трех книг.
Подготовка к новой работе (к роману «Петр и Алексей») брала у Д. С. много времени, а потому все «хозяйственное» дело по журналу падало на меня и на Перцова. Раньше поздней осени, во всяком случае, первый номер выпустить было нельзя. Нам же с Д. С. надо было еще совершить немалое и нелегкое путешествие – в глубь России, в губернии раскольников, к «Светлому озеру» – ко «граду Китежу».
Это наше путешествие я считаю одним из самых интересных из множества совершенных нами с Д. С. Но о нем я здесь скажу лишь два слова. У меня имеется подробная его запись, – дневник, – напечатанный по-русски в тот же год в нашем журнале, переведенный с рукописи по-французски и сам могущий представить почти целую книгу. Скажу только, что благодаря новым нашим «духовным» связям, мы попали на озеро, к Китежу, как раз в ту июньскую ночь, когда там каждый год совершается особое ночное собрание народа, – староверов-раскольников, духоборов, сектантов всякого толка… когда приезжает туда и окрестное духовенство – не специальное миссионерство, а для разговоров и народных споров. Вот эту ночь – всю – мы там, на Озере, и провели, на холмах местных, в которые когда-то превратились золотоглавые храмы «града Китежа». Обычно предание искажается, говорят, что при приближении татар город с его храмами погрузился в озеро. Но предание не таково. Китеж и храмы его превратились в холмы на берегу Светлояра и скрылись от глаз татар. С тех пор лишь раз в год, в ночь на 21 июня, на заре, могут достойные – говорит предание – видеть в светлых водах озера не отражение холмов, но отражение подлинного города Китежа, и слышать скользящий по воде звон его колоколов.
Впрочем, для интересующихся более оперой «Град Китеж» (знакомой Европе), нежели русскими преданиями, – это все равно.
Наш возвратный путь из далеких лесов и болот российской глуби, через Ярославль и Ростов Великий, – тоже был интересен, – в своем роде, – и незабвенен.
Вернувшись, мы нашли дело журнала совсем на мази. Первый номер, с первыми отчетами Собраний, вышел в ноябре. И вот зима эта (1902–1903 гг.) была у нас полна работой по журналу, иногда очень тяжелой, так как дело приходилось иметь с двумя цензурами, светской (гражданской) и духовной, причем последняя была особенно сурова, – и, конечно, Собраниями.
Отчеты надо было просматривать внимательно, сообща, а Розанова – заранее цензурно исправлять, ибо он понятия не имел, что допустимо, что нет. Духовный цензор ведь читал все, вплоть до стихов Сологуба и Блока (он у нас печатал первые свои стихи, часто рецензии).
Была и третья у нас цензура, – не предварительная, правда, а карательная: цензура общей радикальной прессы. Но мы на это не обращали внимания. Д. С., несмотря на своего «Петра и Алексея», которым очень занялся после путешествия, принимал в журнале самое активное участие. Его «Гоголь» пошел, конечно, в первых же книгах.
А что же «Мир искусства»?
С ним начинался разлад. Даже с Философовым. Он был, правда, все время болен, но не так, чтобы болезнью можно было оправдать его явное отчуждение от нас и от наших дел. Да к тому же и литературная часть дягилевского журнала естественно как-то сократилась, во-первых потому, что большинство молодых писателей и поэтов перешли в наш журнал, а во-вторых и благодаря Дягилеву, который уже смотрел дальше, в свою сторону, – деятельности чисто художественной. Еще не балетной, в то время, но музыкальной, оперы, главным образом. Журнал для него был только необходимым этапом.
Благодаря тому, что Сергей Волконский, друг Дягилева, был в эту зиму директором Императорских театров, на Александринской сцене был сделан опыт постановки греческих трагедий – «Ипполита» и «Антигоны» в переводе Д. С. Мережковского. Опыт удачный, но не имевший последствий, так как вскорости Волконский, близким помощником и неофициальным советником которого был «новатор» Дягилев, со своего поста ушел из-за какой-то ссоры с балетом, кажется. Дирекция держалась старых традиций, никакое «новаторство» там, действительно, было неприемлемо и невозможно.
Дягилев пока остался лишь со своим журналом, который уже не был в расцвете, как ранее.
И я помню, как однажды, уже в самом начале 1903 года, к нам явилась почти вся группа Дягилева, с ним во главе, и со смутными предложениями как-то «соединить» оба журнала – наш «Новый путь» с «Миром искусства», соединить их в один. Подробностей разговора я не помню (это у меня и записано не было), но затея была явно неудачна, так что один из группы вдруг сказал Дягилеву: «Ты просто хочешь, чтобы они свой журнал прекратили, почему ты думаешь, что они на это согласятся?»
Мы и не соглашались, конечно, несмотря на крайне трудное наше положение, и тем дело и кончилось.
Собрания продолжались, очень живо. В то время вышло так называемое «отлучение» Льва Толстого от церкви (или, как говорили иерархи, «признание его от церкви отпадшим»), что дало тему разговоров в двух заседаниях. А в третьем (кажется) Сергей Волконский прочел реферат о «Свободе Совести».
С духовной цензурой у нас шло хуже и хуже, отчетов, всячески укороченных и «приглаженных», она почти не пропускала. В очень серьезном труде известного Вячеслава Иванова везде, где упоминалось «православие», надо было написать «католичество». Можно себе представить, что из этого получилось. Не пропускались некоторые мои статьи, чисто литературные, и даже… какие-то стихотворения Сологуба. К счастью, секретарь нашего журнала (он же секретарь и Собраний), человек энергичный, даже грубоватый и никакого к религии отношения не имеющий (из старых «интеллигентов», но без всякого уже интеллигентского «фанатизма»), сдружился с лаврскими монахами из не имевших ni foi, ni loi[46] и ездил к ним с переговорами, часто «выторговывая» у них то или другое.
Но наконец… случилось неизбежное: 5 апреля (1903 г.) светская (синодальная) власть запретила наши Собрания, вопреки будто бы доброй воле митр. Антония. Говорили, что поводом был «донос» одного из сотрудников «Нового времени», суворинской реакционной газеты. Но, думается, просто иссякло терпение Победоносцева, и он сказал «довольно».
Запрещены были, конечно, и недопечатанные отчеты Собраний – отчеты последней зимы. Запрещены были даже (молчаливо) и новые хлопоты. Да и так сразу было видно, что они бесполезны. Не могу сказать наверное, к этому ли времени или более позднему, относится свиданье Д. С. со всесильным обер-прокурором синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется, Д. С. возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, ни они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России… во всяком случае что-то в подобном роде.
Так окончилась для нас зима 1902–1903 годов. Журнал еще продолжался. С лицами из духовного мира, с некоторыми (между прочим, с двумя профессорами Духовной Академии, Карташевым и Вас. Успенским) мы не порывали отношений. Иные (под страшной тайной и под непроницаемыми псевдонимами) еще писали в нашем журнале.
С дягилевским кружком было хуже. Да еще ранее запрещений Собраний Дягилев с Философовым уехали в Италию.
Мы, я и Д. С., на это лето уехали опять под Лугу, но опять на другую, довольно неприятную дачу. Моя семья за эти годы очень уменьшилась. Бабушка умерла, когда мы вернулись из одного из наших путешествий в Италию, на даче на Сиверской (там жил с нами и с моей семьей и брат Д. С., Сергей, бактериолог) в то же лето умерла и незамужняя сестра моей матери, которая всегда жила у нее.
В 1903 году, под Лугой, кроме моей матери и второй сестры, Анны, готовившейся к выпускным экзаменам из Медицинского института, не было никого: две младшие сестры, которые теперь обе были в Академии, уехали в Пятигорск, вернулись только на дачу в августе.
Хотя вблизи жила Поликсена Соловьева, с которой мы были дружны, и на дачу часто приезжали друзья – духовные профессора Карташев и Успенский, мое лето было грустное. Чувствовалось, что журнал, в котором я столько работала, недолговечен. Чувствовалось, что вокруг, в России, назревает что-то неблагополучное. Д. С. целиком ушел в работу над «Петром и Алексеем». Но роман еще далеко не был готов.
По поводу этого романа у нас опять явились споры, наши «супружеские сцены», вроде первых, насчет «Леонардо» и «небо вверху – и небо внизу». Но тут дело уж не шло о «двойственности». В этом, конечно, страшном, столкновении отца с сыном Д. С. – мне казалось – все больше и больше берет сторону Алексея. Замечалось это главным образом, когда он рисовал фигуру Петра. Да отчасти и Алексея, который мечтал, сделавшись царем, Петербург покинуть, переселиться в Москву, где и жить потихоньку, по старинке, Богу молиться (бороду, конечно, отрастить…). Я понимала, что сам-то нежный, бедный, слабый Алексей может больше привлекать к себе, нежели грубый, даже для своего времени, неугомонный Петр. Но ведь дело не в симпатии, а в правде. Я протестовала против неумеренного подчеркивания грубости Петра.
Я уже не плакала, как в юности, а потому споры наши были горячее и длиннее. Никто из нас не желал сдаваться: Д. С. никогда сразу не сдавался в подобных наших спорах. Но через некоторое время, если я была права, конечно, – не боялся согласиться, что неправ он. И тогда тоже так вышло, и сцены с Петром он переделал.
Мне хочется сказать здесь вот что: моя запись имела бы мало цены, если б она сплошь была одним дифирамбом Д. С. Мережковскому. Наша нерушимая взаимная привязанность (чтобы не сказать лишний раз слова «любовь») – была слишком истинной, имела другие основы, чем какая-нибудь ослепляющая страсть или бездумное благоговение перед знаменитым супругом (у меня). Я хочу дать возможно полный образ человека со всеми его чертами, а там пусть другие разбирают, какие из них положительные, какие отрицательные.
Я за него, за этот образ, не боюсь: мне-то, действительно (и кажется, единственно) знавшей и видевшей человека, со всем, что другим в нем было неприметно, – слишком ясно, что левая чаша, даже человеческих весов никогда не перевесит в нем правой.
Я сказала раньше, что у него никогда не было «друга», – как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло и от него самого. Он был не то что «скрытен», но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты. Его всегда занимало что-нибудь большее, чем он сам, и я не могу представить себе его, говорящего с кем-нибудь «по душам», интимно, – о себе самом. Или даже выслушивающим такие откровенности или жалобы от другого о себе. Это было ему совершенно несвойственно, и как-то чувствовалось, должно быть, и принималось за холодность, безучастие, невнимание или недоверие. Иногда за недоброту. Но я-то знала его к людям доверчивость, а что касается доброты, то она, уже совершенно никому неизвестная, кроме меня, да и со мной бессловная почти, – нередко возбуждала во мне, как и доверчивость, – то зависть, а то досаду, ибо я этими свойствами в такой мере совсем не обладала. В нелюбви говорить о себе когда бы то ни было, интимно с кем-нибудь, или при каких-нибудь условиях, печатно, – мы с ним совпадали. Но вести интимную беседу с другим – об этом другом, – я все-таки могла и умела, тогда как ему и это не было по природе свойственно. Мне кажется, что вообще нежелание говорить о себе обусловлено известной скромностью, или чем-то вроде, противоположном suffisance.[47] Более далекого от всякой suffisance, более скромного человека-писателя, чем Д. С. Мережковский, я никогда не встречала. Но он слишком громко и смело говорил всегда о «своем» (как и я), то есть о том, что считал верным и нужным знать другим, что, обычно никто о его этой «скромности» не подозревал, – или просто не думал. Он очень радовался, когда удавалось пристроить ту или другую книгу в какой-нибудь стране, радовался и тому, если за нее хорошо было заплачено (постоянной нашей бедностью он очень тяготился, выдавать его за особого героя, или святого, довольного своей нищетой, я вовсе не намерена), по-детски радовался, когда человек, ему приятный, хвалил что-либо, им написанное, на меня сердился, когда я недостаточно пространно говорила с ним о только что написанной вещи, или долго спорил, если я с чем-нибудь не соглашалась, – но о своей, в последние десятилетия «знаменитости» не только никогда не думал, – просто ею не интересовался. Частные письма со всякими hommages[48] даже не сохранял, да и рукописей своих не сохранял. Если кто-нибудь писал ему, что он его «ученик», – он почти сердился, говорил, что никаких «учеников» не желает иметь и роли «учителя» разыгрывать не хочет.
Может быть, я не спорю, в этой небрежности к собственным работам, когда они были уже кончены, в неответности людям, подходившим к нему издалека, было преувеличение (не искусственное). Было и невнимание к отдельным, неизвестным, лицам, искренне к нему обращавшимся. Но так оно было и так оставалось, – я могла лишь кое-что подправлять, кое-что сохраняя, иногда отвечая от его имени людям, которым мне нравилось. Особенно не терпел он «поклонниц». Да их имелось у него не особенно много.
Вообще я нередко играла роль моста для кого-нибудь к Мережковскому-писателю. Не буду скрывать, что мосты часто проваливались. По моей вине или по вине по мосту идущего, – но никогда, кажется, не по вине – его.
Однако мне надо вернуться к 1903 году.
Когда моя мать, в августе, вернулась на дачу с «девочками» (младшими сестрами), которых она будто бы ездила встречать в Петербург, оказалось, что ездила она туда не только для этого, а посоветоваться с докторами. Мы узнали впервые, что у нее этим летом было несколько сердечных припадков. Доктора нашли у нее, кроме того, начало сахарной болезни, назначили режим, и скрывать свое нездоровье она больше уже не могла. Но она так говорила о нем, с такой почти веселой простотой, что мы, все четыре сестры, любившие ее страстно, всегда в тревоге при ее малейшем гриппе, на этот раз поверили, что это временное недомоганье, которое скоро пройдет. Несмотря на то, что она всегда старалась держаться «старухой» (мой отец умер, когда ей было всего 32 года, и с того дня она не выходила из черного платья, даже летом), она казалась моложе своих 54 лет (говорю об этом годе).
Успокоенные ее уверениями, мы все провели конец дачи даже веселее. Сестры рассказывали о Пятигорске, приехали, кстати, и наши «профессора» – они давно знали мою семью и всех сестер.
Д. С. чаще спускался вниз из своего рабочего кабинета и гулял даже вместе со всеми. Его «Петр» в это время уже близился к концу.
Однако в сентябре мы все двинулись в город. Дела с журналом были плохи, надо было что-то придумать или его закрывать.
«Мир искусства» больше не выходил, Дягилев начинал свои другие дела. Они с Д. В. Философовым вернулись из-за границы. С последним мы изредка встречались, но о начинавшейся близости уже не было и речи. Его мать, известная «общественная деятельница», была теперь ярая «теософка». Она приезжала к нам, часто звала к себе, и мы, хотя оба и тогда к теософии относились крайне отрицательно, бывали у нее, где раз даже видели (и слушали) знаменитую Анни Безант, беловолосую и сухую старуху (она скоро потом умерла).
По возвращении в Петербург, с дачи, мы позвали к моей матери нашего всегдашнего доктора, Ч.,[49] которому верили. Он тоже не нашел как будто положение серьезным, хотя уложил ее в постель. Ее и сестер квартира была тогда в нескольких шагах от нашей, в переулке близ соборной площади, на которой находился наш вечный «дом Мурузи». Только мы жили теперь не в пятом, а в третьем этаже. Я заходила к маме по несколько раз в день, конечно, – по дороге из редакции, где было столько дел. Заходил со мной, а иногда и один, – Д. С. Он очень любил мою мать (впрочем, ее все любили, и родные, и сторонние, и даже не могу назвать, кто любил «особенно» – все, кажется, «особенно»).
«Девочки» ухаживали за ней ночью (когда повторялись ее припадки), днем они уходили в Академию, но дома была старшая, Анна, готовясь к экзаменам.
9 октября моя мать так же спокойно, почти весело, разговаривала со мной, с улыбкой жаловалась, что недавно выкурила свою последнюю папироску – «больше не позволяют» (она курила – со смерти отца – крошечные, тоненькие папироски, спокойно бросила курить, но потом, видя, что она делается немного нервна, мы же сами ей эти папироски делали).
Утром 10 октября наша няня (она теперь жила у нас) быстро вошла ко мне в комнату и, закрывая окно (я всегда, и зимой, спала с открытым окном), проговорила: «Маме дурно! Маме дурно!»
Через пять минут я была уже там.
Она умерла.
Я через сорок лет помню каждую подробность, как будто это было вчера или сегодня утром. Но не в них дело. И они принадлежат только нам, сестрам, из которых одной уже нет, а другие…
Важно здесь вот что: в эти незабвенные, до дна страшные минуты – часы – дни – недели – только он, Дмитрий С-ч, мог нам, всем четырем, помочь их выдержать достойно и светло. Только он сделал это, положив всю силу духа, и это была действительно громадная сила. Как он это сделал – не буду говорить, но я поняла, конечно, что с ним была как будто и собственная его мать (она, впрочем, и никогда его не покидала).
Достаточно, если я скажу, что на монастырском кладбище, когда зарыли могилу, мы все друг с другом поцеловались, как на Пасхе, со словами: Христос Воскрес.
Но не мы одни, сестры, – почувствовали, узнали эту помощь: то же и другие, скоро приехавшие: московская кузина наша, которую мы любили, племянница моего отца: она, не зная матери, любила мою горячо. И другая «счастливая молодая Соня» – и она приехала с Кавказа… да я не помню всех, кто был тогда близко-близко около нас пятерых.
И неожиданно – Д. В. Философов, нас покинувший, – его помню вблизи все время.
Жизнь перевернулась.
Две младшие сестры мои переселились к нам, в нашу, пока маленькую, квартиру. Третья, наиболее бурно любившая мать, и самая из нас более нервная – оказалась такой сильной, что выдержала свои медицинские экзамены и уехала на время в Пятигорск, к Сониной семье. Эта сестра моя всегда была одиночкой, а две младшие – всегда неразлучно вместе.
Жизнь перевернулась – но все-таки требовала своего. Мы все это знали, однако сразу вернуться к повседневности, к начатому – неконченному, было трудно. Даже Дм. С-чу, и ему особенно, так много потратившему душевных сил. Он был измучен, почти болен. И мы вчетвером уехали отдохнуть в финляндские снега – на Иматру. Д. Философов нас провожал, он же встретил, когда мы вернулись… Именно тогда почувствовалось, что он уже больше нас не покинет. Д. С. очень этому радовался. Но чувствовал также, что он переживает и свою какую-то трагедию, – мы о ней не говорили, конечно, ни о чем его не спрашивали.
Скажу тут, кстати, о нем. Ведь он был спутником нашей жизни и наших дел в течение пятнадцати лет, вместе с нами бежал из России в Польшу в 20-м году, и если остался в Варшаве, когда мы, ввиду заключения Польшей мира с большевиками, уехали в Париж и наша «тройственность» была разрушена, то отчасти, косвенно, посодействовала тому я, а главная причина лежала, конечно, в его природе и склонности – к деятельности общественно-политической. Еще один из членов «дягилевского» кружка, очень горячо к нему относившийся, сказал мне однажды, что у «Димы»-то натура Анны Павловны и наследственность когда-нибудь скажется. Анна Павловна, его мать, была (как уже сказано) очень известной «общественной деятельницей», и лишь в последние годы своей жизни увлеклась теософией.
Познакомились мы с Д. В. очень давно, у известного профессора Максима Ковалевского, на Ривьере, когда Д. В. был еще студентом, но потом почти не встречались до «Мира иск.», до «дягилевского» кружка, где он играл такую роль и был уже «эстетом».
Очень высокий, стройный, замечательно красивый, – он, казалось, весь – до кончика своих изящных пальцев, и рожден, чтобы быть и пребыть «эстетом» до конца дней. Его барские манеры не совсем походили на дягилевские: даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок, к несчастью, вечно в себе неуверенный и склонный приуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и на писанье свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко (особенно в последнее время, в Варшаве, где у него всегда имелся свой собственный журнал или газета). Он был не наносно, а природно религиозен, хотя очень целомудрен в этом отношении. Дм. Сер-ча, как мыслителя и писателя, он сразу понял, его идеи не могли его не пленять. В то время, как один из дягилевского кружка сказал мне раз, очень серьезно: «Нет, Розанов наш учитель, вот кого мы должны слушать!» – Д. В., очень Розанова ценивший, никогда не признавал и не мог бы признать такого «учителя». Он, впрочем, знал, что Д. С. и себя не считал чьим бы то ни было «учителем», а хотел видеть в каждом близком – равного. Но самый фон души у Дм. Вл-ча Ф. был мрачный, пессимистический (в общем) и в конце жизни в нем появилось даже какое-то ожесточение.
Он подошел к Д. С. ближе, чем кто-либо, и любил его, конечно, более, нежели меня. Ко мне он относился всегда с недоверием – к моим «выдумкам», как он говорил, называя так разные мои внезапные «догадки», которые, однако, нередко и Д. С. принимал, как свое.
Его привязанность к Д. С. была, однако, такого рода, что мне понятно теперь, почему впоследствии она, временами, как бы падала: он подходил к нему, человеку, со слишком большой требовательностью, не считаясь с ним, какой он был, не довольствуясь тем большим, что он имел, не прощая ему ни малейшей слабости или даже просто какого-нибудь личного свойства, которое, по его мнению, Мережковский не должен был иметь. Я напрасно старалась тогда объяснить нашему другу, что если принимаешь человека – то надо принимать его всего и видеть тоже его всего, как он есть, хотя бы он и не во всем был с тобою схож. Иногда он меня понимал, иногда нет…
Впрочем, я не сомневаюсь и теперь, что Д. С. любил он искренне, и даже нас обоих. Как и мы его. За пятнадцать лет совместной жизни можно было в этом убедиться.
Конец 1903 года. Дягилевского кружка – в прежнем виде – больше не существовало. Наш журнал тоже грозил кончиться: с запрещением Собраний Перцов от редакторства отказывался, да и последние средства иссякли. Чтобы продолжать – нужен был новый редактор (подписывающий журнал, и в наших идеях, конечно). Кроме того, нужна была какая-нибудь серьезная вещь для напечатания, более или менее заменяющая отчеты о Собраниях. Сотрудники же наши все были молодые, начинающие, и нам сочувствующие, во всяком случае – без имен. И все они (как и мы) писали без гонорара. Платили мы только действительно нуждающимся – и в наших грошах. Да и с гонораром тогдашние «имена» к нам не пошли бы, а главное, мы и сами бы их не взяли. Это ведь были – во-первых, Горький и подгорьковцы, а затем Л. Андреев… и т. д. «Горькиада» расцвела в этих годах особенно. Моя статья о Горьком в «Новом пути» так характерна и так тщательно и точно предсказывает в 1904 году его роль в грядущем царстве большевизма, что я даже сделаю из нее краткие выписки, говоря о Горьком.
Много сказать о нем, как о Розанове, Блоке, Брюсове и др. я не могу. Этот человек встречался нам не часто, хотя и редких встреч с ним было довольно, чтоб понять его в полноте. Да имелась его «литература», а, главное, – шум и крики вокруг него, даже вопли – его последователей. Они встречались и по улицам в виде пьяных оборванцев, протягивающих теперь руку не как «студента» или «офицера в несчастье», а на каждом шагу, как «па-а-следователи Максима Горького». Но о Горьком скажу дальше (а пока отмечу, что дело наше с журналом устроилось – благодаря, конечно, Д. С.: он уже имел теперь «имя» (не горьковское, конечно, куда там!), он мог бы пристроить свой роман «Петр и Алексей» где-нибудь весьма недурно, но он решил отдать его целиком «Новому пути» – просто подарить. Роман этот («Петр и Алексей», третья часть трилогии «Христос и антихрист») должен был напечататься в первой, январской книжке журнала 1904 г.
Но Д. С. сделал для «Нового пути» и больше. Анна Григорьевна Достоевская дала ему ненапечатанные заметки из записной книжки Феодора Михайловича (они тоже пошли в январской книжке, – увы, с цензурными пропусками, с целыми строками точек!). И, наконец, Д. С. сделал усилие, которое, к общему нашему изумлению, увенчалось совершенно неожиданным успехом: было позволено допечатать оставшиеся отчеты запрещенных Собраний. Вот тогда-то, очевидно, и был Д. С. у грозного Победоносцева.
Журнал свой год начинал прекрасно, объявление было пышное. Перцов, при этих условиях, согласился остаться редактором еще на полгода. Январская книжка, действительно, вышла с начала до конца очень интересной.
Кроме прочего, там я начала печатанием свой дневник – «Путешествие к невидимому граду Китежу» – а в хронике как раз и была статья о Горьком, – о нем и о ней я и хочу сказать сейчас два слова.
Горький (Пешков) появился в Петербурге и в литературе еще в бытность «Северного вестника» с Флексером (Волынским) и Гуревич. Там он напечатал свой первый рассказ «Мальва», который, может быть, и не обратил бы на себя особого внимания, если б сразу не стало известно, что это человек «из народа», из «страдающих низов», и «что он с детства пережил!», и «как он выбился!». Ну, и все прочее. «Мальву» нашли «кишащей блестками гения» (тогдашний язык журналистов) и с непонятным упоением повторяли начальную фразу: «Море смеялось…»
Однажды редакцией «Северного вестника» был устроен пышный обед, или ужин, – не знаю, по поводу чего, – но превратился он в первое громкое чествование молодого Горького. Я даже не помню хорошенько, где это происходило, в частной чьей-то квартире, в угрюмой, очень большой зале на пятом этаже. Народу было множество, всякие маленькие и средние писатели «честного» лагеря (интеллигенция, стоявшая «на посту», ягоды и тогда уже не нашего поля), – Флексер еще не начинал свою негативную кампанию против застарелых традиций.
Герой дня (или вечера) был высокий, сутуловатый, некрасивый малый в синей косоворотке с пиджаком поверх (эта его косоворотка кого не умиляла долгие годы), держался он мешковато и скорее скромно. Он такого торжества, очевидно, не ждал. Но начались речи, одна за другой, и все, точно по сговору, о новоявленном таланте, о Горьком. Когда мы увидели, что всех ораторов не переслушаешь (да уж и поздно было, давно кончился обед, сидели кое-как, вольно), мы с Д. С., воспользовавшись перерывом, потихоньку прошли в переднюю и спустились по бесконечной лестнице в швейцарскую. Вдруг слышим чьи-то скорые, скорые шаги по лестнице – вниз. Горький! И сразу к нам (почему – до сих пор не понимаю). Лицо растерянное, потное, волосы взлохмаченные, и уж тогда – его отрывистый, как бы лающий говор: «Что же это? Неужели я… и правда… так… такой талантливый?..»
Не помню, что мы ему ответили, может быть, даже ничего не ответили от неожиданности.
В последующие годы мы с ним, может быть, случайно встречались, а может быть, и нет (не в «Мире же искусства» его можно было встретить). Но все, что он далее писал (очень много), мы читали и за его ростом и всей его деятельностью следили, что было и не трудно, так она была на виду. К 1904 г. уже имелось, для него созданное, издательство альманахов, шли его пьесы, каждая его строчка вызывала восторг в прессе. Одно время другой писатель, Л. Андреев, стал было оспаривать его лавры, но, после первого рассказа, который был прост и талантлив, ушел в опасную сторону, хотя тоже пользовался популярностью не меренной, но до горьковской не дошел. Был он очень безвкусен, безвкуснее даже самого Горького, а в общем был в той же линии. (Сейчас его уже и читать нельзя).
Очень хорошо знали мы, через одного близкого ему друга, и жизнь М. Горького. Писатели (может быть, только русские, не знаю), имеющие головокружительный успех, живут, обычно, окруженные «свитой» – поклонников, поклонниц, или просто приживальщиков всякого рода. Со свитой жил и Л. Андреев, не мог без нее обойтись, – как и Горький, конечно, – где бы он и когда ни находился. Оба они очень следили за ростом своего успеха, выписывали все, что о них появлялось в печати. Совершенно естественно, что те, кто осмеливались их критиковать, считались личными врагами. Мы, с нашим религиозным уклоном считались врагами и без того. В «Новом пути» мы оставляли обычно их в покое, – с литературно-эстетической стороны, просто не имея к Горькому, до поры до времени, интереса.
Но интерес он имел, или возымел, когда, к началу столетия, уже заслонен был, в России, как писатель – Горький – деятелем Горьким. Наши критики и читатели, потерявшие в огне общественных страстей всякое представление о литературной перспективе, привыкли говорить: Горький и Толстой, Горький и Гете… и т. п. Но не это важно. И в январской книжке «Нового пути» 1904 года я очень серьезно занялась Горьким. Разобрав, с возможным беспристрастием, всю горьковскую литературу, отметив наблюдательность и талантливость, среднюю, писателя, я говорю далее:
…Горький любопытен не как писатель, «горькиада» – не как литературная эпоха. Он важен как пророк нашего времени, и важна его проповедь, его и его учеников.
Далее я говорю о европейской культуре, которая выросла, исторически, на почве христианства (чего никто из культурных людей никогда и не оспаривал), подчеркивая, во что теперь превратился этот первоначальный исток: «… но жить еще можно, человек еще человек. Нужен резкий толчок, чтобы выкинуть людей сразу в безвоздушное пространство… Этот толчок, этот несущий человеку окончательное, смертное освобождение фонтан углекислоты – проповедь Максима Горького и его учеников. Она освобождает человека от всего, что он когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого духовного или даже телесного устремления и наконец от всякой активной воли. Она не освобождает лишь от инстинкта жить. Что остается после всех этих освобождений? Не человек, конечно. Зверь? Даже и не зверь. От зверя – потенция движения вверх. А тут, в истории, уже поднявшись вверх, – волна упадет от человека в кого-то, вернее – во что-то слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее…»
«Всякая проповедь судится в своих крайних точках, в том, к чему приводит, если идти до конца. Вот я и указываю эти последние точки, цель пророка Горького и его учеников. Уклон же крут, цель, пожалуй, и не далека. Полчища освобождающихся, полуосвобожденных, бывших людей все увеличиваются. Мы доживем, пожалуй, что дети, юноши, отцы начнут сдирать с себя одежду, полезут в грязь, станут резать и подкалывать любого, даже без нужды и смысла… плоскость слишком наклонна. Человек потеряет себя, – ничего не останется от человека… От человечества?»
«Таковы цели, к которым стремятся наши общественники, провозгласившие Горького своим пророком. „Есть ничто, nihil[50], и Горький его пророк!“, кричат они в ярости…»
Д. С. находил тогда мою статью преувеличивающей – не смысл проповеди, но самого «пророка», который, – говорил он, – хоть и многих «малых сил» соблазнил, но не так силен, чтобы соблазнить всех. С этим нельзя было не согласиться, ведь действительно, не он один «со учениками» творцы русской катастрофы. Но все же катастрофе этой весьма посодействовал.
Притом Горький имел одну несчастную любовь: он безнадежно воздыхал по… культуре. Безнадежно, потому что как раз эта Прекрасная Дама ему не отвечала взаимностью. И, кажется, он это чувствовал. Мы иногда называли его голым дикарем, надевшим, однако, цилиндр. Для этого у нас было немало оснований.
Но о том, как мы через несколько лет снова с Горьким встретились, и не раз, я скажу впоследствии.
Весной 1904 года мы оба, очень усталые, решили поехать отдохнуть в Германию, в Гамбург или куда-нибудь поблизости. Младшие сестры мои, жившие с нами, уезжали в Пятигорск, в семью кузины. Вернуться хотели к августу, чтобы пожить еще с нами на даче, какой-нибудь близкой, в Гатчине, например.
Мы поехали за границу через Москву, так как было условлено ранее, с молодыми родственниками Льва Толстого, что мы из Москвы поедем в Ясную Поляну. Д. С. не хотел являться неожиданно, нужно было узнать сначала, как и когда можно, и можно ли. Я забыла фамилию этих родственников, – один из них приходил к нам, и все было заранее условлено.
Эта наша поездка в Ясную Поляну тоже подробно мною описана, так что повторяться не буду. Отмечу только одно, что, кажется, в книге не записано.
Утром, в день нашего отъезда (мы пробыли там только сутки) Л. Толстой, поднимаясь по внутренней лесенке в столовую, к чаю, вместе с Д. С., сказал ему:
– Как я рад, что вы ко мне приехали. А то мне казалось, что вы против меня что-то имеете.
«И он удивительно хорошо, – рассказывал мне потом Д. С., – посмотрел на меня своими серыми, уже с голубизной, как у стариков и маленьких детей, глазами».
Л. Толстой, оказывается, читал все, – не только о себе, но вообще все, что тогда писалось и печаталось. Даже и наш «Новый путь» читал. Наверно, знал он и дебаты в Собраниях по поводу его «отлучения», знал и книгу Д. С. «Л. Толстой и Достоевский».
Скажу по поводу этой книги: конечно, Достоевский должен был быть и был ближе ему, нежели Толстой. Поэтому, вероятно, он и перегнул немного в его сторону и сказал кое-что несправедливо насчет Толстого. Это было давно, и с тех пор, не меняя своего мнения о «религии» Толстого, Д. С. немножко иначе стал видеть его, как человека с его трагедией. Он много писал о нем отдельных статей после его смерти, одна, помнится, была о нем и о его тетке-матери и называлась «Святой Лев».
Бодрая, живая, энергичная Софья Андреевна тоже нам очень понравилась. Она была человек недюжинный, и когда разыгралась между ними известная трагедия, мы не удивились: иначе и быть не могло. Особенно это становилось ясно, если увидеть знаменитого Черткова, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Этот «подколодный ягненок», как мы его называли, был у нас однажды, в Петербурге, во время первой войны, с каким-то еще толстовцем. Очень неприятная фигура был этот «любимый» ученик Толстого.
Из Ясной Поляны мы, опять через Москву, уехали за границу на Вену, да в Австрии и остались, пленившись прелестным местечком, полугорным, близ германской границы, которое называлось Берхтесгаден.
Среди цветущих полей – они почему-то назывались «епископскими» – стоял красивый белый дом. Он оказался пансионом, очень тихим, и там мы, очень хорошо, гуляя, провели время до августа, когда вернулись в Россию. На даче, в Гатчине, долго жить не пришлось: осень началась хмурая, дождливая. Да в городе ждало дело: журнал. Сестры вернулись еще на дачу. Мы переехали с ними на новую квартиру, в том же доме Мурузи, но более просторную, так как «девочкам» нужна была мастерская. В Гатчину к нам приезжал гостить Д. В. Философов, – он все ближе сходился с нами и с моими сестрами. Японская война очень мало занимала русское общество. Обычно не сомневались, что громадная Россия не может же не победить крошечную Японию. Лишь с началом зимы (1904–1905) кое-где возникли сомнения, а кроме того – пошли слухи, что где-то что-то готовится и что в Петербурге, в низах, – неспокойно.
Тернавцев, продолжавший нас посещать, рассказывал о каком-то священнике Гапоне, читающем, вернее – говорящем речи среди рабочих, хвалил его уменье себя поставить, но в общем не был от него в восторге. Рассказывал, что появился, кроме того, полицейский – не помню точно, – но какой-то правительственный чиновник, или служащий, Зубатов, который пытается создать свое движение среди рабочих, против Гапона, что рабочим и с этой стороны что-то обещают… Я всего не припомню, знаю лишь, что была как раз в это время так называемая «зубатовщина».
Журнал наш продолжался. В Москве в это время появился журнал «Весы» с поэтом Брюсовым во главе, и там многие из нас были объявлены сотрудниками. С Брюсовым, недурным поэтом, которого потом включили в число символистов, хотя он был прямой эстет новой формации, с тягой к европеизму, мы были тогда в хороших отношениях.[51]
В наш журнал мы включили новый отдел – «Из частной переписки», – и он оказался очень интересным: много писало нам писем духовенство, из тех, что были взбудоражены Собраниями и не успели сказать на них всего, что накопилось у них за годы мертвого молчания.
Из Москвы часто наезжал Боря Бугаев (Андрей Белый), сделавшийся нашим другом (насколько он мог быть чьим-нибудь «другом»), – и обычно останавливался у нас. «Дружил» тогда с Блоком, а с Блоком мы в это время уже были в дружбе настоящей. Моя сестра (Татьяна) написала его портрет (он приложен к советскому изданию «Судьба Блока»). Бакст, тоже у нас, написал – очень характерный – портрет Андрея Белого для ближайшей выставки.
Д. С. в это время, задумывая новую трилогию, занимался эпохой Екатерины-Павла-Александра I. Два последние его особенно интересовали.
Он вел все тот же свой образ жизни: утром – работа, прогулка, после завтрака – отдых с книгой на кушетке, в кабинете, еще прогулка – в Летний сад, который был от нас очень близко… Зима стояла морозная и снежная.
Порядочный мороз стоял и в день знаменитого 9/22 января. Сквозь пушисто-белые деревья Летнего сада Д. С. видел большой красный круг солнца – без лучей. Бывают такие морозные дни, когда нет облаков, но тонкий туман обволакивает землю и небо, не съедая солнце, а только его лучи.
Это было воскресенье, когда ко мне обычно приходил народ, знакомые студенты, барышни… А утром как раз приехал и Боря (Андрей Белый) из Москвы.
Однако сейчас после завтрака, в этот день, всякие наши приятели стали приходить в непривычном множестве, и даже полузнакомые, помнится, которые у нас раньше не бывали. Приносили самые волнующие рассказы, и разные, так что трудно было разобраться, что же такое случилось.
Выяснилось, наконец, что поп Гапон повел из-за Нарвской заставы (рабочий квартал, где он и говорил свои речи) большую депутацию рабочих – к царю, с петицией (требования, говорили, очень скромные). Что к царю они, конечно, не дошли (да его и не было в Петербурге), но на Набережной, и еще раньше, кажется, группу стали расстреливать, как преступную демонстрацию, посланные навстречу войска, и что на улицах уже лежат убитые и раненые, даже дети и женщины, – депутация ведь была мирная, и множество семей рабочих ее сопровождали.
Д. В. Философов тоже пришел к нам, и, хотя сам он, как и большинство рассказчиков, ничего не видал, но что-то знал, из верных источников, и толково все разъяснил.
Можно себе представить, какая у нас началась буча. Все были возмущены. Да и действительно: расстреливать безоружную толпу – просто от слепого страха всякого сборища мирных людей, не узнав даже хорошенько, в чем дело…
Приходили все новые люди, с новыми известиями… Многие остались у нас обедать, а вечером, кажется по мысли Д. В. Ф. (говорю – «кажется», ибо не помню точно, чья была эта мысль), мы решились, мы трое, я, Д. С. и Д. В., да и А. Белый с нами, и еще какой-то малоизвестный, но очень энергичный студент (если не было их два) – отправиться прекращать спектакль в театре, в виде протеста, уже настоящей «демонстрации».
Сказано – сделано. Мы едем, конечно, в Александровский (императорский) театр. Расселись все в разных местах партера. Шла какая-то пьеса Островского, с известным артистом Варламовым.
«Протест» начали наши студенты, мы его поддержали, а за нами и большинство публики. Она стала выходить, и занавес спустили. Говорят, старый Варламов потом плакал: никогда, мол, такого не случалось!
На подъезде театра мы очутились только вчетвером. Наши студенты исчезли.
Куда ж теперь? В другой театр – поздно. Да поедемте в Вольно-экономическое общество!
Это было такое «любезное» общество, что при всяких событиях – петербургская интеллигенция там собиралась, и уже это было известно.
Мы туда и направились, и попали верно. Зала довольно большая, с хорами в виде ряда полузакрытых балконов, была полна. Эстрады не имелось, ряды стульев, на этот раз, были расстроены, почти все стояли, кто как, иногда группами. Мы тотчас же встретили знакомых, и нас осведомили: да, много убитых, а Гапон спасся: его скрыли, переодели, остригли и он здесь. Он сейчас будет говорить. Он наверху, с друзьями.
Кто-то действительно стал говорить с одного из балконов. Рассмотреть говорящего было нельзя, голос незнакомый, с хрипотой. Некоторые влезли на беспорядочно разбросанные в зале стулья. Влез и спутник наш А. Белый. Он, сегодня только приехавший и, главное, москвич, – ровно ничего не понимал. Москва и Петербург – ведь это были разные страны, Андрей же Белый, кроме того, существо и сам по себе оригинальное, казался, несмотря на порядочную свою эрудицию, то ребячливым, то притворяющимся ребенком – «играл мальчика».
Около нас шептали: «Это Гапон! Это сам Гапон говорит».
Хриплый голос произносил, между тем, довольно рискованную речь. Насколько я помню, говорилось о том, что мирные средства потерпели крушение, что надо перейти к другим. И вот он приглашает к себе всех честных химиков…
Боря (А. Б.) склоняется в эту минуту ко мне со стула и громко:
– Я ведь тоже химик… Значит, и мне идти?
На него шикают, я его дергаю за рукав…
После Гапона (это действительно был Гапон) еще кто-то говорил, но мы уже не слушали и скоро уехали. Д. В. Ф., кажется, остался.
Если вспомнить, что лишь через несколько лет обнаружилось, что Гапон был купленным полицией агентом, – какой грязно-страшной покажется эта кровавая история! И как легко было дурачить бедную русскую интеллигенцию! Но не менее грязной и страшной кажется мне история конца Гапона. Его заманил в пустую финляндскую дачу один видный член партии социалистов-революционеров[52] (Гапон не знал, что он открыт), и там его ночью и убили.
9 января не забылось, конечно, но его скоро заслонили японские события, взятие Порт-Артура и наши морские поражения. Адмирал Рождественский, перед своей экспедицией, почему-то был у нас и, полный надежд, рассказывал, как повернет свою эскадру и как при его плане успех обеспечен.
Известна гибель этой несчастной эскадры.
К этой же зиме, кажется, относится наше первое знакомство с Н. А. Бердяевым, известным марксистом, но который, как было слышно, вместе со своими друзьями (С. Булгаковым и др.) начал от марксизма переходить к «идеализму».
Так как, до последнего времени, мы жили в кругу других интересов, не чистополитических, то с партийными интеллигентами встречались редко и о тогдашних «партиях» в России, о их внутреннем положении, знали мало. Впрочем, мы видались, несколько лет тому назад, с двумя дружественными нам людьми, «марксистами», которых тогда, кажется, и было всего двое (это было давно) и которые, с тех пор, тоже уже от марксизма стали отходить: рыжебородый, приятный и милый, П. Б. Струве, и М. И. Туган-Барановский.
О наших встречах с ними не в эти годы давние, и не в те, о которых пишу сейчас, а в позднейшие, я упомяну впоследствии.
Сближение наше с Ф. продолжалось, он постоянно писал теперь в нашем журнале, и мы оба, я и Д. С., по его предложению перешли с ним на «ты». А весной, в мае, мы поехали втроем в Крым, который так неизменно любил Д. С., и прожили там несколько недель. Потом Ф. уехал в Петербург, но Д. С. не хотел туда возвращаться: у него явилось желание отправиться из Севастополя – в Константинополь, и лишь оттуда, через Одессу, ехать домой, прямо на дачу, которую мы имели в виду. (Мои сестры должны были, как часто раньше, провести лето у кузины Сони, в Пятигорске.)
Хотя проектированная первая часть новой трилогии не требовала путешествия в Турцию, Д. С. возгорелся желанием взглянуть еще раз на св. Софию. Тогда, давно, мы пробыли в Константинополе всего сутки, и храм этот уже поразил Д. С. И вот мы отправились в Севастополь. Погода, все время прекрасная, вдруг испортилась. Черные тучи, ветер, – чуть не шквал. Мне хотелось переждать непогоду, но Д. С., вообще страстно любивший море и морские путешествия, и слышать не хотел ни о чем. Его не остановило даже то, что первый пароход, который отходил прямым рейсом (через Черное море), был худший из всех, старый и малюсенький – «Ольга».
Путешествие до Царьграда было (для меня) не из приятных: качало невероятно и, хотя морской болезнью я не страдала, – но этот ураган, бесконечные турки на палубе, морской болезни подверженные, крошечная каюта ночью, где каждую минуту ждешь, что тебя выкинет из койки, – все мало доставляло удовольствия. Да, кажется, и самому Д. С., в конце концов.
Но мы были вознаграждены уже войдя в Золотой Рог – тишиной, теплом, солнцем и ослепительной прелестью этого входа в столицу Турции.
Можно сказать, что мы тогда видели ее в первый раз. Каждый день, конечно, в св. Софии, утром, когда, сквозь купол, из окна в окно пролетают в солнечных лучах белые голуби, видели мы и дервишей, и десятки поразительных мечетей. Мы даже ездили, в известный день, на Eaux douces,[53] излюбленное гулянье турецких семейств, – это оказалось наименее интересным.
Страшен был тогдашний Константинополь – ночью, не поздним даже вечером. Хотя мы жили в Европейском квартале, но все же идти почти в темноте, когда навстречу несется с воплем стая голодных собак – жутко. Знаменитые «собаки» эти тогда еще там царствовали. Они людей не трогали, они охотились ночью за отбросами и очищали от них город. Днем они, все одинаковые, светло-желтые, порядочного роста, спали по улицам, свернувшись. И трудно было пройти, не запнувшись за желтый клубок, – так было их много.
Д. С. не утомился нашим двухнедельным пребыванием в Константинополе. Мы еще поехали на Принцевы острова, где тоже пробыли несколько времени, – да никакой особой прелести в этих островах мы и не нашли.
Все-таки жалко было оставлять Константинополь. Д. С. не сводил глаз со св. Софии, пока она не исчезла из виду. Мы ехали в Одессу уж не на «Ольге», а на большом, прекрасном пароходе и в самую тихую погоду. Вот это было действительно наслажденье.
В Одессе нас ждала неожиданная встреча. Туда как раз пришел пароход с ранеными из Японии. Из разных мест, а в нашей гостинице, до отправки в госпитали на север, поместили нескольких офицеров портартурских. Были и тяжелые, и всякие недолеченные. С одним, уже безногим, я подружилась и раз даже, когда его сестра милосердия куда-то ушла, а у него начались боли, я впрыскивала ему морфий. Его, по его словам, «резали, да недорезали».
Но чего мы в их комнатах не насмотрелись! И такое осталось впечатление, что все эти «вернувшиеся» из огня войны – люди уже (или еще) ненормальные.
Д. С. говорил, что это-то и нормально, что они ненормальные. Что иначе и быть не может. Он ненавидел всякую войну всем своим существом… Видел в войнах угрозу гибели человечества. Может быть, он уже тогда провидел свою будущую «Атлантиду» – которую написал тридцать лет спустя.
Наша дача этим летом, небольшой старый дом, уединенный, в имении «Кобрино», была очень приятна. Жили мы там втроем с Ф., потом он уехал в свое именье, к матери, но в августе опять вернулся.
Это лето мне особенно памятно общим поворотом нашим и разговорами о делах общественно-политических. Я уже сказала, что Д. С. этой областью специально не занимался, смотрел на нее и видел ее под одним углом – религиозным, и если возмущался, что церковь находится в таком рабстве у данного, русского режима, – то этот режим, сам по себе, как подавляющий свободу во всех других слоях народной жизни, сверху донизу, подавляющий и свободу личности (я говорю о самодержавии), – как-то ускользал от его внимания и критики. Отчасти потому, должно быть, что самодержавие все-таки было в какой-то мере «теократией», если и номинально, то самый принцип общности, единолично возглавляемой, не мог быть отрицаем на чисто христианских основах. Если даже принять идею «изживания» государства и превращения его в единую христианскую церковь, то оснований против ее единоличного возглавления в христианстве, как таковом, найти трудно. В ортодоксии нет папизма, но есть к нему (или чему-то вроде) тяга, как к патриаршеству, о котором у нас мечтала и стонала старая, единственно религиозная, партия «славянофилов».
Д. С. папизм отрицал, однако без оснований ясных, религиозно-метафизических.
Что касается Ф., – у него все было проще: он отрицал самодержавие огулом, как режим, подавляющий общественную и политическую жизнь страны, и как виновника и войны, и таких событий и расправ, как 9 января.
Нельзя сказать, однако, чтобы и у Д. С., при этих русских событиях, не было определенного беспокойства. Он более внимательно, чем когда-либо, был ими занят. А изучение послеекатерининской эпохи, Павла I и т. д., для следующей работы (он еще не знал, в какой форме она у него выльется) – усиливало его внимание к современным событиям.
Что касается меня, то я, в это лето, вдруг погрузилась в одну мысль, которая сделалась чем-то у меня вроде idée fixe[54]. Стихийное отношение Ф. к самодержавию (отрицательное) и такое же утверждение революции я признать не могла. Но не могла признать и отношение к самодержавию Д. С. и вообще к государству – которое, думалось мне, может быть, пока что, и лучше, и хуже. Но дело не в этом. Я перескочила в какую-то глубь, и моя idée fixe была – «тройственное устройство мира». Я не понимала, как можно не понимать такую явную, в глаза бросающуюся, вещь, такую реальную притом, отраженную всегда и в нашем мышлении, во всех наших действиях, больших – до повседневных, в наших чувствах и – в нас самих. Мы тогда так и говорили: 1, 2, З. Не символически, но конкретно, 1 – не есть ли единство нашей личности, нашего «я»? А наша любовь человеческая к другому «я», так что они, эти «я», – уже 2, а не один (причем единственность каждого не теряется). И далее – выход во «множественность» (3), где не теряются в долженствовании ни 1, ни 2.[55]
Вот за это 3, за общественную идею, у нас и началась борьба с Д. С. Меня поддерживал и Ф. со своей стороны, общую мою идею не отрицающий. Я не помню теперь всех аргументов, которые мы тогда приводили против самого единоличия власти, ничем не ограниченной, одного над множеством, но в моем дневнике тогдашнем записано: «Сегодня, 29 июля, мы долго спорили с Д. С. в березовой аллее. Очень было интересно. В конце концов он с нами согласился и сказал: „Да, самодержавие – от антихриста!“ Я ж, чтоб он помнил, тотчас, вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки».
Но торопиться записывать не было нужды: Д. С. этого не забыл уж больше никогда. И, как обычно в подобных случаях, нашел такие основания, такие аргументы, каких, в то время, да и после, мы бы с Философовым не нашли.
Но больше того.
Я, в моих «наитиях» (иногда бесполезных, бесплодных для меня, без него, – всегда) говорила ему часто: «Ты слушаешь, но ты извне слушаешь, а ты это подкожно пойми, тогда и возражай!»
Так вот, преследовавшую меня идею об «один – два – три», – он так понял подкожно, изнутри, что ясно: она, конечно, и была уже в нем, еще не доходя пока до сознания. Он дал ей всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры – идею Троицы, пришествия Духа и Третьего Царства, или Завета. Все его работы последних десятилетий имеют эту – и только эту – главную подоснову, главную ведущую идею.
Но вернусь к современности. Мы с Д. С. тогда не пережили еще и первого урока «общественности».
Этот первый урок ждал нас осенью, когда мы вернулись в Петербург.
События лета – известны: наше поражение в Японии, путешествие министра Витте в Америку, заключение с Японией мира, не очень-то почетного. В Петербурге было неспокойно. Ходили всякие слухи. Девятое января не было забыто, тем не менее, что рабочие круги, после этого случая, были довольно стиснуты.
Интеллигенция, напротив, переживала так называемую «весну»: министр, назначенный на место убитого Плеве, Святополк-Мирский, оказался на него не похожим: интеллигенция этим воспользовалась, начались «банкеты», ряд банкетов, походящих на митинги. Мы бывали на многих, однажды я сидела за столом рядом с красивой молодой дамой – это была ныне известная Коллонтай, большевистский посол в Швеции. Говорили на этих банкетах речи самые зажигательные. А скоро начались уже не речи, а манифестации на улицах и первые, там же, выстрелы. Тогда и развешено было знаменитое обращение – Трепова, приказ войскам от полицеймейстера: «Патронов не жалеть» (для манифестантов, вообще для толпы).
В октябре разразилась, наконец, известная, первая в России, всеобщая забастовка. Погасло электричество, приостановились железные дороги. Помню мерцанье свечей у кого-то в квартире, куда повез нас Тернавцев. Но в общем все наши «духовные» знакомства на это время оборвались, как будто их и не бывало никогда. От всяких же действующих «центров» мы были в дни этой… полуреволюции далеки и не представляли себе, что будет дальше. По несчастной случайности как раз в эти дни отец Д. С. «генерал» возвращался из своего очередного путешествия за границу. Поезд остановился, далеко не доезжая станции Петербург, и старик должен был попасть в город на плечах носильщика. Дома ему тоже не посчастливилось: вышел он, как привык, раз на свою прогулку и попал в манифестацию (он жил на Невском), толпа затеснила, затолкала его, притиснула к киоску… едва он выбрался и в этот день уж гулять не пошел.
Длиннейшие манифестации с флагами, с пением, с криками, мы наблюдали из открытых окон нашей квартиры, когда толпы двигались по широкому Литейному проспекту.
Но вот и манифест 17 октября о «неслыханной смуте» и о созвании Думы.
Что это? Уступки? Конституция?
Говорили, что когда министр Витте уговаривал Николая II дать России конституцию – тот отвечал: «Я ничего не имею против конституции при условии сохранения самодержавия».
Se non e vero…[56] потому, что манифест в этом духе и был написан. И так большинством тогдашних «революционеров» и был понят. Шествия с флагами не прекратились – удвоились, так как явились стоявшие за манифест. Начались «митинги» на улицах. «Обещанные» свободы все спешили взять явочным порядком. А в Москве, по слухам, скоро подтвердившимся, началась целая битва, со стрельбой, с баррикадами. Один из наших студентов видел близко эту «битву на Пресне», участвовал в ней, но вовремя удрал в Петербург, где битв таких не было. Полиция и всякая средняя «власть» тоже не разобралась в происшедшем: а вдруг и правда – свобода и ни демонстрациям, ни митингам не мешала.
Розанов, было спрятавшийся в семейное гнездышко, вылез, стал подходить к «митингам», и даже написал целую брошюру (писал он все с необыкновенной быстротой, почти как говорил) под названием «Когда начальство ушло». Брошюра эта, едва начальство «пришло», опомнившись (что случилось очень невдолге), была запрещена. А когда мы его спрашивали, что он слышал «на митингах», – он откровенно признавался, что никаких ораторов не слушал, а смотрел и наблюдал, как «курсисточки слушают» и что есть «прехорошенькие».
Перемены были, однако, порядочные. Ушел знаменитый Победоносцев. Новый синодский обер-прокурор, если не ошибаюсь – Оболенский, был однажды даже у нас, по поводу какого-то воззвания Синодского, должно быть, которое и вышло, но весьма слабое и еще непонятнее манифеста. (Д. С. тогда сердился, что Оболенский все его вставки почти вычеркнул. Но что-то осталось «Утиши сию кровавую бурю…».)
У нас было много беспокойной толчеи в это время. И вдруг… да, почти что вдруг – все утихло. Не совсем, потому, что появилось множество новых газет и приехало немало эмигрантов. Среди них – Ленин (мы о нем услышали тогда впервые). Он стал издавать газету «Новая жизнь». Помню раз – Карташев с этой газетой в руках и в восхищении, что там так твердо пишется «социал-демократия». Он, Карташев, ничего, конечно, в этих вещах не понимал, а мы уже порядочно стали разбираться. И немедля эту самую «Новую жизнь» возненавидели, вместе с «эсдеками» (социал-демократами) за одну скобку взяв и большевиков, и меньшевиков. (И это было правильно.) Старый наш приятель, H. M. Минский-Виленкин, когда-то «гражданский поэт», потом сотрудник «Мира искусства», потом участник Собраний, читавший там реферат о «мистической розе на груди церкви», – он же философ, написавший книгу о «мэонах», он же и сотрудник, недавний, нашего журнала «Новый путь» – вдруг (на свою беду) сделался сотрудником ленинской газеты. Когда мы его стали спрашивать – зачем? и что такое с ним случилось – он объяснил нам, что хочет сделать «надстройку» над марксизмом из собственной, мэонической, религии.
Отлилась ему эта надстройка!
Наши собственные дела, однако, не ждали. Еще с лета, даже летом, началась наша журнальная перестройка. Общее положение было сложно, во-первых – не было средств, и все наши усилия достать где-нибудь денег для продолжения журнала были напрасны. Затем новый наш редактор, Д. Философов, справедливо нашел, что при данных обстоятельствах журнал должен посвящать больше внимания общественно-политическим вопросам, а для этого у нас не имелось ни сотрудников, ни помощников. Перцов ушел окончательно, даже свое издательство передав некоему Пирожкову (который долго потом издавал все сочинения Д. С.). Ушел и секретарь Егоров (бывший секретарь и Собраний, отчеты которых более уже не появлялись). Но тут недавно появился в Петербурге молодой человек, кажется, когда-то политический «пострадавший», вряд ли особенно поэт, т. е. стихотворец, и чрезвычайно бурного темперамента: характерная его строчка была: «Я хочу, и я буду кричать!». В моих пародиях он всегда действовал, «рвя на себе волосы». Мы нашли, что какой он ни на есть, в секретари журнала, пожалуй, и пригоден. Он на такое предложение с удовольствием согласился.
Этим, однако, задача не решалась. Где искать людей, которые могли бы поставить и вести журнал в области общественно-политической. Таких притом, с какими наш журнал не утерял бы совершенно и окончательно первоначального своего облика и главного заданья.
Кроме группы «идеалистов» (бывших марксистов), не было никого. Что они от марксизма отказались, и плотно, это знали все. Даже больше: они явно склонялись к религии.
И Философов придумал послать нового секретаря, Георгия Чулкова, к этой группе для переговоров: не найдут ли они для себя возможным соединиться с нами для общего ведения журнала «Новый путь»? Они его не могли же не знать, могли, значит, и ответить на это определенно.
Из группы, которую возглавляли тогда С. Булгаков и Н. Бердяев, мы последнего уже знали, но в эти месяцы «идеалисты» находились где-то на юге, куда к ним и отправился Чулков, заранее в отчаянии и сомнении – удастся ли его миссия.
Миссия удалась, и с книжек осенних политическая часть уже находилась в руках С. Булгакова и людей «иже с ним». В редакции «Нового пути», в Саперном переулке, повеяло иным воздухом, сказать по правде – как бы чужим, да и люди, которых привели с собой главные «идеалисты» – Штильман и др., – тоже казались нам чужими. Розанов совсем скис и в редакцию почти не приходил. А раньше – отовсюду забегал, хоть на минутку.
Д. С., мечтавший о «религиозной общественности», тоже перестал понимать проводимую реформу и очень охладел к журналу. Уже очень вдолге, когда «идеалисты» обратились в людей «религиозных», я где-то написала статью, что на политике С. Булгакова, горячем поклоннике теперь Вл. Соловьева, никак не видно отражения его религиозности, Д. С. сказал: «Разве ты не помнишь, я тебе говорил это в самом начале!»
Мы все, как новички, скромно отдалились тогда от журнала в его «общественной» части. Нам была предоставлена область литературы и литературной критики. Но скоро и тут начались трения. Из книжки в книжку писала я литературную критику с полной свободой. Бывали статьи резкие (как о Горьком), но это раньше. Для очередной книги, осенней, я написала статью о поэте Блоке, нашем друге и давнем сотруднике (он постоянно писал у нас литературные рецензии). Кажется, это была первая серьезная статья о его стихах – он только что начинал свой расцвет. Подписана статья была моим привычным, уже известным, псевдонимом. И вдруг… один из наших новых журнальных соработников, С. Булгаков, – не пожелал эту статью напечатать. Мы изумились. Почему? Да потому будто бы, что Блок и его стихи – тема недостаточно значительная. Но я не хотела сдаваться, тем более, что резона такого не признавала, ему не верила, хотя настоящий резон мне так и остался не ясен. На моей статье я решила настаивать, – ведь это все-таки еще был «Новый путь». В конце концов, статью я напечатала, но… без моей подписи. Это последнее условие уже совершенно было и осталось необъяснимым.
Такие трения все умножались, и мы стали подумывать просто передать им журнал. У нас, кстати, уже назревали другие планы. С «идеалистами» – видно было – нам, пока что, не по пути.
Между тем, с одним из них, с Н. Бердяевым, мы лично очень подружились. Особенно я. Случалось, наши с ним разговоры затягивались «далеко за полночь». Разговоры больше метафизические, так как от всякой мистики и религии он был еще на порядочном расстоянии. Мистическое чувство он, по его словам, испытал лишь раз, когда где-то в лесу за ним молча ходила неизвестная черная собака. А что касается религии… то он, опять по его собственным словам, все время колебался «между идеалом Мадонны и идеалом содомским».
Помню, я однажды вышла из терпения и, уже в передней, поздно, кричала ему: «Да вы хотите, чтоб был Бог, или вы не хотите?»
А на следующий вечер он опять приходил и опять начинались наши дружеские споры.
Минский в это время уже висел на волоске в ленинской газете со своими мэоническими надстройками над марксизмом. Но он утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где, в хитонах, водили будто бы хороводы, с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали.
Казалось бы, это ему и некстати, и не по годам – такой противный вздор, – но он недавно женился на молоденькой еврейке, Бэле Вилькиной. Она, претенциозная и любившая объявлять себя «декаденткой», вероятно и толкнула его на это. Кокетливая, она почти влюбила в себя Розанова. Но Розанову, с его тогдашней тягой к иудаизму, нравилось, главное, что это смазливое существо – еврейка… От нас Минский совершенно отошел, и уж, конечно, давно облетела «мистическая роза», которую он видел «на груди церкви».
Мы все трое, включая и «редактора» Философова, все реже бывали в редакции «нашего» журнала. Однажды мы случайно встретили там из Москвы приехавшего Фондаминского-Бунакова, члена партии соц-революционеров (бывшей «народовольческой»), история которой хорошо известна. Она не основана на марксизме и даже марксизму враждебна по существу.
Молодой и живой Бунаков нам очень понравился. Мы видели его тогда незадолго до «успокоения», и до его ареста и «дела» в военном суде, когда он спасся от петли только успев эмигрировать.
Уже в ноябре «успокоение» стало давать себя чувствовать. Эта зима мне памятна общим угнетенным состоянием, арестами, часто глупыми, и… рядом виселиц. Успокоенье – так успокоенье.
Приезжие с.-д. (марксистская партия соц. – демократы), чуть не тем запахло, сложили чемоданы и ловко опять улизнули в эмиграцию, с Лениным во главе. Почти все сотрудники «Новой» ленинской «жизни» так исчезли. А Минский, хотя он успел сделать всего две «надстройки» в газете, прежде чем Ленин ему твердо отказал, – был арестован. Испугался очень, хотя – напрасно, ничего бы с ним не сделали, таких отпускали с миром. Но поклонницы выкупили его (взяли под залог на свободу, до «окончанья следствия»), а он немедленно убежал за границу, сделавшись вольным и бесцельным эмигрантом.
Русская революция, первой (да, пожалуй, и единственной) целью которой было свержение самодержавия, – не удалась. Самодержавие осталось во всей силе, – подготовка к Думе его только укрепляла. Всякие «свободы» были пресечены. Общее настроение, как я уже говорила, было подавленное. Д. С. пытался продолжать начатую работу, но атмосфера угнетения плохо действовала и на него. Из нашего сотрудничества с «общественниками»-идеалистами ровно ничего путного не выходило. Д. С. принялся настаивать, чтобы как-нибудь дело выяснить, что журнал, за который в прошлом мы отвечаем, принял какую-то двойственную, неопределенную физиономию, и что если мы и будем далее в нем работать, то уж на других основаниях. К тому же наш секретарь Чулков вполне перешел на сторону новых сотрудников, или новых «редакторов», и наша роль делалась все более и более фальшивой.
Начались длительные переговоры, течения которых я не помню. Булгаков ни на что не соглашался, и дело кончилось тем, что журнал переходит в их полное владение без ссоры с нами (т. е. мы можем числиться там сотрудниками), но с этим переходом он должен переменить название. Помнится, что это окончательное решение было почему-то принято не в редакции, а в том же Вольно-Экономическом обществе, где мы когда-то слушали Гапона и где мы разговаривали, в антракте какого-то заседания, с Булгаковым.
Декабрьская книжка 1905 г. была последней книжкой «Нового пути». В январе 1906 г. вышла уже книга журнала «Вопросы жизни». Новый редактор, новые сотрудники, да и новое помещение редакции. Так мы, полюбовно, расстались с «идеалистами». Без всякой, повторяю, ссоры, мы бывали у них на редакционных вечерах, числились сотрудниками – номинально, – потому что я по крайней мере (не знаю, писал ли что-нибудь Д. С.) ничего там не писала, перешла больше в брюсовские «Весы» и в сборники «Северные цветы», тоже брюсовские, в Москве.
Да в это переходное время никто из нас много не писал, даже Д. С., – он только все еще собирал нужные ему материалы.
Мы были заняты одним личным нашим планом. Дело в том, что еще летом Д. С. высказал раз мысль, что хорошо бы нам троим поехать на год или даже два-три за границу, где мы могли бы сжиться совместно и кое-что узнать новое, годное потом и для дела в России. Д. С. интересовало католичество, и не только оно, а еще и движение «модернизма», о котором мы что-то слышали глухо, потому что, из-за цензуры, определенные вести о нем до нас не доходили. В этих «неокатоликах» чуялось нам, однако, что-то интересное. Кроме того, и политическая европейская жизнь Д. С. в последнее время стала интересовать. Философова тоже (он в последнее время был занят вопросами «цезаре-папизма» и «папо-цезаризма»). Нас всех интересовали и наши русские «революционеры», находящиеся в эмиграции. Это была, однако, лишь наша мечта, которую мы хотели осуществить когда-нибудь. Но вот теперь, когда разрушилось наше единственное дело, – журнал последнее после разрушения Собраний, и никакого нового, ввиду создавшегося атмосферного удушья, казалось нам, и не предвиделось, – Д. С. сказал, что почему бы нам не совершить задуманного не «когда-нибудь» – а теперь. Так как это было не «путешествие», а мы не «туристы», пребывание наше мы давно наметили не в Италии, а в Париже. Там уже был постоянный издатель Д. С., – Calmann Levy, – там и знали мы кое-кого, бывали раньше, там, кстати, был и русский эмигрантский центр.
Вопрос о моих сестрах, которые не могли, конечно, бросить Академию и ехать с нами, тоже разрешился просто: мы оставляли им нашу квартиру, с вечной нашей няней и всем, что в ней было, а так как для них одних она была слишком велика, то к ним переезжал Карташев, который последнее время очень сблизился с нами и с моими сестрами. Все они трое были вполне в наших с Д. С. идеях. А. Карташев, в это время, был на переломе своей карьеры. В Духовной Академии его уже давно едва терпели, он ждал отставки каждый день, но сам уйти все-таки боялся: как это вдруг он останется ни с чем? Что будет делать? В жизни – без привычных помочей? И лишь тогда решил уйти из Духовной Академии (из которой его все равно бы выставили), когда Философов устроил ему службу в Публичной библиотеке, передав свое же место.
Надо сказать, что Карташева сближало с моими сестрами, кроме общих (наших) идей, еще одно свойство: мои сестры, тогда молодые, и обе очень красивые, были, однако, аскетического типа. Ни одна не помышляла о замужестве, ни в одной не было никогда тени кокетства или чего-нибудь подобного. А тогдашний вид Карташева, похожего, как мы говорили, на Гоголя перед первой панихидой, достаточно свидетельствовал о его монастырской жизни, среди строгих монахов Лавры. Хотя монашеской рясы он не носил, но был даже и у себя в комнате под их контролем. Можно вообразить, как огорчался и возмущался таким уклоном в бессемейность проповедник брака и семьи Розанов! Это о моих сестрах и Карташеве написал он свою длинную статью – целую, кажется, брошюру – под названием «Люди лунного света».
Таким образом, уезжая втроем за границу, мы оставляли в России совместную тройку наших единомышленников. Мы уезжали на неопределенное время, возможно – только на год, не больше двух лет во всяком случае.
«Подождем до ранней весны, – сказал Д. С. – Может быть, увидим еще какие-нибудь перемены. Тогда отложим на следующий год».
Но все шло так же. Вечера в «Вопросах жизни», бесцельная, утомительная суета дома, мои разговоры с Бердяевым… Воскресенья у Розанова потухли. Приехал из Москвы Андрей Белый со своими капризами и новой любовью – к молодой жене Блока, тогда, действительно, прелестной, статной, розовой Любовь Дмитриевне.
Мы стали готовиться к отъезду.
Д. С. заботился о нужных ему книгах – а вдруг не достанешь в Париже? Впрочем, до «Павла I» у него еще было намечено несколько работ, для которых он все заранее приготовил.
Философов уехал раньше нас, в Швейцарию, кажется, где были тогда его мать и сестры, – и раньше на теософский съезд… Матери он уже сказал, что будет жить с нами, и сначала в Париже, откуда в Россию вернется не скоро.
Мы с Д. С. выехали из Петербурга 14 марта. Мало кто знал, что мы уезжаем. Был серенький день с мягким снежком. Помню на платформе розовые, огорченные лица моих сестер, косящие голубые глаза Бори Бугаева (Андрея Белого), да шапку пышных черных волос Бердяева.
Через день мы были в Париже, где уже встретил нас Дима Философов, приготовивший нам помещение около Etoile.
Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем, в Париже.
Он длился, с краткими отлучками из Парижа, – в Бретань, в Нормандию, на Ривьеру или в Германию – около двух с половиной лет, до нашего возвращения в Петербург в июле 1908 года.
Мне хотелось бы скользнуть быстрее по этим годам, но жаль: ведь это был Париж, совсем почти незнакомый нынешним парижанам, да наше, русское, в нем положение было совсем другое, даже эмигрантов, не говоря уже о нас, независимых, не «приютских», какими мы сделались всего 14 лет спустя и поняли, каково жить людям в чужой стране и, главное, своей уже не имеющим.
Тот, давний Париж и наше в нем житье – это будет вторая часть моей записи.
Часть II. Париж. 1906–1914
1
Какая весна! Нет, пред-весна, это часто в Париже. Кажется, что с зимой покончено, вот-вот начнутся летние жары. Но это обман: деревья еще голы, и фиакры не меняют кареток на открытые пролетки. Еще вернутся холода и – «жибулэ».
Помню темные, желтые ночи на балконе нашего отеля на Елисейских Полях. Вверху – ясное, бархатное небо в звездах. Внизу – вся Avenue сверкает огнями и полна нежным переливчатым звуком бубенчиков бесконечных фиакров. Как пахнет весенний воздух! А ведь там, где мы были почти что третьего дня… Там «мороз на берегах Невы!»
Париж, хотя мы после первого путешествия, к Плещееву, видели его много раз, в эти дни кажется нам новым: ведь мы не путешествуем, мы приехали сюда «жить!».
Очень скоро нашли мы и квартиру. Мечтая о Париже, мы ее почему-то воображали в Пасси. Но наша новая квартира оказалась в Auteuil, на тихой улице Théophile Cautier, в самом начале этой, тогда новой улицы, в только что отстроенном доме. Квартира хорошая, большая, с балконами на все стороны: на улицу, прямо на деревья и на пустырь, отделявший нас от улицы La Fontaine, а из holl – на парижский простор с Эйфелевой башней и с громадным, поднебесным колесом, оставшимся от последней выставки.
Просторность квартиры нас прельщала, каждый мог жить, насколько хотел, отдельно, а цена ее показалась нам, привыкшим считать на рубли, совсем подходящей: 1200 р. в год. Положим, рублей-то у нас в этот первый год было не много. Ведь в Петербурге оставались мои сестры, другая квартира… Мы бы, конечно, не могли и думать о поездке, если б работы и книги Д. С. последних годов не дали нам такой возможности: за годы 1903 – 04 Д. С. выпустил у Перцова, у Пирожкова и в некоторых других издательствах несколько сборников статей, – он их писал во время приготовления к большой работе. Иные книги имели – сравнительный – успех, Пирожков платил исправно (впоследствии выяснилось, что он еще и обманул Д. С. на много тысяч, издав тройное количество экземпляров). Я тоже издала несколько книг и много писала в московском издательстве.
Д. С. теперь печатали в журналах чаще, имя его понемногу росло, хотя он все-таки шел против общего течения (или стояния), и его статьи, вроде «Грядущего хама», вызывали самые разнородные отклики.
Недостаток рублей дал себя знать, когда обширную нашу квартиру, пустую, пришлось чем-то заполнить. Но мы не смутились. Прежде всего купили три письменных стола. Затем уж постели. А затем… ну, затем остальное можно было приобретать понемногу, постепенно, и самое дешевое. Так появилась у нас соломенная мебель, стоившая тогда гроши. Сколько книг перечитал Д. С. на своей «дачной» кушетке! А сколько написал на письменном столе, том самом, на котором я сейчас пишу эти строки!
Остальное обзаведенье – под стать. Пришлось еще заказать большой деревянный стол для громадного нашего салона, совсем уж пустого. Но все было новенькое, чистое, приятное, о роскоши же мы не заботились.
Устроившись, мы уехали на Ривьеру, в St-Raphael и в Канны. Там была уже настоящая весна. К 1 мая мы вернулись в Париж, и началось наше там житье.
2
Говорить об этом нашем, почти трехлетнем, житье в Париже так, как раньше писала я о жизни с Д. С. в Петербурге, т. е. хронологически, – невозможно, по многим причинам. Главное, потому, что, благодаря разнообразию наших интересов, нельзя определить, в каком, собственно, обществе мы находились. В один и тот же период мы сталкивались с людьми разных кругов, между собой мало сообщавшихся, и мы виделись с ними отдельно, не стараясь их смешивать. Поэтому мне придется сделать скорее общий очерк этих трех парижских лет, с отдельными, часто любопытными, встречами. Кратковременные летние из Парижа отлучки – в Бретань, в Германию, и т. д. – общей картины не нарушали. Мои «Agenda»[57], здесь сохранившиеся (1907–1908 гг.), только подчеркивают трудность последовательного рассказа. Я буду, однако, пользоваться этими отрывочными записями ввиду их интереса и для восстановления некоторых дат.
Я уже упоминала, что у нас было три главных интереса: во-первых, католичество и модернизм (о нем мы смутно слышали в России), во-вторых, европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И наконец – серьезная русская политическая эмиграция, революционная и партийная. Эти интересы были у нас общие, но естественно, что Д. С. больше интересовала первая область, меня русские революционеры, а Д. Ф. увлекся политическим синдикализмом, ради которого ездил однажды в Амьен. Бывал он и в Палате депутатов.
Но так как все три области интересовали и нас троих, то мы большею частью виделись с людьми этих разнообразных кругов все трое. (Дальше всего стояли мы от чисто политических французов того времени.)
Была у нас и какая-то полудомашняя, смешанная среда. Для нее явились (сами собой образовались) наши «субботы». Русские, – а французы на них не бывали, их мы приглашали отдельно, большею частью вечером. Субботы же днем – это – старые наши друзья-писатели конечно, неудачные эмигранты, поэт Минский, поселившийся здесь после бегства с «порук» от страха за две свои «мэонические надстройки» в газете Ленина в 1905 году, и Бальмонт с одной из очередных своих жен (которой по счету не помню), пышной и красивой москвичкой Андреевой. Бальмонт тогда быстро уехал из России после своего стихотворения «Кинжал», за которое, как его пугали, его могли арестовать. Бывали и просто русские интеллигенты, давно почему-нибудь в Париже застрявшие. А главное – приходили, часто незнакомые, люди новой эмиграции, какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год, неудавшаяся революция, выкинула толпу рабочих, солдат, матросов, совершенно не способных к жизни вне России. Они работы и не искали и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая, партийная, о них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались будто бы какие-то «балы» или вечера в их пользу, но в общем они умирали с голоду или сходили с ума. Один, полуинтеллигент, или мнящий себя таковым, по фамилии Помпер, пресерьезно уверял, что он «дух святой». Другие просто врали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой «хамовина», о котором он писал («Грядущий хам»).
Были и русские богатые, жившие, даже порой совсем прижившиеся, в Париже. Не старого типа «прожигатели жизни», – если они еще водились – мы их не знали, – но другие, скептики, случайные европеисты, неудачники на родине, коллекционеры, меценаты… Одного из сыновей московского миллионера Щукина мы хорошо знали.
Жена профессора Аничкова жила здесь с дочерьми постоянно. Написала даже французский роман под именем «Ivan Strannik». У нее мы познакомились с Анатолем Франсом и м-ме Cailavet, его вечной спутницей… Но не у нее, а самостоятельно сблизились мы с тогдашним «Mercure de France»[58], я даже писала там ежемесячно о русской литературе – «Lettres russes».
M-lle Васильевой, первой переводчицы Д. С. у Calmann Levy, мы не встречали. Должно быть, ни ее, ни ее отца, священника на rue Daru, уже не было тогда в Париже. Кто переводил, после нее, вещи Д. С.? «Лев Толстой и Достоевский» был издан у Perrin. Переводил эту книгу (не всю) наш давний друг, граф Прозор. Мы его знали еще по Петербургу и часто встречали у него Вл. Соловьева.
Кстати, в Париже в это время жила старшая сестра Вл. Соловьева, Марья Сергеевна Безобразова. (Я дружила в СПБ с младшей, Поликсеной). Безобразова нередко бывала у нас со своей родственницей, у которой тогда жила. А родственница эта оказалась никем иным, как известной, когда-то красавицей, на которую даже обратил внимание Александр Второй (она была сестрой милосердия в войну 1877 г.), и невестой, да, пожалуй, и единственной любовью Вл. Соловьева. Свадьба расстроилась (насколько можно судить по недавно напечатанным его письмам к ней) из-за капризов и непостоянства невесты. По капризу она вышла потом за какого-то Селевина, с которым прожила недолго. Что за странные клубки разматывает жизнь! Граф Прозор встретил у нас однажды обеих старух. Узнав потом, кто вот эта маленькая, сухонькая старушонка с поджатыми губами, признался, что и он в свое время был страстно влюблен в «ослепительную Катю».
3
С французами вначале мы виделись все-таки меньше. Увлеченье Д. Ф. синдикализмом послужило нам к знакомству с Г. Лагарделем, очень известным тогда синдикалистом. Молодой, статный, чернокудрый и чернобородый, он был очень приятен особой живостью и своими зажигательными речами. Мы нередко ездили все трое к нему, бывал и он у нас, – и по субботам, конечно, со сборными русскими.[59]
Доступ в круги католические, куда стремился Д. С., особенно же доступ в круг модернистского движенья, был очень не легок. Однако и то, что мы понемногу узнавали, было для нас ново и чрезвычайно интересно. Напоминаю, что в эти годы (1906, 1907, 1908) движенье еще далеко не закончилось; за дальнейшим его развитием мы следили уже издали, не переставая удивляться равнодушию французов и Франции к явлению такому значительному и важному для ее судеб.
Некоторому контакту с ортодоксальным католицизмом помогла нам близкая приятельница наша, светлейшая княжна Анастасия Грузинская, очень милая девушка, жившая тогда в Париже. Она имела там связи, так как уже склонялась сама, в это время, к переходу в католичество.[60]
Что касается движения модернистов, то, как я сказала, узнавать о нем, знакомиться с молодыми, примыкающими к нему, было особенно трудно. Я скажу ниже, кого из них мы знали.
Сразу по приезде в Париж у Д. С. возникла мысль издать здесь французский сборник статей нас троих, касающийся России, самодержавия и недавней, ничем не кончившейся, революции. Издателя не было. Calmann Levy – мы понимали – для этого не годился. Но Д. С. до такой степени был убежден, что сборник мы должны выпустить, что он будет издан, что мы с Д. Ф. уступили его настояниям немедленно приняться за работу. Не знаю, тотчас ли начал писать свою статью Д. Ф., но я начала свою – первую – сразу, кстати и тема у меня уже была, я все равно ее написала бы. Называлась она по-русски – «В чем сила самодержавия». Я не умею писать длинно, и статья скоро, готовая, была предложена Д. С. и Д. Ф. на обсужденье. После некоторых споров, – с Д. Ф., главным образом, – статья моими содеятелями была одобрена, а тут, кстати, решилось и дело сборника: его согласился издать дружественный нам «Mercure de France».
Сам Д. С. к своей статье еще не приступал. Она должна была называться «Революция и религия». Написал он ее не скоро (почему и сборник замедлил выходом), но в конце концов она вышла такой удачной, почти пророческой по отношению к революции большевистской, что цитаты из нее, приводимые теперь во французской печати, кажутся современными. Весь сборник должен был называться «Le Tzar et Revolution».
В это время случилось, что в нашу орбиту вошел тот самый И. Бунаков, которого однажды встретили мы в редакции «Нового пути», – видный член партии социалистов-революционеров (эсеров, не марксистской, в 1905 году чудом спасшийся от петли). Мы с ним сразу сблизились, да и не с ним одним, а с ближайшими к нему партийцами (что входило в одну из трех наших задач). Бунаков прежде всего познакомил нас со своим другом, известным террористом Борисом Савинковым. Как могли столь тесно дружить два человека, по природе абсолютно несхожие? Бунаков был добр, мягок, почти нежен. Савинков – резок, дерзок, самолюбив, упрям, казался человеком волевым и умным. Не думаю, впрочем, чтобы кто-нибудь из нас мог правильно видеть и понимать Савинкова тогда: слишком он был для нас нов, слишком хорошо знали мы его биографию. Он принадлежал ко внутрипартийной группе эсэров, так называемой «боевой организации». Напоминаю, что эсэры – партия старая, когда-то мирная, – «народовольцев». Она проповедовала известное «хождение в народ», когда барышни-курсистки, студенты делались сельскими учителями и учительницами, идеалистически борясь за «народную волю» и «черный передел» (земля – народу). Так было. Но ряд правительственных разгромов изменил дух партии, вызвав, в 70-х годах прошлого столетия, появление в ней новых людей. Эта новая молодежь была так же фанатична, как и первая, с ее «хожденьем в народ» и неумелой пропагандой, так же, в сущности, мало народ знала, но прежнего идеализма в ней не было. Общая программа партии (явившейся вследствие неудовлетворения реформами Александра II) осталась неизменной, со всеми даже своими неясностями и противоречиями, – но она включила в себя вот эту особую группу, – «боевую организацию», т. е. признала одним из средств борьбы – террор. Заметим, что партия социал-демократов, с марксистской базой, в программе своей террора не признавала, ни до, ни после ее разделения на большевиков и меньшевиков. Но она его, конечно, благодаря своей базе, постулировала. Близорукие меньшевики, верные букве программы, от этой верности все сплошь и пострадали. Даже такой видный партиец, как Плеханов, вернувшийся в Россию после мартовской революции и немедля после октябрьской большевиками умученный, – сопартийцами, так как они тогда еще «коммунистами» себя не называли, а по-прежнему – социал-демократами.
Нельзя себе вообразить революции более неподходящей, более несвойственной России, нежели революция марксистская. Достаточно самого поверхностного взгляда на Россию, не говоря уже о ее знании внутреннем, знании духа ее народа, – чтобы не сомневаться, что такая революция не могла в ней даже произойти. Она и не произошла. Не все европейцы забыли, что большевики революции и не сделали, они явились на «готовенькое», когда революция уже совершилась, и были только ее «захватчиками». Вот всякие захваты – это, к сожалению, России свойственно. А уж в том положении, в каком она (при войне!) находилась в 1917 году, – с захватчиками, да еще подобного сорта, бороться ей было не по силам.
Есть еще одно свойство у русского человека, у русского народа, у России: будучи кем-нибудь, чем-нибудь захвачена – она идет в этом до конца, не зная и не умея себя ограничить, найти предел. Вот об этом свойстве беспредельности и говорит Мережковский в «Le Tzar et la Révolution»: автор как будто предчувствовал безмерность русского пожара, предупреждая, что от него может сгореть и Европа.
Не о таком, конечно, пожаре, не о такой революции мечтал тогда Д. С. (и мы с ним). Да и не о такой даже, на какую надеялся Бунаков и его партия… Но она, по существу, была нам все-таки ближе всякой другой, особенно марксистской, как более русская, более народная, отрицающая, в России, «диктатуру пролетариата» и признающая «роль личности в истории». В ней, кстати сказать, евреи хотя и были – но как исключение. В с.-д. напротив: Ленин и Плеханов – исключение: большинство состояло из евреев.
Говорю все попутно, чтобы прийти к теме наших разговоров с Бунаковым, когда мы поняли общее положение партии и когда появился у нас Борис Савинков.
Мы знали, конечно, и раньше о «боевой организации». Кто из русских не слышал имен Перовской, Желябова и др., совершивших в 1881 году убийство Александра II (и в такой неудачный для своих интересов момент!). Или имен, лишь косвенно к терроризму причастных и заточенных на всю жизнь в Шлиссельбургскую крепость, – имя Веры Фигнер, например? (Оставшиеся к 1905 г. в живых были освобождены и тотчас уехали за границу. Веру Фигнер мы в Париже часто видали, и раз даже в очень интересной обстановке (какой – скажу ниже).
Все это мы знали. Но знать, что были и есть где-то террористы, – одно, а видеть воочию, в собственной комнате, главу «боевой организации», подготовившего и совершившего несколько убийств почти вчера, – это совсем другое. Савинков принимал ближайшее участие в убийстве Плеве, великого князя Сергея в Москве и еще кого-то. Был недавно арестован на юге, бежал из тюрьмы и тотчас перешел границу. Просвет 1905 года не мог ему, конечно, быть полезен.
Лицо – интересное, немного асимметричное, светлые волосы. Говорил он осторожно и очень неглупо.
Совершенно естественно, что темой наших разговоров сделался вопрос «о насилии». В моей «ажанда» несколько кратких об этом заметок. Вот одна: «Вечером Б. с Сав. тяжелый и страшный разговор. Д. Ф. против – но и я говорю абсолютное „нет“. Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами владеет. Да? Нет? Нельзя? Надо? Или „нельзя“, но еще „надо“?..»
Главная тяжесть была в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым – убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью. И подходил к Д. С. не то с надеждой оправданья революционного террора, не то за окончательным ему – и себе в этом случае – приговором. Уклониться от вопроса о насилии мы не могли, – ведь мы же были за революцию? Против самодержавия? Легко сказать насилию абсолютное «нет». В идеях Д. С. не могло не быть такого отрицания. Не толстовского, конечно, ведь Толстой не сгонял мух, облеплявших его лицо во время работы (пример русской безмерности). Но тут дело шло не о принципах, не об абсолютах: перед нами был живой человек и живая, еще очень далекая всем абсолютам – жизнь.
И наши тяжелые разговоры с Савинковым ничем не кончались. После – мы говорили о нем, и о том же, втроем. Но ни к какому нужному для него решению не приходили. Нам прежде всего хотелось вытащить его из террора. Как это сделать?
Для Бунакова все было проще. Но он и сам был проще. Повторяю, однако, что никто из нас, ни Д. С., к которому Савинков, главным образом, и обращался, его, как человека, вполне не видел и не понимал. А пожалуй, и Бунакова.
Разговоры наши, к счастью, на некоторое время тогда прекратились. Пришел Бунаков, один, и сказал, что занят сейчас личными савинковскими делами, которые через несколько дней должен и нам рассказать.
Я знала, что Д. С. это мало заинтересует и заранее решила, что рассказы Бунакова, если уж нужно, будем слушать мы вдвоем с Д. Ф. Д. С. был в это время особенно занят «Павлом I», и писал он первую часть своей трилогии в новой для него форме – драматической. Для сборника его статья была еще не готова, и я предложила, что напишу вторую статью «О насилии» – сводку некоторых наших недавних разговоров. Конечно, прочту им обоим раньше. Д. Ф. отнесся скептически, а Д. С. обрадовался, и я принялась за работу.
Надо сказать, что в эти парижские годы мы все много работали. Д. С., который всегда писал много, даже он за это время написал больше, чем, пожалуй, написал бы в России. Да ведь связь наша с нею, с русскими газетами и журналами не только не прерывалась, а стала даже теснее. Книги Д. С., старые и новые, продолжали там выходить и тотчас нами получались (как и мои). Уж не говорю о количестве писем, которые мы постоянно получали. Было впечатление, что мы Россию и не покидали, и не потому, что мы были не эмигранты, могли в любой день сесть в Nord-Express[61] и почти на следующий быть в Петербурге. Нет, связь с Россией тогда не терял никто из русских. Самые серьезные политические эмигранты, помимо постоянной связи письменной и газетно-журнальной, имели возможность поехать в Россию немедленно и благополучно вернуться. Даже Савинков, в предвоенные годы, был в России несколько раз, поездки же людей менее известных совершались постоянно, на наших глазах. Что это, слабость русского правительства, или ловкость эмигрантов? Ни то, ни другое. При любом правительстве (кроме большевистского) это обстояло бы так же. Россия тогда была. Какая – другой вопрос, но была. И связь с ней не мог терять никто.
4
Разнообразные наши работы не мешали нам знакомиться с разнообразными людьми и стараться узнавать то, что нас интересовало. По совету и рекомендации милой Стази Грузинской отправились мы однажды, все трое, к ректору парижской семинарии, abbé[62] Portal’ю. Присутствовало там немало других аббатов и, кажется, эвэков. Д. С. со свойственным ему увлечением стал тотчас же говорить о своих идеях, о вселенской церкви, о том, что христианство должно войти в мир, о неправде папизма…
Замечу, что тогда о модернизме мы еще не знали всего, что узнали после, и что на Порталя и его гостей мы смотрели как на верных Риму. Они, однако, во всем с Д. С. вежливо соглашались. Говорили только, что вот мы и есть представители вселенской церкви, и все чувствуем себя равными друг другу… А как же римский первосвященник, как же папа и папизм? На это последовал странный ответ, неожиданный, но все мы его слышали: «Le Pape? C’est un abus».[63]
Может быть, это не были ортодоксы? Мы этого так и не узнали. Вдолге потом стало известно, что аббат Порталь написал какую-то книгу, с которой поехал в Рим, получил от Святейшего Отца много ей комплиментов, полное одобрение, но… с прибавкой, что завтра же книга будет под index’ом. Почему? А потому, что Церковь должна двигаться вперед вся вместе, и пока последний верующий не догонит идущего впереди – движенье не может быть одобрено Римом.
Имя аббата Порталя ни разу не упомянуто среди модернистов. Однако то, что эти аббаты нам сказали, – «Le Pape c’est un abus», и «мы все равны», – очень похоже на слова неокатоликов. Впрочем, общее движение было широко и сложно, а в эти годы, уже гонимое Римом, оно, в лице своих адептов, естественно, не желало открываться каким-то иностранцам, да еще схизматикам (православие). Лишь мало-помалу мы кое в чем разобрались. Д. С. поразила близость некоторых идей к его собственными, а также странная близость, несмотря и на большую разницу, этой борьбы за христианство с исторической церковью – к тому, что происходило у нас, в Петербурге, на наших Р.-ф. собраниях. Масштаб был, конечно, другой. Зато уклонения, здесь скоро обозначившиеся, оказывались довольно странными… Начало движения – это Поль Дежарден, преподаватель коллежа Stanislas, написавший в 1890 году «Union pour L’action morale[64]». Успех его начинание имело такой, что в 1906 году Desjardin приобретает старое аббатство Pontigny (Cocnobium) для «Entretien d’été»[65]. Однако он же, начинатель, уже тогда настоящему неокатоличеству изменяет, хотя Р. Sabatier (о котором Léon Chaine сказал, что он духовно принадлежит к церкви вселенской) еще с ним. С ним же и Père Laberthonniére, и его всемогущий секретарь Louis Canet, в редакции «Annales de philosophie chrétienne»[66].
Père Laberthonniére’a мы хорошо знали, бывали у него, и он у нас. Мы знали, что он принадлежит к движению. Но он был очень осторожен, никогда до конца не высказывался. Может быть, потому, что уже был тогда в опале и под угрозой разделить судьбу аббата Loisy, как известно, из церкви изверженного. Этот, насколько мы о нем слышали и его читали, извержения и был достоин.
Интересно, что Рим в общем движении не разобрался, не увидел, что оно разделилось на два течения. Дежарденовское, второе, смешал с подлинно неорелигиозным, с неокатоликами. И, главное, тогда, когда дежарденовское уже перешло к «ультрахристианству», к «религии Будущего», где не только Христа, но и Бога уже не оказывалось (Marcel Hebert объявил личного Бога идолом, другие говорили, что Бог еще не проявился, а только будет. Неокатолики же утверждали, что, хотя религия и находится в церкви, но клерикализм еще не религиозность (Beranger, Jean Honcey и др.), что догматы подлежат раскрытию, движению (три заседания были посвящены этому в СПБ-ских Собраниях), хотели, наконец, «омирщить» христианство, возвратив ему первичную силу и правду. И вот они, как бы притянутые вначале Дежарденом, начинают спрашивать себя, как же отнесется к их чаяньям католичество? Их взоры обращены к Риму, они внимательно следят за молодым католичеством во Франции.
Папский «bref»[67] к епископу Гренобльскому после конгресса католической молодежи в Гренобле окрылил их, вызвав надежды на отклик Рима (движение в церкви, le renouveau[68]). Но это было лишь осторожное выжиданье. Между тем движенье разрасталось, подготовка к парижскому конгрессу 1900 года была поставлена широко. Тут-то и разразилась римская гроза над правыми и виноватыми. Конгресс все же состоялся, но… без католического духовенства (кроме троих смельчаков). Это было начало разгрома Римом всего нового, несмотря на то, что и французская элита того времени была за движение модернистов: оно захватило Ecole Normale[69] и Сорбонну.
Наше русское религиозное движенье, наши Собранья и разговоры с православной церковью кажутся пред всем этим каким-то «захолустьем»… Но Д. С. все-таки утверждал, что церковь православная, – насколько она, внутренне, свободнее! Если разговоры, – такие же, если не более смелые, – запретила светская власть, – это лишь внешнее насилие. Сама же церковь никого не осудила, никто из духовенства не пострадал…
Это, конечно, верно. Жаль только, что ни у нас, ни в Европе, из движения новых идей ничего не вышло. У нас, впрочем, есть оправдание: неслыханная революция, в которой пострадала, в первую голову, вся православная церковь – с поголовным физическим истреблением духовенства.
Замечу, что, когда мы вернулись в Петербург, у нас было, в годы перед войной, что-то вроде дежарденовского движенья в обществе, в карикатурном виде, – такого, каким оно явилось потом, т. е. с «будущим» Богом (богостроительство), с гуманизмом и т. д. Мы много еще чего узнали после о модернизме, но это движение достойно было бы особого описания.
Тогда, в Париже, кроме abbé Laberthonniére’a, маленького, черненького, живого и скромного, мы знали, из примыкавших так или иначе к модернистическому движению, очень немногих: Le Roy, Бергсон… один пастор, не помню имени. С Бергсоном, звезда которого быстро восходила, был хорош граф Прозор. А на блестящих лекциях его, всегда переполненных, католическое духовенство часто преобладало. Все, что я пишу здесь о французском модернизме так бегло (иногда, может быть, не точно), я пишу лишь попутно, и для тех, кто его не знал или о нем забыл. Сомневаюсь, впрочем, чтобы для большинства французов современных это могло иметь какой-нибудь интерес.
Во французском кружке, который тогда у нас собирался, мы на такие темы разговоров не вели. Но после наших «суббот» со странной смешанностью русских эти французские собрания были отдохновенны. В моей ажавде записано: «Сегодня вечером – любопытно. Дитль Dumur Severac, V. Bach, Лагардель (какой он приятный!), гр. Прозор, А. Бенуа (случайно), Оливье, Баруцци… два юноши, – не помню фамилий. Интересные для их изученья разговоры (философия и социализм). Только Баша я не люблю».
К этому Виктору Башу и Д. С. не питал большой симпатии, но Баш к нему особенно тяготел тогда. Мы (опять по ажанде) у Баша однажды обедали, встретили там декана Круазье и какую-то м-llе Дикмэ (?). Ее Д. С. нашел «страшной».
Кто такой Оливье и почему он у нас появился, – решительно не могу вспомнить. В ажанде моей от 10 декабря 07 нахожу: «Были на лекции Лагарделя. Оттуда – в кафе с Берт, Оливье и др. Д. С. протестовал и удивлялся, что Лагардель объявил Маркса синдикалистом».
Может быть, Оливье был синдикалист, как Лагардель. Прежде чем вернуться к нашим встречам с русскими революционерами и к другим эпизодам нашей парижской жизни – к лекциям Д. С., между прочим, хочу рассказать об одном вечере, не знаю кем устроенном, в пользу русских безработных. Я и Д. С. в нем участвовали вместе с Верой Фигнер и… с Анатолем Франсом.
Вероятно, устроила его m-me Аничкова – Ivan Strannik, – потому что именно у нее мы раньше видели, и не раз, Франса. Видели… и слушали, ибо там, где он бывал, только и можно было, что – не говорить с ним, а его слушать. В обычной позе, облокотясь на камин, он говорил, говорил… очень приятно, остроумно, обо всем и ни о чем, остальные, сколько бы их и кого тут ни было, имели свое определенное дело: молчать и слушать мэтра. M-me de Caillavet, вечная его спутница (и, кажется, крест его жизни), как будто что-то говорила иногда, а может быть, и нет.
Не помню, к сожалению, в какой зале был вечер (тогда ведь были другие залы в Париже для лекций и вечеров), но зала большая – и полным-полна, – какой публикой? Всякой, главным образом русской. Ведь Вера Фигнер и мы с Д. С. читали по-русски…
А. Франс на эстраде не выигрывал: около камина, в интимной обстановке, он казался и стройнее, и увереннее, и голос его звучал мягче. Вера Фигнер, немолодая, с длинным (когда-то красивым) лицом, неловкая и застенчивая, в белом платье, читала какие-то замысловатые вирши. Да ведь не в поэзии была ее слава! Мне помнится, главное, артистическая комната: длинный стол с угощеньем, и Вера Фигнер рядом с m-me de Caillavet: она (раз тут Анатоль!) разыгрывала хозяйку. Ей было, конечно, известно, что эта неловкая дама провела 12 лет в заточении, – dans une forteresse![70] Она решила ее ободрить, быть любезной, и ничего не нашла лучше, как приняться к ней приставать:
– Vous êtes une heroine, madame, n’est-ce-pas? Vous êtes une heroine?[71]
Что могла ей ответить бедная Фигнер? «Да, мадам, я героиня?» или «Нет, не героиня, оставьте меня в покое?»
Кажется, она не ответила ровно ничего. Во всяком случае, m-me de Caillavet осталась недовольна.
5
Д. С. был при конце своей трудной работы – трагедии Павла I, – когда моя статья «О насилии», предназначенная для сборника и бывшая как бы сводкой наших разговоров между собой, была кончена. Я ее прочла обоим, Д. С. и Д. Ф., ожидая возражений, главным образом, от последнего. У нас были разные методы писанья, его природная стихийность протестовала против моей методичности. Возражений от Д. С. я не ожидала: ведь это было, в главных чертах, то, к чему, в наших общих разговорах, пришел, наконец, и он.
Мои догадки оказались верны. Д. С. принял статью полностью, как если б сказанное в ней было и его собственное. Д. Ф. возражал, но, не имея своего положения, чтобы противопоставить нашему, принял, в конце концов, наше. А Д. С. даже решил сделать из этой статьи свою лекцию, первую в Париже. Лекция не состоялась. Прибегаю опять для точности к моей ажанде:
«16 февраля. Пятница. Лекция Дмитрия (мое „насилие“) не состоялась. Толпы, толпы народа. Гвалт и дом, улица запружена. Дмитрия стиснули темным кольцом. Кажется, дрались, наконец выбили стекла – и все кончилось. Полицейские очистили залу. Мы едва вылезли. Пошли по запруженной улице в кафе с Кричевским (будущий оппонент Дм., соц-демократ, еврей, будто бы философ). Были еще два „эмигранта“, солдат и матрос. Лекцию решили перенести в какую-нибудь другую, громадную залу».
Через пять дней, 21 февраля, эта лекция и состоялась… в гигантской Salle d’Orient[72]. Дикая масонская зала, вся красная с золотом. (Очевидно, в те годы она сдавалась всем желающим.) Сошло все хорошо. Было чуть не 1000 человек. А возражения пришлось перенести еще на другой вечер.
Среди оппонентов был незадолго до того неожиданно явившийся к нам и Андрей Белый (Боря Бугаев). Тот самый молодой московский поэт и писатель, что жил у нас в Петербурге, наезжая из Москвы, и слушал с нами Гапона 9 января в Вольно-Эконом. обществе. Мы и не знали, что он за границей. Явился он в Париж после шатанья по Германии – с трубкой, в пелерине и в гетрах. Оказывается – насмерть поссорился с первым своим другом, поэтом Блоком, в жену которого был влюблен. Но поссорился не из-за жены, а из-за пасквиля, который сам же на Блока, ни с того ни с сего, написал. Удивительное это было существо, Боря Бугаев! Вечное «игранье мальчика», скошенные глаза, танцующая походка, бурный водопад слов, на все «да-да-да», но вечное вранье и постоянная измена. Очень при этом симпатичен и мил. Надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться. Прибавлю, чтобы дорисовать его, что он обладал громадной эрудицией, которой пользовался довольно нелепо. Слово «талант» к нему как-то мало приложимо. Но в неимоверной куче его бесконечных писаний есть, кое-где, проблески гениальности.
Если я отмечаю его приезд в Париж, то вот для чего: он поселился недалеко от нас, в маленьком пансиончике около rue (тогда «rue») Mozart, ежедневно приходил к нам на целый день, но завтракал у себя, и – за одним столом с Жоресом. О Жоресе он нам постоянно твердил, рассказывал, что ведет с ним длинные разговоры, хотя и тогда, да и сейчас трудно себе представить, о чем мог «длинно» разговаривать Жорес с таким абсолютно ему чуждым существом, как Боря Бугаев. Наконец Боря объявил, что Жорес хочет будто бы с нами познакомиться и просил нас прийти в его пансиончик в таком-то часу, сейчас после завтрака. Д. Ф., очень Жоресом интересовавшийся, тотчас же согласился. Д. С. тоже (мы знали Жореса только по его публичным выступлениям. Оратор он был, надо сказать, огненный).
И вот характерная черта Бори Бугаева – Андрея Белого: через долгие годы, в толстом томе своих «воспоминаний», он с мельчайшими подробностями описывает это наше, им устроенное свиданье с Жоресом, что сказал Д. С., как он Жоресу не понравился, что именно говорила я, как смотрела на Жореса в лорнет, в каком даже была платье… между тем меня в этот день в пансиончике – совсем и не было. Больная очередным бронхитом, я осталась дома, ходили только Д. С. и Д. Ф. Что они потом мне рассказывали, – я хорошо не помню, но наверно не то, что так образно и подробно описал Боря через 25 лет, в течение которых мы с ним и не встречались. В одном из своих сборников статей Д. С. очень интересно описывает эти свои два кратких знакомства: с Жоресом и Ан. Франсом. После большевистской революции Боря был некоторое время в Берлине (где, говорят, много пил и танцевал), но потом добровольно вернулся к Советам. Было не разобрать, предан им или нет, да это все равно: уж как был предан поэт Валерий Брюсов, и как эту преданность не выказывал, – им-то, большевикам, ни он, ни Андрей Белый были не нужны. И бедный Боря там умер – в ропоте и нищете.
В последний раз мы его видели в 1917 году, во дни мартовской революции, у нас. Он тогда только что приехал в Россию после четырех лет пребывания, с женою, в Дорнах, у Штейнера, как самый преданный его ученик. Но вернулся тогда уж с дикими своему «учителю» проклятиями (вместо недавних дифирамбов), – что нас, при знании Бугаева, и не удивило. Кстати: Herr Doktor Штейнер приезжал однажды в Париж, когда мы там жили, как-то поздней весной. Мы пошли на одну из его лекций – в частном доме, на rue Raynard, в rez de chaussée небольшого особняка. Темноватая зала, переполненная пожилыми дамами, замирающими от благоговения перед «пророком». Высокий, жилистый, бритый, говорил он уверенно и красноречиво, если не вдохновенно. Мы пошли потом запивать эту лекцию кассисом в соседнее кафе, вместе с известным тогда Шюрэ и нашим другом, художником А. Бенуа.
А через несколько дней мы встретились со Штейнером вечером, у русского поэта Макса Волошина, тогдашняя жена которого была ярая штейнерианка. Мне помнится это свиданье спором, который возгорелся между Д. С. и Штейнером. Спор, на немецком языке, шел о Евангелии, и, конечно, добром кончиться не мог, ввиду глубоко отрицательного отношения Д. С. и к теософии, и к ее западной форме – антропософии.
* * *
Здесь я хочу упомянуть об одном нашем частном парижском знакомстве, которое имело для Д. С. большое значение и оставило след на всю его жизнь.
Как-то у m-me Ivan Strannik, жены проф. Аничкова и приятельницы Анатоля Франса, днем, мы встретили одну русскую даму, M. H. Д., еще довольно красивую, необыкновенно живую и остроумную. Мы были там вдвоем с Д. С., без Д. Ф. Когда мы вышли, вместе с этой дамой, M. H. Д., оказалось, что мы живем в двух шагах друг от друга, в Auteuil. На фиакре с зеленым фонарем (зеленые фонари обслуживали наш quartier[73]) мы отправились отвозить нашу новую знакомую. Она попросила нас зайти к ней, но было поздно, и мы зашли только в сад ее виллы. В саду нас встретила ее дочь, с которой мы тут же познакомились. Это была высокая, совсем молодая девушка, с таким прелестным, нежным, чисто русским лицом, что мне подумалось невольно: «Вот такой была, верно, Маша, капитанская дочка – у Пушкина». Мать и дочь жили в этой вилле вдвоем. Жили они в Париже подолгу, но не постоянно. За время нашего пребыванья они уезжали в Петербург и возвращались несколько раз. После случайного нашего знакомства мы все стали часто посещать близкую виллу. По-соседски приходили постоянно и они к нам. Княжна Грузинская оказалась их приятельницей.
«Пушкинская Маша» (мать звала ее Марусей) своей тихой, полуженственной, полудетской прелестью очаровала нас всех. Скоро мы поняли, как разнится ее характер от материнского. Г-жа М. H. любила свою единственную дочь по-своему – властно, ревниво и деспотически. В таких живых натурах черты деспотические не редкость. Дочь любила ее нежно и была мягким воском в ее руках, постоянной маленькой девочкой. Такой она и осталась на всю жизнь, несмотря на свое замужество и троих детей. С ними и опять вместе с матерью, но без мужа, она впоследствии жила в Париже и в эмиграции. Ревнуя дочь к мужу (хотя брак был и не против ее воли), она не то что их поссорила, но разлучила, и муж остался в другой стране. Когда обе дочери ее вышли замуж, а сын уехал служить, она все-таки осталась одна с матерью, до самой ее смерти.
Я говорю об этом прелестном существе потому, что моя «капитанская дочка» была голубой любовью Д. С. В ней было для этого все: нежная женственность, покорная беспомощность и даже какое-то вечное «девичество». Я думаю, Д. С. и чисто русскую душу ее ощущал.
Он любил в жизни не многих людей. Но к кому бы и какая бы у него ни являлась любовь сердца, она никогда больше его не покидала. Я уже не говорю о его любви к матери. Ни ко мне. Но и к Философову, расставшемуся с нами после 15-тилетней совместной жизни, его чувство до конца оставалось прежним. Прелестную же девушку с круглым милым личиком он не забывал никогда. Мы мало встречались в Петербурге, после ее замужества, – мы жили в разных кругах общества. И здесь, в эмиграции, он не видел ее иногда год, два, потом опять встречались, она приходила к нам или мы шли к ней и к ее матери, когда мать еще была жива.
Она, конечно, чувствовала его отношение и встречалась с ним всегда радостно… как теперь я с ней – и она со мной.
6
К концу второго года нашего пребыванья в Париже «Павел I» Д. С. был окончен, и он писал уже статьи для будущего сборника «Не мир, но меч». И готовил в окончательной редакции свою статью для сборника французского (он набирался). Но почему-то Д. С. находил эту статью не подходящей для публичного чтенья по-русски, среди русской аудитории, а потому для второй своей лекции выбрал опять мою первую о самодержавии.
Лекция прошла, судя по моей тогдашней записи, удачно, особенно удачно было заключительное слово Д. С. У меня не отмечено, в какой зале это происходило, но не в Orient, a вероятно, в обычной зале-бараке на Choisy, где тогда читалось большинство русских лекций. Два раза читал и Д. Ф., а как-то раз – Минский, со скандалом.
Минскому вообще не везло. На одном стихотворном благотворительном вечере он решился прочесть свое стихотворенье, написанное еще в России, должно быть, в то время, когда он старался удержаться в ленинской газете, отчасти написанное и так, по озорству. Даже просто как стихи – это была дрянь. Первая строчка:
Пролетарии всех стран – соединяйтесь!И далее, по трафарету, тем же танцующим ритмом, над которым мы издевались. Он – ничего, не обижался. Но публичное чтение вызвало решительный скандал. На лекции же его попросту началась драка, кто-то крикнул из задних рядов: «Г-н лектор, тут бьют!» И лектор, схватив со стола бумаги, удрал через заднюю дверь. Не забудем, что среди тогдашней русской публики много было солдат, матросов и, если угодно, пролетариев, но коммунистами они не были и о марксизме понятия не имели.
Был ли Минский большевиком? Ничуть. Большевистской России он не видал, неудавшийся его газетный марьяж с Лениным в 1905 году мало чему его выучил. А все-таки к большевизму его как-то тянуло…
А что же наше сближенье с политическими эмигрантами, революционерами-народниками?
Относительно Савинкова – неприятный дивертисмент. Бунаков, придя, с сокрушением стал рассказывать вот об этих савинковских «личных делах». Бунаков был по природе добродушный всепримиритель, не всегда успешный, но старательный: уж очень огорчался, когда в его «хозяйстве» (в партии) начинались семейные истории, некрасивые нелады. А тут вышло дело особенное. Савинков был женат на дочери очень известного в России, старого писателя-народника, Глеба Успенского. (В юности, когда Д. С. народничеством увлекался, он даже к этому Глебу Успенскому специально ездил, чуть ли не в новгородскую губернию.)
Савинков женат был давно, жена его, с двумя детьми, сыном и дочерью, мирно жила в Петербурге, их не беспокоили (правительство ведь было не большевистское!). Но в последний год, когда Савинков бежал из тюрьмы и поселился в Париже, и близкой «работы» для него не предвиделось, он решил выписать семью к себе. Жена с детьми приехала, и они поселились в небольшой квартирке на rue La Fontaine, в доме как раз против нашего, окна в окна, через пустырь, который тогда отделял улицу Théophile Gautier от параллельной – La Fontaine. Оттуда из пустыря только и слышно было что пели петухи.
Все шло по-хорошему, пока Савинков вдруг не влюбился. И обернулось это весьма серьезно. Наивный в своем добродушии Бунаков, давно к тому же знавший и любивший Веру Глебовну, жену Савинкова, стал умолять друга оставить новую любовь, сохранить семью. И пришел нас просить его поддержать.
Напрасно мы с Д. Ф. уверяли его, что лучше никому в такие дела не входить, Б. настаивал. Сказал, что Савинков сам придет говорить с нами об этом.
Мы Веру Глебовну знали. У нее было измученное, трагическое лицо, со следами прежней красоты. Конечно, ее было жалко, но все же эти интимные дела нас не касались.
Савинков, однако, пришел, и разговоры начались. Пишу об этом ради одного обстоятельства, которое отчасти рисует образ этого человека.
Слушая долго, молча, его разговор с Д. Ф. (Д. С. не было), я, наконец, заметила, – без упрека, равнодушно: «Однако, я вижу, вы довольно слабый человек». Он побледнел, как смерть, так что Д. Ф. испугался, вызвал его в другую комнату, где – рассказывал он мне потом – стал его успокаивать, уверять, что я сказала такие слова, не думая, случайно, и т. д. А после – Д. Ф. меня же стал упрекать в неосторожности и в незнании чужой психологии.
Но я Савинкова давно перестала бояться, история была мне противна, раскаянья я не почувствовала. И с глубоким недоверием отнеслась к сообщению Бунакова, когда, через два дня, он пришел, радостный, объявить, что друг от новой любви отказался, жену не покидает.
Прошло некоторое время. Савинков пригласил нас всех к себе, чтобы прочесть нам свои «воспоминания» о Каляеве (член «боевой организации», исполнитель «дела Плеве» и вел. кн. Сергия, друг ближайшего участника в этом «деле» – Савинкова).
Факты, приводимые в «воспоминаниях», – потрясающи. А как это было написано! Не то, что неумело, пусть бы! Но с оскорбительным, для фактов, и для памяти этого человека, безвкусием, с пошлой претенциозностью, с подражанием – неизвестно кому, Пшебышевскому, что ли. Я знала, что Д. С. и Д. Ф. это видят, и, превратившись в литературного критика, всю правду автору серьезно высказала. Он также серьезно меня выслушал, без всякой обиды, – что меня даже удивило. Но мы не знали тогда, что этот человек обладал одной способностью… не умею ее назвать: не «мимикрией», ибо это была не чистая, голая подражательность, а скорее способностью схватывать на лету и усвоять все, что он только мог сделать своим и что могло, думал он, ему пригодиться. Суть моей критики была такая: «Если хотите писать, – пишите проще, до последней возможности просто, думая лишь о том, что вы хотите сказать, а не как вы это скажете».
Не всем можно было дать такой совет, но ему – следовало.
7
Как ни близка была наша связь с Россией, – мы, в начале третьего парижского года, серьезно стали подумывать о возвращеньи. Отчасти и потому, может быть, что связь была так близка: каждый по-своему – мы чувствовали, что в России творится неладное, тосковали.
Первая Дума, когда интеллигенция в Думу было поверила, – оказалась тотчас разогнанной. Вторую разогнали еще скорей. Третья была уж откровенно комедийной. Сестра моя Татьяна писала об усилении репрессий. Она же рассказывала, что в литературных и политических кругах происходят какие-то нелепые и кощунственные сборища, вообще какой-то болезненный хаос.
Нас задерживало в Париже кое-что внешнее – и кое-что внутреннее. Внешнее – это, во-первых, намеченная французская лекция Д. С. в Ecole des Hautes Etudes[74]. (О ней, когда она состоялась, у меня записано только, что Дм. С. читал очень хорошо, а председательствовал V. Bach.) Во-вторых, задерживал нас «Павел I», его перевод и предполагавшееся французское издание (по-русски он еще не вышел, да Д. С. хотел и напечатать его раньше в русских журналах). Кроме того, появились разные соблазнители, уверявшие Д. С., что возможна постановка драмы на какой-нибудь парижской сцене, и устраивавшие для того наши свиданья с будто бы полезными людьми. Д. С. и сам не очень-то в это верил, но так как в России ни о чем подобном нечего было и мечтать, то, когда перевод был готов, не отказывался читать отрывки в тех или других местах. Между прочим, не знаю как, но именно благодаря вопросу о «Павле» кто-то нас познакомил… с Léon Blum’ом. Кажется, Блюм тогда и депутатом еще не был, а какую связь имел он с театром – неизвестно. Было лишь известно, что он очень богат и где-то имеет фабрику шелковых лент.
Мне помнится только наш у него завтрак. Пышная вилла, кажется – недалеко от парка Monceau (точно не знаю). Великолепно сервированный стол, цветы, хрусталь, куча незнакомых нам французов. Жена (которая была у него в тот год), изящно одетая и все-таки незаметная. Я бы наверно помнила, о чем шли разговоры, если бы они были интересны или если бы сам Блюм меня заинтересовал. Но даже характерная наружность его показалась мне ничтожной. Его кот был интереснее. Громадный, ангорский, он появился при конце завтрака, тотчас же властно вскочил на стол и стал медленно прохаживаться между хрустальными рюмками с такой ловкостью, что ни до одного стакана не дотронулся, ни одна рюмка не зазвенела. Мне почему-то подумалось, что если б Леон Блюм родился котом, он наверно с такой же ласковой ловкостью прохаживался бы по чужим столам.
А внутренняя задержка в Париже – это наши друзья – революционеры. Д. С. не сомневался, что революция в России будет, что сделают ее, может быть, вот эти самые революционеры-народники, но что им не хватает религиозного, христианского самосознанья, хотя по существу они к христианству близки. Бунаков, пожалуй, к христианству и был по природе склонен (или к христианской морали), несмотря на свое еврейство. В Савинкове же, как и в других, начиная с Веры Фигнер, ни малейшего христианства пока не замечалось. Мы с В. Фигнер, когда она приходила к нам, ни о чем «божественном» и не заикались. Но вот явится Савинков, скажет с пышностью, что ему – «либо ко Христу, либо в тартарары», и Д. С. верит, идет, глядишь, к нему вечером, один, на что-то в нем, на какое-то просветление надеется…
Конечно, и Д. С. было неприятно (хотя не очень в Савинкове разочаровало), когда в один прекрасный вечер явилась Вера Глебовна, жена, с особенно измученным лицом и сказала, что больше не может, уезжает с детьми в Россию, оставляя «его» новой жене, с которой он и не думал порывать. Нас с Д. Ф. это ничуть не удивило. Но казалось (мне, по крайней мере), что это просто эпизод дурного тона, и если слабость, то именно в известном отношении, в любовном, – где все бывают слабы. В революционную же силу воли Савинкова и я тогда верила. Вообще он мне казался человеком интересным и значительным, интереснее Бунакова. Д. Ф. симпатизировал больше Бунакову, а Савинкова как-то сторонился. Впрочем, все мы тогда воображали, что можем им в чем-то идейно помочь, и когда они нас уговаривали еще остаться, не уезжать, мы на эти уговоры поддавались и все время отъезд откладывали.
Я могла бы нарисовать несколько портретов других тогдашних революционеров-эмигрантов, как Книжник-Ветров (считался анархистом) или старушка Ков-ская, «экс» (участвовавшая в экспроприациях), – да мало ли! Но это не так интересно. Отмечу только, что мы бывали у «вдов» казненных, – они жили тогда вместе, мирно и как-то благородно. Прелестна была одна, не вдова, а невеста не казненного, но погибшего на каторге Сазонова (убийцы Плеве?) – Мария Прокофьева. Хрупкая, нежная, тихоня, «чистейшей прелести чистейший образец», как мы ее называли. Она тоже была в Сибири, – по «царскому делу», – и оттуда бежала. У нее глаза смотрели как-то «по-нездешнему». Напомнили мне глаза Марии Добролюбовой, сестры того старинного, яростного «декабриста», который вдруг, всего «совлекшись», скрылся в русском море сектантства. Та Мария тоже была революционерка, после тюрьмы заболела и рано умерла.
Мог ли Д. С., и как, идейно помочь революционерам – это остается под вопросом. Но что я помогла Савинкову, его писаньям, своей резкой критикой его дебюта, – это скоро выяснилось. Он на лету схватил мои внешние советы и принялся, им следуя, писать роман. С самого начала это было уже сделано иначе и лучше, нежели его «Воспоминанья». Скажу кратко: писал он, конечно, себя, свою революционную жизнь, а идея всего романа – взята из тезисов Д. С. к его лекции «О насилии» (текст тезисов недавно нашелся здесь). Герой романа, несмотря на давящую тяжесть крови, которую проливает, не погиб, пока проливал ее не ради себя, а «во имя» чего-то высшего. И тотчас погиб, духовно и физически, когда убил на дуэли какого-то офицера ради личного интереса, для себя. Роман читался нам по частям, и автор чудесно понимал и воспринимал всякое замечанье. Заглавие, довольно нелепое, я ему переменила, назвав роман «Конь бледный» (с эпиграфом из Апокалипсиса), а псевдоним, тоже неинтересный, предложила заменить одним из своих, под которым недавно написала статью в «Полярной звезде», журнал, уже прекратившийся. Все это он с радостью принял. Роман мы увезли в Россию и напечатали его в «Русской мысли». Так родился писатель В. Ропшин… к радости многих злых критиков, но к своей собственной, главным образом[75].
В самом начале этого года (1908) Д. С. несколько раз читал отрывки из своего «Павла» у молодого мецената Щукина, который часто бывал у нас. Д. Ф. говорил иногда, что завидует ему: «простая жизнь простого человека», без запросов, довольного немногим. И нас, – от неожиданности, вероятно, – очень поразило, что он вдруг отравился цианистым калием. Да и гражданские похороны, на автомобиле, мы видели в первый раз. Д. Ф. был, кажется, и в крематории, что произвело на него особенно угнетающее впечатление.
В эти, как раз, дни из Петербурга приехал Н. Бердяев, тот самый бывший марксист, с которым я провела в разговорах столько петербургских поздних вечеров, словом – один из «идеалистов», которым мы передали «Новый путь», превращенный ими в «Вопросы жизни».
«Новый путь», как-никак, просуществовал три полных года. А «Вопросы жизни» не протянули и несколько месяцев. Когда Бердяев приехал в Париж, журнала уж давно не было. Это понятно, и не внешние причины виной. Нас соединяла общность идей, – все равно, каких, – а в новом журнале каждый оставался как бы сам по себе.
«Идеализм» был для них лишь этапом, переходной ступенью к религии (которая была тоже переходной ступенью – к церкви). В марксизме – и в церкви только и могли быть соединены такие разные по природе и темпераменту люди, как, например, Булгаков и Бердяев. Пока же шли они по «ступеням» – общности в деле не получилось. Еще до отъезда в Париж оба мы с Д. С. об этом где-то писали. После прекращения журнала и с переходом к «религии» у них вышло несколько сборников. В предисловии к одному из них, последнему, было сказано, что участники объединены «христианским миропониманьем», но по «вопросам второстепенным свободны держаться личных мнений». На деле оказалось, – как я это подчеркнула в обстоятельной статье, что именно в «христианском миропонимании» все участники сборника не только рознятся между собой, но прямо стоят на противоположных позициях: каждая статья противоречит каждой. Точно они друг друга не слышат и друга на друга не смотрят. Опять и это было естественно, пока они не вошли, наконец, в Православную Церковь, где уж разногласиям ни по каким вопросам места нет.
Бердяев, когда в январе 1908 года приехал в Париж, еще не «вошел» в Церковь, но уже не «колебался между идеалом Мадонны и идеалом содомским», как недавно, объявлял себя «христианином», чему мы, за него, очень были рады. Мы стали ежедневно видаться, – у нас или у него. Сестра жены его (он приехал с женой) давно жила в Париже. Мы ее знали, она была замужем за Раппом, русским адвокатом, – эмигрантом ли – не помню.
Однако наши свиданья и новые разговоры с Бердяевым не ладились, и чем дальше – тем меньше. Всех лучше, добрее, я бы сказала – нежнее, – относился к нему Д. С. Д. Ф. ему почему-то не доверял, а может быть, его отталкивала неудержимая страсть Бердяева к полемике, даже в тех случаях, когда она была неуместна.
С женой Бердяева, Лидией Юдифовной, мы тоже часто видались, ее настроение я не понимала, слишком было оно у нее мрачное.
Так все и шло. Понемногу подготовляли мы наш отъезд в Россию, решив быть там не позже лета. Семнадцатого марта я получила письмо от моей сестры с известием, что С. Ив. Мережковский, отец Д. С., очень болен; а на другой день – телеграмму, что он скончался. Умер через 19 лет, день в день, после смерти жены, матери Д. С. Мы в Париже имели о нем сведения только от моих сестер, продолжавших сношения с ним и с братом Сергеем. От самого ж Сергея, да и ни от кого из своей семьи, Д. С. никаких писем не получал.
Я никогда толком не знала, но мне помнится, что за несколько лет до смерти С. Ив. Мережковский отделил детей, положив в банке на имя каждого сына по 80, кажется, тысяч (дочерям он, очевидно, дал что-то раньше, в виде приданого), но с каким-то условием, чуть ли не сохранение капитала неприкосновенным до его смерти. Повторяю, что в точности мне это неизвестно. Знаю только, что в России, в годы после нашего возвращения из Парижа, у Д. С. были деньги в банке, он их не трогал (так как мы хорошо зарабатывали именно в эти годы) и лишь малую часть истратил на покупку какого-то куска земли в любимом своем Крыму, но где не было еще ни дома, ничего. Все лишь предполагалось. Во время мартовской революции 17-го года кто-то посоветовал Д. С. перевести деньги за границу. Против этого восстал Д. Ф., считая такое дело не патриотичным и Д. С. недостойным. Больше речь об этом не поднималась, а в октябре банки были реквизированы и все навсегда пропало.
8
Подробностей о кончине Сергея Ивановича мы узнали немного. Умер он от ран на ногах (вероятно, воспаление вен). При кончине был только Сергей. Вот и все. Похоронен в Новодевичьем, рядом с женой, – давно купил себе это место. Смерть отца, несмотря на коренную и давнюю между ними далекость, произвела на Дмитрия Сергеевича тяжелое впечатление (которое он, конечно, не выказывал). Ведь все-таки умер тот, кто всю жизнь любил (пусть по-своему) ее – дорогую и милую навсегда, – его мать. Что-то старое, близкое ему, оборвалось со смертью отца – окончательно.
Мне-то С. Ив. был уж совсем чужой. Когда получилась телеграмма, утром, мы с Д. С. прочли ее спокойно. Но за завтраком я, без всякой причины, вдруг заплакала (я тогда еще умела плакать). Д. С. удивился: «Что с тобой?», и сейчас же прибавил: «Ах, ты это, верно, об отце…»
Март кончался. В апреле мы с печалью покинули нашу просторную квартиру, отдав в склад незамысловатую мебель, книги, бумаги, кое-какие письма, и уехали из Парижа. Сначала, ненадолго, на берег океана, потом, через Германию, в Россию. Грустно было оставлять наших политических друзей. «Вы нас покидаете на перекрестке!» – говорили они. Но кто нам мешал вернуться, хоть ненадолго, на следующий год, и потом опять и опять? Весной, конечно. Очаровательны парижские весны. Не знавший Париж до войны 14-го года, не видал его настоящего, живого, веселого, главное – веселого, в каждом гавроше, насвистывающем все один и тот же мотив (тогда – кэк-уок), в мягком звоне бубенчиков, в пенье соловьев в густом тогда парке Muette, веселого даже в нелепом Трокадеро с его водопадами и каменными животными, в незамысловатых «девочках» на Boule-Miche и в Rat Mort, веселого в разнообразных уличных запахах и переливных огнях.
Поезд уносил нас на север, мы смотрели в окна, и Д. С. грустно сказал: «La douce France!..»[76]
Мои сестры уже наняли дачу, где мы хотели провести конец лета с ними и с Карташевым.
В Петербурге мы жили всего несколько дней, никого не видали (летний Петербург!) и тотчас же отправились на дачу.
Осенью мы должны были переехать на нашу старую квартиру, но без сестер: они, с Карташевым, взяли себе другую, отдельную. С ними вскоре поселилась и сестра Карташева, кончившая медицинский институт. Третья моя сестра (умершая впоследствии в эмиграции) была в то время земским врачом на Украине.
Не скажу, чтобы в эти месяцы настроение у нас было приятное. В Париже наши разговоры с Бердяевым кончились полу-разрывом, а вскоре мы узнали и о полном: получили открытку из Троице-Сергиевской лавры, где Бердяев извещал нас, что «вошел» с женой в православную церковь, обличал нас, укорял, что мы еще думаем о борьбе с нею, а не следуем его примеру. Как будто мы когда-нибудь «выходили» из нее, как будто Д. С. боролся с церковью, а не за церковь! Кроме этой неприятности, Д. С. ждала и другая: его «Павел I», тотчас по напечатании, был конфискован. А это могло грозить и худшими последствиями…
С осени, в Петербурге, жизнь пошла как-то суетливо и уж очень «литературно». Мы сравнительно недолго провели в отсутствии. Между тем изменилось за это время многое. Изменились, неуловимо, и старые друзья. Д. С. говорил, что не понимает ничего в этой новой суете. В Москве, куда мы ненадолго съездили, суеты было еще больше: неизвестно, кто с кем в дружбе, кто на ножах и почему. В Петербурге мы застали официально разрешенное Рел. – фил. общество. Затеянное Бердяевым, потом им брошенное, оно едва прозябало. Затеяно оно было как бы вроде старых Собраний, но на них не походило. Д. С. в него все-таки вошел (как и я с Д. Ф.), очень поднял его и оживил, внеся вопрос о неонародничестве и споря с марксистами. Однако это было не то. Не было настоящих двух сторон. Представители церкви туда не ходили, а просто там шли интеллигентские споры. Марксисты называли себя «богостроителями» (как поздний Desjardin), a религиозных людей называли «богоискателями», как ни защищались последние от такой нелепой клички.
Розанов как-то совсем стерся, Блок помрачнел, погрузившись в особый патриотизм. Но Блока мы продолжали любить. Из-за него у Д. С. вышел частичный конфликт с «Русской мыслью», куда он, Д. С., был приглашен редактором беллетристики (а я каждый месяц должна была давать критическую статью). Блок написал не то статью, не то поэму в прозе, о России, очень красивую и глубокую. Д. С. прочел ее в Р.-ф. обществе и затем хотел напечатать в «Русской мысли». Но московским редакторам она пришлась почему-то не по вкусу (П. Б. Струве и, кажется, Булгакову), и Д. С. отказали. Тогда Д. С. отказался от редактирования и журнальной беллетристики (чему я, признаюсь, была рада, так как, по своей занятости, Д. С. часто сваливал эту работу на меня). А сотрудниками «Русской мысли», и постоянными, мы остались по-прежнему.
Д. С. работал очень много: он теперь писал почти во всех журналах и во многих газетах, как в «Речи» и в московском «Русском слове». Это писанье коротких и длинных статей, которые он выпускал книгами под разными заглавиями, не мешало ему готовиться к новому, давно задуманному роману «Александр I». Д. Ф. тоже много писал – главным образом в «Речи», органе умеренных ка-дэ (конституционалистов-демократов), к которым он ближе стоял, чем Д. С.
Между прочим: «богостроительство» и «богоискательство» проникло даже в эту твердокаменную редакцию: недаром кто-то назвал эту зиму «сезоном о Боге».
В середине зимы пришла бывшая жена Савинкова и рассказала историю обличенного оберпровокатора Азефа. Она его знала и, как партийцы, ему верила. Не к чести… если не Савинкова, то его ума, надо заметить, что на каком-то их «суде» он, уже после разоблачения Бурцева, еще защищал этого «товарища». Тут в первый раз подумалось, что Савинков не видит, не знает людей…
В эту же зиму впервые выплыло на свет имя Распутина. О его втором, «пролетарском» издании, Щетинине – я расскажу дальше.
Не так давно вошедший в литературу талантливый писатель Ремизов оказался этой зимой в бедственном положении. Когда-то он был секретарем журнала «идеалистов», жил с женой (большой нашей приятельницей) и новорожденным ребенком в редакции… Но теперь был в нужде, и мы вздумали устроить для него частный вечер. Д. С. обратился к верному другу – очаровательной баронессе Икскуль, – и, с ее содействием, был устроен единственный в своем роде вечер, в ее собственном особняке (уж не у Аларчина Моста, а в белом двухэтажном доме, прямо против Кирочной, в двух шагах от нас). Состоялся он 14 декабря. В уютном зале – что-то вроде сцены, с раздвижным занавесом. Известные тогда артисты разыграли два действия (или две картины) из драмы Д. С. «Павел I». Прошло с интересом, даже внешне, – костюмы были того времени. Павла играл Озаровский, Елизавету с арфой, кажется, его жена. Кто играл Палена – не помню, но все были на своих местах.
Во 2-м отделении читал что-то Ремизов (он хороший чтец) и я, свое стихотворение «14 декабря» (первое из трех):
Смотрите, первенцы свободы, – Мороз на берегах Невы!Публика была самая пышная. Между прочим – Шаляпин. Писательница Мария Крестовская, тогда уже смертельно больная, трогательно умоляла его спеть. Но он, конечно, отказал. Даже резко. Суров был на этот счет.
Вечер имел и большой материальный успех. А вот наша жизнь пошла неудачно. После трехлетней отвычки от Петербурга Д. С. и меня стали преследовать гриппы. После одного, очень сильного, у Д. С. начались перебои сердца. И очень уж он заработался, утомился, а тут еще и начинал свой роман «Александр I». Начинать же большую работу, – говорил он, – особенно трудно. Да и все мы, сказать по правде, к весне как-то отупели и развалились. Решили на лето поехать в Германию и Швейцарию. В Шварцвальд, так как после моря Д. С. любил больше всего лес.
Однако во Фрейбурге, несмотря на конец мая, оказался такой холод, что мы переехали в Лугано. Отдохнуть и тут не пришлось. Получили письмо от Савинкова (он знал, где мы, я с ним переписывалась). Он не то что просил – почти требовал, чтоб мы приехали в Париж, что ему необходимо будто бы о чем-то очень важном с нами говорить. Это было неприятно, я видела, как утомлен, до нездоровья, Д. С., как ему нужны отдых и спокойствие, хотя бы в течение нескольких недель. Но после наших парижских разговоров, после всего, что писал Д. С., тут было что-то вроде долга. Д. Ф., я видела, считает это именно долгом Д. С., и что если он не поедет («ради своих удобств»), долга не исполнит, то Д. Ф., всегда «лояльный» сам и требующий того же от других, затаит вражду к Д. С., от которого он требовал особенно много. Я уже говорила об этой его требовательности к Д. С. Считала ее неправильной и неправедной (она доказывает высокое мнение о человеке, но не всегда любовь), – однако я старалась устранять предлоги и случаи для суда над Д. С., а потому высказалась за поездку в Париж. Мы ехали через всю Швейцарию, а холод был такой, что снег лежал на крыше вагонов.
9
В Hôtel Iéna, где мы остановились, – неделя каждодневных разговоров с Савинковым и Бунаковым. Оказывается, они «сочли долгом возродить боевую организацию» после разоблачения Азефа (она была распущена), чтобы «оправдать бывшее». Старую революцию, – смешанную с провокаторской грязью и ложью!
Было мучительно и бесплодно. Они ждали одобрения, чуть не благословенья Д. С. и, конечно, не могли его получить. Савинков ничего не доказывал, да мало и слушал, только упрямо повторял: «Я чувствую, так надо. Так хорошо».
Растревоженный, сугубо утомленный, Д. С. уехал с нами в Германию – в Гамбург.
И вот – вторая зима в Петербурге, куда мы вернулись, совсем не отдохнув. Этой зимой (1910–1911) в России – крепкий сон, морозы, и мороз реакции, неслыханное торжество виселиц.
Рел.-фил. общество кое-как (с опаской) шло, вокруг образовалось несколько секций, одна – наша, в Народном университете. Во главе – профессор этого университета, А. А. Мейер, новый наш друг, человек очень интересный.
Не касаюсь истории епископа Михаила, создавшего секту «голгофцев». История интересная, но она длинна и рассказана у меня в другой книге.
Наши гриппы на щадили нас и этой зимой. Д. С. плохо поправлялся после каждого. Он казался больным еще с прошлой зимы. После одного гриппа, особенно жестокого, у Д. С. начались уже не перебои, а боли в сердце. Я позвала нашего обычного доктора Ч..[77] Когда моя мать была смертельно больна, он не нашел у нее ничего сердечного. Теперь, боясь, может быть, новой ошибки, он перегнул в другую сторону: объявил мне и самому Д. С., притом весьма неосторожно, что находит органические изменения в сердце, начало склероза, назначил специальное сердечное леченье, с глиной, и т. д., запретил выходить из-за лестницы (3-й этаж без лифта), – а не выходить для Д. С., привыкшего к прогулкам, – это много значило! – словом, совершенно перевернул нашу жизнь.
Д. С. никогда не был мнителен, никогда болезней своих не преувеличивал и на них не жаловался. Но такой серьезный приговор, да еще нарушающий все течение его жизни, – лежать, не работать, не дышать чистым воздухом – все это привело его в тяжелое, нервно-раздраженное состояние духа. Д. Ф. тоже пришел в раздраженье: ему казалось, что Д. С. весь под страхом возможной смерти, а это, по его мнению, опять было недостойно такого человека… Леченье, между тем, не помогало, да и совсем бросить работу Д. С. не мог; а прогулки я предложила заменить прохаживаньем по комнатам, в шубе, при настежь открытых окнах.
От этих ли «прогулок», когда вся квартира наполнялась морозным воздухом, или от чего другого (от всего вместе, может быть) я в марте заболела «обострением» моего легочного процесса, как нашел тот же доктор Ч. Думаю, и тут он преувеличил, хотя, в Париже, французский доктор, к которому послал меня И. Мечников, заявил, что я не могу жить зимой в Париже, а должна ехать в Малагу. Это петербуржанка-то не может жить в Париже! Но доктор был хороший, я часто потом у него бывала, хотя в Малагу не поехала. Кстати, об Илье И. Мечникове, тогда директоре Пастеровского института. Мы в Париже с ним часто виделись, и в институте, и у него. Он был очень приятен своей живостью, верой в человеческое долголетие и даже верой в магическую силу югурты, горшочки которой он тщательно ставил в кабинете и для коллеги, давно больного доктора Ру. Однако Ру на много лет Мечникова пережил, этого еще не старого и полного жизни человека, женатого на молоденькой женщине (что, по его убеждению, тоже способствовало долголетию, как и югурта).
Этой весной я была рада своей болезни и предписанью Ч. – ехать на Ривьеру. Мне казалось, что это будет хорошо для Д. С.: надо прервать кошмар. Нам только жаль было расставаться с сестрами, встретить без них Пасху. Им тоже было неприятно отпускать нас обоих такими больными. Тогда Д. С. предложил им приехать на пасхальные каникулы к нам, где мы ни будем, на юге Франции, иль хоть одной сестре, Татьяне, которую он особенно любил (другая была и больше занята). Определенно ничего не решив, мы уехали. Я знала, что против поездки к нам будет Карташев: с ним у сестры велась постоянная, из-за Д. С. и его идей, борьба.
Мы поселились в прелестной вилле, очень уединенной, между St-Raphael и Канн, в Булурисе. Сад, полный цветов, совершенно райский, спускался прямо к морю, к пляжу, этой же вилле принадлежащему.
Д. С. стало сразу физически гораздо лучше, он мог гулять и работать, хотя настроение еще было подавленное. Он раздражался пустяками, что, в свою очередь, раздражало нашего компаньона, Д. Ф., но я была уже спокойнее, хотя не поправлялась. Я все думала, приедет ли сестра, но в письмах не настаивала, желая дать ей свободу.
И вдруг – телеграмма: «Приедем все трое». Они и приехали, обе сестры с Карташевым, и мы очень хорошо, в цветах, в ласковой природе, встретили Пасху.
На Фоминой они уехали, а мы, когда я немного отдохнула, отправились в Париж. Там мой французский доктор послал Д. С. к сердечному специалисту Vaguez’у. Тот никакого склероза у Д. С. не нашел и всякое специфическое сердечное леченье отменил.
Перед возвращеньем в Россию мы на две недели переехали в маленький пансиончик в St-Germaim. Я надеялась, что Д. С. закончит свой отдых и поправление в тишине, увы – не тут-то было! Внезапно явился, на автомобиле, Савинков. Он уж три раза ездил в Россию и – возвращался цел. Настроение у них было ужасное. Даже в той маленькой организации, которую они наладили, оказался новый провокатор. Опять начались споры, мудрые – но напрасные! – советы Д. С. оставить все, устремиться на медленную работу исканья людей (и себя – в себе…)
Савинков и Бунаков ночевали в нашем пансиончике. Б. уехал в Париж, а С. – в неизвестном направлении.
И вот – мы снова в России. Лето в пьяной Новгородской губернии, большой дом, именье Сменцево. Д. С. усиленно работает над «Александром». Д. Ф. – в именьи матери, Карташева тоже нет, уехал к родным, живущим при каком-то монастыре, около Екатеринбурга. Но к нам приехала Оля Флоренская с мужем. Оля была сестра очень известного в России, умного и жестокого священника Павла Флоренского в Троице-Серг. лавре, – и большой наш друг. Она только что вышла тогда замуж за бывшего лаврского академиста, однокашника и приятеля брата, – Сережу Троицкого. Он не пожелал сделаться священником, а взял место преподавателя в одной из тифлисских гимназий.
Молодожены были у нас среди лета, а в сентябре Троицкого убил кинжалом, в гимназическом коридоре, какой-то великовозрастный ученик-грузин, не выдержавший переэкзаменовки. Убил случайно, просто первого «учителя», которого встретил после провала.
10
Весной 1912 года, когда мы с Д. С. опять были на Ривьере (ему там хорошо работалось) и поселились вдвоем в маленьком отельчике на выезде из Канн, оказалось, совершенно случайно, что так называемая «боевая организация» тут же, совсем недалеко от нас, в неуютной, холодной вилле, в Теуле. Мы это узнали, когда приехал Бунаков с женой. Ее он оставил у нас, сказав, что заедет за ней после, и уехал в Париж. Жену его, Амалию, все любили и баловали. Мы тоже дружили с ней, мы все были, даже Д. С., с ней на «ты». Франтиха, из богатой еврейской семьи в Москве, она была «не партийная», но, конечно, друзей мужа близко знала и в «дела» достаточно была посвящена (никогда о них, впрочем, не говорила). От нас она часто бегала в Теуль просто пешком. По просьбе Савинкова, который скоро к нам явился, были в теульской вилле раза два и мы с Д. С. Он сказал мне после, что ему там не понравилось. Да и мне не понравились люди, окружавшие Савинкова. Все, кроме этой нежной, удивительной Марии Прокофьевой, с ее светлым, каким-то «нездешним» лицом. Уже больная, она куталась в плед. А вокруг, в атмосфере этого «общества», было что-то нелепое и даже… пошлое. Завтра рожденье Бориса (Савинкова), – сказала мне как-то Амалия. Я пойду туда с утра.
– Рожденье? Поздравь его от меня. А что бы ему подарить? Постой, я напишу ему сонет.
Амалия с сонетом отправилась в Теуль, вернулась на другое утро и рассказала:
– Борис, получив твой подарок, бросил всех гостей, карты, заперся у себя, и вот – посылает тебе тоже сонет.
– Какой? Свой? Да он в жизни стихов не писал!
Но Амалия действительно вручила мне сонет, недурной и по всем правилам сонета написанный. Какая способность схватывать новое и без опыта сейчас же делать то же!
– Теперь, Амалия, я напишу ему стихи самого трудного размера – терцины. Посмотрим, что будет!
В сонете у него была ошибка в одной только строке (шестистопный ямб), а в ответных терцинах – уже ни одной! По содержанию они были довольно страшные, все на его же тему: «Душа убита кровью».
Тут вскоре явился Бунаков за Амалией и – с директивой от партии: распустить «боевую организацию», как несвоевременную.
Не знаю, как принял это Савинков. Мы его больше не видели. Приехал из России Д. Ф., и мы, через недолгое время, отправились в Париж.
Там (опять в Iéna) у меня с Д. Ф. возникло соображенье: если мы постоянно возвращаемся и будем, вероятно, возвращаться, – не взять ли нам здесь маленький pied a terre[78], куда мы и приезжали бы весной на несколько недель? Сейчас ехать в Петербург еще рано, успеем, значит, устроиться, взять из склада наши бумаги, книги, убогую мебель, и вернемся вовремя.
Д. С., поглощенный работой, мало участвовал в этом решении, но потом согласился, если это не задержит нашего возвращения в Россию.
Квартирка скоро была найдена, – в Пасси, в новом доме, не очень приятная, мало удобная для троих, зато очень дешевая: я даже решила, что буду платить за нее сама (я тогда хорошо зарабатывала в России). Кстати: после войны цена ее возросла в 14 раз!
Пока мы устраивались, пришло паническое письмо от моей сестры: не возвращайтесь, о Дмитрии идут дурные слухи. Макаров (наш знакомый) арестован за то, что был у Савинкова.
Д. С. очень взволновался, но о невозвращенье не допускал и мысли. Даже настаивал, чтобы ехать скорее. Я тоже. О Д. Ф. и говорить нечего. Однако естественное волненье Д. С. он опять поставил ему на счет боязни отвечать за свои действия и погрузился в мрачность. Впрочем, это настроение имело и физические причины: у Д. Ф. тогда начиналась болезнь печени.
Мы не задержались в Париже. На этот раз все обошлось благополучно. На вокзале в СПБ нас встретили сестры и Оля Флоренская: она провела с нами все лето в именье Подгорном (большой глуши). Кроме нее, долго жил там с нами А. А. Мейер, новый наш друг: очень отвлеченный, умный, бывший соц. – демократ, но потом близкий идеям Д. С. Профессор Народного университета. Очень хорош был он и с сестрами. Кроме них, уже не первое лето жила с нами сестра Вл. Соловьева, Поликсена (поэтесса «Allegro»). Она любила русскую природу, леса, как Д. С., и только осенью уезжала в Феодосию, к своей приятельнице Манассеиной.
В сентябре Д. С. решил ехать со мной на Украину. Роман «Александр I» был кончен, только не переписан. Д. С. свою работу, как бы длинна она ни была, переписывал сам, своей рукой, и только это уже отдавал переписывать на машинке для печати. Переписывать свое он и любил, делал все новые поправки, так что в конце и беловая рукопись делалась похожа на черновую.
За переписку «Александра» он еще не принимался, но уже усиленно готовился к «Декабристам». Для них он и хотел поехать на Украину, которой не знал, – хотя любил поминать, что предок его был «есаул Мережко». На Украине действовала когда-то «южная организация» декабристов. И Д. С., по своему обычаю, желал видеть украинский пейзаж, глотнуть тамошнего воздуха.
Поездка, увы, не состоялась, благодаря тогдашним в Киеве «торжествам», во время которых, в театре, в присутствии Государя, правительственный же агент убил министра Столыпина.
Может быть, отчасти и по этому случаю, зимой 1911–1912 г. репрессии в Петербурге так усилились, что выступать общественно, даже в Р.-ф. обществе было почти невозможно.
Друзья звали нас в Париж, но мы медлили, а когда наконец собрались – никого, кроме Бунакова, не застали. Да и он скоро уехал с заболевшей Амалией в Давос. Возвращаться в Россию нам было рано, и мы вздумали поехать недели на три в По, где еще никогда не были.
Д. Ф. поехал с неохотой. Он уже несколько раз неохотно покидал Петербург. Мы думали, что ему не хочется оставлять старую мать, но он возражал, что она здорова, а что сидеть около нее – не значит ли это ждать ее смерти? Лишь вдолге узналось, и не от него, что она давно больна, – не очень, но так, что конца можно было ждать всегда.
И вот однажды вечером Д. Ф. вошел в наши комнаты отеля (в По) с телеграммой в руках: «Maman apoplexie. Situation grave».[79] Ехать тотчас же он не мог, не было поезда в Париж, где ждал родственник, с которым он должен был сразу отправиться в СПБ. Этот вечер и почти всю ночь, до голубого рассвета, мы провели вместе. Ехать с ним мы не могли. Д. С. сказал, что мы выедем в Париж на другой день, чтобы оттуда сейчас же в Петербург. Нам было очень тяжело, мы знали, что он ее не застанет в живых, а кто лучше нас с Д. С. понимал, что такое смерть матери! И почему-то мы оба чувствовали себя виноватыми перед Д. Ф., но сказать это словами было невозможно, ускользало и от разума, и от слов.
Из Берлина, уже в Париж, Д. Ф. телеграфировал, что мать его скончалась, не приходя в сознанье.
Несчастья нашего путешествия не кончились. В Париже, во-первых, мы задержались, из-за билетов, и только 25 марта, в день Благовещенья и в первый день Пасхи, были на границе, в Вержболове. Уже был подан петербургский поезд, когда к нам подошел жандармский полковник и объявил, что, по телеграмме из Петербурга, велено «изъять» у нас все бумаги и рукописи, какие будут найдены. У меня ничего не было, но у Д. С. весь текст его романа «Александр I». К счастью, жандарм оказался не то добродушным, не то небрежным, и взял только часть рукописи. И даже задержал петербургский поезд, чтобы мы могли продолжать путь.
Легко себе представить, в каком состоянии духа мы приехали в Петербург. Нас встретил Д. Ф., с измученным лицом, окруженный сыщиками (это всегда можно было заметить).
Пошли тяжелые дни. Хлопоты насчет отнятой рукописи, газетчики… Д. С. пошел к дежурному департамента полиции. Тот принял его вежливо, но сказал, что все – по закону. «А что за вами следят, так у вас знакомства…»
Хорошо. Но уж стало не до рукописи, когда вдруг объявили Д. С. по телефону, что он привлекается к суду за «Павла I», он и Пирожков (издатель), суд 16 апреля (т. е. через 10 дней). По 128-й статье: «Дерзостное неуважение к Верх. Власти…» и т. д. Минимум наказанья – год крепости.
Д. С. думал, что суд через 10 дней будет и над ним, но выяснилось, что только над Пирожковым, который уже арестован, дело же Д. С. выделено «за неразысканьем».
Я думаю теперь, что власти с неохотой начали это дело, ибо какое же «неразысканье», когда и телеграмма на границу, и слежка, и сам Д. С. у директора полиции был. Надеялись, может быть, судить издателя, а Мережковский просто, мол, останется за границей, и конец.
Но Д. С. этого-то и не желал. В крепость садиться удовольствия тоже мало, и вот у нас пошла возня: адвокаты, совещанья, баронесса Икскуль…
В результате Д. С. получил разумный совет: тотчас уехать опять в Париж и оттуда телеграфировать прокурору, что он не скрывается и явится к следователю по прибытии. Расчет был в том, чтоб отложить дело до осени. Пирожкова Д. С. взял на поруки, его выпустили.
И через четыре дня после приезда мы отправились в обратный путь, вдвоем с Д. С., конечно. Жалко нам было оставлять Д. Ф. в такое трудное для него время, но он, окруженный родными, от нас как-то отдалился. Был, конечно, против отъезда Д. С. (уклоненье от ответственности), и против меня: я считала, что надо все сделать, чтобы избежать крепости, только не делаться эмигрантом.
В мае мы получили известие, что дело отложено до сентября, и немедленно вернулись в Петербург. Нас ожидали там хлопоты другого рода: домохозяину понадобилась наша квартира, и мы покинули дом Мурузи, в котором прожили с первого года нашей свадьбы. Взяли квартиру первую попавшуюся: очень большую, на Сергиевской, у самой решетки Таврического сада. С моего балкона виден был и соседний Таврический дворец, где помещалась Государственная Дума…
Переезд был нелегок: у Д. С. имелась громадная библиотека (она вся пропала), у Д. Ф. – тоже, своя. Кончив хлопоты, мы переехали в именье «Верино», недалеко от Ямбурга, где очень недурно провели лето. У нас жила опять Поликсена Соловьева, приезжало много народу, приезжал даже поэт Сологуб с женой и с каким-то человеком из синема, – он снял нас всех на фильму. Д. С. усиленно занимался приведением в порядок разрозненного романа (рукопись ему так и не возвратили), а главное – подготовкой к новому – «Декабристам». Относительно процесса, Д. С., хоть и пугали его разные люди, рисуя жестокого обвинителя-прокурора, – не очень тревожился и работал как нельзя лучше.
Помню, получили мы раз записочку от нашей баронессы В. И. Икскуль с предложеньем побывать у нее и увидаться с Григорием Распутиным. О Распутине уже говорили много, со всех сторон. Самые разнообразные люди стремились, любопытствуя, на него взглянуть, даже литераторы старались залучить его к себе. Сестра Карташева видела его где-то, – достаточно о нем рассказывала. Наша баронесса, – ее салона не избегала ни одна новоявленная петербургская звезда, – не могла, конечно, обойти и эту, не рассмотреть ее поближе. Ей это ничем не грозило: поклонницей «пророка» сделаться она не была способна.
Д. С. отнесся к предложению равнодушно. Распутин, лично, его не интересовал. К баронессе он, пожалуй, поехал бы, но я возмутилась и объявила, что никуда на «Гришку» не поеду, и в историческую заслугу себе поставлю потом, что вот могла его лицезреть, – и не пожелала.
Баронесса после только безграмотные записочки «пророка» показывала, – всем известные, – «Милоя Варя…»
11
Дело Д. С. было назначено 18 сентября. Очень помню этот день, хмурый, сырой, серый, как бывают гнилые осенние дни в Петербурге. Д. С. и Д. Ф. ушли в суд раньше (суд был недалеко от нас, по Литейной), а за мной зашел верный, вечный наш приятель, Андреевский, – «адвокат-поэт», как его называли. Он неизменно приятельствовал с нами лет двадцать, и я называла его даже не другом моим, а «подругой» (или себя – его подругой: он поверял мне все свои любовные горести). Он написал, между прочим, замечательную «Книгу о смерти», которую завещал издать только после его собственной смерти. Она и была издана в Берлине, в 20-х годах, его дочерью. Но раньше он читал мне ее по частям. Вот с этим «Сержинькой» и отправились мы в столь ему знакомый Окружной суд, – серый, темный, особенно в этот темный и серый день.
Защищали Д. С. два адвоката. Два – потому, что один, бывший помощник Андреевского, Гольдштейн, был еврей и, естественно, не мог касаться, в защите, той части «Павла I», где речь шла о христианстве и церкви. Имя второго защитника, русского, я не помню. Мы с Андреевским сидели на скамьях для публики, которой было очень мало. О дне суда почти никто не знал. Как странно было видеть «на скамье подсудимых» Д. С. – с жандармом за спиной! Почему говорят: на скамье подсудимых? Она так глубока, что Д. С. и Пирожков сидели в ней… как в ванне.
Дело слушалось без присяжных, а с «сословными представителями» (нам говорили, что это хуже). Я их в полутьме плохо разглядела, а лицо прокурора, считающегося «зверем», мне показалось довольно симпатичным. Он заговорил – и ничего «зверского» в его речи не было. Напротив, проскальзывала «мягкость», hommage[80] «знаменитому» писателю… Защитники Д. С. говорили очень горячо, пирожковский немного мямлил, но ему не много оставалось и прибавить к сказанному. «Последнее слово» Д. С. было кратко и произнесено с большим достоинством. Пирожков от своего отказался. Перерыв. Мы вышли с Андреевским в соседнюю залу.
– Поверьте моей опытности, – говорит он, – их оправдают. Не волнуйтесь.
Но я и не волновалась. Не то, чтобы я верила в оправданье, но на меня нашла спокойная тупость, как всегда, когда остается только ждать в бездействии, того, что уже не в твоей воле. То же бывает, и когда совершилось самое худшее, непоправимое, вне твоей воли лежащее.
Звонок. Председатель что-то читает, что – не могу сразу понять. Но рядом мой Андреевский: «Я вам говорил!»
Обоих оправдали – «за ненахождением состава преступления», и конфискация с книг была снята.
Зиму (1912–1913) мы провели неплохо. Д. С. вплотную занялся декабристами, очень ими восхищался. Уверял, что оправдали его «по случайности», но если б не оправдали – он сел бы в крепость хоть на два года, но эмигрантом, как Минский, ни за что бы не сделался.
В промежутках между главной работой он писал теперь небольшие полемические статьи в газетах, больше в «Русском слове». В «Речи», не совсем ему близкой по направлению, писал реже. У него много было статей о Толстом, после его смерти. Даже говорил, что в его давнишней книге много о Толстом несправедливого, что он потом понял его лучше, и что, может быть, Толстой ему в чем-то ближе Достоевского.
В Р.-ф. обществе мы продолжали принимать живое участие. Вот в этом-то Обществе мы и видели Щетинина-«со учениками», того «старца-пророка» (вовсе не старого, как и Распутин), которого с правом можно назвать вторым – демократическим – изданием Григория. Они оба появились в Петербурге одновременно. Но пока Распутин, благодаря невинности и легковерию одного архимандрита, пролез наверх, до царской семьи включительно, – Щетинин пошел по низам и славу свою стал обретать – все большую – в кругах рабочих. Ему в этих кругах покровительствовал некий «писатель» (или вроде) Бонч-Бруевич, впоследствии близкий друг и приспешник Ленина, живший даже в Кремле в соседней с ним комнате (как бы в одной, ибо вместо дверей между двумя «покоями» было проломленное в стене отверстие). Щетинин одевался, как Распутин, «по-русски», не столь богато, но те же сапоги бутылками, рубаха навыпуск с пояском и т. д. Держался в своем кружке, между мастеровыми, были около и бабы. Однажды кто-то привел прямо к нам одного из «учеников» Щетинина, вот такого мастерового, вместе с женой, в платочке, тоже его «последовательницей». От них мы узнали немало любопытного, кстати, они же принесли две брошюрки – самого будто Щетинина. Вот разница с Распутиным: кроме записочек «Милай Варе», тот ничего не писал. Щетинин же стремился «излагать» свое ученье. Писал ли он сам эти брошюрки или диктовал, но исходили они явно от него, а не от кого-нибудь, мало-мальски грамотного: большей чепухи, абсолютно невразумительной галиматьи и представить невозможно: бред сумасшедшего в горячке. На эти «божественные» брошюрки не стоило обращать вниманья, но кое-какими сведениями, полученными от мастерового и бабы, я воспользовалась для очередной моей статьи в «Русской мысли». Щетининцы о ней прослышали и, будто бы, спрашивали: «Какой это еще на нас лев спущен?» (мой псевдоним был «Лев Пущин»). Сведения у меня имелись не полные. А полные я получила позднее, когда кто-то из Временного правительства принес мне «Дело» Щетинина. Настоящее дело из архивов суда, прошитое шнуром, в синей обложке, с показаниями свидетелей (и свидетельниц). И с портретом Щетинина, – большой фотографией, – где он сидит, окруженный поклонницами, сам в женском платье и шляпке. «Дело» это – нерассказуемый ужас. Хоть и похожи они, как два брата, Щетинин и Распутин, но безобразие и распутство последнего бледнеют перед тем, что выделывал Щетинин в неугасимой, неуемной похоти своей и разврате, граничащей с садизмом. Это, наконец, и довело его до «дела», начатого по жалобе некоторых искалеченных женщин и потерявших терпенье мужей. Но дело «не получило хода». Такие дела, с подкладкой «божественного», в то время заминались. Щетинин только на некоторое время был выслан из Петербурга. Может быть, замолвил за него словечко и Распутин (они знали друг друга). А тот наивный архимандрит, что рекомендовал Царскому Селу Распутина, разгадав его, наконец, и поняв, смело принялся за изобличенья, но не долго: был сослан в дальнюю губернию. Мы этого архимандрита Феофана видали еще в старых Р.-ф. собраниях. Скромный, худой, аскетического вида (и жизни, как говорили), он всегда неодобрительно молчал. Гладкие черные волосы лежали у него как приклеенные.
Весной, после нашей деятельной и рабочей зимы, мы уехали в Париж, а оттуда в Ментону. Уехали вдвоем с Д. С., так как Д. Ф. надо было кончить какие-то семейные дела, а кроме того – он был в очень мрачном настроении. Это скоро объяснилось ухудшением его здоровья: мучительные припадки печени. Узнав об этом в Ментоне, мы с Д. С. решили вызвать его скорее к нам, и он приехал. Первое время припадки продолжались, но затем он стал поправляться, а с поправлением улучшилось и его душевное состояние.
12
В Ментоне тогда жил И. Бунаков с женой (и с кучей ее родственников), а Б. Савинков поселился в Сан-Ремо. С ним, кроме новой жены и нового, новорожденного, сына, оставалась и очень больная, почти умирающая, Мария Прокофьева, «невеста Сазонова», чье «неземное лицо» нам так нравилось. С Бунаковым и его женой, маленькой Амалией, мы постоянно виделись. Намеревались, конечно, поехать и в Сан-Ремо. Теперь, после процесса, Д. С. был особенно беспечен и отнюдь не думал прекращать «знакомства» с опасными друзьями. Да ведь самые опасные были теперь «безработными», а в Бунакове замечалось даже «поправенье»: уверял, что в партии у них идут теперь толки больше о «культурной» работе.
Поехать из французской Ментоны в итальянское Сан-Ремо не составляло никакого труда: стоило взять автомобиль – и через час или полтора мы на месте, в Италии. До первой войны в Европе границ между государствами почти не существовало. Только и была одна настоящая граница – русская.
Амалия после Давоса немного поправилась, но была еще слаба и больше лежала на террасе своей виллы. К ней из Москвы приехала ее мать, – младшую дочку она обожала. Толстая еврейка, – таких своеобразных мы еще не видали, – была известная в тех кругах «Мамася». По-русски не говорила, или так, что понять ее было нельзя. Ее муж, отец Амалии, недавно умерший, был невероятно богат. Правоверный еврей, он звался цадиком, что ли, не знаю, как это у них считается. И «мамася», по традиции их московского дома, каждую пятницу зажигала и здесь, на бунаковской вилле, длинные свечи на косо поставленном столе и бормотала бесконечные молитвы. Мимо проходивший Бунаков только заметил: «Мамаша-то как усердно молится!» Нечего говорить, что у них самих ни от каких еврейских обычаев и следа не оставалось. Бунаков по природе был склонен к христианству, у Амалии Евангелие на ночном столике даже лежало, но когда являлась «мамася» – они старались старуху ничем не оскорблять. Как-то в субботу я была у них. Амалия получила письмо. Хотела разорвать конверт, но вдруг остановилась и протянула письмо мне. При мамаше, тут же сидевшей, это могла сделать только я, послужив на сей раз «шабес-гойкой».
Мамаша ко мне благоволила. По научению Амалии я, встретив ее в субботу, говорила ей: «Гут шабес». Других бесед мы не вели, Д. С. ее даже как-то побаивался и вздрагивал, когда она к нему (бесполезно, ибо непонятно) обращалась.
Б. Савинков скоро приехал к нам, а потом и мы были у него раза два-три на белой вилле «Vera». Странно там как-то чувствовалось: новая его жена, толстый, орущий младенец – и рядом белоснежная комната, постель, где лежит вся белая, воздушная Мария Ал., с уже совсем неземным лицом, нездешними глазами и нежной улыбкой.
Раз мы застали у него Плеханова – того самого видного партийца-меньшевика, о котором я упоминала. Он был такой давнишний эмигрант, что уж и дочери его не знали по-русски, как дочери Герцена (мы одну где-то видели). Он был очень культурен, имел вид европейца и нисколько не походил на революционера. О печальном конце его в России, едва воцарились большевики, я тоже говорила, кажется.
К Бунакову (он был с нами) и Савинкову относился он тогда с чуть заметной, покровительственной насмешливостью. А Савинков волновался, проводил идею (?) соединения двух партий в одну, с сохранением отдельной «боевой организации на суровых моральных началах».
После нескольких свиданий этой весной с Савинковым Д. С. сказал мне как-то:
– Знаешь, Савинков мне кажется более бессознательным, чем я думал. Кроме того – он индивидуалист, и довольно-таки безнадежный. Эти крайние индивидуалисты, не способные даже умом понимать, что такое общность, не видят обычно ничего вокруг себя, видят только свое «я».
Было похоже на правду, но мне еще не хотелось ставить на Савинкове крест. И, хотя я понимала, что Д. С. говорит не об «эгоизме», – хуже, – я пыталась Савинкова защищать.
Вернулись мы в Россию к лету, на дачу, где нас ждали сестры и Оля Флоренская. Дача была, этот год, не очень приятная, в глуши, но мы на ней прожили недолго. Д. Ф. отправился лечить свою печень на кавказские воды, в Ессентуки, а когда курс леченья он кончил, – мы съехались с ним в Кисловодске, где провели, очень хорошо, всю осень.
В Петербурге нас ждала довольно бурная и важная зима (1913–1914). Еще осенью мы виделись со старыми друзьями, – которые друзьями уже не были. С Бердяевым, – далеко на сто верст. С Борей Бугаевым (Андреем Белым), – этот еще дальше. Он, ярый штейнерианец, вернулся в Россию в этом году лишь ненадолго, для лекций Штейнера в Гельсингфорсе. Боря и с виду был другой. Наша старая няня его не узнала: «А неужели это Борис Николаевич? Ни волос, ни зубов…» Он действительно потерял свой золотистый пух на голове, очень к нему в молодости шедший: точно юный желтенький цыпленок.
За столом, вечером, – бесконечные дифирамбы Штейнеру, споры с Д. С. Видели мы тогда впервые и жену Бугаева, которую он тоже посадил к Штейнеру и там бросил, когда, через два года, бросил, с проклятиями, и Штейнера.
Д. С. кончал в это время «14 декабря» и подготовлялся к другой большой работе.
С Розановым в эту зиму мы совсем разошлись. Он, как всегда, писал в «Новом времени», но одновременно стал писать статьи в «Русском слове» под прозрачным псевдонимом «Варварин», притом довольно противные. Статья Д. С. «Свинья-матушка» была ответом на розановскую, где он так называл Россию и русского человека, – без лести… однако она кончалась:
Но и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне…Вот это Д. С. понимал, а не грубую розановскую брань. Даже Струве, в «Русской мысли», обличал Розанова, печатая рядом выдержки из статей его, которые друг друга уничтожали.
Когда же началось дело Бейлиса (известное обвинение какого-то неимущего еврея, что он будто бы содействовал убийству маленького Ющинского, чтобы евреи, по своему обряду, могли выпить его кровь), Розанов принялся писать в «Земщине», самой черной, всеми презираемой газетке. Редакторы «Земщины», конечно, обрадовались, заполучив такого сотрудника. Но, по совершенной своей ископаемости и примитивной грубости, не понимали, что Розанов по существу пишет за евреев, а вовсе не против них, защищает Бейлиса – с еврейской точки зрения. Положим, такая защита, такое «за» было тогда, в реальности, хуже всяких «против». Недаром даже «Новое время» этих статей не хотело печатать. Да и не одним «архаровцам» из «Земщины» было трудно понять Розанова: он имел способность говорить интимно об отвлеченном, что делало его теории убедительными для тех, кто могли их принять, и легко обманывало других, которым и не нужно знать их. Однако все это создавало отвратительную около Розанова атмосферу, и нам пришлось подумать о публичном исключении Розанова из Р.-Ф. Общества, где он состоял, по старой памяти, членом-учредителем, хотя почти никогда туда не ходил.
– Не уверяла ли ты сама, – говорил мне Д. С., – что к Розанову обычные мерки неприложимы, что он – особое «явление»? Какой человек мог бы так публично распахиваться, как он в своих последних книгах, в «Уединенном» и «Опавших листьях»? И разве не искренне объявил он: «А нравственность, – не знаю даже, через ђ или через е это слово пишется?» Как же его судить?
Я резонно возразила, что его и не судят, но раз он действует в Обществе, где люди живут и действуют по иным правилам, т. е. идет «в монастырь со своим уставом», то его, не судя, просто отвергают. «Да ты не думай, – прибавила я, – что ему исключение? ему все равно!» И грандиозное заседание, где Розанова исключили, состоялось. Были у него и защитники, к удивлению – тот же Струве, который его обличал в «двурушничестве». Карташев, председатель, неожиданно взвился против Розанова, доказывая его антиобщественность.
Вообще зима эта была очень бурная и очень странная: как будто что-то висело в воздухе над всеми и над каждым, какие-то «страхи и ужасы» (по Гоголю), совершенно неопределенные. Люди спешили и метались, не понимая, зачем, и что с ними делается. Блок ходил с трагическим лицом, а когда я его спрашивала, в чем дело, – отвечал, что это «несказанно». Посвятил только мне одно из лучших своих стихотворений: «Мы – дети страшных лет России…» Д. С. спасался работой, но к весне он первый стал стремиться уехать, и мы, на этот раз сразу втроем, уехали сначала в Париж, потом снова в Ментону.
Там еще жили Бунаковы, а Савинкова в Сан-Ремо не было. Мария Ал. прошлым летом умерла, и он с семьей переехал в Ниццу. В этот наш приезд на Ривьеру (весной 14-го года) мы его почти не видали. Бунаков рассказывал, что он все время пишет стихи, очень мрачного содержанья, и сам находится в состоянии духа не менее мрачном.
Кстати о Марии Алексеевне: летом, не прошлым, когда она умерла, а позапрошлым, после того, как мы ее видели в последний раз на вилле Vera, к нам на дачу под Петербургом приехал ее отец. В картузе, в синем полукафтанчике каком-то, как мещане одеваются, да он и был мещанин-волжанин, не помню из какого города. Лицо самое простецкое, русское, и говор такой же. Оказывается, был у нее, сразу увидал, что «не жилица», и стал думать, как бы ее в родной земле схоронить, когда «придет час». Нас все удивило: и как он в Сан-Ремо добрался, и эта мечта (неисполнимая, конечно) тело «домой» перевезти, и, главное, что у такого – вдруг такая Марья Алексеевна! Д. С., впрочем, последнему не удивлялся: уверял, что из народа, с Волги, выходят вот эти удивительные девушки, крепкие характером и сильные душой. Прокофьева к нам, очевидно, Савинков направил, но о Савинкове он ничего не говорил.
Возвращаюсь к весне 14-го года. Д. С. в Ментоне и на этот раз хорошо отдохнул, но вдруг, раньше обыкновенного, стал стремиться в Россию. И мы, по его требованью поспешно собравшись, уехали в Париж, а завтра тотчас же в Петербург.
Париж.
19 января 1944 г.
Часть III. Весна 1914 г
1
Никогда не было у нас такого тяжелого и мрачного возвращения из Парижа, как этой весной. Из-за Д. С., который вдруг стал стремиться в Россию и погрузился в самое неприятное состояние духа. Главное, без всякой причины. Он был здоров, в Ментоне мы жили почти весело, он хорошо работал – и вдруг… Если б это было в прошлом году, 13-м, когда в Париже почему-то ждали войны и мы уж подумывали поскорее домой, – было бы понятно. А этой весной Париж о всякой войне и думать забыл, прошлогодние слухи совсем замерли.
Д. С., между тем, ехал в Россию в таком неприятном настроении, в такой тоске, что всю дорогу с нами даже не разговаривал. Может быть, у него было какое-то предчувствие, – вне сознания, как все предчувствия, – что это его последнее возвращение в Россию… (это было последнее возвращение и Д. Ф., да, без сомнения, и мое; но мы этого не почувствовали, как Д. С.).
Переехав границу, после Вержболова, он немножко повеселел. Увидев какого-то человека на полустанке – обрадовался «первому русскому человеку». Но мы засмеялись (да и Д. С., приглядевшись, тоже). Этот первый «русский» – был старый еврей с пейсами, в длинном лапсердаке.
В Петербурге сестры, хотя и не ждали нас так рано, уже приглядели дачу около Сиверской, и невдалеке – другую, потому что, как они мне с радостью сообщали, наша двоюродная сестра хотела провести лето с нами и приедет с детьми.
Дача наша оказалась недурной, просторной. Мы с Д. С. поместились наверху, внизу – сестры и ожидаемая, как всегда, Поликсена Соловьева. Пока она еще была, с Манассеиной, за границей, где-то на водах.
Настроение Д. С., хотя было не такое, как в дороге, но все же непривычно-угрюмое. Впрочем, он с головой ушел в работу, в «14 декабря», – роман был уже при конце, – и я надеялась, что с удачным концом все пройдет.
Я, кажется, ничего серьезного в то лето не писала, гуляла с Соней и сестрами, по вечерам слушала главы «Декабристов». Д. Ф. жил все время с нами, они, с моей младшей сестрой, увлекались кодаками, проявляли и печатали фотографии. Все шло как будто тихо и мирно. Мы удивлялись только, что о Поликсене – ни слуху ни духу. Ведь был уж июль. И вдруг…
Конечно, не вдруг, а были же какие-нибудь предвестия, но мы-то на них не обращали внимания.
Мобилизация! Застаю в нашем саду Соню в разговоре с мужиком, который, махая руками, на что-то жалуется. Кажется, насчет лошадей – лошадей забирают. Но мужик еще плохо понимает, в чем дело. Соня понимает. Мужик отошел. Соня обернулась, махнула рукой:
– Ну, словом, беда!
Все решилось в несколько дней, после выстрела Принципа, конечно.
Мои сестры уехали незадолго до этого в Петербург, должны были вернуться с Карташевым, с Мейером, еще с кем-то. И вдруг является одна, старшая.
– А где же другие?
– Я за вами с Дмитрием и за Димой. Война. Надо быть всем вместе. Патриотический подъем, процессии с флагами…
Тут-то и решилось наше с Д. С. отношение к войне. Оба мы давно всякой войне сказали принципиально: «нет». А эта столь бессмысленная и страшная для России при ее разлагающемся и разлагающем правительстве… Наивность сестры, поверившей в явно подстроенные, патриотические манифестации, удивила нас, как раньше удивляли, приводили в недоумение, петербургские беспорядки в эти последние перед войной дни. Кто-то (будто бы рабочие) останавливали трамваи, валили вагоны наземь, делали из них баррикады… Да в чем дело? Никаких требований никто не предъявлял, никаких лозунгов не было… Да что они, против французских гостей, что ли? (Известно, что в эти дни как раз приезжала в Петербург пышная французская делегация, с Poincaré во главе.) Это уж было верхом бессмыслицы. Беспорядки так и не объяснились.
Я и Д. С., конечно, в Петербург тогда не поехали. Но оставаться долго в деревне, хотя и не далекой от города, но глухой, становилось все труднее. Кузен Вася, депутат, явился за своей семьей. Явился в полном расстройстве и больной. Сонин муж вызывал ее домой, в Одессу, и она со всеми своими детьми и старой теткой тоже уехала – пока в Петербург, к брату. Мы, однако, досидели на даче до того, что по железной дороге ехать было уже невозможно, так она была забита мобилизованными. Пришлось вызвать из города автомобиль, на котором мы, вчетвером, с Д. Ф. и с сестрой, – она тогда в СПБ не вернулась, – отправились домой.
Дорога эта мне запомнилась, во-первых, тем, что была ужасна (русские дороги не похожи на «автострады», да тогда автомобили по ним и не ездили), а во-вторых – косяками встречных зеленых лошадей, причем лошади эти дико нашего автомобиля пугались. Зачем с такой усердной быстротой выкрасили их в зеленый цвет, – понять было трудно.
2
Здесь я прекращаю связный рассказ о годах войны в Петербурге. Потому что c 1 (14) августа 1914 г. я начала последовательную запись этих годов, где о жизни нашей с Д. С., о нашем окружении, о жизни петербургской интеллигенции рассказано все с такими подробностями, какие я не могла бы теперь восстановить, да и не нужно: этот петербургский дневник (синяя книга) существует: он издан в 1927 или 28 году в Белграде, по-русски, а в данное время готовится к выходу на французском языке.
Итак – война. Фронт далеко, и внешне в Петербурге она почти так же мало чувствуется, как прежде японская. Петербург не изменил своей физиономии, переполнены театры и рестораны, такое же движение на улицах, только на фонарях зачем-то налепили синенькие колпачки, да под нашими окнами новобранцы посреди улицы прокалывают штыками соломенные чучела. Писатели пописывают о войне; на моих «воскресеньях» молодых поэтов все почти тоже записали о войне, надрываясь в патриотизме. И старые туда же: Сологуб сразу объявил: «Громки будут великие дела!» Куприн решил, что немцы – «гидра», которую нужно «доконать». Во всяких «обществах» доклады тоже все о войне и о «доконанье» неприятеля. О Карташеве говорить нечего: сразу влип в войну и завился патриотом. Мне пришлось делать доклад в нашем Р.-ф. обществе, где я доказывала, что всякая война – сниженье с общечеловеческого уровня. Мне два вечера возражали, что нечего теперь ходить по «воздушным ступеням», а Карташев прямо объявил, что войну надо принимать религиозно… по казенному, словом, трафарету. Левая интеллигенция сходилась, расходилась, бурлила, бесплодно и яростно спорила. Умеренные в Думе, которую то собирали, то распускали, выкинули лозунг: «Все для войны!» и сблокировались с правыми. Министры летели, как осенние листья с дерев, по манию Распутина. По его же манию назначались новые: «Этот будет ладен». Но и «ладный» летел, если Гришка начинал подозревать его в покушении на его персону. Так, свою же креатуру, Хвостова он, очень скоро сменив, не иначе называл, как «убивцем». Любил, среди разливанного моря своих попоек пророчествовать о войне, что она, мол, кончится, когда наши корабли подойдут к Вене.
Нам с Д. С., с нашим острым ощущением войны-несчастья, все вокруг кажется сумасшедшим домом, а то, что делается беспечно, как будто этого «несчастья» нет, – фата-морганой, чем-то неважным до призрачности. Премьера моей пьесы на Александрийской сцене с Савиной и Мейерхольдом… Позднее – пьеса «Романтики» Д. С. там же. Молодые поэты со своими стихами днем… «Седые и лысые» – вечером с какими-то планами созданья новой «радикальной» партии… Горький тут же, проект какого-то Англо-русского общества. Подъем православного патриотизма. В Москве… (Булгаков и др.). Дума, которую то собирают, то разгоняют, и она покорно разгоняется, прокричав «ура»…
Поражения на войне… Царь, по настоянью Распутина и царицы, делается главнокомандующим и каждую минуту из Ставки мчится в Царское, к Распутину… Еще бы Распутину не настаивать на отставке первого главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, когда тот, на запрос Григория, не может ли он приехать в Ставку, ответил кратко: «Приезжай, повешу». Зима 15–16 года «впятеро тяжелее и дороже прошлой». Но интеллигенция как-то осела, примолкла, точно правительство и впрямь достигло желанного «успокоения». Но в воздухе чувствовалась особенная тяжесть, какая-то «чреватость». У нас бывало много народа, чаще всего бывал Керенский. Мы его знали давно. Он принадлежал к той же партии революционеров-народников (с. р.), как наши заграничные друзья Бунаков, Савинков и др. С ними он знаком не был. Но в этом, 16-м, году Д. Ф. отправился в департамент полиции, чтобы добиться разрешения легально приехать в Россию жене Бунакова, маленькой нашей приятельнице – Амалии. (Нелегально – она была здесь раньше несколько раз.) Доказывал, что ведь она не партийная! Добился, и Амалия приехала. Была в Москве, потом даже съездила в Сибирь, к «друзьям» на каторге, потом жила у нас в Петербурге, перед опасным морским возвращеньем в Париж. Отправляясь с ней утром на генеральную репетицию моей пьесы, мы встретили у нашего подъезда Керенского, идущего из Думы. Взяли его с собой – тогда он и познакомился с энергичной маленькой женщиной, женой Бунакова.
В Керенском было много привлекательного. С виду он напоминал немножко Пьеро, со своими волосами торчком, с большим носом и смешным, выразительным лицом. Главное – в нем была какая-то мальчишеская живость, скорость движений и – кажется, обманчивая – решительность. Но была в нем, увы, и женская истеричность. В его «мальчишестве» мы не ошибались, но оно было особого рода: такое, с каким родятся – и умирают. А в иное время, пожалуй, лучше родиться 44-летним, как родился и умер Чехов, нежели до смерти и при всех обстоятельствах не иметь больше 16–17 лет. Но о Керенском достаточно сказано в моем дневнике, да и в эмиграции еще придется к нему вернуться, а потому продолжу мой «конспект» военных годов.
Работа и зима 15–16 года так утомили Д. С., что Д. В. предложил мне поехать на весну и начало лета в Кисловодск. Мы туда все трое и отправились. Поздней весной приезжали к нам мои сестры, а мы вернулись только в июне, жарким летом. И тотчас уехали на дачу, самую, кажется, неприятную из всех. По Северной дороге, среди болот, с темно-желтой, ржавой водой в речке и противным, хулиганским населением вокруг. Впрочем, во время войны деревенское хулиганство стало повсюду расцветать.
Осенью нас втретил в СПБ еще более грозный общий штиль. Притайность какая-то. И на этом фоне разыгрывалась последняя, яркая и уже неприличная правительственная трагикомедия с Распутиным и его конечной креатурой – полусумасшедшим «блаженным» премьером Протопоповым. Писать нигде ничего было нельзя. Атмосфера удушья. И в декабре (16-го) мы с Д. С. опять уехали в Кисловодск. Д.Ф. остался в СПБ: он был нездоров. На Рождество к нам снова приехали сестры. Зима была суровая, весь Кисловодск в сугробах, но дышалось легче вдали от бреда. Дворцовое убийство Распутина как-то мало нас поразило. Чувствовалось, что это ничему не поможет, ничего не выяснит и не повернет. Дело в том, что в данное время уже все мы знали, все, кроме тех, кто знать этого не желал (или вообще ни о чем не думал), что война не может так ни кончиться, ни продолжаться, что должно что-то случиться, – но что? Переворот? Революция? Крах? Революция во время войны – как сметь ее желать? Ведь она может обернуться именно крахом, и не военным – не об этом мы думали, – но обратиться в чудовище, в самый страшный хаос без имени, – об этом в 16-м году так много написано в моем дневнике: «Будет… Но будет ли это она, революция, или оно? (чудовище с неизвестным именем)». К такому вопросу я постоянно возвращалась.
3
Мы приехали в СПБ из Кисловодска только 25 января (1917). Застали Д. Ф. совсем разболевшегося, на дворе и морозы и сугробы снега. Зима по всей России была исключительно снежная и суровая.
14 февраля разрешено было, наконец, открыть Думу. Поползли слухи, что рабочие пойдут к Думе чего-то требовать. Слухам никто не верил, и действительно, ничего в этот день не случилось. 21 февраля моя запись начинается: «Сегодня беспорядки…» 23-го: «Однако беспорядки не утихают…» И, наконец, в день 27 февраля, понедельник, запись ведется, начиная с 12 ч. дня, каждые полчаса – до поздней ночи. Это был день, когда революция восторжествовала, решилась бесповоротно. Ясно, что рассказывать своими словами ее течение, такое сложное, нельзя. Выписывать все из Дневника – бесполезно, а у меня и книги моей сейчас нет. Остается отмечать общее, главное, по памяти и кратчайшим образом.
День 1 марта (все по старому стилю) был, собственно, последний день революционной радости: той, что сияла на лице каждой встречной глупой бабы, почти не умеющей читать. Недаром одна, увидев плакат «Долой монархию!», прочла: «монахиню». «Давно бы их, монахов, по шапке!», и беззлобно радовалась, сама не зная, почему. Такой был подъем, такая общая атмосфера.
У нас с утра – куча народу: студенты-солдаты, студенты-офицеры, высаженные «народом» из автомобилей журналисты, старые знакомые, годами не виданные (Туган-Барановский, например, с маленьким сыном), вплоть до брата Сергея, седого, больного, приведенного своей сиделкой (мы тут видели его в последний раз). Да всех не перечтешь! Мы вместе вышли на улицу, к таврической решетке в толпу. И в толпе все почти знакомые, да и незнакомые улыбались нам, как друзьям. Погода была удивительная: легкий мороз и нежная солнечная метель. Такие бывают летние дожди под солнцем. Снежинки, падая, отливали радугой.
Не помню, сколько времени ходили мы под этой белоперистой пургой, пока вернулись домой завтракать – в еще большей компании.
День этот прошел. О последующих, о всей сложности и нарастании разнообразных как будто событий, не одна же моя, думаю, есть современная запись. Но думаю тоже, что во всякой, самой оптимистичной, если она правдива, есть, как в моей, вот это ощущенье, что перед нами еще неизвестность, что Россия очень, очень больна, опасно больна, кризис еще не пережит… И я, как многие, повторяла: хочу, хочу верить, что все будет хорошо… И каждый день, с каждым новым, даже мелким событием, действием людей, вера убывала, пока не исчезла совсем. Это незаметно, пока записываешь все, даже мелочи, а когда они соберутся в букет – видно, как ядовит этот букет.
Общее известно: «Совет рабочих и солдатских депутатов заседает в Думе», а рядом – думский Комитет, выбравший, с громадными потугами, Временное правительство. Первый – многотысячная, ревущая толпа, второй – Родзянко, бывший председатель Думы, хлопающий себя по бедрам перед французскими делегатами Doumergue и Мильераном: «Voila messieurs, nous sommes en pleine révolution!».[81] Тут же французский посланник Палеолог, звонящий своему attaché[82], нашему другу, что он «ничего не понимает», и просящий свиданья «с какими-нибудь влиятельными русскими думцами».
Говорили – «двоевластие», но власть была у Советов. Правители не успели, задумались, не решились, не посмели подобрать ее, когда она валялась на улице. А она действительно валялась, потому что никакой серьезной борьбы у царского правительства с начавшейся революцией не было. Интеллигенты, болтавшиеся и болтающие до хрипоты в Совете, шли у него на поводу, или беспомощно, или – самые подозрительные – делали вид, что идут, будучи себе на уме. Керенский (часто к нам забегавший) поступил, казалось нам, не глупо: будучи в Совете, вошел и в правительство, причем сумел убедить Совет, который было зарычал на него, что это хорошо, что так нужно. Да и действительно: в новом «революционном» русском правительстве не было ни одного революционера! Только один Керенский, когда он туда вошел.
Вообще он тогда действовал как будто с нашего, интеллигентского, не большевистского, берега. (Было именно два берега.)
И его, как нас, раздражало дурацкое поведение Горького со своим большевизанским окружением, вернее – свитой. Горький, на каком-то реквизированном великолепном автомобиле с этой своей свитой разъезжал, стряпая «эстетический Комитет». Случайно попавшие в него безобидные люди, вроде Батюшкова и Бенуа, вырывались оттуда, как с банного полка, ничего не понимая. Помню, как Д. С., долго слушая чьи-то об этом рассказы, вдруг закричал: «Да выжечь весь такой эстетизм!»
Надо сказать, что Д. С. изо всех нас, по крайней мере изо всего нашего окруженья (а нас тогда окружало неисчислимое количество всякого народа, очень разнообразного), оказался самым прозорливым. Еще в марте, когда у многих не погасла первая радость, он объявил: «Нашу судьбу будет решать Ленин». И так упорно к этому Ленину возвращался (а Ленина еще и в СПБ не было), что я, смеясь, вспомнила тургеневский «Бежин луг», таинственного «Тришку», прихода которого там все боялись, и стала называть Ленина «Дмитриевым Тришкой». Когда он, с братией, в запломбированном вагоне (или поезде) в Россию был доставлен, я так и отметила: «Приехал, наконец, этот Тришка-Ленин. А какая была и встреча! С криками, с прожекторами! Не то что бедненькому меньшевику Плеханову».
И все-таки я еще не понимала, как прав Д. С., хотя уж было однажды: поздний звонок Керенского ко мне, – просьба, чтобы кто-нибудь из нас троих пришел к нему утром в его министерский кабинет, что ему нужно посоветоваться…
Пошел Д. С., я осталась дома (жалела после). По рассказу Д. С. – свиданье выходило нелепое. Дело шло о правительственной декларации насчет войны, Совет уже выпустил свою, а правительство даже не промямлило ничего. Д. С. рассказывал: «Я его пугал Лениным, – ведь он на носу! Приедет, повернет Совет, куда хочет, вот тогда вы, правительство, запоете! Что ж, что вы тоже и в Совете. С Лениным вы там не справитесь. Керенский меня уверял, что сам Ленин боится, бегал без толку из угла в угол по комнате… Нелепость какая-то!»
«Декларация» потом вышла, но такая же смутная и робкая, как все «действия» тогдашнего, будто бы революционного, правительства.
Я все-таки не хотела еще поддаваться пессимизму, пророчествам нашей «Кассандры» (Д. С.) и заставляла себя верить Керенскому. Мне только страшно было, что он там один. А уж остальные… В моем Дневнике перечислены имена первого кабинета Временного правительства. Особенно ядовитым (лишь по глупости) оказался в дальнейшем Львов, назначенный (или выбранный) обер-прокурором Синода. Но роковая с ним история вышла позднее, когда он был уже в отставке, а обер-прокурором Синода (или как министром религии? Начальником Церкви?) был никто иной, как Карташев.
Итак, Керенский, какой ни на есть, все-таки один. Но вот приедут эмигранты, наши парижские друзья, может быть, они…
Между тем Д. Ф. так разболелся, что его необходимо было увезти. И в тот самый день, когда должны были приехать Бунаковы, Савинков и еще кто-то, мы трое уехали в Кисловодск, предоставив, на первое время, нашу квартиру Бунакову с женой. Савинков должен был жить у своего приятеля Макарова, теперь коммисара по охранению дворцов, или что-то вроде.
Жить на Кавказе было довольно тяжело. Издали все казалось мутнее и страшнее. Помнится – встречались мы там с генералом Рузским, с офицерами… Д. С. читал какую-то лекцию о революции и о Петре I… Хаос там явно нарастал. Д. С. волновался, мечтал о Петербурге… Наконец, 3 или 4 августа (Д. Ф. тогда уже поправился) мы выехали домой. О первом большевистском выступлении в июле мы знали только из писем друзей. Я часто писала Савинкову в это время, ответы его не были особенно ясны, но, кажется, он сделался помощником Керенского.
Можно себе представить, с каким трудом мы добрались до Петербурга. С разрывом поезда, так что Д. Ф., в другом вагоне, приехал раньше нас, с кучей других приключений.
И первое впечатление – страшный, невиданный еще, Петербург. Черный, грязный, усыпанный шелухой подсолнухов, с шатающимися бандами расхлястанных солдат… Было чего испугаться.
В первый же вечер приехал к нам Савинков, – и так все вечера, пока мы оставались в городе. Впрочем, мы все это время, с середины августа до середины сентября, кажется, то уезжали на несколько дней – в близкое, старое именье Витгенштейна, где жили мои сестры, то возвращались опять, так что у меня осталось впечатление, что мы жили в Петербурге и – в курсе революции.
Савинков сразу нарисовал положение: очень острое. Не говоря о военных потерях – внутренний развал экономический и политический – полный. Действовать надо немедля, это минуты последние, но… Керенского точно подменили, он – боится. По словам и других, с июля, с тех пор, как почти все правительство прежнее ушло, Керенский сделался премьером и какое-то состряпалось «коалиционное правительство» (отчасти из отбросов партии Бунакова и Керенского, как Чернов, о котором и Бунаков иначе не говорил, как о негодяе) – Керенский неузнаваем и – мы увидели это ясно – губит Россию.
Комбинация, которую предложил ему Савинков (с ген. Корниловым) была (я и теперь так думаю) – единственной и последней попыткой, создав твердую власть, удержать страну на краю провала. У меня подробно рассказаны все перипетии усилий Савинкова и Корнилова убедить Керенского ввести военное положение, создать хоть какой-нибудь minimum огражденья от развала всего и всех. Корнилов представил ему, по этому поводу, записку, которую Савинков нам читал. Керенский вихлялся, как трехколесная телега, трусил, что Савинков его убьет(!) – но этого всего я не могу рассказать здесь.
И не один Керенский был в истерике. Что говорил тот же Бунаков! Я отвечаю за верность выписок, – и опять начинаю не верить, что это могло быть.
Партия эсэров, благодаря тому, может быть, что к ней принадлежал премьер (Керенский), подняла голову, вся целиком, захватила истерически-трусливого Керенского в свои руки и думала только о своем торжестве на проблематическом «Учредительном собрании». А что такое была эта партия – послушаем давно известного нам члена центрального комитета И. Бунакова.
«Чернов, – говорил он, – бесчестный негодяй, мы за границей руки ему не подавали, но… я сижу с ним теперь рядом в Центр. Ком. и партия ультимативно отстаивает его в Правительстве. Громадное большинство в Ц. К. или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский – форменный провокатор, но мы его оправдали. Я знаю, у нас многие просто немецкие агенты, получающие большие деньги. Но я молчу. Я стою за Россию, но и дал свое имя максималистской, интернациональной газете. Меня тянет уйти… Но вот Плеханов откололся, ушел из партии. Чистка ее невозможна, кому чистить, когда все такие? Чернов негодяй, но он может 13 речей в один день произнести!»
Это еще не все. Д. С. ужасно кричал на Бунакова, – к чему? Все бред, бред… Или и мы в бреду? Подчеркиваю, что все, что тогда говорил и делал Савинков, было разумно и верно. Но не буду больше останавливаться на повторении моей записи, на кратких неделях, отделявших «дело Корнилова» (предательство Керенского) от 25 октября. Смольный институт давно был центром, как и балкон дворца Кшесинской, откуда Ленин произносил речи. Керенский говорил (даже мне здесь, в эмиграции), что Ленин и Троцкий подлежали аресту еще с июля, но он не знал их адреса (!!). Они, между тем, и не скрывались, все знали, где они.
Вот холодная, черная ночь 24–25 октября. Я и Д. С., закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца, где сидят «министры». Те, конечно, кто не успел улизнуть. Все эсеры, начиная с Керенского, скрылись. Иные заранее хорошо спрятались. Остальных, когда обстрел (и вся эта позорная битва) кончилась, повели пешком, по грязи, в крепость, где уже сидели арестованные Керенским, непригодные большевикам или им мешавшие люди.
На другой день, – черный, темный, – мы вышли с Д. С. на улицу. Как скользко, студено, черно… Подушка навалилась – на город? На Россию?
Хуже…
4
Достаточно было раз написать об этих противных днях, чтобы еще снова, по памяти… Вот о свиданье с Горьким, когда жены заключенных министров просили его похлопотать… нет, попросить о них своих друзей большевиков.
– Ведь вы же приятель с Лениным…
Горький пролаял:
– Я… с этими мерзавцами… и разговаривать не хочу.
На эту бутаду я, не обратив вниманья, стала его стыдить, что он «с ними», говорила, что ему надо «уйти».
Он опять пролаял:
– А если уйти… с кем быть?..
Тут уж закричал, прямо закричал Д. С.:
– Да с Россией быть, с Россией!
Но разве Горький понимал что-нибудь – когда-нибудь?
* * *
Наш «революционный министр» (исповеданий) Карташев тоже сидел в крепости. Сестры мои посылали ему необходимое через одного общего знакомого, доктора, единственного доктора, которого допускали в крепость большевики, – потому что он был давнишний друг Горького и, в далекой юности (о, не теперь!), «ходил в большевиках», по его выражению. Этот доктор посещал всех заключенных, говорил нам о них (мы видели его каждый день, жил очень близко), рассказывал, что там неспокойно, иногда врываются солдаты, вытаскивают у заключенных подушки, вообще ведут себя опасно. Лучше бы кой-кого из арестованных перевести в другие места…
Еще были старые газеты (их часто, впрочем, жгли кучами на улицах) – большевики реквизировали прежде всего банки. И действовали они, поначалу, так: протянут лапу, пощупают: можно? и захватят.
Играли, между прочим, и на Учредительном собрании: они, мол, одни только его соберут, а эти социал-предатели, Керенские, обманывают. Между тем выборы уже были закончены, партия эсеров торжествовала, хвасталась громадным большинством еще летом. Пока же – все это «большинство», все центральные комитеты, преловко спрятались. Бунаков с женой еще до 25 октября уехал в Крым, комиссаром Черноморского флота. То, что он там видел, – его, однако, не умудрило…
Толпы солдат продолжали ходить по улицам, часа два серым, 22 часа – черным: ведь дни ноябрьские, декабрьские! Грабежи, битье винных погребов, – хозяева! «Народ!» Особенно матросы – каждый ходил гоголем: это они Зимний дворец обстреливали, с крейсера «Авроры», – самого «революционного» из крейсеров на свете!
Большевикам Учредительное было не нужно. Ведь написали же они на плакате «Царствию нашему не будет конца!». Но и вреда это собранье принести им не могло, опасности никакой от него не предвиделось. И они, с проволочкой, но его назначили (для дураков это лучше).
И тут же, перед Рождеством, стали появляться, там и сям, спрятавшиеся недавние хозяева положенья, выбранные в Собранье эсэры. Вернулся Бунаков. Но теперь и он, как другие его «товарищи» по партии, уже по улицам с торжеством не разгуливал, выходил только затемно, подняв воротник. С гораздо большей опаской, чем в царское время, когда они приезжали в Россию нелегально.
Борис Савинков исчез из Петербурга в самую, кажется, ночь на 25 октября, или накануне. Потому что в эту ночь звонил ко мне Макаров (у которого он жил) и спрашивал, не у нас ли Савинков, – «нигде не могу его найти». (Мы потом узнали, что он уехал на юг, где уже зарождалась борьба добровольцев. Арестованный Корнилов из тюрьмы в ставке убежал. Духонин был там зверски убит.)
Я тогда не могла найти психологического объяснения ни делам Керенского, ни словам Бунакова, ни вообще слепоте и одури эсеров. Не говорю про таких, как Чернов (слава Богу, мы его не знали), но других, честных как будто, – вроде Керенского и Бунакова. Вдолге, разговаривая с Д. С., мы, кажется, психологическое объясненье, жалкое, но верное – нашли. Это было не то, что говорил Савинков, более отвлеченно: «Для Керенского, говорил он, свобода – первое, Россия – второе. Для меня же, – может быть, я ошибаюсь, – они сливаются в одно». (Он ошибался, но не в том, не так, как думал.)
Нет, психология Керенского и прочих была грубее, впадая почти в физиологию. Грубее и проще. Как для мышей все и вся делится органически на них, мышей, и на кошек, так для этих «революционеров» одно деление: на них, левых, и – на правых. Впустите мышей в подвал, где была кошка, но где ее нет, повешена. Мыши, и зная это, все равно ее, только ее, будут бояться, о ней одной думать. Мыши, хотя бы сильнее и больше первых, не страшны. Есть надежда, при драке, их победить. Но кошка! Они никогда не могут быть уверены, что ее где-нибудь тут нет, – даже когда ее нет.
Все Керенские знали (и это уж в кровь вошло), что они «левые», а враг один – «правые». Революция произошла, хотя не они ее делали (ее никто не «делал»), «левые» восторжествовали. Как раз там, где раньше торжествовали их враги, – «правые». Но, как мыши в подвале, где кошки уже нет, продолжают ее бояться, продолжали именно «правых», – только их, – бояться «левые». Только эту одну «опасность» они и видели. Между тем ее-то как раз и не было, в этом 17-м году. Не было фактически. Но наши революционеры, не-эмигранты и эмигранты (последние в особенности, предреволюционного положения России не знавшие), уже ничего не соображая, смотрели только в одну сторону, боялись только «реакции», – которая тогда, как после, через долгое время, иные из них признали, – была невозможна. Большевиков они не боялись, – ведь это были тоже «левые», – они боялись бороться с ними (как бы такая борьба не показалась «реакцией»). Бунаков, прослушав у нас записку Корнилова с предложением Керенскому серьезных мер, так и вскрикнул: «Да ведь это реакция!» Керенский сам, в полусознании, считал для себя позором, «изменой», соединиться… с царским генералом, что бы он ни говорил. Кроме того, вот эта партия «народных» революционеров, вкусив торжества, не верила, что это торжество к ней не вернется, что «марксисты» усидят. Левейшие из них, стараясь вырвать у них (большевиков) победу, незаметно для себя стали им же подражать, не замечая, что большевики давно у них же взяли их лозунги для победы и гораздо умнее с ними обращались. И «земля народу», и Учредительное собрание, и всеобщий мир, и республика, и всякие свободы…
Они, большевики, тоже боялись «реакции», – в самом начале. Только потому вначале ленинское правительство действовало осторожно, постепенно, с чисто звериной хитростью. И умно поддерживало бунтовщицкое настроение в низах. При всяких слухах о грозящей опасности (извне, своего брата, русских «левых», не боялось), – все оно, все главари, готовились к побегу из Петербурга. Мы это знали непосредственно, так как гараж их автомобилей был на нашем дворе. Может быть, даже белые генералы, с добровольческой армией, войди и они в Петербург, очистили бы его от последних большевистских остатков. Но это под сомнением, недаром же они туда не вошли. Зато нет никакого сомнения, что несколько англо-французских налетов на Петербург, в конце 17-го года и даже в начале 18-го, с легкостью изменили бы течение русской, – да и европейской, – истории. Чем дальше – тем это делалось все труднее…
Кажется невероятным, а между тем это было, что в самом конце 17-го, в разгаре ночных грабежей, убийств и полного торжества Ленина, еще не только существовала газета Горького, но и другие старые, и я еще могла там печатать самые антибольшевистские стихи. Мало того: мы устроили, в Тенишевской зале, какое-то собрание, или вечер, где Д. С. читал о Достоевском, а я, еще кто-то и Анна Ахматова – стихи. (Они, впрочем, безобидные.) Тут даже вышел курьез: «товарищи» потребовали адреса Достоевского, иначе вечера не разрешали. (Пришли за адресом уже перед началом вечера.) Им дали адрес его могилы, но они сконфужены не были.[83]
В это же самое время, на другом вечере, когда какой-то артист прочел стихотворенье Д. С. «Христос воскрес» (очень старое, но очень сделавшееся тогда актуальным), кто-то из публики, солдат, конечно, – выстрелил в чтеца из револьвера.
Бунаков по вечерам, с поднятым воротником, крался по стенке, чтобы прийти к нам, и, уже боясь позднее идти домой, оставался ночевать или у нас, или у наших знакомых, живших по той же лестнице. Он положения дел не понимал, не унывал: ведь будет Учредительное собранье, а у них (у его партии) там большинство! Д. С. уже не спорил с ним, не кричал на него – бесполезно. Д. С. знал и чувствовал то, что происходит, и даже что произойдет, со всей своей предчувственной глубиной. Да, впрочем, многое было слишком, уже слишком ясно. Даже старый мой знакомый, Ваня Пугачев, солдат, постоянно бывавший у нас на кухне и с первого дня – член Совета рабочих и солдатских депутатов в Думе, говорил: «Сдурел народ, теперь не остановить». Кухонные наши митинги, с ним и другим Ваней, Румянцевым, очень много мне тогда объясняли.
Вот, раз, в светлое морозное утро (было это, кажется, уже в 18-м году) – улыбающийся Бунаков спускался с летницы после ночевки у наших знакомых, встретил у нашей двери моих сестер (он с ними был хорош). Сестры шли к нам, чтобы передать очередную посылку в крепость, Карташеву. И по дороге узнали новость, которую еще не знали ни мы, ни Бунаков. Новость – убийство солдатами Шингарева и Кокошкина, в Мариинской больнице, куда их перевели из крепости «для безопасности», после долгих хлопот. Оба они были москвичи, приехавшие в Петербург, как выбранные члены будущего Учредительного собрания. Мы их знали мало, один был, кажется, врач, другой – не помню кто. Это чисто звериное убийство подробно описано в пропавшей части моего Дневника. Услышав новость, Бунаков перестал улыбаться. Но… это были члены не его партии, другой, умеренной.
А бедные сестры мои, хлопотавшие о переводе из крепости куда-нибудь Карташева, совсем не знали, желать ли теперь такого перевода…
Но вот близится заветный день Учредительного собрания.
Надо сказать, что во время нашего житья в Париже и потом в месяцы наших туда наездов мы знавали, из сопартийников Бунакова и Савинкова, двух братьев Моисеенко. Один, Сергей, был одно время очень близок Савинкову, но потом с ним разошелся и во время революции был далеко, на Яве. Другой, Борис, бессменно находился в Париже у Бунаковых, с ними вернулся в Петербург и нередко бывал у меня. Я говорю «у меня», потому что он приходил ко мне всегда за одним и тем же делом: поправлять какие-то бумажки, партийные воззванья или что-то в этом роде – не помню. Я делала, что могла, но суконный язык оставался суконным. Да и нужен ли другой? – думалось мне иногда.
Перед Учредительным собранием уже не один Моисеенко, а и Б., принесли мне кучу листков – проект декларации, которую их партия намеревалась прочесть в Учредительном собрании. В общем – в ней не было ничего, с чем мы могли бы не согласиться (особенно при данных обстоятельствах) – но написано это было… совсем не написано. Поэтому я сказала, что поправить я ничего не могу, могу только сызнова все переписать.
Труд нелегкий. Над этой «декларацией» я просидела всю ночь. Электричества не было (в это время его уже гасили ранним вечером), но был еще керосин, и я помню красноватый свет лампы на моем столе, смешанный с голубыми тенями рассвета в окнах.
Декларация была моим «заказчиком» одобрена, принята… И, скажу сразу, – мои труды пропали даром: на Собрании ее прочесть не успел. Как известно, матрос Железняков, пока Ленин с компанией тихонько смеялся в ложе, решил, под утро, что довольно, будя! и властно прекратил – навсегда – многолетнюю мечту русских революционеров – Учредительное собрание.
В эту ночь я много раз поднимала портьеры, вглядываясь в морозную тьму: нет, еще освещены окна Таврического дворца, еще сидят… Когда огни потухли, по манию матроса, я уже не видела. В начале вечера мне по телефону звонили каждые полчаса – шла борьба, кому быть председателем: Чернову или Марусе Спиридоновой. (Ох, уж эта Маруся! Она когда-то убила какого-то губернатора, очень самодовольно описывала себя и свой «подвиг», из каторги вернулась при революции.) И так была глупа эта борьба между нею и Черновым – оба хороши! – что я сейчас безнадежно забыла, кто победил.
Наутро, конечно, слухи, – особенно в кухне: Чернов, мол, в коридоре лежит убитый, да и другие: набили за ночь немало.
С тех пор я как-то ни Бунакова, ни других из Центрального Комитета, из этого всего «большинства» – у нас не помню. Да, кажется, не одни эсэры партийцы, а все члены – избранники Учредительного собрания исчезли, – разъехались, разбежались кто куда.
И началась наша жизнь, – медленно, постепенно превращавшаяся в «житие».
Было еще одно место как бы жизни (18 г.), когда мы трое, знакомая дама с сыном студентом и мои сестры, – вернулись в «Красную дачу», именье Дружноселье, где провели август 17-го года. Там уже был «комиссар», старый дом Витгенштейнов реквизирован, однако жить было можно: мудрая большевистская постепеновщина! И осенью в Петербурге, до зимы, еще было похоже на «жизнь» – извне, конечно, а что мы думали, чувствовали, чем дышали, об этом говорят мои листки, ибо зима 18–19 гг. и весь 19-й год до самого конца – подобны. Разве что конец 19-го был холоднее, голоднее и чернее конца 18-го, а обысков было больше, да яснее сделалась гибель России. Обо всем этом написано подробно и в моих «Листках», и в «Записной книжке» Мережковского (изданы в нашем первом заграничном сборнике «Царство Антихриста» – переиздано в Париже в «Europe face а l’U.R.S.S.»[84]). Мне здесь осталось добавить не много.
Министры Временного правительства были выпущены из крепости (все ли, и когда – не помню с точностью). Выпускали их постепенно, по два и по-одному. Карташев убежал тотчас же. Мы его встретили только в Париже, эмигрантом, женатого. Кажется, он бежал через Финляндию.
За церковь большевики принялись сразу еще при нас, и довольно грубо (история с мощами), но потом приостановились. Точно раздумывали, какая тактика выгодна для момента. Летнее письмо патриарха (Временное правительство поспешило учредить патриаршество, чем само было очень довольно), унизительное и заискивающее, обращенное к «Советской власти, всегда бережно относившейся…» и т. д., – это письмо большевики не преминули напечатать во всех газетах с победно ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. Некоторые священники из более интеллигентных от усердия, а может быть, «страха ради иудейска», принялись стряпать «живую революционную церковь». Заводчиком этой «церкви» объявился Александр Введенский. Безвкуснее, оскорбительнее и кощунственнее его надуманных служб трудно что-нибудь вообразить. Говорят, он стихи Надсона в алтаре читал. И ударился чуть ли не в кликушество. Митрополит, – это был тот самый еп. Сергий, когда-то председатель старых наших Собраний, – к этой «живой церкви» на всякий случай примкнул. А насчет Александра Введенского здесь надо сказать несколько слов.
В 12-м, кажется, году (может быть, раньше) в газете «Речь» неожиданно появилась «религиозная анкета», в виде письма в редакцию, подписанная очень известным в Петербурге именем «Александр Введенский». Мысль о такой всероссийской религиозной анкете была недурна, но в самой анкете, в постановке вопросов, Д. С. находил много слабого и неверного. Удивила нас и подпись: профессор А. Введенский меньше всего имел отношение к религии, известно было, что он крайний позитивист.[85] Прошло немало времени – и вдруг является к нам незнакомый студент. Рекомендуется: Александр Введенский. Узнаем, что анкету посылал в «Речь» он, а вовсе не известный профессор. Начинаем понимать, почему газета «Речь» ее напечатала: и она тоже думала, что прислал ее профессор. Может быть, студент, который не мог не слышать имени профессора, сыграл и намеренно на совпадении имен. Д. С., который анкету забыл (это было давно), хотел, чтобы студент ее напомнил, тогда можно было бы о ней поговорить. Но студент пришел к нам не для этого: он, оказывается, получил столько ответов, – изо всех концов России, – что не знает, что с ними делать: не может их ни прочитать, ни разобрать. И он пришел с надеждой передать Д. С. весь этот багаж, делайте, мол, с ним что хотите.
Студент нам показался мало симпатичным. Чернявый, заискивающий… Конечно, Д. С. не мог оставить свою работу и приняться за разборку такой кучи ответов на чужую анкету. Но эта куча могла быть интересна, частями. Не пропадать же ей! А студент, видимо, потерял весь интерес и к своей анкете, и к религии, и был готов все это уничтожить.
У нас жила тогда Оля Флоренская. Вот кто может помочь. И Д. С. согласился, чтобы А. Введенский свои письма нам переправил. Мы смеялись, что он, пожалуй, их на ломовом к нам привезет… Не знаю как, но привез он, через несколько дней, два громадных тюка, которые и были водворены в комнату Д. Ф., наиболее просторную. Оля принялась за разборку этой литературы, иногда с моей и Д. Ф. помощью. Помнится, нашлось там немало любопытных, особенно несколько писем из дальних концов России. Писали и сектанты. Одно какое-то письмо так понравилось Д. С., что он взял его к себе. Говорил, что мы не знаем, в сущности, какие глубоко религиозные люди есть в России.
К сожалению, разборка была далеко не кончена, Оля уехала, мы переменили квартиру, и куда, в конце концов, девались оставшиеся бумаги, я не знаю.
Студент Введенский исчез, мы его больше не видали. Выплыл уже священником про-большевистской церкви. Скверно, конечно, что он паясничал перед алтарем, стараясь выказать свою «революционность», но еще гораздо хуже, что он предал своего же бывшего наставника еп. Вениамина, первого, кажется, епископа мученика. Еп. Вениамин, исключительно светлой души (он часто бывал в нашем доме), был схвачен, полуголый и обритый везен с солдатами, на грузовике, по улицам, днем (узнал Введенского, стоявшего на тротуаре около Чека, говорили очевидцы, но, может быть, это последнее – легенда), а за городом, где тогда это производилось бессекретно, – этими же солдатами расстрелян.
«Живая» церковь, большевистский дивертисмент, очень скоро сделалась самой мертвой. Сергий вовремя сообразил, куда дело гнет, и заранее унес из нее пятки. Неизвестно, так же ли мудр оказался Введенский, – вообще неизвестно, что с ним дальше было и существует ли он где-нибудь теперь.
Мартиролог героических священников, настоящих православных мучеников, тогда только начинался. Он длинен, – да ведь и сейчас не закончен; новый, Сталиным избранный, патриарх, – все тот же Сергий, – уж, конечно, и просьб «Советской власти» не подает о его сокращении. Он лучше старого знает, «как бережно она относилась всегда» к служителям культа. Он очень многое знает.
К весне 18-го года относится краткая история, или анекдот, с одним из бывших приспешников Б. Савинкова, очень недавним, Филоненко. Это у меня не было записано ни в Дневнике (который я еще хранила, – во II части), ни потом в листках.
Перед последним крахом Керенского, когда он истеричничал, но держал Савинкова и не решался еще на создание «дела Корнилова», когда Савинков бывал у нас каждый вечер (август 17 г.) – он приезжал к нам раза два с молодым офицером – Филоненко. Офицер этот почему-то Д. С. не понравился, и он попросил Бориса его к нам не привозить. Однако Б. Савинков этому не внял и еще несколько раз приехал с ним. Мне хотелось понять их отношения, и почему Савинков так держится за офицера, который сам по себе меня не интересовал. Присматриваясь к ним однажды, за чайным столом, и прислушиваясь к тону беседы, я поняла как будто нечто достойное вниманья. Во-первых – что офицер этот очень неглуп, а во-вторых – что Савинков его не видит, не знает, почему он ему нужен, а между тем – нужен. Почему же? Да потому, что этот офицер замечательно умно и тонко ему льстит, даже слишком тонко, можно бы и погрубее, результат был бы тот же. Тут я в первый раз поняла, припомнив кое-каких прежних «поклонников» Савинкова, что он людей окружающих его видит мало и плохо, а на лесть падок. Офицер совсем не имел вида савинковского «поклонника», – поклонники так умно не льстят. Быть может, он был искренне против большевиков и надеялся на Савинкова в то время?
Прошел почти год. Савинков и Филоненко исчезли из Петербурга давно. Весной 18-го года Д. С. ушел перед завтраком, как всегда, на прогулку. Уже не в Летний сад, – он теперь от нас далеко! – а в Таврический, – он тут же. День был солнечный и ясный. Очень скоро Д. С. возвращается с каким-то незнакомым молодым человеком, блондином.
– Ты не узнаешь? Это Филоненко.
Непонятно, что он с собой сделал: не загримирован, а узнать его было почти невозможно: совсем другой. Д. С. встретил его в Таврическом саду, тоже не узнал сначала, а потом привел к нам. Филоненко спокойно и довольно холодно объяснил, что у него тут недалеко, на Спасской, целая организация, все бывшие офицеры, которых он вербует для борьбы (всесторонней) с большевиками. (Это оказалось правдой.) Затем спросил, нет ли у нас знакомого опытного химика, у него проект взорвать ближайшее пленарное заседание Совета. Знакомый студент-химик у нас, – у нашего друга М., – оказался, через два дня он у нас же с Филоненко свиделся… Почему-то, однако, их проект не был осуществлен. Но надо сказать, что я никогда не видела человека более смелого и бесстрашного. Он потом был у нас еще раза два или три, рассказал, что делается на юге, рассказал, что с Бор. Савинковым он разошелся (из-за чего – было смутно). В общем мы поняли, что он поставил свою карту на Савинкова, а когда карта была бита – ушел, чтобы действовать самостоятельно. В успех вот этих его действий, антибольшевистских, однако, не верилось, хотя несомненно было его бесстрашие, смелость и недюжинный ум. Этим и Д. С. он привел тогда в восхищение. Казалось – и воли у него не меньше, если не больше савинковской. Тогда же, весной 18-го года, когда Милюков, по природе бестактный, внезапно перешел (он был где-то в южном городе) на германскую ориентацию, – Филоненко с необычайной ясностью разумного предвидения объяснил нам, что надежды на помощь Европы нам – проблематичны, чтобы не сказать более…
После нескольких весенних свиданий мы его уже не видали. Его организация, кажется, не была открыта до конца, впрочем, я тут с уверенностью ничего не могу сказать.
Антибольшевистское, так называемое «белое», движенье тогда едва зарождалось. А чтобы убедиться в безумии Европы, оставляющей большевиков рядом с собой, нам нужен был еще год. В «листках» моих сказано и об этом, и почему не было у нас веры в успех белого движенья, этой надежды последней. О том, что мы все-таки пережили и «пытку надеждой», когда армия Юденича была в Царском Селе, достаточно говорится в «Записной книжке» Д. Мережковского.
5
Может показаться, что я здесь, прерывая нить рассказа, отвлекаюсь от моей темы. Но моя тема сама по себе широка. Я пишу о Д. С. Мережковском не для того, чтобы дать библиографический перечень его работ. Я пишу о нем самом, о его жизни во времени, в котором он жил, о воздухе, которым он дышал, – о воздухе тогдашней России.
Нельзя взять человека вне его времени и вне его окруженья: он будет непонятен. И меньше всего можно отделить Д. С. от России. Да, он многим казался, и был действительно, с известных сторон, – европеец. Но был и до такой степени русский, что сам являлся как бы одним из знаков и доказательств, что русский человек и Россия не Азия, а Европа.
Вот поэтому, думается мне, я от темы не отвлекаюсь, когда описываю жизнь Д. С., столь богатую встречами и событиями, – нашу общую жизнь, – и порою даже то, что как будто близко в нее не входило.
Чем объяснить, например, что Д. С. с первого мгновенья (как и я) стал на позицию самого резкого отрицания войны? Почему так часто повторял, что война – «несчастье»? Что это – принцип? Или кровь? Или политика – бессмыслие поводов к войне? Или предвидение, что из этой войны ничего доброго ни для кого не выйдет? Да, конечно, все это было на счету. Но ведь и любовь к России была на счету. Многие, очень многие, тоже войну принципиально отрицавшие, также не видевшие для нее достаточно поводов и даже сомневавшиеся в победе России при ее положении, – все-таки – войну эту из любви к России приняли и о победе мечтали (как самый близкий друг наш, Д. Философов). Но Д. С., помимо своего отрицания чувственного и разумного, еще страдал от войны в каком-то особом, тайном уголке души. Он, может быть, и сам не отдавал себе тут ясного отчета, – прямо не говорил об этом, во всяком случае. Но я-то, разделяя то же ощущенье «несчастья», знала эту боль. Недаром мы оба с одинаковой остротой знали, что такое мать и что сегодня – «самое трудное, невыносимое, – это взглянуть в лицо матери, – у которой убили сына». Но что эти мои стихи, и другие о том же перед некрасовским «Внимая ужасам войны…». Об этом стихотворении мы с Д. С. особенно часто вспоминали. Я говорила: «Мне кажется, что минуты разлуки и ожиданья, когда сын на войне, проходят сквозь душу матери, как шершавая проволока, – каждая новая минута ранит эту душу».
А главное – ничего нельзя изменить, раз война. Осуждать сыновей, которые на войну идут? Желать, чтобы они оставались, хотя бы ради матери? Это, во-первых, близко утопическому средству Толстого: «Пусть все люди сговорятся…» (тогда бы и войны не было!) А во-вторых, стыдно было бы за Россию, если б не оказалось у нее молодежи пылкой, с естественным порывом души идущей на войну, как на святое дело. Вот те молодые, что приходили ко мне по воскресеньям, у них, у большинства, души были уже изъеденные эстетизмом, ранним скепсисом, вроде души несчастного поэта Блока. И хоть являлись иные, в 16-м году, в защитках, – но их надели они поневоле, отбояриться всегда были рады. Исключения между ними – это самые юные. Их-то надо считать настоящими.
Неудача нашей войны с Германией, неудача нашей войны с красным врагом – понятны. И обе неудачи связаны, хотя причины их различны. Обе – «несчастье» (война!), но если б добровольческой войны не было, – вечный стыд лег бы на Россию, сразу нужно было бы оставить надежду на ее воскресенье. И прав Д. С., сказав, что не о прощенье грехов убитых следует нам молиться, а у них просить прощенья. Ведь если они в чем и виноваты, – они, павшие на поле чести, – живые виноваты перед ними в тысячу тысяч раз больше.
Все знают теперь, почему погибло белое движение. Причин, и сложных, было много. Были и внутри его лежащие. Вожди не учли сил противника. Да, были среди них и такие, на севере, как Деникин и Юденич, – случай неуместного соревнованья – «кто первый войдет в Петербург?» И результат – отступленье обоих, когда разъезды уж достигли Забалканского проспекта. Да, было в некоторых частях опрометчивое, слепое утвержденье старого, тяга к прошлому, непониманье, что бывшее не будет вновь. Два главных вождя, Кутепов и Корнилов, от последней ошибки были свободны, ясность и трезвость ума Корнилова мне особенно хорошо известны, – но большевики, да и часть нашей нераскаянной «левой» интеллигенции, сумели и чужие грехи наложить на них.
А главная причина гибели Добровольческой армии – это ее полная покинутость. И внутренняя, и внешняя. Она была покинута не только русскими, но и коварными вчерашними союзниками. Кучка солдат, еще не зараженных (пока!) ядом, который уже заразил большинство народа. Жалкое вооруженье. Отсутствие продовольствия. А у врага, у красных, обученные армии, орудия, захваченные с немецкого фронта, богатство запасов со всей России, плюс хитрейшая пропаганда. Близорукие союзники, удовлетворенные выигранной (не без помощи России же!) войной, решили «не вмешиваться в ее внутренние дела», т. е. держаться подальше от «азиатской» катавасии, объявив, кстати, выгодный для себя «бойкот». Впрочем, по собственным словам Ленина, Англия сразу же «заговорила» с большевиками. Ведь «торговать можно и с каннибалами», откровенно высказался Ллойд-Джордж. Франция шла у Англии на поводу, поэтому так абсурдны ее словесные «признанья Врангеля» при одновременной посылке делегаций к… большевикам.
При этих условиях какой же успех могла иметь святая белая борьба с зараженным русским народом? Я подчеркиваю «святая», потому что такой она была.
6
Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошнотная, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, – все это было несказанно тяжело. Но еще тяжелее – ощущение полного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борьбы с тем, что вокруг нас происходило. Мы все точно лежали где-то, связанные по рукам и ногам, с кляпом во рту, чтоб и голоса нашего не было слышно. Человек может, конечно, и к такому положению привыкнуть, если раньше не умрет. Но привыкший сделается уже получеловеком, апатичным, механичным, покорным. К этому состоянию стал, мало-помалу приближаться Д. Ф., еще не переживший к тому же трагической смерти трех сыновей своей сестры. Дня почти не было. Во тьме у нас мерцали кое-где ночники. Для Д. С. мы зажигали на полчаса лампу драгоценного керосина, чтобы он мог, лежа в шубе на кушетке, почитать свои книги об Египте (задуманная давно работа). Но если бы дана была ему эта возможность, и не на полчаса, а на сколько угодно времени, он, по самому характеру своему, с общим состоянием нашего параличного бездействия и безмолвия не мог бы примириться. Ему казалось, что каждый зрячий и понимающий происходящее – должен что-то делать, именно должен бороться с опутавшей Россию смертной и преступной ложью, как? Это уж как ему дано.
По поводу незначительной одной бумажки пришел к нам раз молодой человек из Смольного (резиденция большевиков). Одет, как все они тогда одевались: кожаная куртка, галифе, высокие сапоги. Но был он скромен, тих, лицо интересное. И почему-то сразу внушил нам доверие. Оказалось, что он любит Достоевского, хорошо знает Д. С. и даже меня. На вопрос – партиец ли он? он как-то сбоку взглянул на Д. С., слегка качнул отрицательно головой и сказал только: «Я христианин».
Потом, в разговоре, повторил Д. С. несколько раз: «Уезжайте отсюда. Вы меня спрашиваете, можно ли здесь что-нибудь делать? Нет, ничего. Если уедете, – может быть, и найдется».
Эта встреча только укрепила уже существовавшую у Д. С. мысль об отъезде. То есть о бегстве, – мы знали, что нас не выпустят, знали твердо. Пусть в то же время многие хлопотали о разрешениях и надеялись… Напрасно, как и показало дальнейшее. И если бы хоть сразу отказывали хлопочущим! Нет, их водили по месяцам, по годам по лестнице просьб и унижений, манили надеждами и бесконечными бумажками… Вот как это было с Сологубом и его женой. Она уже в Париж написала нам радостное письмо – почти все сделано, их выпускают! А когда оказалось, что нет, что и эта надежда опять обманула, – бросилась с моста в ледяную Малую Невку, – тело нашли только весной. С умирающим Блоком было то же, – просили выпустить его в финляндскую санаторию, по совету врачей. Это длилось почти год. В последнее утро выяснилось, что какая-то анкета где-то в Москве потеряна, без нее нельзя дать разрешенья, надо ехать в Москву. Одна из преданных поэту близких женщин бросилась на вокзал: «Билетов нет – поеду на буферах!» Но ехать не понадобилось, так как в это самое утро Блок умер. Мы, и не зная еще этих несчастий, догадались, что хлопоты начинать бесполезно.
Мысль «уехать» приняла у Д. С. сразу особую форму: это не было желание уехать от чего-то (от тьмы, холода, голода и т. д.). «От» было между прочим, главное же – к чему ехать, куда и для чего.
Напоминаю, что мы были крепко и наглухо заперты, как вся Россия была заперта, отделена (или нам казалось) от всего остального мира. Мы-то, в Петербурге, не знали, во всяком случае, что делается даже в соседнем городе. Естественно предполагали, что и мир, Европа, не знает, что происходит у нас и с нами. А происходившее так ясно, так несомненно было не-воз-мож-но, что только незнаньем оправдывалась, думали мы, беспечность Европы, не понимающей, что горит дом соседний, а пожар такого рода, что не может на одном доме остановиться. Пламя должно перекинуться, рано или поздно, и если поздно… то уже будет поздно.
Поведение Англии и Франции (союзники!), мы вот таким незнанием сущности большевизма (интернациональной!) и объясняли (отчасти, ибо нечестность Англии и торгашество имели тоже в виду). Незнанием и тупостью объясняли и доносившиеся к нам изредка слухи о словах некоторых русских, бежавших давно и старорежимных. Возмущались вредом, который они там приносят.
Отсюда наивные мечты мои, чтобы европейцы прислали сюда честных людей, может быть, из рабочей среды, но инкогнито, т. е. не к большевикам (которые на наших глазах приезжавших к ним иностранцев, честных и нечестных, – обманывали наигрубейшим образом). Отсюда же, наконец, и не менее наивная мысль наша уехать, добраться до мира, чтобы ему посильно что-то сказать. Мы были убеждены, что на каждом знающем, кто бы он ни был, лежит этот долг. Ведь так просто и ясно, что «земля вертится». Однако… В краткие минуты сомненья (или просветленья), особенно тяжелые, и нам, конечно, приходило в голову, что:
Сказать – не поверят, Кричать – не поймут… И близится черед, Свершается суд.Минуты эти проходили, и опять казалось, что мы можем что-то сделать, – во всяком случае делать – «там». У Д. С. за границей большое имя… Мы жили во Франции, мы ее знаем… Как сметь отказаться хотя бы от попытки?..
И вот начались всякие планы, сговоры с разными людьми, в которых мы были уверены. Надвигалась грозная, особо суровая, длинная зима. Но это нас не останавливало. Ближе всего было бежать через Финляндию, по льду через Финский залив (пешком). Неимоверная трудность для людей, как мы, слабых, да еще ослабевших от голода. Кроме того, путь этот был особенно опасен и с красной стороны. Несколько примеров трагического окончания таких побегов, как раз в это время, в начале очень рано наступившей зимы 19 года, заставил нас – меня и Д. С., так как Д. Ф. почти не принимал тут участия, – подумать о других путях. Все были опасны, но где-нибудь мог помочь случай. Кто-то, не помню точно, какая-то дама, предлагала нам соединиться с ее компанией – у них был план бегства через Режицу. В конце концов расстроился и этот план. Главное – севернее или южнее переходить западную границу – везде надо было переходить военный фронт: у большевиков тогда шла война с Польшей. Между тем положение наше, Д. С. в особенности, делалось критическим: ободренные переходом некоторых интеллигентов-писателей на их сторону, большевики не сомневались и в дальнейших успехах. Д. С. уже было сделано предложение прочесть лекцию, – одну или несколько, – о декабристах. В его «Записной книжке» это отмечено, как и другие переговоры с «властями», когда он остановился на мысли добиться разрешения… не эмигрировать, а только уехать из Петербурга, лучше всего на юг. Кстати, был и «откровенный» как будто предлог: подкормиться, – все знали, что там не столь голодно, как в Петербурге. Не мешало тоже намекнуть, что ведь и там, в одном из южных городов, Д. С. может прочесть несколько лекций… Вот поэтому, когда мы пустились в путь, на обложке начатых работ, рукописей Д. С. о Египте, было большими буквами написано: «Материалы для лекций в красноармейских частях».
Нас было четверо. Четвертый – это студент, сын той нашей знакомой, которая провела с нами и с ним лето 18-го года, в Дружноселье. Для нас молодой спутник в опасном путешествии мог быть только помощью. И вот Д. С., с большим трудом и даже унижением (потому что через Горького), добыл разрешение сопровождать нас «на юг» и для «Володи» (как мы звали нашего молодого товарища).
Конечным пунктом был у нас намечен Гомель. Имелись сведения, что оттуда «переправляют». Четырехсуточный путь в вагоне, полном до отказа красноармейцами, мешочниками и всяким сбродом, не таков, чтобы его здесь вспоминать. До Гомеля поезд не дошел, и мы вылезли раньше, в Жлобине. Ночь, сугробы снега, мороз в 27°. Об этих днях в корчме у еврея Янкеля, который за одну думскую тысячу в день отдал нам четверым свое «зало», тоже лучше лишний раз не вспоминать. Все время переговоры, то с одним подозрительным контрабандистом, то, после обмана одного – с другим, переход от надежды – к падению духа, и опять к надежде…
Но вот, наконец, весьма облегченные от наших жалких думских тысяч и кое-какого багажа семьею Янкеля, мы на двух санях (я с Д. С., Д. Ф. с Володей) едем, на рассвете, в белую снежную пустыню – в неизвестность. Две ночи. Два дня. Ледяной ветер, как ножами режущий… Вдруг на самом краю белой равнины замелькали черные точки: польский фронт.
Вот солдат, непривычного вида, подтянутый, в шапке с углами. Другой, третий… Поляки, познанцы… «Кто вы? – Русские беженцы. – Откуда? – Из Петрограда. – Куда? – В Варшаву, Париж, Лондон…
Познанский легионер подал знак, ворота открылись, и мы переехали черту, отделяющую тот мир от этого».
Этими словами кончается «Записная книжка» Дмитрия Сергеевича. О том, как встретила нас Польша, где мы, после побега, прожили около десяти месяцев, – это уж другая, особая часть жизни Д. С. и моей, требующая особого рассказа.
Польша 20-го года
Бобруйск – маленький уездный городок был нашим первым польским этапом. Насколько комендант пункта был любезен и предупредителен, открывая нам границу (у Дмитрия Мережковского была наготове, как удостоверение личности, вместо паспорта, его книга) – настолько грубы и ненавистны ко всяким беженцам из России низшие служащие. В этом мы и после имели случай убедиться. Тут, в Бобруйске, в какой-то контрольной станции, нас продержали на тюках целый день, продержали бы, пожалуй, и ночь, не вызволи нас оттуда молодой бобруец (русский) Иван И. Дудырев, незнакомый нам, но нас знавший. Он нас освободил, устроил, потом даже в Минск с нами поехал.
Устроились мы уж как Бог послал и прожили в Бобруйске дней десять. Из старых газет мы едва начинали понимать, какая чепуха происходит в Европе. Мы ведь были совсем дикие. Первые магазины в Бобруйске привели нас в столбняк. Володя З., наш молодой спутник, с открытым ртом остановился перед выставленными в окне чулками и произнес с удивлением:
– Ведь их – можно купить!
Через бобруйскую улицу мы боялись переходить, точно это была Avenue de l’Opéra: лошади, ездят! Дм. Философов (Дима) едва решился отправиться к открытому им парикмахеру и расстаться со своей окладистой бородой, совершенно его менявшей. В офицерском клубе, куда нас пригласили на большой обед, мы с недоверием и почти с ужасом глядели на белый хлеб и на яблоки, точно это были плоды нового, иного мира. Вообще Бобруйск, после Петербурга, казался нам верхом благоустройства и культурной жизни.
В Минск мы добрались благодаря любезности польских властей, в воинском поезде. Поселились в гостинице «Париж», довольно-таки разрушенной сначала немцами, а потом, главное, большевиками. Но одно сознанье, что их здесь уже нет, делало для нас этот убогий «Париж» – парадизом.
Общее положенье наше было такое: мы все, прежде всего, были заряжены стремлением бороться с большевиками. То, что мы знали о них, поняли, весь наш опыт, вечная мысль об «оставшихся» – это, само по себе, делало невозможным наше молчание. Белые булки, молоко, шоколад, – мы не радовались им, не накидывались на них, – мы были к ним или равнодушны, или казались они нам противны и преступны, если признать, что мы спасли свою шкуру и ничего не делаем против большевиков.
И тут же мы были – нищие. Несколько «думских» тысяч, спасенных от Янкеля и сохранившихся в подкладке чемодана, старое платье, рваное белье, черная тетрадка моего дневника последних месяцев – вот все, что у нас было. К счастью, было еще «имя» Д. Мережковского. Мы очень надеялись на него, однако сам Дмитрий понимал, что нам нужны другие помощники, единомышленники. Кто мог быть таким помощником? Вспоминая всех наших друзей, в России, друзей из Временного правительства и «революционеров», которые, конечно, были теперь в Европе, вспоминая все предбольшевистское время с этим страшным делом Корнилова, – на кого мы могли надеяться? Не на Бунакова же с его партией, где он сидел, по его словам, рядом с «негодяем» Черновым. Естественно, что таким единомышленником нашим мог быть один Савинков. Мы его знали годы, в такое, правда, время, но знали и вот эти месяцы перед самым переворотом, знали близко его роль в деле «Керенский-Корнилов»… Недаром же за смелое и верное поведение его в этом деле из «негодяйско-черновской» партии его исключили.
А тут, кстати, мы узнали, что в январе Савинков с Чайковским приезжали в Варшаву, уехали в Париж, но весной должны были приехать снова. С Чайковским, старым лондонским эмигрантом, мы знакомы не были, но много о нем слышали. Что он приезжал с Савинковым и в Польшу, единственную страну, с большевиками воюющую, был хороший знак. Но сведения о их приезде имелись смутные – какая все-таки позиция Савинкова? Зачем он приезжал в Варшаву и приедет ли весной? Помня парижский адрес Евгении Ивановны (его жены), мы послали ему телеграмму. Послали телеграмму молодому Юзефу Чапскому, мы его знали по Петербургу. Высоченный, тонкий юноша, он приходил к нам, в большевистское уже время, в тулупе, зная Д. С. по его книгам. Показался нам очень симпатичным, хотя не очень понятным. Оказывается, он, польский офицер, самовольно, идейно отправился тогда в Петербург, да еще с двумя своими молодыми сестрами, не то исследовать русскую революцию, не то соблазненный ею. Скоро, конечно, опомнился и вернулся в Варшаву. (Мы там его встретили потом, опять в армии, но не офицером, а просто солдатом пока.)
От Савинкова получили ответ, мало поясняющий, но с заверением, что в Польшу приедет, и с вопросом о его детях (от первой жены, Веры Глебовны, которая уехала с ними в Россию, когда он влюбился в Евгению Ивановну).
Сына его в России мы не видали, а дочь Таню я помню. Большевики, конечно, не оставили семью Савинкова, хоть и старую, в покое. Эту несчастную Веру Глебовну они арестовали сразу. Таня (ей было уже лет 16) несколько раз приходила к нам. Рассказывала, что всюду толкалась, хлопоча за мать, была у Горького даже, но, хотя сидела долго на ступенях его лестницы, ее не приняли. Просила нас написать ему письмо. С письмом, может, примет. Так как к Горькому уже с хлопотами за того или другого обращались и Д. С., и Дм. Вл., то теперь пришла моя очередь. Села писать, как мне это было ни трудно. «Алексей Максимович…», ну, а дальше как? Дмитрий меня подбодрил: «Ничего, все мы теперь на это обречены…» Я вспоминаю, что был слух, что Розанов расстрелян и, хотя я не верю, решаюсь и этот слух, кстати, Горькому на вид поставить. Особенно противно писать мне Горькому еще потому (хотя сама не понимаю, какая тут связь), что он бывал у нас во время войны и сказал однажды, что пленен моими стихами и хотел бы их издать. Все равно, письмо было написано, Тане вручено. Слышали потом, что мать ее выпустили (до следующего, вероятно, ареста), а Розанову, находившемуся тогда в последней нищете, Горький даже послал какое-то вспомоществование.
Последнее время Таню мы не видели. Она была очень мила, и в обожании своего отца. Бог весть, что, в конце концов, с ней случилось. Савинкову мы так неопределенно и ответили, а пока, и в Минске, не пришлось сидеть сложа руки. К нам стали приходить разные люди, и у Д. С. явилась мысль устроить здесь ряд лекций о большевизме. Русское минское общество, глубоко провинциальное, поразило не этим, а – ненавистью к полякам! К освободителям Минска! Это было для нас столь дико, что мы не могли опомниться. А когда опомнились – стали в определенную позицию.
Конечно, поляки, особенно низшие служащие, вели себя по отношению к русским – глупо. Ненавидели их наравне с евреями и держали себя подчас, как завоеватели. Но это была мелочь, это было ничто перед тем ужасом, от которого поляки избавили Минск, взяв его у большевиков. (Теперь, когда я это пишу, когда Минск отдан «Советам» и они там по-своему распоряжаются, что поделывает, если жив, И. И. Метлин, упрекавший нас в «полонизме»? Поляки, мол, русского языка лишили! Не лишили ли его теперь большевики – всякого.)
Был там и кружок уже совершенно правых «остатков», – и с ним мы меньше сообщались… А епископ Мелхиседек, молодой, болезненный, красивый, был везде центром обожания. Да он и в самом деле не без интереса. Держал себя с польскими властями очень тактично. Приятно удивлял стремлением к «современности». Напомнил мне лучших иерархов Петербурга времени первых Рел. – фил. собраний. Интеллигентен. И с этим несомненное религиозное мужество при случае – подвижничество. (Наверно, его нет уже, после взятия Минска, в живых, но я не сомневаюсь, что он до конца держал себя достойно.) К нему я еще вернусь, а пока продолжаю нашу историю.
Очень скоро состоялась наша лекция, всех четверых, в Городском театре (как раз против нашей гостиницы). Устраивали ее заведующие русской Пушкинской библиотекой (д-р Болоховец – очень милый). Наплыв народа был такой, что мы, придя в театр, не могли пробраться и уже хотели идти назад. К толпе у нас остался особый ужас. Но после скандалов, криков полиции – прошли, наконец. Вся снежная, темная площадь была запружена не попавшими. Мы решили эту лекцию повторить.
Среди кучи всяких людей, стремящихся в нашу гостиницу, к Мережковскому, не из последних был редактор местной русской газеты «Минский курьер», некто Гзовский. Московский поляк, мелкий репортер, помыкавшийся по свету. При большевиках – был в большевистской газете, возможно – шпионил полякам (мог бы, при случае, и обратно). Громадного роста, с зычным голосом, довольно определенный хам, притом захолустный (уж был ли он в Москве?). Он тотчас сообразил, как выгоден ему приезд литераторов, да еще Мережковского. Решил его использовать, принялся за нами ухаживать, печатать всякие интервью и собственные статьи о Д. С., – презабавные, как, например, одна: «Ублюдок и титан» (Ленин и Мережковский). Мы отлично видели все и смеялись над его грубыми ухаживаниями, которые были бесполезны: и без них мы, одичавшие, оголодавшие без «слова», зараженные Совдепией, пошли бы на буро-желтые страницы его убогого «Курьера». Он сейчас был ярко антибольшевистский, чего же еще нужно?
Ко второй лекции мы уже не жили в «Париже». Д. С. и меня Мелхиседек устроил в Женском монастыре, в доме игуменьи. Две комнаты на второй половине домика, уступленные жившей там М. А. Гернгросс (очень милая дама из высшего общества, поклонница Мелхиседека). Дима переехал на другой конец города, к Хитрово, а Володя Злобин нашел приют за рекой, у сестры игуменьи, самой простецкой и довольно сварливой бабы.
Совершилось наше первое разделение.
Это, чисто внешнее, разделение Д. С и меня с Д. Ф., мне, однако, не нравилось. Дело в том, что крепкое наше содружество, соработничество в единомыслии, с начала войны стало ослабевать. Первая причина – сама война, несходство отношения к ней. Февральская революция (для нас с Д. С. она была неизбежна, мы только боялись, не превратится ли она в какое-нибудь чудовище хаоса), эта революция могла бы нас опять сблизить, но пока и я, и Д. С., видя опасность, до последних дней пытались что-то делать, помогать без разбора всем, кто только был против большевиков (Д. С. – Филоненке, я – манифестами эсерам, и оба мы – Савинкову) – Д. Ф. сразу погрузился в полное отчаяние.
Большевики, наша общая ненависть к ним (соединяла ли кого-нибудь ненависть?) только углубляла трещину между нами. При каждом наступлении белых генералов, когда мы говорили, что ничего не выйдет, что нужна «третья сила», – начиналось раздражение:
– Ну, и создавайте эту «третью силу»! Ее нет – и пока – молчите, не каркайте, не смейте «о них» говорить.
Мы понимали, что у него было и личное страданье – гибель трех сыновей любимой сестры, – но все же его ожесточение и пассивность казались мне чрезмерными. С пассивным отвращением соглашался он на отъезд. Можно сказать, что Д. С. насильно увез его, так он был инертен и безучастен.
Но с переезда, особенно с Минска, у нас оказалась, как будто, одна и та же «политика». Не сговариваясь, мы одинаково отнеслись к Польше, к полякам. Д. Ф. напечатал у Гзовского, что спор о границах 72 года сейчас спор праздный, абсурдный и преступный, – пусть эти границы только справедливость, – мы оказались на той же позиции. Польша одна боролась против большевиков. Мы должны были быть с Польшей. И были с ней по всей совести.
К приезду Савинкова Д. Ф. относился теперь тоже положительно. Однако нам всем троим надо было бы чаще видеться, говорить о лекции, об очередных статьях… Вот потому внешнее наше разделение мне и не нравилось, Д. Ф. не мог всякий день приходить в монастырь.
Вторая общая лекция тоже прошла с успехом, – публичным, – ибо минское общество начинало уже коситься на нас за полонофильство. Зато было громадное собранье у еп. Мелхиседека, где мы опять все читали. Он очень хорош, Мелхиседек.
Между тем поползли слухи о мире с большевиками. Потом, к счастью, заговорили о срыве мира. Что за ужас был бы этот мир! Не говоря о нас, но для самой Польши! Но она явно не знает еще этого, не знает и не понимает – большевиков.
Поезда в Варшаву не ходили, мы оставались в Минске. Дмитрий стал готовиться к третьей лекции, уже только своей и чисто польской – о Мицкевиче.
Помню розовые утренние рассветы в оснеженное окно моей монастырской комнаты. Стена собора, в саду, вся в заре. Сны, от которых плачешь, просыпаясь. Все то же, все о тех же… Если очень громко плачешь – Дмитрий будит из соседней комнаты.
И опять засыпаешь, пока, совсем утром, не внесет мать Анатолия, самая благообразная из монахинь, самоварчик, не подымется Д., собираясь идти в холодную ванну – умываться.
Днем – люди. Вот генерал Желиговский. Умный, удивительно приятный, все понимающий. Он первый как-то оформил нашу задачу.
– Поймите, – говорил он, – здесь нет никого ответственного и разумного из русских людей, с кем поляки могли бы разговаривать и кому могли бы доверять. Отношение к Польше парижских представителей несуществующих русских правительств – вам известно. Если бы они даже были здесь – из этого ничего бы не вышло. Ожесточенье поляков против русских огулом вполне понятно, хотя и не разумно.
«Неудачи русских генералов меня не удивляют. Я сам генерал русской службы, я знал многих, и знаю, почему в борьбе с большевиками они успеха иметь не могут. Генерал должен быть, вы правы, но генерал не может соединять в себе военную и гражданскую власть. Возвращаясь к Польше, которая сейчас одна могла бы серьезно помочь борьбе с большевиками, да фактически одна сейчас и борется с ними, – я повторяю, что таких русских антибольшевиков, с которыми она могла бы соединиться, – здесь нет. Нам не с кем разговаривать. Вы первые русские люди, точка зрения которых нам не внушает недоверия. Вы поняли, как болезненно отношение Польши к России. Границы 72 года… Какой разумный поляк будет претендовать на них фактически? Но это вопрос чести. Это – печка, от которой надо танцевать. Отказ русских от насильственных действий царского правительства против Польши, начиная с 72 года. Момент восстановленья справедливости – честное – от начала разговоров Польши и России на основах взаимного доверия. В Польше нужно создать русское правительство, которое Польша желала бы видеть в России у власти, после свержения большевиков».
Вот, собственно, суть наших разговоров с генералом Желиговским. Нечего подчеркивать, что мы отлично понимали друг друга. Мы были еще только в Минске, мы не знали ни варшавских настроений, ни положения Польши и ее правительства, не знали детально соотношение сил партий, не уясняли себе, что за личность Пилсудский (не Керенский ли, думалось порою, читая влюбленные письма молодого Чапского), но главная суть дела была ясна. Ген. Желиговский только утвердил общую нашу линию.
Он тогда занимал важный пост в Минске, где сумел себя отлично поставить. Бывал на каждой нашей лекции.
Внешним образом тоже помогал нам, во всякой возне с бумагами, с пропусками и т. д. Часто приезжал в монастырь. Иногда присылал рослого своего адъютанта (который потом, при отъезде нашем в Вильно, и провожал нас на вокзал, на автомобиле Желиговского). О Желиговском, когда мы расстались, осталась у нас память, как о первом польском друге, умном, сильном и надежном.
Лекцию Д. С. о Мицкевиче Пушкинская библиотека отказалась устраивать, – все из-за полонофобства, – устраивал, частным образом, доктор Болоховец.
И. А. Дудырев, молодой русский бобруец (тот, что спасая нас в проклятой «контрольной станции»), последовав за нами в Минск, пристроился тоже в монастыре, в передней у «матушки» (вот халда, не тем будь помянута!) и уж стал тихо мечтать о монашестве… Я в шутку звала его «сыном монастыря», – как бывает «дочь полка».
Так мы жили. Утром, бывало, матушка игуменья пронзительным голосом ругается в коридоре, разносит монашенок, а под вечер приезжает Мелхиседек, и начинаются, под его аккомпанемент на фисгармонии, на половине «матушки», акафисты Иисусу Сладчайшему, – длинно-длинно, нежными женскими, будто ангельскими, голосами.
Мы с Д. С. были на торжественной всенощной накануне престольного праздника нашего монастыря. (Собор сохранился, но был без креста, большевики успели снять.)
Я понимаю интуитивное обожанье, которое вызывает к себе Мелхиседек. Его голос, его возгласы напомнили мне очень живо… Андрея Белого, когда он читал – пел свои стихи. Так же поет Мелхиседек, только божественные слова. Служит всенощную, как мистерию. А когда, в конце, вышел в голубой мантии, шлейф которой несли за ним к дверям, было и в самом деле поразительно.
Мирра у них не было, просто деревянное масло, и я, для этой всенощной, отдала матери Анатолии, по ее просьбе, последние капли духов «Coeur de Jeanette»[86].
Болезненный Мелхиседек неутомим: по 6–8 часов на ногах, в долгих службах.
Любит стихи. Очень был тронут, что я ему своей рукой переписала те, которые читала на его вечере. Трогательно боится своего воспитанья, заботится, как бы ему с нами не показаться «кутейником». Но он очень культурен. И религиозно культурен.
После лекции Д. С. о Мицкевиче (тоже совершенно полной и в присутствии представителей польской власти), мы решили уезжать. Поляк Ванькович обещал поместить Д. С. и меня у себя. Желиговский устроил удобный проезд.
В поезде мы встретились с французом, полковником Belgrand. Потрясла чуждость европейцев. Мы – еще «оттуда», мы все помним, знаем, а он говорит, как ни в чем не бывало, «Les bolcheviks?», утешал нас. Ну что ж, вы забудете, peu à peu, le printemps viendra…[87] говорил о Leonard de Vinci…
И ведь милый человек!
В Вильно мы сначала остановились в гостинице, – грязной, разрушенной, как все. Дима и Володя там же, на другом конце коридора.
Тотчас же начались приготовления к лекциям. И прихожденья всяких людей. Явился Ванькович, и дня через три мы с Д. С. переехали к нему на квартиру, в две очень приятные комнаты. Как раз напротив гостиницы, где остались Дима с Володей.
Русских в Вильно мы встречали не много. Главное – польское общество. Наш старый знакомый и друг, Марианн Здеховский, профессор виленского университета, устраивал у себя постоянные, очень интересные, собранья. Собственно только с Вильно мы начали понимать польское общество и польские настроения. Хотя это были круги скорее правые, но их надо было группировать иначе, не по-российски, а как-то по-новому. Приходилось считаться с несколько странной ситуацией. Правительство (Пилсудский) – левое, страна молодая, вдрызг разоренная войной, едва возникающая; традиции старые, дворянство старое; древняя ненависть к России – поработительнице; всеобщий патриотизм и – антисемитизм.
Разобраться было трудно, ибо везде мы наталкивались на противоречия. Но раз поняв общее – уже оказывалось просто брать частное.
Тут, у Map. Здеховского, оказалась и старинная, еще по Парижу, приятельница наша, княжна Стазя Грузинская. Уже католической монахиней (в светском платье). И униат Диодор, тоже ксендз теперь, бритый, с виду мальчик. Стазя долго сидела в большевистской тюрьме, с проститутками и уголовными, за христианское рабочее братство. Только приход поляков освободил ее.
Наша общая лекция была прочитана в громадной длинной зале с колоннами, при таком стечении публики, что выломали стеклянную дверь, был шум, и полицмейстер выбегал каждую минуту.
Вторая лекция Д. С. о Мицкевиче попала под бойкот евреев. Все билеты в той же гигантской зале были заранее раскуплены, так, что не попало много поляков, а зала была на треть пуста.
Таким образом, Дмитрий уже сделался поводом усиления раздора между евреями и поляками.
Собрания у Здеховского продолжались вплоть до нашего отъезда в Варшаву. Бывало много католиков, ксендзов и прелатов.
Познакомились мы с очень милым благородным французом, членом военной миссии, d’Aubigny, через которого сносились с Парижем. Знали, что Савинков еще и не думает ехать в Варшаву, хотя я часто об этом писала, Д. С. и Д. Ф. делали к моим письмам свои приписки.
В Вильно Д. Ф. опять погрузился в свое раздраженное уныние, без видимой причины. Мы с Д. С. надеялись, что в Варшаве это опять у него пройдет. Затрудненье было – где жить в Варшаве? Она переполнена. Юзик Чапский писал, что хотел устроить нас в пансионе, но потерял надежду. Наконец Любимова, сестра известного Туган-Барановского, наша знакомая, бывшая варшавская губернаторша, ныне дама-патронесса разных «Крестов», дала нам знать, что приготовит нам «deux petites chambres mauvaises»[88] в гостинице Краковской.
В Вильно снег уже не лежал, когда мы уезжали. Грязь по колено, ветер, дождь. А ехали мы – в первый раз в почти нормальном Sleeping’e![89] Удивлялись и даже боялись.
В Варшаве нас встретило солнечное, ветреное, сухое и холодное утро. Была уже половина февраля.
Краковская гостиница на Белянской (еврейский квартал) оказалась не особенно лучшим притоном, нежели корчма Янкеля в Жлобине, где мы ждали переезда границы. Нас и туда долго не хотели пускать. Наконец благодаря еврею, фактору Любимовой, дали комнату для двух, обещая (уклончиво) дать к вечеру другую. Пока же мы поместились в этой все четверо, в одной (как у Янкеля). К счастью, был день.
Д. С. с Володей поехали в Центро-Союз, где, как Д. С. известили в Вильно, были получены деньги от шведского издателя Бонье (он еще в Минске, узнав, что Мережковский в пределах досягаемости, телеграфировал ему, с просьбой прислать текст новой своей работы и обещая спасительный аванс).
Мы с Д. Ф. вышли просто на улицы Варшавы. Снегу не было и помина. Чисто, сухо, довольно холодно. Незнакомая Варшава казалась чужим и неприятным Парижем.
Выйдя на Краковское предместье (главная улица), решили поискать Любимову. Она оказалась тут же, против почты с глобусом наверху.
Ее квартира возбудила во мне зависть. Но какую-то равнодушную. Давно уж стало как-то все равно все внешнее.
Сама Любимова оказалась не той сестрой Туган-Барановского, которую мы знали ближе, – второй. Полная, довольно красивая, представительная, и, по всем видимостям, очень «деловая»: она и в Комитете, она и в Кресте, она и с американцами, она и с евреями, она – везде. Приглашала нас к себе – знакомить со «всеми».
Сразу почувствовалось, что тут разные сложности и не без чепухи.
К вечеру мы еще были в той же несчастной комнате – вчетвером. Пришел Юзик Чапский, милая, нелепая дылда, – солдат. После своей эскапады в Петербург он вернулся в собственный полк, но не офицером, а пока – солдатом. Он ребенок-мечтатель, но очень глубокий, кажется. Типичный поляк, с лучшими их чертами. Влюблен в Пилсудского.
Поздно вечером Диме и Володе дали маленький номер в конце холодного и вонючего коридора. Мы с Д. С. остались в этом, первом номере (42), выходящем на лестницу.
В нем, в комнате с двумя кроватями у двери, с грязным умывальником и единственным столом, с окнами на шумную еврейскую улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стеной в коридоре, где как раз висел телефон, мы прожили с Д. С. больше двух месяцев. Здесь же мы готовились к нашим лекциям, здесь писали и книгу (поочередно, так как стол один), здесь принимали и толпу разнообразного народа – русских, поляков, интервьюеров, послов, людей всех направлений и всех положений.
Кофе утром варила я, Володя приносил нам хлеб и молоко из нижней еврейской цукерни «Студни», где они с Д. Ф. по утрам сидели. В 3 часа бледный наглый кельнер приносил нам обед (Д. Ф. обедал где-нибудь в городе), а вечером тот же Володя опять из «Студней» – яйца. Когда за стеной утихал наконец телефон, ночью, мыши поедали, с гвалтом, крошки и пытались откупоривать банку с запасным конденсированным молоком.
После обеда Д. С. уходил хоть немного отдыхать в номере 35 (Д.Ф. и Володи), а мы оставались втроем у нас. Это принужденное сиденье без дела и возможности одиночества вспоминается особенно тяжело.
Бесполезно описывать подробно эти месяцы. Важно наметить общую черту и поставить главные вехи наших этапов.
Были, собственно, две линии: русская и польская. В «Русском комитете» – русский агент Кутепов (не генерал), ставленник и представитель несуществующего русского правительства – в Париже, Сазонова, ненавистного всем без изъятия, и находившегося накануне исчезновенья. Этот Комитет тоже находился в стадии кризиса. Искрицкий уходил, делами заведовал какой-то Соловьев, сладкая и малоизвестная личность.
Вскоре после нашего приезда всех нас в комитет пригласили на торжественное заседанье. Мы там без стесненья гнули свою линию, среди невинной, но раздражающей чепухи Семенова и еще кого-то вроде. К удивлению, весь комитет, под председательством Соловьева, присоединился к нам. А старик, генерал Симанский, проявил даже некий пыл.
Мы, однако, старались главным образом выяснить, на какой позиции стоял приезжавший сюда Савинков с Чайковским. Соловьев сказал, указывая на Д. С. и на меня:
– Вот на этом месте сидел Чайковский, на этом Савинков. И говорили они совершенно противоположное тому, что говорите вы.
– Как? – закричал Д. С. – Совершенно противоположное? Значит, комитет был с ними не согласен?
Но комитет, оказывается, был согласен и с ними, как с нами, хотя мы и говорим «противоположное». Не угодно ли понять?
С нашими лекциями мы не торопились. Хотелось сначала присмотреться, уяснить себе расположение шашек.
Отношение к русским, – не к нам лично, а вообще, – было, действительно, неважное. Это, впрочем, естественно. Не говоря о прошлом, и здешние русские сами были неважные. Да и вели себя из рук вон плохо. О Кутепове, оригинальном «представителе», я уж говорила. Польское правительство смотрело на него крайне недоброжелательно, едва его терпело. Он ровно ничего не делал, да был и бессилен.
Имя Дмитрия Сергеевича, кроме всяких интервьюеров, корреспондентов и т. д., скоро привлекло к нам польскую аристократию, всяких контов и контесс, – а также послов и посланниц. Помогали и обрусевшие поляки (сделавшиеся теперь самыми польскими поляками). Милейшее дитя, москвич Оссовецкий (притом ясновидящий) enfant terrible и знающий всю Варшаву, – очень был хорош. Надо сказать, что почин «Русско-польского общества» принадлежит ему.
Положенье было такое, что граф Тышкевич, например, в первые свиданья с нами, не говорил иначе, как по-французски. И Д. С. долго обсуждал с ним, не читать ли ему свою лекцию о Мицкевиче на французском языке. Этот же Тышкевич, председатель Русско-польского общества, со смехом вспоминал последнее время сомнения Д. С. Говорит по-русски, как русский.
Лекция и была прочитана по-русски. Имела громадный успех. Присутствовал весь цвет польского общества, с контессами и – с военными кругами (лекции и Д. С., и наши общие были на «Корове», в белой зале Гигиенического общества).
Отмечаю, что в Польше нет единства. Аристократические круги, естественно, более правые. Очень сильна партия низов, так называемая П. П. С. Она не правительственная, но полуправительственная, ибо из ее истоков – Пилсудский. Казалось, однако, что умный молчальник стал от нее уже освобождаться, опираясь на военные круги, на армию, где имел громадное личное обаяние.
Влюбленный в него (издали) Юзик Чапский старался соединить нас с его кругами. Привел к нам Струка, очень приятного, тихого, – но, кажется, хитрого, – польского писателя, друга Пилсудского. Но из двухчасовой беседы с ним нельзя был вынести ничего определенного.
В Польше ощущенье ненадежности, нестроения, разорения. И все-таки есть известная степень устойчивости: надо вспомнить, что перенесла она во время войны, как недавно существует, – да еще в соседстве с большевиками. А они на пропаганду не скупятся.
Но Д. С. сказал, после одной беседы с очень умным поляком, что Польша может погибнуть, если не победит свою вековую ненависть ко всякой России, без разбора, и будет послушным орудием в руках западных держав, которые ее создали, правда, но довольно как-то глупо, и не в ее же интересах! И мало ли что могут они ей приказать! Но поляки не дальновидны.
А что нас касается – близость большевиков физически нами ощущалась. Например, непрерывные, иногда совсем неожиданные, забастовки. Раз мы вышли, чтобы идти к Лесневскому (русский поляк, женатый на русской, милый, но неврастеник), была электрическая забастовка, и темная, кишащая темным народом улица производила такое «напоминающее» впечатление, что Д. Ф. внезапно повернул назад: «Не могу!» И вернулся бы, если б не уговоры Чапского, да и я чуть не насильно повлекла его вперед.
Когда мы возвращались – огни уже пылали. И странно был освещен внутри – пустой, бескрестный Собор на площади: забыли погасить, и он, запертый, сам зажегся, когда кончилась забастовка.
Хотя ни у кого из нас не было «своего угла» и мы по настоящему редко «виделись», – я не могу сказать, что в это время мы трое не были вместе. Д. Ф. не ходил с нами к послам и контессам, больше был с русскими, но польско-большевистская линия у нас была общая, и какие-нибудь свиданья более важные происходили в присутствии всех троих.
Бывали мы у профессора Ашкинази, еврея – ассимилятора, близкого к правительственным кругам. Надо учитывать силу польского антисемитизма, Ашкинази же и в аристократии – и в народе. Левое правительство, близкое к П. П. С. – (а в этой соц. партии немало перлов и диамантов, газета же их «Robotnik» то и дело впадает в большевизм), правительство это – единая защита евреев.
У Ашкинази мы видели и директоров театра – и министра Патека, и писателей – и генералов. Сам Ашкинази – его не разберешь, хитрый, должно быть, – защищал нашу позицию как будто. Яростно против мира Польши с большевиками.
(Между прочим, у него оказалось (?) наше письмо Керенскому, после корниловской истории, где мы убеждаем его «скорее отказаться от престола». Это письмо, моим почерком написанное, запечатанное моей печатью, кто-то привез Ашкинази после разгрома Зимнего дворца. Кто – он не сказал.)
Упорно работая в польских кругах против мира с большевиками, долбя все по тому же месту, – мы ждали Савинкова. Писали ему. По ответам выходило, будто он все понимает, как мы, но что-то приехать сюда ему мешает. В это время ликвидировался Деникин, что на нас мало производило впечатления: с лета 19-го года, еще в Совдепии, мы видели его гибель. Нужно было другое, совсем другое. И сейчас – отсюда, из Польши.
Каждый день Д. С. носили какие-нибудь карточки, кто-нибудь просил свиданья. Раз слуга из гостиницы сказал, что нас просит о свиданье генерал Балахович. Проездом остановился в «Краковской», хочет дать нам какие-то «документы». Д. С. сомневается, Д. Ф., сочувственник движения «белого», отмахивается от этого «кажется, разбойника», но я, вспомнив всякие слухи, проклятия большевиков, Юденича, Псков, все непонятное, темное, – с интересом настаиваю на Балаховиче.
В сумерки он является.
Мы были сначала все трое. Через час Д. Ф. ушел, а Д. С. то уходил, то опять приходил, утомленный. Я сидела все время, часа четыре, если не больше.
Небольшой, молодой, черненький, щупленький и очень нервный. Говорит все время. Вскакивает, опять садится.
– Я ведь генерал. Я зеленый генерал. Скажут, авантюрист? Но борьба с большевиками – по существу авантюра. У меня свои способы…
И его способы, чем дальше он говорил, казались мне недурными, пожалуй и действительными, ибо тоже большевистскими.
– Только мой один отряд Эстония выпустила вооруженным. Мои люди отказались разоружаться. В апреле я с ними опять иду на большевиков. Мне все равно, хоть один – но на них. Поляки возьмут меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским, и еду тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело…
Да, он может быть нужным, хоть и может оказаться страшным, если на него положиться и оставить его распоряжаться. Он – орудие, он – может, хорошо приспособленный к большевизму, к большевистским лбам, но какая крепкая рука может держать этот молот, где она?
Балахович – интуит, дикарь и своевольник. Ненависть к большевикам – это у него пламенная страсть. Но при том он хитер, самоуверен и самолюбив. Совсем не «умен», но в нем искорки какой-то угадки. Он, конечно, разбойник и убийца, но теперь, по времени, после этих лет сплошной крови, не страшнее ли, не грешнее ли Сережа Попов, смиренно-нежный толстовец?
Во всяком случае, Балахович – генерал с «изюминкой».
Долго и путанно рассказывал, как он арестовывал Юденича. Понять в этом истерическом рассказе – я ничего не поняла или мало, но сознаюсь, что была на стороне Балаховича, а не Юденича.
До мая мы прочли две общие лекции, и две прочел Д. С., не считая сообщений в частных кружках. Все лекции – битком, а настроение очень хорошее. Дима читал наиболее вяло. Он тянулся к русским. И вскоре был выбран председателем Русского комитета. Это мне не очень нравилось, что я ему и сказала раз – мы ехали вдвоем, в теплый солнечный день, в кружок «мессианистов». Но Дима уверял меня, что это дело его не свяжет, что это работа попутная, и нечего бояться, что он «засосется в русском болоте», в мелочи уйдет, как я его предостерегала. Все, мол, это лишь «пока», хорошо, посмотрим. А мессианисты… тут много своеобразно-любопытного, но мне некогда останавливаться.
Знакомство с Булановым и Гершельманом… Из русских – единственные, с которыми мы сразу почувствовали схождение и возможность будущей работы.
Мысль о собственной газете уже возникла. Единственная русская газета в Варшаве была «Варшавское слово». Мы уже в Минске знали, что ее называют «поганкой». Заведовал ею какой-то еврей Горвиц, газета большевичничала вовсю, личность Горвица была крайне темная. Мы не могли понять, как ее не пристукнут. Но Горвиц услужил и правой партии, – «страже крессовой», ею был даже субсидируем.[90]
Горвиц однажды вполз-таки к нам в комнату (достаточно взглянуть на него!), начал было ругать Савинкова, а когда мы обошлись с ним как нельзя холоднее, принялся в газете ругать и нас, с некоторой, впрочем, опаской.
Толки о нашей газете с поляками, потом у Оссовецкого… Тут и было зарожденье польско-русского общества.
Вендзягольский (адъютант Пилсудского) вернулся из Парижа, привез особое письмо мне (нам) от Савинкова. Писал, что «вполне с нами». Что когда был в Варшаве, то согласился с Пилсудским… (Подчеркнуто, но какого рода было соглашенье, не сказано.) Далее, что Чайковский поехал к Деникину, и до его возвращения и его информации «ехать в Варшаву нет смысла».
Д. С. удивленно рассердился: какой еще Деникин! Да, тут же, через Вендзягольского же, получили мы и прочли отчаянную информацию с юга Чайковского. Деникин кончался. Чего ждал Савинков?
Наступила, между тем, жара. В нашей грохочущей и вонючей комнате в «Краковской», из которой выбраться мы потеряли надежду, становилось жить довольно нестерпимо. На измученные лица Д. С. и Димы жалко было смотреть. Милый Юзя Чапский стал умолять нас поехать отдохнуть в именье Пшеволоцких, его зятя и старшей сестры, – в «Морды». (Семья Чапского, его сестры – это особая прелесть.)
Я, конечно, очень хотела увезти обоих, и Д. С., и Диму. Но Дима нервничал и все мрачнел. Чувствовалось, что держится сутолокой, мелкими делами, работой (положим, и я тоже) – и что он не поедет. Раз Чапский по-детски восторженно описывал, как хорошо в «Мордах», как теперь там цветут сирени… Д. Ф. вдруг, вспылив, закричал:
– Не могу я, не нужны мне эти графские сирени!
И я поняла, что его нужно оставить.
Все эти две недели в «Мордах» – действительно: сирень, сирень кругом, и днем и ночью пенье соловьев в сиренях. Милая, нежная, сама как сиреневая ветка Рузя Чапская, младшая сестра. Красивая Карла в предчувствии материнства. Помещичий быт польских аристократов.
Но как я понимаю Диму! Разве можно отдыхать, разве можно – нам – «отдохнуть»?
Единственно, что меня поддерживало, – усиленная работа над нашей запроданной книгой о большевизме. В «Мордах» я свое почти кончила. (Совсем кончила в Данциге.)
Долго сидеть в «Мордах» не приходилось, уже потому, что готовилось торжественное событие – первый ребенок Карлы. Да мы и так уже назначили день отъезда, ибо Дима писал, что в Варшаву приехал Родичев (умеренный думец, раньше мы его не знали) и затем какой-то посланец от Савинкова из Парижа, Деренталь, который должен переговорить с Пилсудским и дать знать Савинкову, когда приехать. Об этом Дерентале мы раньше и не слыхивали. Д. Ф. писал, что это «человек довольно серый».
Ясно, из каких-нибудь савинковских «поклонников», вроде совершенно идиотического Флегонта Клепикова. Савинков, увы, таких любит, ему все равно, кем помыкать… Вот его беда…
С газетой, – пишет Д. Ф., – дело на мертвой точке. Две разные группы ее хотят, и не могут сговориться. Горвиц лез и к Диме, держал себя с последним унижением. Конечно, и Дима отверг эту «гадину».
Дима звал нас вернуться. Нанял нам две комнаты у евреев, себе – где-то далеко, у немки, Володя должен оставаться один в «Краковской». Окончательно мы разделились.
За три дня до нашего отъезда, когда в доме не было ни мужа Карлы, ни Рузи (младшей сестры) – они уехали в Варшаву, – Карла внезапно взяла да и родила!
Утром старый слуга нам объявил: родилась девочка. Даже доктор не успел приехать, даже акушерка из Седлеца!
Конечно, телефоны, телеграммы, к вечеру прилетел Генрих (муж) с Рузей, скоро и Марыня (средняя сестра), другие родственники… Мы чувствовали себя не у места. К счастью, день отъезда скоро пришел, и мы, простившись с хозяевами и с младенцем (его сняли на руках у Дмитрия, который при этом застыл в неловкой позе), – уехали в Варшаву.
Дима нас встретил на нашей новой квартире, на Крулевской, 29а, против Саксонского сада, у евреев Френкелей. Отсюда начинается наша новая варшавская фаза, и, кажется, самая важная.
Я – в большой комнате, на улицу, на противоположной стороне густые, душистые купы деревьев Саксонского сада. (На улице, к сожалению, опять скрежещущий трамвай.) Но высоко – ужасная лестница! – а потому не так шумно. Комната – бывшая гостиная бывше-богатых евреев. Ломберный стол посередине, где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером дает нам простоквашу и вареники, а днем я разливаю чай из толстого чайника и умоляю гостей не облокачиваться на стол. (Оссовецкий, в конце концов, таки свалил все и разбил чайник.)
В углу маленькая проваленная кроватка с красной периной, – я ее утром убираю, закрываю ковром, его дала мне дочка, миленькая Мальвина.
Дмитрий – в небольшой комнатке напротив, через переднюю. У него такая же кровать (обе с клопами), оттоманка и… письменный стол. Но темновато, а у меня солнце целый день.
И целый день – люди, люди… Но уже не тот беспорядочный навал случайных, – разных дам, интервьюеров и т. д., как бывало в «Краковской»: люди начинали группироваться, «повторяться». Буланов, Гершельман (Дима их тоже приспособил к Русскому комитету), Родичев, который непреодолимо мил, добр, честен, но глуховат и несколько «сел на ноги», по выраженью Димы. Полонофил, но все же «ка-де», и еще приехавший из оглупевшей Европы. С ним мы все подолгу вели серьезные беседы.
Деренталь? Стертый блондинчик, какой-то «безвидный», он жил бездейственно, дожидаясь возвращенья Пилсудского с фронта (а он вернулся только два дня тому назад).
Стало выясняться, что Деренталь действительно один из савинковских «пешек», но появившийся в последний период. Сам по себе – он, кажется, что-то пишет, или писал, в русские газеты (прежде) из Испании.
О других его связях с Савинковым узналось потом, а пока – он рассказал, что сопровождал его со своей женой по Совдепии весь предпоследний год. Савинков был сначала в Москве, потом проделал ярославское восстанье, потом, в именье адмирала Одинца чуть не умер от холеры. Жена Деренталя («типичная парижанка», по его выраженью) ухаживала за ним. Затем они очутились в Сибири. Наконец оттуда отправились вместе морем в Париж, обогнув пол-земного шара.
Деренталь уверяет нас:
– О, вы теперь не узнаете Бориса Викторовича. Он сделался таким дипломатом! Так со всеми любезен. Нет следа его прежней резкости.
Нам хотелось верить. Мы помнили его – одиночку, со слишком явным «сампрандерством», которое всех от него отталкивало, – хорошо, если он сумел приобрести нужную сейчас гибкость.
Однако мы напрасно пытались узнать, более определенно, кто же за ним, с ним теперь? Оказывалось, что как будто никого. Чайковский? Да, может быть, отчасти. А еще? Неизвестно.
Относительно его зимнего приезда в Польшу и теперешних полномочий Деренталя – не скоро мы все это уразумели, благодаря привычно конспиративным приемам Деренталя. В конце концов оказалось, что у Савинкова был письменный проект соглашения с Пилсудским, очень выгодный, с пунктом, что Польша обязуется содействовать свержению большевиков «в течение 20-го года».
Если он, при этом, и не терял контакта с Пилсудским (как утверждал Деренталь) – чего же он до сих пор не ехал?
Правда, как раз за это время произошла история с Украиной, неожиданное соглашение Пилсудского с Петлюрой и взятие поляками Киева. И пока был успех – шипели мало, а чуть дела на юге зашатались – поднялся и в самой Польше гвалт против «украинской авантюры». Я уж не говорю о криках нашей несчастной русской эмиграции против Польши… Но об этом после.
Родичев, и тот вдруг вскипал, начинал тыкать пальцем: «…а сог-глашение… с этим рразбойником… с-с П-петлюрой… этто што?..»
Через Гершельмана и его друга, графа Пшездецкого, начались хлопоты устройства для Деренталя аудиенции у chef d’Etat[91]. Деренталя было не понять. Уверял, что на его ответственности лежит решить, стоит ли Савинкову приезжать или нет. Решит он лишь после свиданья с П. Даром – не будет вызывать. От Савинкова шли ему нетерпеливые и довольно странные депеши. (Всегда подписанные «Aimée Derenthal», женой Деренталя.)
Наконец аудиенция была назначена, и даже в один и тот же день, как и Родичеву (в другой час, конечно).
Родичев был с нами в прекрасных отношениях, мы виделись каждый день и уж, конечно, всячески старались его держать на нашей стезе. Он лишь изредка бурлил и порывался к своим «ка-де». Помогала его любовь к Польше, а главное то, что Родичев сам по себе удивительно ясный и прекрасный человек. К Савинкову относился он и хорошо (а ведь «умеренный»! И большевиков не испытал путем! Да еще из Парижа приехал!). Лишь порою, ни с того ни с сего, вдруг начинал доказывать, что у него «ничего не выйдет… потому что он… убийца!»
– Вышло же у Пилсудского, – возражает Д. С., – а ведь он тоже из такой же боевой организации.
Тогда Родичев начинал доказывать, что Пилсудский это свое «убивничество» преодолел, переступил, а С. – нет («Я читал его романы!»), и что это лично делает ему честь, но что действия его обречены на неудачу. И прибавлял, смутно, что и Пилсудский – еще неизвестно, может быть, тоже провалится.
Эти родичевские выводы меня, по крайней мере, как-то тревожили. И особенно при сравнении Савинкова с Пилсудским, то, что было так видно: этого обожают целые косяки людей, он, говоря по-мещански, «популярен» и в армии. Савинков же – потрясающий «личник» – точно специализировался по непопулярности. Глубок, может быть, но как дыра, проткнутая длинной палкой. Глубок – но узок, темен… Других людей он видит лишь тогда, когда они ему поют дифирамбы… Пожалуй, и тогда не «видит», а только их замечает. Впрочем, Деренталь говорит, что он изменился.
Старика Родичева в Бельведер шапронировал какой-то расторопный малый из Русского комитета. К четырем часам.
Свиданье это не могло иметь никакого особого значения и никаких реальных последствий. Да и не стремилось к ним. Просто акт вежливости с обеих сторон, со стороны Родичева – «желанье взглянуть в глаза». Ну, да и так, вообще, на всякий случай. Родичев уже имел против П. особый зуб, – Петлюру, Украину. Уж нет-нет – и зажигался (минутно, правда) тем огнем лжепатриотизма, негодованья, который разгорался уже среди русского эмигрантства в Париже и в Лондоне.
Ведь ей-Богу, – и это стоит отметить, – все оно, вплоть до невинно-безалаберного Бурцева, левое и правое, принялось кричать вместе с большевиками о патриотическом подъеме в Совдепии, в Красной армии, против «гнусной Польши», отнимающей у «России» Украину, объявляющей ее «самостийность».
Орало без различия партий. В глупостях, безумно-фатальных (как «невмешательство в дела»… большевиков, хранящих, мол, «единую-неделимую» и проч.) русское эмигрантство всегда единодушно.
Под вечер пришел Родичев к нам, обстоятельно рассказал об аудиенции. Усталый, он как-то размягчился. «Сказал ему прямо, что об Украине буду молчать». А в общем – доволен. П., очевидно, был с ним мил, осторожно-умен. Спрашиваю о впечатлении от личности.
– Я скажу… да, я скажу, что у него – честные глаза… На другой день явился Деренталь. Были только мы трое и он.
Явился довольный. Говорит, что послал Савинкову благоприятную телеграмму. Путем от Деренталя ничего не узнаешь, но выходило, будто Пилсудский хочет приезда Савинкова. Хочет, однако, чтобы он приехал – один.
Да с кем Савинкову и приехать? Полной ясности у нас не было, но выходило все-таки, будто за ним и у него – никого нет.
Это плохо. Перед самым свиданьем Деренталя опять были противоречивые вести: то «не приеду», то «все изменилось, приеду, и sans papa[92]» (Чайковского).
Мы стали ждать. И с большими надеждами. Даже Д. Ф. (сравнительно) весел.
В день приезда Савинкова мы его ждали с утра, у нас, все втроем. Но поезд опоздал, и в два часа мы с Д. С. пошли обедать в наш ресторан, как всегда. Д. Ф. тоже ушел (он обедал в другом месте). Скоро все вернулись. Кто-то из Френкелей, наших хозяев, сказал, что у нас был гость, «кажется, министр», вернется в пять. На карточке Савинкова стояло: «Ancien ministre de la guerre de Russie»[93] и внизу: зайду около 5-ти.
В половине пятого – пришел. Мы с ним все расцеловались.
Мне сразу показалось, что он – неуловимо изменился. Чем? Невозможно определить, но временами я его не узнавала. (Говорю, конечно, только о физике.) Между тем перед свиданьем в Петербурге мы его дольше не видали, и перемены в нем не было, теперь же перемену заметил и Д. С., как потом сказал мне. Постарел? Поплотнел? Полысел? Может быть. Скоро, впрочем, это первое впечатление сгладилось. Столько надо было сказать друг другу! И мы заговорили, перебивая его и самих себя.
Первые дни по приезде Савинкова случилось, что Пилсудский был не в Варшаве, и решительная аудиенция откладывалась. Это не имело значения, так как было известно, приблизительно, чего можно конкретно от нее ожидать. И, конечно, торг с П. имел свои трудные, даже унизительные, стороны. По крайней мере, так смотрел на него Савинков. Он волновался и мучился. Избегал встречаться даже с лицами официальными, больше сидел у себя в гостинице, и вечно звал меня туда, то чай пить, то даже обедать, и вел со мной длинные разговоры. Я ему никогда не льстила, даже малейших комплиментов избегала, однако, он, может быть, в благодарность за помощь в литературе, ко мне весьма благоволил. Да я, главным образом, и писала ему всегда, а теперь он чувствовал, после корниловской истории, что я на него-то и надеюсь и обоих, Д. С и Д. Ф., в этой надежде поощряю. Кроме того, чем-нибудь в себе похвастаться ему всегда хотелось.
Тут он раз открыл передо мной маленький чемоданчик и вытащил оттуда какие-то длинные цветные ленты, красные, кажется.
– Это мои масонские отличия, – сказал он не без гордости. – Вы знаете, меня даже в гроб клали…
В эту минуту, слабо постучавшись, вошел Деренталь, за какой-то справкой. Савинков, не выпуская лент из рук, наскоро ему ответил, а когда Деренталь исчез, проговорил равнодушно:
– Ах, ведь я не имею права никому этого показывать. А Деренталь видел…
Я подумала, что вряд ли это секрет от Деренталя, который и сам, может быть, масон, но промолчала, только спросила, откуда у него взялся Деренталь. И тут узнала любопытную историю: некий старый русский еврей, давно живущий в Париже, писавший в «Русском слове» до революции корреспонденции под псевдонимом «Брут», дружил с Савинковым, который часто бывал у них в семье. Перед войной этот самый Брут вдруг взял, да и написал в русскую полицию на Савинкова донос. Это могло иметь неприятные результаты. С. часто бывал нелегально в России. К счастью, дело вовремя узналось, Брут был обличен. – И я – ему простил! – торжественно сказал мне Савинков. С тех пор и он, и все они – самые преданные мне люди. Могу во всех случаях рассчитывать на них и полагаться, как на самого себя. Дочь Брута – жена Деренталя. Вы ведь слышали о нашем путешествии по России и в Европу через Индийский океан? – Кстати, прибавил он вдруг, Деренталь спрашивал меня, не может ли он выписать жену сюда. Я ему сказал, что это его личное дело, но потом подумал, что если обстоятельства сложатся благоприятно и начнется работа, – жена его может быть полезной: она прекрасно знает языки, типичная парижанка, все время работала в нашем Union… Надо только подождать, когда дела выяснятся.
И разговор перешел на дела.
Историю Деренталя, его тестя и великодушного «прощения» Савинкова, для приобретенья преданного семейства, я рассказала Д. С. и Д. Ф. Последний не обратил на нее вниманья, а Д. С. она так же не понравилась, как и мне, хотя ответить, чем именно, – мы не могли.
К нам на Крулевскую Савинков приходил, но чаще тогда, когда никого не было. Говорили о Пилсудском. Д. С. все спрашивал, что он может понять? Мы знали, что тут очень важен человек, его широта и сила. Он может сделать так (понимая), что станет возможна общая удача, и зависимое положение Савинкова не будет тяжело. Но может и внутренне «провалиться», понять вполовину, внешне, хитро и грубо, и это уж будет худо, и чревато всякими, близкими и далекими, последствиями.
Вот провалится или не провалится Пилсудский – мы всего больше и рассуждали.
Не знаю, как-то чувствовалось, что приезд Савинкова в Польшу – окончательный, что в Париже, да и везде, – у него сожжены корабли (если были). Кто за ним был? Как будто и никого. Впрочем, в то время нам это было все равно. Савинков говорил о двух генералах, одного ждал на днях – Глазенапа.
Наконец день аудиенции наступил. Савинков приехал к нам прямо из Бельведера. Мы были одни, только втроем. Первое слово его было: «По-моему, он провалился».
То есть – внутренне. А извне – все было как бы прекрасно: решено формированье русского отряда на польские средства. Но не официально объявленное, а под прикрытием «эвакуационного комитета». Председатель – Савинков.
– Вам, – сказал Савинков, обращаясь к Д. Ф., – я предлагаю быть моим ближайшим помощником и заместителем, товарищем председателя этого комитета.
– Не смею отказываться, – отвечал ему Д. В. Философов.
Как ни были мы в этот миг одинаково все взволнованы и все вместе, мне почему-то показалось и мгновенье, и Димин, такой серьезный, ответ – чертой, отделяющей… что от чего? Кого от кого?
С этого дня все завертелось. Пристегнули Буланова, Гершельмана, других. Предполагался отдел пропаганды, в котором я должна была принять участие. Тут же, сразу, стала образовываться и газета. Дима Ф. вызвал из Минска этого хама – Гзовского. Родичев подходил несколько сбоку, но тоже подходил.
Глазенапа Савинков тотчас привел к нам с Д. С. Бледный, одутловатый, с гладкими черными волосами. Одутловатость у него какая-то самодовольная. Савинков его точно совсем не понимал (он вообще не видит людей) и беспокоился. Мы поняли только одно, что он Савинкова, в сущности, терпеть не может. Но другого генерала не было.
Тут я выпишу две страницы современной записи – дневника, который я начала, в этой же книге, но продолжать не могла, слишком много было срочной работы. Скажу сначала, что Д. С. понимал, чего не хватало при всем данном положенье, о чем не подумал Савинков, говоря с Пилсудским, и решил сам Пилсудского повидать. Запись моя, при всей краткости, поясняет, в чем дело. Вот она, без изменений:
Варшава, 1920 г.
24 июня, четверг
Завтра Д. С. едет в Бельведер. Если даже свиданье это будет пятиминутным, Д. С. успеет сказать то, что нужно. А это действительно самое нужное. Русские войска рядом с польскими… Поляки с удовольствием сражались и будут сражаться против русских (Россия – враг), а как это они посмотрят на русских рядом, на отряды, сформированные втайне? С другой стороны, и русские, командующий состав в особенности (своего рода «патриоты», для которых Польша – тоже враг, желающий завоевать, отнять что-то у России), как это и они пойдут с поляками рядом – против своих? Тут какое-то недоразумение, или недообъяснение, недоговоренность. Неужели Савинков (и Дима?) этого не понимают. С. был сегодня. Говорит, что окунулся в работу. Что хотел бы расстроиться. Как дело началось, нет людей.
Тайный (?) комитет, прикрывающий формирование русской армии в Брест-Литовске, заседал вчера. Председательствовал Дима. К делу прикомандированы три польских офицера. Я пишу между двумя навалами людей. Чувствую, что надо писать дневник, слишком интересно и важно то, что я вижу, в чем участвую, но… нужны для этого не мои силы.
При возможности вернусь к прошлому, а сейчас дай Бог и теперешнее отметить.
Сегодня составился, наконец, кабинет и, к удивленью, центро-правый, а не центро-левый. Будет, кажется, соглашенье с забастовщиками.
Наше дело поляки очень торопят. Слухи, что у них на севере опять плохо. А сегодняшние газеты Врангеля могут привести в транс. Конечно, он провалится.
Сейчас (вечер) придут Родичев, Петражицкий, ну и наши остальные. Поэтому кончаю.
3 июля, суббота.
Пилсудского Д. С. видел, сидел у него час двадцать минут, и то сам ушел. Результаты интересные.
Д. С. даже увлекся им, пишет восторженную статью «Иосиф Пилсудский», которая тотчас выйдет брошюрой и будет везде распространена.
6 июля, вторник.
Я и нового всего записать не могу, не то что к старому возвращаться. Вот главное, самое важное: вчера, 5 июля, появился наконец знаменитый приказ Пилсудского по армии:
«Сражаясь за свободу свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разоренья». (Приказ Верховного Главнокомандующего).
И далее – «Воззванье Совета государственной обороны»:
«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, – этот враг большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».
5 июля 1920 г. в Польше.
10 июля, суббота.
Вот как я могу писать здесь дневник! А сегодня появилось наше (ответное приказу главнокомандующего) «Воззванье к русским людям». Оно длинно, я здесь его не выписываю.[94] Главное сделано. Молодец Пилсудский! Без объявленья такого «приказа» ни одно иностранное государство не может вступать в борьбу с большевиками – рядом с русскими войсками. Хорошо, что Д. С. видел Пилсудского.
Газета у нас будет. Д. Ф. – весь в работе с Савинковым, мы его почти не видим, переселился тоже в «Брюловскую» гостиницу. Формированье русской армии хотя еще не официально, но тайны нет, все знают.
Порученный мне отдел пропаганды пока не организован: нет газеты, нет и помещенья. Володя и Лесневский должны быть моими помощниками.
Я чувствую – там только могилы, но все равно, тем более… Боже, нет слов.
Дальше в тетради «дневника» только несколько строк в Данциге (перед октябрьской записью в Варшаве, того же года, когда я возвращаюсь к рассказу о нашей польской эпопее).
Данциг, 11 августа, среда.
Мы уехали из Варшавы 31 июля, в пятницу, в тот холодный, ненастный вечер, когда несчастные поляки отправили свою несчастную делегацию к Барановичам – молить издевающихся большевиков о перемирии. Не вымолили. Что происходит? Очень странное, во всяком случае. Не только мы – никто ничего не понимает. Не странное с Европой, с Англией, – у Ллойд Джорджа давно отнято всякое человеческое понимание, – но странное с большевиками: казалось, что они побоятся зарыва, примут и перемирие, и мир; ведь Англия накануне их полного признания. Они же изворачиваются, тянут, крутят… Хотят, может быть, взять Варшаву, соединиться, пока что, с немцами? Все-таки думаю, что дадут зацепочку Ллойд Джорджу для признанья: ему так мало нужно! А сами большевики… нужны.
Возвращаюсь к рассказу, к началу июля в Варшаве. Собственно, в июле все и разыгралось, и было началом конца.
Первый результат работы Савинкова, вот этой военной, в совместности с Д. Ф., было то, что Д. С. и я почти совершенно перестали с ними видаться. Если бы Д. Ф. на такую работу не перешел, а стал бы действовать с нами, с Д. С. и со мной, то есть если бы мы втроем занялись газетой и пропагандой (что Д. Ф. и свойственнее было, нежели формированье армии, споры с генералами и т. п.), это было бы другое дело. К несчастью, у Савинкова не было ни одного человека, на которого он мог бы опереться, он и схватился за Диму. А при спешности этой сложной и чисто военной работы нам с Д. С. совершенно чуждой и неизвестной, – мы двое и оказались сразу как бы в пустоте. Возражать – на что? Савинкову и Диме дохнуть некогда: они и с польскими властями, они и офицеров принимают, и с Глазенапом заседают, – когда еще ехать к нам и зачем, – докладывать, что ли? Предполагалось, что я сама по себе, одна, устрою какой-то «отдел пропаганды», с Володей, в виде моего личного секретаря.
Я, впрочем, готова была на все, но решительно не могла ступить. Да и некуда было ступить. С Д. Ф. и Савинковым не было никакого контакта. Д. Ф. приходил иногда измученный, раздраженный, и знать ничего не хотел. А когда началась газета – стало и того хуже: никакой свободы в этой «Свободе» мне не дали. Выписанный из Минска Гзовский сразу начал хамить, пошла чепуха, неизвестно, кто был хозяином, из-за каждой мелочи надо было обращаться к Савинкову, да еще через Гзовского. Являлся Дима (дремать на моем диване) – и опять ничего не разберешь, какая «коллегия» распоряжается в газете. Гзовский ни с кем, кроме Савинкова, разговаривать не желает, от меня только требовал «материала», иначе грозил свое (свою дрянь) вставлять.
Д. С., конечно, ничего в газету не давал. Все это было глупо. Пусть у меня мало организаторских способностей, но что я могла «организовать», когда у меня, при отсутствии помощи, не было и полномочий, никакого маленького своего дела, со своим хозяйством и собственной ответственностью? Ведь и статьи газетные, которые я писала «в хвост и гриву» (даже за обедом), чтобы Гзовский туда своего не натыкал, и то, когда вечером я приезжала в редакцию править корректуру, оказывались с исправлением «резкостей». Точно я не знаю, как, что, когда писать!..
Но все развивалось последовательно. Внешнее у меня отсечено: после свиданья Д. С. с Пилсудским – объявление (официальное), что Польша воюет не с Россией, а только с большевиками. Наше воззвание (втроем) к русской эмиграции и русским людям, объясняющее войну Польши. Снятие, таким образом, крышки «эвакуационного комитета» с формирования русской армии. Начало газеты «Свобода». Тут вдруг телефон Балаховича – ко мне: он хочет присоединить свой отряд к русской армии, – как это сделать? Я, помня отрицательное отношение Димы к этому «зеленому» генералу в первое наше свиданье, отвечаю уклончиво, хотя причины его отвергать не вижу. Через день, кажется, или два, увидав Диму, сообщаю ему о звонке Балаховича и его желанье, с замечаньем, что это, конечно, их дело, но что я не вижу, собственно, основания не присоединить его отряд… Я не успела договорить, как Д. Ф. меня перебил, не без раздражения (он иначе теперь не говорил), сказав, что дело уже сделано, что Балахович ими принят вместе с его отрядом. Ну, тем лучше, что я ни при чем. Внутренне же все развивалось у нас, в течение всего июля месяца, следующим образом: как уж сказано – работа Савинкова, в которую плотным образом и сразу был вовлечен Д. Ф., по своему чисто военному характеру (и конспиративному, – от этого Савинков не мог отрешиться) оказывалась такого рода, что я и Д. С. фактически остались в стороне, не участвуя (естественно) в делах, армии касающихся. Работы же общественной никакой больше не было, все наши варшавские отношения сделались вдруг ни к чему: особой гласности насчет армии – уверял Савинков – Пилсудский не хочет. Видаться с Д. Ф. и с Савинковым мы стали очень редко, да тут начались у нас с последним и тренья.
Начались нелепо. Непонятно. (Или так и должно было быть?)
Он дал знать, что нашел свободный час, и мы условились пойти вместе, втроем, обедать. Стояла жара, и мы просто пошли в Саксонский сад, в открытый ресторан.
Невозможно проследить и нельзя передать, как, – но разговор принял сразу неприятный оттенок. Могу лишь засвидетельствовать, что ни я, ни Д. С. не были в этом повинны, нас это изумило и даже поразило. Д. С. самым благодушным образом, в тоне наших старых, близко-дружеских отношений, начал говорить об общем – о борьбе с большевиками, о ее идее, о смысле работы… может быть, сказал что-нибудь о слишком узковоенном характере дела, благодаря чему мы не можем сейчас иметь с ним более тесного контакта. Внезапно тон Савинкова сделался «аррогантным»: он стал говорить, что это «экзамен» ему, а теперь ему не до экзаменов, что он работает вовсю, а когда он работает, – он не привык отвечать на чужие сомненья, и держать экзамены ему некогда. Мы были так изумлены, что не знали даже, что и отвечать. А он вдруг, ни с того ни с сего, заговорил о Володе и стал его неистово и грубо ругать, зачем он не пошел к нему записываться в армию. «Ему надо бы мгновенно явиться, умолять меня, а он – что? Он, сукин сын, вишни ест. И не пошелохнулся! Стихи пишет? Да черт ли в них, когда перед ним прямое дело!»
От неожиданности и непривычки к такому Савинкову – мы не сумели сразу замолчать, а пытались еще спорить. За годы мы знали другого Савинкова; я его никогда не боялась, но мне подумалось, что тут случайное недоразумение, а что потом он «все поймет».
Удивленный Д. С. вечером не знал, что и сказать. А на другой день Дима рассказывал: «Борис мне „рыдал в жилет“ (т. е. жаловался), вы его экзамену подвергали, и экзамена он, будто, не выдержал».
Странно было и с Димой говорить.
Через несколько дней – еще свиданье, днем, у нас. Глупый какой-то разговор, опять жалобы на «экзамен». Тут уж я рассердилась и заявила:
– Все это вздор. Однако, сколько я ни думаю о вас, – Россия для меня первая. И если я хочу верить, что вы будете некто для России, может быть, я имею право смотреть, судить и узнавать вас.
На это он сказал, уже гораздо тише: «Как вы резки», – и только.
Комнатные столкновенья ничего пока не меняли: я продолжала работать и в газете, и делать что возможно в «конторе пропаганды», на Краковской, где жил Володя. Но меня очень глубоко заботил Д. С. Ни к какой такой работе он не был приспособлен и чувствовал свою растущую бесполезность в данных условиях. Очень поэтому томился на нашем пыльном припеке, – жара стояла неистовая. Так как я хотела оставаться с «ними» (с Д. Ф. и Савинковым) до последней возможности, терпя все и стараясь что-то делать, – то мне с утра приходилось мучиться, придумывать, как успокоить Дмитрия, что ему обещать, чтобы не стремился он куда-нибудь прочь. Утром я возилась с редактированьем рукописей, телеграмм, а днем ехали мы с Д. С. в Лазенки, чтобы он там немножко подышал. Потом, вечером, я ехала в редакцию (чаще бесполезно). В промежутках писала статьи для «Свободы».
Польские дела делались все серьезнее. Была объявлена еще одна мобилизация. С песнями шли мимо нашего балкона новобранцы, совсем мальчики, но это было и грустно – и радостно: ведь они идут бороться не с Россией: идут «за свою и нашу вольность».
Не могу определить, когда в эту «марсельезу» стал ввиваться (как у Достоевского в «Бесах») подленький мотивчик «mein lieber Augustin»[95] – мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Но если б я понимала всю тогдашнюю польскую ситуацию, их партийную борьбу, – главное, подталкиванья Англии, – стоит ли писать? Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки, наши, кричали, что ничего этого не будет, да ни за что в жизни! И Пилсудский, мол, против мира, да и как можно! Не то было среди крайних правых и крайних левых…
Я забыла сказать, что уже давно приехала в Варшаву и жена Деренталя, та самая Aimée, дочь Брута, о которой Савинков мне рассказывал. Одна из «до гроба преданной ему семьи», как он говорил. Он перешел в Брюл в другое помещение, а свою комнату отдал ей. Сделав нам визит, Aimée пригласила нас к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната (где мы с ним «заседали» в первые дни его приезда): розовые капоты, пахнет духами, много цветов. Она – с крупными чертами лица, довольно на грубый вкус, красивая, яркая, кокоточная, сделана для оголения, картавит. Деренталь сообщил Д. Ф.: моя жена очень умеет обращаться с Борисом Викторовичем, если что-нибудь – надо к ней… (Мы, конечно, все поняли, было – не трудно.)
Кстати: насчет Деренталя я не все понимала, до одного случая. Раз, еще в начале, пришел Деренталь и стал прибедняться: вот, мол, ему теперь в Латвию и в Эстонию, для тамошнего формированья, Б. В. посылает. И непременно завтра. На послезавтра у меня есть билет, но Б. В. требует завтра, и я должен в багажном вагоне…
Вечером я видела Савинкова и между прочим, полушутя, сказала – почему это он так жесток, не позволяет Деренталю лишний день остаться. И (это было первое мое удивленье) – Савинков внезапно осатанел: как!.. Деренталь смеет рассуждать? Смеет жаловаться?! Да он на буфере поедет, если ему приказывают!! И т. д. Тут я поняла окончательно и бесповоротно, что Деренталь для Савинкова – собака.
И что ему нужны только собаки. Впрочем, это последнее я поняла немного позже.
Пишу все эти мелочи для характеристики «человека». Громадность драм «людей» не уменьшает важности драмы «человека». (Никто этого не понимает.) Кроме того, не всякой собаке можно доверяться: смирна-смирна, а исподтишка вдруг может и хватить.
Савинков заезжал к нам все реже. Обыкновенно с этой самой Aimée (Деренталь уехал гораздо раньше ее приезда). В Брюле жил теперь и Буланов, – он был на должности казначея и хранил польские миллионы у себя под кроватью.
Надо сказать два слова о Врангеле.
Впрочем, что говорить о Врангеле? Мы в него, благодаря доходившим до нас сведениям и его воззваниям, не верили, особенно же печально было то, что он стоял против всякого дела из Польши, смотрел на все здешнее и всех, как на врагов. Ошибался он в поляках или нет, это была тактическая ошибка. У Врангеля имелось бы куда больше шансов на успех, заключи он – хоть не союз, но хоть в блок войди он с окружными государствами. В тот момент это было фактически возможно, но на это не хватило ни выдержки, ни размаха.
Отношение же Савинкова к Врангелю было какое-то непонятное. Да сказать по правде – весь он мне все менее становился понятным; не говорю – менее приятным, это могло бы быть личным впечатленьем, – но именно непонятным. В памяти даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся после «дела Корнилова». Почему он тогда, после явной борьбы с Керенским за Корнилова (за К. К. С.), после всего, что было на наших глазах, почти в нашей квартире, – вдруг сделался на три дня «усмирителем корниловского бунта»? После трех дней Керенский его изгнал. Зачем это было, для чего и почему? Что он думал, на что надеялся? Объяснить этого всего он и тогда не мог, но затереть вопрос сумел. Теперь я это непроизвольно вспомнила. Да, работать с ними вместе нельзя, нам с Д. С., по крайней мере. Объективно – я перестаю верить в успех дела именно с Савинковым, благодаря многим его свойствам, ускользавшим из поля моего зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, это что людей он не различает, не видит, кто для чего нужен и нужен ли. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны.
И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все, чтобы не отходить до конца, до последней возможности. Во-первых – Дима. Не то что я бы осталась ради него в глупом деле ненужного человека, но если выяснится именно так – я надеялась, что мы уйдем вместе с ним.
Когда же все стало окончательно невозможным?
Полная (наша с Д. С.) пустота и безделье. А тут еще событие: большевики полезли в наступленье. Наш, русский, отряд был в полной неготовности, и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неуменья. Закулисную сторону я знала немного и видела, что Савинков – организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии людей не собирают, а разъединяют.
Д. С. томился: «Знаешь, уедем хоть на десять дней куда-нибудь, недели через две… Ведь нам буквально нечего делать». Пришел Дима. Д. С. к нему: «Знаешь, недели через две…» Д. Ф. прервал: «Не через две недели, а сейчас уезжайте. Тут пошло такое, что лучше уехать, пока выяснится. Только из Польши не уезжайте», – прибавил он вдруг.
И мы уехали в Данциг. Проезжали этот нелепый (по-моему – роковой) «коридор», где поляки держали себя и на станциях, и в поезде, с совершенно ненужной наглостью, как победители, дорвавшиеся до своей добычи. А Данциг, как бы его ни перекрещивали, оставался городом немецким, и видно было, что тут уж ничего не поделаешь.
Все время ходили радостные (для немцев) слухи о взятии Варшавы. Они, однако, оказались ложными, большевики были разбиты в семи верстах от Варшавы. Знаменитое «чудо на Висле». После этого самого «чуда» большевики стали сговорчивее, и вскоре перемирие (не без скандалов и всяких издевательств) было подписано в Минске. Почему Польша так настойчиво, почти унизительно, стремилась к миру с большевиками – загадка. И так давно! Натиск обыдиотевшей Европы – единственное объясненье Ллойд-Джордж (чтобы «торговать с каннибалами») и т. д., и т. п.
Так как все «успокоилось», мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть… Была ли у меня надежда? На что? Конечно, нет. Буквально ни на что больше, ни даже надежды выцарапать Д. Ф. из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно посмотреть на реальность.
В наше отсутствие – мы знали от Буланова – Дима ездил в «наши» лагери, к «неготовым» отрядам. Там продолжались безобразия, Глазенап уже исчез, другие, какие были, тоже, появились совсем новые «генералы» (вроде молодого Пермикина). Дима ругался там в тонах Савинкова (где был Савинков – не знаю), а Деренталь жестоко пьянствовал.
Мы – я, Д. С. и Володя – вернулись в Варшаву в начале сентября. Это наш третий варшавский период, последний и самый несчастный.
Приехали с вокзала прямо на Хмельную, где у Д. Ф. была не то редакция, не то шли какие-то заседанья. Опять, должно быть, тайные, ибо едва мы вошли – Д. Ф. вскочил из-за стола нам навстречу и вывел нас из комнаты.
Мы были бесприютны. Ни Френкелей, ни даже «Краковской». С муками устроились в гостинице «Виктория», такой невероятно грязной, что написать – сам не поверишь. Темноватая комната, кровати за ширмой. В первом этаже вместо окна – дверь на балконе, старая, незатворяющаяся. В щелях и на асфальтовом полу стояла после дождей лужа, которую вычерпывали. А затем нас однажды ночью через балкон обокрали.
Почти и не стоит описывать эти наши последние полтора месяца в Варшаве. Просто дам краткую суть. Ведь уже все было кончено.
С величайшей строгостью я задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, и перед собой, хотя бы втайне, чего-нибудь необъективного. Я требовала справедливости. Ничто мое пусть не вливается в мой суд. Если в чем-нибудь виновата я или Д. С., – не скрою от себя.
Разве трудно поддаться таким чувствам: мы, главные зачинщики всего, – оказались не у дел. Со мной один момент Савинков вел себя глупо. А главное, главное – он разделил нас с Д. Ф., совершенно взяв его под свое влияние. Значит, мол, С. не хорош… Вот этого я и не хотела. Вот такого суда над Савинковым. Я добивалась самого справедливого взгляда на него даже не как на человека (это само собой), но на пригодность его в данный момент для дела России.
И я видела, что он ни в данный момент, ни вообще – для дела этого не пригоден.
Эмиграция. 1920–1941
Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Д. С. и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Д. С., сохранившиеся оттиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнаннической жизни.
Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, – все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие в общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода». Во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Д. С. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах. Есть ли там, и какая, русская пресса, – мы не знали. Но «нашей» газеты нет, и я предчувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Д. С. я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких, да и тревога за покинувшего нас друга и помощника, Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С., что друг наш скоро сам рассмотрит Савинкова и вернется к нам, я не разделяла, – признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Д. С., к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые… Бунаков с женой уже давно убежали из России – в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (эсеров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, – «все такие, как негодяй Чернов», – и где он был, в лучшем случае, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком… симпатичным, но – какие же можно было возлагать на него надежды!
Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу pied à terre в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя), – но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма… Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами – иные, ведь мы эмигранты… Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно, может быть.
Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение перекошенности окружающего: как было – и совсем не то.
Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Д. С., не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, – перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не доходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля), ни, пожалуй, целый еще год… когда, после перерыва, произошла, в 23-м году, эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Д. С., а как задела Д. Ф. Но к нам его не возвратила. Слишком поздно… О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., может быть 21–22, – я бросила потом записывать что-либо.
Париж, 14 ноября (1920)
Врангель весь провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Врангель будто бы уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот что любопытно… как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него, будто бы из-под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «…Я уверен, что мы дойдем до Москвы…» «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую…» «В окрестных деревнях три тысячи записались добровольцами…» «А „Рангель“ (по выговору крестьян) непременно провалится…» Кроме последнего – ото всего несет захолустной глупостью. Это Савинков с мадам Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»… или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У большевиков армия, пушки… За них – Англия… Франция еще как будто против… но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признает Врангеля – и поощряет польский мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, – надо покончить с Врангелем.
Ну, дойдет очередь до Польши! Продала себя – даже не за золото, а за большевистские и английские золотые обещанья.
Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с большевиками Ллойд-Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научат Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец проучат они и всех своих союзников самих…
16 ноября
Всесметающая лавина большевиков под личным командованьем Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.
Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывезли «оттуда», проста и – непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами новой России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.
Вот – и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные южные наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все… От этого же знанья мы не сомневались, что большевики лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в семи верстах от Варшавы… Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду», – это униженным, после того, просьбам Польши мира у большевиков. Одно объясненье: приказ Европы. И Польша не смела ослушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его – для себя – Европа не пропустила…
25 ноября
Письмо от Д. Ф. (через Petit), начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.), категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг…» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь Савинкова. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «Наверно, он, приехав, уже сжег за собой корабли, даже шлюпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сю пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят…» А он – прибавляет Дима – «в мир не верит, но войны вести не может». (Не приказано? – думала я.) «Нахохлившийся больной орел», – по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия – накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу сейчас они не полезут.
17 декабря
На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким… пустым местом. Дмитрий за него боролся, за такого, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Савинковым временным несчастием!). Значит, он был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, – сказал однажды Савинков, при мне, Д. С., в Варшаве, – мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это – глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», – и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».
Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал, – достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова – Балаховича («Я уверен, что мы дойдем до Москвы!»). Это дело удалось.
Вчера Дима не был даже на первой лекции Д. С. в Galle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по-французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С. «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия».)
На днях «посланец» Савинкова уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней…» Еще бы! А что будет дальше!
Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше, прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое-что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.
В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России, или видели мельком, – Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем, как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и не виденный нами раньше Милюков (Д. Ф., как близкий сотрудник газеты «Речь», знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних новостей», но газета уже выходила: ею заведовал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Д. С. на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее дело», сразу пришедшаяся Д. С. больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый, эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне – до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К большевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем деле» (как и я).
Но не для газетных же статей так стремился Д. С. в Европу. Статьи – дело попутное. Я поистине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, причем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество – старшее поколение – внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Д. С. еще затеял у нас какое-то сообщество на религиозных основах. Но в обычном (или даже необычном) увлечении своем собрал вместе людей, по существу для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время, отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому что имя его (особенно по роману Leonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» – мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам». Раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не интересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекосилось (это мы переместились, но куда – еще не успели понять).
Из ранее незнакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину (когда тот погибал). С Савинковым он разошелся, без ссоры, кажется, – но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров-народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, – атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры и вообще всякие «левые», без различия партий, сохраняли свою, – по меткому названию Д. Ф., – «богобоязнь» – неприкосновенно, несмотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще делался прозелитом, крестился, если был еврей. А то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того – его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, то есть не как статьи закона, – он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы… Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.
В Париже, в это время, существовало русское издательство, которое так и называлось: Полнера-Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С. «14 декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.
Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да, может быть, и не нужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м, – это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном клубе, по почину давнего знакомого нашего проф. Поля Бойэ – в зиму 1920–1921 гг.
Кроме нас и Бунина, был там, из русских, не помню, кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, je m’en fichiste[96], при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую мысль» (в 10–11 гг.), я отметила его первую вещь, – писателя, никому не известного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал – мы не знали. Но, должно быть, он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПБ-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года, посылка правительственной делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и – старый знакомец наш, бывший секретарь Рел. – фил. собраний, Ефим Егоров, когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новому времени» Суворина, и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация», – осталось навеки неизвестным.
Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злачное и, в один прекрасный, никому не известный день, исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал – неизвестно еще, как был бы встречен. Но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел – и при Ленине и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званье эмигранта. Встреч с этим сословием он, конечно, избегал, – с честными кругами.
Тогда, в 20–21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность – как от нее без опыта избавиться?
На том обеде в Интернациональном клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи. Говорил, кажется, только Д. С. и Эррио (может быть, ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Д. С. – в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «On ne vous lâchera pas»,[97] – несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из «Temps», кажется, и Henri de Régnier, высокий, тихий, седовласый.
Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня…»
– Да что же вам простить? – удивилась я.
– Простите… что я существую.
Сказал неожиданно, экспромтом, забавно… Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.
К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Д. С. с молодым французским издательством Roche-Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 декабря» Д. С. и еще другие его книги. Потом мой роман «Чертова кукла» (еще до войны переведенный на французский язык), и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по-французски, и нам с Д. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта моя очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился, Д. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000 Шевремону за перевод мы сочли неблагоразумным.)
Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, – как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.
В Висбадене Д. С. вплотную занялся Египтом – для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Д. С. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неуменью работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем служитель привозил нам эти книги – так они были громоздки – на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.
Целые дни, после рабочего утра, Д. С. проводил в густых лесах, кольцом окружающих Нероберг. Признавался мне, что часто даже забывает, что лес этот – «чужой». И правда: так же лес этот был глух, темен, почти дремуч, как иной русский, так же и пахло в нем – листом палым, грибной сыростью, лягушками невидимыми, свежестью и прелью…
В Висбадене мы получили первую весть, через Варшаву, о моих сестрах. Они живы! Какое было облегченье! К осени – известие, что умер Блок. Подробности его страшной смерти мы еще не знали. Но уже многое видели, что позволяло их угадывать. И я тут же задумала серьезно написать о нем, и мы стали с Д. С. постоянно о Блоке говорить. Д. С. очень любил его, несмотря на случавшиеся между ними споры. Они, между нами и Блоком, всегда кончались благополучно.
В августе в Висбаден приехали Бунин с женой и поселились в том же отеле, на Нероберге. С Буниным, как я уже сказала, мы не встречались лично в России. Он был москвич, а талантливые писанья его, которые мы, конечно, знали и ценили, были как-то не в том течении последнего петербургского периода, в котором находились мы. Теперь, встретившись в Париже, мы сблизились, как разделяющие ту же «юдоль» изгнанничества, притом одинаково (почти) относящиеся к России и совершенно одинаково к большевикам. Но он был человек особого склада, ранее нами близко не виданного – среди писателей петербургских и наших кругов вообще, – а потому особенно меня заинтересовал. И вот, я помню, в Нероберге, после ужина, всякий вечер я начинаю с ним бесконечные беседы в моей большой комнате, стараясь рассмотреть его сердцевину, чем он живет, что думает, чему на службу отдает свой талант. Интерес к «человеку», к «личности» вечно толкает меня к таким выяснениям себе того или другого, а если, в конце концов, они мне не удавались вовсе, или я ошибалась и создавала себе образ неправильный (что случалось часто), это уж просто у меня «талантишку не хватило», по выражению Д. Ф. А бескорыстных стараний всегда было много.
Относительно Бунина я, впрочем, поняла, – по тогдашней моей записи, что «он весь в одних ощущениях, но очень глубоких». И далее прибавлено: «Никогда не забуду, как он читал это потрясающее письмо из Совдепии, подписанное кровью матерей (буквально)».
Это письмо Д. С. получил как раз в Висбадене. Обращение «ко всему миру» нескольких (больше 20-ти, кажется) женщин из Советской России, с непередаваемо-сильной просьбой, мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть. «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны действительно кровью, некоторые углем. Д. С. потом напечатал это письмо, действительно страшное, в русской газете «Общее дело».
Казалось, мы уж ко всему привыкли, замозолилась душа. Но это письмо не могли мы читать без ужаса. А что же «мир», к которому обращались эти матери? Д. С. сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А мир… да ничего. Просто ничего.
В Бунине, казалось мне, при его тончайших ощущеньях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость пониманья личности, – человека. Кроме того, и в литературе (или шире) он, при большом его таланте, имеет какую-то границу пониманья. Он слишком в прошлом. Это я видела в разговорах наших о Блоке. Он его не чувствует ни как человека, ни как поэта. Мне это было жаль.
В Висбадене мы познакомились с Кривошеиным. Министр, не успевший сделаться министром перед революцией, как слишком «либеральный», по мнению Николая II и, главное, царицы. А его очень прочили. Ни, конечно, умеренный либерализм его ничего бы не спас. Да и было поздно.
Потом, когда Бунины уже уехали, в Висбаден приехал Гессен из Берлина, редактор уже там основанной газеты «Руль». Д. С. и я – мы писали в ней несколько раз, Гессен относился к нам недурно, через год издал даже мою книжку последних стихов, но в общем нам было не по дороге: Гессен – партиец, к.-д. (мы его знали в Петербурге), газета «Руль» – умереннее, чем в начале милюковские «Последние новости». В Висбадене (он остановился там же, в Нероберге) в беседе с нами он сказал как-то:
– Не могу простить себе, что вначале, только что приехав в Берлин из Советской России, я был – за интервенцию!
А так как Д. С. и я, мы были и в начале, и в конце, и всегда «за интервенцию», – то мы этой беседы и не продолжали.
Сияния*
Тебе, чье имя не открою,
Но ты со мной всегда,
Ты мне, как горная вода
Среди земного зноя.
Сиянья
Сиянье слов… Такое есть ли? Сиянье звезд, сиянье облаков – Я всё любил, люблю… Но если Мне скажут: вот сиянье слов – Отвечу, не боясь признанья, Что даже святости блаженное сиянье Я за него отдать готов… Всё за одно сиянье слов! Сиянье слов? О, повторять ли снова Тебе, мой бедный человек-поэт, Что говорю я о сияньи Слова, Что на земле других сияний нет?Идущий мимо
У каждого, кто встретится случайно Хотя бы раз – и сгинет навсегда, Своя история, своя живая тайна, Свои счастливые и скорбные года. Какой бы ни был он, прошедший мимо, Его наверно любит кто-нибудь… И он не брошен: с высоты, незримо, За ним следят, пока не кончен путь. Как Бог, хотел бы знать я всё о каждом, Чужое сердце видеть, как свое, Водой бессмертья утолять их жажду – И возвращать иных в небытие.Мера
Всегда чего-нибудь нет, – Чего-нибудь слишком много… На всё как бы есть ответ – Но без последнего слога. Свершится ли что – не так, Некстати, непрочно, зыбко… И каждый неверен знак, В решенье каждом – ошибка. Змеится луна в воде, – Но лжет, золотясь, дорога… Ущерб, перехлест везде. А мера – только у Бога.Над забвеньем
Я весь, и сердцем и телом, Тебя позабыл давно, Как будто в дому опустелом Закрылось твое окно. И вот, этот звук случайный, Который я тоже забыл, По связи какой-то тайной Меня во мне изменил. Душу оставил всё тою, Уму не сказал ничего, Лишь острою теплотою Наполнил меня всего. Не память, – но воскресенье, Мгновений обратный лет… Так бывшее над забвеньем Своею жизнью живет.Рождение
Беги, беги, пещерная вода, Как пенье звонкая, как пламя чистая. Гори, гори, небесная звезда, Многоконечная, многолучистая. Дыши, дыши, прильни к Нему нежней, Святая, радостная, ночь безлунная… В тебе рожденного онежь, угрей, Солома легкая, золоторунная… Несите вести, звездные мечи, Туда, туда, где шевелится мга, Где кровью черной облиты снега, Несите вести, острые лучи. На край земли, на самый край, туда – Что родилась Свобода трехвенечная И что горит восходная Звезда, Многоочитая, многоконечная…24 декабря
Женскость
Падающие, падающие линии… Женская душа бессознательна, Много ли нужно ей? Будьте же, как буду отныне я, К женщине тихо-внимательны, И ласковей, и нежней. Женская душа – пустынная, Знает ли, какая холодная, Знает ли, как груба? Утешайте же душу невинную, Обманите, что она свободная… Всё равно она будет раба.Вечноженственное
Каким мне коснуться словом Белых одежд Ее? С каким озареньем новым Слить Ее бытие? О, ведомы мне земные Все твои имена: Сольвейг, Тереза, Мария… Все они – ты Одна. Молюсь и люблю… Но мало Любви, молитв к тебе. Твоим – твоей от начала Хочу пребыть в себе, Чтоб сердце тебе отвечало – Сердце – в себе самом. Чтоб Нежная узнавала Свой чистый образ в нем… И будут пути иные, Иной любви пора. Сольвейг, Тереза, Мария, Невеста-Мать-Сестра!Неотступное
Я от дверей не отойду. Пусть длится Ночь, пусть злится ветер. Стучу, пока не упаду. Стучу, пока Ты не ответишь. Не отступлю, не отступлю, Стучу, зову Тебя без страха: Отдай мне ту, кого люблю, Восстанови ее из праха! Верни ее под отчий кров, Пускай виновна – отпусти ей! Твой очистительный покров Простри над грешною Россией! И мне, упрямому рабу, Увидеть дай ее, живую… Открой! Пока она в гробу, От двери Отчей не уйду я. Неугасим огонь души, Стучу – дрожат дверные петли, Зову Тебя – о, поспеши! Кричу к Тебе – о, не замедли!Южные стихи
За что?
Качаются на луне Пальмовые перья. Жить хорошо ли мне, Как живу теперь я? Ниткой золотой светляки Пролетают, мигая. Как чаша, полна тоски Душа – до самого края. Морские дали – поля Бледно-серебряных лилий… Родная моя земля, За что тебя погубили?Лягушка
Какая-то лягушка (всё равно!) Свистит под небом черно-влажным Заботливо, настойчиво, давно… А вдруг она – о самом важном? И вдруг, поняв ее язык, Я б изменился, всё бы изменилось, Я мир бы иначе постиг, И в мире бы мне новое открылось? Но я с досадой хлопаю окном: Всё это мара ночи южной С ее томительно-бессонным сном… Какая-то лягушка! Очень нужно!Жара
Опять черна, знакома и чиста, Свой звездный купол ночь вскружила. Давно мне сердце эта пестрота Неотвратимостью своею утомила. И Млечный Путь – застывшая река, Где не текут и не мерцают струи… О, тени Божьих мыслей, – облака! Я вас любил… И как о вас тоскую!Дождь
И всё прошло: пожары, зной, И всё прошло, – и всё другое: Сереет влажно полог низкий. О, милый дождь! Шурши, шурши, Родные лепеты мне близки, Как слезы тихие души.Стихи о Луне
Пятно
Кривое, белое пятно Комочком смято-мутным Висит бесцельно и давно Над морем неуютным. Вздымая водные пласты, Колеблет море сваи. А солнце смотрит с высоты, Блистая и скучая. Но вот, в тот миг, когда оно Сердито в тучу село, Мне показалось, что пятно Чуть-чуть порозовело. Тревожит сердце кривизна, И розовые тени, И жду я втайне от пятна Волшебных превращений…Стена
В полусверкании зеленом, Как в полужизни – полусне, Иду по крутоузким склонам, По бело-блещущей стене. И тело легкое послушно, Хранимо пристальной луной. И верен шаг полувоздушный Над осиянной пустотой. Земля, твои оковы сняты, Твои законы сменены. Как немо, вольно и крылато В высоком царствии луны! И вьется в полусмертной тени Мой острый путь – тропа любви. О мать, земля! моих видений Далеким зовом – не прерви! Ужель ты хочешь, чтоб опять я Рабом очнулся и в провал – В твои ревнивые объятья – Тяжелокаменно упал?Быть может
Как этот странный мир меня тревожит! Чем дальше – тем всё меньше понимаю. Ответов нет. Один всегда: быть может. А самый честный и прямой: не знаю. Задумчивой тревоге нет ответа. Но почему же дни мои ее всё множат? Как родилась она? Откуда? Где-то – Не знаю где – ответы есть… быть может?Ясность
В. А. Мамченко
Невинны нити всех событий, Но их не путай, не вяжи, И чистота, единость нити Всегда спасет тебя от лжи.Прорезы
Здесь – только обещания и знаки: Игла в закатном золоте вина, Сияющий прорыв, прорез на мраке… Здесь только счастье – голубого сна. Но я земным обетам жадно внемлю. Текут мгновения, звено к звену. И я люблю мою родную Землю, Как мост, как путь в зазвездную страну. И этот вечер, весь под лунным жалом (Все вечера, все вечера – один!), Лишь алый знак, написанный кинжалом На терпком холоде зеленых льдин. И чем доверчивее, тем безгрешней Люблю мое высокое окно. Одну Нездешнюю люблю я в здешней, Люблю Ее… Она и ты – одно.Как он
Георгию Адамовичу
Преодолеть без утешенья, Всё пережить и всё принять. И в сердце даже на забвенье Надежды тайной не питать, – Но быть, как этот купол синий, Как он, высокий и простой, Склоняться любящей пустыней Над нераскаянной землей.Горное
Освещена последняя сосна. Под нею темный кряж пушится. Сейчас погаснет и она. День конченый – не повторится. День кончился. Что было в нем? Не знаю, пролетел, как птица. Он был обыкновенным днем. А все-таки – не повторится.Ей в горах
1
Я не безвольно, не бесцельно Хранил лиловый мой цветок. Принес его, длинностебельный, И положил у милых ног. А ты не хочешь… Ты не рада… Напрасно взгляд твой я ловлю. Но пусть! Не хочешь – и не надо; Я всё равно тебя люблю.2
Новый цветок я найду в лесу. В твою неответность не верю, не верю! Новый, лиловый я принесу В дом твой прозрачный, с узкою дверью. Но стало мне страшно там, у ручья: Вздымился туман из ущелья, стылый, Тихо шипя, проползла змея… И я не нашел цветка для милой.Наставление
Молчи. Молчи. Не говори с людьми, Не подымай с души покрова, Все люди на земле – пойми! Пойми! – Ни одного не стоят слова. Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей Свои печали вольно скроет. Весь этот мир одной слезы твоей, Да и ничьей слезы не стоит. Таись, стыдись страданья твоего, Иди – и проходи спокойно. Ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего Земля и люди недостойны.Ключ («Был дан мне ключ заветный…»)
Был дан мне ключ заветный, И я его берег. Он ржавел незаметно… Последний срок истек. На мост крутой иду я. Речная муть кипит. И тускло бьются струи О сумрачный гранит, Невнятно и бессменно Бормочут о своем, Заржавленною пеной Взлетая под мостом. Широко ветер стужный Стремит свистящий лет… Я бросил мой ненужный, Мой ключ – в кипенье вод. Он скрылся, взрезав струи, И где-то лег, на дне… Прости, что я тоскую. Не думай обо мне.Прошла
На выгибе лесного склона Я увидал Ее в закатный час. Зеленая прозрачная корона, Печальность неподвижных глаз. Легко прошла, меж алых сосен тая, Листом коричневым не прошурша, Корона изумрудела сквозная… И плакала моя душа. Любил Ее; люблю, не зная… Узнаю ль в мой закатный час? Сверкнет ли мне в последний раз Ее корона тонкая, сквозная, Зеленая осеннесть глаз?Втайне («Сегодня имя твое я скрою…»)
Сегодня имя твое я скрою, И вслух – другим – не назову, Но ты услышишь, что я с тобою, Опять тобой – одной – живу. На влажном небе Звезда огромней, Дрожат – струясь – ее края. И в ночь смотрю я, и сердце помнит, Что эта ночь – твоя, твоя! Дай вновь увидеть родные очи, Взглянуть в их глубь – и ширь – и синь. Земное сердце великой Ночью В его тоске – о, не покинь! И всё жаднее, всё неуклонней Оно зовет – одну – тебя. Возьми же сердце мое в ладони, Согрей, – утишь, – утешь, любя…St. Therese De L’Enfant Jesus[98]
Девочка маленькая, чужая, Девочка с розами, мной не виденная, Ты знаешь всё, ничего не зная, Тебе знакомы пути неиденные – Приди ко мне из горнего края, Сердцу дай ответ, неспокойному… Милая девочка, чужая, родная, Приди к неизвестному, недостойному… Она не судит, она простая, Желанье сердца она услышит, Розы ее такою чистою, Такой нежной радостью дышат… О, будь со мною, чужая, родная, Роза розовая, многолистая…Зеркала
А вы никогда не видали? В саду или в парке – не знаю, Везде зеркала сверкали. Внизу, на поляне, с краю, Вверху, на березе, на ели. Где прыгали мягкие белки, Где гнулись мохнатые ветки, – Везде зеркала блестели. И в верхнем – качались травы, А в нижнем – туча бежала… Но каждое было лукаво, Земли иль небес ему мало, – Друг друга они повторяли, Друг друга они отражали… И в каждом – зари розовенье Сливалось с зеленостью травной; И были, в зеркальном мгновеньи, Земное и горнее – равны.Воскресенье
Д. М.
Не пытай ни о чем дорогой, Легкой ткани льняной не трогай, И в пыли не пытай следов, – Не ищи невозможных слов. Посмотри, как блаженны дети; Будем просты сердцем и мы. Нету слов об этом на свете, Кроме слов – последних – Фомы.Досада
Когда я воскрес из мертвых, Одно меня поразило: Что это восстанье из мертвых И все, что когда-нибудь было, – Всё просто, всё так, как надо… Мне раньше бы догадаться! И грызла меня досада, Что не успел догадаться.Всё равно
…Нет! из слабости истощающей Никуда! Никуда! Сердце мое обтекающей Как вода! Как вода! Ужель написано – и кем оно? В небесах, Чтоб въедались в душу два демона, Надежда и Страх? Не спасусь, я борюсь, Так давно! Так давно! Всё равно утону, уж скорей бы ко дну… Но где дно?..8 ноября
Тихие сумерки… И разноцветная медленно меркнущая морская даль. Тоже тихая и безответная, розово-серая во мне печаль. Пахнет розами и неизбежностью, кто поможет, и как помочь? Вечные смены, вечные смежности, лето и осень – день и ночь… Свечи кудрявятся за тихой всенощной, к окнам узким мрак приник, пахнет розами… Как мы немощны! Радуйся, радуйся, Архистратиг!Eternite Fremissante[99]
В. С. Варшавскому
Моя любовь одна, одна, Но всё же плачу, негодуя: Одна, – и тем разделена, Что разделенное люблю я. О Время! Я люблю твой ход, Порывистость и равномерность. Люблю игры твоей полет, Твою изменчивую верность. Но как не полюбить я мог Другое радостное чудо: Безвременья живой поток, Огонь, дыхание «оттуда»? Увы, разделены они – Безвременность и Человечность. Но будет день: совьются дни В одну – Трепещущую Вечность.Равнодушие
…Он пришел ко мне, а кто – не знаю,
Он плащом закрыл себе лицо…
1906Он опять пришел, глядит презрительно,
Кто – не знаю, просто, он в плаще…
1918 Он приходит теперь не так. Принимает он рабий зрак. Изгибается весь покорно И садится тишком в углу Вдали от меня, на полу, Похихикивая притворно. Шепчет: «Я ведь зашел, любя, Просто так, взглянуть на тебя, Мешать не буду, – не смею… Посижу в своем утолку, Устанешь – тебя развлеку, Я разные штучки умею. Хочешь в ближнего поглядеть? Это со смеху умереть! Назови мне только любого. Укажи скорей, хоть кого, И сейчас же тебя в него Превращу я, честное слово! На миг, не навек! – Чтоб узнать, Чтобы в шкуре его побывать… Как минуточку в ней побудешь – Узнаешь, где правда, где ложь, Всё до донышка там поймешь, А поймешь – не скоро забудешь. Что же ты? Поболтай со мной… Не забавно? Постой, постой, И другие я знаю штучки…» – Так шептал, лепетал в углу, Жалкий, маленький, на полу, Подгибая тонкие ручки. Разъедал его тайный страх, Что отвечу я? Ждал и чах, Обещаясь мне быть послушен. От работы и в этот раз На него я не поднял глаз, Неответен – и равнодушен. Уходи – оставайся со мной, Извивайся, – но мой покой Не тобою будет нарушен… И растаял он на глазах, На глазах растворился в прах, Оттого, что я – равнодушен…Когда?
В церкви пели Верую, весне поверил город. Зажемчужилась арка серая, засмеялись рои моторов. Каштаны веточки тонкие в мартовское небо тянут. Как веселы улицы звонкие в желтой волне тумана. Жемчужьтесь, стены каменные, марту, ветки, верьте… Отчего у меня такое пламенное желание – смерти? Такое пристальное, такое сильное, как будто сердце готово. Сквозь пенье автомобильное не слышит ли сердце зова? Господи! Иду в неизвестное, но пусть оно будет родное. Пусть мне будет небесное такое же, как земное…Игра
Совсем не плох и спуск с горы: Кто бури знал, тот мудрость ценит. Лишь одного мне жаль: игры… Ее и мудрость не заменит. Игра загадочней всего И бескорыстнее на свете. Она всегда – ни для чего, Как ни над чем смеются дети. Котенок возится с клубком, Играет море в постоянство… И всякий ведал – за рулем – Игру бездумную с пространством. Играет с рифмами поэт, И пена – по краям бокала… А здесь, на спуске, разве след – След от игры остался малый. Пускай! Когда придет пора И все окончатся дороги, Я об игре спрошу Петра, Остановившись на пороге. И если нет игры в раю, Скажу, что рая не приемлю. Возьму опять суму мою И снова попрошусь на землю.Веер
Смотрю в лицо твое знакомое, Но милых черт не узнаю. Тебе ли отдал я кольцо мое И вверил тайну – не мою? Я не спрошу назад, что вверено, Ты не владеешь им, – ни я: Всё позабытое потеряно, Ушло навек из бытия. Когда-то, ради нашей малости И ради слабых наших сил, Господь, от нежности и жалости, Нам вечность – веером раскрыл. Но ты спасительного дления Из Божьих рук не приняла И на забвенные мгновения Живую ткань разорвала… С тех пор бегут они и множатся, Пустое дление дробя… И если веер снова сложится, В нем отыщу ли я тебя?Сложности
К простоте возвращаться – зачем? Зачем – я знаю, положим. Но дано возвращаться не всем. Такие, как я, не можем. Сквозь колючий кустарник иду, Он цепок, мне не пробиться… Но пускай упаду, До второй простоты не дойду, Назад – нельзя возвратиться.Лазарь
Нет, волглая земля, сырая; только и может – тихо тлеть; мы знаем, почему она такая, почему огню на ней не гореть. Бегает девочка с красной лейкой, пустоглазая, – и проворен бег; а ее погоняют: спеши-ка, лей-ка, сюда, на камень, на доски, в снег! Скалится девочка: «Везде побрызжем!» На камне – смуглость и зыбь пятна, а снег дымится кружевом рыжим, рыжим, рыжим, рыжей вина. Петр чугунный сидит молча, конь не ржет, и змей ни гугу. Что ж, любуйся на ямы волчьи, на рыжее кружево на снегу. Ты, Строитель, сам пустоглазый, ну и добро! Когда б не истлел, выгнал бы девочку с лейкой сразу, кружева рыжего не стерпел. Но город и ты – во гробе оба, ты молчишь, Петербург молчит. Кто отвалит камень от гроба? Господи, Господи: уже смердит. Кто? Не Петр. Не вода. Не пламя. Близок Кто-то. Он позовет. И выйдет обвязанный пеленами: «Развяжите его. Пусть идет».1918–1938
Грех
И мы простим, и Бог простит. Мы жаждем мести от незнанья. Но злое дело – воздаянье Само в себе, таясь, таит. И путь наш чист, и долг наш прост: Не надо мстить. Не нам отмщенье. Змея сама, свернувши звенья, В свой собственный вопьется хвост. Простим и мы, и Бог простит, Но грех прощения не знает, Он для себя – себя хранит, Своею кровью кровь смывает, Себя вовеки не прощает – Хоть мы простим, и Бог простит.Домой
не – о земле – болтали сказки: «Есть человек. Есть любовь». А есть – лишь злость. Личины. Маски. Ложь и грязь. Ложь и кровь. Когда предлагали мне родиться – не говорили, что мир такой. Как же я мог не согласиться? Ну, а теперь – домой! домойСтихотворения 1911–1945, не включенные в авторские сборники*
Неуместные рифмы
1
Ищу напевных ше– потов В несвязном шу– ме, Ловлю живые шо– рохи В ненужной шу– тке. Закидываю не– воды В озера гру– сти, Иду к последней не– жности Сквозь пыль и гру– бость Ищу росинок ис– кристых В садах непра– вды, Храню их в чаше ис– тины, Беру из пра– ха. Хочу коснуться сме– лого Чрез горечь жи– зни. Хочу прорезать сме– ртное И знать, что жив – я. Меж цепкого и ле– пкого Скользнуть бы с ча– шей. По самой темной ле– стнице Дойти до сча– стья.2
Верили мы в неверное, Мерили мир любовью, Падали в смерть без ропота, Радо ли сердце Божие? Зори встают последние, Горе земли не изжито, Сети крепки, искусные, Дети земли опутаны. Наша мольба не услышана, Чаша еще не выпита, Сети невинных спутали, Дети земли обмануты… Падали, вечно падаем… Радо ли сердце Божие?Январь – алмаз (сонет)
Он вечно юн. Его вино встречает. А человека, чья зажглась заря В сверкающую пору января, – Судьба как бы двойная ожидает. И волею судьбу он избирает. Пока живет страдая и творя, Алмазной многоцветностью горя – Он верен, он идет – и достигает. Но горе, если в поворотный час Изменит он последнему усилью: Тогда возможное не станет былью, Погаснет камень января – алмаз. А та душа, чей талисман погас, – Бесследной разлетится пылью.19 января 1911
Кипарисы
Они четой растут, мои нежные, Мои узкие, мои длинные, Неподвижные – и мятежные, Тесносжатые – и невинные… Прямей свечи, Желания колючей, Они – мечи, Направленные в тучи…1911
Свое
По темным скатам, на дороге Шуршат опавшие листы. Идет Дон-Карлос легконогий, Прозрачны жаркие мечты. Идет он с тайного свиданья… Он долго ждал, искал, молил – Свершилось! Дерзкие желанья Он с нежной Нонной утолил. О, как была она прекрасна Во гневе горестном своем! И улыбается он ясно, Закрывшись бархатным плащом. «Подите прочь! Дон-Карлос, вы ли Так недостойно, в эту ночь Ко мне прокрались, оскорбили… Забвенья нет… Идите прочь! О, знали вы: из сожаленья Я дерзость ваших ласк терплю. В моей душе одно презренье, Я не любила! Не люблю!» Он целовал ей кончик платья, Шептал: «Прости мне! Ты – чиста!» Но помнил – лишь ее объятья, Ее горячие уста. И думал: если ты несчастна – Зато безмерно счастлив я. Что о любви твердить напрасно? Мила нам страсть, и страсть своя. Сжимал я трепетное тело, Изведал сладостную власть… Мученьем, гневом, – что за дело, Чем ты ответишь мне на страсть? И стон ли счастья, крик ли боли – Они равны в моем огне. А разделенный поневоле – Он ярче и милее мне… Но молча слушал он укоры. Сказать? Она не поняла б… И от разгневанной синьоры Он, властелин, ушел – как раб. Невинны нити всех событий, Но их не путай, не вяжи, И чистота, единость нити Всегда спасут тебя от лжи. Мерцает полночь; на дороге Едва шуршит упавший лист. Идет Дон-Карлос легконогий, Невинен, верен, прав и чист.Амалии
Люблю тебя ясную, несмелую, Чистую, как ромашка в поле. Душу твою люблю я белую, Покорную Господней воле. И радуюсь радостью бесконечною, Что дороги наши скрестились, Что люблю тебя любовью вечною, Как будто мы вместе – уже молились.26 марта 1911
Париж
Сергею Платоновичу Каблукову
Темны российские узоры: Коровы, пьянство и заборы, Везде измены и туманы Да Кукол Чертовых обманы… Пусть! верю я, и верить буду Наперекор стихиям – чуду, И вас зову с собою: верьте! Но верой огненной, – до смерти.27 сентября 1911
С.-Петербург
«Оле»
Безвольность рук твоих раскинутых… уста покорные молчат. И сквозь ресниц полусодвигнутых едва мерцает бледный взгляд. Ты вся во власти зыбкой томности и отдающегося сна… О, не любовью, грешной темностью моя душа уязвлена. Пусть не люблю – нет сожаления, пусть ты не любишь – всё равно, меня жестокости и дления пьянит холодное вино. Как будто в дьявольское зеркало взглянули мы… Оно светло, и нас обоих исковеркало его бездонное стекло.Девочка
Я претепло одета: Под капором коса. Гулять – теперь не лето – Иду на полчаса. Погода-то какая! Снежок хрустит, хрустит. Далёко бы ушла я, А няня не велит. Схватиться бы за санки, Скатиться бы с горы, Да я с Феклистой няней, А с ней не до игры. Противная Феклиста! Не хочет ничего, Вот Ваню гимназиста Пускают одного. Твердит: «Ты не мальчишка, Тебе нельзя одной». А брат приготовишка Гуляет, как большой. Башлык наденет рыжий, Коньки несет, звеня, А сам и ростом ниже, Да и глупей меня. Смеется: «Я направо, Не надо мне Феклист». Ах, как досадно, право, Что я не гимназист!«Аркаша, Аркаша…»
Аркаша, Аркаша, Во рту твоем каша, Но что-то в тебе восхитительное. Румян ты и сдобен, Купидоподобен, Как яблочко весь – ахтительное. Поспорили ныне Две лучших богини, Любви твоей радостной жаждая, И пламень твой страстный Делить не согласны, Всего тебя требует каждая. Ты с ними уветлив, Невинно кокетлив, И спором весьма удручаешься. Как шарушек каткий, И нежный, и сладкий, Меж ними приятно катаешься. Настроил ты скиний, Везде по богине, Всё счастье богинь тебе вверено; Но, схапав манатки, Во все-то лопатки Уехал Аркашенька в Верино.Ответ ***
Всё так просто, всё мне мило, Шмель гудит, цветет сирень, Солнце ясно восходило: Ясный будет нынче день. Дятел ползает на ветке… Нет, иду, не утерплю… Знаю, знаю, ты в беседке, Ты, которую люблю! Ах, любовь всегда наивна (Если истина она), У поительно-призывна, Драгоценно-неумна. И не ходит по дорогам, Где увял сирени цвет, Где в томленьи слишком строгом Грезим мы о слишком многом, О любви, которой нет. Ах, любовь проста, как роза! Успокоит – опьяня. Не стыдись, моя мимоза, Благодатного огня. Будем ясно жить на свете, В сердце есть на всё ответ. Любим мы, да любят дети, А иной любви и нет. Целоваться б неотрывно Там, в беседке, у реки… Я наивен – ты наивна, Остальное пустяки. Остальное всё ничтожно – Если, впрочем, не шучу. Но об этом осторожно, Осторожно умолчу.Тебе
В горькие дни, в часы бессонные Боль побеждай, боль одиночества. Верь в мечты свои озаренные: Божьей правды живы пророчества. Пусть небеса зеленеют низкие, Помни мысль свою новогоднюю. Помни, есть люди, сердцу близкие, Веруй в любовь, в любовь Господнюю.1 января 1913
На – крест
Стены белы в полуночный час. Вас ли бояться, – отмены, измены? Мило мне жизни моей движенье, Биенье, – забвенье того, что было, Знак переплета… Сойдутся ль, нет ли Петли опять – но будет не так. Тают мгновенья, пройти не хотят… Рад я смене, пусть умирают. Слов не надо – хотения смелы. Белы стены поздних часов.1914
Три креста
О, Бельгия, земля святых смертей! Ты на кресте, но дух твой жив и волен. И перед ним – что кровь твоих детей И дым, и гарь воздушных колоколен? На Польшу, близкую сестру, взгляни, – Нет изумительней ее удела: Безумием пылающие дни Ей два креста судили: на одном Ее истерзанное тело, – Душа немая на другом. Но сочтены часы томленья, Господь страданий не забудет. Голгофа – ради воскресенья, И веруем, – да будет!Завяжи
Если хочешь говорить – Говори ясно. Если вздумаешь любить – Люби прекрасно. Если делать – делай так, Чтобы делу выйти. Если веришь – дай мне знак, Завяжи нити…Серебряный день
А. О. Лурье
Люблю, люблю серебряные дни, Без солнца – в солнце, в облачной тени. Как риза брачная, свежа, ясна Задумчивого моря белизна; Колеблется туман над тихой далью, А голос волн и ласковей, и глуше… Такие я встречал людские души: Овеяны серебряной печалью, Они улыбкою озарены, В них боль и радость вечно сплетены… И любит буйная моя мятежность Их детскую серебряную нежность.Опрощение
Армяк и лапти… да, надень, надень На Душу-Мысль свою, коварно-сложную, И пусть, как странница, и ночь и день, Несет сермяжную суму дорожную. В избе из милости под лавкой спит, Пускай наплачется, пускай намается, Слезами едкими свой хлеб солит, – Пусть тяжесть земная ей открывается… Тогда опять ее прими, прими Всепобедившую, смиренно-смелую… Она, крылатая, жила с людьми, И жизнь вернула ей одежду белую.«Плотно заперта банка…»
Плотно заперта банка. Можно всю ночь мечтать. Можно, встав спозаранка, То же начать опять. Можно и с пауками Играть, полезть к ним в сеть. Можно вместе с мечтами Весело умереть.«Нет выбора, что лучше и что хуже…»
Нет выбора, что лучше и что хуже. Покину ль я, иль ты меня покинешь – Моя любовь стрелы острей и уже – Конец зазубрен: ты его не вынешь.«Ходит, дышит, вьется, трется между нами…»
Ходит, дышит, вьется, трется между нами Черный человечек с белыми глазами. Липой ли он пахнет, потом или сеном? Может быть, малинкой, а быть может, тленом. Черный ползунишка с белыми глазами, Пахнущий постелью, мясом и духами, Жертвочек ты ищешь, ловишь в водах мутных, Любишь одиноких деток перепутных.Жизнеописание Ники
1
«Нет, я не льстец!» Мои уста Свободно Ника[100] славословят. Ни глад, ни мор, ни теснота, Ни трус меня не остановят. Ты скромен, Ника, но ужель Твои дела мы позабыли? Преследуя святую цель, Трудился с Филиппом[101] – не ты ли? Ты победил надеждой страх, Недаром верила Россия! На Серафимовых[102] костях Не ты ли зачал Алексия? Не ты ль восточную грозу Привлек, махнувши ручкой царской? И пролил отчую слезу Над казаками – в день январский?[103] Толпы мятежные лились… У казаков устали руки. Но этим только начались Твои, о Ник, живые муки. Ты дрогнул, поглядев окрест, И спешно вызвал Герра Витта…[104] Наутро вышел манифест… Какой? О чем? Давно забыто. Но сердце наше Ник постиг. Одних сослал, других повесил. И крепче сел над нами Ник, Упрямо тих и мирно весел. С тех пор один он блюл, хранил Жену, Россию и столицу И лишь недавно их вложил В святую Гришину[105] десницу. Коль раскапризится дитя, – Печать, рабочие и Дума, – Вдвоем вы справитесь, шутя: Запрете их в чулан без шума. На что нам Дума и печать? У нас священный старец Гриша. Россия любит помолчать… Спокойней, дети, тише, тише!.. И что нам трезвость[106], что война? Не страшны дерзкие Германы. С тобою, Ники, без вина Победоносны мы и пьяны. И близок, близок наш тупик Блаженно-смертного забвенья, Прими ж дары мои, о Ник, Мои последние хваленья. Да славит всяк тебя язык! Да славит вся тебя Россия! Тебя возносим, верный Ник! Мы богоносцы – ты Мессия!2
От здешних Думских оргий На фронт вагонит Никс, При нем его Георгий[107] И верный Фредерикс[108]. Всё небо в зимних звёздах. Железный путь готов: Ждут Никса на разъездах Двенадцать поездов. . . . . . . . . . . . . . . . На фронте тотчас слово Он обратил к войскам: «Итак, я прибыл снова К героям-молодцам. Спокойны будьте, дети, Разделим мы беду – И ни за что на свете Я с места не сойду. Возил сюда сынишку, Да болен он у нас. Так привезу вам Гришку Я в следующий раз. Сражайтесь с Богом, тихо, А мне домой пора». И вопят дети лихо: «Ура! ура! ура!» Донцы Крючков и Пяткин[109] Вошли в особый пыл, Но тут сам Куропаткин[110] С мотором подкатил. Взирает Ника с лаской На храброго вождя… В мотор садятся тряский, Беседу заведя. Взвилася белым дыбом Проснеженная пыль И к рельсовым изгибам Запел автомобиль. Опять всё небо в звездах, И пробкой[111], как всегда, Шипят на ста разъездах Для Ники поезда. К семье своей обратно Вагонит с фронта Никс. И шамкает невнятно: «В картишки бы приятно» – Барон фон Фредерикс.3
«Буря мглою небо» слюнит, Завихряя вялый снег, То как «блок» она занюнит, То завоет, как «эс-дек». В отдаленном кабинете Ропщет Ника: «Бедный я! Нет нигде теперь на свете Мне приличного житья! То подымут спозаранку И на фронт велят скакать[112], А воротишься – Родзянку[113] Не угодно ль принимать. Сбыл Родзянку – снова крики, Снова гостя принесло: Белый дядя Горемыкин[114] В страхе едет на Село. Всё боится – огерманюсь, Или в чем-нибудь проврусь… Я с французами жеманюсь, С англичанами тянусь… Дома? Сашхен[115] всё дебелей, Злится, черт ее дери… Все святые надоели – И Мардарий[116] и Гри-Гри[117]. Нет минуты для покоя, Для картишек и вина. Ночью, «мглою небо кроя», Буря ржет, как сатана. Иль послать за Милюковым?[118] Стойкий, умный человек! Он молчанием иль словом Бурю верно бы пресек! Совершится втайне это… Не откроет он лица… Ох, боюсь, сживут со света! Ох, нельзя принять «кадета»[119] Мне и с заднего крыльца! Нике тошно. Буря злая Знай играет, воет, лает На стотысячный манер. Буря злая, снег взвихряя, То «эн-эсом»[120] зарыдает, То взгрохочет, как «эс-эр»[121]. Полно, Ника! Это сон… Полно, выпей-ка винца! В «Речи»[122] сказано: «спасен Претерпевый до конца»[123].4
Со старцем[124] Ник беседовал вдвоем. Увещевал его блаженный: «Друже! Гляди, чтоб не было чего похуже. Давай-ка, милый, Думу соберем. А деда[125] – вон: слюнявит да ворчит. Бери, благословись, который близко, Чем не министр Владимирыч Бориска?[126] Благоуветливый и Бога чтит. Прощайся, значит, с дединькою, – раз, И с энтим, с тем, что рыльце-то огнивцем, Что брюхо толстое – с Алешкою убивцем[127]. Мне об Алешке был особый глас. Да сам катись в открытье – будет прок! Узрят тебя, и все раскиснут – лестно! Уж так-то обойдется расчудесно… Катай, катай, не бойся, дурачок!» Увещевал его святой отец. Краснеет Ника, но в ответ ни слова. И хочется взглянуть на Милюкова, И колется… Таврический Дворец. Но впрочем, Ник послушаться готов. Свершилось всё по изволенью Гриши: Под круглою Таврическою крышей Восстали рядом Ник и Милюков. А Скобелев, Чхеидзе и Чхенкели[128], В углах таясь, шептались и бледнели. Повиснули их буйные головки. Там Ганфман[129] был и Бонди[130] из «Биржевки» – Чтоб лучше написать о светлом дне… И написали… И во всей стране Настала некакая тишина, Пусть ненадолго – все-таки отдышка. Министров нет – один священный Гришка… Мы даже и забыли, что война[131].<Март 1916>
Вере
На луне живут муравьи И не знают о зле. У нас – откровенья свои, Мы живем на земле. Хрупки, слабы дети луны, Сами губят себя. Милосердны мы и сильны, Побеждаем – любя.29 апреля 1916
С.-Петербург
С лестницы
Нет, жизнь груба, – не будь чувствителен, Не будь с ней честно-неумел: Ни слишком рабски-исполнителен, Ни слишком рыцарски-несмел. Нет, Жизнь – как наглая хипесница: Чем ты честней – она жадней… Не поддавайся жадной; с лестницы Порой спускать ее умей!28 мая 1916
Кисловодск
О:
Знаю ржавые трубы я, понимаю, куда бег чей; знаю, если слова грубые, – сейчас же легче. Если выберу порвотнее (как серое мыло), чтобы дур тошнило, а дуракам было обидно – было! – сейчас же я беззаботнее, и за себя не так стыдно. Если засадить словами в одну яму Бога и проститутку, то пока они в яме – вздохнешь на минутку. Всякий раскрытый рот мажь заношенной сорочкой, всё, не благословись, наотмашь бей черной строчкой. Положим, тут самовраньё: мышонком сверкнет радость; строчки – строчки, не ременьё; но отдышаться надо ж? Да! Так всегда! скажешь погаже, погрубее, – сейчас же весело, точно выпил пенного… Но отчего? Не знаю, отчего. А жалею и его, его, обыкновенного, его, таковского, как все мы, здешние, – грешного, – Владимира Маяковского.13 октября 1916
«Опять мороз! И ветер жжет…»
Опять мороз! И ветер жжет Мои отвыкнувшие щеки, И смотрит месяц хладноокий, Как нас за пять рублей влечет Извозчик, на брега Фонтанки… Довез, довлек, хоть обобрал! И входим мы в Петровский зал, Дрожа, промерзнув до изнанки. Там молодой штейнерианец (В очках и лысый, но дитя) Легко, играя и шутя, Уж исполнял свой нежный танец. Кресты и круги бытия Он рисовал скрипучим мелом И звал к порогам «оледелым» Антропософского «не я»… Горят огни… Гудит столица… Линялые знакомы лица, – Цветы пустыни нашей невской: Вот Сологуб с Чеботаревской, А вот, засунувшись за дверь, Василий Розанов и дщерь… Грустит Волынский, молью трачен, Привычно Ремизов невзрачен, След прошлого лежит на Пясте… Но нет, довольно! Что так прытко? Кончается моя открьГгка! Домой! Опять я в вашей власти – Извозчик, месяца лучи И вихря снежного бичи.Рано?
Святое имя среди тумана Звездой далекой дрожит в ночи. Смотри и слушай. И если рано – Будь милосерден, – молчи! молчи! Мы в катакомбах; и не случайно Зовет нас тайна и тишина. Всё будет явно, что ныне тайно, Для тех, чья тайне душа верна.Ленинские дни
«В эти дни не до „поэзии“»
О, этот бред партийный, Игра, игра! Уж лучше Киев самостийный И Петлюра!..12 декабря 1917
СПБ
Издевка
Ничего никому не скажешь Ни прозой, ни стихами; Разделенного – не свяжешь Никакими словами. Свернем же дырявое знамя, Бросим острое древко; Это черт смеется над нами, И надоела издевка. Ведь так в могилу и ляжешь, – И придавит могилу камень, – А никому ничего не скажешь Ни прозой, ни стихами…Мелешин-Вронский (шутя)
Наш дружносельский комиссар – Кто он? Чья доблестная сила Коммунистический пожар В его душе воспламенила? Зиновьев, Урицкий, иль Он, Сам Ленин, старец мудроглавый? Иль сын Израиля – Леон, Демоноокий и лукавый? Иль, может быть, от власти пьян (Хотя боюсь, что ошибуся), Его пленил левак-Прошьян И разнесчастная Маруся? А вдруг и не Прошьян, не Зоф Нагнал на комиссара морок? Вдруг это Витенька Чернов, – Мечта казанских акушерок? Иль просто, княжеских простынь Лилейной лаской соблазненный, Средь дружносельских благостынь Живет владыка наш смущенный? В его очах – такая грусть… Он – весь загадка, хоть и сдобен. Я не решу вопроса… Пусть Его решит Володя Злобин.8 июля 1918
Сиверская
Копье
Лукавы дьявольские искушения, но всех лукавее одно, – последнее. Тем невозвратнее твое падение и неподатливость твоя победнее. Но тайно верю я, что сердце справится и с торжествующею преисподнею, что не притупится и не расплавится Копье, врученное рукой Господнею.17 августа 1918
Дружноселье
В Дружносельи
1
Прогулки
Вы помните?.. О, если бы опять По жесткому щетинистому полю Идти вдвоем, неведомо куда, Смотреть на рожь, высокую, как вы, О чем-то говорить, полуслучайном, Легко и весело, чуть-чуть запретно… И вдруг – под розовою цепью гор, Под белой незажегшейся луною, Увидеть моря синий полукруг, Небесных волн сияющее пламя… Идти вперед, идти назад, туда, Где теплой радуги дымно-горящий столб Закатную поддерживает тучу… И, на одном плаще минутно отдохнув, Идти опять и рассуждать о Данте, О вас – и о замужней Беатриче, Но замолчать средь лиственного храма, В чудесном сумраке прямых колонн, Под чистою и строгой лаской Огней закатных, огней лампадных… Вы помните? Забыли?..2
Пробуждение
Последних сновидений стая злая, Скользящая за тьму ночных оград… Упорный утренний собачий лай – И плеск дождя за сеткой винограда…3
Пусть
Пусть шумит кровавая гроза, Пусть гремят звериные раскаты… Буду петь я тихие закаты И твои влюбленные глаза.Невеста
Мне жить остается мало… Неправда! Жизнь – навсегда. Душа совсем не устала Следить, как летят года. Пускай опадают листья – Видней узор облаков… Пускай всё легче, сквозистей На милом лице покров, Невеста, Сестра! не бойся, Мне ведома сладость встреч. Приди, улыбнись, откройся, Отдай мне свой нежный меч… Всё бывшее – пребывает, Всё милое – будет вновь: Его земле возвращает Моя земная Любовь.2 августа 1918
Навсегда
Нет оправдания в незнаньи И нет невинной слепоты. Она открылась мне страданьем, Любовь, единая, как Ты. Душа ждала, душа желала Не оправданья, но суда… И принял я двойное жало Любви единой – навсегда.Здесь («Пускай он снился, странный вечер длинный…»)
Пускай он снился, странный вечер длинный, я вечер этот помню всё равно. Зари разлив зеленовато-винный, большое полукруглое окно. И где-то за окном, за далью близкой, певучую такую тишину, и расставание у двери низкой, заветную зазвездную страну. Твои слова прощальные, простые, слова последние – забудь, молчи, и рассыпавшиеся, ледяные, невыносимо острые лучи. Любви святую непреложность и ты и я – мы поняли вдвоем, и невозможней стала невозможность здесь, на земле, сквозь ложность и ничтожность, к ней прикоснуться чистым острием.10 августа 1918
Звездоубийца
Всё, что бывает, не исчезает. Пусть миновало, но не прошло. Лунное небо тайны не знает, Лунное небо праздно-светло. Всё, что мелькнуло, – новым вернется. Осень сегодня – завтра весна… Звездоубийца с неба смеется, Звездоубийца, злая луна. В явь превращу я волей моею Всё, что мерцает в тающем сне. Сердцу ль не верить? Я ль не посмею? Только не надо верить луне.Сон
Наивный месяц, мал и тонок, Без белых облачных пеленок Смотрел на луг. А на лугу – Сидел взъерошенный котенок, Как в зачарованном кругу. Зачем он был, зачем сидел, И отчего так месяц бел, – Все мне казалось непонятно… Но был котенок очень смел, А луг круглился необъятно. И пенилась моя надежда, – В котенке, в небе, – как вино… Иль это сонная одежда На том, что есть, – но не дано, Что наяву утаено?..Август 1918
Три сына – три сердца
З. В. Р. Р.
Когда были зори июльские багровые, Ангел, в одежде шарманщика, пришел к ней на дачу, где, счастливая, она жила. Только всего и было, что зори багровые. Спросил ее шарманщик: одно ли у тебя сердце? Она подумала и сказала: три. Заплакал шарманщик, шарманку завертел свою, другие слушали и ничего не понимали, но выговаривала шарманка ясно для нее: «Посмотри, посмотри на зори багровые, вынуты у тебя будут все три сердца, три раны, три раны останутся вместо них…» Розовые в свете зорь багровеющих, розовые капали у Ангела слезы… Кончилась песенка, и пошел он прочь. Но чуть вышел за ограду садовую, встречу ему попался пустой извозчик, старый старичишка с белой бородой. Увидал старичишка Ангела, начал, на чем свет стоит, ругаться: «Ах ты, своевольник, такой-сякой, Ах ты, жалетель без ума-разума, чего распустил розовые слюни, душу человечью на месте убил? Гляди, вот, ее веревочка длинная, в тысячу дней тесемка, и не сряду на ней, не сряду три узелка! Тысячу дней ты сделал минуточкой, да как ты осмелился на такое, силы человечьи не ты считал!» Испугался Ангел, и слезы высохли. Николая-Угодника узнал он: нажалуется, не минует, – как быть? А извозчик на козлах прыгает, рукой морщинистой машет: «Иди, неуемный, иди назад, сыграй ей такую песенку, чтобы всё, что узнала, забыла; а тебе нагоняй – своим чередом». Побежал Ангел, спотыкается, спешит, а она на том же месте, только не стоит – сидит на песке. И видит Ангел: губы у нее белые. Вынуты у нее все три сердца, но не три раны, а одна. Привязал к шарманке веревочку, длинную веревочку с тремя узелками, длинную веревочку в тысячу дней, и заиграл Ангел песенку, песенку забвенную, бедную, возвращая Время в свой круг, покрывая тьмою грядущее, чтобы копились силы человечьи по воле Того, Кто их знал. И дрожал шарманщик, играючи: закроется ли тройная рана? вернется ли в свои дни душа? Люди подбежали, подняли ту, что сидела с белыми губами. Она очнулась, слушает, глядит, смеется: – «Ах, вдруг точно уснула я, и что-то снилось мне, что – не знаю…» Три сердца ее Ангел увидал, три сына, Смертью отмеченные, три узелка на веревочке длинной, на длинной веревочке в тысячу дней. А Николай-Угодник у решетки дожидается, посадил Ангела в старенькую пролетку и судить его за самовластье повез.* * *
Недаром разгорались зори багровые. У кого не вынули они сердца? Не оставили кровавых ран? У той, что на даче жила, счастливая, первое сердце взяли чужие, второе – свои, а третье – неизвестно, кто. Но три раны не сливались в единую, потому что давал ей сил для страданья, давал каждый из тысячи дней.1914–1918
СПБ
Мир сей…
Прости мне за тех, кого я отнял у жизни сей, отнял у сна и покоя, у жен и у матерей. Ведь если я отнимаю, в это иду, любя; верю, иду и знаю: так делаю – для Тебя.<Сентябрь – октябрь 1918>
Петербург
Любовь («Какая тайна в этом слове…»)
1
Какая тайна в этом слове, как мало думают о нем. Оно пылает ярче крови преображающим огнем. Его – никто не понимает. Ему до срока – не сверкнуть. И милосердие скрывает его недейственную суть.12 октября 1918
2
Я воздыхал и дни и ночи, об избавлении стеня, и чьи-то пристальные очи взглянули тихо на меня. Они взглянули и сказали: ты шел неправедно за мной. Вернись, и выйди из сандалий, и с непокрытой головой.13 октября 1918
3
Любовь приходит незаметно и, непредвиденная, – ждет, пока не вспыхнет семицветно в живой душе ее восход. Не бойся этого прозренья. Его ничем не отвратить. Оно дается на мгновенье, чтоб умереть иль полюбить.15 сентября 1918
4
Как незаметно из-под пыли пробилась чистая струя. О, первая любовь, не ты ли Любовь последняя моя? Смотри: глаза мои прозрели, мечты земные о земном, преобразясь, запламенели в кольце светящемся твоем: И дух и плоть – неразделимо к тебе на жертвенник легли. И древний столб огня и дыма вознесся к небу от земли.Не за мной
Мой путь идет по кручам, и остры стремнины… давно я изранен, измучен, но не сойду в долины. Я для тех, кто всеми оставлен, иду за второй белизною – мой путь окровавлен, не ходи за мною. Я свободен – и связан, всё равно пойду по стремнинам: мой путь мне указан Отцом и Сыном.Сонет («Шестнадцать уст, и в памяти храню я…»)
Шестнадцать уст, и в памяти храню я К устам прикосновенье уст моих. В них было откровенье поцелуя. Шестнадцать уст! Я помню только их. Любовию иль нежностью волнуем, Во власти добрых духов или злых, Когда б я не касался уст иных, Святое пламя пил я с поцелуем. И если даже вдруг, полуслучайно, Уста сближались на единый раз, В едином миге расцветала тайна. И мне не жаль, что этот миг погас. О, в поцелуе всё необычайно. Шестнадцать уст – я помню только вас!1918
Программа
Здесь всё – только опалово, только аметистово, да полоска заката алого, да жемчужина неба чистого… А где-то на поле – цветы небывалые, и называется поле – нетово… Что мне зеленое, белое, алое? Я хочу, чтоб было ультрафиолетово…Большевицкий сон
Ам…ии
Комната. Окна в какой-то сад. В комнате гости. А день так светел. Я улыбаюсь, гостям я рад… Странное в них не сразу заметил. Что? Да как? Они без лиц! Дримса-пумса-цуц и цыц. Сверху у этих – вот тебе раз! – Гладко и бледно что-то круглится. Нету на гладком ни ртов, ни глаз: Это, что хочешь, только не лица. Ни единого лица, Лапца-дрыпца гоп-ца-ца! Каждый телесным своим пятном, Розово-желтым, ворочал мило. Это казалось сперва смешно, Ну а потом – меня затошнило. Хоть кусочек бы лица, Дрости-крости гоп-ца-ца! Вдруг я увидел, что черный кот Тихо скользит меж толпой у двери, Щурит глаза, раскрывает рот… О, как я жадно бросился к зверю! И целую во уста – Есть лицо хоть у кота!Красноглазое
Схватило, заперло, оставило Многоголовое Оно. В холодной келье замуравило Мое последнее окно. О, пусть бы яма одинокая, И темь, и тишь, и холод плит… Но я не знал, что Красноокое Меня и с Ним разъединит. Разъединило! Нету доступа Ему ко мне и мне к Нему. Не уловлю я легкой поступи И уст к одежде не прижму… И если в келью позабытую Он постучит ко мне: открой! Как я открою дверь забитую Моей слабеющей рукой?1919
А. Блоку («Впереди 12-ти не шел Христос…»)
…На танцульке в Кронштадте сильно выпивший матрос, обиженный отказом барышни, сорвал икону Божьей Матери и принялся с нею выплясывать. Через час он умер.
Легенда (или правда) наших дней Впереди 12-ти не шел Христос: Так сказали мне сами хамы. Зато в Кронштадте пьяный матрос Танцевал польку с Прекрасной Дамой. Говорят, он умер… А если б и нет? Вам не жаль Вашей Дамы, бедный поэт?Апрель 1919
СПБ
Двое
А. и Л.
Она его тогда узнала… И он любил ее тогда. Каким дождем их осверкала Любви восходная звезда! И вот прошло, и стало былью. Не любит он, не любишь ты… И затянулись серой пылью Их лиц ужасные черты.Хобиас
Какая чья-то синяя гримаса, Как рана алая стыда, Позорный облик Хобиаса Преследует мои года. И перья крыл моей подруги, Моей сообщницы, – Любви, И меч, и сталь моей кольчуги, И вся душа моя – в крови. Мы побеждаем. Зори чисты. Но вот опять из милых глаз Большеголовый, студенистый, Мне засмеялся – Хобиас!Не согласные рифмы
В углу, под образом Горит моя медовая свеча. Весной, как осенью, Горит твоя прозрачная душа. Душа, сестра моя! Как я люблю свечи кудрявый круг Молчу от радости, Но ангелы твои меня поймут.6 марта 1919
Петербург («В минуты вещих одиночеств…»)
…И не пожрет тебя победный
Всеочищающий огонь –
Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город…
1909. «Петербург» В минуты вещих одиночеств Я проклял берег твой, Нева. И вот, сбылись моих пророчеств Неосторожные слова. Мой город строгий, город милый! Я ненавидел, – но тебя ль? Я ненавидел плен твой стылый, Твою покорную печаль. О, не тебя, но повседневность И рабий сон твой проклял я… Остра, как ненависть, как ревность, Любовь жестокая моя. И ты взметнулся Мартом снежным, Пургой весенней просверкал… Но тотчас, в плясе безудержном, Рванулся к пропасти – и пал. Свершилось! В гнили, в мутной пене, Полузадушенный, лежишь. На теле вспухшем сини тени, Закрыты очи, в сердце тишь… Какая мга над змием медным, Над медным вздыбленным конем! Ужель не вспыхнешь ты победным Всеочищающим огнем? Чей нужен бич, чье злое слово, Каких морей последний вал, Чтоб Петербург, дитя Петрово, В победном пламени восстал?Апрель 1919
С.-Петербург
Презренье
Казалось: больше никогда Молчания души я не нарушу. Но вспыхнула в окне звезда, – И я опять мою жалею душу. Всё умерло в душе давно. Угасли ненависть и возмущенье. О бедная душа! Одно Осталось в ней: брезгливое презренье.Твоя любовь
Из тяжкой тишины событий, Из горькой глубины скорбей, Взываю я к Твоей защите. Хочу я помощи Твоей. Ты рабьих не услышишь стонов, И жалости не надо мне. Не применения законов – А мужества хочу в огне. Доверчиво к Тебе иду я. Мой дух смятенный обнови. Об Имени Своем ревнуя, Себя во мне восстанови. О, пусть душа страдает смело, Надеждой сердце бьется вновь… Хочу, чтобы меня одела, Как ризою, – Твоя любовь.17 октября 1919
Сад двух
Есть сад… Никто не знает О нем – лишь я да ты. Там ныне расцветают Волшебные цветы. Они разнообразны, Красивы – и смешны, Но все, хотя и разны, Таинственно-нежны. И все они мне милы, Все милы мне, как ты. Сама любовь взрастила Волшебные цветы.Октябрь 1919
Рай (в альбом ***, в СПб-ге)
«…почтительнейше билет возвращаю…»
(Ив. Карамазов) Не только молока иль шеколада, Не только воблы, соли и конфет – Мне даже и огня не очень надо: Три пары досок обещал комбед. Меня ничем не запугать: знакома Мне конская багровая нога, И хлебная иглистая солома, И мерзлая картофельная мга. Запахнет, замутится суп, – а лук-то? А сор, что вместо чаю можно пить? Но есть продукт… Без этого продукта В раю земном я не могу прожить. Искал его по всем нарводпродвучам, Искал вблизи, смотрел издалека, Бесстрашно лазил по окопным кручам, Заглядывал и в самую чека. Ее ж, смотри, не очень беспокой-ка: В раю не любят неуместных слов. Я только спрашивал… и вся ревтройка Неугомонный подымала рев. . . . . . . . . . . . . . . . И я ходил, ходил в петрокомпроды, Хвостился днями у крыльца в райком… Но и восьмушки не нашел – свободы Из райских учреждений ни в одном? Не выжить мне, я чувствую, я знаю, Без пищи человеческой в раю: Все карточки от Рая открепляю, И в нарпродком с почтеньем отдаю.«Никогда не читайте…»
Никогда не читайте Стихов вслух. А читаете – знайте: Отлетит дух. Лежат, как скелеты, Белы, сухи… Кто скажет, что это Были стихи? Безмолвие любит Музыка слов. Шум голоса губит Душу стихов.«Сказаны все слова…»
…Сказаны все слова. Теплится жизнь едва… Чаша была полна. Выпита ли до дна? Есть ли у чаши дно? Кровь ли в ней, иль вино? Будет последний глоток: Смерть мне бросит платок!1920
Надежда моя (Амалии)
Speranza mial Non piange…
Неаполитанская песенка Надежда моя, не плачь: С тобой не расстанемся мы. Сегодня ночью палач Меня уведет из тюрьмы. Не видит слепой палач – Рассветна зеленая твердь. Надежда моя! Не плачь: Тебя пронесу я сквозь смерть.Ничего («То, что меж нами, – непонятно…»)
То, что меж нами, – непонятно, Одето в скуку, в полутьму, Тепло, безвидно и невнятно, Неприменимо ни к чему. Оно и густо, как молчанье, Но и текуче, как вода. В нем чье-то лживое признанье И неизвестная беда. Колеблется в одежде зыбкой, То вдруг распухнет и замрет. Косой коричневой улыбкой И взором белым обольет… Вам нет нужды, и не по силам Пытаться – изменить его. И я чертам его постылым Предпочитаю – Ничего.1921
Висбаден
Рыдательное
Кипела в речке темная вода, похожая на желтое чернило. Рыдал закатный свет, как никогда, и всё кругом рыдательное было. Там, в зарослях, над речкой, на горбе, где только ветер пролетает, плача, – преступница, любовь моя, тебе я горькое свидание назначил. Кустарник кучился и сыро прел, дорога липла, грязная, у склона, и столбик покосившийся сереп. а в столбике – забытая икона… Прождать тебя напрасно не боюсь: ты не посмеешь не услышать зова… Но я твоей одежды не коснусь, я не взгляну, не вымолвлю ни слова – пока ты с плачем ветра не сольешь и своего рыдательного стона, пока в траву лицом не упадешь не предо мной – пред бедною иконой… Не сердце хочет слез твоих… Оно, тобою полное, – тебя не судит. Родная, грешная! Так быть должно, и если ты еще жива – так будет! Рыдает черно-желтая вода, закатный отсвет плачет на иконе. Я ждал тебя и буду ждать всегда вот здесь, у серого столба, на склоне…Бродячая собака
Не угнаться и драматургу за тем, что выдумает жизнь сама. Бродила Собака по Петербургу, и сошла Собака с ума. Долго выла в своем подвале, ей противно, что пол нечист. Прежних невинных нету в зале, завсегдатаем стал че-кист. Ей бы теплых помоев корыто, – (чекистских красных она не ест). И, обезумев, стала открыто она стремиться из этих мест. Беженства всем известна картина, было опасностей без числа. Впрочем, Собака до Берлина благополучно добрела. «Здесь оснуюсь, – решила псица, – будет вдоволь мягких помой; народ знакомый, родные лица, вот Есенин, а вот Толстой». Увы, и родные не те уже ныне! Нет невинных, грязен подвал, и тот же дьявол-чекист в Берлине правит тот же красный бал. Пришлось Собаке в Берлине круто. Бредет, качаясь, на худых ногах – куда? не найдет ли она приюта у нас на Сенских берегах? Что ж? Здесь каждый – бродяга-собака и поглупел, скажу не в укор. Конечно, позорна Собака, однако это еще невинный позор.Июнь 1922
(на случай)
Париж
Голубой конверт
В длинном синем конверте Она мне письмо прислала. Я думал тогда о смерти… В письме было очень мало, Две строчки всего: «Поверьте, Люблю я, и мир так светел…» Я думал тогда о смерти И ей на письмо не ответил. На сердце было пустынно… Я сердцу не прекословил. Разорванный, праздный, длинный Конверт на ковре васильковел.Цифры
22, 25… целых 8! Далеко стонет бледная Лебедь, Этот март невесенен, как осень… 25… 26 – будет 91 Будет 9… Иль 100? 90? Под землей бы землею прикрыться… Узел туг, а развяжется просто: 900, 27, но не 30. 900, да 17, да 10… Хочет Март Октябрем посмеяться, Хочет бледную Лебедь повесить, Обратить все 17 – в 13.«Господи, дай увидеть!..»
Господи, дай увидеть! Молюсь я в часы ночные. Дай мне еще увидеть Родную мою Россию. Как Симеону увидеть Дал Ты, Господь, Мессию, Дай мне, дай увидеть Родную мою Россию.Извержение Этны
«Население Montenegro и Monterosso, убегая, запрягало в тележки домашний скот, свиней и даже индюшек…»
Из газет Меж двумя горами, Черной и Красной, мы, безумные, метались тщетно. Катится меж Черной и Красной огненная стена из Этны. Запрягли индюшек – рвемся налево, запрягли свиней – бежать направо, но нет спасенья ни направо, ни налево, и ближе дышит, катится лава. Катится с металлическим скрипом, с тяжелым подземным лаем. Опаленные, оглушенные скрипом, мы корчимся, шипим – и пропадаем.Гурдон
A Miss May Norris
Суровый замок на скале-иголке. Над пепельностью резких круч Лет голубей, свистящий шелком, И сырь сквозистая заночевавших туч. Бойниц замшенных удивленный камень, И шателенка, с белым псом, В одежде шитой серебром, С весенним именем – с осенними глазами, Здесь все воспоминания невнятны: Слились века и времена, Как недосмотренного сна Едва мерцающие пятна. Здесь – в облачном объятии дремать, В объятии сыром и тесном, Но жить – нельзя… А вспоминать – Зачем? О чем? О неизвестном?Падающее
Падающая, падающая линия… Видишь ли, как всё иное Становится день ото дня? Чашка разбилась синяя. Чашка-то дело пустое, А не скучно ли тебе без меня? Падает падающая линия… Не боюсь, что стало иное, Не жалею о прошедшем дне, Никакого не чувствую уныния. Ты не видишься почти со мною, Но ты вечно скучаешь обо мне, Ибо чашка-то не разбилась синяя.1923
Сбудется
Что мне – коварное и злое данное: я лишь о должном говорю, я лишь на милое, мне желанное, на него одно смотрю. Радость помнится, не забудется, надежно сердце ее хранит. И не минуется, скоро сбудется то, чем душа моя горит. Не отвержено, не погублено Всё, любимое Тобой. И я увижу глаза возлюбленной, увижу здесь, на земле, живой. Ты отдаешь утрясенной мерою. Господи! Знаю, что воля – Твоя, но не боюсь, ибо радостно верую: Ты хочешь того, чего и я.Париж, весна
Верность
И. И. Ф-му
Смерч пролетел над вздрогнувшей вселенной, Коверкая людей, любовь круша. И лишь одна осталась неизменной Твоя беззлобная душа. Как медленно в пространстве безвоздушном Недель и дней влечется череда! Но сердцем бедным, горько-равнодушным, Тебя – люблю, мой верный, навсегда.Пламя
Посмотри в жаркие окна, в небесный фарфор. Чей это желтый локон вьется из-за гор? Ширится, крутится круче… Что это? Не гроза ль? Но почему под тучей забагровела даль? Вся в искрах странная хмара… Нет, не гроза, не гроза! Это лесного пожара огненные глаза. Ало мглы загорелись… Дымы – как фимиам… Маковое ожерелье вспыхнуло по холмам. А с неба кто-то струями льет сверкающий зной: белое горнее пламя – в красный огонь земной. Любовь уходит незаметно, Она бездейственно не ждет. Скользит, скользит… И было б тщетно Ее задерживать отход. Не бойся этого скольженья. Ты так легко ослепнешь вновь, Что позабудешь и прозренья И слово самое любовь.Слово?
Проходили они, уходили снова, Не могли меня обмануть… Есть какое-то одно слово, В котором вся суть. Другие – сухой ковыль. Другие все – муть, Серая пыль. Шла девочка через улицу, Закричал ей слово автомобиль… И вот, толпа над ней сутулится, Но девочки нет – есть пыль. Не правда ли, какие странные Уши и глаза у людей? Не правда ли, какие туманные Линии и звуки здесь? А мир весь Здесь. Для нас он – потери… Но слово знают звери, Молчаливые звери: Собачка китайская, Голубая, с кожей грубой, В дверях какого-то клуба Дрожит вечером майским, Смотрит сторожко, – Молчит тринадцать лет, Как молчит и кошка В булочной на Muette. Звери сказать не умеют, Люди не знают, И мир, как пыль, сереет, Пропадом пропадает…Лик
О моря тишь в вечерний час осенний! О неба жемчуг, – белая вода! И ты, как золотой укол, звезда, И вы, бесшелестных платанов тени, – Я не любил вас никогда. Душа строга и хочет правды строгой. Ее поймет, ее услышит Бог. В моей душе любви так было много, Но ни чудес земли, ни даже Бога Любить – я никогда не мог. Зарниц отверзтые блистаньем вежды, Родных берез апрельские одежды, На лунном море ангелов стезя – И вас любить? Без страха и надежды, Без жалости – любить нельзя. А вы, и Бог, – всегда одни, от века Вы неподвижный пламень бытия. Вы – часть меня, сама душа моя. Любить же я могу лишь человека, Страдающую тварь, как я. Не человека даже – шире, шире! Пусть гор лиловых светит красота И звезды пышно плавают в эфире, Любовь неумолима и проста: Моя любовь – к живому Лику в мире, От глаз звериных – до Христа.Две сестры
Ты Жизни всё простил: игру, Обиду, боль и даже скучность. А темноокую ее Сестру? А странную их неразлучность?..Негласные рифмы
Хочешь знать, почему я весел? Я опять среди милых чисел. Как спокойно меж цифр и мер. Строг и строен их вечный мир. Всё причинно и тайно-понятно, Не случайно и не минутно. И оттуда, где всё – кошмары, Убегаю я в чудо меры. Как в раю, успокоен и весел, Я пою – божественность чисел.Память
Недолгий след оставлю я В безвольной памяти людской. Но этот призрак бытия, Неясный, лживый и пустой, – На что мне он? Живу – в себе, А если нет… не всё ль равно, Что кто-то помнит о тебе, Иль всеми ты забыт давно? Пройдут одною чередой И долгий век, и краткий день… Нет жизни в памяти чужой. И память, как забвенье, – тень. А на земле, пока моя Еще живет и дышит плоть, Лишь об одном забочусь я: Чтоб не забыл меня Господь.1913–1925
СПБ – Cannet
Подожди
(«…революция выкормила его, как волчица Ромула…»)
Д. М. Пришла и смотрит тихо. В глазах – тупой огонь. Я твой щенок, волчиха! Но ты меня не тронь. Щетинишься ли, лая, Скулишь ли – что за толк! Я все ухватки знаю, Недаром тоже волк. Какую ни затеешь Играть со мной игру – Ты больше не сумеешь Загнать меня в нору. Ни шагу с косогора! Гляди издалека И жди… Узнаешь скоро Ты волчьего щенка! Обходные дороги, Нежданные пути К тебе, к твоей берлоге, Сумею я найти. Во мху, в душистой прели, Разнюхаю твой след… Среди родимых елей Двоим нам – места нет. Ты мне заплатишь шкурой… Дай отрастить клыки! По ветру шерсти бурой Я размечу клоки!Месяц
Вернулась – как голубой щит: Даже небо вокруг голубит. Скажи, откуда ты, где была? Нигде; я только, закрывшись, спала. А почему ты такая другая? Осень; осенью я голубая. Ночь холоднее – и я синей. Разве не помнишь лазурных огней? Алмазы мои над снегами? Острого холода пламя? Ты морозные ночи любил… Любил? Не помню, я всё забыл, Не надо о них, не надо! Постой, Скажи мне еще: где тот, золотой, Что недавно на небе лежал, – пологий, Веселый, юный, двурогий? Он? Это я, луна. Я и он, – я и она. Я не вечно бываю та же: Круглая, зеленая, синяя, Иль золотая, тонкая линия – Это всё он же, и всё я же. Мы – свет одного Огня. Не оттого ль ты и любишь меня?Ответ Дон-Жуана
Дон-Жуан, конечно, вас не судит, Он смеется, честью удивлен: Я – учитель? Шелковистый пудель. Вот, синьор, ваш истинный патрон. Это он умеет с «первой встречной» Ввысь взлетать, потом идти ко дну. Мне – иначе открывалась вечность: Дон-Жуан любил всегда одну. Кармелитка, донна Анна… Ждало Сердце в них найти одну – Ее. Только с Нею – здешних молний мало, Только с Нею – узко бытие… И когда, невинен и беспечен, Отошел я в новую страну, – На пороге Вечности я встречен Той, которую любил – одну…«Дана мне грозная отрада…»
Дана мне грозная отрада, Моя необщая стезя. Но говорить о ней не надо, Но рассказать о ней нельзя. И я ли в нем один! Не все ли? Мое молчанье – не мое: Слова земные отупели, И ржа покрыла лезвее. Во всех ладах и сочетаньях Они давно повторены, Как надоевшие мечтанья, Как утомительные сны. И дни текут. И чувства новы. Простора ищет жадный дух. Но где несказанное слово, Которое пронзает слух? О, родился я слишком поздно, А бедный дух мой слишком нов… И вот с моею тайной грозной Молчу – среди истлевших слов.«Улица. Фонарь. И я…»
Улица. Фонарь. И я. Под фонарем круг. В круге, со мною, друг. А друг – это сам я. Светит фонарь. Часы бегут. Простор. Уют. Я. Круг. И фонарь.«Ночую за полтиницей…»
Ночую за полтиницей. А то в котлах. Пальцы в заусеницах, Голова в паршах. Да девчонкам не доглядывать, Бери, не хочу. Любая рада порадовать, Как с удачей примчу. А удача моя – сноровочка: Проюркиваю под локтем, Продергиваюсь веревочкой, Проскальзываю ужом. Нате-ка, заденьте-ка! Гладко место – а утек. Такая у меня политика, Дипломатия рук и ног. Однако, и с дипломатией Случается провал: В лапы к чертовой матери Два раза попадал. Эх, одно бы меня упрочило: Руки бы подлинней, А ноги да покороче бы, Чтоб казаться – на четверне!«Милая, выйди со мной на балкон…»
Милая, выйди со мной на балкон. Вечер так строг, это вечер молчанья. Слышишь? Отвсюду, со всех сторон, Наплыванья благоуханья. Видишь? Вверху зажглись цветы, Внизу под пеплом город рдеет. Я молчу – молчи и ты. Ожиданье молчать умеет. Целую молча улыбку твою, В свете медном звездных гроздей. Я сегодня ночью себя убью: Милая, милая, насмотрись же на звезды!О тундре
Писать роман – какое бремя! Писать и думать: не поймут… Здесь, на чужбине, в наше время, Еще тяжеле этот труд. А кончил – «не противься злому»: Идешь на то, чтобы попасть Антону Крайнему любому – В его безжалостную пасть. Не жди от критиков ответа, Скорее жди его от нас: Ведь всем известно, что поэты Проникновенней во сто раз. И по заслугам оценив, мы Давно б воспели твой роман. Но только… нет на «Тундру» рифмы. И в этом весь ее изъян.1926
Paris
«Люблю огни неугасимые…»
Люблю огни неугасимые, Любви заветные огни. Для взора чуждого незримые, Для нас божественны они. Пускай печали неутешные, Пусть мы лишь знаем, – я и ты, – Что расцветут для нас нездешние Любви бессмертные цветы. И то, что здесь улыбкой встречено, Как будто было не дано, Глубоко там уже отмечено И в тайный круг заключено.Октябрь
Чуть затянуто голубое Облачными нитками. Луг, с пестрой козою, Блестит маргаритками. Ветки, по-летнему знойно, Сивая слива развесила, Как в июле – всё беспокойно, Ярко, ясно и весело. Но длинны паутинные волокна Меж высокими цветами синими. Но закрыты милые окна На даче с райским именем. И напрасно себя занять я Стараюсь этими строчками: Не мелькнет белое платье С лиловыми цветочками…1926
Le Carnet
Отраженность
Опять ты зреешь золотистой дыней На заревом небесном огороде, И с каждым новым вечером – пустынней Вокруг тебя, среди твоих угодий. И с каждым вечером на желтой коже Сильней и ярче выступают пятна: Узор, как будто на лицо похожий, Узор тупой, привычно-непонятный. Всё это мне давным-давно знакомо! Светлей, круглись и золотей бессонно. Я равнодушен к золоту чужому, Ко всем на свете светам – отраженным.Две
Она войдет, земная и прелестная, Но моего ее огонь не встретит. Ему одна моя любовь небесная, Моя прозрачная любовь ответит. Я обовью ее святой влюбленностью, Ее, душистую, как цвет черешни. Заворожу неуловимой сонностью, Отдам, земную, радости нездешней. А пламень тела, жадный и таинственный, Тебе, другой, тебе, незримой в страсти. И ты придешь ко мне в свой час единственный, Покроешь темными крылами счастья. О, первые твои прикосновения! Двойной ожог невидимого тела. И путь двойной – томления и дления До молнии, до здешнего предела.1915–1927
Стихотворный вечер в «Зеленой лампе»
Перестарки и старцы и юные Впали в те же грехи: Берберовы, Злобины, Бунины Стали читать стихи. Умных и средних и глупых, Ходасевичей и Оцупов Постигла та же беда. Какой мерою печаль измерить? О, дай мне, о, дай мне верить, Что это не навсегда! В «Зеленую Лампу» чинную Все они, как один, – Георгий Иванов с Ириною; Юрочка и Цетлин, И Гиппиус, ветхая днями, Кинулись со стихами, Бедою Зеленых Ламп. Какой мерою поэтов мерить? О, дай им, о, дай им верить Не только в хорей и ямб. И вот оно, вот, надвигается: Властно встает Оцуп. Мережковский с Ладинским сливается В единый неясный клуб, Словно отрок древнееврейский, Заплакал стихом библейским И плачет и плачет Кнут… Какой мерою испуг измерить? О, дай мне, о, дай мне верить, Что в зале не все заснут.31 марта 1927
Тройное
Тройною бездонностью мир богат. Тройная бездонность дана поэтам. Но разве поэты не говорят Только об этом? Только об этом? Тройная правда – и тройной порог. Поэты, этому верному верьте. Только об этом думает Бог О Человеке. Любви. И Смерти.Ей в Thorenc
В желтом закате ты – как свеча. Опять я стою пред тобой бессловно. Падают светлые складки плаща К ногам любимой так нежно и ровно. Детская радость твоя кротка. Ты и без слов, сама угадаешь, Что приношу я вместо цветка… И ты угадала, ты принимаешь.Белград
Он до сих пор тревожит мои сны… Он символ детства, тайного мечтанья, И сказочной, далекой старины, И – близкого еще воспоминанья. О, эта память о недавних днях! Какая в ней печальная отрада! Дым золотой за Савой, на холмах, И нежный облик милого Белграда. А виноградник, свежий дух земли, Такой живительный и полный ласки… На карточке – улыбка Эмили, – Пленительной царевны в русской сказке. Над белой скатертью веселый свет, И речь веселая, и неизменно – Во всех словах, во всех глазах – привет, Для бедных странников нежданно ценный. И много, много было – но всего В экспромте этом рассказать нет силы… Те дни прошли, погасли… Ничего! Они прошли, но сердце не забыло.1928
На Croisette
Зверенок на веревочке, с круглыми ушами, С предлинным и претонким тельцем шерстяным, Откуда и зачем ты явился между нами, И как ты на веревочку попал – к чужим? Не то чтоб обезьяна он; нисколько не кошка: Ухватки не кошачьи, и лапочки не те. Свистит протяжно-робко, сидит, поджавши ножки. На собственном, смешном, на узеньком хвосте. За что тебя обидели чужие напрасно? Заставили покинуть родину твою? Ты всё это расскажешь мне, свистом ясным, Когда мы повстречаемся с тобой – в Раю.Смотрю
Я сужен на единой Мысли, Одно я вижу острие… Ну что ж! Смотри, гадай и мысли, Не отступай, – смотри в нее. Я на единой Мысли сужен. Смотрю в блистательную тьму… И мне давно никто не нужен, Как я не нужен никому.В старом замке
Птичий всклик зеленой ночью отрывисто-строгий, лунный сверк зеленой ночью креста при дороге… Древнее молчанье башен тяжелых. Тень и молчанье в бойницах полых. И только сердце не ищет покоя. Слышу, как бьется сердце, еще живое…Хорошая погода
Травы, травы, тростники На сухой вершине… Почему бы тростники? Ни ручья здесь, ни реки, Вся вода в долине. Небо каждый Божий день Ровноголубое. Почему бы каждый день? И куда девалась тень? Что это такое? Для того, чтоб обмануть, Свод небес так ясен. Соблазнить и обмануть, Убедить кого-нибудь, Что наш мир прекрасен. Не поддамся этой лжи, Знаю, не забуду: Мир кругом лежит во лжи… Ворожи, не ворожи – Не поверю чуду.Жить
Как будто есть – как будто нет… Умру наверно, а воскресну ли? То будто тень – то будто свет… Чего искать и ждать – известно ли? Вот и живем, и будем жить, Сомненьем жалким вечно жалимы. А может быть, а может быть, Так жить и надо, что не знали мы?В новой
Отблеск зеленый в дверном стекле, поют внизу автомобили. Не думаю о моей земле: что тут думать? Ее убили. Вы, конечно, за это меня – за недуманье – упрекнете? Я лишь жду, чтоб прошло три дня: она воскреснет – в новой плоти.Стены
Амалии на Rue Chemovitz
Ни на кого не променяю Тебя, – ни прелести твоей. Я ничего не забываю, Живу сияньем прежних дней. И если в сердце нет измены, Оно открыто чудесам. Печальна ты… А в окнах – стены Растут всё выше к небесам. Но пусть растут они огромней, Пусть холоднее милый взор, Я только близость нашу помню, И солнце в окна, и простор!18 декабря 1932
Париж
Здесь («Чаша земная полна…»)
Чаша земная полна Отравленного вина. Я знаю, знаю давно – Пить ее нужно до дна… Пьем, – но где же оно? Есть ли у чаши дно?Счастье
Есть счастье у нас, поверьте, И всем дано его знать. В том счастье, что мы о смерти Умеем вдруг забывать. Не разумом ложно-смелым. (Пусть знает, – твердит свое), Но чувственно, кровью, телом Не помним мы про нее. О, счастье так хрупко, тонко: Вот слово, будто меж строк; Глаза больного ребенка; Увядший в воде цветок, – И кто-то шепчет: довольно! И вновь отравлена кровь, И ропщет в сердце безвольном Обманутая любовь. Нет, лучше б из нас на свете И не было никого. Только бы звери, да дети, Не знающие ничего.У маленькой Терезы
Ряды, ряды невестных, Как девушки, свечей, Украшенных чудесно Венцами из огней. И свет, и тишь, и тени, И чей-то вздох – к Тебе… Склоненные колени В надежде и мольбе. Огонь дрожит и дышит И розами цветет. Она ли не услышит? Она ли не поймет? О, это упованье! О, эта тишина! И теплое сиянье, И нежность, – и Она.1933
Ты («Ты не приходишь, но всегда…»)
Ты не приходишь, но всегда, – Чуть вспомню, – ты со мною. Ты мне – как свежая вода Среди земного зноя…На фабрике
Среди цепей, среди огней, В железном грохоте и стуке, Влачу я цепь недобрых дней. Болят глаза, в мозолях руки, Но горестный привет я шлю Тебе, мое изнеможенье: Я недостойную люблю, Я жду, хочу, ищу забвенья. Свистите, скользкие ремни! Вы для меня, как шелест крыльный. О пусть длиннее длятся дни, И гром, и лязг, и ветер пыльный! Страшусь ночей я тихих… Вновь Она стоит передо мною, Моя позорная любовь, Она, чье имя не открою. Ее одну, ее одну Я в сонном стоне призываю… Как изменившую жену, Люблю ее – и проклинаю.Другой
Т. С. В-р
Неожиданность – душа другого, Удивляющая вновь и вновь. Неожиданность – всякое слово, Всякая ненависть и любовь. Неожиданностей ожидая, Будь же готовым им стать слугой. Неожиданность еще двойная, Если женщина – твой «другой»,Условия
Был тихий вечер и весна. Нам звезды светили любовно. Вы мне сказали: я верна, Но – верностью не безусловной! Услышав это в первый раз (Я знал лишь верность без условий), С улыбкой я взглянул на вас И отошел – не прекословя.Отъезд
До самой смерти… Кто бы мог думать? (Санки у подъезда. Вечер. Снег.) Никто не знал. Но как было думать, Что это – совсем? Навсегда? Навек? Молчи! Не надо твоей надежды! (Улица. Вечер. Ветер. Дома.) Но как было знать, что нет надежды? (Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)Две сестрицы
Тихонько упрекала Любовь свою Сестру: Оставить убеждала Жестокую игру. Шептала ей: «Послушай, Упрямицей не будь! Оставь людские души, Не трогай их, забудь. И я несу терзанья, И я пытаю их. Но сладки им страданья И раны стрел моих. Ты ж – словно тихим жалом Пронзаешь дух и плоть, Отравленным кинжалом Не устаешь колоть… А потому не странно (И вечно будет так), Что я для них желанна, А ты для них – как враг». – «Сестрица, я не злая, Ведь я тебе Сестра! Всё знаю и сама я, И это не игра. Прости, что прекословлю, Пойми, пойми меня! Я в душах путь готовлю Для твоего огня. Поверь: моей отравы Не знавший человек – Тебя, с твоею славой, Не примет он вовек! И видишь: от кинжала Сама я вся в крови…» Так отвечала Жалость Сестре своей – Любви.Арфа
Откуда плывут эти странные звуки? В них горечь свиданья, в них тайна разлуки, На здешнюю муку нездешний ответ. Из дальних покоев волна их струится. На арфе любимой играет царица, Жена Александра – Елизавет. На струнах лежат ее нежные руки, И падают, падают легкие звуки. Их ангел как будто на крыльях принес. Но падают тихими каплями слез.Тереза
Ты оглянулась… Было странно, Взор твой встретив, – не полюбить. Но не могу я тебя от Жанны В сердце моем отъединить. Жанна и Ты… Обеим родная, Та, которой душа верна, Нежная, грешная и святая, Вечно-трепетная страна Ты и она – вы досель на страже. Вместе с ней Одного любя, Не испугаетесь силы вражьей; Меч у нее – меч у тебя.Слова и молчанья
Есть на земле Слова: они как тени, Как тень от тени, – в них не верю я. И есть Молчанья – сны без сновидений, Как бы предчувствие небытия. Зато другие мне равно угодны; И открывается душа моя, Когда Слова крылаты и чисты… Когда Молчанья трепетно-свободны, И грустно мне, что слов не любишь ты.Remember![132]
«…Тот край, где о „прости“ уж и помину нет…»
«Прости» – Жуковский.«…В разлуке вольной таится ложь…»
Когда разлуку здесь, в изгнаньи, Мы нашей волей создаем, Мы ею гасим обещанье И новых встреч, свидания в краю ином. Любовь всегда, везде одна. И кто не Высшим указаньем Здесь, в этом мире расстается – Того покинула она. Покинула и не вернется. Не даст исполниться святым обетованьям. Разлукой вольной – вечный круг Смыкается и там, за гранью: Прощанье в нем без упованья… Разлука вольная – страшнее всех разлук.Придверник
Дойти бы только до порога! Века, века… И нет уж сил. Вдруг кто-то властно, но не строго Мой горький путь остановил. И вижу: дальше нет дороги. Сверкают белые огни. Старик, у двери, на пороге Рукой мне машет: «отдохни!» Ужели новое томленье? Опять века, века, века Здесь, на пороге? С нетерпеньем Я поглядел на старика И тотчас начал сказ мой длинный: Волнуясь, путаясь, спеша, Твердил и каялся: повинна Во всем, во всем моя душа! И нет такого дела злого, Какого б я не совершил… – Старик, с усмешкою суровой, Поток речей моих прервал: «Не торопись! Кто ни прибудет, Во всем винит себя тотчас: Там разберут, мол, и рассудят И все грехи простят зараз. Грехов у каждого не мало. Ты огулом казниться рад… А разберись-ка сам сначала, Найди, в чем был – не виноват. Подумай, сядь вот здесь, на камне, Спроси у сердца своего…» Опять века… Да что века мне! Не мог придумать ничего. Мелькают тени прегрешений – Гордыня, страх, упорство в зле, Измена… О, старик! В измене Я был невинен на земле! Пусть это мне и не в заслугу, Но я Любви не предавал. И Ей – ни женщине, ни другу – Я никогда не изменял! Быть может, надо на пороге В томленьи ждать еще века – Лишь об измене нет тревоги, Лишь от нее душа легка; К суду готовлюсь – за другое, И будь что будет впереди! Но он, дрожащею рукою, Дверь отомкнул передо мною: «Суда не будет. Проходи».Прежде. Теперь
Не отдавайся никакой надежде И сожаленьям о былом не верь. Не говори, что лучше было прежде… Ведь, как в яйце змеином, в этом Прежде Таилось наше страшное Теперь. И скорлупа еще не вся отпала, Лишь треснула немного: погляди, Змея головку только показала, Но и змеенышей в яйце не мало… Без возмущенья, холодно следи: Ползут они скользящей чередою, Ползут, ползут за первою змеею, Свивая туго за кольцом кольцо… Ах, да и то, что мы зовем Землею, – Не вся ль Земля – змеиное яйцо?Февраль 1940
Париж
Стужа
Как эта стужа меня измаяла, Этот сердечный мороз. Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло, Да нет слез…1941
«Тереза, Тереза, Тереза, Тереза…»
Тереза, Тереза, Тереза, Тереза. Прошло мне сквозь душу твое железо. Твое ли, твое ли? Ведь ты тиха. Ужели оно – твоего Жениха? Не верю, не верю, и в это не верю! Он знал и Любовь, и земную потерю. Страдал на Голгофе, но Он же, сейчас, Страдает вместе и с каждым из нас. Тереза, Тереза, ведь ты это знала. Зачем же ты вольно страданий желала? Ужель, чтоб Голгофе Его подражать, Могла ты страданья Его умножать? Тереза, Тереза, Тереза, Тереза. Так чье же прошло мне сквозь сердце железо? Не знаю, не знаю, и знать не хочу. Я только страдаю, и только молчу.1941–1942
«Одиночество с Вами… Оно такое…»
В. Злобину
Одиночество с Вами… Оно такое, Что лучше и легче быть ОДНОМУ. Оно обнимает густою тоскою, И хочется быть совсем ОДНОМУ. Тоска эта – нет! – не густая – пустая. В молчаньи проще быть ОДНОМУ. Птицы-часы, как безвидная стая, Не пролетают – один к ОДНОМУ. Но ваше молчание – не беззвучно, Шумы, иль тень их, всё к ОДНОМУ. С ними, пожалуй, не тошно, не скучно, Только желанье – быть ОДНОМУ. В этом молчаньи ничто не родится, Легче родить самому – ОДНОМУ. В нем только что-то праздно струится… А ночью так страшно быть ОДНОМУ. Может быть, это для вас и обидно. Вам, ведь, привычно быть ОДНОМУ – И вы не поймете… И разве не видно, Легче и вам, без меня – ОДНОМУ.1941–1942
Дар («Есть Божий дар…»)
Т. Сол. Гурвичу
Есть Божий дар. С ним жизнь милей и краше. Ясней нам правда – и обман. Не всем, не каждому в юдоли нашей, А только избранным он дан. Но светит всем. И, благостно сияя, Овит такою тишиной, Что даже ангелы, на мир взирая, Завидуют ему порой. Лучей его боится не напрасно Земная, злая темнота. И этот дар, прекрасный из прекрасных, – Святая Доброта.Ноябрь 1942
Париж
«Я больше не могу тебя оставить…»
Д. С. Мережковскому
Я больше не могу тебя оставить. Тебе я послан волей не моей: Твоей души, чтоб душу жечь и плавить, Чтобы отдать мое дыханье – ей. И связанный и радостный, свободно Пойду с тобой наверх по ступеням, Так я хочу – и так Ему угодно: Здесь неразлучные – мы неразлучны там.1918
«Я должен и могу тебя оставить…»
В. А. Злобину
Я должен и могу тебя оставить. Тебе был послан я – но воля не моя. Я не могу ничем тебя исправить. И друг от друга мы свободны: ты и я. Будь с тем – с кем хочешь быть поближе, Спускайся к ним по шатким ступеням. А я пойду туда, в St. Genevieve, и ниже, И встречусь с тем одним, с кем быть хочу и там1943
«Когда-то было, меня любила…»
Когда-то было, меня любила Его Психея, его Любовь. Но он не ведал, что Дух поведал Ему про это – не плоть и кровь. Своим обманом он счел Психею, Своею правдой – лишь плоть и кровь. Пошел за ними, а не за нею, Надеясь с ними найти Любовь. Но потерял он свою Психею, И то, что было, – не будет вновь. Ушла Психея, и вместе с нею Я потеряла его любовь.1943
Париж
Не одним хлебом…
Вл. Злобину
Закон я помню, помню слово, Что всем нам надо жить любя, Любить – не как-нибудь другого, А совершенно как себя. О чем забочусь я безмерно, И что люблю в себе самом – О том мой долг – нелицемерно Всегда заботиться – в другом. Теперь скажу немного грубо, Но в деликатности ли суть? Мне в слове точность, резкость люба, – Поймут меня когда-нибудь! Так вот, скажу: пекусь о брюхе – Да и не только о своем! А от докучливой старухи, Что мне и вечером и днем Бурчит, что надобно о духе Вперед заботиться, – в ответ Я отмахнулся, как от мухи… Не говоря ни да, ни нет. На харю старческую хмуро Смотрю и каменем молчу. О чем угодно думай, дура, А я о духе не хочу.1944
«Я был бы рад, чтоб это было…»
В. Злобину
Я был бы рад, чтоб это было, Чтоб так оно могло и быть, Но чтоб душа у вас забыла Лишь то, что надо ей забыть. Не отдавались бы злословью, Могли бы вы его понять, И перестали бы любовью Томленье, сон и скуку звать. Я ж – ничего не забываю, Томленьем вашим не живу, И даже если сплю – то знаю: Я тот же весь, как наяву.1944
«По лестнице… ступени всё воздушней…»
По лестнице… ступени всё воздушней Бегут наверх иль вниз – не всё ль равно! И с каждым шагом сердце равнодушней: И всё, что было, – было так давно…Последний круг (И новый Дант в аду)*
<1>
Вскипают волны тошноты нездешней И в черный рассыпаются туман. И вновь во тьму, которой нет кромешней, Скользят к себе, в подземный океан. Припадком боли, горестно-сердечной, Зовем мы это здесь. Но боль – не то. Для тошноты подземной и навечной Все здешние слова – ничто. Пред болью – всяческой – на избавленье Надежд раскинута живая сеть: На дружбу новую, на Время, на забвенье… Иль, наконец, надежда – умереть. Будь счастлив, Дант, что по заботе друга В жилище мертвых ты не всё познал, Что спутник твой отвел тебя от круга Последнего – его ты не видал. И если б ты не умер от испуга – Нам всё равно о нем бы не сказал. А тот, кто ведал на земле живой Чернильно-черных вод тяжелое кипенье И был, хотя бы час, в их тошном окруженьи Кто ощущал в себе размерный их прибой, Тот понял всё: он обречен заране Познать, что там – в подземном океане, – Там нет ни Времени, ни звуков, только мгла, Что кучею по черному легла. Там только грузное ворчанье вод И вечности тупой круговорот.I
Вот Новый Дант в последний Круг пробрался Один, без спутника, – он очень смел, – Он наверху чего не навидался! Едва кой-что в тумане рассмотрел – Он к одному из тамошних подсел И начал с ним (на это был он скор) По-дружески тотчас же разговор. Тот поднял на него потухший взор, Сказав с трудом: «Вот странность, и какая! Не сверху ль вы? Оттуда к нам давно Не приходили. Впрочем, всё равно, Пускай и не приходят никогда». Дант отвечал ему: «Я это знаю, Но, кажется, не в этом вся беда. Скажите мне, ведь я пришел как друг, Что делается, что у нас вокруг? Я не бывал в подобной темноте, Едва вошел – и сразу в слепоте. Всё так черно, черней китайской туши… И вы здесь не один. Всё это души?» Качаясь на волне, тот помолчал, Потом, не без усилия, сказал: «Не так вопросы ставятся у нас. Да, впрочем, понимаю: в первый раз Вы здесь, во тьме, на нашем берегу. Отвечу, как умею и могу. Но видите: мне страшно стало вдруг… Сказали вы земное слово „друг“… А если я и вам теперь солгу, Как на земле друзьям я лгал? Боюсь, Опять к себе земному возвращусь…» – «Не бойтесь, – живо возразил пришлец. Я правду чувствую, и, наконец, Зачем вы будете бесцельно лгать? Вопросов я не буду предлагать, Они, я вижу, были неудачны. Но ваши своды так черны и мрачны, И сразу я не мог сообразить, Что лучше вы расскажете мне сами, Что знаете, и что такое с вами». «Лишь о себе могу я говорить, Одну свою историю я знаю. А о других моих соседях, тех, Кого порою мельком я встречаю, Хоть и не знаю, но подозреваю, Что разные истории у всех. О нашем месте вы меня спросили. Иль вам о нем вверху не говорили? Земное имя вспомнить был я рад. Но имя здешнее его – Безмерность. И в здешнем большая, пожалуй, верность, Чем в простеньком словечке – ад. Вы захотели знать еще: зачем Сижу я здесь во тьме. Не то! Не то! Спросите лучше иначе: за что. Тогда я дам вам правильный ответ. А на „зачем“ у нас ответа нет. А что я делаю? Я жду. Чего? Жду Времени. Вы спросите: какого? Да просто Времени. И вот, его Всё нет еще. Должно быть, не готово. Иль, вероятно, не готов и я. Вот, наконец, история моя. Я всё скажу. Не поскучайте только. В Безмерности нет времени. И сколько Из вашего у нас займет она – Не мне судить. Лишь знаю, что длинна. Ведь я и там, еще на вашем свете, Испытывал и волн приливы эти, И тьму. Я знал, они – предупрежденье, Но, не желая думать, – забывал, Сам для себя готовя, за обман, Качанье волн, и черный океан, И всё, что видите, и даже ту Неизъяснимую вам тошноту, Которую я тоже знал когда-то… За что теперь я здесь – понять умейте, Но всё поняв – жалеть меня не смейте! Ведь это – справедливая расплата За жизнь мою и за ее растраты… Вот первое „за что“. Уж из него И тянется другое ниткой длинной. Всё – следствия единственной причины. И если общей не понять картины, То можно не понять и ничего. Я здесь – а в этом главное и дело – За искажение Любви и тела. Его не я создал. Но мне оно На время было некое дано. Зачем? И знать я это не желал. Оно мое! И я воображал, Что ежели сочту его своим, То как хочу – распоряжаюсь им. А вышло вот что: очень скоро тело Меня себе поработить сумело. Оно влекло меня, куда хотело, Его желанье сделалось моим, И шел я, покоренный, вслед за ним. Но было в сердце хитрой тайной сжато – Как раз вот это, – для меня, – когда-то. И только здесь, где страшно и темно, Уж распрямляется слегка оно. Меня к одним таким же, как и я, Влекла покорность собственному телу. И говорил я, что душа моя Довольна, рада своему уделу. А так как те, кто влек меня, обычно Бывали чем-нибудь меня да ниже, По уровню тому или другому, То с равными мне стало непривычно, И как-то скучно. Те ж, напротив, ближе Всё делались. Ведь если вам знакомы Дела подобные, где в общем счете Всё сводится к одной лишь только плоти, И чувства вы мои тогда поймете: Я находил приятнее того, С кем говорить не надо ничего. Я не судил, однако, и других, Иль с мягкостью. Причину ж несуждений Я видел в добродетелях моих – И лгал. Я даже не жалел о них, Здесь убедился я, что, без сомненья, Я просто-напросто не видел их, В том равнодушьи вечно пребывая И невниманьи к ним, почти до края, Что пустоту вкруг смертного рождая, Его толкают, не спеша, в провал. Слова святые есть. Я это знал, И всё же их беспечно оскорблял. За похотью бежал я собачонкой, Ее Любовью тотчас называя, И повторял себе, не уставая, Что ведь в Любви – всё только чистота. Так значит, рассуждал я очень тонко, И каждая „любовь“ моя чиста, Как нежное дыхание ребенка. Иль слово „друг“. Святое, но его Я также постоянно унижал, Не думая. И кто ж достоин стал На языке моем такого слова? Им звал сообщника очередного, Готового совсем не к тем услугам, Каких обычно ждем мы от того, Кто нам действительно бывает другом. Вот страшное признание одно. Но будет ли понятно вам оно? Кто никогда не знал подобной жути, Тот не уловит в деле этом сути. Скажу я попросту о том, что было. Всё это приходило-уходило, И вновь являлось: изредка во сне, А то и наяву: душа двоилась, И даже весь я, – так казалось мне. Вот, я встречал кого-то вдруг… И мнилось, Что это я же сам. Уйти пытался, Но тот не позволял, хитро смеялся: «Попробуй не узнать! Присядь поближе, Вглядись в меня. Ну разве я – не ты же? И разве так не нравлюсь я тебе? Не лги бесцельно. Думай о себе – Как обо мне. Ведь я одет прекрасно, Собою недурен. Ведь мы вдвоем – Ты это будешь отрицать напрасно! – Украсили однажды общий дом? Он был устроен по твоей же вере, – И по моей. Довольно лицемерий! Надоедает мне твоя игра, Признай себя во мне, – давно пора! Наш общий друг не будет ли доволен? Меня в себе ты отрицать не волен. Не вместе ль мы, не оба ли одно? Один бокал у нас, – одно вино… А ты мне: „милостивый государь“… И в мыслях: „низкая и злая тварь“… А ты себя – уж не творцом ли мнишь? Хорош творец! Ведь вижу я, дрожишь, Боишься даже моего и взора И каждого прямого разговора. Мы оба тварь. А ежели я низок, Не потому ли я тебе и близок? А зло… Но до банальности такой Не доходили мы еще с тобой. Нет, милый друг, давай пойдем сейчас К тому, конечно, кто обоих нас В игре приятной смешивал не раз… Ты убедишься. Сам ты говорил…»» Но Дант с гримасою его остановил: «Однако, милый, не спадайте с тона, На вашем месте я бы без урона Подробности такие опустил». Тот головою покачал уныло: «Вот, быть непонятым – судьба моя! Ведь это он же говорил – не я! А мне, вы думаете, очень мило Вот так встречаться с этим двойником? И до сих пор я не забыл о нем, Я даже здесь порой дрожу, – боюсь, Что к старому кошмару возвращусь». «Но не видали здесь его ни разу? – Дант подхватил. – Не бойтесь, он сюда Наверно не придет. А вас я сразу Не мог понять, не видев никогда Себя вдвойне. Простите замечанье. Оно не стоит вашего вниманья. Мне просто сделалось слегка противно… Детали ваши чересчур интимны. Но слушаю я дальше». Тот безгневно Всё принял, спорить с Дантом не желая И прежним голосом, как бы плачевным, Трагическую повесть продолжая, Сказал: «Вы правы, лучше бы о нем, Об этом подлом двойнике моем, Совсем не вздумал я упоминать. Но я хотел вам всё, до дна, сказать. Здесь нет его, какое облегченье! Хоть в этом от себя освобожденье. Лишь здесь, когда в Безмерности сижу, В себе я разбираться начинаю. А там, на свете, не желал и знать я Того, что ныне, хоть не всё, а знаю. Об этом, знаемом, я и скажу: Я здесь – за громкие себе проклятья, Для виду – и для рифмы иногда. За тихое себя же оправданье, К которому стремился я всегда. Для этого я, не жалея сил, Искал, хватал, вытаскивал и крал Слова и мысли – у кого угодно, Лишь только были бы они мне годны. И ежели такие находил, – Я искажал их, но приспособлял Опять к тому же самооправданыо. Ведь было же какое-то сознанье!.. Но я его старательно гасил. Я жертвенность единственную знал: Всем жертвовал я собственному телу. Свои дары я в тлен его бросал, Но в то же время маску надевал, Что, будто, делаю такое дело Из скромности: какие, мол, дары! И так я жил до самой той поры, Когда так жить в привычку обратилось, И ею всё во мне – окаменилось. Но камень – верностью решился звать я, Слыть в людях верным – не красиво ль платье? Другое – быть… А знает ли тот верность, И даром ли дана ему Безмерность, Кто верящих ему давно и слепо Обманывал и грубо, и нелепо, Всё для того, чтоб плоти угодить, Ее веления не преступить? А верящих обманывать легко… Откроется обман? Когда-нибудь! Зачем загадывать так далеко? Сию минуту надо обмануть. Так вот: привычки в камень обратились. Тогда и знаки сверху прекратились. Должно быть, для меня уж был готов И океан, и этот черный кров. За что ж еще я ныне здесь качаюсь? Сказал я много. И теперь признаюсь: Мне эта исповедь была нужна. Ее как будто слышит и волна И ждет еще какого-то признанья. За что? Вы видите, всегда за то ж: За неизбытную всей жизни ложь. И за угрюмые мои молчанья… Ведь слову моему велел: служи Покровом ловким, коль сумеешь, – лжи. Ведь я в самой молитве даже лгал: Устами равнодушно повторял Слова святые (если был другой Вблизи; один, наедине с собой – Зачем, кому молиться? Я не знал). Неправда, знал! О, если бы сумел Я погасить сознанье, как хотел! Насколько был бы я тогда невинней, И, может быть, теперь передо мной Не черный был бы океан, а синий, И сам я сделался б уже иной… Но всё равно. Кончаю эту повесть. Я говорил – подсказывала совесть. Вы поняли, как жил я на земле, Вы поняли, что я сижу во мгле За весь обман, которым я себя Оправдывал. И за высокий дар, Мне посланный, среди других, любя. И вот – я сделал из него кошмар. Скажу теперь впервые – только вам: Когда я понял, – о, не здесь, а там! – Кто этот дар высокий мне послал, Кто просто от любви его мне дал, И понял, как Пославшего обидел Тем, что Любовь великую отверг… Ведь я Его – Его! – возненавидел! Тогда-то здесь, должно быть, и померк Последний свет – как бы в ответ на это. Вы слушали. Но вашего ответа Я не хочу. Предвижу я его. Не говорите лучше ничего. Вы улыбнетесь – я не рассержусь. Но есть слова, которых я боюсь. Вы скажете, конечно, что во мгле Не видно мне, что нынче на земле. И что мои, как будто, преступленья – Ничтожество и пустяки в сравненьи Со всем, что делается ныне – там. Вы сразу ошибетесь: здесь, в молчаньи, Ловлю я сводов тяжкое дрожанье, И что творится на земле – увы! – Догадываюсь, знаю, как и вы. Прибавите: не слишком ли сурово Наказан я? Делами же своими… Не слишком ли и здесь я занят ими? А если вы произнесете Имя…» Но Данте тут его остановил. В глазах подземника заметив муку, Он властным жестом только поднял руку И не спеша проговорил (недаром Алигиери имя он носил, И говорили даже, что со старым В прямой и родственной связи он был): «Вы предрешали мой ответ – зачем? Он был готов, и не такой совсем. Пусть больше не тревожат вас сомненья. Ошибки ваши вовсе не ошибки, Но – говорю вам это без улыбки – Они действительные преступленья. Ничуть не меньшие они, чем эти, Что люди ныне делают на свете. А то и большие, пожалуй… Вам Был послан дар сознания, а там – Они сейчас как брошенные дети, Иль сами бросившие талисман В какой-то неизвестный океан. Вы скажете: „Преступные дела Один я делал. Смерть их унесла“. Подумайте: не глядя на других, Не видя глубины чужих сердец, Что можно знать? А если у иных Уж стало в сердце шевелиться то же, И было это принято – от вас В какой-то роковой и тайный час? О, столько их теперь, на вас похожих! И вы повинны в том. Да, наконец, Все преступления – одно и то же… Но недвижимая черта легла, Непреступимая для всех веков, Делящая, одна, добро от зла, Святое от преступного… Увы, Ее, черту, стереть хотели вы… Ужель еще не поняли без слов, Что ваша жизнь была одной изменой, Одной изменою Тому…» Но вдруг Волна вздыбилась дымно-черной пеной И вместе их обоих залила. Но, отходя, с собою унесла Лишь одного. Где Данта новый друг? Чуть виден на гребне, вдали качаясь. И голос слышался, всё отдаляясь, Рыданьями как будто прерываясь: «Изменой, да… А Он меня любил… И как любил! А я Его обидел! Пусть лучше бы меня… Он ненавидел… А Он любил…» «И любит до сих пор!» – Дант крикнул уплывающему вслед. Но был ли им услышан, или нет? Его ничей не различит уж взор. Так с первым кончил Данте разговор.II
Но тут другой жилец подплыл, качаясь, Спросил несмело, видимо стесняясь: «Вы сверху, да? Вели вы разговор… Я голоса людского с давних пор Не слышу. Да и сам молчу равно И, кажется мне, очень уж давно. Ах, если б было здесь, у нас, хоть Время! Молчанье же – всегда такое бремя!» «Как для кого, – ответил Дант с улыбкой. Уж не попали ль вы сюда ошибкой?» – «О нет, я знаю, это всё расплаты За все мои душевные растраты, Как у того, кто с вами говорил. Но у меня как будто больше сил. Моя история совсем другая, И схожая – однако не такая, Которую невольно я подслушал. Что делать, у меня такие уши». – «Ну что же, расскажите и свою», – Сказал лениво Дант. Он был расстроен. Второй жилец казался беспокоен. Но как же быть?.. «И я не утаю. Совсем как тот, что каялся пред вами, От вас моих ошибок и грехов. Но разница большая между нами; Ее увидите вы тотчас сами Из всех моих последующих слов. Есть общее у нас, конечно, тоже. Ведь если б были мы совсем несхожи – В другом бы океане я сидел, А то в огне каком-нибудь горел. Любил жару, но рад и океану. Задерживать, однако, вас не стану, И сразу вам всю правду расскажу, За что и почему я здесь сижу. И я – жду Времени. Но жизнь моя – Вся, будто, цепь. И Время в ней звено. Вот, жду его. И как хотел бы я, Чтобы пришло, чтобы меня простило, Чтоб не было того, что было! Я здесь – за вечные ему проклятья, В котором жить мне было суждено, И ничего не пожелал и брать я От времени, которое дано. Я осуждал его с огнем и пылом, Его – и всё, что только было в нем, Мечтая о другом каком-то, милом… Оно хотя и будет – но потом. Я ж дерзко требовал его сейчас И ждать не соглашался. А подчас Я проклинал всё Время, целиком. Ведь знал же я, однако, что оно Не мною, а Другим сотворено, И что его создавший не случайно Нам, людям, Время дал, и по любви. Я знание о том носил в крови. Но, не смущаясь этой нежной тайной, Я жил с негодованьем на устах. И даже не тревожил сердца страх. Равно я все народы ненавидел, В их поведеньи разницы не видел, Один лишь только признавал я – свой. И как иначе? Это был ведь мой. Всему, что в нем, искал я оправданья: Войне, жестокости и окаянству, В которое, от духа рабства, впал он. Я говорил: ведь это от незнанья, А всё же прав он, и в большом и малом, Пускай мы с ним разделены пространством, Я знаю, что он прав, как прав и я. И я тому единственный судья. Зато людей, что были тут же, близко, Их всех оценивал я очень низко, Положим, что не сразу. А вначале Я с меркой святости к ним подходил. Они, конечно, ей не отвечали. И вот тогда уж я их и громил. Я не считался, что они мне братья И что пока еще я сам не свят, Я сыпал едкие мои проклятья, Их уверял, что я тому не рад, Но зло в них чувствуется слишком ясно, Бороться надо с ним и быть прекрасным. Я проницателен. Мне удалось Всё понимать и видеть всех насквозь. Я говорил, что надо в самом корне Зло пресекать. Что буду тем упорней Я с ними спорить, что один я – вещий, Они ж не понимают эти вещи. Пожалуй, действовал я слишком смело, Да не всегда, быть может, и умело… Но возражений сердце не терпело. Сказал один какой-то: „Он жесток“. – „Так что ж такое? Это не порок, – Ответил быстро я. – Жесток наш век, Жестоким должен быть и человек“. Однако собеседник не унялся (Впервые, кажется, такой попался!) И говорит: «Ну, это дело ваше, Не всем нам пить из той же общей чаши. Вам – ваше слово обличенья любо, Мне ж кажутся слова такие грубы. Другие я люблю в их тишине: „Кто будет кроток сердцем и смирен…“»» Я закричал тогда: «Смиренье – плен! Я творчески хочу любить и жить! А можно ли в смирении – творить?» Тут собеседник мой пожал плечами И отошел. С улыбкою невольной Ушел и я, победою довольный. На этом кончился и спор меж нами. Но слушайте: признаюсь в первый раз И говорю лишь только вам, для вас, – Жесток я не был. Был, скорее, груб. Особо с тем, кто – видел я – не глуп, Кто даже не вступал со мною в спор, Глядел лишь молча на меня в упор, Чуть улыбался и – не соглашался. О, с эдаким я вовсе распускался, И резкостям, и грубостям моим Уж никакого не было предела. Но сколько я потом ни бился с ним, И резкости не улучшали дела. О том «смиренном» спорщике моем Я скоро позабыл. И лишь потом Раздумался я как-то о смиреньи. О творчестве своем и назначеньи. Мне всё хотелось допытаться – кто я? Пророк ли я, иль попросту поэт? А может, вместе, – то я и другое? На это надо ж дать себе ответ. Иль даром мне дано повсюду видеть Одно ужасное, одно худое, И обличать везде начатки зла? Недаром и дано их ненавидеть. Средь них моя дорога пролегла, В борьбе я должен вырывать их корни И чем бороться буду злей, упорней… Но тут другая мысль вступала: как? Оружием любви! – я утверждал нередко. Однако, сам боролся и не так: Ведь не всегда оружье это метко. Я о любви говаривал так много! Не любящих судил особо – строго. Любил ли сам? Как дать себе ответ? Казалось – да. А может быть, и нет. Но очень много о любви мечтал. Мечтал, что близок час, – его я ждал, – Когда заветный этот час придет, А он не может не прийти! – и вот Я встречусь с той, которую любить Мне суждено любовью совершенной, Единственной, святой и неизменной. Пока же лучше без любви прожить, Не жалуясь, что и от той далек, Что издавна в подруги мне дана, Пусть любит с верностью меня она, Но что же делать? С ней я одинок. Ей не нужны мои живые речи, Не слушает она моих поэм… Нет, буду ждать иной и новой встречи, Когда уж полюблю – совсем. Понравилась однажды мне другая. Я тоже ей понравился тогда. Мое влеченье – чисто, как всегда (Уж если добродетелью какой Мне похваляться – это чистотой), Но всё ж, влеченье от себя скрывая, Решил я думать, что ее – спасаю, Что только ради этого спасенья И в ней начатков добрых утвержденья, Ее любовь к себе и принимаю. Но сам я полюбить ее не мог. Хоть думалось порою: не она ль? И вижу – нет. И вновь смотрю я вдаль… Так я и оставался одинок. Но правду ежели сказать – я им, Вот этим одиночеством моим, Совсем не очень даже тяготился: Скорее, в глубине души, гордился. Святые жили же одни в пустыне И не считали, при своем смиреньи, Что это – одиночество гордыни Иль, вообще, что это некий грех, Но каждый, вероятно, в ощущеньи Считал себя, – как я же – лучше всех. Совсем не понимал я слова «друг». Кто мог мне другом быть из тех, вокруг? Я обличал их, я боролся с каждым, И к дружбе с ними не имел и жажды. Был, впрочем, случай… Только я не знаю, Сумею ль это рассказать я вам? Дружил я раз… И друг мой, не скрываю, Вначале был мне – вроде как я сам. И хоть природно не были мы схожи, О Главном думали одно и то же. Но я считал себя всегда в движеньи. Каком, куда же? Думалось – вперед, К чему-то новому! Но кто меня поймет? Не понимал я сам. Притом забвенье Того, что в прошлом, у меня тогда В душе так искренно и полно было, Как будто не случалось никогда. Еще я помнил, что меня касалось, Но что моих касалось отношений С ним, с этим другом, – сразу забывалось. Должно быть, это враг мой, – Время, – мстило, Легко из памяти моей стирая Всё, что хотело, и меня толкая Прочь от людей. Но вовсе не вперед, А лишь за ту неверную черту, Туда, в крутящуюся пустоту, Где мы теряем прошлого оплот, Где всё исполнено противоречий, И где меняется всё каждый час… А уж о верности – там нет и речи… Однако, вижу, – я запутал вас. Но подождите, это ничего. И для меня тут многое туманно, Уж очень вышло с этим другом странно. Ведь знал же я давно, что у него, – В душе и сердце друга моего, – Всё было мне – как раз наоборот: Он по своей природе верен был, И в памяти всё прошлое хранил… Но я и это вдруг о нем забыл, И сделался он для меня – не тот. Я уж жалел, что был с ним откровенен, Хоть он и оставался неизменен. Ну, словом, наступили дни иные, И стал он для меня – как все другие. Я убедил себя, что он совсем Застыл в недвижности. А между тем Он должен бы, как я, вперед стремиться, Чтобы творить… Я начал даже злиться. И как других я прежде обличал И мерку святости к ним прилагал, Так начал я и к другу относиться… Коль он как все – того ж, мол, и достоин. Лишь я один совсем иначе скроен. Так дружба наша и сошла на нет. Во мне едва ее остался след. Он, думаю, меня не забывает, Да ведь ему и Время не мешает, Оно над ним совсем не знает власти. А я… Да разве сам я очень рад? И чем, скажите, тут я виноват? Не разорваться ж для него на части! Но о любви он больше понимал, Чем понимал и знал о ней тогда я. Я проповедовал любовь к Тому, О Ком мы с другом столько говорили. Я утверждал, что всё отдам Ему, И думал, что люблю Его… Не зная, Что ведь Любовь… она совсем как боль: Уж если есть – о ней не забываешь. Тебя живит она и ест, как соль. Ее ни с чем иным и не смешаешь. Но, кажется, я понял – здесь, не там! – Как обижал я Время и Того, Кто в дальний мир, на свет, послал меня, Послал не для судящего огня, Не для боренья с волею Его… В меня любви Он искру заложил, Любви, которою Он сам любил, Во дни, когда был в мире, между нами. Я искру не разжег в святое пламя… Но если сделать это я не мог, То почему же Он мне не помог? И вот, я здесь… Но кончил я рассказ. Боюсь, что очень утомил он вас. Я знаю, – приблизительно, конечно, – Какой вы можете мне дать ответ. Соседу моему – с каким укором, И как жестоко, – вы сказали «нет». Но я другой. Так будьте же сердечней, Не убивайте вашим приговором, Я сам к себе достаточно суров, И тяжек здешний каменный покров. Здесь сидя молча, и один, во мгле, Значение проступков на земле Я, может быть, преувеличил сам… Зачем же нужно делать это – вам? Подумайте: а если я поверю? Перенесу ль последнюю потерю – Последнюю надежду – на прощенье? А это всё единой цепи звенья…» Дант слушал океанца, стиснув губы, Потом сказал ему, немножко грубо: «Мой милый друг, напрасны просьбы эти. Еще не лгал я никому на свете. Ужель вам первому, в аду, солгу? Коль не желаешь слушать – так не слушай, Закрой свои всеслышащие уши, Но правды не сказать я не могу. Ведь ты еще не понял ничего! Ты слово повторяешь: „Я обидел Того иль тех, но зло я ненавидел…“ Ты обижал – а знаешь ли, Кого? И слова понимаешь ли значенье? Нет, цепь твоя цела, все целы звенья… Когда кого-нибудь мы обижаем, На свете мы страданье умножаем, И тем еще страдание Того, Кто до сих пор страдает – за тебя. Когда обиженный ребенок плачет, Ты знаешь ли, скажи, что это значит? Его обидел ты – и для себя. А ты Иного обижал – тем паче. Подумай сам: могу ли не сказать я, Как это всё, – твой холод и проклятья, На души неповинные легло? Иль ты не ведал, как им тяжело? Нет, не сурово это искупленье Твоих неисчислимых преступлений, Оставивших зловещие следы На душах многих… Да и на твоей. Еще не понял ты своей беды: Черна вода, а всё же и под ней Не угасает твой огонь не жгущий, – Ожесточающий сердца живущих. Ты не дошел до своего предела, Тебе осталось здесь немало дела, Ты – с лаской вспоминаешь о себе; О прошлой жизни, о своей борьбе Ты говорил почти что с умиленьем… И тут же всё мечтаешь о прощеньи. Не верю, чтоб душа твоя посмела Отречься, отойти от всех надежд, – Последних человеческих одежд, – А ведь должна! Ее прямое дело – Всего совлечься, до пылинки снять, И быть готовой вечно умирать. А к жалости напрасно не зови: В тебе самом ее немало было, Не жалости одной, но и любви. Но на земле, такой тебе постылой, Кого ты истинно жалел – любя? Вся жизнь твоя – лишь самолюбованье, Вся жизнь твоя – великое страданье, Но не твое страданье, а Того…» Тут, Данта не дослушав, собеседник, Вскочив на кучу, бросился стремглав Во встречную, высокую волну, И с криками: «Не прав! Да, я не прав!» Тотчас же погрузился в глубину. Дант проворчал: «Ну что за привередник! Не вынырнет ли он? Я подожду. Нехорошо же, если так уйду». Тот вынырнул, крича свое: «Не прав! Не надо мне прощения! Клянусь, К себе я прежнему не возвращусь! Прощений не хочу, боюсь, боюсь!» А Данте рад. Ведь сердце-то не камень. Заслышав искренность какую-то и пламень В далеком голосе, он крикнул вслед: «Не бойся! Он простит! Он всё прощает!» Прислушался: что ж он? Ответа нет. Волна вернулась: нет его в волне. Опять прислушался: не отвечает. Еще волна – лишь пена на гребне. «Остался, очевидно, в глубине, – Дант бормотал. – Я слишком резок был, Меня как будто он же заразил, И принялся и я за обличенье… Ну нет, благодарю, мое почтенье! Пожалуй, первый-то куда похуже, Чем этот… Был же с тем я мил?.. Какая тьма, однако… Да и лужи. Тут самому себе не будешь рад. Да, поживи-ка в эдакой стране!» Опять волна. Он отступил назад И прислонился к каменной стене, Напрасно в темноту вперяя взор… Сердился на себя за разговор.III Тень
Всей этой тьмой, подземными жильцами, Дант понял наконец, что утомлен. «Достаточно поговорили с вами!» – Сказал себе он, направляясь вон. Но выход-то из подземелья – где же? Где узенькая щелочка в камнях, В какую он тогда пролез? Всё те же Кругом и волны с дымом на гребнях, И та же мгла, не гуще и не реже. Но сердцу Данте незнаком был страх. И он немедленно пустился в путь, То вплавь, а то по черноте шагая: «Найдется эта щель когда-нибудь! Не эта щелка – будет и другая!» Не находилась, впрочем, никакая. Лишь ноги вязнут в кучах черноты, Да молнии в глазах от темноты. Вдруг что-то запищало у него Под правою ногою. «На кого Я наступил? – И Данте рассердился. – Вот не было напасти! Лягушонка Я раздавил, а то еще ребенка? Да, впрочем, здесь не может быть ребят, Ведь как-никак – а всё же это ад». Чтоб рассмотреть, что там, – он наклонился, Не увидав, конечно, ничего. А что пищало – больше не пищало, Оно – и Дант немало удивился – Совсем обычным голосом сказало: «Мой милый, не ищите. Никого Не раздавили вы. Я – существо, Которому не сделаешь вреда. А вот у вас, пожалуй, и беда: На свет хотите выбраться. Напрасно! Не так легко. Но я могу помочь. Я знаю здешние места прекрасно. Сейчас и мне уж надоела ночь». Дант усмехнулся: «Коль вы здешний житель, Так надоело вам – не надоело, Здесь никому до этого нет дела. Сюда попали – значит, и сидите». Но существо спокойно возразило: «О, я не тот, с кем ваша болтовня Рассеяла, забавила меня. Как хороши вы были, укоряя, Обоих напоследок утешая, А сами толком ничего не зная! Моя позиция – совсем другая: Я здесь повсюду без препон гуляю. Вот и сюда порою захожу… Но больше ничего вам не скажу. А вон хотите? Следуйте за мной. Иль оставайтесь. Мне, ведь, всё равно». «Нет, нет! Иду!» – воскликнул Дант, спеша За белой Тенью, что теперь, из вод Поднявшись, двигалась легко вперед. «Должно быть, это чья-нибудь душа, – Подумал Данте. – Как она стройна, Как движется, по черноте скользя! Хотел бы знать, однако, кто она?» «Вы любопытны, – вдруг сказала Тень. – Здесь мыслить тайно ни о чем нельзя, И ваши мысли мне ясны, как день. Те двое исповедались пред вами, – Могли бы утолиться вы словами». – «Мне ваша исповедь и не нужна, – Ответил живо Дант, идя вперед. – Но слышали вы мысль мою… И вот Лишь на одно ответьте, если можно: Вы – женщина? Вы „он“ – или „она“?» Ответа нет. И Тень скользит безмолвно По дымно-черным подземелья волнам. Лишь вдолге, обратя на Данте взор, Проговорила: «Что за разговор! Здесь слово лишнее – неосторожно, И надо знать, что важно – что ничтожно. Но имя предка вашего я чту И для него молчания черту Переступлю, на ваш вопрос ответив. Ответ мой прост: не знаю». «Невозможно!» – Воскликнул Дант. И тут же, не заметив Какой-то кучи, в воду соскользнул И в океане чуть не утонул. Но выбрался. И тотчас к Тени снова: «Сказали вы: „Не знаю“. Что за слово! Вы были же и на земле, а там…» – «Там, на земле, я женщиной считался. Но только что заговорю стихами, Вот как сейчас, сию минуту, с вами, Немедленно в мужчину превращался. И то же в случаях других… Как знать Могу, кто я? И было так до смерти. Хотите верьте мне, а то не верьте… Но я другого не могу сказать. Не отставайте, мы почти у цели. Вы видите полоску – свет из щели? Но если сквозь нее вы не пройдете Немедленно, тотчас же вслед за мной, Нигде меня вы больше не найдете, Ни выхода, оставшись за стеной». – «Пройду, пройду!» Хоть Дант был очень строен Вглядевшись, чувствовал, что не спокоен: Уж очень эта щель была узка – Белела, как черта, издалека. Хотел подумать: «Ей-то что за дело! Скользнет… На мне же, как-никак, а тело!» Но не подумал. Не желал. Как знать, Вдруг мысль его у слышится опять? Черта на камне темном всё белела… Скользнула Тень в нее – и тотчас вслед Дант кинулся, уж не жалея тела, Не думая о том, пройдет – иль нет. Но щелка раздалась, как будто… Свет! Хоть оказался он не очень ярок – Для Данте и белесый, как подарок. А Тень? Ах, вот. И на свету светла, Чуть контуры другие приняла. Но на лице туман какой-то лег, И Данте рассмотреть его не мог. «Я очень рад, что выйти вам помог, – Сказал приветливо вожатый странный. – Когда б не имя ваше… Но теперь Простимся. Я иду в другие страны. А вы – всё прямо. Низенькую дверь Вы встретите. За ней ступени…» – «Я знаю их, – Дант перебил. – Но Тени, – Столь благодетельной, – чем отплачу? От вас так сразу не уйду я прочь, Мне надо, – чувствую, – и вам помочь. О предке вы моем упоминали, И я – его достойным быть хочу. Вы что-то слышали о нем, иль знали… В чужой душе читать я не умею, Но вы умеете, и я вас смею Просить: взгляните, видите, что я Готов на всё, и что душа моя Не может вас покинуть без оплаты. Я вас уже люблю, люблю как брата… Куда идете вы опять? Зачем? О, если бы мне знать – хотя бы это!» «Для вас, пожалуй, тут и нет секрета, И вы меня растрогали совсем, – Сказала Тень. – Но я не вижу, право, Что вы могли бы сделать для меня. Да, предка вашего близка мне слава, И в вас есть что-то от его огня. Где мы стоим сию минуту – путь В Чиспшище. Туда я захожу Не в первый раз! И там не нахожу Кого ищу. Найду ль когда-нибудь?» «Я догадался! – Дант вскричал. – Я знал! Вы ищете кого-то здесь, в аду. В Чистилище хоть я и не бывал, Да уж туда сегодня не пойду. Но вы позвольте мне вас проводить Не до дверей, а хоть бы часть пути. Навязчивым я не хочу прослыть, Но не могу же так от вас уйти!» И вот идут они, вдвоем, и рядом. Дорога тихая. Не пахнет адом. Дант удивлен: «Который это круг? В других бывал я: шум и крик всегда. А здесь такая тишина вокруг!» – «Здесь шума не бывает никогда, – Тень отвечала. – Так, должно быть, надо, Чтоб путь в Чистилище был тих. И ада Чтобы не помнили идущие туда. Но вы не знаете, как длинен он! Столетий семь, по-вашему считая. Иной, что адом слишком удручен, Идет – и падает, не достигая». Был Данте этим тоже удивлен: «А как же вы, не раз…» – «О, надо мною Не знало время и малейшей власти, Ни здесь, в аду, ни на земле. Отчасти – Другие говорили мне, – к несчастью, Что горько ничего не забывать, Как детища не забывает мать. Чувств матери, положим, я не знаю… Я просто ничего не забываю. Вот потому просил так горячо я Мою Терезу и других святых, Чтоб мне послали что хотят другое, Но лишь не то, что было – и недаром! – Моим предчувствием, моим кошмаром… Чтоб не осталась на земле одною Моя душа. Просил я о надежде Уйти с земли, ее покинуть прежде, Чем тот, кого душа моя любила, Чем тот, которого теперь ищу… Но укорять святых я не хочу, Ни тех, моих, и никаких других: Ведь, может, было то не в воле их. Поймите же: я был всегда не сущим, А если попросту сказать – ничто. Лишь в нем одном жила душа моя. Когда ж ушел, кто жизнь мне был несущим, Я на земле лишился бытия. Другие этого – что я никто – Там, на земле, конечно, не видали. И разные мне имена давали. Моя ж душа была к себе строга. И вам, пожалуй, я открыть готов, Как звал себя я, без высоких слов: Мое простое имя – пустельга». «О нет, о нет! – воскликнул Дант тревожно. Какая пустота в душе возможна, Какая пустота – и в вашей, строгой! – Когда идет она такой дорогой Страданья и любви? Нет, не пустая, Она полна, и, может быть, до края!» Но спутница как будто рассмеялась: «Все вы, земные, – вечно не о том! Спросите лучше, как я жил потом, Что на земле еще со мною сталось. Не исповедуюсь я вовсе вам, Суды мне ваши тоже не нужны, Но имя Данте… Помню я, как там Мы повторяли имя и горам Флоренции, родной его страны… Быть может, говорю я слишком много И осторожней было б помолчать. Но так тиха в Чистилище дорога, И я как будто с ним… и там… опять. Но он ушел. Давно? Вчера? Сейчас? Не знаю. Только я не мог понять, Хоть размышлял об этом много раз, С какою целью, для чего мне дан Остаток этих дней моих земных? Не видел смысла никакого в них. Иль справедливость высшая – обман? И для чего испытывать мне ту Неизъяснимую словами тошноту… Ее все знают в черном океане, А я узнал ее вверху, заране… Однако, я привык еще при нем Бессмыслие и случай отрицать. И в отраженном бытии моем Пытался смысл какой-то отыскать. Был друг у нас. Иль полудруг. И он Был постоянно чьею-то заботой – Не знаю почему – но окружен. Не стоил, мнилось, он ее. Но сон Привиделся тогда мне очень странный, Не ясный сон, не сложный, но туманный. В тумане словно говорил мне кто-то: «Больные не останутся одни. Нуждаются в заботе лишь они». Проснувшись, я подумал: если прочь Мой полудруг не отошел совсем, Не велено ли мне ему помочь? Но я, ведь, сам не знаю, как и чем, И тоже болен, да и что могу? Никто не будет слушать пустельгу. «Ах, бросьте спорить, ничего не зная!» И там никто не знал, что пустельга я. Не получил даров я никаких, Лишь дар любви. Но вот, порой, играя, Нарочно сам выдумывал я их И приводил тем многих к заблужденью. Я внял, однако, сонному веленью. Ведь человек-то все-таки был болен: У тела своего он жил в неволе, Но жил, не думая об этом плене И не стремясь нимало к перемене. Я ласково с ним речи заводил, С терпением, с любовью говорил, Он и не слушал. Думал о другом. О чем? Как знать! О чем-то о своем. Еще трудней мне было оттого, Что я, ведь, знал: он не любил того, Кого уж не было. Оттолкновений От нас обоих он и не скрывал: С трудом он нашим воздухом дышал, В грош никогда не ставил наших мнений. Конечно, я ему и не помог. Он только сам себе помочь бы мог, Когда б любить и верить мне посмел… Но дар любви он извратил давно И верил, что таков его удел… Да уж теперь и это всё равно. Итак – не удивлю, конечно, вас, Сказав, что боль моя, мои страданья, Мое усилие, – и в этот раз, – Всё разбивалось о его молчанья, Как волны океана об утес. Не видел он ни моего страданья, Ни братской нежности моей, ни слез. Я до конца исполнил повеленье, Весть о конце мне новый сон принес. Но не о нем, а о другом виденьи. Мне хочется вам, Данте, рассказать, Прервав повествованье на мгновенье. Об этом рано вам еще и знать, И вы меня, конечно, не поймете… Однако же – вам это передать Хотел бы я, в моей о вас заботе. И так дрожит сейчас душа моя… Послушайте же, раньше чем уйдете. На всей земле, должно быть, он – да я, Одни мы знали тайну – без названья, Закрытую еще для бытия. Вот оттого, от этого незнанья, Нет у людей и слова для нея. Все имена – не то: любовь, страданье… Неловко – иль предчувственно – ее Мы, между нами, «сверх-любовью» звали, А «нежность братскую» (названье чье?) Уж люди и совсем не понимали. Доныне скрыто от сердец и глаз, Что где-то там, в тысячелетней дали, Такое чувство посетило раз Земное сердце… Как благоуханно Цвело оно в тот незабвенный час! Я говорю о сердце Иоанна Святою ночью… Милый Данте мой, Слова мои вам кажутся туманны, Вы их забудете, придя домой, И это хорошо. Ведь раньше надо Пройти вам путь борения с судьбой… Но после, знаю, будете вы рады На этой тайне сердцем отдохнуть, Коль суждена вам светлая отрада Понять мои слова когда-нибудь. Вас отступленье, верно, утомило, – Ему – конец. И кончен был мой путь. И вот, сама та благостная сила, Что так заботливо его хранила, Увидела, как тщетно мучусь я, – И от земли меня освободила, Чтоб успокоилась душа моя. За послушанье же дала награду: Позволила везде гулять по аду, Искать того, кого с тех пор ищу, И с ним остаться, если захочу. А полудруг – свободней без меня Стал жить, свое оберегая тело, И всё примернее день ото дня. – Заботы отдал он ему всецело, Однако, всё ж его не уберег, И, кажется, через недолгий срок Как я, был тоже от земного взят, Хоть этому и вовсе был не рад. Вы знаете его: ведь он тот первый, С кем рассуждали в океане вы. Он вам порядочно расстроил нервы, Но вы не потеряли головы, А хорошо утешили, я знаю… Я в подземельи изредка бываю, Как раз его я там и навещаю, Но непременно в виде старушонки… Он любит так… Ну что же, ничего! Ведь очень я всегда любил его, А он теперь невиннее ребенка». «Да, а другой? Я так несправедливо С ним говорил, и это, право, жаль…» – «О, не беда, – Тень возразила живо. – О нем напрасная у вас печаль. Его я знаю – и отлично – тоже. Мы как-то на земле дружили с ним. Ему полезен ваш урок… Похоже, Что лишь со мною на земле одним Он мог дружить. Он очень избалован, Всем нравился, и льнули все к нему, А он ни мне не верил – никому, – И странно жил, как будто зачарован, – Но он хороший. Помните ответ, Который бросили ему вы вслед? Его он слышал, очень понял верность, Ему уж легче претерпеть Безмерность… Вы не обидели второго друга. А знаете ли вы? У нас нет круга, В каком бы места не было надежде. Иначе было – говорили – прежде… Теперь не то, и ад уже иной…» Дант слушал невнимательно. В забвенье Каком-то странном, и почти в смятеньи Остановился вдруг. Прервав рассказ, Сказала Тень: «Как утомил я вас! Пора, я вижу, милый Данте мой, Пора вам, наконец, идти домой. Простимся здесь…» Но Дант, в своем волненьи И этого почти не услыхав, Проговорил: «Есть у меня сомненье, За вас какой-то непонятный страх. Быть может, я, конечно, и не прав, Но не уйду, пока, хоть в двух словах, Вы не расскажете о том, кого Искали здесь давно, во всех местах. Ведь я о нем не знаю ничего. Какой он был? Как прожил жизнь свою? Хочу я правды всей – и беспристрастной, Без имени, коль это вам опасно, Лишь правда мне нужна. Не утаю, Мне самому не всё еще тут ясно. Его вы знали…» «Мне ль не знать того, С кем нерасстанно прожил я полвека По счету вашему. Нет человека, Который лучше видел бы его. Пускай я думаю о нем, любя, Умею правду знать и вне себя. Вот правда: выпало ему на долю Нести изгнанье, бедности неволю, Но те богатые свои дары Не исказил он, в землю не зарыл, Пославшему сторицей возвратил. Трудился он до самой той поры, Когда был взят от жизни темноокой… О, этот час, столь для меня жестокий! Но обо мне не речь. Ушел достойно, И с простотою, тихой и спокойной. Он никогда и никому не лгал, Да лжи как будто и не понимал. Он славы не хотел и брал с улыбкой, Считая, кажется, ее ошибкой. Спокоен был, и страстен лишь в борьбе Со злом, которое так ясно видел. Его он гнал, забыв и о себе, Его одно он только ненавидел. Любил не многих. Но кого любил, Тем до конца уже не изменил. Был добр он добротою неприметной, Так целомудренно ее тая, Что, кажется, один на свете – я И знал о черточке его заветной. Еще: он веровал в Того и в то, Во что теперь не верует никто Там, на земле. И, знаю, даже вы, Мой милый Дант, не верите, увы! Сказал я всё, и, думаю, довольно. Но почему душа у вас в смятеньи? Вам кажется опять, что я невольно, Любви покорный, как-то лицемерю?» Но Дант, дрожа, вскричал: «Я верю! Верю! Обманутой могу ль не верить Тени? Которая ее приговорила Всегда искать – но так, чтоб не найти! Недаром я не мог от вас уйти! Пускай я дерзновенно говорю – Мои слова пред всеми повторю! Пусть грех падет на голову мою… Вы думали, что это вам в награду Позволено искать его по аду? А вам позволено ль искать – в раю?» Тень вздрогнула, как будто бы впервые Услышала она слова такие. И даже что-то изменилось в ней: Весь облик стал и легче, и нежней, И был теперь уже не бел, а розов. Вот-вот заговорит, казалось, прозой И станет женщиной. Однако, нет. Лишь, розового не меняя цвета, Сказала: «Отчего-то это Не приходило мне еще на ум. Как странно! Было, ведь, немало дум. Два раза шел, и даже не случайно, Я мимо рая. К белым воротам Меня влекла несознанная тайна. Уж видели и тамошние дети, Но тут старик, опять рукой грозя, Мне закричал: „Тебе туда нельзя!“ – Два раза так. Ужель пойду и в третий?» В восторге Данте закричал: «О да! Но в третий раз пойдете вы туда Не так, и не один – со мной вдвоем. Старик не зол, не думайте о нем, Обоих нас он не прогонит прочь. О, знал же я, что вам могу помочь! Идем скорее. Где дорога?» Тень, Однако, покачала головою: «Теперь нельзя. Домой теперь идите, Сейчас у вас еще покуда день, Но дверь запрут. Ее я не открою, И вы в аду, пожалуй, просидите. Нет, вы за мною после приходите». Дант сдвинул брови: «После? Но когда?» – «Я времени не знаю. Всё равно. Не знаю, что сегодня, что давно. Когда успеете… и захотите». – «О, захотеть… Но где ж я вас найду? В последний круг я больше не пойду». – «Я тотчас знаю, кто по ступеням Спускается неосторожно к нам. Мы встретимся… Но только знайте, верьте: Всё это может вам грозить и смертью». Но Дант опять на спутницу взглянул Заботливо, серьезно и любовно, И руку ей, как равный, протянул, Сказав: «Отвечу я немногословно: Алигиери именем клянусь – Что я для вас и смерти не боюсь! Приду, приду…» И так они расстались.IV Рай
<1>
Intermezzo
«Как захотите – вот и приходите», – Сказала Данту, с ним прощаясь, Тень. О, если так, и дело в «захотите» – Идти хотел он на другой же день. «Но почему прибавила туманно: „Когда успеете“?.. – Вот это странно! Ведь времени-то вовсе нет в аду… Да что тут думать? Завтра и пойду», – Решил он твердо. Был в решеньях смел. Их взвешивать – не то что не умел, Но если общий план казался строен – Себя не утруждал, и был спокоен. И вот, мечтая о грядущем дне, Уж видел он и стертые ступени, Что в ад спускаются. А там, на дне, Он видел, как идет навстречу Тени, И как вдвоем идут они туда, Где он доселе не был никогда, Но будет завтра с нею… «Что сказать Привратнику? Он может помешать, Как помешал не раз, – два раза, – Тени… И всё ж я поклялся – и мы пойдем! Не я один, и не она – вдвоем!» Дант делал множество предположений: «Да вот: я попросту скажу ему, Что к родичу пришел я своему. Что он давно уж посылал за мной, Он хочет повидаться, да и с той, Которую я тоже взял с собой. С ним сговоримся вмиг… Он даст совет… Да, хорошо… А если вдруг да предка, Столь славного, – пока еще там нет? Вдруг он еще в Чистилище? Нередко Ведь там сидят по пять и шесть столетий, Пока не станут чистыми, как дети… У предка ж знаменитого грехов Немало было… Вот и не готов. Не Дон-Жуана ль вызвать? О, скандал! Его-то уж наверно не видал Никто по тем местам, и не увидит. Его привратник, верно, ненавидит… Но – эврика! Нашел я наконец! Я вызову синьору Беатриче. История двух любящих сердец Известна мне. А Беатриче – там, Об этом предок мой поведал сам. И хоть в лицо синьоры я не знаю, Меж душами не много, ведь, различий, И эту Биче тотчас угадаю. Заступится она, и за ограду Пройдем мы с Тенью, что одно и надо. А там…» – Он не додумал, засыпая В мечтаниях о завтра и о рае.2
Но это – «завтра»… На него недаром Ни рифм, ни ассонансов даже нет (Что знает самый маленький поэт). Без всякой связи с днем «сегодня», – старым, Оно готовит новый, свой, привет. Привет, как правило, всегда нежданный И неприветливый, и нежеланный. Мудрее не загадывать заране, Чтоб «завтра» оставалось как в тумане. В аду нет спешки: всё идет привычно, Медлительно, и очень методично. Столетия – и те в аду не прытки: Не птицы, и не кони, а улитки. Там неожиданного нет. Однако, Здесь, на земле, случается и всяко. Для мудрости был Данте слишком молод, Но он стоял у самого преддверья. Как иначе? Он знал уж адский холод, И тьму. Он слышал голоса неверья… Хоть многое ему и удавалось, Но промахнуться все-таки случалось. Тогда без жалобы, без лицемерья Он в неудаче лишь себя винил, А это очень прибавляет сил.3
Вот так и утром, в тот же самый день, Когда он с полной твердостью решил Спуститься в ад опять, увидеть Тень, – Он вспомнил вдруг… о чем совсем забыл, Мечтаньями о рае очарован. Забыл, что он… ведь он мобилизован! А эти дни – он был лишь в отпуску. Возможно ли, своим занявшись делом, Такую вещь забыть, – и как посмел он? Он чувствовал тяжелую тоску, И даже стыд… Не пропустил ли срока? Мог провести в аду, ведь, год он. В волненье, озабоченный глубоко, Тотчас же бросился наш Данте вон. Но, к счастью, не случилось ничего. Должно быть, время сжалось для него, И дни течения не изменили, – По счету все остались, как и были. И Дайте вовремя пришел, как раз В тот самый день и даже в тот же час, Чтобы принять – он думал, искупленье Вины своей – а принял назначенье, И новое, которому был рад. Он сразу позабыл и Тень, и ад. Ему поручено святое дело, И надо совершить его умело. Италия… Она теперь такая, Что не Флоренция, а вся родная. Ведь Данте – летчик был, и очень ловкий, Отлично знал воздушные уловки, Уже имелось на его счету Заслуг – да и порядочных! – немало. Сбивал три авиоиа на лету, А то и больше… Всякое бывало. Когда он действовал, то времена Немного, правда, были поспокойней. Как жестоко горит теперь война! Ну что ж, тем лучше, слаще и достойней Тому, кто верный родине слуга, Уничтожать и бить ее врага, Храня Италию от разрушенья…4
Вот Время, цепь свою сквозь жизнь влача, Цепь, от которой нет у нас ключа, Еще проволокло куда-то звенья… О, как горит воздушная война! Чем завершится, наконец, она? Неаполь, Генуя… до Таормины – Нет города, где б не было руины. Не пощажен и вечный город Рим. Где Данте наш? Уж жив ли он? Что с ним? Он жив. За ним теперь уж целый ряд Геройских подвигов… да и наград. Сам Муссолини наградил его… Но нам другое в Данте интересно: Каким он стал? Что в сердце у него? Конечно, чуждым это неизвестно, Для них – лишь славный он герой. Но те, Кто этого героя знал и ране, Кто близок был живой его мечте, Кто слышал разговоры в океане И мог в Чистилище за ним идти, – По тихому пустынному пути, – И знать, какими увлечен он снами, – Те догадаются о многом сами. Вначале долг он исполнял беспечно, Бесстрашно, жертвенно и безупречно. Да, впрочем, так же делал и потом, Когда беспечность уж иссякла в нем. Он славою своей не дорожил: Он просто – действовал. И просто – жил. А жил теперь он днем и ночью – в шумах. Притом в таких, каких никто и в думах, В воображении, не представлял: Различные – один в другой врывался, Один в другой – и так наперерыв. И с пулеметным стрекотом сливался Упавших авионов острый взрыв. И с диким лаем, в облака-подушки Плевались ядрами в кого-то пушки. И мерное жужжанье авиона Не заглушало сдавленного стона. И были это уж не шумы, – грохот, Как пьяных дьяволов бесстыдный хохот, Иль сатаны в проклятом вожделеньи… Но Дант, как будто, не терял терпенья. Всё так же он бесстрашен, горд и смел, Всё так же точен, быстр его прицел, Он бьет врага… И только всё суровей Его глаза и сдвинутые брови. Кому заметить было в тех местах, Что он опять живет – в своих мечтах? Мечты прямому долгу не мешали, Казалось даже, в чем-то помогали, Но в чем? Он этого не понимал, Не зная сам еще, о чем мечтал. Раз Данте опустился очень низко К аэроплану, – он его и сбил, – И увидал того, – но близко-близко, – Кого он только что, и сам, убил. Он в темной луже головой лежал И, кажется, был жив еще, – дрожал. Он был уже не враг, – он умирал. И вот – душа у Данта пронзена Не жалостью – а завистью престранной; И мысль пришла ему, совсем нежданно: «Едва пройдет минуточка одна – Где был и я когда-то… там, в аду… А я туда сейчас не попаду!» Как много понял Данте в этот миг! Ведь он в мечтания свои проник. Он понял, что мечтает не о Тени, Не думает он и о райском саде, Что за сады! Мечтает он – об аде. «Хоть океан! Пусть воет там волна, Но в этом вое всё же тишина. В других кругах бывают крики, пени, Но с тем, что здесь, – какое же сравненье! А этот длинный, семисотный путь В Чистилище? Пустыня, тишь вокруг. Вот где бы можно было отдохнуть! И если б дали выбирать мне круг…» Мысль ядовитая мелькнула вдруг «Ведь я бы мог и сам… Одно движенье, Руль в глубину… Никто б и не узнал…» Но тотчас Дант, с великим отвращеньем, О смерти нарочитой мысль прогнал. Не знал он, только чувствовал невольно, Иль кто-то знал, – и в нем же, – за него, Что там, за этой смертью самовольной, Ни ада нет, ни рая – ничего. А «ничего» не мог же Дант желать? Для ничего не стоит умирать. Однако, смертный жить без тишины Не может, ни душа его, ни тело. Ему на это силы не даны. А если он, как будто, без предела Выдерживать всего того не может, Что делают и с ним, и он с собой, – Пусть верит, что предел ему положат, И каждому иной, особый – свой. Всё понял Дант средь грохота, в огне, И затаил в сердечной глубине, Всегда такой таинственной и цельной. Тогда приблизился и час предельный. Отдача сил его была полна, Душевных и телесных, – вся сполна. Бесшумная, нежданная, без гула, Вдруг молния какая-то сверкнула, Мысль оборвав последнюю. И он В такой бездумный погрузился сон, Что будто и не думал никогда И ни о чем. И будто без следа Исчез он сам в волшебном этом сне, В его святой, нездешней тишине, Как на ночь мать целует, уходя, Свое родное, милое дитя, Так, с поцелуем, Время отступило, С собою унеся что есть и было.5
Возвращенье Открыв глаза, увидел Данте: свет, – И что-то незнакомое вокруг. «Какой же свет, когда меня уж нет? Иль это новый, неизвестный Круг?» Но тотчас понял, в тяжком отвращеиьи: «Да это просто… просто возвращенье!» И вот уже склоняется над ним Лицо хоть доброе, но человечье. Тихонько трогает его предплечье. И чей-то голос говорит, с заботой: «Однако, задали ж вы нам работы! Но сильный организм. И если б вас Сюда, ну скажем, хоть бы через час, А не чрез шесть, ко мне бы принесли, Вы скоро бы опять летать могли. И эта бы рука…» – «Рука? Что с ней?» – «Так, ничего. Ведь не болит сильней? Не движется она у вас покуда. Но вы пришли в себя – уж это чудо. Рука поправится, не бойтесь. Только Ей время нужно, и не знаю сколько. Вот оттого и говорю: летать Придется вам немного обождать. Как понимаю вашей жизни стиль я! Крылатым тяжело покинуть крылья. Им на земле уж как-то скучно, душно…» Но Дант ему ответил равнодушно: «Нет, мне не скучно это, отчего же? И по земле ходить люблю я тоже. Ведь ноги-то мои, надеюсь, целы?» – «О, совершенно! Можете вы смело Начать прогулки с завтрашнего дня. Но небольшие. Слушайтесь меня. Ничем выздоровленью не мешайте. Еще вы слабы. Лестниц избегайте». – «Да, лестниц! Как не так!» Но лекарь вышел И этих слов насмешливых не слышал.6
В рай
Вот, наконец, опять, опять она! Ее давно истертые ступени… И сырость лестницы, и глубина… Да, всё, как было, всё без изменений. Боялся очень он, что не найдет Случайно им тогда открытый ход. Но всё на месте. Только Дант не тот. Решимостью глаза его горят, Он бледен, и рука на перевязке, Но шепчет про себя: «Ну, это сказки! Я Тени помогу – на то, ведь, ад. Пусть встанут на меня все силы ада, Я это дело кончу – и как надо». Вот он спускается всё ниже, ниже, Уж скользкими становятся ступени… Где им конец? Казалось, что он ближе. Иль это лестница не та, и Тени Он, по условию, внизу не встретит, На зов – упырь какой-нибудь ответит, Сова, иль мышь летучая?.. Их там, И даже здесь, так много по стенам Висит уныло головами вниз… Приятный, нечего сказать, сюрприз! Да всё равно, назад не подыматься, Хоть бы пришлось на лестнице остаться! Решимость и была награждена: Оборвались ступени – над провалом. В провале не было заметно дна, Лишь брезжила неясно серизна – Как будто свет. И, не смутясь нимало, Дант прыгнул к этой серости, в провал, И очень ловко на ноги упал. Повязка сдвинулась слегка с руки, Но он решил, что это пустяки. И, оглядевшись, увидал направо, Как подворотня, низенькую дверь – Чуть годную, пожалуй, для мышей, Для душ бесплотных, но не для людей. Но Дант сказал: «Уж не смешно ли, право, Бояться узости? Прошел я в щель Тогда, из океана… Неужель Я не пролезу как-нибудь теперь И в окаянную такую дверь?» Он лег ничком, пополз… И вот, едва Отверстия коснулась голова, Как дверь высоко поднялась над ним И стала дверью. Так что за порог, Встав на ноги, шагнуть он мог. Давно к удачам он привык своим, И этому не очень удивился, Как и тому, что за порогом Тень, Знакомая, стояла перед ним. Она – такая же, и розовело В ней, сквозь туман, как будто бы и тело. Дант, в радости, ей низко поклонился, Сказав: «Какой удачный нынче день! Идем скорее, кончим наше дело, Привратника я вовсе не боюсь, Но действовать нам нужно смело, И оба мы туда пройдем, – клянусь! Но поспешим. Здесь длинные дороги, А у меня еще не крепки ноги. Вы знаете, я мог прийти сюда Не так, как приходил тогда, А иначе, как и другие…» – «Нет! – Сказала Тень. – Всей силою и волей Я требовал, чтобы земной ваш свет Вы не покинули теперь неволей. Вы были на краю… Я не желал – И вас моим желаньем удержал». – «Но почему? – сказал он беспокойно. – А я мечтал… Рвалась душа моя Прийти сюда скорей, и сразу, вдруг… И к этому был очень близок я. Иль не устроили еще тот Круг, Где поместиться мог бы я достойно?» Они тихонько двигались вперед, Куда-то дальше, влево от сарая. Там снова опустилась эта дверь, Что вверх взлетела, Данте пропуская. «Про этот Круг я ничего не знаю, – Тень отвечала. – Знаю лишь одно: В каком бы круге вы ни оказались. В таком или другом, но всё равно Вы в этом Круге так бы и остались… Пришедшим не как вы – запрещено Круг, им определенный, покидать… Вам это раньше надо было б знать. Таких же, чтоб повсюду здесь ходили, Из нас лишь двое: я, – да он, Вергилий». – «Ах, вот что! Понимаю! Я вам нужен. Я недогадлив. Право, я сконфужен. Для этого меня в аду земном Так бережно вы, значит, сохраняли? Ну что ж, тем лучше, я приду потом…» – «О Данте, Данте, вы капризны стали. Ведь вы бы чувствовать должны прекрасно, Что я люблю вас…» – «Да? Меня – иль предка?» – «Нет, Данте, невозможно! Вы кокетка! Вы избалованы, теперь мне ясно. И все-таки вас нежно я люблю. А споров, знайте, я не потерплю». Но Дант уже опомнился. Смиренно Прощения у Тени попросил. Он неизменен. Да и неизменно Его решенье. Полон новых сил. Боится лишь, туда ль они идут? Всё как-то очень незнакомо тут. Какие-то всё пустыри, пески, Болит рука, но это пустяки. Вдруг Тень заметила на перевязке У Данта темно-бурое пятно И побледнела вдруг, как полотно. Он сдвинул перевязь, тогда, в провале, И выступила кровь из свежей раны. «Что с вами, друг мой? Как бледны вы стали! Я должен вам сказать, что наши раны… Ну, словом, здесь (и, кажется, давно) Показывать нельзя, запрещено, Кровь человеческую адским сводам, Как солнцу – на земле. Земным народам Хоть это запрещенье и дано – Да разве думают они о нем? У нас, коль запрещенье преступаем, Никем наказаны мы не бываем, А сами же собой, и это знаем. И вот, теперь, с таким на вас пятном, Нам шагу дальше сделать невозможно: Здесь, в пустоте, – и то неосторожно». – «Но как же быть? – воскликнул Дант в смущеньи. Назад? Да ни за что! О, без сомненья, Я не вернусь. А эта кровь – моя, И за нее не отвечаю я». (Заметим в скобках: Данте лишь сейчас, В аду, о крови вспомнил в первый раз. Положим, видел-то ее он мало: Ведь там – орудие его стреляло В летучую машину. А людей, Что падали на землю вместе с ней, – Сама земля же их и убивала.) Тень вдруг проговорила: «Погодите, Здесь место есть недалеко одно, Песком забвения усыпано оно. Я принесу песок. И если оба, И я, и вы, – мы правы, и не злоба, Не что-нибудь худое движет нами, А только всемогущая любовь – Тогда увидите вы чудо сами: Сотрет песок забвенья эту кровь». Скользнула прочь, и сразу – никого. Но средь пустынных адовых низин Недолго оставался Дант один: Вновь спутник верный около него И сыплет золотистое пшено Забвения – на бурое пятно. Смеется Тень: «Взгляните, где ж оно?» Дант опустил глаза, взглянул несмело: Но и следов от темного пятна Уж не было на перевязи белой: Как новый снег теперь чиста она. «Идем, идем! Пред нами долгий путь. Да ничего, придем когда-нибудь!» Они идут, бегут… «Здесь поворот, – Сказала Тень. – Направо будет грот, А там, сейчас же, видите, за гротом Идет дорога новым поворотом. Нарочно он так незаметно слажен. А он, меж тем, довольно-таки важен. Ведь это вход, я знаю, в Пятый Круг. Я был и там. Но вам понятно, друг, Там были поиски мои напрасны; И сам я это понимал… А вдруг?.. Жалел потом. Зачем мне безучастно, Мне, полному заботою своей, Глядеть на эту гущу, на несчастных, Которые всё время тонут в ней?.. Там озеро, широкое, большое, Но не вода в нем – а сплошной елей, Иль масло из лампадок, прегустое, И там-то я рассматривал их всех: Они захлебывались маслом, – тех Изменников, смиренников, что падки Замалчивать свой были грех, Всё время тепля разные лампадки. Но истина – их нынешний удел Не может им казаться очень сладким: Купание в холодном масле тел, Тяжелое ворочанье в елее… Что может быть еще, скажите, злее? И я ушел… мне слишком больно стало, – Оставив в масле задыхаться их… Да, всякое случалось, всё бывало Со мной в скитаньях адовых моих… Но вы задумчивы. Я не могу понять Всех ваших дум, хоть пристально смотрю. Должно быть, я напрасно говорю, Что мысли всякие читать умею». – «Я так хотел бы вам их рассказать, Мой милый спутник, только не посмею, Уж слишком спутаны они, неясны… О чуде, о забвении… Прекрасным Мне кажется забвенье иногда…» – «А я, – сказала Тень, – его не знаю, Да не знавал и раньше никогда. Но не жалел, что память сохраняю, Из прошлого крупинки не теряю… А чудо, – иль не большее, – в прощеньи?.. (Ах, Данте, вы, – ведь вы мое забвенье, Мгновенное от боли от влеченье… Но это в сторону я говорю, И даже вам уже не повторю.) Оставим это. Поскорей вперед, Ведь нас нелегкая задача ждет». И шли они, почти бежали, скоро. Но в почве точно не было упора, Так горяча, мягка была она. «Под нами здесь пустая глубина, Девятый Круг. Он на короткий срок. Я был и там. Но там такая марка, Что я и Тень – а выдержать не мог. Едва войду – тотчас же за порог. И для меня, для Тени, слишком жарко. Оттуда их, по окончаньи срока, В тот мглистый, черный океан бросают. Они, конечно, тотчас замерзают». – «О, как жестоко! – Дант промолвил с дрожью. Но что это? Идем по бездорожью?» – «Да, нет дороги. Путь не обозначен. Был план когда-то, ныне он утрачен, Иль отменен. А вы за мной идите, По сторонам не очень-то глядите, Я вижу знаки, где он сделан начерн. А о жестокости – о ней молчите! О ней, о здешней, вам ли спорить с нами? Девятый Круг, и океан, – всё сами Жильцы понатворили для себя. И все-таки, и все-таки, любя, Им послана надежда на прощенье. А там, у вас… Не путайтесь в коренья, Ведь этак даже и упасть легко. Здесь травы цепки. Уж недалеко». – «А отчего, скажите, пахнет медом? – Дант неожиданно остановился: – Тут пустота, каким же это родом?.. Почувствовав, я сразу удивился…» – «А для меня здесь в воздухе сирень. – Сказала, живо обернувшись, Тень. – Вы любите его, должно быть, – мед?» – «О да, и запах лип в цвету…» – «Ну вот. Поэтому и дан вам запах меда. У этих мест известная природа, И это знак, что мы почти у рая. Я не был в нем, но говорят, я знаю, Что все там слышат, что кому дороже, И видят это, и имеют тоже». – «Какая странность! – путаясь в траве, Заметил Данте. – Но и как прелестно! Нельзя придумать более чудесно! Ну как не закружиться голове? Не знал подобных райских я примет: Желанью сердца каждого – ответ! Как мне хотелось бы туда пробраться, Но чтоб уж навсегда там и остаться!» – «Вы можете, но только надо прежде Вам на земле так жить и так хотеть Лишь этого, чтоб вы могли, в надежде, Светло и непорочно умереть. Но бросим наши рассужденья. Вот Я вижу арку белую ворот. Ворота широки – но узок вход». Дант, в восхищеньи, громко закричал: «А розы чайные! На мед похожи! Ворота белые я вижу тоже». – «А старика? – спросила Тень. – Он спал?» – «Как будто – да. Но вот, теперь проснулся И, кажется, на нас он оглянулся». Они, уж не спеша, пришли к воротам. Старик поднялся грузно с камня: «Кто там? А, эту мы уже видали штучку! Два раза дал тебе я нахлобучку. Скажи, ты Пустельга?» На это Тень Лишь головой кивнула. «Знай, ноги Не будет за Вратами Пустельги! А это кто? – Он указал на Данта. – Я этого еще не видел франта». Дант, посмотрев, проговорил серьезно: «Подумай, надо ль говорить так грозно? Мы вместе, да… Я Дант Алигиери, Я правнук Данта, что у вас уж был, – Наверно, этого ты не забыл, – А то так на слово прошу мне верить. Он был, ушел, теперь у вас опять, Его хочу я очень повидать. Пусти меня и спутника вдвоем, Мы иначе, как вместе, не войдем. Я в первый раз пришел, она – уж в третий, Ее уж видели вот эти дети, Которые глядят из-за кустов, Что вместо роз цветут теперь сиренью… Ужели ты ее отгонишь вновь? Не пустельга. Узнал ее я тенью, Но имя подлинное ей – Любовь. Открой же нам скорей. Довольно слов». Старик лишь головою замотал И ключ тяжелый крепче в пальцах сжал. «Уж тут ли он? – шепнула Тень в смущеньи. И ваше, может быть, предположенье… Я так боюсь! Но верить всё ж хочу, Что здесь он… Тот, которого ищу…» Вдруг из кустов сиреневых раздался – Из тех кустов, что ограждали рай, – Неистовый, но очень тонкий лай. Он визгом радостным сопровождался, Царапаньем, и даже подвываньем. И был он полн великим ожиданьем. Тень вскрикнула: «Да это ведь она! Собачка-Булька, милая моя! Теперь мне ясно: здесь он, знаю я! Она бы не осталась тут одна. Она любила нас – осталась с ним, Раз нет меня – так хоть из двух с одним. Теперь почуяла меня, зовет…» Старик вскочил, и мечет он и рвет: «Да что это? Да что это такое? Собака– здесь! Вот наважденье злое! Откуда пес? Откуда, от кого?» – И вдруг замолк он сразу. Отчего? Как будто не случилось ничего, Лишь ветер нежно шевелил кустом. Но ветер говорить со стариком Умел ему понятным языком. И на слова: «Откуда этот пес?» Прошелестел: «Его привел Христос». «Так что ж, старик, откроешь или нет? – Сказал Алигиери, уж суровей: Огонь в глазах и сдвинутые брови. – Искать ли нам здесь на любовь ответ? Иль в этом месте не дают ответа? Тогда скажу я, правды не скрывая, Что нет и не было еще здесь рая. Смотри, старик, ты не хранишь завета – Его ты слышал сам из уст святых: Для любящих – иль ты забыл про это? – Все двери открываются для них! Ты видишь, даже этот малый песик, Что из кустов просовывает носик, И в нем любовь. И как она светла!» Собачка будто бы и замолчала, И, нежным взором обменявшись с Тенью, Глаза на старика перевела И на него тихонько зарычала. «Я больше убеждать тебя не буду, – Прибавил Дант. – Но знай, что я войду, И вместе с ней. Любовь ее зовет. Когда же там она ее найдет, Найдет, – кого ты знаешь! – я уйду, Она – останется. Приду опять, Но часа этого я не забуду. Я ничего не смею забывать, И слову не умею изменять». Старик поднялся, с пояса снимая Заветный ключ, и, медленно шагая, Ворчал: «Гляди, наговорил-то сколько! Уйду… приду… останется… А только Коли беда – она уж не одна. Как ей остаться, коли тень она? Здесь нет теней. У каждого есть тело. Ну, не такое, – ткнул опять на Данта, – Как у тебя, у пришлого гиганта, Получше, малость… А она хотела…» – «Да замолчишь ли ты! Не рассуждай! Забыл от старости – любовь всё может! Она и тело даст, она поможет!» Взглянул на Тень: совсем порозовела, Как будто было у нее и тело. Старик опять: «Беда с таким народом…» – «Довольно! – крикнул Данте. – Открывай!» Ключ зазвенел. Открылись двери в рай, И Данта обняло его дыханье; Дышал он цветом липовым и медом… Они вошли… А дале, по незнаныо, Как встретил рай обоих, Данта с Тенью, С какими свиделись они святыми, – Мне надо нового ждать откровенья. Пока ж молчу. Лишь помню, что за ними Закрылись двери белою сиренью.Терцины
I
Вот новый Дант в последний Круг пробрался, Один, без спутника – он очень смел, Да и вверху – чего не навидался! Едва на подземелье посмотрел, Как, одного из тамошних заметив, Без церемонии к нему подсел И, очень вежливо его приветив, Затеял с ним, – на это был он скор, Особенно внимание приметив, – По-дружески тотчас же разговор. Верней – стал вопрошать его прилежно. Тот поднял на него потухший взор, Проговорив, не очень, впрочем, нежно: «Вы сверху, да? Оттуда к нам давно Никто не приходил. И дух мятежный Земли забыл я. Впрочем, всё равно», «Я знаю, – Даит ответил. – Расскажите, Что здесь такое? Почему темно? И почему вы на волне сидите? Мне быть во тьме случалось иногда, Но холод здесь… А вы и не дрожите, Как будто это вам и не беда. Всё волны, волны… Нет почти что суши. В таких местах я не был никогда. Кругом черно, черней китайской туши, Я, как вошел, – чуть не ослеп совсем. И вы здесь не один. Всё это – души? Не понимаю также я, зачем Вы на волне всё той же, мглисто-черной, Не очень-то спокойны. Между тем Качанье ваше мерное упорно, И кажется порою мне оно Как будто бы довольно тошнотворно». «Я не умею, не смеюсь давно, – Ответил тот, качаться продолжая. – А то, пожалуй, было б мне смешно, Что будто вы, и главного не зная, Вопросы ставите как наугад. Ведь вам известно же, предполагаю, Что это место, по-земному, – ад. По-здешнему – Безмерность. Океану Подходит это больше во сто крат. По крайней мере, точно, без обману: Нет времени у нас, и меры нет. Я тоже вас обманывать не стану, Могу ли дать, да и какой ответ? Нельзя же спрашивать, зачем в аду я, Иль почему не выхожу на свет? Другой бы вам ответил, негодуя, Но я отвечу попросту: не то! Я не взял это за насмешку злую, Хоть не сидит в аду зачем – никто. Вы лучше бы не так меня спросили: Сидите, мол, в аду, во тьме, – за что?» Даит отвечал: «Мои вопросы были, Я вижу, неудачны. Предлагать Не буду их. Но если вам усилий Не много стоит просто рассказать, Что можете, как сами захотите, И что считаете, что можно знать Мне и про вас, – за что вы здесь сидите, Да и про то, что здесь у нас вокруг, Меня вы этим очень одолжите. Когда во тьме я очутился вдруг – Соображенье у меня застыло… Но верьте мне, я говорю как друг…» «Земное слово „друг“ мне слышать мило, – Сказал подземник. – Я вам расскажу Историю мою, и всё как было. Я часто сам ее себе твержу. Вот, слушайте: за искаженье тела, За лживую любовь я здесь сижу…» Так начал он уныло и несмело: «Я сам готовил этот океан, И тьму себе, и мглу – за то же дело. Ах, да за мой умышленный обман, За вечное себя им оправданье, Я не таких еще достоин стран! Меня спасти могло бы хоть незнанье, Что делаю и почему, но я Старательно гасил свое сознанье, И в этой лживости душа моя, Да в слабости, которой нет прощенья, – Жила, от всех и от себя тая, Что будет – неизбежно! – искупленье. Ведь тело-то не мной сотворено И было мне, как некое даренье, На время только, по любви, дано. Оно ж меня поработить сумело, И так распоряжалось мной оно, Что я хотел – чего оно хотело, Но говорил – и было это ложь, – Что я покорен своему уделу, А от него – куда же, мол, уйдешь! Как хочет плоть – так должен и любить я, – Вот принцип мой. Не правда ли, хорош? За эти-то дела – могу ль забыть я? – Сижу теперь в холодной темноте, За них, а также и за их прикрытье. Не веря больше никакой мечте И не жалея ни о чем нимало, Ни о своей погибшей красоте… Мне в океане всё яснее стало, Мне надо было пережить удар, И чтоб волна до тошноты качала, За то, что посланный мне свыше дар Я исказил… Да нет, гораздо хуже, – Я просто сделал из него кошмар. И вечно ложь я повторял всё ту же, Слова святые ею оскорблял, Узлы мои я стягивал всё туже, И видел это, знал и понимал, Однако, видеть вовсе не желая, Глаза на всё упрямо закрывал, И даже будто бы не понимая Ниспосланных мне знаков, что даны Не раз уж были мне, предупреждая. А знаки эти – явны и грозны. Вот, например: душа порой двоилась И даже весь я сам. Со стороны Смотрел тогда я на себя. И мнилось, Что вот идет – не человек, а хмарь, Смеясь, ко мне подходит. Сердце билось, Шепчу: «Вы, милостивый государь, Что от меня, скажите, вам угодно?» А он… о подлая и злая тварь! – Одет, как я, с иголочки и модно, Хохочет: «Не валяй, мол, дурака!» Со мной садится рядом пресвободно: «Не узнаешь? Задачка-то легка! Вглядись в меня. Придвинься же поближе. Меня-то не обманешь, en tout cas[133]. Ведь я не кто-нибудь иной, а ты же. Ну да, ты сам. Всё тот же кавалер, И от меня не навостришь ты лыжи. Давно ли мы, на общий наш манер, Устроили – и оба нежно вместе – В конце аллеи тайный sanctuaire[134], Чтоб нашей общей угодить невесте… Или, вернее, жениху… Оно – Такое дело, говоря без лести, И для меня и для тебя равно Приятным стало, даже натуральным. Мы позабыли баб, и всех, давно. Не притворяйтесь, милый мой, печальным, А то испуганным, как будто вдруг Ты сделался ce qu’on appelle[135] – нормальным. Ведь я с тобой. И больше я, чем друг, Я ты же сам, я лгать тебе не буду. Не забывай – один у нас супруг, И что ж такое, разве это к худу? Я недурен и веселей тебя, Но будь уверен, я с тобой – повсюду, Захочешь – вмиг развеселю, любя… Пристало ли тебе меня бояться? Ведь не боишься ж самого себя? А наши шалости, – не может статься, Чтоб ты их так совсем и позабыл. Я для тебя готов еще стараться…» Тут океанца Дант остановил, Сказав с гримасой: «Не спадайте с тона. На вашем месте я бы опустил Подробности иные без урона». «Вот, быть непонятым – судьба моя! – Ответил тот без гнева, полусонно. Ведь это он же говорил – не я! Вы думаете – рад я был встречаться Вот с эдаким моим проклятым „я“? Я от всего готов был отказаться, Чтоб только с этим двойником моим Я мог совсем и никогда не знаться. Да хоть бы здесь мне не столкнуться с ним, Здесь, в океане, в царстве темной мути! Но мы о нем напрасно говорим. Кто сам не испытал подобной жути, Тот чужд окажется ей навсегда И не поймет в моем признанье сути». В раздумьи Дант ему ответил: «Да, Себя вдвойне не видел я ни разу, – Надеюсь и не видеть никогда. Поэтому не понял вас я сразу. Но вот, подумав, увидал тотчас, Что видно даже и простому глазу, Какая мука тут была для вас. Себя увидеть – это ль не страданье? И встречи ждать в какой не знаешь час… Простите ж грубое вам замечанье, Я не успел моих обдумать слов, Они не стоят вашего вниманья. Я слушать дальше ваш рассказ готов». Жилец и не сердился (от смиренья?) – Мог Данте быть не так еще суров, – Он лишь вздохнул: «А здесь – освобожденье От двойника. Здесь нет его совсем В Безмерности – хоть это облегченье». Опять вздохнул, качаясь, и затем, Трагическую повесть продолжая, Сказал: «А на земле тогда ничем Не мог его отвадить от себя я… Должно быть, стал я ныне уж другой. В себе я разбираться начинаю: И уж не прав ли был он, что со мной Он говорил так нагло и бесстыдно? Ведь я, пожалуй, был и сам такой… Тогда ж казалось это мне обидно И самого себя мне было жаль. Нет, не напрасно здесь сижу я, видно! И не в морали дело – что мораль! С моралью тоже можно лицемерить. Здесь я учусь смотреть иначе, в даль, В Безмерности – себя иначе мерить, Я сердцем знал, Кого я обижал, В Кого хотел – и всё ж не мог не верить, Но лгать себе упорно продолжал, Что я не знаю, – и могу ли знать я, – Кто это тело, и зачем мне дал. Однако, знал, и в этом всё проклятье. Я знал, что от любви мне всё дано, Но этого и не желал признать я, А потому вокруг меня темно… Когда б не знал – ведь был бы я невинней, Я это понял в темноте давно, И был бы, может быть, пред нами ныне Не этот мутный, черный океан, – Совсем другой, приветливый и синий… Но стоит ли мечтать!.. А там обман, Всю жизнь без перерыва продолжая, Привычкой сделал я. Но, обуян Желаньем оправдать себя, считая Ее за верность, надо ж верным слыть! Но верность у меня была иная, Я верен только телу мог и быть. А верящих в меня давно и слепо Я, для того, чтоб плоти угодить, Обманывал и грубо, и нелепо. Откроется обман? Когда-нибудь! Не дорожил я с верящими скрепой И, если выгодно их обмануть, Минутой пользовался просто данной, Не думая о будущем ничуть. Ведь те, кто были для меня желанны, Мне были не равны. Они всегда Стояли в чем-то ниже, как ни странно. И замечать я стал, что иногда – Всё чаще – с равными мне непривычно И как-то скучно. Это не беда, Казалось мне. Ведь это так обычно! И я не трогал чувства моего, Насилие считая неприличным. И был мне тот приятнее всего – Вы это даже без труда поймете, – С кем говорить не надо ничего. Подобные дела, где, в общем счете, – Ведь вам известно кое-что о них? – Всё сводится к одной лишь только плоти, Решаются в условиях своих. Итак – мои мне делались всё ближе. Но не судил я строго и других, Хоть и общался с теми, кто пониже. А несужденьем прочих – щеголял. Я говорил себе: „Они не ты же, По-доброму суди их“. Но я лгал, Не добродетель – эти несужденья, Не доброта, когда я им прощал – И что прощал? – но если не презренье, То невниманье к ним и к жизни их. Теперь я даже знаю: без сомненья, Я никого и не видал из них, Так были мне они неинтересны. Я жил среди сообщников моих. Порой и с ними мне бывало тесно, Уж очень тело я избаловал. Поил его, кормил, и неизвестно, Чего еще ему не отдавал. И всё же был я телом недоволен И очень за него бояться стал. Мне, что ни день, казалось, что я болен. Хранил я тело, всячески лечил, Но сохранить его я не был волен. И потерял, как ни заботлив был. Там, где-то на земле, оно истлело… Но не довольно ли я говорил? Теперь вы знаете, в чем было дело, Как на земле я прожил жизнь мою, И как меня поработило тело. Вы поняли, что я судьбу свою Сам для себя готовил, притворяясь, Что правды даже в сердце не таю, Себя незнаньем оправдать стараясь. Вы поняли, что этот океан, И то, что на волне я так качаюсь, Всё это мне – за лживость, за обман… О, только здесь я понял, как обидел Того, кем дар высокий был мне дан, И лучше бы меня Он ненавидел! А Он любил… Но я понять не мог, И на земле я этого не видел. Теперь конец: Прошел последний срок. Рассказ мой кончен тоже. И заране Ответ ваш слышу. Дам себе зарок Ни с кем не говорить, сидеть в тумане, Чтобы земных ответов не слыхать. Ведь как к моей вы прикоснетесь ране? Вы скажете – давно, мол, ясно вам, Что все мои ошибки – лишь пустое В сравненье с тем, что делается там, Там, на земле… Ведь там теперь такое, Что психологии, мол, ваши – вздор. И что вы можете сказать другое? Так пусть вам будет это не в укор, Но я прошу вас очень: помолчите. Такой ответ – ведь это приговор… И лучше ничего не говорите. Слова мне будут тяжелей всего. А что касается земных событий – Они известны здесь… И оттого Я не хочу сравнений ваших с ними. Нет, нет, не отвечайте ничего! А если вы произнесете Имя…» Он много бы еще наговорил, Весь в увлеченьи бедами своими, Но Данте здесь его остановил. Алигиери звался он недаром, Он с честью имя славное носил, Да был и в родственной связи со старым. Отважен, неподатлив, горд и смел, Он обладал еще особым даром: И боль, и страсть он умерять умел. В глазах подземника заметив муку, Он на него серьезно поглядел И властным жестом только поднял руку, Проговорив спокойно: «Вижу, нет, Еще не пережили вы разлуку С собой земным. Из всех грехов и бед Вы не успели вынести морали. Когда б не это, вы бы мой ответ С поспешностью такой не предваряли. Увидите, что он совсем не тот, Как вы его себе воображали. Он даже вашему наоборот. И к вашим – не ошибкам, преступленьям, Один такой, по-моему, идет. Да, преступлениям. И, без сомненья, Они не лучше, коль не хуже тех, Что от незнанья или от забвенья Творятся на земле. И этот грех Ваш тяжелее, чем теперь на свете – Лежащий камнем на плечах у всех. Вам послано сознание. А эти, Несчастные сыны различных стран, Они теперь как брошенные дети, Иль сами бросившие в океан, Но по невинности, неосторожно, Последний свой, заветный талисман. И сравнивать их с вами – как возможно? Вы скажете: „Но я в моих делах, Пускай они всегда и были ложны, Я действовал один, на свой же страх. Со мною и дела мои пропали. Что на земле от них осталось? Прах!“ Когда и как об этом вы узнали? Не думая нисколько о других, Вы даже их как будто не видали, Так что же можете вы знать о них? А если стало шевелиться то же, Порою тайно, в сердце у иных? Ведь столько их теперь на вас похожих! А если это принято от вас? Что, если вы заворожили ложью Невинных – в некий неизвестный час? Но есть черта. Она непреступима, Хоть преступаема была не раз. А вы – вы хуже. Не прошли вы мимо, Но прежде, чем дано вам умереть, – Так вам черта казалась нестерпима, – Ее всегда пытались вы – стереть. Ее, одну, делящую святое От злого и преступного. Как сметь На это посягнуть? И что другое, Что людям больше может повредить, Чем это дело: тихое – и злое? Я только человек. Не мне судить. Но, кажется, и мгла, и эти стены, Всё нужно было вам, чтоб не забыть, Что ваша жизнь была одной изменой, Одной изменою Тому…» И вдруг Волна вздыбилась дымно-черной пеной, Обоих залила, и всё вокруг. Но унесла с собою, отступая, Лишь одного. Где Данта бедный друг? Чуть виден, как волна его, качая, Уносит вдаль, куда-то в темноту, И, слышно, силился кричать, рыдая Сквозь адскую, должно быть, тошноту: «Любил меня… А я любви не видел… Стереть хотел Его любви черту… Уж лучше бы… меня… Он ненавидел… Всю жизнь изменою… я вел с Ним спор, Но Он любил… а я Его обидел… Меня любил…» – «И любит до сих пор!» – Дант крикнул громко, чтобы, уплывая, Тот правду услыхал. Но Данте, взор В подземную напрасно тьму вперяя, Не различал уж боле никого. Где ж он? И Дант нахмурился, не зная, Услышан ли ответ. «Но ничего, Опомнится когда-нибудь от бреда, Полезно это будет для него». Так кончилась подземная беседа.II
Но тут другой жилец подплыл, качаясь. «Вы сверху, да? Вели вы разговор… – Спросил он Данта, видимо стесняясь. – Я слышал ваш и разговор, и спор, И было мне, сказать по правде, странно. Ведь голоса людского с давних пор Я не слыхал. Лишь волны неустанно Здесь воют. И уж так давно Я сам молчу, средь этой мглы туманной, А мне молчать – совсем не всё равно. Молчание – такое, право, бремя, Особенно когда вокруг темно. Ах, если б здесь у нас хоть было Время! И я, ведь, жду его – и ничего!» «А разве вы не говорите с теми, Кто рядом, здесь? Не проще ли всего? Да иногда неплохо и молчанье, И если бремя – как и для кого!» «Вам чуждо, вижу я, мое страданье! – Ответил тот, качаясь на волне. – Вы оказали первому вниманье, Так почему б не оказать и мне? Моя история – совсем другая, А если вам и кажется извне, Что мы не на земле уже, не там, Где все общаются, а вот бы сели Вы на волну, так стало б ясно вам, Что мы давно друг другу надоели… Печется каждый о себе одном. Недаром тот окончил еле-еле, Начав рассказы о себе самом. Был рад найти не здешнего… Он на земле со мною был знаком, Но я не знал тогда о нем такого, Что вам он откровенно рассказал». «А вы подслушали?» – И Дант сурово Взглянул. Но тот, спеша, ему сказал: «Ах, не сердитесь, это я невольно… И хоть не знал – я всё подозревал. Вас огорчить мне, право, было б больно. Я не подслушал… Да и что о нем!» Но Дант опять прервал его: «Довольно! Хотите рассказать мне о своем – Так говорите!» Данте был расстроен. Ведь все они, должно быть, об одном! Да и жилец казался беспокоен. Ему б уняться и рассказ начать, Так нет, завел: «Я, право, недостоин Подобных подозрений. Я не тать, Но у меня уже такие уши. Я был вблизи, я не хотел мешать, И, не подслушивая, всё же слушал. Однако, вот история моя: Различные мы с этим, первым, души. И я скажу вам, правды не тая, Что если в чем-нибудь мы с ним и схожи В одном, ведь, океане он – и я, – То это видимая лишь похожесть, А на земле я по-иному жил. Пусть наказание одно и то же, Но у меня как будто больше сил. За Время – главная моя расплата Я с ним не очень на земле дружил. Я не считал его напрасной траты, И Время, то, что было мне дано, Я проклинал. Я веровал когда-то, Что мне оно ошибкою дано. Я о другом мечтал, о лучшем, милом, Которому прийти хоть суждено, Да после… С этим же, моим, постылым, Я даже вовсе знаться не хотел. Мне это просто было не по силам. И я проклятий прекратить не смел. Вот Время мне за них и отомстило, С ним справиться я, видно, не умел, Сюда оно меня и засадило, Как водяной сижу какой-то зверь. Ах, если бы оно меня простило! Пусть лишь придет, скажу ему: «Поверь, Я понял здесь, что без тебя мне худо. Прости меня, не прежний я теперь». Да вот, ни Время, и никто оттуда Не приходил сюда, один лишь вы. И я смотрю на вас – ну как на чудо. Боюсь, не потерять бы головы! Хочу еще признаться: ненавидел Не Время только я одно, – увы! – Но все народы на земле. Не видел В их поведеньи правды никакой. Лишь здесь узнал, Кого я тем обидел! А признавал один народ я – свой. Мы были с ним разделены пространством, И уж давно… Но так как был он мой – Его оправдывал я с постоянством Упорным. Быстро находил всему В нем объясненье, даже окаянству, Которое, любя, прощал ему, – С людьми ж имел другое повеленье: Я не прощал почти что никому. Я зло в них видел. Злу же нет прощенья, Бороться надобно со злом всегда. И зачастую я терял терпенье, Что для меня немалая беда; Я, позабыв, что все они мне братья, Не зло, – самих людей громил тогда, И щедро сыпал я на них проклятья. Сказал один какой-то: «Он жесток». Но, не желая этого признать, я Такого слова выдержать не мог, Кричу: «Покорствовать такому веку? Рекой широкой разлит в нем порок! Жестоким надо быть и человеку!» Он что-то о смиреньи… «Это плен! – Я закричал. – Переплывите реку Сначала и убейте зло измен, Потом уж о смиреньи говорите. Атак оно – один словесный тлен. В тлену смиренья – что вы сотворите? А надо творчески любить и жить! Смирением вы зла не победите!» Так и не мог меня он убедить, Что в наше время истина – смиренье. Но я потом задумался: как быть. Какое же мое-то назначенье? Кто сам-то я – пророк или поэт? Я долго думал в этом направленьи. И всё казалось, что ответа нет. Потом пришло мне в голову такое: Примеры есть; и может быть ответ Как раз – что вместе то я и другое. Не вижу ль ясно я начатки зла? Искоренять мне надобно всё злое, Средь зла моя дорога пролегла, Но где оружия, каких мне надо, Бороться с ним, чтобы душа могла Победу получить себе в награду? Я об оружии везде кричал, Кричал, что знаю, и что сердце радо Оружию, какое я избрал. Оно – любовь. Но сам-то я всегда ли Его одно в борьбе употреблял? Я вижу, да, вы верно угадали, Признанием не удивлю я вас: Когда особенно мне возражали, Оружием боролся я подчас Другим, не очень с этим первым схожим, И не один бывало это раз. Да выходило всё одно и то же, А чаще даже ровно ничего, Хоть обличал я с каждым разом строже. И зло вокруг меня росло. Его Без устали во всех искореняя, Я не жалел и тела своего, От тягостных трудов заболевая. Но о любви – не счесть моих речей! Особенно о той, что я, мечтая, Сам ожидал и для себя. О ней Я думал так: «Придет же сокровенный Тот час, когда – о, только бы скорей! – Час встречи с той, кого я совершенной И вечною любовью полюблю. Он будет же, – я верю неизменно И лишь о нем судьбу всегда молю. Тогда, конечно, будет всё иное, И жизнь я надвое переломлю; Я одиночество забуду злое… Свята любовь, когда она одна. А не одна – так это уж другое, Но не любовь. И та, что мне дана В подруги издавна, – ведь я же с нею Так одинок! Пускай меня она И любит с верностью. Но не умею О дорогом я с нею говорить. Своих поэм ей и читать не смею… Нет, лучше вовсе без любви прожить До будущей моей блаженной встречи И с тем же пламенем произносить Мои громящие безумство речи. И, коль придется, жертвенно страдать Да биться средь чужих противоречий. А если и своих? Хотел я звать Людей к Тому, Кого… ведь я увидел, Но только здесь – а раньше мог ли знать? Как вместе с Временем – Его обидел… А на земле я лишь в раздумья час И океан, и эту мглу провидел… Но кажется, я затянул рассказ. Еще одно последнее признанье, И утомлять не стану больше вас. Я приобрел здесь новое сознанье, Но даже в этой мертвой тишине, Осталось у меня непониманье Того, что раз случилось. Странно мне Подумать, почему оно так было. Я кой-чего не помню. Но вполне Вот этот случай сердце не забыло. Вы видели: я столько знал людей, И все ко мне ужасно были милы, Но не знавал я среди них – друзей. Единственный мне другом показался И дружбы удостоился моей. И он ко мне сердечно привязался, Хотя природы был совсем другой. Он наших мыслей дорогих касался И в разговорах был открыт со мной, Но постепенно, сам не понимаю, В моих глазах он стал как бы иной. Стремился вечно я, куда – не знаю, Воображал, однако, что вперед. А он – решил я, – мне не подражая, Застыл на месте, никуда нейдет. И сделался он мне – как все другие, Как те, кого я обличал. И вот – Пришли для дружбы времена иные: Его теперь я также обличал, Что недвижим, что дни его пустые… А он… Он даже мне не возражал, Он только слушал, как всегда спокоен, И тем еще сильнее раздражал. Коль он как все – того же и достоин! Достаточно я всеми угнетен. Ведь я не так, а по-иному скроен. В душе-то знал я хорошо, что он Останется, как прежде, неизменен. Но знал и помнил это, как сквозь сон, И уж жалел, что был с ним откровенен. Так дружба наша и сошла на нет. Он помнит всё, он ей, конечно, верен, Ну а во мне – едва остался след. Да ведь над ним не знает Время власти, Я ж Время не любил, и я – поэт, Я весь в движеньи, в переменах, в страсти. Мне друга жаль, но чем я виноват? Не разорваться ж для него на части! Меня любил, я знаю, он как брат, Но – кончено, не начинать сначала. Пускай он примирится, рад – не рад, И не такая дружба пропадала. Теперь я понял суть ее вполне, И на него не сетую нимало. Здесь, сидючи один, и в тишине, Я не успел понять, в чем было дело, Кой-что в разрыве странно было мне. Теперь же сердце всё раскрыть сумело. Вам рассказав, я понял: друг не знал Меня совсем, хоть много раз, и смело, Он в разговоре это утверждал. Меня он ни пророком, ни поэтом – Сказать по истине – не признавал. Недаром никаким его советам Не думал следовать я никогда. А был ли прав? Да что теперь об этом! Он взят уж от земного… Иногда Его я вижу здесь. Он навещает Какого-то из наших. Но тогда Скользнет как тень и тотчас исчезает, Мне улыбнувшись только. Не пойму, Как это он свободно здесь гуляет? Мне правила известны. Почему Допущено такое отступленье? За что оно позволено ему? Я беспристрастен…» Данте в нетерпеньи Прервал его: «Да бросьте, всё равно! Ведь он уж вам не друг, и, без сомненья, Вам безразлично, что ему дано – Что не дано… Постойте, вы сказали… Я слушаю вас, кажется, давно…» «Да, я кончал, но вы меня прервали. О друге ж я затем упомянул, Чтоб беспристрастие мое вы знали. И вот, скажу: он больше понимал Любовь, чем понимал ее тогда я. Вы знаете, к Кому людей я звал. Я проповедовал Любовь, не зная, Люблю ли я Его, люблю ли сам. И друг советовал, – не упрекая, – Поставить хоть предел своим словам. Он мне шептал – как помню этот шепот! «Вы говорите: „Все Ему отдам…“ Не нужно ли пройти вам раньше опыт?» Не слушал я. За то, что он суров, В душе к нему – досада или ропот, Не слышит он, мол, искренности слов, Моей борьбе и мне всегда мешает… Теперь я должное ему готов Отдать. Я думал, он меня не знает, А знал он всё, и был он прав тогда. Здесь это понял я, но не узнает Мой бывший друг об этом никогда. Оставим же его. Пора, кончаю. Ясна вам жизнь моя, моя беда. Вам ясно также, что теперь я знаю, Как я обидел время и Того, Кого любить хотел, и не прощаю Себе еще покуда ничего. Не я, ведь, создал Время; с ним боренье Бореньем было с волею Его. Ах, всё это единой цепи звенья! И Тот, Кто в жизнь послал меня, на свет, Послал не для такого искушенья, Не для судящего огня – о нет! – А для любви и для огня иного… За это я и дам Ему ответ. Скажите же теперь мне ваше слово. Соседу вы сказали – слышал я, – Сказали правду прямо и сурово. Но я не он. Не та и жизнь моя. Во многом виноват и я, конечно, И сам себе я строгий судия, Но вы… не надо ли вам быть сердечней И милосерднее меня судить? Ужель вам кажется, что бесконечно Могу я в этом подземельи быть? Имейте же немного сожаленья, Вы приговором можете убить Ее – мою надежду на прощенье. А без надежды, даже и в аду, Поверьте мне, и лишнего мгновенья Пробыть нельзя. И я не проведу». Дант слушал океанца, сдвинув брови, А тот опять: «Ответьте же, я жду!» Но Дант молчал, и только всё суровей И строже делалось лицо его. «Уж лучше б обойтись без предисловий, – Сказал он наконец. – Ты ничего Еще не понял! Новое сознанье? Нет, новое – оно не таково! Не понял ты и смысла наказанья. Не увидав его в своей судьбе, Ты – прежний весь. И в этом состояньи Ты с лаской повествуешь о себе. Хотел ты цепь разбить – но целы звенья! Ты вспоминаешь о своей борьбе Там, на земле, – почти что с умиленьем, А вечность друга позабыл легко. И ныне ты – мечтаешь о прощенья?.. Нет, до него, пожалуй, далеко! Тебе осталось здесь немало дела, Не залетай же сразу высоко. Ты и покаяться не мог умело И главного, увы, не мог понять: Ведь надо, чтоб душа твоя посмела Всего совлечься, до пылинки снять, Отречься от того, что было прежде, И быть готовой вечно умирать, Не веря больше никакой надежде… Какие-то слова ты повторял, Но так как в той же, старой, был одежде, Значенья этих слов не понимал. Ты говорил, что, Время проклиная, Не только Время этим обижал. О да, конечно! Зная иль не зная – Тут одинаковый тебе укор, – Ты жил, Того страданья умножая, Кто за тебя страдает – до сих пор… Вся жизнь твоя – лишь самолюбованье, Вот человеческий мой приговор. Ты дал Ему великое страданье…» Тут океанец, что-то вдруг поняв, Вскочив на кучу, с горестным стенаньем В густые волны бросился стремглав И в глубину тотчас же погрузился. Дант недоволен был: «Ну что за нрав! Совсем как мячик в океан скатился. Не вынырнет ли он? Я подожду. Ведь не дослушал, даже не простился… Нехорошо же, если так уйду». Тот вынырнул и, в длительном томленьи, Стенал: «Я понял, понял всю беду! Я был не прав! Не надо мне прощенья! Я не хочу прощения! Клянусь Вот в это незабвенное мгновенье, Что к прежнему себе я не вернусь! Пусть за меня Он больше не страдает. Прощенья не прошу, боюсь, боюсь!» Обрадовался Дант: «Он понимает!» И крикнул уплывающему вслед: «Не бойся! Ты прощен! Он всё прощает!» Прислушался: что ж он? Ответа нет. Волна вернулась и вздыбилась снова. Дант слушает: не будет ли ответ? Но ничего. Ответа – никакого. Еще волна. Лишь пена на гребне. «Нет, моего не услыхал он слова, – Дант проворчал. – Остался в глубине. Я слишком резок был с ним, очевидно, Вот он, бедняга, и погиб в волне… Уж это, право, как-то и обидно. Да у меня – откуда этот пыл? Принялся я за обличенья… Видно, Меня своим он пылом заразил. Ведь первый этого куда похуже, А с ним я все-таки милее был… Какая тьма, однако… Да и лужи… Вот, поживи-ка в эдакой стране! Вода не замерзает, хоть и стужа…» Он прислонился к каменной стене, Всё время сам с собой о чем-то споря: «И нужно было ввязываться мне!» Жалел о неприятном разговоре.Приложение
Владислав Ходасевич. З. Н. Гиппиус. Живые лица*
З. Н. Гиппиус. Живые лица. I и II т.т. Изд. «Пламя». Прага, 1925 г.
«Суд истории нелицеприятен». Да. Но для того, чтобы он был справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить верно, история должна опираться на документы и сведения, добываемые от современников данного лица или события. Без того все ее оценки не стоят ничего. Пока совершается этот «процесс первоначального накопления», историк, в сущности, не может разбираться в качествах собираемого материала. В этом периоде он подобен Плюшкину: его добродетель – жадность. Только после того, как материал накоплен, начинается пресловутый «суд». Дело его – разобраться в документах и показаниях, отделить правду от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами свидетели попадают под тот же суд.
Под общим заглавием «Живые лица» З. Н. Гиппиус собрала свои литературные воспоминания. Отдельными очерками они ранее появлялись в разных журналах и сборниках. Кое-кто из людей, упоминаемых З. Н. Гиппиус, еще живы, иные умерли лишь недавно. Но я не буду касаться вопроса о своевременности появления в печати этих мемуаров. Меж тем как обыватель в ужасе, не лишенном лицемерия, покрикивает: «Ах, обнажили! Ах, осквернили! Ах, оскорбили память!» – историк тщательно и благодарно складывает эти воспоминания в свою папку. Его благодарность – важнее обывательских оханий. Кроме того, наше время, условия нашей жизни – неблагоприятны для рукописей. Сейчас печатание мемуаров – единственный верный способ сохранить их для будущего.
Все это я говорю потому, что на книги З. Н. Гиппиус не могу не смотреть прежде всего как на ценнейший мемуарный материал. Конечно, они написаны в литературном смысле блестяще. Это и сейчас уже – чтение увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью, – от общих характеристик до мелких частностей, от описания важных событий до маленьких, но характерных сцен. Но, несомненно, свою полную цену эти очерки обретут лишь впоследствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним из первоисточников по изучению минувшей литературной эпохи. Пожалуй, точнее сказать: двух эпох.
Сколько людей прошло перед Гиппиус! Плещеев, Вейнберг, Суворин, Полонский, Григорович, Горбунов, Майков, Минский, Андреевский, Чехов, Толстой, Розанов, Брюсов, Сологуб, Блок, Андрей Белый, Игорь Северянин! Один этот перечень (сокращенный к тому же) указывает на огромный круг ее наблюдений. И все эти люди показаны не в недвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний! Тут и пятницы у Полонского, и зарождение и история Религиозно-философских собраний, и среды Вяч. Иванова, и ранние сборища московских декадентов, и редакции «Северного вестника», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Весов».
В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием. Она, видимо, и сама хочет быть мемуаристом, а не историком; свидетелем, а не судьей. Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий. Поэтому сквозь как будто слегка небрежный, капризный говорок ее повествования читатель все время чувствует очень ясно, что ее отношение к изображаемому как было, так и осталось не только созерцательно, но и действенно – и даже гораздо более действенно, чем созерцательно. Таким образом, кроме описанных в этой книге людей, перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус. И если для оценки всяких мемуаров историку методологически важно знакомство с личностью мемуариста, с его положением в круге изображаемых лиц и событий, то в данном случае историк оказывается в особенно выгодном положении: З. Н. Гиппиус дает ему обильнейший материал для суждения о ней самой, не только как об авторе мемуаров, но и как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи. Не жеманничая, не стараясь умалить свою роль, но и не заслоняя своей особой тех, о ком пишет (общеизвестная ошибка многих воспоминателей), З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется, еще далеко не вполне взвешенным нашей критикой. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему историку.
Как современный, так и будущий читатель, быть может, не согласится с некоторыми характеристиками и мнениями Гиппиус. Несомненно, однако, что с ее определениями надо будет весьма считаться. Но если кое на что придется, вероятно, взглянуть иначе, то это – лишь общая участь всех мемуаристов. История всегда располагает большей объективностью и большим запасом сведений, чем отдельный мемуарист. Можно, пожалуй, сказать, что оценки, даваемые мемуаристом, всего важнее для того, чтобы определить только его самого. Их роль вспомогательная, и история почти никогда не принимает их полностью, без поправок. Повторяю, очень хорошо, что Гиппиус дает нам столько характеристик и оценок, но в данном случае это хорошо потому, что мы имеем дело с такой крупной личностью, как Гиппиус. Из рядовых же мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, дает наиболее точные сведения о наибольшем количестве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подробность или случайно упомянутая дата оказываются наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава. И опять-таки, надо быть благодарными З. Н. Гиппиус, что она не поскупилась на подробные сообщения. Эта мелкая россыпь ее сведений в будущем сослужит свою службу.
Хорошо поэтому, что Гиппиус не откладывает писания до тех пор, пока мелочи исчезнут из памяти. Она сама говорит: «боюсь неточностей», и очень хорошо делает, что часто оговаривается: «кажется», «не помню» и т. д.: таким образом, она уменьшает свой риск внести путаницу и ввести в заблуждение. Некоторые неточности, однако же, вкрались. Напр[имер], жена Брюсова – чешка, а не полька; книга рассказов Брюсова, о которой упоминает З. Н. Гиппиус, называлась не «Проза поэта» (такой книги он вовсе не выпускал), а «Земная ось»; изд-во «Альциона» не существовало одновременно с «Весами» и «Золотым руном»; Брюсов жил не «против Сухаревки», а довольно далеко от нее, на 1-й Мещанской, 32; из иностранных писателей участвовал в «Весах» далеко не один А. Жид; как ни угодничал Брюсов перед большевиками, все же, вопреки ходячему мнению, цензором он ни минуты не был; брошюры «Почему я стал коммунистом» он также не выпускал, а только читал лекции на эту тему. В стихотворных цитатах память порядком изменяет З. Н. Гиппиус. Она пишет: «Я долго был рабом покорным», – надо: «Я раб и был рабом покорным». «Месть оскорбителям святынь!» – надо: «Казнь…» «Мне надоело быть Валерий Брюсов» – надо: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов».
В очерке о Блоке измена памяти заставляет З. Н. Гиппиус намекнуть на то, что в стихах, посвященных ей, Блок будто бы написал некстати:
Вам зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал.После этих «скал» она ставит недоуменный вопросительный знак. Однако никакой бессмыслицы Блок здесь не написал, а лишь намекнул на стихи самой З. Н. Гиппиус:
О, Ирландия, океанная, Мной не виденная страна! Почему ее зыбь туманная В ясность здешнего вплетена? Я не думал о ней, не думаю, Я не знаю ее, не знал… Почему так режут тоску мою Лезвия ее острых скал? –и т. д.
Правдивость – главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но – отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная – передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило – не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и его жизни… Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь, – невольная или вольная». В статье «Благоухание седин» этот методологический принцип формулирован так: «Всегдашнее мое правило – держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук – опасно сливаются со сплетнями».
Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда З. Н. Гиппиус отступила от этого правила, – поверила слухам и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Розанова и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гиппиус очень не любит Горького. Может быть, у нее имеются самые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует взваливать то, в чем он неповинен.
Однажды (по-видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказали, что Розанов, живший в Троицко-Сергиевском Посаде, «такой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом – будто бы он расстрелян.
Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание которого она излагает так: «…вы вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам „правительства“ большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю – Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы по крайней мере сообщить, верен ли этот слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей „власти“. Вы когда-то стояли за „культуру“. Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух…»
З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горький, конечно, мне не ответил». Признаюсь, по-моему, он поступил очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее, З. Н. Гиппиус сообщает, будто Горький «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Все это сообщено с чужих слов и – неверно. Горький никому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свободе. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма, сама З. Н. Гиппиус Горького о том не просила. Об этом позаботились другие. И опять – не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клевретов, никаких вообще тайн Мадридского двора. Просто – пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения «Всемирной литературы». За это получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать, «приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать – о Ламартине. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить: она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов, даже не зная, о ком идет речь.
Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Не много» – сообщает З. Н. Гиппиус. Опять – «слух». Деньги передавал дочери Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню, на что тогда шел счет: на сотни, на тысячи или на миллионы. Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (т. е. семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре». Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Розанов в письмах к Гиппиус «все благодарил его» (т. е. Горького). Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «За подачку: на картошку какую-то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.
К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней нищете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены. Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но – мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И – были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не только «собственность Горького всегда была неприкосновенна», как сообщает З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова фактически оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конечно, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это понимали, но понимали и то, что объективных причин голодать было у него меньше, чем у других… Однажды случилась беда. Розанов повез часть коллекции в Москву, кому-то на сохранение. Приехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили, что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки же… очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибедниться, принизиться, да еще после такого удара, – все это было вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему не применимы. Морально – да, но фактически и ложь не становится правдой от того только, что ее произносит Розанов.
Я остановился на этих частностях не для того, чтобы, «начав за здравие, кончить за упокой». Отдельные неточности неизбежны в каждых воспоминаниях. Не портят они и прекрасную, нужную книгу З. Н. Гиппиус. Если же в этой статье мои поправки и дополнения заняли сравнительно много места, то это лишь потому, что всякая детализация всегда пространна.
Раз уж дело пошло о дополнениях, – я сделаю еще одно. Рассказывая о Сологубе и его покойной жене, З. Н. Гиппиус пишет, как они собирались в Париж, но их не выпустили из России. Это не совсем так. Ни З. Н. Гиппиус, ни сам даже Сологуб не знают некоторых подробностей этой истории. Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока – задержать. Узнав об этом, Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо, в котором, хлопоча о Блоке, погубил Сологуба. Содержание письма было приблизительно таково: «Товарищи! Что вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, задерживая Блока, который – поэт революции, наша гордость и о котором даже была статья в „Times'e“! А что такое Сологуб? Это наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционного памфлета „Китайская республика равных“…» Дальше следовали инсинуации, которых я не хочу повторять. Зачем нужно было, обеляя Блока, чернить Сологуба, – тайна Луначарского. Как бы то ни было, его донос на Сологуба я читал в подлиннике. Он датирован, кажется, 22 июня 1921 года. Политбюро ему вняло. Сологуба задержали, а Блоку дали запоздалое разрешение, которым он уже не мог воспользоваться. Осенью, после смерти Блока, заграничный паспорт Сологубам все-таки выдали. Но к этому времени душевные силы Анастасии Николаевны были уже окончательно надорваны. Она несколько раз откладывала отъезд, пока не кончила самоубийством.
Особняком в «Живых лицах» стоит очерк «Маленький Анин домик». В отличие от других он изображает не литературную среду, а обитателей и гостей знаменитого вырубовского домика в Царском Селе. И написан он, в сущности, не по личным воспоминаниям. Непосредственно знакома З. Н. Гиппиус была только с Вырубовой, да и то лишь после революции. Но и не Вырубовой посвящен очерк, а главным образом – Николаю II и Александре Федоровне, отчасти – Распутину. Материалом для него лишь в малой степени послужили рассказы Вырубовой (лживые, – по наблюдениям Гиппиус и по тому впечатлению, которое производит книга вырубовских воспоминаний). В «Маленьком Анином домике» Гиппиус является не мемуаристом, а автором историко-психологического этюда, основанного преимущественно на переписке государя и государыни. В зарубежной печати уже раздавались голоса, негодующие на то, что Гиппиус будто бы оскорбила память этих людей, умученных большевиками. Не могу разделить этого взгляда. Громадная разница между оскорблением памяти и беззлобным, но правдивым изображением той политической и религиозной темноты, в которой, к несчастью, пребывали Николай II и его жена. Мученической смертью они, конечно, искупили свои ошибки, но не сделали их небывшими. З. Н. Гиппиус в своем очерке сделала лишь те выводы и наблюдения, которые, на основании бывшего у нее материала, представляются единственно возможными. И сделала в форме вполне корректной, оставаясь все время в области религии и политики и не вдаваясь в область морали. Если же настаивать на полном применении в истории принципа de mortuis nil nisi bene[136], то историческая наука станет невозможна – потому, между прочим, что с историографической точки зрения сам этот принцип глубоко безнравствен.
Письмо З. Н. Гиппиус к В. Ф. Ходасевичу*
9/15/25
V. Alba, rue Jonquière
Le Cannet
Cannes (A. M.)
Нельзя ли сделать кое-где поправки к вашим поправкам?
«Проза поэта» – название моей статьи (одной «из») о «Земной оси».
«Я долго был рабом покорным» и т. д. – первоначальный текст данного стих[отворения] Б[рюсо]ва, тот, кот[орый] он и читал. Я знаю, что в позднейшем текст был очень изменен, по-моему – к худшему, что я и говорила самому Брюсову.
Я не помню, говорю ли я где-нибудь, что исключительно А. Жид писал в «Весах», а также что «Альциона» сосуществовала с «Весами». «Весы» и «З[олотое] руно» сосуществовали наверное.
Мой вопросительный знак к стихотворению Блока относится не к Ирландии (она очень нравилась Блоку, и мне легко было догадаться, откуда «Ирландия») – но к общенеуместному тону стихотворения в ответ на мое, – при всех данных обстоятельствах.
Затем – о «слухах». Вы, знаете, что это было время, когда все факты были слухами. Не все слухи фактами, правда, но тут уж требовалось, для отбора, обострить свои способности как интуиции, так и рассуждения. Иной раз удавалось угадывать, что потом и подтверждалось фактами. Если некоторых фактов я до сих пор не знаю, то других не знаете вы. (Между прочим – о Сологубе и его «Париже» я кое-что знаю из прямых источников, вам неизвестное, но что я очевидно не могла написать.)
Таким образом, «слуху» о расстреле Розанова не верить причин тогда не было: расстрел Меньшикова тоже дошел в виде «слуха». Я отнеслась, однако, к нему со всей осторожностью, что доказывает мое письмо к Горькому. Вы как будто считаете, что я должна была сразу отнестись к этому слуху как к вздорному и не «оскорблять» Горького предположением, что «дружественное» ему правительство способно на подобные дела. Мне кажется, что если вы действительно это считаете, то оснований у вас к тому нет. Что касается до «нужды» Розанова, «окурков» и т. д. – то здесь мы имели уже не «слухи», а сведения, через близкого к Р[озано]ву человека, детально его положение знавшего, ибо собственными глазами видевшего. «Приспешников» Горького – конечно, не вас и не Гершензона я разумела, – я знала много лет и своими глазами видела, притом не я одна, да и слово-то не мое, но друга Горького (не приспешника).
Теперь еще о правде и лжи. Конечно, ни мне, ни вам не дано знать, «что есть истина». Однако и для меня, и для вас должна быть какая-то общая мера для того, что истина и что ложь. Соглашаюсь, что я тут выхожу из круга фактов – только – фактов или очерчиваю их кругом очень широким. Но – позволим себе на минуту эту небесполезную роскошь, тем более что и факты не будут забыты.
Я хочу сказать, что мы с вами, при взгляде на эпизод «Розанов – Горький», находимся не в одинаковом приближении к «истине», а проще говоря – мы оба «пристрастны», конечно, но мое пристрастие – на стороне объективной правды, ваше – на противоположной. Почему у вас две мерки, для Горького и для Розанова, и, главное, каковы эти мерки? Почему Розанов сам виноват, что голодал, – не хотел продавать свои коллекции, а Горький ни в чем не виноват, хотя не только не продавал свои коллекции, но в то же время усиленно пополнял их? Правдивее была – тогда – мерка, разделение, которого мы придерживались: на покупающих и продающих. Очень глубокое разделение, со смыслом. Что Горький принадлежал к первым – это уже не «слухи»: я видела собственными глазами не только продавцов, но и приспешников-комиссионеров (один из последних – Гржебин), и даже самые «вещи», которые Г[орький] торговал и покупал. Мне очень неприятно говорить об этом; да и вспоминать неприятно, как долго торговался Г[орький] со знакомыми мне стариками за китайский фарфор и как признавался у нас один полячок из Публ[ичной] Библ[иотеки], что несколько «надул» Г[орько]го с порнографическими альбомами, ибо «эти – пяти-то тысяч не стоили, да он не понимает». Да и мало ли еще чего было! Хранить мое тогдашнее «негодование» к Г[орькому] до сих пор – было бы неестественно; я и не храню и, по правде сказать, сейчас Горьким совершенно не занимаюсь, даже в смысле «суда» над ним. Если говорю об этом, то ввиду вашей заботы о какой-то формальной «правде», которую иногда можно искать, лишь удаляясь от «истины».
Если же мы все это, вместе с фактами, оставим и перейдем в область просто-чувств, то нам не о чем спорить: вы больше любите Горького, я – больше Розанова. Можно закончить тем, что право каждого не быть вольным в своих чувствах.
Хочу надеяться, что вы не поймете это письмо как-нибудь превратно и неприятно. Верьте, пожалуйста, неизменности моего уважения и утверждения вашего поэтического дара.
З. Гиппиус
Комментарии
Живые лица*
Тексты сборника печ. по изд.: Гиппиус 3. Живые лица. Выпуск 1–2 Прага: Пламя, 1925.
Мой лунный друг. О Блоке*
Журнал («трехмесячник литературы») «Окно». Париж. 1923. Май. № 1, а также в «Mercure de France». Paris. 1923. 15 янв. (на французском языке) и в газете «За свободу!» Варшава. 1923. 29 мая (фрагмент под названием «Последние встречи с А. Блоком»).
Эпиграф: И пусть над нашим смертным ложем… – Из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие…» (1914), посвященного Гиппиус. Последняя строка у Блока: «Да узрят царствие Твое!»
…тени наших встреч с ним… – Знакомство Гиппиус с Блоком состоялось 26 марта 1902 г. В дневнике Блока до этой встречи есть записи о том, что читал он из напечататанного Гиппиус: это драма «Святая кровь» в «Северных цветах на 1901 год», статья «Критика любви» и стихотворение «Электричество» в журнале «Мир искусства» (1901. № 1 и № 5), рассказ «Среди мертвых» в «Северном вестнике» (1897. № 3) и др. А с 1902 г. они стали переписываться.
Соловьева Ольга Михайловна, урожд. Коваленская (1855–1903) – художница, переводчица. Жена М. С. Соловьева. Двоюродная сестра матери Блока.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, богослов, поэт, критик, публицист. Сын историка С. М. Соловьева.
Соловьев Михаил Сергеевич (1862–1903) – педагог, переводчик, издатель сочинений своего брата Вл. С. Соловьева. Скончался 16 января 1903 г. В этот же день покончила с собой его жена О. М. Соловьева. Их вместе похоронили 18 января в Новодевичьем монастыре, где покоятся также другие члены семьи С. М. Соловьева. Памяти М. С. и О. М. Соловьевых посвятили стихотворения А. Белый («Могилу их украсили цветами…») и А. Блок («Отошедшим»).
Ольга… наткала только один рассказ… – Рассказ О. М. Соловьевой «La beata» (Северный вестник. 1896. № 7).
Боря Бугаев – Андрей Белый (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист.
Семьи Бугаевых и Соловьевых жили тогда на Арбате… – Ул. Арбат, д 55.
Остался сын Сергей… – Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), поэт, прозаик, критик, религиозный публицист, переводчик. Сын М. С. и О. М. Соловьевых, троюродный брат Блока. Друг Андрея Белого. Биограф и издатель сочинений Вл. С. Соловьева, в том числе сборника «Шуточные пьесы Владимира Соловьева» (М., 1922). С 1915 г. (после окончания Троице-Сергиевской духовной академии) диакон. В 1920-х гг. перешел в католичество (с 1926 г. епископ, вице-экзарх католиков греко-российского обряда).
Вошли ли эти робкие песни в какой-нибудь том Блока? – О. М. Соловьева в письме к А. А. Кублицкой-Пиоттух (матери Блока) от 19 сент. 1901 г. называет эти стихотворения: «Ищу спасенья…» (1900) и «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» (1901), а также пишет о том, что «Гиппиус разбранила стихи» (Лит. наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М., 1982. С. 176).
Религиозно-философские собрания в Петербурге были учреждены в ноябре 1901 г. (29 ноября – первое заседание) по инициативе Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, Д. В. Философева, В. С. Миролюбова и В. А. Тернавцева. Председателем стал ректор Духовной академии епископ Сергий Финляндский. Подробные отчеты о заседаниях с 1903 до февраля 1904 г. печатались в журнале «Новый путь». По указанию обер-прокурора Святейшего Синода К П. Победоносцева собрания были закрыты 5 апреля 1903 г. (последнее собрание 20 апреля).
…кто-то позвонил к нам. – Блок познакомился с Мережковскими 26 марта 1902 г.
«Новый Путь» (СПб., янв. 1903 – дек. 1904) – журнал П. П. Перцова (редактора-издателя и основного вкладчика), Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус. В 1904 г. редакторам стал также Д. В. Философов, а секретарем Г. И. Чулков. «Мы стоим на почве религиозного миропонимания, – определял идейную форму издания Перцов. – Мы поняли, что осмеянный отцами „мистицизм“ есть единственный путь к твердому и светлому пониманию мира, жизни, себя» (Новый путь. 1903. № 1).
…серия его стихов о Прекрасной Даме. – В «Новом пути» (1903. № 3) Блок дебютировал десятью стихотворениями «Из посвящений». Цикл под придуманным Брюсовым названием «Стихи о Прекрасной Даме» Блок впервые напечатал в московском альманахе «Северные цветы на 1903 год». А в 1905 г. под таким названием в издательстве «Гриф» вышла его первая книга, в которую он включил 93 стихотворения из почти 750 написанных. Гиппиус опубликовала о книге Блока сдержанную рецензию (Новый путь. 1904. № 12). Восторженные отзывы напечатали Вяч. Иванов (Весы. 1904. № 11) и А Белый (Весы. 1905. № 4).
…приехал к нам… в Лугу. – Блок гостил на даче Мережковских в Заклинье (под Лугой) 21–22 сентября 1902 г.
…в «Трех Встречах»… строчку: «Володенька, да как же ты глюпа!» – Неточная цитата из поэмы «Три свидания» (1898). У Соловьева: «Володинька – ах! слишком он глупа!»
…отец его в прибалтийском крае… – Отец поэта юрист, философ Александр Львович Блок (1852–1909) был профессором Варшавского университета.
…а сестру… почти не знает. – Ангелина Александровна Блок (1892–1918), дочь А. Л. Блока от второго брака.
Вы знаете, что Блок женится? – 17 августа 1903 г. Блок женился на Любови Дмитриевне Менделеевой (1881–1939), дочери великого химика Д. И. Менделеева. В 1908–1921 гг. под фамилиями Блок и Басаргина играла на сцене в труппе В. Э. Мейерхольда, петроградском Народном театре и др.
В это лето мы с Блоком не переписывались. – 17 июня 1903 г. Гиппиус отправила Блоку, принявшему решение вступить в брак, письмо, которое он посчитал оскорбительным, и от Мережковских отстранился. «…К вам, т. е. к стихам вашим, – бесцеремонно писала Гиппиус, – женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены…» (Лит. наследство. Т. 89. С. 171).
…личное горе, постигшее меня… – 10 октября 1903 г. умерла мать Гиппиус Анастасия Васильевна.
С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда, и с Блокам… – Знакомство Гиппиус с А. Белым (Б. Н. Бугаевым) состоялось 6 декабря 1901 г.
…когда, вероятно, и Блок с ним познакомился. – Студент-филолог Петербургского университета Блок, приехавший с женой в Москву, впервые встретился с Борисом Бугаевым (А. Белым), студентом-естественником Московского университета, значительно позже – 10 января 1904 г. Однако «знали» они друг друга задолго до этого и переписывались (оба написали первые письма друг другу почти одновременно – 2 и 3 января 1903 г.). «С А. А Блоком, – вспоминает Белый, – я был уже знаком до знакомства и первую весть об А А. я имею от С. М. Соловьева в 1898, а не то в 1897 году» (Белый А. Воспоминания о Блоке. Журнал «Эпопея». 1922. № 1. Отдельное изд. – М.: Республика, 1995. С. 18). В лице Белого Блок встретил не только друга, но и увлеченного пропагандиста его поэзии, одного из организаторов московского кружка «горячих ценителей Блока». Его стихотворения, вспоминает Белый, «старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати. <…> Официальные представители тогдашнего декадентства иначе совсем относились к поэзии этой: З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский решительно отвергали ее» (Там же. С. 35). Однако вскоре, уже в 1904 г., изменили свое мнение о Блоке и «старшие» символисты.
…кажется «Белая Стрела». – Рецензия Антона Крайнего (З. Гиппиус) «Белая стрела» о сборнике А,Белого «Пепел» была напечатана в «Речи» 29 дек. 1908 г.
«Ты, Петр, камень…» – Из Евангелия от Матфея, гл. 16, ст. 18: «Ты – Петр <камень>, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
…убийство Плеве… – Вячеслав Константинович фон Плеве (18461904) – с 1902 г. министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов, проводивший жесткую политику в борьбе с нараставшим революционным движением. Убит террористом-эсером Е. С. Соэоновым 15 июля 1904 г.
…«веска» Святополк-Мирского… – Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, князь (1857–1914) – генерал от кавалерии. В августе 1904 – январе 1905 г. министр внутренних дел. Предпринял попытку умиротворить оппозицию: ослабил цензуру, подготовил проект реформ (что и было названо его «политической весной»), но реформатор был отправлен в отставку.
…привлечение в журнал «Новый Путь» так называемых «идеалистов» (Бердяева, Булгакова и др.). – В декабрьском номере «Нового пути» за 1904 г. появился анонс: «Журнал выходит при обновленном составе сотрудников. Ближайшее участие принимают: С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев». К атому времени читателям журнала уже были известны имена «идеалистов» Бердяева, Булгакова, а также Н. О. Лосского, П. Н. Новгородцева, С. Л. Франка, Волжского (наст, имя и фам. Александр Сергеевич Глинка; 1878–1940) и др., публиковавшихся в каждом номере. С их приходом меняется идейная платформа «Нового пути», а затем в их руки переходит и руководство журналом (в 1905 г. он стал называться «Вопросы жизни»), Николай Александрович Бердяев (16741948) – философ, критик, публицист. В сентябре 1922 г. выслан из России. В 1925–1940 гг. основатель и редактор парижского журнала «Путь». Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – философ, богослов, экономист, публицист, критик. 17 декабря 1922 г. выслан из России. С 1925 г. один из основателей, профессор и бессменный ректор Православного богословского института в Париже.
Эс-деки – социал-демократы.
Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – прозаик, поэт, критик, философ, мемуарист. С апреля 1904 г. секретарь в журнале «Новый путь». Редактор литературного отдела в журнале «Вопросы жизни». Издавал альманахи «Факелы» (кн. 1–3, 1906–1908), «Белые ночи» (1907), газету «Народоправство» (1917). Автор вызвавших полемику книг' «О мистическом анархизме» (1906) и «Покрывало Изиды» (1909), а также мемуаров «Годы странствий» (1930). Гиппиус подвергла критике «мистический анархизм» Чулкова в статьях-памфлетах «Иван Александрович – неудачник» (Весы. 1906. № 8) и «Анекдот об испанском короле» (Весы. 1907. № в).
«Вопросы Жизни» (СПб., январь – декабрь 1905) – журнал, пришедший на смену закрытому «Новому пути». Редакцию возглавили С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Д. Е. Жуковский, Н. О. Лососий (с середины 1905 г.) и Г. И. Чулков.
…из-за моей статьи о Блоке, первой, кажется. – Рецензия Гиппиус (под псевдонимом X.) на сб. А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (Новый путь. 1904. № 12).
Было ли ото 9 января, или 17 октября… 1-2-3 марта 1917 г. – Дни, названные Гиппиус, действительно «знаменательны»: 9 января 1905 г. расстреляна мирная демонстрация; 17 октября 1905 г. обнародован манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка»; 1 марта 1917 г., после Февральской революции, Временный комитет приступил к формированию Временного правительства.
…стихотворение Блока; где рифмовалось «ниц» и «царицу»? – Имеется в виду последняя строфа стихотворения «Я живу в отдаленном скиту…» (1905):
Но живу я в далеком скиту И не знаю для счастья границ. Тишиной провожаю мечту, И мечта воздвигает Царицу.…участии в газете А. Тырковой… – Газета Тырковой-Вильямс выходила позже тех лет, о которых ведет свой рассказ Гиппиус. «Русская молва» (1912–1913) была основана с участием Блока, прервавшего, однако, связи с редакцией после публикации в ней с купюрами и искажениями его статьи «Искусство и газета» (1912. 9 дек.). Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) – публицист, прозаик, литературовед; член ЦК партии кадетов. С марта 1918 г. в эмиграции. Автор воспоминаний о Блоке и мемуарных книг «На путях к свободе» (Нью-Йорк, 1952) и «То, чего больше не будет» (Париж, 1954).
…театр Комиссаржевской, «Балаганчик». – Имеется в виду постановка лирической драмы Блока «Балаганчик» (премьера 30 декабря 1906 г.), новаторски осуществленная В. Э. Мейерхольдом в петербургском Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской (Театр на Офицерской). Пресса сперва отрицательно отозвалась о спектакле, но вскоре назвала его шедевром, в котором Мейерхольд впервые в режиссерской практике применил прием театра в театре. Спектакли проходили в атмосфере неистовства зрителей. «Будто в подлинной битве закипел зрительный зал, – вспоминал С. А. Ауслендер, – почтенные, солидные люди готовы были вступить в рукопашную, свист и задор, и гнев, и отчаяние; Блок, Сапунов, Кузмин, М-е-й-е-р-х-о-л-ь-д, б-р-а-в-о! – неслись, будто вопли тонущих, погибающих, но не сдающихся» (Ауслендер С. Мои портреты: Мейерхольд // Театр и музыка. 1923. № 1–2. С. 428). Художник Николай Николаевич Сапунов (1880–1912) создал декорации, а поэт и композитор Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) написал музыку к спектаклю.
Выхожу в переднюю. Там… Боря Бугаев. – А. Белый приезжал в Париж зимой 1906/07 г.
…ежедневно завтракал… с ЖоресомI – О своем знакомстве в 1906 г. с известным французским политическим деятелем, социалистом Жаном Жоресом (1859–1914), о каждодневных завтраках и беседах с ним Белый рассказал в газетных публикациях «Жорес», «Из встреч с Жоресом» (обе 1907), а также в мемуарной книге «Между двух революций» (1935) и в очерке «Воспоминания о Жоресе» (1924; 1-я публикация в 1988 г. А. В. Лаврова). Белый тогда же познакомил с Жоресом Гиппиус, Мережковского, Д. В. Философова, Н. М. Минского.
Боря, вчерашний страстный друг Блока… – Этот конфликт поэтов, оказавшихся по разные стороны литературных баррикад (от полного разрыва до полного примирения), нашел исчерпывающее объяснение в их письмах за август – сентябрь 1907 г. (см.: Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. Публикация, предисловие и комментарии А. В. Лаврова. М., 2000. С. 307–345). О разрыве с Блоком в 1907 г., едва не закончившемся дуэлью, и примирении А. Белый рассказывает в мемуарах «Между двух революций» (в главе «С Москвой кончено»), а также в книге «Воспоминания о Блоке» (М., 1995. С. 286–292).
Снова Петербург. – Мережковские возвратились из Парижа летом 1908 г.
Блок читает мне свою драму, самую… неизвестную… – Имеется в виду драматическая поэма «Песня судьбы», над которой Блок работал в 1907–1908 гг. (Шиповник. 1909. № 9); новую ее редакцию поэт завершил и издал в 1919 г.
«Роза и крест» – драма Блока, опубликованная в вып. 1 альманаха «Сирин» (август 1913 г.). Репетиции (их было около двухсот) спектакля в Художественном театре длились с 1916 по 1918 г., но пьеса на сцене так и не появилась. Единственная постановка состоялась в Костромском театре в сезон 1920–1921 гг.
Ты в поля отошла без возврата… – Первые строки стихотворения Блока без названия (1905).
…года проходят мимо. – Неточная цитата-контаминация из стихотворения Блока «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…».
Л. Д. – Любовь Дмитриевна Блок.
…увлеклась театром… – В феврале 1908 г. Л. Д. Блок уехала в Витебск где началась ее гастрольная поездка в труппе В. Э Мейерхольда
Каботинка (от фр. cabotin) – комедиантка
Р.-ф. общество, официально разрешенное. – Религиозно-философское общество было учреждено в Петербурге в 1907 г. по инициативе Н. А. Бердяева. Председателем избрали Д. В. Философова а в 1909 г. А. В. Карташева. В совет общества вошли С. П. Каблуков (товарищ председателя), Н. О. Лососий, П. Б. Струве, С. Л. Франк.
…хотелось привлечь в эту секцию обоих Блоков. – Блок в «Записных книжках» (М., 1965. С. 118–119), вероятно, готовясь к выступлению в обществе, 29 октября 1908 пишет тезисы: «Я захотел вступить в Религиозно-философское общество с надеждой, что оно изменится в корне. Я знаю, что здесь соберется цвет русской интеллигенции и цвет церкви, но и я интеллигент… У церкви мне спрашивать нечего. Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы то ни было путями. Хотя бы прочтением доклада и выслушивания возражений свежих людей». И далее, говоря, что все уже видят «грозовую тучу, которая идет на нас», заключает: «И главное, что я хотел сказать, – это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов теории и быть не может, ибо сама практика насущна и страшна». 13 ноября 1908 г. Блок выступил в Обществе с докладом «Народ и интеллигенция», вызвавшем острую полемику (возмущенный Струве отказался печатать доклад Блока в своем журнале «Русская мысль»).
Встречаю где-то Л. Д-ну. – Речь идет о Л. Д. Блок.
Выбрал несколько одно за другим. – Гиппиус выбранные Блоком стихотворения из 2-й книги «Собрания стихов» опубликовала с посвящениями ему. Среди них – «Она», «Водоскат», «Гроза». Блок посвятил Гиппиус один из своих шедевров – «Рожденные в года глухие…» (1914), а также стихотворение «3. Гиппиус» («Женщина, безумная гордячка!..»; 1918).
…уезжают за границу. – В апреле – июне 1909 г. А. А. и Л. Д. Блок путешествовали по Италии.
«По вечерам над ресторанами…» – Цитируется одно из самых известных стихотворений Блока «Незнакомка» (1906).
О, как паду, и горестно, и низко… – Из стихотворения Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…».
…он женился на московской барышне… – А. Белый в 1910 г. женился на Анне (Асе) Алексеевне Тургеневой (1890–1966), а ее сестра Татьяна Алексеевна (1896–1966) вышла замуж за С. М. Соловьева.
…сделавшись яростным последователем д-ра Штейнера… – Увлечение Белого в 1912 г. антропософией австрийско-немецкого философа-мистика Рудольфа Штейнера (1861–1925) длилось более десяти лет и завершилось разочарованием в ней. В 1917 г. Белый издал свой исследовательский труд «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности».
«Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапертутто» (1914–1916) – издание режиссера, актера Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874–1940). Доктор Дапертутто – один из его псевдонимов. Блок в этом журнале ведал литературным отделом.
«Сирин» (1913–1914) – петербургский альманах (вып. 1–3) одноименного издательства, основанного М. И. Терещенко. В «Сирине» печатались Блок, Белый, Гиппиус, Ремизов, Сологуб. Михаил Иванович Терещенко (1886–1956) – чиновник дирекции императорских театров, издательством «Сирин» владел совместно с сестрами. В 1917 г. Терещенко – министр финансов, министр иностранных дел во Временном правительстве.
«Песня о голоде» («Хата моя черная, убогая…»; 1904) – из стихотворений Гиппиус, посвященных Блоку. Впервые: Современные записки. Париж. 1925. № 25.
…должна была идти, в Александрийском театре, моя пьеса «Зеленое кольцо». – Премьерный спектакль «Зеленого кольца» в Александринке состоялся 18 февраля 1915 г. (постановка В. Э. Мейерхольда). Гиппиус и Блок вместе были на одной из последних репетиций 5 февраля; см. примеч. в т. 4 нашего изд., а также рецензию Н. Тамарина (псевд. Н. Н. Окулова; 1866 – после 1916) о спектакле в журнале «Театр и искусство» (1915. № 8; републикация в кн.: Мейерхольд в русской театральной критике. М., 1997. С. 307–310).
Савина Мария Гавриловна (1854–1915) – актриса петербургского Александрийского театра (с 1874 г.); исполнительница роли Елены Ивановны в пьесе Гиппиус «Зеленое кольцо». Гиппиус – автор мемуарного очерка «Встречи с М. Г. Савиной» (Возрождение. Париж, 1950. № 7).
Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна, урожд. Пашенная (1883–1970) – актриса Малого, Александрийского и др. театров. Исполнительница роли Финочки в пьесе Гиппиус «Зеленое кольцо». С 1925 г в эмиграции в Париже.
У меня в эту зиму, по воскресеньям, собиралось много молодежи… – В воскресные дни зимы 1915/16 г. в доме Мережковских собиралась литературная молодежь. Об этих встречах Гиппиус (под псевдонимом Антон Крайний) рассказала в очерках «Поэзия наших дней» (Париж. Последние новости. 1925. 22 февр.) и «Мальчики и девочки» (Последние новости. 1926. 17 сент.).
…столкнулся у нас с Марией Федоровной (женой Горького). – Об этой встрече Блок 17 апреля 1915 г. записал: «У Мережковских от 5-ти до 10-ти (Дмитрий Сергеевич, Зинаида Николаевна и М. Ф. Андреева). Хорошо. Смертельная душевная усталость» (Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 260–261). Мария Федоровна Андреева (наст. фам. Юрковская, в первом браке Желябужская; 1868–1953) – актриса (с 1898 по 1905 в МХТ). С 1904 г. член РСДРП(б). Гражданская жена М. Горького. В 1919–1921 гг. комиссар театров и зрелищ Петрограда; участвовала в создании Большого драматического театра (вместе с Горьким и Блоком). В 1931–1948 гг. директор московского Дома ученых.
Длинная статья Блока… к изданию сочинений Ап. Григорьева…– Имеется в виду предисловие «Судьба Аполлона Григорьева» к кн.: Стихотворения Аполлона Григорьева. М., 1916. В полемике, вызванной очерком Блока, приняла участие Гиппиус: в сб. «Огни» (Пг., 1916) опубликовала статью «Судьба Аполлона Григорьева (По поводу статьи А. Блока)», предварительно прочитав ее 25 апреля Блоку.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – философ, писатель, критик, публицист. «Ему не могут простить, – писал Блок в статье „Судьба Аполлона Григорьева“, – того, что он сотрудничает в каком-то „Новом Времени“».
…восхвалялись «Новое Время» и Суворин-старик. – Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) – журналист, издатель, владелец петербургской газеты «Новое время» (с 1876 г.), ставшей семейным делом Сувориных: издание продолжили сыновья Михаил Алексеевич (1860–1936) и Алексей Алексеевич (1862–1937).
Поэтом можешь ты не быть… – Измененная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1855–1856). Вторая строка у Некрасова: «Но гражданином быть обязан».
Все это было, кажется, в последний… – Гиппиус цитирует свое стихотворение «А. Блоку» (1918).
…служит в Земско-Городском союзе. – Блок 7 июля 1916 г. был призван в армию и служил табельщиком в инженерно-строительной дружине объединенного Земского и Городского союзов (Земгора).
Дни революции… протопоповские пулеметы с крыши… – Александр Дмитриевич Протопопов (1866–1918), будучи с декабря 1916 до февраля 1917 г. министром внутренних дел и главнокомандующим корпуса жандармов, пытался подавить Февральскую революцию в Петрограде. По его приказу на крышах домов были установлены пулеметы. Расстрелян чекистами.
Связался с издательством одной темной личности – Ив. – Разумника… – Издательство «Скифы» Р. В. Иванова-Разумника (см. примеч. к с. 35).
Без моего погибшего дневника… – Историю потерянной и возвращенной рукописи своего «Петербургского дневника. 1914–1917» Гиппиус рассказала в предисловии «О Синей книге» (Гиппиус 3. Дневники. В 2 т. Т. 1. Сост. А. Н. Ннколюкин. М., 1999. С. 379–382).
…мы уехали на несколько недель на Кавказ. – Гиппиус и Мережковский отдыхали в Кисловодске с апреля по август 1917 г.
Савинков, ушедший из правительства после Корнилова… – Борис Викторович Савинков (1879–1925) – политический деятель, писатель. С 1903 г. один из ливеров боевой организации эсеров, организатор и участник убийств министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. приговорен к смертной казни. Бежал в Румынию, где занялся литературным творчеством (написал романы «Конь бледный» и «То, чего не было»), в 1917 г. управлявший военным министерством во Временном правительстве, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Ушел в отставку после подавления 25 августа 1917 г. мятежа генерала Л. Г. Корнилова (1870–1918). Участвовал в антибольшевистском движении. В 1919 г. выехал за границу. 7 мая 1925 г. покончил с собой в советской тюрьме (по другой версии – убит чекистами).
…До и такой, моя Россия… – Из стихотворения Блока «Грешить бесстыдно, непробудно…» (1914).
Оба писали и работали в «Скифах»… Иванова-Разумника. – «Скифы» (1917–1918) – издательство, выпустившее два одноименных литературно-политических сборника, одним из организаторов которых был Иванов-Разумник (наст, имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 18781946), историк литературы и общественной мысли, публицист, по партийной принадлежности левый эсер. В программных статьях «Поэты и революция», «Две России» («Скифы». 1918. Сб. 2) выступил с проповедью идей максималистского славянофильства, мировой социально-духовной революции во главе с Россией, получивших наименование «скифство». В сборниках «Скифы» публиковался также их соредактор А. Белый (роман «Котик Летаев», статья «Жезл Аарона; О слове в поэзии», стихотворения). О творческих контактах Белого и Иванова-Разумника см. письма (1913–1932), вступительную статью и комментарии к ним А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада в кн.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка СПб., 1998. В автобиографическом очерке «Почему я стал символистом…» (1928) Белый писал: «…не одни литературные вкусы и личная дружба соединили меня с Ивановым-Разумником, темы народа, войны и революции были темами нашего сближения» (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 474).
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – критик, публицист, драматург, с 1917 г. нарком просвещения.
Его поема «12», напечатанная в этих самых «Скифах»… – Поэма «Двенадцать» была опубликована сперва в газете «Знамя труда» (1918. 3 марта) и в журнале «Наш путь» (№ 1), а в мае вышла не в сборнике, а отдельным изданием (Пг.: Скифы, 1918).
«Христос Воскресе» – поэма А. Белого, написанная в апреле 1918 г.; в ней отразился революционный максимализм, родственный пафосу поэмы Блока «Двенадцать».
«…плат узорный до бровей…» – Из стихотворения Блока «Россия» (1908).
«Последние Стихи» (1918) – поэтический сборник Гиппиус (см. т. 5 в нашем над.).
«Все это было, кажется, в последний…» – Получив книгу «Последние стихи», на которой Гиппиус написала это свое стихотворное посвящение, Блок в дневнике 18 (31) мая 1918 г. набросал черновик ответного (неотосланного) письма. В нем выражена идейная позиция, навсегда разделившая Блока с друзьями, которые вскоре окажутся политическими изгнанниками.
«Я отвечаю Вам в прозе, – писал Блок, – потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы – мне; больше, чем лирическое.
Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы – меня; я не обращаюсь поэтому к той „мертвой невинности“, которой в Вас не меньше, чем во мне.
„Роковая пустота“ есть и во мне и в Вас. Это – или нечто очень большое, и тогда – нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, „декадентское“, – тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.
Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное; нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным проснулось главное.
В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то, узел этого замалчиванья завязывался все туже, но эго было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго – оставалось только рубить.
Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает, только это будут уже не те узлы, а другие.
Не знаю (или – знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало – могли быть во много раз больше.
Неужели Вы не знаете, что „России не будет“, так же, как не стало Рима – не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также – не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился?» (Блок А. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. Л., 1982. С. 249–250).
Вместо этого письма Блок Послал Гиппиус свою книгу «Двенадцать. Скифы» (Пг., 1918), на обложке которой написал стихотворение «3. Гиппиус (При получении „Последних стихов“)».
…вам – зеленоглазою наядой… – Из стихотворения Блока «3. Гиппиус (При получении „Последних стихов“)»; 1918).
Подымаю глаза. Блок. – Об этой встрече (с расхождением в датах), ставшей последней, есть запись у Блока (1918 г.): «3 октября. Встреча в трамвае с З. Н. Гиппиус» (Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 430)
Вы, говорят, уезжаете? – Мережковские вместе с Д. В. Философовым и В. А. Злобиным 24 декабря 1919 г. уехали из Петербурга сперва в Гомель, а в январе 1920 г. в Варшаву;
…упрекнул меня сурово за посылку ему моих «Последних Стихов»… – В числе тех, кто упрекнул Гиппиус, была дружившая с нею Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (1875–1943), жена А. М. Ремизова. Гиппиус вынуждена была оправдываться в письме к ней от 5 мая 1918 г.: «Что касается посылки моей книги, то это верно, я могла этого не делать. <…> Жалею об этом, но сознаюсь искренно, что трагического и серьезного значения не придаю, и вот почему (браните меня, я не обижусь!): потому что я не серьезно отношусь к Блоку, не серьезно на него сержусь… Разница в том будет, что я с ним уже не стану лично общаться даже так, как прежде, но ненавидеть его до кровомшенья никак не могу» (Lampel Horst. Zinaida Hippius an S. Remisova-Dovgello // Wiener Slavistls cher Almanach. Bd. I. 1978. S. 175).
…И пусть над нашим смертным ложем… – Из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие…».
Одержимый. О Брюсове*
Окно. 1923. № 2; Дни. Берлин. 1923. 24 июня.
Эпиграф: …Но всех покоряя – ты вечно покорен: // То зелен, то красен, – то розов, то червя… – Из стихотворения Гиппиус «Валерий, Валерий. Валерий, Валерий…», которое она опубликовала в статье «Два зверя» (Новый путь. 1903. № 6). Навеяно стихотворением
A. Белого «Валерию Брюсову» (1903), первая строка которого «Валерий, Валерий, Валерий, Валерий…».
…Брюсов – с 18-го, кажется, года – коммунист. – В компартию большевиков Брюсов вступил в июле 1920 г. «Но я, – рассказывал Брюсов М. А. Волошину за месяц до своей кончины в 1924 г., – исполнял лишь минимум того, что от меня требовалось, и бывал только на необходимейших собраниях. Три раза я уже подвергался чистке и три раза меня восстанавливали снова в правах без всяких ходатайств с моей стороны. В настоящее время партийный билет у меня снова отобран, и я вовсе не уверен, буду ли я восстановлен на этот раз» (Волошин М. А. B. Брюсов. Воспоминания. Фрагменты//Лит. наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. В 2 кн. Кн. 2. М., 1994. С. 396).
…пошел в большевицкую цензурную комиссию…– Брюсов в 1917–1919 гг. возглавлял Комитет по регистрации печати, заведовал московским библиотечным отделом и литературным подотделом (ЛИТО) при Наркомпросе, в круг обязанностей которых входили и цензурные функции. «Ввести прямую цензуру, – вспоминает В. Ф. Ходасевич, – большевики еще не решались – они ввели ее только в конце 1921 года» <Ходасевич В. Книжная палата. Из советских воспоминаний // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 229).
…брошюрка «Почему я стал коммунистом?». – Такой брошюры у Брюсова нет.
…отсылаю к недавно изданной им в Москве книжке стихов… – Имеется в виду сборник: Брюсов В. В такие дни. Стихи 1919–1920. М., 1921. Вероятно, Гиппиус была раздражена многими текстами этого сборника («Третья осень», «К русской революции», «Серп и Молот» и др.), высокопарно слав явившими Октябрьский переворот большевиков и гражданскую войну.
«Северный Вестник» (СПб., 1885–1898) – ежемесячный литературно-научный и политический журнал. После того как в 1891 г. редакцию возглавили Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынский, в журнале стали активно публиковаться символисты (среди них З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Ф. Сологуб, К Д. Бальмонт).
«Chefs d’oeuvre» («Шедевры»; 1895) – первая книга стихов Брюсова, которую он в предисловии назвал «сборником своих „несимволических“ стихотворений» и эпатажно завещал ее «вечности и искусству». В письме к В. К Станюковичу от 17 сентября 1895 г. Брюсов сообщает. «Вышли мои „Шедевры“. Эффект их появления был весьма значительным, но и весьма печальным. Против меня восстали все, даже и те, которые убедительно торопили меня напечатать эту мою книжку. Бесконечно возмутило всех предисловие. Сознаюсь, я там пересолил немного, но ведь надо стать в положение человека, которого полтора года безустально ругали во всех журналах и газетах» (Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. Т. 1. М., 1973. С. 572–573).
…календарь Гатцука: предсказания Брюса на такой-то год. – Имеется в виду иллюстрированный «Крестный календарь» публициста и издателя Алексея Алексеевича Гатцука (1832–1891), издававшийся ям с 1866 г. (программа издания была разработана совместно с В. И. Далем, М. П. Погодиным и О. М. Бодянским). Яков Внлимович Брюс, граф (1670–1735) – генерал-фельдмаршал. Составитель знаменитого «календаря Брюса» (1709), прославившего его имя как основателя календарного дела в России. Неразлучный спутник Петра I в его походах, Войнах и путешествиях. Уйдя в отставку в 1726 г., занялся переводческой, издательской и научной деятельностью (он был одаренным астрономом, математиком, инженером, ботаником, минералогом, географом).
…с Брюсовым познакомились в Петербурге, у нас. – Дату знакомства с Мережковскими называет Брюсов: 8 декабря 1898 г. (Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 53). В конце 1902 г. Мережковские предложили Брюсову стать секретарем журнала «Новый путь», однако москвич предложение отклонил, но участвовал в организации его издания и опубликовал в нем несколько статей.
…Брюсов, вместе с молодым Поляковым, создает журнал «Весы»… – Сергей Александрович Поляков (1874–1942) – пайщик семейной Знаменской мануфактуры, меценат, библиофил, переводчик (с семи языков) К. Гамсуна, Г. Ибсена, С. Пшибышевского и др. В 1897 г. окончил математическое отделение Московского университета с дипломом первой степени. Владелец московского издательства «Скорпион» (1900–1916), журнала «Весы» (1904–1909) и альманаха «Северные цветы» (19011903, 1904, 1911; пять выпусков). Ведущим автором (в 1904–1905 гг. около 140 его публикаций) и фактическим руководителем в «Весов» был В. Я. Брюсов, сделавший журнал главным изданием русских символистов. Его ближайшими сотрудниками стали А. Белый, Вяч. И. Иванов, К. Д. Бальмонт, М. А. Волошин.
…он пушкинист) поклонник забытого Тютчева и отошедшего в тень Фета. – В «Скорпионе» и его альманахе Брюсов напечатал книги «Письма Пушкина и к Пушкину» (1903), «А. С Пушкин: Труды и дни: Хронологические данные, собранные Николаем Лернером» (1903), «Лицейские стихи Пушкина. По рукописям Московского Румянцевского музея и другим источникам. К критике текста» (1907), а также записки Ф. И. Тютчева, стихи и письма А. А. Фета и др.
…«Северные Цветы», названные ток в намять пушкинских… – Название своих сборников С. А. Поляков заимствовал у литературного альманаха «Северные цветы» (1825–1831), составлял и редактировал который Антон Антонович Дельвиг (1798–1831), близкий лицейский друг А. С. Пушкина. В семи книжках альманаха Пушкин напечатал около 40 своих произведений.
«Славянский базар» – гостиница (1872) с рестораном на Никольской ул. в Москве, излюбленное место встреч деятелей культуры рубежа XIX–XX вв. Здесь 21 июня 1898 г. К С Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко приняли решение об открытии Московского Художественного театра (МХТ).
…«раздувать мировой пожар» на «горе всем буржуям!» – В кавычках неточные цитаты из поэмы Блока «Двенадцать». У Блока: «Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем…».
Жена его… полька… – Иоанна (Жанна) Матвеевна Брюсова, урожд. Рунт (1876–1965) была, как уточняет Ходасевич (см. в Приложении), чешка.
Известный московский «Кружок»… – Литературно-художественный кружок в Москве (1899–1920). В 1908–1910 гг. председателем дирекции кружка был В. Я. Брюсов.
Бугаев Николай Васильевич (1837–1903) – профессор и декан физико-математического факультета Московского университета. Отец Андрея Белого (Б. Н. Бугаева).
Я долго был рабом покерным… – Неточная цитата из баллады «Раб» (1900). У Брюсова: «Я – раб, и был рабом покорным…» и последняя строка: «Казнь оскорбителям святынь!»
Брестский вокзал – ныне Белорусский.
«Неуместные рифмы» – два стихотворения Гиппиус, опубликованные под атом названием («Северные цветы». Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911).
Сологуб. Федор (наст, имя и фам. Федор Кузьмич Тетерников; 18631927) – поэт, прозаик, драматург, публицист.
Неколебимой истине…– Из стихотворения Брюсова «З. Н. Гиппиус» (1901)
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, философ, филолог, переводчик. Основатель издательства петербургских символистов «Оры» (1907). Один из вождей и теоретиков символизма. Хозяин петербургского литературного салона («ивановские среды»; см. о них ниже).
У «Весов» появились соперники в виде «Золотого Руна» и других «эстетических» журналов. – В литературной полемике символистов активно соперничали журналы «Весы», «Золотое руно», «Искусство» (1905) и выходивший под редакцией С. А. Соколова (Кречетова) «Перевал» (М., ноябрь 1906 – ноябрь 1907), а также сборники Г. И. Чулкова «Факелы» (Кн. 1–3. СПб., 1906–1908).
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – прозаик, драматург, публицист.
«Проза поэта» – рецензия Гиппиус на сборник Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены. 1901–1906» (три издания: 1906, на титуле 1907; октябрь 1910; ноябрь 1910, на титуле 1911), опубликованная не в «Русской мысли», а в журнале «Весы» (1907. № 3) и включенная в книгу «Литературный дневник» (1908). В предисловии к 1-му изд. Брюсов писал: «Киша, которую я предлагаю читателю, составляет итог почти десятилетней работы. За эти годы я несколько раз собирал в отдельные сборники свои стихи, но лишь впервые нахожу возможным сделать это со страницами своей художественной прозы, Из более чем двадцати рассказов, напечатанных мною в разных изданиях, я выбрал семь, которые, как мне кажется, имеют некоторое право быть сохраненными. Я присоединил к ним свои драматические сцены „Земля“, появившиеся два года назад в альманахе, считая их написанными скорее для чтения, чем для театра». Получив в Париже книгу, присланную автором, Гиппиус 8 января 1907 г. ответила: «Я не равно отношусь к Вашей прозе – некоторое мне очень нравится, другое также очень, не нравится. <…> Это непосредственное чувство можно бы разложить, субъективно утвердить и осмыслить, если б „Весы“ пожелали моей заметки о „Земной оси“».
И все моря, все пристани…– Неточная цитата из стихотворения Брюсова «З. Н. Гиппиус». У Брюсова – «И все моря, все пристани // Люблю, люблю равно».
На той «среде» Вяч. Иванова… – Первая «Среда» у В. И. Иванова и его жены писательницы Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1866, по др. сведениям 1865–1907) состоялась 21 сентября 1905 г. в их петербургской квартире из Таврической, 25 (на «Башне»). Ивановские журфиксы стали лучшим литературным салоном Серебряного века, привлекшим не только писателей, но и актеров, музыкантов, художников. Здесь читались стихи, доклады, велись дискуссии и даже ставились спектакли. Постоянными участниками «сред» были А. А. Блок, Ф. Сологуб, М. А. Кузмин, А. М. Ремизов, М. А. Волошин, Г. И. Чулков, К А. Сомов, Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере, В. Ф. Нувель, М. В, Добужинский, З. И. Гржебин. Из москвичей здесь бывали А. Белый, Б. Я. Брюсов, Б. К. Зайцев и др. Встречи на «Башне» продолжались до лета 1912 г., когда хозяин салона уехал в Италию.
…Брюсов… прочел целый цикл… некрофильских стихов. – Вероятно, цикл «Веянье смерти», вошедший в трижды переиздававшийся (с изменениями и дополнениями) сборник Брюсова «Me eum esse» (лат.: «Это – я»; 1897).
«Русская Мысль» перешла тогда в заведование П. Б. Струве, Киэеветтера, Фретка и других. – Один из самых популярных журналов «Русская мысль», основанный в 1880 г., редактировался Виктором Александровичем Гольцевым (1850–1906); после его кончины издание возглавили Струве, Киэеветтер и Франк. Заведовать литературным отделом согласились Мережковские (кроме поэзии, которой стал ведать Брюсов, ушедший из закрывшихся «Весов»). Петр Бернгардович Струве (18701944) – политический деятель, философ, экономист, историк, публицист. Лидер российского либерализма Участник сборника «Вехи» (1909) и инициатор сборника «Из глубины» (1918), вызвавших острую полемику. Автор трудов по социально-экономической истории России, проблемам российской интеллигенции и др. После Октябрьского переворота один из идеологов Белого Движения. С 1920 г. в эмиграции. Редактор журнала «Русская мысль» (Прага, 1922), газеты «Возрождение» (Париж, 19251927) и др. Александр Александрович Киэеветтер (1866–1933) – историк, публицист, политический деятель, театровед. Автор мемуаров «На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914» (Прага, 1929). В августе 1922 г. выслан из России. Семен Людвигович Франк (1877–1950) – религиозный философ. В 1922 г. выслан из России.
…поражение с одним толстым журналом… вкупе с кружком Кусковой и Богучарского… – Речь идет о неудавшемся приобретении у И. М. Василевского его изданий. Гиппиус 12 сентября 1908 г. писала Блоку об этом как о деле состоявшемся: «С сегодняшнего дня журнал „Образование“ и газета „Утро“ окончательно перешли в наши руки и будут издаваться оба под редакцией одного и того же „редакционного комитета“ (чисто политической и экономической частью заведуют Богучарский и Прокопович)». Екатерина Дмитриевна Кускова, в замужестве Прокопович (1869–1958) – общественный и политический деятель, публицист, издательница, мемуаристка. После Октябрьского переворота издавала в Москве оппозиционную большевикам газету «Власть народа». В 1922 г. вместе с мужем С. Н. Прокоповичем выслана за границу. Василий Яковлевич Богучарский (наст. фам. Яковлев; 1861–1915) – историк революционного движения в России, публицист. Один из Основателей газеты «Наша жизнь» (1904–1906), профессионально-политического «Союза Союзов» (вместе с Кусковой) и «Шлиссельбургского комитета» помощи бывшим узникам (1905–1907). В 1906–1907 гг. вместе с П. Е. Щеголевым и В. Л. Бурцевым редактор-издатель журнала «Былое» (после его запрещения «Минувшие годы»). Составитель (под псевдонимом Б. Базилевский) трехтомного сборника документов «Государственные преступления в России в XIX в.» (Штутгарт, Париж, 1903–1905).
Василевский Илья Маркович (псевд. Не-Бухва; 1882/83-1938) – фельетонист, критик, журналист. В 1907–1911 гг. издатель «понедельничной» газеты либералов «Свободные мысли» (в 1908–1909 называлась «Утро»), журнала «Образование» (1908–1909), «Журнала журналов» (1915–1917). В 1920-м эмигрировал, но в 1923 г. вместе с А. Н. Толстым возвратился в Россию. Автор книги «Белые мемуары» (Пг., 1923), в которой, вторя большевистским идеологам, бездоказательно заявил: «Эмигрантские писатели – Ив. Бунин, Д. Мережковский, А. И. Куприн молчат. Они поражены тяжелой болезнью – бесплодием». Безвинно репрессирован.
Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) – художник-карикатурист и график. В 1906 г. основал в Петербурге вместе с С. Ю. Копельманом частное издательство «Шиповник», выпускавшее одноименные альманахи (1907–1916), а также «Северные сборники» (1907–1911), «Сборники литературы и искусства», «Историко-революционный альманах» (1908). С 1921 г. в эмиграции. Основатель «Издательства 3. И. Гржебина» (Пг.; М.; Берлин, 1919–1923),
«Альциона» (1910–1923) – московское издательство библиофила Александра Меяентьевича Кожебаткина (1884–1942), с которым сотрудничали В. Я. Брюсов, А. Белый, Б. А. Садовской, М. С. Шагинян и др. Его книги отличались высоким художественным и полиграфическим уровнем, иллюстрировались С. Т. Коненковым, М. С. Сарьяном, К. Ф. Юоном, Н. С. Гончаровой, Г. Б. Якуловым и др.
…о дуэли Брюсова с этим редактором. – Имеются в виду резко обострившиеся в 1907 г. отношения редактора «Весов» Брюсова с редактором-издателем журнала «Золотое руно» Николаем Павловичем Рябушинским (1876–1951).
Дольше держались… «Северные Цветы»-. – Последний выпуск альманаха состоялся в 1911 г.
Тугая-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) – экономист, историк, представитель «легального марксизма».
…«Тройка» Блока имела вид «статьи». – Имеется в виду статья-доклад Блока «Россия и интеллигенция» (Золотое руно. 1909. № 1), в которой использован образ России – летящей тройки из «Мертвых душ» Гоголя. Струве отказался публиковать статью Блока в своей «Русской мысли», что стало причиной ухода Мережковских из журнала. Вместо них в 1909–1912 гг. литературным отделом стал заведовать Брюсов.
…сборника стихов под таинственным псевдонимом «Нелли». – Имеется в виду сборник Брюсова «Стихи Нелли» (М., 1913), посвященный Н. Г. Львовой, которой Брюсов был увлечен (см. о ней ниже).
…пошлю их Брюсову. – Гиппиус в 1910 г. послала стихи юного Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) Брюсову, ведавшему поэзией в «Русской мысли». Однако тот их отверг. Первая подборка стихов Мандельштама появилась в журнале «Аполлон» (1910. № 9). О том, как познакомились Гиппиус и Мандельштам, рассказала его жена Надежда Яковлевна: «Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат, тогда она с ним поговорит, а пока что не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.)
Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть „Зинаидин жиденок“» (Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990. С. 29–30).
…на первой странице… посвящение дарителя. – Имеется в виду стихотворение Брюсова «З. Н. Гиппиус», включенное им в трехтомник «Пути и перепутья» (Т. 3. 1909).
…в заказанной ему статье, в «Истории Русск. Литературы»… – Имеется в виду очерк Брюсова «З. Н. Гиппиус», вошедший в сборник под ред. С. А. Венгерова «Русская литература XX века». Т. 1. М., 1915 (см. т. 5 в нашем изд.).
…Брюсов… злоупотребляет наркотиками…– Об этом вспоминает и Ходасевич: «Еще с 1908, кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться – но не мог. Летом 1911 года д-ру Г. А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло» (Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. С. 40–41).
Бейлис Менахем Мендель (1874–1934) – приказчик киевского кирпичного завода, обвиненный в 1911 г. в ритуальном убийстве православного мальчика А Ющинского. Оправдан в 1913 г. судом присяжных. «Дело Бейлиса» вызвало антисемитскую кампанию. Воззвание «К русскому обществу» (Речь. 1911. 30 нояб.; перепечатано многими газетами) «против вспышки фанатизма и темной неправды» подписали 82 писателя и общественных деятеля. Среди них – Л. Андреев, Блок, Гиппиус, Горький, Вяч. Иванов, Короленко, Мережковский, Ф. Сологуб и др.
…об исключении В. В. Розанова из числа членов О<бщест>ва… – Одним из поводов исключения стада позиция Розанова В «деле Бейлиса» (ее сочли антисемитской), которую он выразил в статьях, позже составивших его книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914). Обществу понадобились два шумных заседания (19 И 26 января 1914 г.), чтобы решить этот вопрос «Возмущение всеобщее, – вспоминал М. М. Пришвин, – никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти а голову исключить основателя Религиозно-Философского общества, выгнать Розанова из единственного уголка русской общественной жизни, в котором видно действительно человеческое лицо его, ударить, так сказать, прямо по лицу» (цит. по Николюкин А. Н. Голгофа Василия Розанова. С. 413).
…застрелилась молодая, скромная поэтесса… – Надежда Григорьевна Львова (1891–1913), автор сборника «Старая сказка» (1913; с предисловием Брюсова). Застрелилась из браунинга, подаренного ей Брюсовым. См. об этом подробно в книге Ходасевича «Некрополь» (очерк «Брюсов»).
…чествовать заезжего гостя – Верхарна. – Бельгийский поэт, драматург и критик Эмиль Верхарн (1855–1916) приезжал в Петербург и Москву в конце 1913 г. К этому времени в России были изданы многие сборники его стихов в переводах В. Я. Брюсова («Стихи о современности». М.: Скорпион, 1906), А А Блока, М. А Волошина и др. О личных связях Брюсова и Верхарна см. вступительную статью Т. Г. Динесман к их переписке (Лит. наследство. Т. 85. С. 546–559).
Андрэ Жид (1869–1951) – французский поэт, прозаик, публицист. Лауреат Нобелевской премии (1947).
«Бесы» (1872) – роман Ф. М. Достоевского.
Игорь Северянин (наст, имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 18871941) – поэт; один из вождей эгофутуризма. Первый сборник стихов «Громокипящий кубок» (1913) вызвал эпатажный интерес и за два года выдержал семь изданий.
Игорь «признает»… Лохвицкую… – Северянин, восторженно относившийся к поэзии Мирры (Марии) Александровны Лохвицкой (18691905), посвятил ей несколько стихотворений в том числе «И она умерла молодой…», «Траурная элегия», «Симфония» (все. 1909), «Пролог» («Прах Мирры Лохвицкой осклепен…»; 1911), «27 августа 1912» и др.
А я и Мирра в стороне… – Из стихотворения «Поэза вне абонемента» (1912).
«Бы такая экстазная, вы такая вуахьная…» – Гиппиус иронично искажает строки стихотворения Северянина «Кензель» (1911). У Северянина; «Вы такая эстетная. Вы такая изящная…».
Я, гений Игорь Северянин… – Из стихотворения «Эпилог» (1912). У Северянина «повсеградно оэкранен».
…сказал: я буду! // Год отсверкал, и вот – я есть! – Из стихотворения «Эпилог».
У Сологуба (он тогда очень возился с новоявленным поэтом)… – Сологуб написал предисловие к первому сборнику Северянина «Громокипящий кубок» (1913) и совершил с ним концертно-лекционные поездки по стране.
Мне надоело быть «Валерий Брюсов…» – Неточная цитата из стихотворения «L’ennui de vivre…» (фр. «Скука жизни»; 1902). У Брюсова: «Желал бы я не быть „Валерий Брюсов“».
…кругом бездарь, // И только вы, Валерий Брюсов, // Как некий равный государь… – Неточная цитата из стихотворения Северянина «Прощальная поэза. Ответ Валерию Брюсову на его послание» (1912). У автора: «Вокруг талантливые трусы и обнаглевшая бездарь…».
Поэты; не пишите слишком рано… – Из стихотворения Гиппиус «Тише!» (1914).
«Бисмарк – солдату русскому на высморк». – Из стихотворения Северянина «Германия, не забывайся!» (1914).
…в автомобиле ездит на фронт… – Брюсов в 1914–1915 гг. выезжал в прифронтовые районы в качестве военного корреспондента московской газеты «Русские ведомости».
…«еще не значит быть изменником»… – Из стихотворения Северянина «Еще не значит…» (1914).
…тогда ваш нежный, ваш единственный… – Из стихотворения Северянина «Мой ответ» (1914).
Керенщина – время правления в 1917 г. Александра Федоровича Керенского (1881–1970): с июля он министр-председатель Временного правительства, с августа – главнокомандующий, в сентябре возглавил «Директорию».
…первый писатель, перешедший к большевикам… был старец Иероним Ясинский. – Прозаик, поэт, публицист Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1931) о событиях 1917 г. вспоминал: «Выбитый из седла февральскою революцией, – я был посажен в седло Великим Октябрьским переворотом» (Ясинский И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 328). С 1918 г. Ясинский активист Пролеткульта, редактирует «Красный огонек» и «Пламя», публикует революционную поэму «Последний бой».
…не более Хлестакова, написавшего «Юрия Милославского»… – Герой комедии Гоголя Хлестаков в пылу хвастовства заявил, что знаменитый исторический роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» написал он. Однако, уличенный, спохватывается: «Ах, да… это точно Загоскина; а есть другой „Юрий Милославский“, так тот уж мой».
И Пушкин… не мог найти созвучий, соответствующих русскому языку: их нашел Маяковский. – Размышляя о новаторстве Маяковского, Брюсов писал: «…он же был одним из творцов новой рифмы, ныне входящей в общее употребление, как более отвечающей свойствам русского языка, нежели рифма классическая (Пушкина и др.)» (Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Собр. соч. В 7 т. Т. 6. М., 1975. С. 517).
Маленький Анин домик. Вырубова*
Современные записки. 1923. № 17.
Вырубова Анна Александровна, урожд. Танеева (1884–1964) – фрейлина (с 1904 г.) и подруга императрицы Александры Федоровны. С 1920 г. в эмиграции. Автор книги «Страницы моей жизни» (1922).
Распушим (наст. фам. Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865, по др. сведениям 1872–1916) – крестьянин Тобольской губернии, занимавшийся прорицаниями и исцелениями; завоевал доверие императрицы Александры Федоровны и Николая II тем, что ему удавалось помогать больному гемофилией царевичу Алексею. Убит заговорщиками,
…Алису в православии нарекли Александрой. – Александра Федоровна (наст, имя Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская; 1872–1918) – российская императрица, жена Николая II с 1894 г. Расстреляна большевиками с семьей. Канонизирована Русской православной церковью за рубежом.
…к нам на дачу приехал редактор газеты «День»… – 'Редактировал «День» С. П. Скворцов. На дачу к Мережковским, вероятно, приезжал Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), литературовед, историк, заведовавший в газете литературным отделом.
…жила когда-то очаровательная женщина. – Имеется в виду баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон Гильдебранд, урожд. Лутковская (1850–1928) – прозаик, издательница, меценатка, хозяйка популярного в 1880-1900-х гг. петербургского литературно-политического салона. Мережковский в 1886–1887 гг. посвятил красавице Икскуль цикл стихотворений, а Репин в 1889 г. написал ее портрет (в Третьяковской галерее). В 1912–1913 гг. – сестра милосердия в Болгарии, в 1-ю мировую войну организатор лазаретов и санпоездов. Награждена Георгиевским крестом. С 1922 г. в эмиграции.
Репин Илья Ефимович (1844–1930) – живописец.
Ге Николай Николаевич (1831–1895) – живописец.
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – художественный и музыкальный критик, историк искусства.
Урусов Александр Иванович, князь (1843–1900) – известный в Москве адвокат, переводчик, литературный и художественный критик, друживший с Гиппиус.
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/48-1918) – поэт, критик, переводчик, юрист. Автор мемуарной «Книги о смерти. Мысли о смерти» (Т. 1–2. Ревель; Берлин, 1922). Некоторые черты личности Андреевского Мережковский использовал в образе Петрония из романа «Юлиан Отступник». Андреевский также персонаж романа Горького «Жизнь Клима Самгина».
…одряхлев, был сочтен достойным поста премьера… – Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917) с января 1914 по январь 1916 г. был председателем Совета министров.
Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов; 1880–1952) – иеромонах, один из организаторов «Союза русского народа». Прославился скандальными обличениями Г. Е. Распутина, антисемитскими выступлениями и выпадами против интеллигенции. В конце 1912 г. Св. Синод удовлетворил его прошение о снятии с него сана. В 1914 г. бежал за границу. Автор книги «Святой черт» (о Распутине).
Щетинин Алексей Григорьевич (1854 – после 1916) – глава секты «Ответвления Старого Израиля», автор сектантских брошюр и листков.
Варнава (в миру Василий Накропин; 1859–1924) – архиепископ Тобольский и Сибирский.
«Штандарт» – яхта Николая II.
Гедройц Вера Игнатьевна (1876–1932) – хирург, поэтесса, прозаик (печаталась под псевдонимом Сергей Гедройц). Участница русско-японской и 1-й мировой войн. В 1909–1917 гг. старший ординатор Царскосельского и Павловского госпиталей. С 1923 г. профессор Киевского мединститута.
Николай Николаевич, младший (1856–1929) – великий князь, внук Николая I. С началом 1-й мировой войны верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами. С марта 1917 г. в эмиграции.
Гр. – Григорий Распутин.
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904) войн. В 1-ю мировую войну начальник штаба Ставки, в марте – мае 1917 г. верховный главнокомандующий. После большевистского переворота на Дону организатор и «верховный руководитель» Добровольческой армии. Скоропостижно скончался от болезни сердца.
Саблин Николай Павлович (1680-?) – контр-адмирал; в 19161917 гг. командир – яхты Николая II «Штандарт».
Смещения ненавистною Самарина… – Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932) – член Государственного совета (с 1912). С началом 1-й мировой войны главный уполномоченный Всероссийского Красного Креста. В июле – сентябре 1915 г. обер-прокурор Святейшего Синода; снят за активное противостояние Распутину.
Раев Николай Павлович (1856 – после 1917) – церковный деятель. С 1885 г. служил в ведомстве министерства народного просвещения, с 1905 г. директор Высших женских историко-литературных и юридических курсов. В августе 1916 г. благодаря поддержке Распутина был назначен обер-прокурором Святейшего Синода.
Питирим (в миру. Павел Окнов; 1858–1921) – с ноября 1915 г. митрополит Петроградский, и Ладожский.
…гибель Китченера. – Британский военный министр, фельдмаршал Горацио Герберт Китченер (1850–1916) погиб во время взрыва крейсера «Хэмпшир» на пути в Россию.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – генерал от кавалерии! в 1918 г., будучи главкомом армиями Юго-Западного фронта, провел успешное наступление (Брусиловский прорыв), приведшее к разгрому австро-венгерских войск. В мае – июле 1917 г. верховный главнокомандующий. С 1920 г в Красной Армии.
«Вилла Роде» – петербургский ресторан.
Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) – в 1906–1912 гг. Вологодский, Нижегородский губернатор. Депутат Государственной думы 4-го созыва, один из лидеров «Союза русского народа». С 1915 г. управляющий министерством внутренних' дел и шеф Отдельного корпуса жандармов. Расстрелян большевиками.
Андроников Михаил Михайлович (1875–1919) – авантюрист из окружения Распутина.
Белецкий Степан Петрович (1873–1918) – в 1914–1915 гг. директор Департамента полиции, в 1915–1916 гг. товарищ министра внутренних дел. Арестован и расстрелян по указанию Временного правительства.
Штюрмер Борне Владимирович (1848–1917) – государственный деятель. В 1894–1896 гг. Новгородский, в 1896–1902 гг. Ярославский губернатор. Член Государственного совета (с 1904). В январе – ноябре 1916 г. председатель Совета министров, с марта по июль – министр внутренних дел и главноначальствующий Отдельным корпусом жандармов, с июля по ноябрь – министр иностранных дел. 28 февраля 1917 г. арестован. Умер в заточении. Мережковские встречались с ним в 1902 г. во время поездки к озеру Светлояр.
Иванов Николай Иудович (1851–1919) – генерал от артиллерии (1908). С июля 1914 г. главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. В 1916 г. освобожден и назначен членом Государственного совета. Во время Февральской революции главнокомандующий войсками Петроградского военного округа с чрезвычайными полномочиями (с подчинением ему всех министров). Дряхлому старику поручили непосильную ношу – стать диктатором, чтобы остановить беспорядки в столице.
Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829–1908) – протоиерей Андреевского собора в Кронштадте; популярный проповедник и благотворитель. В 1990 г. канонизирован Русской православной церковью.
…Гурлянда он… посадил на тепленькое местечко… – Гурлянд Илья Яковлевич (1868 – после 1921) – прозаик, драматург, критик, публицист, историк. В 1906–1914 гг. редактор официозной правительственной газеты «Россия». В 1907–1917 гг. член совета министра внутренних дел. Гурлянда продвигал по службе Штюрмер; в пору своего премьерства, в 1916 г., поставил журналиста во главе всей информационной службы России, а также директором Петроградского телеграфского агентства (ПТА).
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – в 19071917 гг. депутат Г осу дарственной думы. В сентябре 1916 г. по протекции Распутина стал министром внутренних дел и главноначальствующим Отдельным корпусом жандармов. Основатель монархической газеты «Русская воля» (декабрь 1916 – октябрь 1917). Расстрелян большевиками вместе с другими бывшими министрами.
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – крупный помещик, один из лидеров партии октябристов. В 1911–1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственных дум. В августе 1917 г. поддержал мятеж Л. Г. Корнилова. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции в Югославии. Автор мемуаров «Крушение империи».
Гучков Александр Иванович (1862–1936) – предприниматель, лидер партии октябристов. В 1910–1911 гг. председатель 3-й Государственной думы. 2 марта 1917 г. принял отречение Николая II. Во Временном правительстве военный и морской министр. С 1920-х гг. в эмиграции.
Трепав Александр Федорович (1862–1928) – член Государственного совета (1914). В 1915–1916 гг. министр путей сообщения и одновременно председатель Совета министров (вместо Штюрмера). Противник Распутина. С 1918 г. в эмиграции.
Львов. Георгий Евгеньевич, князь (1861–1925) – землевладелец, депутат 1-й Государственной думы. Деятель земского движения. В начале 1-й мировой войны возглавил Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, слившийся в 1915 г. с Всероссийским Союзом городов (новый Союз стал именоваться Земгором).
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, публицист, один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства В Париже – председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943), редактор газеты «Последние новости».
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – генерал от инфантерии, член Государственного совета (1912). В июне 1915 – марте 1916 г. военный министр и председатель Особого совещания по обороне государства. С февраля 1920 г. на службе в Красной Армии.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – крупный помещик, один из лидеров «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела» и группы крайне правых в Государственной думе. Участиях убийства Распутина (1916).
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император и прусский король с 1888 г. Низложен в 1918 г.
Задумчивый странник. О Розанове*
Окно. 1923. № 3.
«Странник, только странник, везде только странник…» – Эта и другие цитаты в главе – из книг Розанова «Уединенное» (СПб., 1912) и «Опавшие листья: Короб первый» (СПб., 1913).
…возвращаемся в первый раз от Розанова… – Судя по письму Д. С. Мережковского к П. П. Перцову от 27 октября 1897 г. (фраза «Завтра вечером я пойду к Розанову»), Розанов и Мережковские впервые встретились 28 октября 1897 г.
«Клейкие листочки…» – Из стихотворения А. С. Пушкина «Еще дуют холодные ветры…».
Шперк Федор Эдуардович (1870, по др. данным 1872–1897) – умерший от чахотки философ, поэт, критик, с которым дружил Розанов и памяти которого посвятил очерк, вошедший в книгу «Литературные очерки» (СПб., 1899). В очерке названы трактаты молодого талантливого философа: «Система Спинозы» (1894), «Философия индивидуальности», «О страхе смерти и принципе жизни», «Мысль и рефлексия» (все три 1895), «Книга о духе моем» (1896), «Диалектика бытия» (1897). Публиковался также в газете «Новое время» под псевдонимами Ор и Апокриф.
Бывший учитель в провинции (как Сологуб). – Сологуб после окончания в 1882 г. учительского института 25 лет преподавал математику (в основном в провинции). Розанов, окончив в 1882 г. историко-филологический факультет Московского университета, начал преподавательскую деятельность в Брянске, а с 1887 г. – в Елецкой гимназии, где учились И. А. Бунин, М. М. Пришвин, будущий нарком здравоохранения Н. А. Семашко, С. Н. Булгаков.
Падчерица Розанова – Александра Михайловна Бутягина (1883–1920), дочь Варвары Дмитриевны, второй жены Розанова.
Розанов тогда служил в контроле. – В Государственном контроле в Петербурге коллежский советник Розанов служил чиновником особых поручений в 1893–1896 гг.
Перцов Петр Петрович (1868–1947) – критик, публицист, искусствовед, поэт, мемуарист. Друг Розанова. С января 1903 г. редактор журнала «Новый путь» (вместе с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус). Автор книги «Литературные воспоминания. 1890–1902» (М.; Л.: Academia, 1933). Гиппиус посвятила Перцову стихотворение «Соблазн» (1900). 49 писем Гиппиус к Перцову опубликовала и прокомментировала М. М. Павлова в журнале «Русская литература» (1991. № 4; 1992. № 1).
Дружит с кружком «Мира Искусства»… – «Мир искусства» (19001924) – художественное объединение, возглавлявшееся А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым, и журнал, выходивший в 1898/99-1904 гг. в Петербурге. В редакционный круг «мирискусников» Розанова ввели Мережковские. «Появление Василия Васильевича, – вспоминает Перцов встречу с Розановым на редакционном вечере, – произвело эффект, и весь вечер внимание было устремлено на него. Но сам он был решительно сконфужен. Главное, его смущало, что он, тогда еще очень консервативно настроенный „дичок“, попал на вечер к „декадентам“, которые неизвестно еще, как ведут себя» (Перцов П. Литературные воспоминания. С. 299–300)
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – театральный деятель, художественный критик. Один из создателей объединения «Мир искусства», редактор (совместно с А. Н. Бенуа) одноименного журнала. Организатор художественных выставок и ежегодных выступлений русских артистов за границей (Русские, «дягилевские», сезоны) в 1908–1909 гг.
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) – публицист, критик; один из организаторов и руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге (1907–1917). Двоюродный брат С. П. Дягилева, друг Мережковских. С 1920 г. в эмиграции в. Варшаве; соредактор газет «За свободу!» (1921–1932), «Молва» (1932–1934) и «Меч» (19341939).
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – живописец, историк искусства, художественный критик. Один из организаторов и идейный руководитель объединения и журнала «Мир искусства». Автор книг «Русская школа живописи» (вып. 1-10; 1904), «История живописи» (т. 1–4; 1912) «Александр Бенуа размышляет» (1968), «Мои воспоминания» (кн. 1–5; 1980, 1990), «Художественные письма. 1930–1936» (1997).
Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924) – театральный художник, график, живописец. Член объединения «Мир искусства». Иллюстрировал журналы «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон». Декоратор антрепризы С. П. Дягилева
Нуввяь Вальтер Федорович (1871–1949) – чиновник в министерстве императорского двора один из активных участников художественного объединения «Мир искусства». Однокашник по гимназии, близкий друг А. Н. Бенуа (сидел с ним на одной парте) и Д. В. Философова. С Мережковскими Нувель подружился в 1901 г. (см. о нем в дневнике Гиппиус «О бывшем»). Гиппиус посвятила Нувелю стихотворения «Что есть грех?» (1902) и «Росное имя» (1904).
Нурок Альфред Павлович (псевд. Силен; 1860–1919) – искусствовед, музыкальный критик, библиофил; по мнению А. Н. Бенуа «играл немалую роль среди нас и даже явился одним из столпов нашего „Мира искусства“» (Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Кн. 3. М., 1990. С. 682). В 1893–1899 гг. служил (с В. В. Розановым) ревизором в департаменте армии и флота Государственного контроля.
Дом Мурузи – на Литейном пр., дом 24. Здесь в квартире Мережковских проходили некоторые из Религиозно-философских собраний.
Религиозно-философские собрания – см. примеч. к очерку «Мой лунный друг».
Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский; 1867–1944) – церковный деятель, духовный писатель. Миссионер в Японии, архимандрит при русском посольстве в Греции. В 1901–1905 гг. ректор С.-Петербургской духовной академии. Председатель Религиозно-философских собраний. С 1917 г. архиепископ, а затем митрополит Владимирский и Шуйский. В 1926 г. был арестован. С 1927 г. заместитель Патриаршего Местоблюстителя (главы Русской Православной Церкви). В 1942 г. стал патриархом Московским и всея Руси.
Сергий (в миру Сергей Тихомиров; 1873-?) – архимандрит. С 1899 г. ректор духовной семинарии. В 1905–1908 гг. ректор С.-Петербургской духовной академии.
Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912) – митрополит С.-Петербургский и Ладожский. С его благословения были разрешены Религиозно-философские собрания. Впоследствии Розанов написал некролог «Митрополит Антоний в его исторических заслугах» (Новое время. 1912. 5 мая).
Скворцов Василий Михайлович (1859–1932) – чиновник Святейшего Синода, редактор-издатель журнала «Миссионерское обозрение» (1896–1916) и церковной газеты «Колокол» (1905–1917), в которой печатался Розанов. Участвовал в организации Религиозно-философских собраний.
Карташев (Карташов) Антон Владимирович (1875–1960) – богослов, историк церкви, публицист. В 1900–1905 гг. приват-доцент, профессор С.-Петербургской духовной академии. Активный участник Религиозно-философских собраний. За публикацию «крамольных» статей в «Новом пути» отчислен из академии. В 1906–1919 гг. зав. кафедрой истории религий на Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах, сотрудник Публичной библиотеки. С 1909 г. председатель Религиозно-философского общества. В июле 1917 г. обер-прокурор Святейшего Синода, в августе – министр вероисповеданий во Временном правительстве. 25 октября 1917 г. арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В январе 1919 г. бежал в эмиграцию. Один из организаторов Русского национального комитета (в 1924–1940 гг. его председатель). В 1925–1960 гг. профессор Православного богословского института в Париже. См. о нем в дневнике Гиппиус «Contes d’amour».
Устьинский Александр Петрович (1855–1922) – священник, служивший в Старой Руссе и Новгороде. В 1898 г., в пору увлечения Розанова проблемами «святости семьи» и пола, переписывался с ним (см.: Розанов В. В. Брак и христианство // Русский труд. 1898. № 47–52 и в его книге «В мире неясного»; 1901). За эту переписку Устьинский был на 2 месяца сослан в монастырь. Однако дружеская переписка его с Розановым не прекратилась (письма в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки, ф. 249). На фотографии протоиерея Резанов написал: «…Люблю, чту, брат мой, наставник мой. Хочу, чтобы письма и портрет его были изданы после моей „+“. Кто-нибудь, любящий меня, сделает. Он был весь – русский. Твердый. Ясный. Скромный… Ах: потом мы с ним вместе уродились в Костроме» (цит. по изд.: Розанов В. В. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 643. Примеч. Е. В. Барабановой).
Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940) – богослов, чиновник Синода, один из организаторов Религиозно-философских собраний, на первом заседании 29 ноября 1901 г. выступил с программным докладом «Интеллигенция и Церковь» (см. о докладе подробно в воспоминаниях Гиппиус «Дмитрий Мережковский»). «Мой друг Тернавцев, богослов здешней Академии, – писал В. В. Розанов в прошении к митрополиту Антонию, – человек высоких талантов».
Иннокентий (в миру Иван Васильевич Беляев; 1862–1913) – духовный писатель, викарий Харьковский, Петербургский, епископ Тамбовский. С 1909 г. экзарх Грузии. В 1901–1903 гг. участвовал в Религиозно-философских собраниях.
Феофан (в миру Василий Быстров; 1873–1943) – инспектор С.-Петербургской духовной академии (в 1908–1910 гг. ее ректор). Участник Религиозно-философских собраний. После 1917 г. в эмиграции.
Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский; 1865–1927) – старший цензор С.-Петербургской духовной академии в 1899–1903 гг. и цензор журнала «Новый путь». Позже – епископ Нарвский. В 1920-е гг. примкнул к обновленческой («живой») церкви, вызвавшей временный раскол в русском православии.
Ефим Е. – Ефим Александрович Егоров (1861–1935), секретарь Религиозно-философских собраний и редакции журнала «Новый путь». Впоследствии заведовал иностранным отделом в газете «Новое время».
«Кудряеый Валентин» – В. А Тернавцев.
…в Англию, во время войны, ездила… неподобная тройка… – Помимо упомянутой в тексте «тройки» – К. И. Чуковского, R А Егорова и А. Н. Толстого – в поездке на английский фронт в 1916 г. участвовали (по выбору посла Англии) также еще три корреспондента русских газет Вас. И. Немирович-Данченко, А И. Башмаков и В. Д. Набоков.
…ездили за Волгу, в г. Семенов… – Эту поездку к «граду Китежу» Мережковские совершили летом 1902 г. (см. очерк Гиппиус «Светлое озеро. Дневник» в т. 3 нашего изд.).
Жена одного писателя петербургского. – Речь идет об Аполлинарии Прокофьевне Сусловой (1839–1918), возлюбленной Достоевского в 1861–1866 гг., прозаике, авторе дневниковой книги «Годы близости с Достоевским» (М., 1928). В 1880 г. студент Розанов женился на Сусловой, несмотря на то, что она была старше его на 17 лет. Брак оказался несчастливым; в 1886 г. Суслова бросает мужа, уехав с его приятелем и отказав ему в разводе. В 1891 г, вступая во второй брак (с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожд. Рудневой; 1864–1923), Розанов вынужден бал венчаться тайно. Пятеро его детей от этого брака считались незаконнорожденными и получили фамилии, образованные от имен крестных отцов.
«Что Бог сочетал, того человек не разлучает» – из Евангелия от Матфея, гл. 19, ст. 6.
Это еще при первой жене его было. – Имеется в виду Мария Дмитриевна Достоевская, урожд. Констант, по первому мужу Исаева (1825–1864).
…студента этого арестовали. – Речь идет о приятеле Розанова студенте С. Б. Гольдовском, арестованном по доносу А. П. Сусловой. «… Она кончила тем, – вспоминал об этом Розанов в письме к С. А. Рачинскому, – что упекла его в тюрьму (перехватывала его письма ко мне, без моего подозрения, и одно, где он, по поводу университетских беспорядков, дурно выразился о начале царствования Александра III, переслала жандармскому полковнику в Москву)» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А Рачинского. 1898).
У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея»… – Доклад «Гоголь и отец Матфей», прочитанный на Религиозно-философском собрании 18 апреля 1903 г. (см.: Новый путь. 1903. № 5). В его основе – фрагмент исследования Мережковского «Судьба Гоголя» (Новый путь. 1903. № 1–3); в отд. изд. названо «Гоголь и черт» (1906).
…Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви». – См. статью Минского «О двух путях добра», в которой автор пишет: «…узрев на груди Церкви мистическую розу целомудрия, Розанов не должен верить в искреннее отношение Церкви к браку» (Северные цветы на 1903 год. М.: Скорпион, 1903). Николай Максимович Минский (наст, фам. Виленкин; 1856–1937) – поэт, драматург, философ, публицист, переводчик Автор трактата «При свете совести. Мысль и мечты о цели жизни» (1890, 1897) и книги «Религия будущего, Философские разговоры» (1905), вызвавших полемику.
…до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России). – В статье «К открытию памятника Государю Александру III» Розанов пишет: «…ну, какой „конь“ Россия, – свинья, а не конь» (Русское слово. 1909. 23 окт.; под псевд. В. Варварин). На статью откликнулся Мережковский («Свинья-матушка» // Речь. 1909. 1 нояб.).
Еврейская «миква» – баня с источниковой женской купальней; еврейский обряд женского очищения. См. статью Розанова «Юдэиэм» (Новый путь. 1904. № 8) и отклик на нее «Вечный Жид» Гиппиус в следующем номере «Нового пути».
Денница – здесь в знач.: падший ангел.
«Темный лик. Метафизика христианства» – книга Розанова (СПб., 1911).
С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался. – Вероятно, имеется в виду Н. М. Минский.
«…Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на…» – Неточно цитируется книга Розанова «Опавшие листья. Короб первый» (1913). Борух – Борис Григорьевич Столпнер (18711967), философ, переводчик философских трудов, сотрудник «Еврейской энциклопедии» (1908–1913). Ревекка Юльевна Эфрос – знакомая семьи Розановых (см. о ней в «Уединенном» Розанова).
Денег у нас не было никаких… – Д. Е. Максимова в статье «Новый путь» уточняет: «Первоначальный денежный фонд „Нового пути“ <…> составился из двух денежных взносов: Перцова (3000 р.) и еще одного близкого к духовенству лица (В. И. Тернавцева. – Ред.) <…> (2000 р.). К концу июня 1903 г. в кассу журнала поступило еще 3000 р., пожертвованных М. А. Морозовым» (В кн.: Евгеньев-Максимое В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л., 1930. С. 163). Михаил Абрамович Морозов (1870–1903) – промышленник-меценат, коллекционер, автор исторических статей, литературных и художественных рецензий, а также запрещенного цензурой романа «В потемках» (1895; тираж уничтожен).
Пирожков Михаил Васильевич (1867–1927) – издатель (18981910) и владелец «Литературной книжной лавки» в Петербурге.' См. о нем; Розанов В. В. К истории одного книгопродавческого разорения // Новое время. 1909. 22 июня.
Семенов (Семенов-Тян-Шанский) Леонид Дмитриевич (1880–1917) – поэт, прозаик, религиозный пропагандист. Был депутатом I Государственной думы.
Пост (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт-символист, переводчик, теоретик стихосложения. Автор книги воспоминаний «Встречи» (1929).
Успенский Василий Васильевич (1876–1930) – историк педагогики, приват-доцент (позже профессор) С.-Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философских собраний (см. о нем в дневнике Гиппиус «Contes d’amour»). В «Новом пути» печатался под псевдонимом
В. Бартенев. Успенскому Гиппиус посвятила стихотворения «Истина или счастье?» (1902) и «Иметь» (1905).
«В своем углу» – рубрика Розанова в журнале «Новый путь».
«О юдаизме» – статья Розанова «Юдаизм» (Новый путь. 1903. № 6-12).
Архимандрит Михаил (в миру Павел Васильевич Семенов; 1874–1916) – духовный писатель, профессор С.-Петербургской духовной академии. В 1906 г. увлекся старообрядчеством, получил номинальный сан епископа Канадского. См. о нем подробно: Гиппиус 3. Синяя книга Петербургский дневник//Дневники. Т. 1. М., 1999. С. 429–432).
…на <радение> у Минского… – Об этом «радении» рассказал Блоку поэт, публицист, друг и почитатель Розанова Евгений Павлович Иванов в письме от 9-10 мая 1905 г.: «…у Минского по предложению Вячеслава Иванова и самого Минского было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но „вкупе“; тут надежда получить то религиозное нелегкое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании. Собраться решено в полуночи (11'/2 ч.) и производить ритмические движения, для расположения и возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец, особого рода мистические символические телорасположения» (цит. по: Василий Розанов: pro et contra. Антология: В 2 кн. Ки. 1. СПб., 1995. С. 250). В этом полусерьезном, полушутовском «радении», завершившемся распитием жертвенной крови в вине, участвовали Н. А. Бердяев с женой, А. М. Ремизов с женой, Ф. Сологуб, 3. А. и С. А. Венгеровы, Розанов и др.
«Когда начальство ушло» (1910) – книга Розанова; цензурным запретам не подвергалась.
…содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме… – Речь идет о Л. Н. Вилькиной (см. об этой интимной переписке: Павлова М. М. «Распоясанные» письма В. В. Розанова // Литературное обозрение. 1992. № 11). Людмила (Изабелла) Николаевна Вилькина (в замужестве Виленкина; один из псевд. Никита Бобринский: 1873–1920) – поэтесса, прозаик, переводчица, вторая жена (с 1890-х гг., официально с 1905 г.) Н. М. Минского (Виленкина); племянница историка литературы Зинаиды Афанасьевны Венгеровой (1867–1941). После смерти Вилысиной Венгерова в 1925 г. стала третьей женой Минского.
…в «Русском Слове», под прозрачным… псевдонимом… – В московской газете «Русское слово» Розанов в 1906–1911 гг. печатался под псевдонимом В. Варварин, образованным от имени его второй жены.
…П. Б. Струве, печатая… статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве». – Имеется в виду статья Струве «Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» (Русская мысль. 1911. № И. Отд. 2).
Синоптики, синоптические Евангелия – имеющие много общего совпадающего Евангелия от Матфея, Марка и Луки (они повествуют о деятельности Христа в Галилее, в то время как четвертое Евангелие от Иоанна рассказывает о жизни и деятельности Христа в Иудее и до.).
Розанов в Совете не состоял. – Неточность: Розанов входил в Совет Религиозно-философского общества, но вышел из него в 1909 г. из-за серьезных разногласий с остальными руководителями, а также с Мережковскими и Философовьш (см. его «Открытое письмо» в «Новом времени». 1909. 17 янв.).
«Апокалипсис» – книга Розанова «Апокалипсис нашего времени», печатавшаяся отдельными выпусками в Сергиевом Посаде с 15 ноября 1917 до осени 1918 г.
П. Ф. – Павел Александрович Флоренский (1882–1937), православный философ и богослов, физик, математик, инженер. Дружил с Розановым до последнего часа его жизни. Б 1933 г. арестован, заключен в Соловецкий концлагерь, а затем расстрелян.
…тигли его московским студентом-математиком (он писал е «Новом Пути»). – В журнале Мережковских Флоренский, учившийся в 19001904 гг. на математическом отделении физмата Московского университета, опубликовал статьи «О суеверии» (1903. № 8), «Спиритизм как антихристианство» (1904. № 3), «О символах бесконечности» <1904. М 9).
Антоний (в миру Михаил ФЛоренсов; 1847–1918) – епископ, духовник священника П. А. Флоренского. В марте 1904 г. к епископу Антонию пришли два студента университета – Борис Бугаев (А. Белый) и Павел Флоренский – с просьбой о пострижении их в монахи. Епископ отказал.
…через сестру его, Ольгу. – Ольга Александровна Флоренская (18901914) – художница, поэтесса.
Розанов… против евреев – в «Земщине»… – В этой газете Розанов, выражая свою точку зрения о «деле Бейлиса», опубликовал в 1913 г. статьи «Андрюша Ющинский» (5 окт.) и «Наша „кошерная“ печать» (22 окт.), в которых доказывал, что убийство мальчика носило ритуальный характер, тем самым обвинял оправданного судом Бейлиса.
…исключение его <Роэанова> из числа членов Религиозно-философского общества. – См. об этом подробно в кн.: Николюкин А. Н. Голгофа Василия Розанова (гл. «Изгнание из Религиозно-философского общества»). М., Русский путь, 1998 С. 402–423. См. также стенографический отчет о дискуссии вокруг этого вопроса; «Суд» над Розановым. Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества // Василий Розанов: pro et contra. В 2 т. Т. 2. С. 184–215.
…дочь Розанова, Монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца. – Вера Васильевна Розанова (1896–1919), послушница Покровского монастыря под Лугой, покончила с собой (повесилась) после смерти отца, в ночь после Троицы.
…работал над книгой о Египте… – Имеется в виду книга Розанова «Из восточных мотивов» (в 1916–1917 гг. были изданы три выпуска, после чего публикация прервалась).
Скарабеи – фигурки и изображения жуков на медалях, монетах и т. п., служащие украшениями.
…встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. – Встреча описана в очерке «Из армии и возле армии», вошедшего в книгу Розанова «Война 1914 г. русское возрождение». Пг., 1915. С. 228–234.
Ф. – Флоренский П. А.
…сын их умер. – Единственна# сын Розанова Василий, вернувшийся из армии, отправился на Украину за продуктами и умер в Курске 5 октября 1918 г. от гриппа, перешедшего в воспаление легких.
И Меньшикова расстреляли. – Михайл Осипович Меньшиков (1859–1918) – один из ведущих сотрудников газеты «Новое время» (работал здесь вместе с Розановым около 20 лет). В начале 1900-х гг. опубликовал несколько статей о «еврейской опасности», «инородческом заговоре», о социал-демократии как партии «еврейской смуты», вызвавших полемику и создавших ему репутацию антисемита и охранителя. 20 сентября 1918 г. расстрелян большевиками на берегу Валдайского озера.
Мне донельзя противно писать Горькому, – Оставшееся неопубликованным письмо Гиппиус от 18 ноября 1918 г. сохранилось в архиве Горького. Гиппиус писала: «Совершенно также уверена, что слух о расстреле В. В. Розанова должен был произвести на вас тягостное впечатление; никакой революции никакой страны не может принести чести отнятие жизни у своих талантливых писателей, да еще стариков, отошедших от всякого рода деятельности. Как бы мы ни относились к человеку Розанову и его „убеждениям“ (а, я думаю, мы тут приблизительно совпадаем) – вы не будете отрицать, что это был замечательный, своеобразный талант» (цит. по: Николюкин А. Н. Голгофа Василия Розанова. С. 460).
…молодого писателя X. – Имеется в виду Ховин Виктор Романович (1891– после 1940), писатель-футурист, публицист, издатель альманаха интуитивной критики и поэзии «Очарованный странник» (19131916) и журнала «Книжный угол» (1918–1922; его Nb 6 посвящен памяти Розанова). После 1922 г. в эмиграции. Погиб в концлагере.
…вот о «голоде» его предсмертном потрясающие слова… – Имеются в виду «Последние мысли Розанова», записанные его дочерью Надеждой и опубликованные Э. Ф. Голлербахом в его очерке «Последние дни Розанова»: «…Умирание, по крайней мере от удара – представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего» (Накануне. Берлин, 1923. 11 февр. Цит. по: Василий Розанов: pro et contra. Кн. 2. С. 311).
«Пирожка бы… Творожка бы…» – Из письма (дек. 1918) Розанова к Мережковскому, Гиппиус и Философову: «Пирожка хочется, творожка хочется» (Розанов В. В. Письма 1917–1919 годов // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84).
Розанов умер. – Это случилось 23 января (5 февраля) 1919 г. в Сергиевом Посаде, где Розанов с семьей поселился в конце августа 1917 г. Похоронили его здесь же, в Черниговском монастыре, рядом с могилой его учителя К. Н. Леонтьева. Страшна судьба этих могил: они были срыты в 1923 г., черный гранитный памятник Леонтьеву разбили, крест Розанова сожгли. Их восстановили только через семьдесят лет.
Отрывочное. О Сологубе*
Звено. Париж, 1924. 14 апр.
Эпиграф: Люблю я грусть твоих просторов… – Из стихотворения Сологуба без названия (в цикле «Гимны Родине»; 1903).
…пишет оды на смерть Ленина… – Стихотворениями «После смерти В. И. Ленина», «Ленин», «У Кремля» и др. Брюсов открыл свой последний прижизненный сборник «Меа» (лат.: «Спеши»; 1924).
…написать еще одну (которую?) статью о его произведениях. – Гиппиус – автор статей «Слезинка Передонова. То, чего не знает Ф. Сологуб» (Речь. 1908. № 273) и «Иринушка и Ф. Сологуб. По поводу пьесы „Заложники жизни“» (Русская мысль. 1912. № 12).
Быть с людьми – какое бремя!.. – Первая строка стихотворения Сологуба без названия (1901).
«Геки» – рассказ Сологуба, напечатанный в журнале «Северный вестник» (1894. № 12); в третий том его прижизненного собрания сочинений вошел под названием «Свет и тени» (1913).
…кажется, «Ограда». – Вероятно, стихотворение Сологуба, начальные строки которого «Проходил я мимо сада. // Высока была ограда» (Северный вестник 1896. № 10).
Граф Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882) – прозаик.
Палз-Рояяь – дом с меблированными комнатами на Пушкинской ул. в Петербурге, в котором селились многие литераторы.
…эстеты «Мира Искусства» – см. примеч. к «Одержимому страннику».
…Приветствую тихие стены… – Из стихотворения Сологуба «Тихие стены» (1897).
Он учитель и директор… этой школы. – Переехав в Петербург, Сологуб в 1893–1899 гг. преподавал математику в Рождественском городском училище, а в 1899–1907 гг. служил учителем-инспектором в Андреевском городском училище на Васильевском острове, где и жил на казенной квартире.
…с сестрой, пожилой девушкой… – Младшая сестра, друг и помощник Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова (1865–1907) – медик; в 1893 г. окончила Повивальный институт; ей был вручен диплом повивальной бабки. В 1895 г. получила свидетельство акушерки. Умерла от туберкулеза.
Появлялись, одна за другой, его книжки… потом роман… – Первые книги Сологуба – «Стихи. Книга I», «Тени. Рассказы и стихи», «Тяжелые сны. Роман» вышли в Петербурге одновременно в 1896 г.
…Хочу конца, ищу начала… – Из стихотворения Сологуба «Наивно верю временам» (1904).
«Звезда Маир», «земля Ойле» – образы из стихотворного цикла Сологуба «Звезда Маир» (1898–1901). По предположению М. И. Дикман (см.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 599), «земля Ойле» – по имени Оле-Лукойе (дат.: «Оле – закрой глазки»), которое носят братья из одноименной сказки Андерсена, олицетворяющие сон и смерть; звезда Маир – по аналогии с Альтаир из созвездия Орла.
…Дульцинея не превращается ли… в «дебелую Альдонсу»? – В романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1615) воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило в благородную красавицу Дульсинею Тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо. «Девка ой-ой-ой, с ней не шути… – рассказывает своему сеньору оруженосец Санчо Пансо. – А уж глотка, мать честная, а уж голосина!» Но для рыцаря она не деревенская простушка, от зари до зари гнущая спину на скотном дворе или в поле, а – принцесса, о которой он слагает высокопарные вирши. Этот романтический пафос великого романа вдохновил русских символистов, из них в первую очередь Сологуба, на такое же рыцарское служение Красоте. «Подвиг лирического поэта, – пишет Сологуб в очерке „Мечта Дон Кихота“, – в том, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее нет; поставить выше жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания форму; силою обаяния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута, как Альдонса, и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас – смазливая, грубая девка, для меня – прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти».
Адам… тоскует об ушедшей, легкой Лилит. – Согласно одному из преданий, Бог, сотворив Адама, сделал ему из глины жену и назвал ее Лилит. Не сумев добиться равенства с Адамом, она улетела.
«Чертовы качели» (1907) – стихотворение Сологуба, положенное на музыку А. Архангельским, В. С. Якушевским (оба мелодекламация; 1910) и Д. В. Морозовым.
Полит<ический> Кр<асный> Крест – название нелегальных организаций, создававшихся в России и за рубежом с 1881 по 1917 г. для помощи политзаключенным и ссыльным. В 1922–1938 гг. под руководством первой жены Горького Екатерины Павловны Пешковой (18781965) действовала организация «Помощь политическим заключенным», участники которой разделили трагическую судьбу тех, о ком заботились: они за редким исключением были репрессированы.
…прочтем машу переписку шутливую? – Эта переписка состоит из трех стихотворений Гиппиус («Все колдует, все пророчит…», «Реплика ведьмы», «Ты не один в своей печали») и двух – Сологуба («Заклятие первое. Зинаиде Гиппиус», «Заклятие второе. Зинаиде Гиппиус»), См. об этом подробно: Русская литература 1991. № 2. Публикация и примеч. A. Л. Соболева; Гиппиус 3. И. Стихотворения. Подготовка текста (по автографу ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 7. Ед. хр. 10) и примеч. А. В. Лаврова. СПб., 1999. С. 530–531.
Все колдует, все морочит… – Вариант стихотворения Гиппиус «Все колдует, все пророчит…».
…прекрасным стихотворением о «Кругах». – Имеется в виду стихотворение Гиппиус «Реплика ведьмы» («Эко диво, ну и страхи!»). Далее неточно (по памяти) цитируются строки из этого стихотворения.
Водой спокойной отражены… – Начало стихотворения Сологуба без названия (1903) из книги «Пламенный круг» (М., 1908; впервые: Новый путь. 1904. № 7). Ниже цитируются другие строки этого стихотворения.
…в молчании // Ты постигнешь закон бытия, – Из стихотворения Сологуба «Своеволием рока…» (1900).
…Я – все во всем, и нет иного… – Из стихотворения Сологуба «В последнем снеге злого дня…» (1903).
С Чеботарееская Анастасия Николаевна (1876–1921) – критик, переводчик. Жена Сологуба с 1908 г. Покончила с собой.
«Помнишь, не забудешь?» (1911) – рассказ Сологуба о котором Гиппиус написала рецензию «Иринушка и Сологуб» (Русская мысль. 1912. № 12).
Не узнавай, куда я путь склонила… – Из стихотворения
B. А. Жуковского «Голос с того света» (1815); вольный перевод стихотворения Ф. Шиллера «Текла Голос духа».
Я здесь один, жесток мой рок… – Первая строка стихотворения Сологуба без названия (1900).
Писали радостно… что их «выпускают». – Прошение о выезде за границу на лечение Сологуб написал в Совет Народных Комиссаров 10 декабря 1919 г. Положительный ответ был получен в начале 1921 г., но 15 июня того же года пришел отказ. См. об этом в рецензии Ходасевича (приложение к этому тому). Осенью Сологубу и Чеботаревской выезд вновь разрешили. «Вся эта история, – вспоминает Ходасевич, – поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста» (Ходасевич В. Ф. Некрополь // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. С. 118).
Пылавшие в огне – сгорели… – Стихотворение Гиппиус, написанное для очерка о Сологубе.
Благоухание седин. О многих*
Современные записки. 1924. № 21.
Алексей Толстой – имеется в виду А К. Толстой (1817–1875), поэт, прозаик, драматург.
Полонский Яков Петрович (1819–1898) – поэт.
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – поэт.
Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) – поэт, прозаик, драматург, переводчик. Заведовал литературным отделом в журнале «Северный вестник» до 1890 г.
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900) – прозаик; знаток живописи и скульптуры, собравший редкостную художественную коллекцию. Автор «Литературных воспоминаний».
Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908) – поэт, переводчик, историк литературы; почетный академик. В 1897–1908 гг. председатель Союза взаимопомощи русских писателей и Литературного фонда, организатор благотворительных концертов и спектаклей в пользу литераторов.
Анна Михайловна Евратом (1844–1919) – первая русская военщина доктор прав, редактор журнала «Северный вестник» в 1885–1890 гг.
Сабашникова Антонина (Нина) Васильевна, в замужестве Евреинова (1861–1945) – издательница журнала «Северный вестник» в 1885–1890 гг. Сестра основателей московского «Издательства М. В. и С В. Сабашниковых» (1891–1930).
Лидов Константин (каст, имя и фам. Витольд-Константин Николаевич Розенблюм; 1862–1937) – поэт, прозаик, переводчик, композитор. С 1914 г. жил за границей, где издавал парижскую газету «Иностранец» («L’Etranger») и сборники в Брюсселе «Против течения. Из сказанного и недосказанного за 50 лет».
Коринфский Аполлон Аполлонович (1868–1937) – поэт, прозаик, переводчик.
…грезят ландышей склоненные бокалы… – Из стихотворения Льдова «Не знаю, нечему – недвижная природа…» (1888).
Как пламя дальнего кадила… – Первая строфа стихотворения Льдова без названия (1887).
Семввашй Михаил Иванович (1837–1892) – историк, основатель (1870) и редактор-издатель исторического журнала «Русская старина».
…старик Суворин, редактор «Нового Времени». – А С. Суворин.
Но Полонский – цензор, – Я. П. Полонский в 1860–1896 гг. служил в Комитете иностранной цензуры.
«Пятницы» Полонского – литературные журфиксы на петербургской квартире Я. П. Полонского. «„Пятницы“ Полонского, – вспоминает П. П. Перцов, – были так популярны, что (случай, кажется, единственный в своем роде) пережили даже своего хозяина: еще долго, много лет спустя после смерти Полонского, его бывшие друзья и знакомые продолжали собираться по „пятницам“, составив даже для этой цели особый кружок „пятниц Полонского“ под председательством жены поэта» (Перцов П. И Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М.; Л., 1933. С. 116–117).
Жозефина А. – Жозефина Антоновна Полонская, урожд. Рюльман (1844–1920) – скульптор; вторая жена Я. П. Полонского.
Рядом – его костыли… – Я. П. Полонский в 1859 г. повредил ногу и с того времени ходил на костылях.
Молодежь – дети Полонского со своими гостями… – Сыновья Полонского; Борис и Александр (1868–1934).
Есть форма, но она пуста!.. – Из стихотворения Я. П. Полонского «Разговор».
Что мне она? Не жена, не любовница… – Из стихотворения Полонского «Узница» (1878).
Писатель, если только он… – Из стихотворения Полонского «В альбом К Ш.» (1871).
Фельдман Осип Ильич (1862–1910 или 1911) – врач-гипнотерапевт, коллекционер.
Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846–1924) – фенолог, орнитолог, педагог, композитор. Вея рубрики о жизни природы в газете «Новое время», журналах «Мир Божий», «Русская школа», «Вестник садоводства» и др. Автор научно-популярных книг по естествознанию («Беседы о русском лесе», «Из царства пернатых», «Наши летние цветы», «Собиратель грибов» и др.).
Горбунов Иван Федорович (1831–1895) – прозаик, актер, основатель сценического жанра устного рассказа.
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – композитор, пианист; основатель Русского музыкального общества (1859), с 1873 г. директор Петербургской консерватории.
Жена гр. Алексея Толстого… – Софья Андреевна Толстая, урожд. Бахметьева, в первом замужестве Миллер (1825–1895).
Средь шумного бала, случайно… – Стихотворение А. К. Толстого без названия (1856), положенное на музыку П. И. Чайковским и др. Навеяно знакомством поэта с С. А. Миллер (Бахметьевой), ставшей его женой.
…с дочерью Достоевского. – Любовь Федоровна Достоевская (18691926), дочь Ф. М. и А. Г. Достоевских; беллетристка, автор книги «Достоевский в изображении его дочери» (на нем. яз. 1920; сокращенный рус. пер. 1922).
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – обер-прокурор Святейшего Синода.
…мы с Мережковским решили съездить… в Италию. – В этом путешествии по Италии весной 1889 г. Мережковские встретились с А. П. Чеховым и А. С. Сувориным.
Буренину я бы не подал руки… – Виктор Петрович Буренин (1841–1926) – литературный и театральный критик с репутацией «бесцеремонного циника, часто пренебрегающего приличиями в печати» (И. А. Гончаров). В литературной среде была популярна эпиграмма о нем: «Идет по улице собака, // За ней Буренин, прост и мил. // Городовой, смотри, однако, // Чтоб он ее не укусил».
Мережковский… наткал о нем <Чехове> статью в «См. Вестнике». – Речь идет о статье «Старый вопрос по поводу нового таланта» (Северный вестник. 1888. № 11), в которой Мережковский обстоятельно анализирует две книги Чехова – «В сумерках» и «Рассказы» (обе 1888).
…помогло мне разобраться в Чехове… – О Чехове Гиппиус писала в статьях «Что и как? („Вишневые сады“)», «Быт и события» (обе: Новый путь. 1904. № 5 и 9), «О женах» (Последние новости. Париж. 1925. 30 июля).
Андреевский С. А. – см. примеч. к «Маленькому Анину домику».
Князь Мышкин – герой романа Достоевского «Идиот».
…Толстой не безумец ли со своим «Хозяином»? – Рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» (Северный вестник. 1895. № 3) был написан под впечатлением голода в России в 1892–1893 гг.; его перепечатали почти все газеты.
«Черный монах» (1894) – рассказ А. П. Чехова.
…еще новенькой Эйфелевой башней… – Эйфелева башня в Парнасе построена в 1889 г. к открытию Всемирной выставки.
Ivette GuUbert, Иветт Гильбер (1867–1944) – французская эстрадная певица,
…был замешан в деле петрашевцев и даже приговорен к смертной казни… – А. Н. Плещеев за участие в кружке публициста Михаила Васильевича Петрашевсхого (1821–1866) вместе с Ф. М. Достоевским и др. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой и ссылкой.
Полонский… считает себя обиженным, непризнанным… прозаиком. – Поэт Я. П. Полонский в 1860-е гг. увлекся писанием романов («Признания Сергея Чалыгина», «Женитьба Атуева»), которые не были замечены критикой.
Позму его я любил…– Поэма И. С. Тургенева «Параша» (1843).
С Тургеневым у них был когда-то «голубой» роман. – См. об этом очерк А. Ф. Кони «Савина и Тургенев» (Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М., 1968. С. 351–384).
…о Кларе Милич… – Имеется в виду повесть Тургенева «Клара Милич (После смерти)» (1882), сюжет которой был подсказан Ж. А. Полонской.
«Песнь торжествующей любви» (1881) – повесть Тургенева, вызвавшая полемику.
Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) – публицист, богослов; славянофил. В 1878–1899 гг. – товарищ государственного контролера и государственный контролер. Член Государственного совета.
Шекспировский кружок – литературное объединение любителей, существовавшее в Петербурге с 1875 г.
Литературное общество функционировало в Петербурге с 1886 г. под председательством Петра Николаевича Исакова (1852–1917).
Потехин Алексей Антипович (1829–1908) – прозаик, драматург, в пьесах которого играла М. Г. Савина.
…из стихотворения «Дож и Догаресса»… – Цитируется стихотворение «Старый дож» (1887) А. Н. Майкова.
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (18201892) – поэт.
…увлекся романом Мережковского «Юлиан»… – Имеется в виду «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (1895), первый роман трилогии «Христос и Антихрист».
Фигнер Николай Николаевич (1857–1917) – оперный певец (тенор) Мариинского театра (1887–1907). В 1910–1915 гг. солист, художественный руководитель и директор оперной труппы петербургского Народного дома.
Фигнер Медея Ивановна (1859–1952) – оперная певица (сопрано) Мариинского театра (1887–1912). Жена Н. Н. Фигнера. С 1930 г. в эмиграции. Автор книги «Мои воспоминания» (1912).
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – прозаик, публицист, общественный деятель.
Гарин Н. (наст, имя и фам. Николай Егорович [Георгиевич] Михайловский; 1852–1906) – прозаик, публицист, драматург. По образованию инженер-путеец. Широкую известность ему принесли повести «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893) и «Студенты» (1895).
Душа кружка – Григорович. Он рассказывает «анекдоты»… – Об этом вспоминает также А. Ф. Кони в некрологе «Памяти Д. В. Григоровича»: «Блестящий собеседник, приковывавший к себе общее внимание и овладевавший им всецело, он в некоторых вызывал сомнения в действительности существования того, что он рассказывал. Ложные друзья не раз пробовали набросить тень таких сомнений и на Тургенева. Оба они, однако, не извращали истины, и то, что смущало некоторых слушателей, было результатом отмечаемой некоторыми психологами „мечтательной лжи“» (Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 132–133).
…читает Ольга Шапир – «О любви». – Ольга Андреевна Шапир, урожд. Кислякова (1850–1916) – прозаик, драматург. Автор романа «Любовь» (1896) и др.; убежденная сторонница женской эмансипации.
«Проселочные дороги», «Антон Горемыка» – роман (1852) и повесть (1847) Д. В. Григоровича из числа Лучших в его творчестве.
…как отца Достоевского… возненавидели мужики и в роще разорвали, на глазах сына, Федора Михайловича… – Одна из версий смерти Михаила Андреевича Достоевского (1788–1839), отца писателя (по документам он умер от апоплексического удара). Ф М. Достоевский в это время находился в Петербурге: он учился в Главном инженерном училище.
Тамбовский Гейне – П. И. Вейнберг (один из его псевдонимов – Гейнс из Тамбова).
…«безобразный поступок „Века“» – Имеется в виду полемика, вызванная фельетоном Вейнберга «Русские диковинки» (еженедельник «Век». 1861. 22 февр. Mt 8). В этом споре-перебранке газет и журналов о женской эмансипации и журналистской этике приняли участие Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов, М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин, Н. В. Шелгунов и др. «Безобразный поступок „Века“» – так назвали свои реплики Михайлов (С.-Петербургские ведомости. 1861. 3 марта № 51), Страхов (5 марта 1861) и, позже, сам Вейнберг (Исторический вестник. 1900. М 5), вспоминавший эту давнюю историю, которая стала причиной его выхода из редакции журнала «Век».
…очень красивую даму… в «Египетских ночах»… – Имеется в виду Евгения Эдуардовна Толмачева, жена председателя Казенной палаты в Перми. Она выступила на благотворительном вечере с чтением из «Египетских ночей» А. С. Пушкина, которое показалось слушателям фривольным, что стало поводом для фельетона Вейнберга и для вспыхнувшего литературного скандала.
…брат Достоевского… – Михаил Михайлович Достоевский (1820–1864), прозаик, переводчик, драматург, редактор-издатель журналов «Время» и «Эпоха».
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – поэт, прозаик, переводчик; лауреат Нобелевской премии (1933).
…только что выпустил он свою трехтомную книгу о Толстом…– Имеется в виду кн.: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия. Т. 1–3. СПб., 1901–1903.
Сухотины – тульский помещик Михаил Сергеевич (1850–1914) и его жена Татьяна Львовна (1864–1950), дочь Л. Н. Толстого.
Софья Андреевна Толстая, урожденная Берс (1844–1919) – жена Л. Н. Толстого.
Николай Васильевич Чайковский (1851–1926) – революционер-народник. С 1905 г. эсер. После Октябрьского переворота 1917 г. член антибольшевистского «Всероссийского комитета спасения родины и революции», Входил в оостав правительства А. И. Деникина. В эмиграции – один из руководителей Исполнительного бюро «Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции». В начале 1922 г. обратился к А. Н. Толстому с письмом, в котором потребовал объяснений его сотрудничества в газете «Накануне».
Дмитрий Мережковский*
Париж: YMCA-Press, 1951.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (2 августа 1865 – 7 декабря 1941).
«Старинные Октавы» – автобиографическая поэма Мережковского (Золотое руно. 1906. № 1–4).
Мать – Варвара Васильевна Мережковская, урожд. Чеснокова (?-1889), дочь управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера.
Отец – Сергей Иванович Мережковский (1821–1908), действительный тайный советник, столоначальник Дворцового ведомства Александра II.
В сноске: З. Н. – Зинаида Николаевна Гиппиус.
В сноске: В. 3. – Владимир Ананьевич Злобин.
Д. С., Дм. С-ич, Дм. Серг., Д. М. – Дмитрий Сергеевич Мережковский.
…после убийства Александра И… – Император был смертельно ранен бомбой террориста 1 марта 1881 г.
Елагин острое – из группы островов Невской дельты. Здесь родился Д. С. Мережковский.
В «Старинных Октавах» много… и об Амалии Христиановне, бонне-немке… – В автобиографической поэме (1906) Мережковский посвятил Амалии Христиановне несколько благодарных октав. Вот одна из них:
Старушки взгляд всегда был жив и зорок: К нам девушкой молоденькой вошла И поседела, сгорбилась, лет сорок С детьми возилась, жизнь нм отдала. Ей каждый грош чужой был свят и дорог… Амалии Христьяновне – хвала: Она свершила подвиг без награды. Как мало в жизни было ей отрады!…больную жену Александра II, или Наследника… – Императрица Мария Александровна (1824–1880). Наследник – Николай Александрович (1843–1865); преждевременная смерть не позволила ему наследовать престол.
Мать – Анастасия Васильевна Гиппиус, урожд. Степанова (7-1903).
…три маленькие сестры… – Сестры Гиппиус: врач, автор книг по истории религии Анна (Ася) Николаевна (псевд. Анна Гиэ; 1872–1942), художница Татьяна Николаевна (1877–1957), скульптор Наталья Николаевна (1880–1963); ей посвящены стихотворения Гиппиус «Только о себе» (1904) и «Черненькому» (1914).
Драшусов Александр Николаевич (1816–1890) – физик, астроном, профессор Московского университета.
Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист, литератор, мемуарист. До 1917 г. почетный академик, сенатор, член Государственного совета.
…старший сын С<ергея> И<вановича> – Константин… – Константин Сергеевич Мережковский (1855–1921) – биолог, приват-доцент Петербургского университета (см. о нем: Биографический словарь профессоров С.-Петербургского университета. Т. 2. СПб).
…второй мамин брат, Александр… – Александр Васильевич Степанов, адвокат, издатель газеты «Юридический вестник».
…только что умерший Надсон… – Кумир молодежи 1880-х гг. С. Я. Надсон умер от чахотки в Ялте 19(31) января 1887 г.
…упоминалось о… друге Надсона – Мережковском. – С Надсоном Мережковский познахомился в 1880 г., когда был юнкером Павловского военного училища.
«Живописное Обозрение» (СПб., 1872–1905) – еженедельный журнал, в котором появились первые стихи Мережковского (1880).
Vichy (Виши) – горный курорт во Франции.
…только что издал первую книжку стихов. – Первьй сборник Мережковского «Стихотворения. 1883–1887» (СПб., 1888) принес ему известность. Н. К. Михайловский назвал дебютанта «одним из видных наших молодых поэтов»; «Мысль его почти всегда ясна, стихом он владеет прекрасно» (Северный вестник. 1888. № 3).
Успенский Глеб Иванович.(1843–1902) – прозаик, очеркист.
Снятие Василий Кириллович (1820–1892) – крестьянин-сектант, общавшийся с Л. Н. Толстым (в яснополянском кабинете писателя висел портрет Сютаева).
…в Париже с семьей музыканта Давыдова. – Карл Юльевич Давыдов (1838–1889) – виолончелист, композитор, дирижер, профессор и директор Петербургской консерватории в 1876–1887 гг. Его жена – Александра Аркадьевна Давыдова, урожд. Горожанская (1849–1902), издательница литературного и научно-популярного журнала «Мир Божий» (1892–1906), хозяйка литературного салона в Петербурге. Дочь Давыдовых – Лидия Карловна, в замужестве Туган-Бараковская (18691900), публицист, переводчица. В 1899 г. представляла Россию на Всемирном Женском конгрессе. В журнале матери «Мир Божий» заведовала отделом «На родине». Жена экономиста и историка М. И. Туган-Барановского.
Вдохновившись Буддой… – См. стихотворения Мережковского «Сакья-Муни» (1886) и «Будда» («Бодисатва»; 1887).
…единственное стихотворение в «Жив<описном> Об<озрении>»… – Мережковский до знакомства с Гиппиус опубликовал в «Живописном обозрении» стихотворения «Тучка» (1880. № 40), «Осенняя мелодия» (1880. № 42), «Завещание» (1881. № 19), «После чтения» (1885. № 2).
Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, идеолог либерализма
«Сильвио» (Северный вестник. 1890. № 2–5) – фантастическая драма Мережковского; впоследствии печаталась с сокращениями и под названием «Возвращение к природе».
Ольгин день – 11 (24) июля, отмечаемый православной церковью день крещения в Константинополе великой княгини Ольги, ставшей в 969 г. первой христианкой на Руси.
«Как пламя дальнего кадила…» (1887) – Первые строки стихотворения без названия К. Н. Льдова
«Хочу того, что нет на свете». – Неточная цитата из стихотворения Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею…»!' 1893), которым открывается ее «Собрание стихов» (М.: Скорпион, 1903). В опубликованном тексте «Песни»: «Мне нужно то, чего нет на свете».
…район Зола – «Le Reve»… – Роман «Мечта» (1888) из 20-томной серии французского прозаика Эмиля Золя (1840–1902).
…Чехова, о котором только что наткал статью в «Северном Вестнике». – Имеется в виду статья Мережковского «Старый вопрос по поводу нового таланта» (Северный вестник. 1888. № 11).
…с Анной Михайловной Евреиновой во главе… – В «Северном вестнике» (1885–1898) Евреинова была редактором с 1885 по 1890 г. Затем журнал стал издаваться Б. Б. Глинским (в 1890–1891 г.), а с 1891 г. – Л. Я. Гуревич (основная пайщица) и А. Л. Волынским.
Там работая тогда и А. Н. Плещем. – Плещеев до 1890 г. заведовал в «Северном вестнике» литературным отделом.
…первые мои, полудетские, конечно, стихи… в том же «Сев<ерном> Вестнике»… – В 1888 г. в № 12 «Северного вестника» Плещеев напечатал первые стихи Гиппиус: «Я помню аллею душистую…» и «Осенняя ночь и свежа, и светла…».
…в день Михаила Архангела… – Гиппиус родилась 8 (20) ноября 1869 г. В этот день церковь празднует собор архистратига Михаила вождя небесного воинства.
Вольф Маврикий Осипович (1825–1883) – издатель, типограф и владелец фирмы «Универсальная книжная торговля» с сетью магазинов в Петербурге, Москве, Могилеве, Витебске.
…памятник Крылову в Летнем саду… – Памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову (1769–1844) выполнен скульптором Петром Карловичем Клодтом (1805–1867). На пьедестале – рельефы на темы басен Крылова Установлен в Летнем саду в 1855 г.
Александр II (1818–1881) – российский император с 1855 г.
Сергей – С. С. Мережковский.
Николай – Н. С. Мережковский.
Симеон Столпник (356–459) – христианский аскет, родом из Килйкии (в Малой Азии); в Римской империи прославился как мудрый духовный наставник. В 423 г. придумал тот род подвижничества, который в историю церкви вошел под названием столпничества Симеон более 40 лет провел на столбе с площадкой, творя молитвы и пророчествуя Перед толпой верующих, приходивших к нему за утешением.
Николай Чудотворец (Николай Мирликийский, Николай Угодник) – один из самых почитаемых святителей. Жил во времена римского императора Константина Великого (IV в.) и был епископом г. Мир в Ликии (в Малой Азии). Славился тем, что приходил на помощь мореплавателям и утопающим, оказывал заступничество невинно осужденным, вызволял пленников, был заботником о крестьянстве, считался покровителем обучающихся.
«Леонардо» – роман Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», вторая часть трилогии «Христос и Антихрист»; публиковался сперва в журнале «Начало» (1899, первые главы), а затем полностью в течение 1900 г. в журнале «Мир Божий» (Иг 1-12).
…про Минского: «Он в тебя непременно влюбится…» – См. об этом подробно в «Дневнике любовных историй» Гиппиус.
…дружественная семья музыканта Давыдова… – См. примеч. выше.
…скоро переименованный в «Современный Мир»… – Переименование «Мира Божьего» (дек. 1891 – авг. 1906; последний его номер был конфискован цензурой) в «Современный мир» произошло в октябре 1906 г.
Был еще сын Кока… – Николай Карлович Давыдов (1870–1915) служил в 1895–1897 гг. начальником таможенного округа в Зайсане. Ушел в отставку по инвалидности. Брат М. К. Куприной-Иорданской, прототип героя рассказа А. И. Куприна «Черная молния».
И была девочка – приемыш – Муся… – Мария Карловна Куприна-Иорданская (1879–1965), приемная дочь (подкидыш) К Ю. и А. А. Давыдовых. В первом браке жена А. И. Куприна, во втором – Николая Ивановича Иорданского (1876–1928), публициста, редактора журнала «Современный мир» в 1907–1917 гг. Редактор и издательница журналов «Мир Божий», «Современный мир», а в 1920-х гг. «Новый мир».
…издавала – Сабашникова (не знаю, какая…). – Издателем «Северного вестника» была А. В. Сабашникова, в замужестве Евреинова (см. примеч. к «Благоуханию седин»).
…«царь и бог» в журнале был Н. Михайловский. – Н. К. Михайловский в «Северном вестнике» занимал ведущее место в первые три года, а в 1888 г. из-за конфликта с А. М. Евреиновой ушел из редакции.
Ватсон Мария Валентиновна, урожд. де Роберта де Кастро де ла Серда (1848–1932) – переводчица, поэтесса, историк литературы. Биограф С. Я. Надсона, составитель и публикатор его самого полного собрания сочинений (т. 1–2, 1917). Испанка по происхождению. Жена публициста Эрнеста Карловича Ватсона (1839–1861).
…несчастного Гаршина – Всеволод Михайлович Гаршин (18551888) – прозаик, критик. Как и его старшие братья, писатель страдал наследственным психическим расстройством; покончил с собой, бросившись в пролет лестницы.
Урусов А. И., Андреевский С. А. – см. примеч. к «Маленькому Анину домику».
…кружок проф. Ореста Миллера. – Фольклорист, историк литературы, критик, публицист, профессор Петербургского университета Орест (.Оскар) Федорович Миллер был с 1886 г. председателем студенческого научно-литературного общества (см. об этом; Вересаев В. В студенческие годы // Собр. соч. М., 1961. Т. 5).
Семевский Михаил Иванович – см. примеч. к «Благоуханию седин».
«Живописное Обозрение», где Д. С-ча принимал редактор, старый романист Михайлов-Шеллер. – Александр Константинович Шеллер (псевд. А. Михайлов; 1838–1900) – прозаик, поэт. В 1877–1900 гг. редактировал популярный еженедельник «Живописное обозрение», стоявший «вне направлений».
…и я там печатала первые свои стихи (через год и романы…). – В «Живописном обозрении» (1898. № 1) Гиппиус опубликовала стихотворение «Снег» и роман «Победители».
Надежда – Н, С. Мережковская (Затцук).
Владимир – В. С. Мережковский.
Александр – А. С. Мережковский.
Елизавета – Е. С. Мережковская.
Пелеринам (от фр. pelerinage) – паломничество.
«Сергей Забелин» – Гиппиус так называет (по имени главного героя) поэму Мережковского «Вера. Повесть в стихах» (1890).
Исаков П. Н. – см. примеч. к «Благоуханию седин».
Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – поэт.
Издавал романы каких-то двух старых дев (Крыжановских), которым диктовал их дух – Ротнестер. – Имеется в виду Вера Ивановна Крыжановская (1857–1924), автор популярных на рубеже XIX–XX вв. оккультных, историко-фантастических романов, печатавшихся под псевдонимом Рочестер. Будучи, как и ее муж С. В. Семенов, убежденной спириткой, утверждала, что книги ей диктует дух английского поэта Дж. Уилмота графа Рочестера (1647–1680).
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, издатель.
Пьтин Александр Николаевич (1833–1904) – литературовед.
…за свои романы: главным образом – у Шеллера-Михайлова, в Жив<описном> Обозрении, и у Гайдебурова (Наблюдатель). – Имеются в виду романы Гиппиус «Без талисмана» (Наблюдатель. 1896. № 5–9) и «Победители» (Живописное обозрение, 1898. № 1). Павел Александрович Гайдебуров (1841–1893/94) – сотрудник и редактор-издатель газеты «Неделя» (с 1869 г.) и приложения «Книжки „Недели“», публицист, прозаик, драматург. Продолжил издательскую деятельность отца поэт Василий Павлович Гайдебуров (1866–1940). «Наблюдатель» (1882–1904) – литературный, политический и научно-популярный журнал (редактор-издатель А. П. Пятковский).
«Мелкие волны» – роман с таким названием у Гиппиус не найден.
«Символы (Песни и поэмы)» – вторая книга стихов Мережковского (СПб., 1892). По названию сборника вскоре стали именовать новое литературное течение – символизм.
Ормузд и Ариман – в религии Заратустры два противоборствующих божества: бог света и добра Ормузд и бог тьмы, первоисточник зла Ариман.
«Иисус Неизвестный» – исследовательская работа Мережковского (Т. 1–2. Белград, 1932–1934), завершившая его трилогию, в которую вошли «Тайна трех: Египет и Вавилон» (1925), «Тайна Запада: Атлантида и Европа» (1930).
«Тереза Авильская», «Иоанн Креста» – философско-биографические эссе Мережковского: «Испанские мистики. Св. Тереза Иисуса» (Возрождение. 1959. № 92, 93), «Св. Иоанн Креста» (Новый журнал. Нью-Йорк. 1961. Mi СИ, 65; 1962. № 69). Отд. изд. – «Испанские мистики». Брюссель: изд-во «Жизнь с Богом», 1988 (по рукописи Мережковского, подготовленной Т. Пахмусс). См. также изд.: Томск: Водолей, 1998. Тереза Авильская (1515–1582) – испанская монахиня и писательница, святая покровительница Испании (вместе со св. Иаковом); автор сочинений «Путь к совершенству» и «Внутренняя крепость». Иоанн Креста (дон Жуан де Иэпес; 1542? – 1591) – испанский святой, игумен кармелитского монастыря.
…путешествие ело следам Франциска I (которого сопровождая Леонардо)… – Франциск I (1494–1547) – король Франции с 1515 г. Во время Итальянских войн в 1425 г. был пленен. Покровительствовал искусствам, художникам и архитекторам, особенно итальянским, в том числе Леонардо да Винчи, с которым совершил путешествие по Италии. Этот маршрут повторил весной 1896 г. Мережковский, описав его в очерке «Селение Винчи» («Cosmopolis». 1897. Nt 1).
Град Китеж – легендарный русский город, чудесно спасшийся во время монголо-татарского нашествия в XIII в.: как только войска Батыя подошли к Китежу, город стал невидимым и опустился на дно озера Светлояр (Нижегородская обл.). См. очерк-дневник Гиппиус «Светлое озеро» (т. 3 в нашем изд.) о путешествии к раскольникам-старообрядцам.
…собирался писать «Петра I»… – Роман «Петр и Алексей» (Новый путь. 1904. № 1–5, 9-12; Вопросы жизни. 1905. № 1–3), последняя часть трилогии «Христос и Антихрист».
…почти двухлетнее следование за Данте… – Имеется в виду путешествие Мережковских по Италии в декабре 1935 г. и работа над исследованием «Данте» (т. 1–2; Брюссель, 1939). Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка, автор шедевра мировой литературы – поэмы «Божественная Комедия».
«Лютер» – философско-биографическое эссе (Париж, 1941; на фр. яз.) из трилогии «Реформаторы».
«Наполеон» – историко-биографическое повествование Мережковского (т. 1. Наполеон-человек; т. 2. Жизнь Наполеона Белград, 1929).
Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906) – историк, педагог, директор собственной гимназии в Петербурге. Отец Л. Я. Гуревич.
Спасает Владимир Данилович (1829–1906) – юрист, профессор Петербургского университета Автор «Учебника уголовного права» (1863).
Нитше, Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, поэт.
…Хочу того, чего нет на свете… – Неточная цитата из стихотворения «Песня» («Окно мое высоко над землею»; 1893).
…лекцию «О причинах упадка русской литературы». – Эту лекцию и ее продолжение «О новых течениях современной русской литературы» Мережковский прочитал в Русском литературном обществе 26 октября (повторно 8 декабря) и 15 декабря 1892 г. Лекции были опубликованы в 1893 г. брошюрой «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», которая стала первым программным документом нарождающегося символизма
…нового редактора нового «Сев<ерного> Вестника», Флексера – Волынского… – Аким Львович Волынский (наст. фам. Флексер; 1861–1926) – критик, историк, теоретик искусства
…как Льдов-Розенблюм… – См. примеч. к «Благоуханию седин».
Гиппиус Владимир (Вольдемар) Васильевич (псевд. Вл. Бестужев, Вл. Нелединский; 1876–1941) – поэт, прозаик, критик, педагог. Первая книга – «Песни» (СПб., 1897). Родственник З. Н. Гиппиус. Друг А. М. Добролюбова с 1895 г.
Добролюбов Александр Михайлович (1876 – после 2 декабря 1943: так датируется последнее документальное свидетельство о нем) – поэт; автор трех книг «Nature naturam Natura Naturata» (1895), «Собрание стихов», (1900), «Из книги невидимой» (1905). Пережив духовный кризис, Добролюбов весной 1898 г. ушел на всю последующую жизнь «в народ», в поиски своего Бога (см. об этом подробно: Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. [Ученые заниски Тартуского гос. университета. Выл. 459]. Тарту, 1979. С. 121–146; Иванова Е. В. Александр Добролюбов – загадка своего времени // Новое литературное обозрение 1997. М 27. С. 191–236.
…еще один такой «уход», гораздо позднее… – Имеется в виду «уход» поэта, прозаика и религиозного пропагандиста Леонида Дмитриевича Семенова-Тян-Шаиского.
…Сологуб… без «Сев<ерного> Вестн<ика>» не скоро пробил бы себе дорогу. – В «Северном вестнике» Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынского состоялся писательский дебют учителя математики Ф. К. Тетерникова: в феврале 1892 г. здесь было напечатано его стихотворение «Вечер». Далее в основном в этом журнале под псевдонимом Ф. Сологуб он до 1897 г. публиковал свои первые рассказы («Червяк», «Тени». «К звездам»), стихи, рецензии, хроникальные заметки в разделе «Наша общественная жизнь», а также первый роман «Тяжелые сны» (1895. Иг 7-12).
…начал кампанию против евреев… с Надсона… – Имеются в виду В. П. Буренин и его выпады против С. Я. Надсона в газете «Новое время» (1886. 7, 21 нояб.; 1887. 16 янв.). См. также: Надсон С. Я. Проза. Дневники. Письма СПб., 1913. С. 264–267, 288–289, 348). По мнению врача лечившего Надсона, грубая травля, развернутая Бурениным (он оскорбительно назвал его «недугующим паразитом»), ускорила кончину смертельно больного поэта
В его журнале… один или два рассказа. – В «Северном вестнике» напечатаны рассказы и повести Гиппиус «В Москве» (1891. № 5), «Два сердца» (1892. № 3), «Мисс Май» (1895. № 10), «Златоцвет» (1896. № 2), «Зеркала» (1896. № 11), «Среди мертвых» (1897. № 3).
Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский мыслитель и политик, автор сочшгений «История Флоренции», «Государь» и др.
«Тайная Вечеря» – знаменитая стенная роспись в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане, выполненная в 14951497 гг. Леонардо да Винчи (1452–1519).
Первый том рассказов «Яблони цветут»… – Первая книга прозы Гиппиус называется «Новые люди»; она открывается рассказом «Яблони цветут». 1-е изд, сборника – с посвящением А. Л. Волынскому, редактору журнала «Северный вестник» (в наших примеч. к т. 1 журнал ошибочно назван «Русским вестником»).
Кажется, он сразу вышел отдельным изданием. – Роман «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» сперва был напечатан в журналах «Начало» (первые 7 глав; 1899) и «Мир Божий» (1900. № 1-12). Три отдельных издания вышли в 1901–1906 гг.
…задумал сам написать большую книгу о «Леонардо да Винчи». – Книга А. Л. Волынского «Леонардо да Винчи», написанная под впечатлением совместного с Мережковскими путешествия по Италия весной 1896 г., была издана в 1900 г. Русские и зарубежные искусствоведы дали ей высокую оценку. Автор в 1908 т. был избран почетным гражданином Милана, в библиотеке Леонардо его именем стала называться комната, в которой экспонируется его коллекция книг, документов и других материалов о великом гении. Италии.
…он сделался балетоманом. Увлечение балетом пришло к Волынскому после двух путешествий в Грецию, где изучал ритуальные танцы эллинов и увидел в них первоисточник балета. В 1910–1918 гг. публикует об этом статьи в газете «Биржевые ведомости» и журнале «Жизнь искусства», а в 1925 г. издает свое исследование «Книга ликований. Азбука классического танца»;
о. Васильев – в начале 1900-х гг. настоятель русской церкви в Париже, на рю Дарю.
Поликсена Сергеевна Соловьева (псевд. Allegro, А. Меньшов; 1867–1924) – поэтесса, детский писатель, дружившая с Гиппиус. Младшая дочь историка С. М. Соловьева, сестра философа и поэта Вл. С. Соловьева.
Кавос Михаил Альбертович. (7-1897) – приятель Вл. С. Соловьева Сын А. К Кавоса (1801–1863), архитектора, строителя Большого театра.
…дягилевстй кружок. – Кружок молодых художников и любителей искусства во главе с Дягилевым и А. Н. Бенуа на основе которого в конце 1899 г. сформировалось объединение «Мир искусства».
«Передвижники» – демократически настроенные художники, входившие в Товарищество передвижных художественных выставок (18701923). Основатели – И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов.
…две мои статьи, которые не подходили к главной задаче журнала… – Гиппиус имеет в виду свои статьи «Две драмы А. Толстого» и «На берегу Ионического моря» (Мир искусства 1899. К 5 к 7-12).
Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828) –< испанский живописец, гравер.
…письмо-статья Андрея Белого, весьма отвлеченное (первое его выступление в печати)… – Дебют А. Белого в журнале «Мир искусства» две статьи; «Певица» (1902, № 11) и «Формы искусства» (1902. № 12).
…Алена Валерьяновна, женщина удивительной прелести… – Е. В. Дягилева урожд. Панаева мачеха С. П. Дягилева участница Религиозно-философских собраний. Дочь инженера В. А. Панаева построившего в 1870-х гг. «Панаевский» театр на набережной Невы (сгорел ок. 1903 г.).
…он был женат на вдове священника. – Вторая жена Розанова – В. Д. Руднева по первому мужу Бутягина (см. примеч. к «Задумчивому страннику»).
Первая его жена… лет на 25 его старше… – Бывшая любовница Ф. М. Достоевского А. П. Суслова, ставшая женой Розанова, была старше его на 17 лет (см. примеч. к «Задумчивому страннику»).
…в известном рассказе Достоевского «Игрок». – «Игрок» – роман Ф. М. Достоевского (1866).
«Темный лик. Метафизика христианства» – книга В. В. Розанова (1911).
«Вечные спутники» (1897) – сборник очерков Мережковского с подзаголовком «Портреты из всемирной литературы».
…в рисовальной шкале Штиглица. – Александр Людвигович Штиглиц (1814–1884) – барон, крупный финансист, основавший в 1879 г. в Петербурге Центральное училище технического рисования и музей при нем. В залах училища проводились художественные выставки.
…записями, дневниками, которые привезла в Париж в 1905 году… – Имеются в виду записи Гиппиус «Дневник любовных историй» и «О бывшем», при жизни не публиковавшиеся.
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – государственный деятель конца XIX – начала XX вв. Ученый-правовед, переводчик и публицист. Учитель цесаревича Николая Александровича императоров Александра III и Николая II, а также членов семьи венценосцев. С мая 1880 по 1905 г. обер-прокурор Святейшего Синода
Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939) – издательский деятель; с 1897 по 1906 г. редактор общедоступного литературно-общественного и научного «Журнала для всех», затем его продолжений в 1906–1908 гг. – «Народная весть», «Трудовой путь», «Наш журнал», закрытых цензурой; редактор горьковских сборников «Знание», заведовал беллетристическим отделом в журналах «Современник» (с января 1911 г.), «Заветы» (с апреля 1912 г.), «Ежемесячном журнале» и др.
Антоний – см. примеч. к «Задумчивому страннику». Меньшиков М. О. – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
Вас. Скворцов – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
Был занят своей бесконечной работой… – В. А. Тернавцев (см. примеч. к «Задумчивому страннику») после 1917 г. был выслан из Петрограда и преподавал математику в провинциальной школе. До конца своих дней он работал над книгой «Толкование Апокалипсиса», оставшейся неизданной.
Антоний, Сергий – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
Ант. Карташев и Вас. Успенский – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
…недавнего православного Игоря Демидова, сотрудника Милюкова. – Игорь Платонович Демидов (1873–1946) – журналист, политический деятель, кадет. Депутат 4-й Государственной думы. С 1920 г. в эмиграции в Париже. В редакции газеты «Последние новости» был помощником главного редактора П. Н. Милюкова.
…деятели первой, февральско-мартовской революции, учредив патриаршество. – Петр I в 1721 г. заменил Патриаршество Синодом. Титул патриарха восстановлен 5(18) ноября 1917 г. на поместном соборе Русской православной церкви. Главой церкви был избран Тихон (в миру Василий Иванович Белавин; 1865–1925).
…как учредил его ныне Сталин, в лице Сергия… – Сергий (Страгородский) стал патриархом Московским и всея Руси в 1942 г. См. о Сергии примеч. к «Задумчивому страннику».
…условились с одним давним нашим «другой»… – Имеется в виду публицист Илья Исидорович Фондаминский (Фундаминский, псевд. Бунаков (1880–1942). С Мережковскими познакомился в редакции «Нового пути». С 1906 по 1917 и с 1918 г. в эмиграции во Франции, где в 1920 г. стал соредактором главного эмигрантского журнала «Современные записки». Погиб в концлагере Освенцим.
Петров Григорий Спиридонович (1866–1925) – публицист, проповедник, священник (сана лишен в 1908 г.). Известность ему принесла книга «Евангелие как основа жизни» (1898; 20-е изд. – 1906), написанная под впечатлением от религиозных проповедей Л. Н. Толстого.
«Гоголь и о. Матвей» – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
…Сергей Волхонский… был в эту зиму директором импер<аторских> театров… – Художественный критик, мемуарист, прозаик Сергей Михайлович Волконский (1850–1937) возглавлял императорские театры в 1899–1901 гг. Подал в отставку из-за конфликта с балериной М. Ф. Кшесинской, которой покровительствовали члены царской семьи. Автор многих книг, в том числе двухтомника «Мои воспоминания» (Берлин, 1923–1924). В эмиграции с 1921 г. В 1930-х гг. директор русской консерватории в Париже.
…секретарь нашего журнала (он же секретарь и Собраний)… – Е. А. Егоров (см. примеч. к «Задумчивому страннику»).
Алексей Петрович (1690–1718) – царевич, сын Петра I. Выступил против политики отца Казнен.
Его мать, известная «общественная деятельница», была теперь ярая «теософка». – Анна Павловна Философова, урожд. Дягилева (1837–1912) – деятельница женского движения в России, одна из учредительниц первых женских трудовых артелей, в том числе артели переводчиц, а также Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов (1878), инициатор создания Русского взаимно-благотворительного общества (1899).
Анны Безант (1847–1933) – англичанка участница индийского национально-освободительного движения. С 1889 г. последовательница Елены Петровны Блаватской (1831–1891). С 1907 г. президент Теософского общества и издатель журнала «Теософ». В годы 1-й мировой войны возглавляла теософскую Лигу гомруля, выступавшую за самоуправление английской колонии Индии. Автор нескольких книг, в том числе «Древняя мудрость; Очерк теософических учений» (1898; рус. пер. 1913).
«Девочки» – сестры Гиппиус Анна Татьяна и Наталья (см. о них в примеч. к с. 199).
…вместе С нами бежал в Польшу в 20-м году… – Свой путь в эмиграцию Мережковские их секретарь В. А. Злобин и Д. В. Философов начали 24 декабря 1919 г., когда выехали из Петрограда в Минск, а в середине февраля 1920 г. в Варшаву. Здесь Философов возглавил газету «Свобода» (в 1921–1932 гг. называлась «За свободу!»).
Познакомились мы с Д. В-чем очень давно, у известного профессора Максима Ковалевского, на Ривьере… – Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – историк, этнограф, юрист, социолог; общественный и государственный деятель. Знакомство Гиппиус и Мережковского с Философовым произошло на даче Ковалевского (Ривьера, южное побережье Франции). См. о пребывании здесь запись Гиппиус 22 февраля 1893 г. в «Дневнике любовных встреч».
Моя статья о Горьком в «Нов<ом> Пути»… – Имеется в виду статья «Углекислота», опубликованная в разделе «Литературная хроника» журнала «Новый путь» (1904. № 1); в книгу «Литературный дневник» (1908) вошла как вторая часть заметок «Выбор мешка».
Анна Григорьевна Достоевская, урожд. Сниткина (1846–1918) – мемуаристка. Вторая жена Ф. М. Достоевского, выпустившая 7 собраний его сочинений. Собранные ею документы и личные веши стали основой для создания в 1906 г. Мемориальной комнаты писателя при Историческом музее, а в 1928 г. – Музея-квартиры Достоевского в Москве.
Горький (Пешков) появился в Петербурге и в литературе еще в бытность «Северного Вестника» с Фмксером (Волынским) и Гуревич. – В Петербург Горький приехал в конце сентября 1899 г., где состоялось его знакомство с Л. Я. Гуревич, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, директором-распорядителем издательства «Знание» К П. Пятницким (он в 1900 г. издал четырехтомник Горького), Н. К Михайловским, В. Г. Короленко и др. Гуревич и Волынский опубликовали в «Северном вестнике» (1897. № 11, 12) рассказ Горького «Мальва».
…свой первый рассказ «Мальва»… – Неточность: первый рассказ Горького не «Мальва», а «Макар Чудра», который был опубликован 12 сентября 1892 г. в тифлисской газете «Кавказ». До «Мальвы» Горький напечатал более двух десятков рассказов, повестей, очерков, вошедших в его двухтомник (1898), который стал литературным событием и прославил имя писателя.
…Л. Андреев…после первого рассказа… – Первым рассказом Л. Н. Андреева был «Бергамот и Гараська» (Курьер. 1898. 5 апр. № 94).
…поездка в Ясную Поляну… – Мережковский и Гиппиус посетили Л. Н. Толстого в Ясной Поляне в мае 1904 г. Чертков В. Г. (1854–1936) – друг Толстого.
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – священник, агент охранки, организатор шествия петербургских рабочих 9 января 1905 г., расстрелянного войсками («Кровавого воскресенья»). Повешен группой рабочих-эсеров.
Зубатое Сергей Васильевич (1864–1917) – жандармский полковник, начальник Охранного отделении
…появился журнал «Весы» с поэтом Брюсовым во главе… – См. примеч. к «Одержимому».
Моя сестра (Татьяна) написала то портрет (он приложен к советскому изданию «Судьба Блока»). – Первый живописный портрет Блока написай Т. Н. Гиппиус в 1906 г. См. об этом портрете в кн.: Долинский М. 3. Искусство и Александр Блок. М., 1985. С. 250–252. «Судьба Блока» (Л., 1930) – книга О. Немеровской и Ц. Вольпе.
Бакст… портрет Андрея Белого для ближайшей выставки. – Лев Самойлович Бакст в 1905–1906 гг. дважды писал портрет Белого. Первый опубликован в кн.: Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966 («Библиотека поэта». Большая серия); второй (Белый: «я усатый мужчина») – «Золотое руно». 1907. № 1. Об этих сеансах у живописца Белый вспоминал: «Рыжеусый, румяный, умеренный, умница Бакст <…> отказался меня писать просто; ему нужно было, чтобы я был оживлен: до экстаза; <…> для „оживления“ сажалась и Гиппиус; от этого я начинал страдать до раскрытия зубного нерва, хватаясь за щеку; лицо оживлялось гримасами орангутанга: гримасами боли; а хищный тигр Бакст, вспыхивая глазами, подкрадывался к ним, схватываясь за кисть; после каждого сеанса я выносил ощущение: Бакст сломал челюсть; так я и вышел: со сломанной челюстью; мое позорище (по Баксту – шедевр) поздней вывесили на выставке „Мир искусства“; и Сергей Яблоновский из „Русского слова“ вскричал: „Стоит взглянуть на портрет, чтобы понять, что за птица Андрей Белый“. Портрет кричал о том, что я декадент…» (Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 63).
Варламов Константин Александрович (1848–1915) – актер Петербургского Александрийского театра (с 1875 г.), популярный комик-буфф («дядя Костя»).
Вольно-экономическое о-во – Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства (17651919), одно из старейших в России. Последними его президентами были А. С. Посников (1909–1911), Н. Н. Кутлер (1912–1913) и М. М. Ковалевский (1914–1916).
Боря (А. Б.)… – Я ведь тоже химия… – Андрей Белый в 1899–1903 гг. учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета.
Адмирал Рожественский перед своей экспедицией… – Зиновий Петрович Рожественский (1848–1909) – вице-адмирал. В русско-японскую войну 1904–1905 гг. командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, совершившей переход из Балтийского моря на Дальний Восток. Эскадра Рожественского была разгромлена японским флотом в Цусимском сражении 14–15 мая 1905. г. Адмирал попал в плен.
…первое знакомство с Н. А. Бердяевым, известным марксистом… – Бердяев в первых публикациях примыкая к «легальному марксизму». Был также лектором (вместе с А. В. Луначарским) по марксистской философии. В книге «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» (1901; с предисловием П. Б. Струве) подверг критике социологические воззрения Н. К Михайловского с позиций марксизма. Но в 1904 г., став соредактором в журнале Мережковских «Новый путь», в ряде статей демонстрирует отход от своего раннего радикализма.
Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – экономист, историк, философ, критик, публицист, политический деятель; академик Российской Академии наук (1917). Лидер партии кадетов. В 1906–1918 гг. редактор петербургского журнала «Русская мысль». Соавтор сборника «Вехи» (1909), вызвавшего долгую политическую полемику, которая завершилась изгнанием ее участников из России. С 1920 г. в эмиграции. В 1925–1927 гг. под ред. Струве в Париже выходила ежедневная газета «Возрождение», в 1927–1928 – «Россия», в 1928–1934 – «Россия и славянство».
Туган-Барановский М. И. – см. примеч к «Одержимому страннику».
Св. София – храм Айя-София в Стамбуле (Константинополе), памятник византийской архитектуры, построенный в 532–537 гг.
…провидел свою будущую «Атлантиду»… – Имеется в виду книга Мережковского «Тайна Запада. Атлантида – Европа» (Белград, 1930).
Павел I (1754–1891) – российский император с 1796 г. Убит заговорщиками-дворянами.
…путешествие министра Витте в Америку… – Председатель Совета министров России Сергей Юльевич Витте (1849–1915) выезжал в Америку в июле 1905 г. для заключения Портсмутского мирного договора, которым завершилась русско-японская война.
…министр, назначенный на место убитого Плеве, Святополк-Мирский… – См. примеч. к очерку «Мой лунный друг».
Коллонтай Александра Михайловна, урожд. Домонтович (1872–1952) – политический деятель, дипломат, публицист. Первая в мире женщина-посол (в Норвегии, Мексике, Швеции).
…знаменитое обращение Трепова… «патронов не жалеть»… – Петербургский генерал-губернатор Д. Ф. Трепов во время всероссийской стачки в октябре 1905 г. отдал распоряжение расклеить по всем улицам столицы приказ, в котором содержалась печально знаменитая фраза «патронов не жалеть».
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» содержал призыв «ко всем гражданам России помочь прекращению… неслыханной смуты»; в нем также намечалась политическая программа государственных преобразований.
«Когда начальство ушло… 1905–1906» – книга Розанова, вышедшая в 1910 г.
Ушел знаменитый Победоносцев. – КП. Победоносцев, занимавший 25 лет пост обер-прокурора Святейшего Синода, вышел в отставку 19 октября 1905 г. (с оставлением членом Государственного совета, статс-секретарем и сенатором).
Оболенский Алексей Дмитриевич (1856–1933) – член Государственного совета, с 20 октября 1905 до апреля 1906 г. обер-прокурор Святейшего Синода (сменил на этом посту К. П. Победоносцева).
…Ленин… стал издавать газету «Новая Жизнь»… – Первый легальный орган социал-демократии «Новая жизнь» выходил под идейным руководством В. И. Ленина с конца октября по 2 декабря 1905 г.
…Я. М. Минский-Виленкин… сделался сотрудникам ленинской газеты. – Минский стал редактором-издателем «Новой жизни» осенью 1905 г. 13 ноября он печатает здесь свой «Гимн рабочих» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») в соседстве со статьей Ленина «Партийная организация и партийная литература». Вскоре газету закрывают, Минского арестовывают. Выпушенный под залог, он 8 декабря бежит в Париж. Осенью 1913 г. добивается помилования и ненадолго возвращается в Петербург.
…реферат о «мистической розе на груди церкви»… – См. примеч. к «Задумчивому страннику».
…книгу о «мэонах»… – Меон (греч.) – несуществующее. Свою теорию меониэма, религии небытия, воспринятую как философский манифест русского религиозного модернизма, в частности символизма, Н. М. Минский изложил в двух книгах: «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890, 1897) и «Религия будущего. Философские разговоры» (1905).
…молодой человек, кажется когда-то политически «пострадавший»… – Имеется в виду Г. И. Чулков. После крамольной речи 18 ноября 1901 г. на банкете памяти Н. А. Добролюбова и слежки он был в 1902 г. арестован и отправлен в ссылку в Якутию. После возвращения в Петербург Чулков в апреле 1904 г. принял предложение Мережковских стать секретарем в журнале «Новый путь» вместо ушедшего £. А. Егорова.
Штильман Георгий Николаевич (1877–1916) – публицист, юрист. Сотрудник газет «Слово», «Товарищ», «Русское слово», журнала «Вопросы жизни».
…статью о поэте Блоке… – Рецензия (под псевд. X.) на сб. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (Новый путь. 1904. № 12).
Бэла Вияышна – Людмила (Изабелла) Николаевна Вилькина. См. о ней примеч. к «Задумчивому страннику».
Декабрьская книжка 1905 года была последней книжкой «Нового Пути». В январе 1906 года вышла уже книга журнала «Вопросы Жизни». – Ошибка автора: последний номер «Русского пути» вышел в декабре 1904, а первый номер «Вопросов жизни» – в январе 1905 г.
…издатель Д. С-ча Caiman Levy… – Кальман Леви – владелец французской издательской фирмы, в которой выходили книги Мережковского в переводе на французском языке. Кальман Леви издавал также почти все книги А. Франса.
«Люди лунного света. Метафизика христианства» – книга В. В. Розанова, вышедшая в 1911 г.; являлась частью книги «В темных религиозных лучах», тираж которой (немалый: 2400 зкз.) в 1910 г. подвергся цензурному уничтожению (см. подробно в статье А. Н. Николюкина «Возвращенная книга» в изд.: Розанов В. В. В темных религиозных лучах. М.: Республика, 1994).
«Павел I» (1908) – драма Мережковского, ставшая ч. 1 задуманной драматической трилогии (вместо драм были написаны романы «Александр Первый» и «14 декабря»).
Я тоже издала несколько книг… – До 1904 г. Гиппиус издала 4 книги рассказов и первое, «Собрание стихов».
«Грядущий хам» – полемическая статья Мережковского называлась в первой журнальной публикации «Мещанство и русская интеллигенция» (Полярная звезда. 1905. № 1, 3).
«Agenda» (фр. «Записная книжка», «Дневник») – записи Гиппиус 1906–1908 гг., вошедшие в состав ее дневника «О бывшем», и «Записная книжка 1908 года».
…Бальмонт с одной из очередных своих жен… – Имеется в виду Екатерина Алексеевна Бальмонт, урожд. Андреева (1867–1950) – переводчица, знаток европейской и русской поэзии; автор книги «Воспоминания» (М., 1997). Вторая жена К Д. Бальмонта.
…из сыновей московского миллионера Щукина… – Совладелец торгового дома «И. В. Щукин с его сыновьями» Иван Иванович Щукин (1869–1908), художественный критик, коллекционер; покончил с собой в Париже. Брат предпринимателей, известных коллекционеров: основателя Щукинского музея в Москве Петра Ивановича (1853–1912) и собирателя живописи Сергея Ивановича (1854–1936) Щукиных.
Жена профессора Аничкова… – Анна Митрофановна Аничкова, урожд. Авилова (1868–1935) – прозаик, критик, переводчица; печаталась под псевдонимом Иван Странник (Ivan Stxannik). Жена Евгения Васильевича Аничкова (1866–1937), критика, историка литературы, прозаика; с 1917 г. за границей: профессор словесности в Белграде (с 1920) и Скопле (с 1926).
Мария Сергеевна Безобразова, урожд. Соловьева – с 1886 г. жена историка-византолога, прозаика и публициста Павла Владимировича Безобразова (1859–1918).
…известной когда-то красавицей… единственной любовью Влйд. Соловьева. – Екатерина Владимировна Селенина, урожд. Романова (1855-7), сестра милосердия в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Кузина Вл. С Соловьева.
Лагардель Юбер (1875–1914) – французский юрист, публицист, теоретик правого синдикализма.
…светлейшая княжна Анаст. Грузинская… – Приятельница Мережковских с 1907 г., ставшая католической монахиней.
«В чем сила самодержавия» – статья Гиппиус на фр. яз. «Le vrai force du tsarisme», опубликованная в сб.: Le Tsar et la Revolution. Paris, 1907.
Д. Ф. – Д. В. Философов.
И. Бунаков – И. И. Фондаминский.
Савинков принимал ближайшее участие в убийстве Плеве, вел. кн. Сергея в Москве… – Об этих террористических актах и своем участии в них Савинков рассказал в «Воспоминаниях террориста» (1909).
Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Автор книги «Творческая эволюция» (1914). Лауреат Нобелевской премии по литературе.
Severac, Жорж Северак – переводчик на французский язык сочинений Мережковского, Гиппиус, Вл. С. Соловьева.
V. Bach, Виктор Баш – филолог, профессор; парижский знакомый Мережковских.
Ажанда (от фр. agenda) – записная книжка.
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) – революционерка из «Народной воли». Участница подготовки покушений на Александра II. Провела в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости не 12, как пишет Гиппиус, а 20 лет. Автор мемуаров «Запечатленный труд» (т. 1–2, 1964). Сестра певца Н. Н. Фигнера.
Кричевский Борис Наумович (1866–1919) – социал-демократ, один из лидеров «экономизма». В 1903 г. от политической деятельности отказался.
…описывает ото наше… свидание с Жоресом… – См.: Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 135–153.
…после четырех лет пребывания с женою… у Штейнера… – А. Белый с женой, художницей Анной (Асей) Алексеевной Тургеневой жил (с перерывами) в Дорнахе (Швейцария) в августе – октябре 1912 и с марта 1914 до августа 1916 г., где участвовал в строительстве антропософского «храма» Гетеанума и писал исследование «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гете“» (М.: Духовное знание, 1917).
Шюрэ Эдуард (1841–1929) – французский писатель и теософ, ставший приверженцем антропософии Р. Штейнера. Автор пьес-мистерий и книги «Великие Посвященные» (рус. пер. 1914, 1990).
…встретились со Штейнером вечером у… Макса Волошина, тогдашняя жена которого была ярая штейнерианка. – Маргарита Васильевна Волошина, урожд. Сабашникова; 1882–1973) – художница, поэтесса; первая жена поэта и художника М. А. Волошина (венчались 12 апреля 1906 г, в Москве). Была с 1901 г. увлеченной последовательницей антропософского учения Р. Штейнера и увлекла им Волошина См. подробно об этом в ее мемуарах: Волошина М. (Сабашникова М. В.). Зеленая змея: История одной жизни. Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. Примеч. С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижах. М.: Энигма, 1993. В мае 1906 г. Штейнер читал специально для русских слушателей в Парижа цикл докладов о развитии мира, «Он выступил и на небольшом приеме, устроенном для него супругами Волошиными, неожиданно подвергшись нападкам Д. С. Мережковского, явившегося на вечер вместе со своей женой З. Н. Гиппиус, критиком Д. В. Философовым и поэтом Н. М. Минским» (Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина Документальное повествование. СПб.: Logos, 1997. С. 84).
М. Н. Д., ее дочь Мария – Имеются в виду М. Н. Данзас и ее дочь, которой был увлечен Мережковский. Знакомство с ними Мережковского и Гиппиус относится к 1907 г.
«Не мир, но меч» (1908) – сборник полемических статей Мережковского.
…неудавшийся его (Минского) газетный марьяж с Лениным в 1905 году… – Имеется в виду недолгое сотрудничество Минского редактором-издателем в «ленинской» газете «Новая жизнь» (конец октября – 2 декабря 1905 г.), в которой он «пытался привить меонизм к социализму и бежал за границу, не сохранив на родине ни связей, ни симпатий» (Философов Д. История одного легкомыслия // Наша жизнь. 1906. 30 марта).
Савинков был женат на дочери… Глеба Успенского. – Первая жена Б. В. Савинкова Вера Глебовна Успенская.
…с двумя детьми, сыном и дочерью… – Дети Б. В. Савинкова от первого брака: Виктор и Татьяна Успенские.
Каляев Иван Платонович (1877–1905) – эсер-террорист, убивший московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен. Участвовал в подготовке убийства министра В. К. Плеве (убийца Е. С. Сезонов).
Пишбышевский Станислав (1868–1927) – польский прозаик и драматург.
Леон Блюм (1872–1950) – лидер французских социалистов; в 1936–1938 и в 1946–1947 гг. возглавлял правительство.
…оставляя «его» новой жене… – Имеется в виду увлечение Савинкова в 1908 г. сестрой соратника по террористической организации Л. И. Зильберберга Евгенией Ивановной, в первом браке Сомовой (18851942), ставшей его женой (в гражданском браке).
Книжник Иван Сергеевич (Израиль Самойлович; псевд. И. Ветров; 1883–1942) – поэт, литературовед.
…невеста… Сазонова (убийцы Плеве?) Мария Прокофьева… – Егор Сергеевич Созонов (Сазонов; 1879–1910) – эсер, убивший 15 июля 1904 г. министра внутренних дел В. К. Плеве. Покончил с собой в знак протеста против пыток. Его невеста – Мария (Мариэтта) Алексеевна Прокофьева (1883–1913); ей посвятил Б. В. Савинков свой роман «То, чего не было» (1912).
Добролюбова Мария Михайловна – сестра поэта-символиста и религиозного проповедника А. М. Добролюбова.
«Воспоминания» – книга Б. В. Савинкова «Воспоминания террориста» (1909).
…у молодого мецената Щукина… – Имеется в виду младший из Щукиных Иван Иванович (см. примеч. выше).
Сестра жены его (он приехал с женой)… – Сестры Трушевы: Евгения Юдифовна (в замужестве Рапп; 7-1960) и Лидия Юдифовна (в замужестве Бердяева; 1889–1945). Евгений Иванович Рапп (7-1946) – юрист, эсер; в 1917 г. комиссар военного министра Временного правительства А. Ф. Керенского.
Гаврош – парижский мальчик, персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные» (1862).
Кэк-уок (англ, cake-walk – танец-пари из-за лепешки) – популярный американский танец, заимствованный неграми у индейцев.
Блок написал не то статью, не то поэму в прозе… хотел напечатать в «Русской Мысли». – Статья Блока «Россия и интеллигенция» (см. примеч. к «Одержимому»).
Д. Ф. тоже много писал – главным образом в «Речи»… – Журнально-газетные публикации Философова составили три книги его литературного дневника; «Слова и жизнь; Литературные споры новейшего времени. 1901–1908» (1909), «Неугасимая лампада», «Старое и новое» (обе 1912).
В. Гл. – Вера Глебовна Успенская (см. примеч. выше).
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из основателей партии эсеров, ставший провокатором (укрывался псевдонимами Раскин, Виноградов). Разоблачен В. Л. Бурцевым. Владимир Львович Бурцев (18621942) – публицист, издатель, автор книг «За сто лет. 1800–1896; Сборник по истории политических и общественных движений в России» (Лондон, 1897), «В борьбе с большевиками и немцами» (Париж, 1919), «Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания. 1882–1922» (Берлин, 1923; сокраш. изд. – «В погоне за провокаторами». М.; Л., 1928).
…после разоблачения Бурцева, еще защищал этого «товарища». – В Л. Бурцев раскрыл и подтвердил фактами правду о провокаторстве Азефа в беседах с Алексеем Александровичем Лопухиным (1864–1928), бывшим директором департамента полиции. Беседа прошла в экспрессе Кельн-Берлин в сентябре 1908 г. Савинков, выслушав рассказ Бурцева об этой встрече, воскликнул: «Лопухин лжет! Он подослан вам! Ему надо скомпрометировать вас и выслужиться! Азеф выше всех обвинений Лопухина!» (Бурцев Вл. В погоне за провокаторами. М.; Л., 1928. С. 124). Бурцев был призван к суду чести на партийной конференции эсеров летом 1908 г. в Лондоне (см.: Савинков Б. Воспоминания террориста// Избранное. М., 1990. С. 270–283).
Щетинин А. Г. – см. примеч. к «Маленькому Анину домику».
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик. В эмиграции с 1921 г.
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – оперный певец (бас). Пел в Московской Частной русской опере С. И. Мамонтова, Большом и Мариинском театрах. С 1922 г. в эмиграции.
Крестовская Мария Всеволодовна, в замужестве Картавцева (18621910) – прозаик. Дочь писателя В. В. Крестовского (1839–1895).
Мейер Александр Александрович – см. примеч. к с. 347; в 1908 г. подружился с Мережковскими.
…истории епископа Михаила, создавшего секту «голгофцев». – Епископ Михаил (в миру Павел Васильевич Семенов; 1874–1916) – богослов, церковный публицист. Участник Религиозно-философских собраний. После 1906 г., выйдя из секты голгофцев, стал старообрядцем.
Чигаев Николай Федорович (1859–?) – врач, лечивший Мережковских с 1890-х гг.
Мечников Илья Ильич (1845–1916) – биолог и патолог. С 1888 г. в парижском Пастеровском институте. Лауреат Нобелевской премии.
Фомина неделя – вторая после Пасхи.
Троицкий Сергей Семенович (1881–1910) – один из друзей П. А. Флоренского.
Амалия – Амалия Осиповна Фондаминская, урожд. Гавронская (?-1935), жена И. И. Фондаминского-Бунакова, близко дружившая с Мережковскими. Гиппиус опубликовала о ней очерк-некролог «Негасимая свеча. Памяти Амалии Фондаминекой» (Последние новости. 1935. 22 июня).
Прокофьева Мария (Мариэтта) Алексеевна – см. примеч. к с. 335.
Завтра рождение Бориса… – Б. В. Савинков родился 19 (31) января 1879 г.
…напишу ему сонет. – См. в этом томе стихотворение «Январь – алмаз».
…напишу ему стихи самого трудного размера – терцины. – См.: «Не будем как солнце» (т. 5 в нашем изд.).
…в ответных терцинах… – Вероятно, имеется в виду стихотворение В. Ропшина (Б В. Савинкова) «Терцины» («Я вижу дней моих отображены:…»; 1911).
Макаров Павел Макарович (1872–1922) – архитектор; в 1917 г. комиссар Временного правительства.
Мейер Александр Александрович (псевд. А. Ветров; 1875–1939) – религиозный мыслитель, публицист, сотрудничавший в журналах «Новый путь» и «Вопросы жизни». Входил в Религиозно-философское общество. Один из учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфилы). В 1928 г. арестован за «контрреволюционную деятельность» и до 1935 г. отбывал срок на Соловках и в Белбалтлаге.
Манасеина Наталья Ивановна (1869–1930) – детская писательница жившая на даче в Коктебеле. Манасеина и дружившая с нею П. С. Соловьева издавали в Петербурге детский журнал «Тропинка».
«Декабристы» – имеется в виду роман Мережковского о декабристах «14 декабря» (1918).
…южная организация декабристов. – В 1821–1825 гг. на Украине действовала тайная организация декабристов «Южное общество».
…агент убил министра Столыпина. – Министра внутренних дел и председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911) смертельно ранил агент охранки Д. Г. Богров.
…Сологуб с женой… – Ф. Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская.
«Книга о смерти. Мысли и воспоминания» – автобиографическое повествование С. А. Андреевского (т. 1–2. Ревель, 1922).
…бывший помощник Андреевского, Гольдштейн… – Вероятно, Моисей Леонтьевич Гольдштейн (1868–1932), юрист, публицист, общественный деятель. В эмиграции редактор газеты «Последние новости», вице-председатель парижского Союза русских писателей и журналистов (с 1922 г.). Покончил 0 собой.
…покровительствовал некий «писатель» (или вроде) Бонч-Бруевич … – Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955) – политический деятель, литератор, историк, издатель, мемуарист. В 1917–1920 гг. управделами Совнаркома.
Феофан – см. примеч. к «Задумчивому страннику».
…новая его жена, толстый, орущий младенец… – Евгения Ивановна Зильберберг (см. о ней выше) и ее сын Лев Борисович Савинков (1912–1987), впоследствии поэт, журналист; в 1937–1938 гт. боец Интербригады в Испании.
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – политический деятель, философ, теоретик марксизма. Один из лидеров меньшевиков.
Мария Ал<ексеевна> – Прокофьева (см. о ней в примеч. выше); с 1911 г. жила в семье Савинкова, умирая от туберкулеза.
«Свинья-матушка» – статья Мережковского (Речь. 1909. 1 нояб.), ответ Розанову (см. примеч. к «Задумчивому страннику»).
Даже Струве в «Русск<ой> Мысли» обличал Розанова… – Вероятно, имеется в виду статья П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» // Русская мысль. 1911. № 11. Отд. II.
…увлекались кодаками… – Кодак – фотокамера американской фирмы «Истмен Кодак Компани», основанной Дж. Истменом в 1880 г.
…французская делегация, с Poincare во главе. – Раймон Пуанкаре (1860–1934) – президент Франции в 1913–1920 гг. Посетил Россию с официальными визитами в 1912 и 1914 гг. Был сторонником ведения войны до победного конца. Один из организаторов интервенции в Россию в годы гражданской войны.
…тот петербургский дневник (синяя книга)… – Гиппиус 3. И. Синяя книга: Петербургские дневники. Белград: Типография Раденковича, 1929.
Фата-Моргана – одна из редких и сложных форм миража.
Премьера моей пьесы на александрийской сцене с Савиной и Мейерхольдом… – Премьера спектакля «Зеленое кольцо» по пьесе Гиппиус состоялась 18 февраля 1915 г.
«Романтики» – пьеса Мережковского, поставленная В. Э. Мейерхольдом в 1916 г. на сцене Александрийского театра; премьера вызвала оживленные отклики в прессе.
Пьеро – традиционный персонаж итальянских и французских комедий.,
…Перед французскими делегатами Doumergie и Мильераном… – Гастон Думерг (1863–1937) в феврале 1917 г. возглавлял французскую миссию в Петрограде, где настаивал на продолжении войны. Президент Франции в 1924–1931 гг. Александр Мильеран (1859–1943) – французский политический деятель; в 1920–1924 гг. президент Франции.
Палволог Морис Жорж (1859–1944) – французский дипломат, в 1914–1917 гг. посол в России. Автор книг «Царская Россия во время мировой войны» и «Царская Россия накануне революции» (обе М.; Пг., 1923).
…«эстетический комитет»… Случайно попавшие в него… вроде Батюшкова и Бенуа… – Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920) – литературный и театральный критик, историк литературы, журналист. В апреле 1917 г. возглавил управление бывшими императорскими театрами. Батюшков и А. Н. Бенуа были привлечены Горьким к участию в мероприятиях по сохранению памятников искусства.
Кассандра – в греческой мифологии прорицательница, предсказаниям которой никто не верил. Героиня трагедий «Агамемнон» Эсхила и «Троянки» Еврипида.
Львов, назначенный… обер-прокурором Синода… – Помещик, депутат 3-й и 4-й Государственных дум В. Н. Львов (1872-?) исполнял во Временном правительстве должность обер-прокурора Святейшего Синода со 2 марта до 24 июля 1917 г.
Рузский Николай Владимирович (1854–1918) – генерал от инфантерии. Выйдя в отставку в 1916 г. по болезни, жил и умер в Пятигорске (вероятно, здесь с ним встречались Мережковские).
Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – социолог, публицист, один из основателей, руководителей и теоретиков партии эсеров. В мае-августе 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 5 января 1918 г. избран председателем Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции.
Масловский Сергей Дмитриевич (1876–1943) – эсер, прозаик, печатавшийся под псевдонимом Мстиславский.
Бутада (фр. boutade) – раздраженная фраза; выходка.
…Бунаков… в Крым, комиссаром Черноморского флота. – И. И. Фондаминский (Бунаков) в 1917 г. недолго был комиссаром Черноморского флота; моряки делегировали его в Учредительное собрание.
Арестованный Корнилов… убежал. – Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918) – генерал от инфантерии. В июле – августе 1917 г. верховный главнокомандующий. 25 августа возглавил мятеж против Временного правительства. Был арестован, но вскоре освобожден Н. Н. Духониным. Один из организаторов Белого движения и Добровольческой армии. Убит накануне штурма Екатеринодара.
Духонин… зверски убит. – Генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин (1876–1917), исполнявший с 3 ноября 1917 г. обязанности верховного главнокомандующего, был отстранен Совнаркомом от должности за отказ от мирных переговоров с австро-германцами. После занятия Могилевской ставки большевиками был ими убит.
«Христос воскрес, – поют во храме» (1887) – одно из ранних стихотворений Мережковского без названия; положено на музыку С. В. Рахманиновым.
…убийство солдатами Шингарева и Кокошкина в Мариинской больнице… – Андрей Иванович Шингарев (1869–1918) – кадет, депутат Государственной думы. В марте – апреле 1918 г. министр земледелия, в мае – июле министр финансов Временного правительства. Федор Федорович Кокошкин (1871–1918) – юрист, публицист, государственный контролер во Временном правительстве, депутат Учредительного собрания. Переведенные на лечение в Мариинскую больницу из камеры Петропавловской крепости, где содержались под арестом, Шингарев и Кокошкин были здесь зверски убиты солдатами и матросами.
…двух братьев Моисеенко. – Сергей и Борис Николаевичи – друзья Б. В. Савинкова. Борис вместе с Савинковым находился в ссылке в Вологде, был в 1904–1906 гг. одним из руководителей эсеровской «Боевой организации».
Матрос Железняков (Железников) Анатолий Григорьевич (1895–1919) – участник Октябрьского переворота в 1917 г. Командовал отрядами, охранявшими Таврический дворец, где заседало Учредительное собрание. Выполняя распоряжение большевиков, 5 января 1918 г. отдал приказ депутатам покинуть дворец Смертельно ранен в бою на Южном фронте.
Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – с 1905 г. член партии эсеров, идейный руководитель вооруженного выступления левых эсеров в Москве в июле 1918 г. С начала 1920-х гг. в тюрьмах и ссылках. С началом Великой Отечественной войны расстреляна.
Карташев убежал тотчас же. – А. В. Карташев, с августа 1917 г. возглавлявший во Временном правительстве министерство исповеданий, был вместе со всеми арестован. В конце января 1918 г. был освобожден. Бежал за границу не «тотчас же», а через год: в новогоднюю ночь пересек финляндскую границу. С 1920 г. в Париже.
…из бывших приспешников Б. Савинкова… – Максимилиан Максимилианович Филоненко (? – ок. 1950), офицер, верховный комиссар в Ставке Корнилова во время его мятежа.
Деникин Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения в годы гражданской войны. В апреле 1920 г. эмигрировал, передав командование генералу П. Н. Врангелю.
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – генерал от инфантерии, один из руководителей Белого движения в годы гражданской войны. С 1920 г. в эмиграции (главным образом в Великобритании).
Кутепов Александр Павлович (1882–1930) – генерал от инфантерии, участник Белого движения в армии Деникина В эмиграции председатель «Русского общевоинского союза» (с 1928 г.). Выкран агентами ОГЛУ и вывезен из Парижа Умер (по одной из версий убит) по пути в Новороссийск.
Ллойд Джордж Девид (1863–1945) – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из лидеров либеральной партии.
Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, генерал-лейтенант, один из главных руководителей Белого движения. С 1920 г. в эмиграции. В 1924–1928 гг. организатор и председатель «Русского общевоинского союза».
…Д. Ф., еще не переживший трагической смерти трех сыновей своей сестры. – Сыновья 3. В. Ратьковой-Рожновой, урожд. Философовой (1871–1966) Николай, Владимир и Дмитрий Александровичи погибли на фронтах 1-й мировой и гражданской войн. См. в этом томе стихотворение Гиппиус «Три сына – три сердца» (1918), посвященное им.
Сказать – не поверят… – Стихотворение из «Серого блокнота» Гиппиус – в записи от 23 (10) декабря 1919 г. (Гиппиус 3. Дневники. Т. 2. С. 277). Впервые – Русская мысль. 1921. № 3/4.
Четвертый – это студент… – Владимир Ананьевич Злобин, бежавший в эмиграцию с Мережковскими и Философовым.
Дудырев Иван Н. – его отчество Гиппиус называет по-разному: то Николаевич, то Александрович (как правильно, установить не удалось).
Юзеф Чапский (1896–1993) – польский прозаик, критик, издатель. См. о нем: Бялоковоеич Б. Юзеф Чапский и русские писатели (Д. Мережковский, А. Ремизов) // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996. № 3.
Гзовский А. И. (псевд. Юноша, Юноша-Гзовский) – прозаик, публицист, редактор общественно-политической газеты «Минский курьер» (с 1919 г.). В июле – декабре 1920 г. редактор варшавской газеты «За свободу)».
Хитрово Лев Аркадьевич (1878–1933) – прозаик.
Желигоеский Л. – польский генерал; с 1925 г. военный министр Польши.
Пилсудский Юзеф (1867–1935) – маршал, в 1919–1922 и с 1926 г. глава Польского государства.
Мариан Здеховский – литературовед, профессор Виленского университета, приятель Мережковских с 1907 г.
…Любимова, сестра известного Тугам-Барановского… варшавская губернаторша…– Имеется в виду жена сенатора Дмитрия Николаевича Любимова (1864–1942), виленского губернатора в 1906-м, помощника варшавского генерал-губернатора в 1914 г.
…ставленник и представитель несуществующего русского правительства в Париже, Сазонова… – Сергей Дмитриевич Сазонов (1860–1927) – дипломат, в 1910–1916 гг. министр иностранных дел. В 19181920 гг. возглавлял внешнеполитическое ведомство при А. И. Деникине, затем представлял в Париже правительство А. В. Колчака. Последние годы провел в Польше в своем имении под Белостоком. Умер в Ницце.
Искрицкий Борис – публицист, критик.
Семенов – как, предполагает Т. Пахмусс, это Юлий Федорович (1873–1947), критик, редактор журнала «Возрождение» (с 1927 г.).
Тышкевич. Станислав (1887–1962) – граф, борослов-католик, председатель Русско-польского общества, созданного в Варшаве осенью 1920 г.
Струн Анджей (1873–1935) – польский писатель.
Перлы и Дщранты – жемчуга и алмазы; в переносном знач. – что-то редкое, необычное, а также нелепое. Так названы и типографские шрифты самого, малого кегля.
Балахович, Бей-Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) – российский штаб-ротмистр, авантюрист, воевавший сперва на стороне красных (командовал полком). В октябре 1918 г. перешел к бельца, но в 1919 г. ушел и от них. Летом 1920 г. в Польше провозгласил себя атаманом (присвоив себе чин генерала) «Народной добровольческой армии», сотрудничавшей с «савинковским» Русским политическим комитетом. В октябре-ноябре устроил «поход на Москву», в котором принял участие и Б. В. Савинков. После похода принял польское гражданство, политической деятельностью не занимался. Убит при невыясненных обстоятельствах.
…не страшнее ли, не грешнее ли Сережа Попов, смиреннонежный толстовец? – Сергей Михайлович Попов (1887–1932) – единомышленник Л. Н. Толстого. В,октябре 1914 г. переписывал и распространял антивоенное воззвание «Опомнитесь, люди-братья!», в котором призывал «любить врагов». Был привлечен к судебной ответственности вместе с группой других толстовцев. Обыск был учинен также в доме вдовы Толстого Софьи Андреевны.
Знакомство с Булановым и Гершельманом… – См. об этом; Гиппиус 3. Варшавский дневник. Запись 1 ноября 1920 г., совпадающая с текстом в «Дмитрии Мережковском». Николай Георгиевич Буланов в Варшаве входил в состав Русского политического (Эвакуационного) комитета, который действовал во главе с Савинковым с июля 1920 по октябрь 1921 г. и считался ядром русского антибольшевистского правительства. В 1930–1939 гг. Буланов стал председателем Русского общественного комитета (РОК) в Польше. Близкий друг Д. В. Философова в эмиграции. Карл Львович Гершельман (1890–1951) – поэт, прозаик, входивший в «савинковский» Русский комитет в Варшаве.
Родимее Федор Измайлович (1852–1932) – юрист, публицист, член ЦК партии кадетов, депутат Государственной думы четырех созывов
Деренталь (наст. фам. Дикгоф) Александр Аркадьевич (1885–1939) – литератор, переводчик, политический деятель; эсер. Участвовал в убийстве Талона После 1918 г. соратник Б. В. Савинкова вместе с которым 16 августа 1924 г. вернулся в Советскую Россию. Подвергся репрессии в 1937 г. Расстрелян.
Брут – псевдоним Наума Ефимовича Броуда, частного поверенного из Одессы. Проиграв в Монте-Карло казенные деньги, в Россию не вернулся, стал парижским корреспондентом газеты «Русское слово».
Дочь Брута – жена Деренталя. – Любовь Ефимовна Дикгоф-Деренталь, урожд. Броуд (1900-?). С 1920 г. подруга Савинкова (формально оставалась женой А. А. Дикгофа-Деренталя).
Глазвнап – вероятно, офицер из Добровольческой армии Деникина; входил в Эвакуационный (Русский) комитет.
Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) – юрист, депутат 1-й Государственной думы (1906) от кадетов.
…знаменитое «чудо на Висле». – Имеется в виду поражение, которое нанесли Красной Армии поляки 16–18 августа 1920 г. на Висле, откуда началось их контрнаступление.
Бунаков с женой… в Париж… – И. И. Фондаминский (Бунаков) 5 апреля 1919 г. вместе с женой, а также с М. А. Алдановым, В. В. Рудневым, А. Н. Тблстым и др. эмигрировал через Константинополь во Францию.
…первые дни нашего Парижа… – Мережковские выехали из Варшавы 20 октября 1920 г. и в Париже обосновались, с ноября этого года.
…в 23 году эта отвратительная катастрофа с Савинковым. – Вероятно, имеется в виду возвращение Савинкова в Россию, его арест и суд над ним в августе 1924 г.
Petit, Пети Евгений (Эжен) Юльевич (1871–1938) – адвокат, политический деятель. Друг Мережковских с 1907 г. В 1920–1924 гг. генеральный секретарь управления президента Франции.
…видели мельком, – Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. – Борис Константинович Зайцев (1881–1972) – прозаик, драматург, публицист, мемуарист, переводчик; В эмиграции с 1922 г. Александр Иванович Куприн (1870–1938) – прозаик; в эмиграции с 1919 г., в 1937 г. вернулся в СССР. Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) – прозаик; в эмиграции с 1922 г.
«Общее Дело» – газета, издававшаяся разоблачителем агентов царской охранки В. Л. Бурцевым в Петрограде (с 26 сект, по 7 нояб. 1917 г.) и в Париже (в 1918–1922 и 1928–1934 гг.).
…изд-во Полмера – Чайковского. – Это были парижские издательства: Земского и Городского объединения российских граждан за границей (бывшего Земгора), выпускавшего «Бюллетень», и «Русская земля», издававшего в 1920–1922 гг. художественную литературу. Здесь в 1921 г. вышли книги Д. С. Мережковского «14 декабря» и З. Н. Гиппиус «Небесные слова». Тихон Иванович Полнер (1864–1935) – журналист, публицист, литературовед, мемуарист. В эмиграции с 1919 г. Основатель издательства «Русская земля», соредактор журналов «Голос минувшего на чужой стороне» (1926–1928) и «Борьба за Россию» (1926–1931).
Эррио Эдуар (1872–1957) – с 1916 г. неоднократно министр, в 1924–1926, 1932 гг. премьер-министр Франции.
…отметила его первую вещь… – В заметках, публиковавшихся в 1910–1911 гг. в газете «Русская мысль» (раздел «Литература и искусство»), Гиппиус (А. Крайний) неоднократно упоминает Алексея Николаевича Толстого (1882/83-1945), уверенно входившего в литературу.
Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – государственный деятель, член Государственного совета (с 1906). В 1908–1915 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием. В июне 1920 г. помощник главнокомандующего русской армией генерала Врангеля и глава правительства Юга России; в ноябре эмигрировал и умер в Берлине.
…приехал Гессен из Берлина… – Иосиф Владимирович Гессен (1865, по другим свед. 1866–1943) – юрист, публицист. Один из основателей партии кадетов. В 1920 г. эмигрировал в Берлин, где был избран председателем Союза русских писателей и журналистов и возглавил издательство «Слово». В 1920–1931 гг. соредактор газеты «Руль». В 1921–1937 гг. издавал «Архив русской революции». С 1935 г. в Париже. В 1941 г. уехал в Нью-Йорк.
…мою книжку последних стихов… – Имеется в виду сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» (Берлин, 1922).
К. д. – кадет, член партии конституционных демократов.
«Руль» (17 нояб. 1920 – 14 окт. 1931) – газета, основанная в Берлине И. В. Гессеном, А. И. Каминкой (1865–1940) и В. Д. Набоковым (1869–1922).
«Последние Новости» (27 апр. 1920 – И июня 1940) – парижская ежедневная русская газета, первым редактором которой был М. Л. Гольдштейн. С 1 марта 1921 г. главным редактором стал П. Н. Милюков.
Сияния*
Гиппиус З. Н. Сияния. Париж: изд. фирма «Дом книги», 1938 (серия «Русские поэты», вып. 2). Тираж 200 экз. В нашем изд. приводятся датировки текстов этого сборника, сообщенные Темирой Пахмусс А. В. Лаврову, составителю и комментатору книги Гиппиус «Стихотворения» (СПб., 1999). О последнем прижизненном сборнике стихов Гиппиус рецензии и статьи опубликовали журналы «Современные записки» (Париж. 1938. № 67. М. О. Цетлин), «Русские записки» (Париж. 1938. № 10. С. Осокин), газеты «Иллюстрированная Россия» (Париж. 1938. 4 июня. № 24. В. С. Мирный), «Последние новости» (Париж. 1938. 9 июня. № 6283. Г. В. Адамович. Литературные заметки), «Возрождение» (Париж 1938. 17 июня. № 4136. В. Ф. Ходасевич. Двадцать два).
Сиянья (с. 435). Русские записки. Париж, Шанхай. 1937. № 2.
Идущий мимо (с 435). Современные записки. 1924. № 18. Под названием «Прошедший мимо» и с датой: «1924. Грасс».
Мера (с. 436) Числа. Париж. 1930. № 1. Дата: «Июнь 1924 г., villa Tranquille».
Над забвеньем (с. 436). Современные записки. 1932. № 49. Дата: «Сентябрь 1928 г.; Cafe des Allees Cannes».
Женскость (с 437). Новый корабль. Париж. 1927. № 1. Под названием «Падающее». Дата: 1923 г.
Вечноженственное (с. 437). Новый корабль. 1928. № 3. Дата: «Январь 1928 г., Париж». Сольвейг – героиня драматической поэмы «Пер Гюнт» (1867) норвежского драматурга Генрика Ибсена. Тереза – Мари Франсуаза Тереза Мартен (Тереза Лизьеская; 1873–1897), французская монахиня из ордена кармелиток, канонизированная в 1925 г. См. о ней: Мережковский Д. Маленькая Тереза. Мария – Богоматерь.
Неотступное (с. 438). Современные записки. 1926. № 27. Дата: «Ноябрь 1925 г., villa Alba».
Южные стихи (с. 439–440). 1. За что? Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи» под названием «Сумерки» и с датой: «Июнь 1923. Грасс». 2. Лягушка. Современные записки. 1927. № 31. 3. Жара. Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи». 4. Дождь. Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи» под названием «Мелькнули дни…» и с датой: «1923. Грасс».
Стихи о Луне (с. 440–441). Последние новости. 1925. 11 октября. № 1677. Третье стихотворение этого цикла см.: «Месяц» (в сб. не включено).
Быть может (с. 441). Современные записки, 1930. № 44. Под названием «Быть может?», с посвящением поэту, критику, переводчику Георгию Викторовичу Адамовичу (1892–1972) и с датой: «Сент. 1938 г». Адамович – автор рецензий о творчестве Гиппиус и мемуарного очерка о ней.
Ясность (с. 442). Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) – поэт; с 1920 г. в эмиграции. Один из активных участников парижского литературного кружка Мережковских «Зеленая лампа». Гиппиус называла его «другом № 1» и посвятила ему поэму «Последний круг»
Прорезы (с. 442). Окно. Париж. 1923. № 1. Дата: «13 августа 1918 г. С.-Петербург».
Как он (с. 442). Числа. 1930. № 1. Под названием «Вверх» и без посвящения Георгию Адамовичу – см. примеч. к стих. «Быть может».
Горное (с. 443). Современные записки. 1930. № 43.
Ей в горах (с. 443). Из цикла стихотворений, подаренных поэту, прозаику, критику, мемуаристу Нине Николаевне Берберовой (1901–1993). Стих. 3-е см. «Ей в Thorenc. III».
Наставление (с. 444). Современные записки. 1925. № 23 и в сб.: Памяти Амалии Фондаминской. Париж, 1937.
Ключ («Был дан мне ключ заветный…») (с. 444). Современные записки. 1925. № 23. Дата: «1924, Париж».
Прошла (с. 445). Современные записки. 1923. № 14. Дата: «1921, Висбаден».
Втайне (с. 445). Современные записки. 1926. № 27.
St. Therese de L’Enfant Jesus (c. 446). Современные записки. 1925. № 23. St Therese de L’Enfant Jesus (фр. Св. Тереза Младенца Иисуса) – см. примеч. к стих. «Вечнаженственное».
Зеркала (с. 446). Современные записки. 1923. № 15. Под названием «Зеркала повсюду» и с датой: «1922, Париж».
Воскресенье (с. 447). Современные записки. 1933. № 52. Под названием «О воскресенья» и без посвящения. Д. М. – Д. С. Мережковский.
…Кроме слов – последних – Фомы. – Имеются в воду слова апостола Фомы, вначале не поверившего в воскресение Иисуса Христа. Когда же ему было позволено коснуться Иисуса и услышать его голос, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Евангелие от Иоанна, гл. 20, ст. 28).
Всё равно (с. 447). Числа 1930. № 1. Под названием «Вниз».
8 ноября (с. 448). Числа 1933. № 9. Дата 1933 г. 8 ноября – день рождения Гиппиус и день Собора Архистратига Михаила
Eternite fremissante (с. 448). Современные записки. 1934. № 54. Без посвящения. Etemite fremissante (фр. трепещущая вечность) – термин философа Анри Бергсона Варшавский Владимир Сергеевич (1906–1978) – прозаик, публицист, увлеченно занимавшийся изучением философии А. Бергсона
Равнодушие (с. 449). Возрождение. Париж. 1928. 9 февраля. № 982. Под названием «Он – без плаща» и с датой: «1927, Париж». Эпиграфы – из стихотворений Гиппиус «В черту» (1905) и «Час победы» (1918).
Когда? (с. 450). Современные записки. 1924. № 20. Под названием «Etolle» (фр. звезда). Дата: «1 марта 1924 г., Париж».
Игра (с. 450). Современные записки. 1930. № 44. Дата «1930. Le Cannot».
Веер (с. 451). Современные записки. 1924. № 20. Под названием «Веер времени».
Сложности (с. 452). Современные записки. 1933. № 52. Дата: 1933.
Лазарь (с. 452). Окно. 1923. № 1. Под названием «Рыжее кружево (о Петербурге)» и с датой: «8 ноября 1922 г.». Лазарь – житель Вифании, воскрешенный Иисусом Христом (см.: Евангелие от Иоанна, гл. 11, ст. 38–44). Воспоминание об этом чуде церковь празднует в Лазареву субботу (в шестую неделю Великого поста, в канун Вербного воскресенья). Петр чугунный… – Памятник Петру I в Петербурге.
Грех (с. 453). В сб. «Сияния» текст поврежден при наборе: восстановлен А В. Лавровым по автографу (Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999).
Домой (с. 453). Современные записки. 1923. № 15. Дата: «1922, Париж».
Стихотворения 1911–1945, не включенные в авторские сборники*
Неуместные рифмы (с. 457). Северные цветы. Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911.
Январь – алмаз (с. 459). Автограф беловой рукописи – в Государственном архиве Российской Федерации. Фонд 5831 (Б. В. Савинков). On. 1. Ед. хр. 126. Л. 57. Поводом для написания стихотворения послужила очередная годовщина дня рождения Савинкова – 19/31 января.
Кипарисы (с. 459). Современные записки. 1925, № 25. С датой: 1911.
Свое (с. 459). Литературное обозрение 1990. № 9. Публикация Н. А Богомолова по автографу (РГБ. Ф. 386. Карт. 56. Ед. хр. 16. Л. 9-11), посланному В. Я. Брюсову в 1911 г.
Амалии (с. 461). Сб. «Памяти Амалии Осиповны Фондаминской». Париж, 1937. Об А О. Фондаминской см. примеч. к стих. «Протяжная песня».
Сергею Платоновичу Каблукову (с. 461). Русская литература. 1991. № 2 (публикация А Л. Соболева по списку в дневнике С. П. Каблукова). Квблркое С. П. (1881–1919) – педагог, музыкальный критик, секретарь Петербургского Религиозно-философского общества. …Кухоя Чертовых обманы… – «Чертова кукла» – роман Гиппиус Текст стихотворения и факсимиле его белового автографа воспроизведены на шмуцтитуле первого издания этого романа: М., 1911.
«Оле» (с. 461). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. Оля – Ольга Александровна Флоренская.
Девочка (с. 462). Тропинка. 1912. № 1.
«Аркаша, Аркаша…» (с 463). Аркаша – А В. Руманов. Верино – имение в Петербургской губернии (близ Ямбурга), где Мережковские жили летом 1912 г.
Ответ *** (с. 463). Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапергутто. 1914, № 2.
Тебе (с. 464). Возрождение. Париж. 1955.
На – крест (с. 465). Сирин. Сб 3. СПб, 1914. В цикле «Молчания».
Три креста (с. 465). День. 1914. 21 окт. № 286. Номер газеты посвящен «Героической Белыми», оказавшей мужественное сопротивление немцам в 1-й мировой войне. В подборке опубликованы стихи А Блока, И. Северянина, Ф. Сологуба, а также статья Д. Мережковского «Убийца лебедей».
Завяжи (с 465). Биржевые ведомости. 1914. 2 марта (утр. выл.). № 14032.
Серебряный день (с. 466). Женский сборник в пользу Ялтинского попечительства о приезжих больных и больных туберкулезом из действующей армии. М., 1915. Посмертная публикация под названием «Анне Осиповне Лурье»: Русский сборник. Кн. I. Париж, 1946.
Опрощение (с. 466). Вершины. 1915. № 6. Отклик на проповедничество Л. Н. Толстым опрощения.
«Плотно заперта банка…» (с. 466). Русская литература. 1991. № 2 (публикация А. Л. Соболева с неточностью).
«Нет выбора, что лучше и что хуже…» (с. 467). Русская литература. 1991. № 2 (публикация А. Л. Соболева).
«Ходит, дышит, вьется, трется между нами…» (с. 467). Русская литература. 1991. № 2 (публикация А. Л. Соболева).
Жизнеописание Ники (с. 467–474). Русская литература. 1991. № 2 (1-е стих, цикла, публикация А. Л. Соболева). В иэд.: СПб., 1999 печ. по списку в дневнике С. П. Каблукова с его подстрочными пояснениями (РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 39. Л. 205 об. 217).
1. «Нет, я не льстец/» – Из стихотворения А. С. Пушкина «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»; 1828). Трус (древнерус.) – землетрясение. Серафим Саровский (в миру Прохор Сидорович Мошнин; 1754, по другим данным 1759–1833) – один из самых почитаемых старцев и затворников Саровской Пустыни (в Нижегородской обл.). Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – см. о нем примеч. к с. 295. Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, государственный деятель. С 1903 г. председатель Кабинета министров. Гриша – Г. Е. Распутин (см. о нем в примеч. к «Маленькому Аниному домику»).
2. Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) – граф, генерал-лейтенант, в 1897–1917 гг. министр императорского двора, член Государственного совета. В 1921 г. эмигрировал в Финляндию. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Военный министр в 1898–1904 гг. В русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Маньчжурии (потерпел поражения под Ляояном и Мукденом). В 1916–1917 гг. туркестанский генерал-губернатор.
3. «Буря мглою небо…» – Из стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…», 1825). Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический деятель, крупный помещик, один из лидеров партии октябристов. В 1911–1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственных дум. Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) – в 1906, 1914–1916 гг. председатель Совета министров, член Государственного совета (с 1899). Сашхен, Александра Федоровна (наст, имя Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская; 1872–1918) – императрица, жена Николая II (с 1894). Расстреляна с семьей большевиками. Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже – председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943), редактор газеты «Последние новости». В «Речи» сказано: «спасен // Претерпевый до конца». – Гиппиус неточно цитирует фразу из статьи Д. В. Философова «Рождественские мечты австро-германцев»: «Претерпевый до конца спасен будет» (Речь. 1915. 25 дек. Nt 355). Чем не министр Владимирин Бориска? – Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917) в январе 1916 г. сменил на посту председателя Совета министров И. Л. Горемыкина, отправленного в отставку…с Алешкою убивцем. – Алексей Николаевич Хвостов (1872–1918), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов, ушедший в отставку вместе с Горемыкиным. Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) – политический деятель, депутат 4-й Государственной думы (1912–1917). После Октябрьского переворота 1917 г. член Комитета спасения родины и революции В 1920–1925 гг. неофициальный советский торгпред во Франции. Репрессирован. Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – политический деятель, один из лидеров меньшевиков. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум. В 1917 г. председатель Петросовета и Президиума ВЦИК 1-го созыва. В эмиграции покончил с собой. Чхенкели Акакий Иванович (1874–1959) – политический деятель, депутат 4-й Государственной думы. С 1918 г. председатель временного Закавказского правительства С 1921 г. в эмиграции. Ганфман – редактор газеты «Речь». Бонди – редактор газеты «Биржевые ведомости».
Вере (с. 474). Русская литература 1991. № 2. Публикация А. Л. Соболева Вера – Федосеева Вера Емельяновна (1896 –?), студентка
С лестницы (с. 474). Русская литература 1991. № 2. Публикация A. Л. Соболева Хипесница (арго) – проститутка обворовывающая своих клиентов.
О: («Знаю ржавые трубы я…») (с. 475). Автограф – в письме к B. А. Злобину от 13 окт. 1916 г. (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 41). А. В. Лавров в примечаниях к этому стихотворению поясняет: «Тексту предшествует следующий иронический пассаж: „Я вспоминаю, Владимир Ананьевич, что мы о многих поэтах забыли. <…> В конце концов, я даже склоняюсь и к Маяковскому. Он противен, но не без значения же. А противен он, может быть, потому, что сам себе иногда бывает противен. (Это бы дай Бог ему!) Всякую противность можно понять – по-человечески. Я бы могла, пожалуй, ему в таком роде сказать что-нибудь“ – далее следует текст стихотворения, после чего Гиппиус заключает. „Фу, как затянул меня! Даже надоела. Спешу кончить это письмо“» (Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 540).
«Опять мороз! И ветер жжет…» (с. 475). Русская литература. 1991. № 2. Публикация. А. Л. Соболева. Там молодой штейнерианец… – Имеется в виду Андрей Белый, в 1910-е гг. увлекшийся антропософией немецкого философа Рудольфа Штейнера и пропагандировавший его мистическое учение среди русских писателей и деятелей культуры. …Сологуб с Чеботаревскай… – Поэт, прозаик драматург Федор Сологуб (наст, имя и фам. Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927) и его жена критик, переводчица Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876–1921). …Василий Розанов и дщерь – Василий Васильевич Розанов и, по предположению А. В. Лаврова, его старшая дочь Татьяна Васильевна Розанова (1895–1975). Волынский (наст. фам. Флексер). Аким Львович (1861–1926) – литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства. Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик, мемуарист. С 1921 г. в эмиграции. Пяст (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик, стиховед; автор мемуаров «Встречи» и учебника «Современное стиховедение».
Рано? (с. 476) Грядущее. Кисловодск. 1917. Сентябрь. № 2. Вариант с незначительными изменениями под названием «Имя»; Новый корабль. 1927. № 1;
Имя
Святое Имя, среди тумана, Звездой далекой горит в ночи. Смотри и слушай. И если рано – Будь милосерден: молчи! молчи! Мы в катакомбах. И не случайно Зовет нас тайна и тишина. Всё будет явно, что ныне тайно Тому, в ком тайне душа верна.Ленинские дни (с. 477). Петтора Симон Васильевич (1879–1926) – поЛитичёский деятель. В 1917 г. один из организаторов Центральной Рады на Украине. В 1918 г. возглавил вооруженное восстание против гетмана П. П. Скоропадского. С февраля 1919 г. руководитель Директории. С октября 1920 г. в эмиграции. Убит террористом в Париже из мести за еврейские погромы.
Издевка (с. 477). Огонек. 1918. 26 (13) мая. № 12.
Мелешин-Вронский (С. 477). В кнл Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. Наш дружносельский комиссар… – Дружноселье – имение близ станции СиВерская под Петербургом, где летом 1917 и 1918 гг. жили Мережковские. В 1919 г. комиссар Мелешин был директором совхоза «Дружноселье» – до прихода белых войск осенью этого Года (А. В. Лавров Но сообщению А. В. Бурлакова). Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. Радсмыслыжий; 1883–1936) – член ЦК РСДРП(б) в 1907–1927 гг.; с декабря 1917 г. председатель Петроградского Совета. Один из организаторов «красного террора». Репрессирован. Уршуаш Моисей Соломонович (1873–1918) – политический деятель; с марта 1918 г. Председатель Петроградской чрезвычайной комиссии (ЧК). Один из организаторов «красного террора». Убит террористом. Иль сын Израиля – Леон… – Имеется в виду Л. Д. Троцкий (см. о нем в примеч. к стих «Божий суд»). Прошьян Прош Перчевич (1883–1918) – один из организаторов и лидеров партии левых эсеров …разнесчастная Маруся? – Мария Александровна Спиридонова (1884–1941), лидер левых эсеров, идейный руководитель их вооруженного выступления в июле 1918 г. в Москве. С начала 1920-х гг. в тюрьмах и ссылках. В 1941 г. расстреляна. Зоф Вячеслав Иванович (1889–1937) – рабочий-металлист, в 1919 г. член Реввоенсовета Балтийского флота, с 1925 г. начальник Военно-Морских Сил СССР. Репрессирован. Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – лидер эсеров, в январе 1918 г. председатель Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции. Володя Злобин – В. А. Злобин (1894–1967), поэт, прозаик, критик.
Копье (с. 478).; В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
В Дружносельи (с. 479–480). Звено. Париж. 1926. 21 февр. № 160. Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. Автор шедевра мировой литературы – поэмы «Божественная Комедия». Беатриче – возлюбленная Данте, героиня «Божественной Комедии» и его автобиографической книги стихов и прозы «Новая жизнь».
Невеста (с. 480). Современные записки. 1922. № 10. –
Звездоубийца (с. 481). Современные записки. 1930. № 43.
Сон (с. 482). Современные записки. 1926. № 27.
Три сына – три сердца (с. 482). Сегодня. 1924. 26 апр. № 94. 3. В. Р. Р. – 3. В. Ратькова-Рожнова (см. о ней и ее сыновьях в примеч. к стих. «Ему»). Три ее сына погибли в 1-й мировой И гражданской войнах. В дневнике 1 сент. 1918 г. Гиппиус записала: «У Ратьковых убили (б<ольшеви>ки) третьего и последнего сына – старшего» (Гиппиус З. Н. Дневники. Черные тетради. М., 1999. С. 141).
Мир сей… (с. 485). Современные записки 1930. № 43.
Не за мной (с. 486). Современные записки. 1922. № 10.
16 (с. 487). Новый журнал. 1952. № 30.
Программа (с, 487). Современные записки. 1923. № 15.
Большевицкий сой (с. 487). Современные записки. 1932. № 49. Ам…ии – Амалии.
Красноглазое (с. 488). Звено. 1923. 19 марта. № 7; Современные записки. 1925. №, 25.
А. Блоку («Впереди 12-ти не шел Христос…») (с. 489). В кн: Орлов Вл. Поэма Александра Блока «Двенадцать». М., 1962.
Двое (с. 489). А. и Л. – А. А. Блок и его жена Любовь Дмитриевна Блок, урожд. Менделеева (1881–1939).
Хобиас (с. 489). Центральный образ стихотворения А. В. Лавров связывает с английской сказкой, изложенной в русском издании детским писателем и художником Валерием Вильямовичем Карриком (1869–1942): Каррик В. Хобиасы. СПб., 1911 Хобиас – злобное фантастическое существо.
Не согласные рифмы (с. 490). Звено. 1923. 19 марта. № 7.
Петербург («В минуты вещих одиночеств…») (с. 490). Окно. 1923. № 1. Эпиграф – автоцитата из стихотворения «Петербург» («Твой остов прям, твой облик жесток…»; 1909).
Презренье (с. 491). Возрождение. Париж. 1949. № 5. Дата: предположительно осень 1919 г.
Твоя любовь (с. 491). В кн.: Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С датой: 17 октября 1918 г.
Сад Двух (с. 492). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
Рай (с. 492). Виленский курьер. 1920. 28 янв. (под названием «Рай земной»); Русская мысль. 1921. 3/4 (в цикле «Из С.-П.-Б.-ского дневника 19 года»; текст этого изд.). В альбом ***, в СИб-ге. – В автографе – «В Альбом, Чуковскому», с пометой «СПб., Дек. 1919, перед бегством» (в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972). Чуковский Корней Иванович (наст, имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) – критик, литературовед, историк литературы, детский писатель, переводчик. «…почтительнейше билет возвращаю…» (Ив. Карамазов). – Из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», слова Ивана Карамазова, обращенные к брату Алексею (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 223).
«Никогда не читайте…» (с. 493). Новый журнал. 1961. № 64.
«…Сказаны все слова…» (с 494). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
Надежда моя (с 494). Современные записки. 1923. № 14. Амалия – А. О. Фондаминская.
Ничего (с. 494). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
Рыдательное (с. 495). Современные записки. 1923. № 14. …твоей одежды не коснусь… – Воспроизведена строка из стихотворения А. Блока «Русь» («Ты и во сне необычайна…»; 1906).
Бродячая Собака (с. 496). Возрождение. Париж. 1929. 19 марта. № 1386. «Бродячая собака» (1911–1915) – популярное в Петербурге литературно-художественное и артистическое кабаре. Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – поэт. В Берлине был в 1922 г. вместе с женой Айседорой Дункан. Толстой Алексей Николаевич (1882/ 83 – 1945) – прозаик, драматург, публицист. В 1921–1923 гг. жил в Берлине.
Голубой конверт (с. 497). Современные записки. 1923. № 14. В автографе дата: «Париж, 2 июля 1922».
Цифры (с. 497). Числа. 1933. № 9. В автографе дата: «1922 в Париже».
«Господи, дай увидеть!..» (с. 497). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. Симеон – праведник из Иерусалима, которому было предсказано, что он не умрет, доколе не увидит Иисуса Христа (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 25–34).
Извержение Этны (с. 498). Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи». В автографе дата: «Grasse. Июнь 1923». Этна – вулкан на острове Сицилия.
Гурдон (с. 498). Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи». В автографе дата: «23 августа 1923. Grasse». Гурдон – селение в Приморских Альпах на юге Франции (между Ниццей и Грассом). A Miss May Noms – героиня повести Гиппиус «Мисс Май» (см. т. 1 в нашем изд.).
Падающее (с. 499). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
Сбудется (с. 499). Современные записки. 1924. № 20. В автографе дата: «1924, Париж».
Верность (с. 500). Современные записки. 1924. № 18. И. И. Ф-му – И. И. Фондаминскому.
Пламя (с. 500). Современные записки. 1924. № 18. В цикле «Южные стихи».
«Любовь уходит незаметно…» (с. 501). Новый журнал. 1961. № 66. В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945 Munchen, 1972 – по автографу с добавлением новой строфы (между 1-й и 2-й):
Я не боюсь ее скольженья: Любовь сумеет умереть. Скорей, чем я, в своем забвеньи, О ней успею пожалеть.Слово? (с. 501.) Современные записки. 1925. № 25.
Лик (с. 502). Современные записки. 1925. № 23. В автографе дата: «24 – 2 – 1924 Париж».
Две сестры (с. 503). Современные записки. 1925. № 23. В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972 – по автографу с первой строфой:
Ты хочешь Жизнь любить? Люби. Но с честным и святым вниманьем. Ее Сестру – не оскорби Непонимающим незнаньем.Негласные рифмы (с. 503). Современные записки. 1925. № 25.
Память (с. 503). Возрождение. 1928. 9 февр. № 982.
Подожди (с. 504). Современные записки. 1927. № 31. В автографе дата: «1925. Cannet» («революция выкормила его, как волчица Ромула…»). Д. М. – Из романа Д. С. Мережковского «Наполеон» (у автора: «революция вскормила»). Ромул – по преданию основатель (вместе со своим братом-близнецом Ремом) г. Рима (ок. 753 до н. э.) и его первый царь. Братья были вскормлены молоком волчицы.
Месяц (с. 504). Последние новости. 1925. 11 окт. № 1677. 3-е в цикле «Стихи о луне»; 1-е и 2-е стихотворения цикла см. в сборнике «Сияния»: «Пятно» и «Стена». В автографе дата: «1925. Июль – Авг. – Сент. Villa Alba».
Ответ Дон-Жуана (с 505). Новый дом. 1926. № 1. В автографе дата: «1924?» и название «Ответ Дон-Жуана (ответ Адамовичу)». Ответ Гиппиус на стихотворение Г. В. Адамовича (см. о нем на с. 675), опубликованное в этом же номере «Нового дома»:
Дон-Жуан, патрон и покровитель Всех, кто не находит забытья, Первомученик, первоучитель Дон-Жуан, – тебя ль не вспомню я? На Монмартре, в сумерки, в отеле С первой встречною наедине, Наспех, молчаливо… Неужели Знал ты все, что так знакомо мне? Также ль умирала, воскресала, Улетала вдаль душа твоя? Также ль ей казалось слишком мало Бесконечности и бытия? И потом, почти в изнеможеньи, С отвращеньем глядя на кровать, Также ль ты хотел просить прощенья. Говорить, смеяться, плакать, спать?«Дана мне грозная отрада…» (с. 506). Новый корабль. 1927. № 2 (под псевдонимом: В. Витовт).
«Улица. Фонарь. И я…» (с. 506). Pafhmuss Тата. Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. Из переписки 3. H. Гиппиус. Munchen, 1972. С. 218. Тексты этого и двух других («Ночую за полтиницей», «Милая, выйди со мной на балкон…») стихотворений были под псевдонимом «В. Витовт» посланы В. А. Злобину с припиской. «<Милостивый> Государь. Позволяю себе просить вас в случае достоинства напечатать следующие мои стихотворения» (Там же С. 217). Об этой попытке литературной мистификации, вскоре раскрытой, Злобин вспоминает в своей книге о Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970. С. 31). Улиир. Фонарь. Ия. – Ироническая перекличка со стихотворением А. А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1912).
«Ночую за полтиницей…» (с. 506). Там же.
«Милая, выйди со мной на балкон…» (С.-507). Там же.
О Тундре (с. 507). «Тундра» (Прага, 1925) – роман о русской эмиграции Евгения Александровича Ляцкого (1868–1942), этнографа, фольклориста, историка литературы, публициста. Ляцкий С 1922 г. в эмиграции в Праге: профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы Карлова университета, руководитель издательства «Пламя» (1923–1926). Автор трудов о Пушкине, Гончарове, Достоевском, Л. Толстом.
«Люблю огни неугасимые…» (с. 508). Новый журнал. 1961. № 64. В автографе дата: «1926 Париж».
Октябрь (с. 508). В кн.: Гиппиус 3. И. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
Отраженность (с. 509). Современные записки. 1927. № 31. В автографе дата: «1926. Cannet».
Две (с. 509). Новый журнал. 1952. № 30. В автографе дата: «1919–1927. Париж».
Стихотворный вечер в «Зеленой Лампе» (с 510). Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. «Зеленея жита» (1927–1939) – литературное объединение в Париже, организованное Д. С Мережковским и З. Н. Гиппиус. См. о нем подробно: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 38–79. Берберова Н. Н. – см. о пей в примеч. к стих. «Ей в горах». Злобин В. А. – см. о нем на с. 677. Бунин И. А. – см. о нем на с. 645. Ходасевич Владислав Фелициаяович (1886–1939) – поэт, прозаик, критик, мемуарист. С июня 1922 г. в эмиграции. В 1927–1939 гг. возглавлял литературно-критический отдел в парижской газете «Возрождение». Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) – поэт, критик, прозаик, драматург, литературовед, мемуарист. Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – поэт, прозаик. Ирина – Ирина Николаевна Одоевцева (1895–1990), поэтесса, прозаик; жена Г. В. Иванова Юрочка – Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) – поэт, критик. Цеткин Михаил Осипович (псевд. Амари; 1882–1945) – поэт, критик, прозаик, переводчик, издатель, мемуарист. В 1920–1940 гг. – редактор отдела поэзии в журнале «Современные записки»; в 1942–1945 гг. – один из редакторов-основателей (вместе с женой М. С. Цеглин и М. А. Алдановым) «Нового журнала» в Нью-Йорке. Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) – прозаик, поэт, публицист, журналист, переводчик, мемуарист. В эмиграции с 1920 г. В 1925 г. стал одним из организаторов парижского Союза молодых поэтов и писателей. Сотрудничал в газете «Последние новости». В 1946 г. принял советское гражданство и в марте 1955 г. вернулся в СССР. Автор известных исторических романов. Кнут Довцд (наст, имя и фам. Давид Миронович Фиксман; 1900–1955) – поэт, прозаик; в 1926–1927 гг. соиздатель журнала «Новый дом».
Тройное (с. 511). Современные записки. 1927. № 31. В автографе дата: «1927, Париж». '
Ей в Thorenc (с. 511). Гиппиус 3. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978. 3-е стих, в цикле (см 1-е и 2-е «Ей в горах» в сб. «Сияния»).
Белград (с. 511). В кн.: Тштиус 3. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. В 1928 г. Гиппиус и Мережковский в составе парижской делегации выезжали в Белград, где с 25 сентября по 5 октября приняли участие в работе Первого зарубежного съезда русских писателей и журналистов. Съездовские мероприятия длились еще не менее месяца. Вот некоторые из mix. 30 сентября – литературный вечер в Белградском университете, где свои произведения читали Гиппиус, Мережковский, Вас. Н. Немирович-Данченко, Б. К Зайцев, А. И. Куприн и др. 1 октября – вечер русской литературы. 11 октября – вечер Мережковского и Гиппиус. Проводились также лекции, торжественные спектакли в честь русских писателей, чай-концерты, вечера поэтов. На заключительном заседании Съезда 1 октября был оглашен королевский указ о награждении русских литераторов югославскими орденами. Высший орден Св. Саввы 1-й степени был вручен Немировичу-Данченко и Мережковскому, орден Св. Саввы 2-й степени получили Гиппиус, Зайцев, Куприн, Е. Н. Чириков, Е. В. Спекгорский, орден Св. Саввы 3-й степени – А. А. Яблоновский, В. В. Руднев, А. А. Боголепов, Н. М. Могилянский, С. И. Варшавский, С. М. Кельнич, А. И. Ксюнин, орден св. Саввы 5-й степени – Н. М. Волковыский и Е. В. Жуков. На Crolsette (с. 512). Числа. 1930. № 1. В автографе дата: «24 сент. 1929. Villa Tranquille. Le Cannet».
Смотрю (с. 512). Современные записки. 1930. № 43.
В старом замке (с. 513). Современные записки. 1930. № 43.
Хорошая погода (с. 513), Современные записки. 1930. № 44. В автографе дата: «1930 Le Cannet».
Жить (с 514). Современные записки. 1932. № 49.
В новой (с. 514). Современные записки. 1932. № 49.
Стены (с. 514). Памяти Амалии Осиповны Фондам инской. Париж, 1937.
Здесь («Чаша земная полна…») (с. 515). Современные записки. 1933. № 52.
Счастье (с. 515). Современные записки. 1934. № 54. В автографе дата: «Весна 1933».
У маленькой Терезы (с 515). Современные записки. 1934. № 54. В автографе дата: 1933. Тереза – см. примеч. к стих. «Вечноженственное».
Ты (с. 516). Современные записки. 1934. № 54. В автографе дата: «24 дек. 1933». См. вариант в эпиграфе к сб. «Сияния».
На фабрике (с. 516). Числа. 1933. № 9.
Другой (с. 517). Современные записки. 1935. № 57. Г. С. В-р – Татьяна Сергеевна Варшер (1880–1960), историк, археолог, автор книги «Виденное и пережитое в советской России» (Берлин. 1923); приятельница Гиппиус.
Условия (с. 517). Современные записки. 1935. № 57.
Отъезд (с. 517). Современные записки. 1935, № 57. Стихотворение – воспоминание о бегстве из Петрограда в эмиграцию 24 декабря 1919 г.
Две сестрицы (с. 518). Современные записки. 1938. № 67. В автографе дата: «1938 Париж».
Арфа (с. 518). Новый журнал. 1961. № 64.
Тереза (с. 519). Cahiers du Monde russe et sovietique. 1980. VoL XXI. № 2. P. 230. Публикация Темиры Пахмусс. Тереза – см. примеч. к стих. «Вечноженственное». Жата – народная героиня Франции Жанна д’Арк (ок. 1412–1431).
Слова и Молчанья (с. 519). Современные записки. 1938. № 67. В автографе дата: 1937.
Remember! (с. 520). Современные записки. 1938. № 67. В автографе дата – 25 января 1938. …Тот край, где о «прости» уж и помину нет… – Последняя строка стих. В. А. Жуковского «Прости» (1811). В разлуке вольной таится ложь… – Последняя строка стих. М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно…» (1841).
Придверннк (с. 520). Современные записки. 1938. № 67.
Прежде. Теперь (с. 521). Новый журнал. 1952. № 28. В автографе дата «Февраль 1940. Париж»,
Стужа (с. 522). Новый журнал. 1961. № 66. В автографе дата: 1941. «Тереза, Тереза, Тереза, Тереза…» (с. 522). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. Тереаа – см. примеч. к стих. «Вечноженственное».
«Одиночество с Вами… Оно такое…» (с. 523). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
В. Злобину – см. о нем примеч. к стих. «Говори о радостном».
Дар («Есть Божий дар. С ним жизнь милей и краше…») (с. 523). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Mflnchen, 1972.
«Я больше не могу тебя оставить…» (с. 524). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972. Д. С. Мережковскому – см. о нем примеч. к стих. «14 декабря 17 года».
B. А. Злобину – см. о нем примеч. на с. 677. St. Genevieve – русское кладбище под Парижем Сен-Женевьев-де-Буа, на котором в 1941 г. был похоронен Д. С. Мережковский, а в 1945-м – З. Н. Гиппиус.
«Когда-то было, меня любила…» (с. 524). Возрождение. 1958. № 76 (в кн. В. Злобина «Тяжелая душа»). Злобин здесь поясняет: «Это единственное стихотворение Гиппиус, написанное в женском роде». Маковский утверждает, что стихотворение «без сомнения, написано с мыслью об умершем уже тогда Д. В. Философове» (Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 122).
Не одним хлебом… (с. 525). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
«Я был бы рад, чтоб это было…» (с. 525). В кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 2: 1918–1945. Munchen, 1972.
«По лестнице… ступени все воздушней…» (с. 526). Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 122. Маковский предваряет публикацию стихотворения Гиппиус примечанием: «А вот – совсем последние ее строки. Они сочинены накануне смерти. Она уже не могла писать и продиктовала их В. А. Злобину». Злобин уточняет полупарализованная Гиппиус написала это четверостишие «за несколько недель до своей смерти» на обложке антологии русской поэзии «Якорь» (Берлин, 1936) – «левой рукой, справа налево, так что прочесть написанное можно только в зеркале» (Злобин В. Тяжелая душа. C. 12).
Последний круг (И новый Дант в аду)*
Возрождение. 1968. № 198 (публикация Темиры Пахмусс; две версии текста поэмы).
Как вспоминает К Д. Померанцев, поэма посвящена В. А. Мамченко (Померанцев К. Сквозь смерть: Воспоминания. Лондон, 1986. С. 63).
Владислав Ходасевич. З. Н. Гиппиус. Живые лица*
Современные записки. 1925. № 35.
Письмо З. Н. Гиппиус к В. Ф. Ходасевичу*
В кн.: Гиппиус З. Н. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978.
Примечания
1
Очерк был написан в 1922 г. Брюсов умер в конце 1924-го
(обратно)2
Заранее оговариваюсь, что возможны мелкие фактические неточности, особенно в датах. У меня нет под рукой никакого материала, ни моих записей, ни писем (Здесь и далее примечания принадлежат З. Н. Гиппиус – Ред)
(обратно)3
«Тысяча и три» (ит.); слова из арии Лепорелло в опере В. А Моцарта «Дон Жуан».
(обратно)4
в стиле модерн (фр.).
(обратно)5
Отец Б. Бугаева – Андрея Белого.
(обратно)6
«комфорт модерн», «современные удобства» (фр.).
(обратно)7
«поддержке» (фр.).
(обратно)8
энергия (фр.).
(обратно)9
«мне наплевать» (фр.); о человеке, которому на все наплевать, цинике.
(обратно)10
«насмешник» (фр.).
(обратно)11
сколько? (ит.).
(обратно)12
пять (ит.).
(обратно)13
1 кафе низкого пошиба (фр.).
(обратно)14
певица… Иветт Гильбер (фр.).
(обратно)15
лифт (фр.).
(обратно)16
Так в оригинале – Ред
(обратно)17
если вы любите (фр.)
(обратно)18
Было бы интересно сравнить эти два тома «Писем к жене»: Чернышевского из ссылки, из далекого, в снегах затерянного, городка в Сибири, – и Чехова из Ялты, которую он тоже называл местом своей «ссылки».
(обратно)19
английская вышивка (фр.).
(обратно)20
За точную дословность не ручаюсь.
(обратно)21
Впервые: Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. // Гиппиус Зинаида Николаевна (8 (20) ноября 1869, Белев, Тульская губ. – 9 сентября 1945, Париж) – поэт, прозаик, критик, мемуарист.
(обратно)22
З. Н. ошибается. Существует одна автобиография Д. Мережковского, приложенная к полному собранию его сочинений, «Вторая» – почти дословная перепечатка первой. (Прим. В. А. Злобина.)
(обратно)23
бабушка (фр.).
(обратно)24
компаньонка (фр).
(обратно)25
Хитрая бестия (франц.).
(обратно)26
Славянская душа (франц.).
(обратно)27
Оплошность (франц.).
(обратно)28
Напечатана в полном собрании сочинений. – В. 3.
(обратно)29
Семенов-Тин-Шанский.
(обратно)30
Эпатировать, ошеломлять обывателя, буржуа (франц.).
(обратно)31
Буренин. – В. З.
(обратно)32
изящной словесностью (фр).
(обратно)33
«Это Флобер и Анатоль Франс!» (фр.).
(обратно)34
Здесь: «конечный этап брачной любви» (фр.).
(обратно)35
оптом (фр.).
(обратно)36
Давние выставки картин, ежегодные, переезжавшие потом в разные города (передвижные) и обычно состоявшие из картин старых, признанных традиций художников.
(обратно)37
предназначенность, предопределенность (фр.).
(обратно)38
У З. H. это выразилось в форме эпиграммы. Привожу ее тем более, что она нигде не записана:
Курятнику петух единый дан. Он властвует, своих вассалов множа, И в стаде есть Наполеон – баран. И в «Мир искусстве» есть – Сережа.(В. З.)
(обратно)39
Сорванец (фр.).
(обратно)40
С В. Ф. Нувелем. (В. З.)
(обратно)41
Обер-прокурор Синода – представитель государственной власти в церкви, главою которой считается сам самодержец-помазанник.
(обратно)42
Очень вдолге, лет через 12–15, когда мы уже совсем потеряли друг друга из виду, нам говорили, что Тернавцев служит теперь секретарем в Синоде, но ни облика своего, ни интереса к хилиазму не потерял. Здесь, в эмиграции, кто-то говорил Д. С., который его очень любил и признавал, что он в Сибири, весь белый, но хилиазму не изменил. Для незнающих, что такое хилиазм, – скажу, что это учение о царствии (Божием) на земле в течение тысячи лет (по откровению св. Иоанна). А если я напомню, что одна из главных идей, или стремлений, или воздыханий Д. С. Мережковского была «Царствие Божие на земле» Adveniat Regnum Tuum, понятными становятся и близость его к Тернавцеву, и его утверждение.
(обратно)43
Примеч. 1943 г. Это тот самый Сергий, который при большевиках сумел среди всех расстрелов, ссылок и гонений на духовенство не только сберечь себя, но даже сделать беспримерную карьеру. Как – мы в подробностях не знаем, а догадаться легко, хотя бы по его требованию к эмигрантской русской церкви, (уже будучи митрополитом и заместителем патриарха – первый, настоящий заместитель был сослан и погиб) – требованию признать «лояльность» Советской власти. Это было в 1929 году и, конечно, исходило от самой Советской власти, из желания ее создать среди зарубежья, хотя в ее услугу, кое-какую смуту. Некоторое время это волновало умы, тем более, что вся «либеральная» зарубежная пресса (для старых либералов-эмигрантов, ведь религия была по-прежнему реакция, в лучшем случае «quantité négligeable» (Незначительное количество, фр.) горой стала за лояльность. К голосу этих журналистов примкнули даже голоса бывших марксистов, недавно сравнительно православных, христиан, как Н. Бердяев, например, или тоже недавнего православного Игоря Демидова, сотрудника Милюкова.
К счастью парижский митрополит, долго не решавший дела, выбрал полумеру, обратившись к грекам, и тем избег хотя бы кар и отлучений, какими грозил Сергий «верным» зарубежникам. Этот случай еще больше отдалил Д. С. Мережковского от «интеллигентов»-эмигрантов, которые войдя или не входя в Церковь, будучи или не будучи масонами и евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к Советской власти относиться. А Сергий, между тем, по благословению Сталина (и по нужде) сделался, в самое последнее время, целым патриархом.
(обратно)44
Фондаминским. – В. З.
(обратно)45
Здесь: несформировавшийся, несозревший (фр.).
(обратно)46
ни стыда ни совести (фр.).
(обратно)47
самонадеянность (фр.).
(обратно)48
восхвалениями (фр.).
(обратно)49
Чигаева. – В. З.
(обратно)50
ничто (лат.).
(обратно)51
О Брюсове у меня тоже есть специальный очерк, а потому здесь я о нем говорю лишь мельком.
(обратно)52
Рутенберг. – В. З.
(обратно)53
Пресные воды (франц.).
(обратно)54
навязчивая идея (фр.).
(обратно)55
Замечу, что когда, вдолге, я прочла статью Вл. Соловьева «Смысл любви» – я была поражена, как близок Соловьев этой идее. Хотя конец, мне кажется, не совсем ясно определен.
(обратно)56
Начало известной итальянской поговорки «Se non е vero, е Ьеn trovato»: «Если это и не верно, то хорошо выдумано».
(обратно)57
«Записная книжка», «дневник» (фр.).
(обратно)58
«Меркюр де Франс» – известная французская газета.
(обратно)59
Не так давно, в 36 или 37 г., Д. С. и я встретились с ним в Риме, за завтраком у тогдашнего франц. посла Chambrun, а потом даже были в его чудесной, стильной вилле в римской Кампанье. Сначала мы его не узнали: не было уже ни длинной черной бороды, ни прежнего молодого огня. Он первый вспомнил наше давнее парижское знакомство и тотчас же стал для нас как бы тем же, столь же приятным, как тогда.
(обратно)60
С ней мы впоследствии часто встречались в СПБ, потом она уехала в Польшу, и в последний раз мы видели ее в 20-м году, в Вильне, когда бежали из Советской России. Она была тогда уже в одной полумонашеской католической общине (монахиней в миру). В Минске пережила большевистское нашествие, была арестована и долго сидела в тюрьме с уголовными и проститутками, не теряя мужества и светлого настроения. Кажется, через два года, в той же общине, в Вильне, она умерла – еще совсем молодая.
(обратно)61
Северный экспресс (фр.).
(обратно)62
аббату (фр)
(обратно)63
Папа? Это превышение власти (франц.).
(обратно)64
«Союз моральных действий» (фр.).
(обратно)65
«Беседа о смысле бытия» (фр.).
(обратно)66
«Летопись христианской философии» (фр.).
(обратно)67
папское послание (фр.).
(обратно)68
обновление, возрождение (фр.).
(обратно)69
Высшая педагогическая школа в Париже.
(обратно)70
В крепости (франц.).
(обратно)71
Вы героиня, сударыня, не так ли? Вы героиня? (фр.).
(обратно)72
Зала Востока (фр.).
(обратно)73
квартал (фр)
(обратно)74
Высшей школе (фр.)
(обратно)75
Дальнейшую судьбу этого «писателя» (да и человека) я отмечу впоследствии. Здесь скажу только, что он пытался после подражать себе же романисту. Написал «Конь вороной» (так был, очевидно, ушиблен первым «Конем»), но это было уже слабо и ненужно.
(обратно)76
«Кроткая Франция» (фр.).
(обратно)77
Чигаева. – В. З.
(обратно)78
пристанище (фр).
(обратно)79
«У мамы апоплексический удар. Состояние тяжелое» (фр.).
(обратно)80
дань уважения (фр.).
(обратно)81
Вот, господа, мы во власти революции! (франц.)
(обратно)82
атташе (фр)
(обратно)83
Это было не так (я присутствовал на этом вечере). Сначала читал проф. Сперанский. Потом был перерыв. В перерыве, в артистической, какой-то комиссар объявил, что довольно, – вечер отменяется и, обратившись к Сперанскому, спросил: «Адрес Достоевского?» На что Сперанский ответил: «Митрофаньевское кладбище». Этим все кончилось. Ни Д. С., ни (кажется) Сологуб, не читали. Все сейчас же ушли домой.
(обратно)84
«Европа лицом к СССР» (фр.).
(обратно)85
Впоследствии, как было слышно, он перешел к религии, но точного о нем ничего не знаю.
(обратно)86
«Сердце Жаннетты» (фр.).
(обратно)87
мало-помалу, придет весна… (франц.).
(обратно)88
«две маленьких скверных комнаты» (фр.)
(обратно)89
спальном (вагоне) (англ.)
(обратно)90
Только через несколько лет Горвиц был разоблачен как платный московский агент, и даже судим.
(обратно)91
главы государства (фр.).
(обратно)92
без отца (фр.).
(обратно)93
Бывший военный министр России (франц.).
(обратно)94
Текст у меня так и не сохранился (примечание позднейшее).
(обратно)95
«Мой милый Августин» (нем.).
(обратно)96
От фр. «Je m'en fiche!» (наплевать!), циник.
(обратно)97
Вас не отпустим (франц.).
(обратно)98
Св. Тереза Младенца Иисуса (фр.).
(обратно)99
Трепещущая вечность (фр.).
(обратно)100
Ник – Никс – Николай II. (Подстрочные примечания к тексту сделаны С. П. Каблуковым.)
(обратно)101
Ф. – спирит, лечивший Ал<ександру> Ф<едоровну>, рождавшую только девочек.
(обратно)102
После открытия мощей пр<еподобного> Серафима Саровского родился у Николая сын Алексей, очень болезненный.
(обратно)103
9 января 1905 года – манифестация рабочих с св<ященником> Гапоном во главе перед Зимним дворцом была разогнана казаками.
(обратно)104
Гр<аф> С. Ю Витте, инициатор манифеста 17 октября 1905 года.
(обратно)105
Гриша – Григорий Ефимович Новых, прежде Распутин, ныне «придворный духовный собеседник» с жалованием в 12 000 р. в год, по слухам едва ли неверным – любовник жены Ник<олая> и постоянный его советник во всем.
(обратно)106
С 19 июля 1914 г. в России запрещена продажа вина и спиртных напитков, но пьянство уменьшилось мало.
(обратно)107
Георгиевская дума присудила ему знак ордена Георгия 4 степени.
(обратно)108
Старый гр<аф> Фредерикс – министр Имп<ераторского> Двора – из немцев.
(обратно)109
Два казака, отличившиеся особой военной удалью и жестокостью.
(обратно)110
А. Н. Куропаткин – бывший главнокомандующий во время неудачной для нас Японской войны 1904 г., теперь командует армиями Северо-Западного фронта.
(обратно)111
Поезда, ждущие Н<иколая>, затрудняют гражданское железнодор<ожное> движение.
(обратно)112
Частые поездки в действующую армию.
(обратно)113
Предс<едатель> 4-ой Государственной Думы камергер М. В. Родзянко надоедает Н<иколаю> своими предостережениями, требованиями, указаниями и пр.
(обратно)114
Статс-секретарь И. Л. Горемыкин, бывший дважды после 1905 г. Председателем Совета Министров – последний раз с 1914 – февраль 1916 г., когда по рекомендации Распутина был уволен и заменен гофмейстером Борис<ом> Влад<имировичем> Штюрмером.
(обратно)115
Сашхен – и<мператри>ца Александра Феодоровна.
(обратно)116
Мардарий – иеромонах черногорец, выдает себя за секретаря митрополита Черногорского, студент 4-го (?) курса здешней Д<уховной> Академии. Отличается особенным женолюбием и, по мнению женщин, красотою. При дворе является конкурентом Распутина.
(обратно)117
Гри-Гри – Распутин.
(обратно)118
Павел Николаевич Милюков – лидер конституционно-демократической партии. Историк. Депутат Думы всех 4-х созывов – известный общественный деятель.
(обратно)119
«Ка-дет» – принадл<ежащий> к конституционно-демократической партии.
(обратно)120
«Эн-эс» – член партии народных социалистов (н.-с.).
(обратно)121
«Эс-эр» – социалист-революционер (с.-р.).
(обратно)122
См. «Речь» 25 дек. 1915 г., ст<атья> Д. Философова.
(обратно)123
Д. В. Философов – друг З. Гиппиус и мой – известный публицист, радикал и общественный деятель.
(обратно)124
Разумеется Гр. Распутин.
(обратно)125
И. Л. Горемыкина.
(обратно)126
Борис Владимирович Штюрмер – заменил Горемыкина – ср. выше пр<имечание>.
(обратно)127
Алешка убивец – так называет Григ. Распутин Алексея Николаевича Хвостова, заменившего князя Н. Щербатова в должности Министра Внутренних Дел и на днях уволенного. Подозревается в замысле устроить покушение на Гр. Распутина.
(обратно)128
Чхеидзе, Чхенкели и Скобелев – социал-демократы, члены Государственной Думы.
(обратно)129
Ганфман – редактор газеты «Речь».
(обратно)130
Бонди – редактор газеты «Биржевые Ведомости» – «Биржевка».
(обратно)131
Имеется в виду приезд Николая на открытие весенней думской сессии 1916 г в Таврический Дворец.
(обратно)132
Помни! (англ).
(обратно)133
На всякий случай (фр.).
(обратно)134
Храм, святилище, убежище (фр).
(обратно)135
Что называется (фр).
(обратно)136
о мертвых – ничеrо, кроме хорошеrо (лат.).
(обратно)


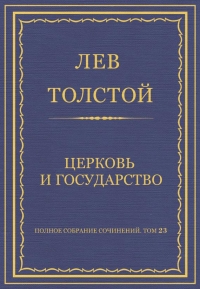
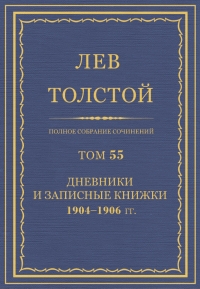
Комментарии к книге «Том 6. Живые лица», Зинаида Николаевна Гиппиус
Всего 0 комментариев