Бывши в дороге прошлым летом между Е. и Т., я захворал. Ехал я на порожних: обозный ямщик ехал в Т. за кладью. И, несмотря на то, что мы ехали с пустыми телегами, лошади шли шагом и ямщик не понуждал, говоря, что надо же и им, то есть лошадям, вольготность дать. А так как лошади шли тихо, то телегу сильно трясло, так что, проехав таким манером двести пятьдесят верст, я подумывал отдохнуть где-нибудь.
Объявил я о своей болезни ямщику, тот ничего не сказал. Объявил в другой раз — он улыбнулся и как-то недоверчиво посмотрел мне в лицо. Однако я потом уже надоел ему.
— И!.. Што ж такое — болезь!.. И отчего у те болезь?..
Я стал его уверять, что болезнь и с ним может случиться; он с этим согласился и рассказал, как в котором-то году он так захворал в дороге, что его чуть не мертвого привезли в село и как его вылечила тетушка Опариха; ж том он вдруг спросил меня:
— Больно болит-то?
— Больно, хоть помирать, так в ту же пору.
— Эко дело!.. Гм… На постоялый не пустят, потому — помилуй бог… возня! А ихнее дело тоже… где возжаться!.. Одново разу этак семинарист на постоялом захворай… Так што ж бы ты думал?.. Все от него захворали… Беда!.. Увели к одному мужику — и там все захворали… Оказия!!
— Ну, моя болезнь не такая.
— Кто тебя знает… А ты ужо потерпи денек-то… право может, ветер-то и разнесет… Может, и пройдет… А тут к Опарихе.
— Что же это за женщина?
— Женщина? — Ямщик замолчал и, немного погодя, начал: — женщина, скажу я тебе, вот какая: супротив ее никто!.. Право, мекаю я, ума у ней напрятано везде много… баба, скажу я тебе, особая!
— Как так?
— Да так: на все мастерица. Нашим бабам — и!! В науку бы их всех к ней… Ну, и опять тоже баба — ходок… Такой ходок, што я и не слыхивал, окромя ее. Вот те христос!
— Чем же она занимается?
— Всем. Чем ни захошь — всем! Што ни вздумай — это она… Вот она какая!..
Ямщик замолчал, и как я ни просил его определить мне занятия Опариной, он сперва только хвалил ее, а потом сказал:
— Увидишь. На што вот это: ежели бы ты, помилуй бог, слышать перестал, — вылечит!.. Ей-ей, вылечит, да так, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра!!
Я так и заключил, что тетушка Опарина — местная лекарка. Подобных лекарок я знаю много, и поэтому меня нисколько не удивила восторженность ямщика. Однако я спросил его.
— А что, если я не в состоянии буду ехать дальше, можно остановиться у Опарихи?
— Без сумления. На меня положись, — все сделаю, только ежели застанем ее.
— А она разве не всегда дома бывает?
— Не всегда. Может, в город уехала.
— Что ж она там делает?
— Што? Мало ли у ней хлопот-то? Может, и продавать што уехала, а может, што и выглядеть.
Итак, Опариха еще торговка, а может быть, у нее есть еще какие-нибудь занятия. Тетушка Опариха стала интересовать меня. Перебирая в памяти различных женщин, занимающихся каким-нибудь ремеслом, без мужской помощи, и приобретающих себе пропитания настолько, насколько нужно для существования простой сельской женщины, я пришел к тому заключению, что Опариной трудно одной иметь несколько дел и в селе, и в городе. Вероятно, у нее есть какой-нибудь помощник, думалось мне.
— Опариха замужем? — спросил я ямщика.
— Овдовела годов чуть ли не пятнадцать. А што?
— Значит, она старуха?
— Старуха!! — Ямщик захохотал и прибавил: — за пояс заткнет десятерых молодых, вот што…
— Семейство у нее есть?
— Нету — одна.
На этом мы и покончили разговоры об Опарихе. Мне захотелось познакомиться с нею; ямщик сказал, что коли я дам на полштоф, он все дело справит как нельзя лучше.
Через день мы приехали в село. Село это стоит в нескольких верстах от большой дороги, а ехали мы через него для сокращения пути. Как и везде, село не отличается изяществом построек, и окружающая его местность не очень привлекательна. Расположено оно на ровном месте, пересекаемом двумя маленькими речками, через которые сделаны мосты в том месте, где идет дорога. Дома большею частию двух- и трехоконные, с высокими крышами, с покрытыми соломой сараями. Все они выходят кривою линиею на широкую дорогу — единственную в селе улицу. Перед несколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или еще довольны молоды, или уже засохли, и посажены они, как объяснил ямщик, не из желания иметь перед глазами дерево или ради украшения, а по приказу станового пристава; «суть» приказа становой не объяснил крестьянам, но крестьяне думают, что они растут для того, чтобы, в случае расправы, не ходить далеко в лес за вицами. В селе есть деревянная невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами, и вокруг нее недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяют костюмами: мужики ходят в синих изгребных рубахах и штанах, босые; женщины в синих изгребных сарафанах, с платками и без платков на голове, босые; девушки в таких же сарафанах и, в отличие от женщин, с открытыми головами и болтающимися сзади косами, без лент, завязанными ветхим и замасленным до чрезвычайности шнурком. Нельзя также сказать и того, чтобы как девушки, так и мужчины были красивы, но здоровьем и дородством обладал по преимуществу женский пол. Около дворов, позади построек, огородов нет, а огородные овощи растут на поле, вперемежку со льном. Направо, смотря с дороги, за селом; по холмистой местности расстилаются пашни с желтеющею рожью или с серою кочковатою землею; налево растет мелкий кустарник.
Когда мы приехали в село, был полдень: погода стояла пасмурная. Я чувствовал себя лучше, но мне хотелось пожить здесь с неделю, и мой ямщик остановил лошадь у одного трехоконного дома, стоящего наискосок от церкви. Дом этот своею плаксивою наружностью ничем не рознился от других построек. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердаке, без рамы и стекол, такие же черные с вырезками ворота, такая же соломенная крыша на сарае, такие же в оконных рамах разбитые стекла, заклеенные бумагой или заткнутые тряпками, такой же на трубе горшок, положенный в опрокинутом положении для того, чтобы ветер не гнал дыма обратно в избу.
Ямщик постучал в одно окно. В доме как будто никого не было. Поэтому он пошел во двор и немного погодя вышел оттуда с девочкой, лет десяти или двенадцати.
— Нету, ушла… — сказал ямщик.
— Так как же?
— Да надо подождать… — Ты посиди, а я схожу… — Ямщик пошел и скрылся за церковью.
Четверо ребят подошли к телеге и с боязливым любопытством смотрели на меня. У меня была в узле городская булка, и я, желая расположить к себе ребят, показал им булку, но они долго боялись подойти ко мне. И когда один из них, мальчик побойчее других, взял хлеб, то другие окружили его, несколько минут ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ели.
— Что ж вы не едите? — спросил я.
Они улыбнулись, хотели что-то сказать, но замялись и попятились назад.
Пока я думал, чем бы мне приласкать их, показался мой ямщик, идущий позади какой-то высокой, худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался как можно лучше рассмотреть ее.
Шла она глядя в землю, как будто что-то соображая. На ней был синий изгребной сарафан, на голове ситцевый голубой платок, ноги босые. На вид ей казалось годов сорок, но на продолговатом бледном лице не было ни одной морщинки. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было красиво; не замечалось на нем и той бледности, какая бывает у отцветших красавиц; губы плотно сжаты, так что подбородок поднялся выше обыкновенного; нос широкий, толстый, глаза серые, лоб низкий. Но это было одно из тех лиц, которые, неизвестно почему, нравятся все более и более по мере того, как вы вглядываетесь в них. Несмотря на строгий взгляд серых глаз, в выражении лица было что-то такое, что сразу привлекает и долго остается в памяти. Я снял фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула девочке:
— Ты что тут, образина!.. Так разе вяжут?
Голос был здоровый, даже очень крикливый. Девочка юркнула во двор. За ней вошла и женщина.
Ямщик сказал, что эта женщина — тетушка Опарина, отворил ворота и ввел лошадей во двор, не очень длинный, но крытый, как на постоялых дворах, и могущий вместить в себе до десяти возов.
Вошли мы по лестнице сперва на крыльцо, потом в просторные сенцы, где было душно и куда свет проходил только из дверей. Налево вели двери в просторную избу с двумя окнами, выходящими на дорогу, и одним во двор; направо была небольшая горенка с одним окном.
Несмотря на то, что с виду дом казался старым, внутри этого не было заметно: стены не покосились, половицы не скрипят, полати на вид крепки, на печке незаметно ни одной щели. Стены как избы, так и горенки бревенчатые; в избе очень весело, чисто, пахнет вареной капустой и только что вынутым из печи ржаным хлебом. Одно только неудобство в этой избе — много мух, но на них хозяйка не обращала никакого внимания.
Я сел к окну — и вдруг во мне появилось желание пожить несколько дней в этом доме. Мне все показалось в нем мило, даже самое село сделалось мне милее всяких городов. Хозяйка накрыла стол изгребной синей скатертью, принесла хлеба, ложек. По счету ложек я заметил, что она намерена была и меня угостить.
Ямщик уселся за стол. Хозяйка стала угощать его пивом и сетовала на нынешнее дождливое время.
— Ну, как у те урожай-то? — спросил ямщик.
— Слава богу, ничего… А ты-то што сидишь? Садись! — сказала она мне.
— Не могу, нездоров.
— Поешь, лучше будет.
Я сел и показывал вид, что ем через силу, но между тем уплетал с аппетитом, ибо был голоден. Нас сидело за столом только трое; девочка, в горенке, пряла кудель. Ямщик, как видно, был коротко знаком с Опариной, но относился к ней как к женщине практичной и даже в некоторых случаях советовался с ней; она давала советы толковые и подходящие к крестьянскому быту. Ямщик говорил о своей жене.
— Не могу я, тетушка, способиться с ней. Такая бесшабашная, — страсть… Теперича — я приезжаю домой… Ну, сама знаешь, с дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить… Тоже, поди-ко, хозяйство, ребятишки… А она, штоб ее… говорят, в город ушла, как и о прошлую пору… Ну, не обида ли?
— Не надо бы жениться на ней.
— Да черт в ее душу-то, поганую, влезет, прости меня господи… Право, кусок нейдет в горло… Так мне все опротивело дома; так бы и не глядел ни на што. Только ребят-то и жалко, а то бы плевать…
— Ну, и что ж, ты видел жену-то?
— Прожил я четверы сутки — явилась. Я ничего, молчу, — потому что ж ее беспокоить, да и бить — руки не стоит марать. А она, тетушка, как есть, не поздоровалась со мной: семенит до домашности; только теща ворчит: «У, ты, говорит, такая, сякая?» — а мне: «что ж ты, разе чужой? поленом, говорит, ее…» А мне сердце как будто ножом режет… Вышел я из избы — да к куму; тот употчевал лихо… Так на пятые сутки и уехал. И ума не приложу: што это с ней. Ведь и учивал я ее, да только толку-то нет.
Тетушка вздохнула и сказала:
— Ты бы ей хорошенько растолковал: мол, хоть бы для ребят-то старалась. Ну, сам посуди, каковы дети-то будут, коли мать такая? Разе они не понимают?
— То-то!
— То-то, мужчины вы, а смекалки у вас нет. Я те што говорила раньше — забыл? Теща-то у вас какова? не от нее ли все эти штуки?
Ямщик почесал голову, причем кожа на лбу поднялась выше обыкновенного и образовала несколько морщин; глаза приняли соображающее выражение; он как будто говорил: и этого, мол, я не обдумал раньше.
Разговор об этом предмете скоро заменился примерами тетушки Опариной, которая защищала только одних женщин и доказывала, что в подобных делах виноваты сами мужчины. Однако ямщик не вполне соглашался с ней. Отобедали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщик пошел во двор, к своим лошадям; я за ним.
— Ну, что: видно, ехать надо? — спросил я ямщика.
— Тебе, што ли? И не возьму… Хоть ты кому хошь жалься — не возьму.
— Но где же я буду жить? Ведь ты ей не говорил ничего?
— Не с бухты-барахты…
Я пошел к крыльцу.
— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крылечке-то.
Просидел я с час. Ямщик между тем уладился с лошадьми и справил все, что следует для дороги, даже овса и сена взял у Опариной в долг. У амбарной двери ямщик разговаривал с Опариной, делая различные жесты руками, снимая шапку и утирая лицо грязным платком, лежащим постоянно в шапке. Хозяйка не делала никаких жестов, но заметно было, что сообщаемое ямщиком было ей не по сердцу, так как она несколько раз порывалась тронуться с места и уйти. Что они говорили между собою, я не слышал. Только смотрю, — ямщик отпирает ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.
— А ты што? — спрашивает она меня. Я понял, что вопрос означает: зачем я сижу.
— Нездоров я, тетушка.
— То-то — нездоров, а ел зачем не в меру?
— Обидеть не захотел.
— Кака болезь-то? Лиха немочь, што ли?
Я молчал.
— Приказей?
— Да, — сказал; я тоном больного.
— Пачпорт-то у, те наперво надо оглядеть… Ну-ко?!
Ямщик стоял у крыльца и что-то часто чесал голову. Он боялся ударить лицом в грязь, не зная, что я за человек. От моего паспорта зависело расположение к нему Опариной.
Мы вошли в избу.
Отдал я свой паспорт Опариной. Она поглядела на писание, на печать; подозвала ямщика, потом сказала: отойди! — и крикнула:
— Окулька! Явилась девочка.
— Неси свечку.
Девочка, не торопясь, ушла и через несколько минут пришла с зажженной сальной свечой.
Опарина взяла мой паспорт в обе руки и, держа его между собой и свечкой, стала глядеть на него. Вероятно, она хотела удостовериться, действительно ли бумага гербовая.
— Фальша! — сказала она; но в ту же минуту взяла свечку и ушла в сенцы; за нею вышли ямщик, девочка и я.
— Ербова?.. гляди! — сказала она ямщику.
— Ербова! цена — рупь… цифру вишь?
— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые… Окулька, гляди!
Девочка тоже стала глядеть и сказала: птица!
Затем хозяйка, спрятав мой документ в карман сарафана, ушла в избу, из избы в горницу; девочка спустилась во двор и стала загонять к одному углу куриц, а ямщик тронулся.
— Счастливо оставаться, — сказал он мне.
Так как без паспорта я не мог ехать, то и не стал задерживать ямщика. Он даже не спросил с меня на полштофа, вероятно потому, что по расчету он должен бы был возвратить мне около двух рублей денег.
По отъезде ямщика я сел на крыльце.
Было очень скучно, в особенности с дороги, когда хочется спать. В другое время и при другом положении я уснул бы, сидя, где попало; но теперь, в незнакомом месте, мог ли я спать, думая: а вот-вот выйдет хозяйка, что-то она скажет?
— Ты што ж тут торчишь? — услышал я вдруг сердитый голос.
— Извини, тетушка… ямщик не взял: я, говорит, боюсь, как бы тебе плохо не было дорогой.
— То-то, не взял! Чай, у те и пачпорт-то не настоящий… Ну, чего сидишь тут?
Я не знал, что мне делать: отправиться ли в избу или идти куда-нибудь.
— Окулька, постели кошму-то в сенях! — крикнула хозяйка девочке и потом сказала мне: — Ты ляг там, в сенях, тулупом оденься, взопрей… Ужо малины дам испить. — Она ушла в избу.
Немного погодя я уже лежал в сенях на широкой скамье, куда принесли войлок, подушку и овчинный тулуп. Лежал я раздевшись, покрылся пальто, а не тулупом, потому что в сенях было и без тулупа жарко. Хозяйка принесла мне чайник и чашку. Чайник был горячий.
— Вот пей, — сказала она и поставила чайник и чашку на пол.
— Покорно благодарю, тетушка… Как бы не ты, не знаю, што бы…
— Ну… завтра баню истоплю… Теперь только согрейся. Хозяйка ушла в избу, и минуты через три из избы послышался крик хозяйки и плач девочки.
— Это што? Я тебя што заставила делать?.. лодырничать?! Вот! вот!
Хозяйка била девочку.
— В угол, на колени! — кричала хозяйка.
Скоро я заснул.
Рано утром встала хозяйка, растолкала пинками девочку и заставила топить баню. Так как я лежал в сенях не против двери в избу, то и не видал, что делала хозяйка, только слышал, что она щепала лучину, шлепала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ног, ругала кого-то чертом, что-то шептала, и когда воротилась девочка, она ее два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлебную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла как следует деревянную чашку — и т. п. Хозяйка стряпала, а девочка бегала взад и вперед то по избе, то по сеням, ругая шепотом хозяйку.
Не знаю, сколько времени я пролежал, переворачиваясь с боку на бок. Вдруг в сени входит, крадучись, невысокого роста мужик в зипуне.
— Здорово живете! — сказал он и снял шляпу, обращаясь к моему ложу. Вероятно, он принял меня за члена семьи.
Я промолчал.
— Дома тетушка-то, Степанида Онисимовна?
— Дома.
Крестьянин вошел в избу и не запер за собой дверь. После обыкновенных приветствий и расспросов с обеих сторон о здоровье настало молчание.
— А я к тебе, тетушка Онисимовна, со своим с горем… Ох!
— Какое у тебя опять горе? В кабак что заложил опять?
— Ох, не то, тетушка… Кабак што?.. А вот оно, горе-то, и не думал совсем… Кабы знал… Ведь лошадь-то пала.
— В самом деле?
— Истинным богом говорю.
Настало опять молчание; только слышно было, как крестьянин всхлипывал.
— И думал ли я?.. И что это за год нони: первую лошадь украли, а эта пала… А лошадь-то какая лядащая была. Ну, что я теперь за хрестьянин?
— Уж истинно год ноне такой. Сколько лошадей-то пало.
— И не говори… Все тоже говорят: мор такой, што и не бывало такого… Так как ты думаешь насчет этова?
— Повремени маленько. Капитал-то есть ли?
— Ни… Вот одна надежда была: репы, мол, продам…
— Ну, на репу-то много не полагайся… подожди овса… это лучше.
— Да што овес…
— Как што? А ты продай мне ево! сколько возьмешь?
— Не хотелось бы продавать-то…
— Да я не все.
— Надо хозяйку спросить.
Тетушка и гость снова замолчали. Первый прервал молчание крестьянин.
— Ну, а ты сколько назначишь насчет овса-то?
— Почем я знаю, сколько выдет? Надо на деле увидать, да потом и дать цену.
— Это ты справедливо… А вот я смекаю: Илька Козлов уж давно хочет пропить свою лошадь.
— Вот и покупай.
— То-то, што денег нету.
— Достанем. Только ты насчет овса решай дельнее да толком, штобы опосля ни тебе, ни мне не было в обиду.
— Всево-то жалко, потому прикупать не хотелось бы.
— Ну, там увидим.
Немного погодя, крестьянин, поблагодарив хозяйку за совет, ушел, разговаривая сам с собою вполголоса.
Через полчаса после ухода крестьянина к моему ложу подошла девочка и робко сказала мне:
— Тетенька велит — баня поспела.
— Скажи, что я не могу так идти, — ответил я, указав на себя. — Она всю одежду обобрала.
Девочка ушла, но скоро воротилась.
— Тетенька так велит, — сказала она и ушла.
Я лежал.
— Ты што ж? Двадцать раз, што ли, тебя посылать-то?
— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.
— Да ведь я говорила девчонке, штоб ты шугайчик надел… Ах, штоб ее!.. нисколько у ней нет рассудку. — И хозяйка дала свой шугайчик, который мне был до колен. В этом одеянии и босый я пошел в баню. Хозяйка, однако, воротила меня от двери в огород.
— Возьми… да натрись камфорой хорошенько, попрей… Слышишь, што я говорю? — кричала она мне, держа в руках пузырек.
Я воротился, взял пузырек с камфорой.
Хотя вообще в этом селе огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки, по выходе из двора, за погребами, было устроено несколько парников, ничем не покрытых; большею частью в этих парниках росли огурцы и тыквы, стебли которых тянулись кверху по жердочкам. Невысокая, с небольшим отверстием в стене, черная баня, без крыши и предбанника, стояла около речки. В бане было и темно, и жарко, пахло уксусом, вероятно потому, что его лили на каменку, для того, чтобы не было угару.
Находившуюся в пузырьке камфару я до половины розлил на полу бани для вида и, само собой разумеется, не терся ею.
— Ну, што? — спросила меня хозяйка, когда я пришел из бани.
— Покорно благодарю. Ну уж, и жарко же…
— На то и бани… легче ли?
— Немного легче.
— А что же это от тебя камфорой-то не пахнет? Терся ли ты? — вдруг спросила она меня.
— Тер много.
— А отчего же не пахнет?
— Может быть, у тебя нос заложило.
— Поговори еще… Поди ляг на свое место, а там увидим. Может, завтра и в путь можешь обратиться.
Это решение хозяйки мне очень не понравилось, но я думал, что упрошу ее дозволить мне пожить у ней сутки двои, трои.
Делать нечего, опять лег. Вдруг хозяйка кричит в избе:
— Это што за мода еще! Какое это такое дозволение ты получила в овечку мою палкой швырять?
На улице голосила женщина, но я не мог расслышать ее слов; хозяйка все более и более кричала, начала ругать женщину и с бранью выбежала на двор, потом на улицу. Сначала женщины кричали на улице, потом уже у крыльца.
— Ты уж шесть раз соборовалась, в седьмой околеешь! — кричала посторонняя женщина.
— Нечего меня болезнью упрекать — все под богом ходим. А вот ты сама-то какой поведенции.
— Ты только с беглыми знаешься? Не знают, што ли, што у те и теперь беглый скрыт!
Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, так и думалось, что они вцепятся друг в дружку, однако кончилось тем, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потом долго ворчала в избе.
— Из-за чего это у вас вышло? — спросил я хозяйку, когда она стала что-то искать в сенях.
— Ну, вот сам посуди, гожее ли это дело: раз — кричать на улице, другой — обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, к примеру, поведенции? спроси хоть кого, все скажут обо мне, что я, может быть, в тыщу раз честнее ее. Теперь, кто ко мне за советом ходит? Слыхал, поди, даве разговор-то?.. Всем надо угодить да помочь чем-нибудь, а ведь я тоже не богачка какая, золота ни одного разу не видывала… Да мало ли што?.. Меня и в городе все знают, потому у меня там торговля есть, хоть и не корыстная, а все ж не воровски торгую, слава те господи… А она обзывать? Да я ее после этого во всем селе обесславить могу, да и тут жалею, потому муж-то ее и так бьет.
Она подошла ко мне ближе, утерла правою рукою рот и, понизив тон, продолжала:
— И как бьет он ее, судырь ты мой, как бьет, просто не приведи царица небесная!.. Мой муж драчун был, да я справлялась с ним, да и то, когда это во хмелю, ну, а во хмелю всяк справится, умей заговорить или поблажку ему сделай, потому пьян и бесчувствен, — вино ходит… Да и опять, мой муж, как проспится, бывало, прощения просит: прости, говорит, Онисимовна, ты, говорит, баба золотая, за тобой никаких примет худых нет. А уж коли муж говорит, могу ли я не гордиться! А это што? И рожа-то у ней блин… провалиться! и сама спичка спичкой… И в девчонках была со всеми в ссоре, ни с кем не ладила; воровка была сосветная… Сколько раз стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха нашли… Так нет. Иная бы все к дому, о хозяйстве бы попечение имела, а эта все из дому, да с солдатом и связалась.
— Отчего же у вас ссора-то вышла сегодня?
— Да это еще што — цветочки… Ссора ли это?.. Кабы я старосту позвала — ссора, значит, а разве она стоит того, штобы бросить для нее свое дело и бежать к старосте… Да я на нее и вниманья, што есть, не обращаю… Вот што!
— Она, кажется, твою овечку била?
— Ну, разве она не мерзавка после этого? Разве это хорошо — при людях пакости делать своему человеку? Да я, если бы племянницу свою застала за таким делом, будь тут скотина самого злющего моего врага, я бы и не знала, што бы с девчонкой сделала… Потому — коли это не пакость? Ты как хочешь ругайся, — язык-то не на привязи, глотку-то не заткнешь, — а скотина христовая чем виновата?.. Да што и калякать об этом! А ты вот што прими в рассудок, потому ты приказей и эвти дела не хуже моего должен знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня, никто этим делом не занимается. Ну, вот она и полезь в повитухи. Знашь, пришло время ее сестре рожать, вот она и сбей сестру: не надо, говорит, Опариху, я сама умею, видала… А надо спросить ее: где она видала-то? Разве я показываю кому? Разве я могу секрет рассказать? Не могу, потому грех.
— Почему же грех?
— Почему? А вот почему, я те скажу. Теперь я повитуха и знаю, как и што и с кем дело делать; опять — кто какой комплект имеет, это первое. А скажи я бабе: баба — дура, и возьмет себе, што и она тоже смыслит. Ну и начнет, и повредит, што ни на есть… Кто в ответе, как не я, потому я допустила своей простотой до греха человека, потому может али ребенок, али мать помереть. Не так ли?.. Ну вот она и уважила сестрице: ребенка уморила, да и мать-то скорехонько умерла… Вот она что наделала.
— А доктора у вас нет разве?
— Хватился! За дохтуром-то надо в город ехать, да он еще и не поедет… Муж-то покойной и то уж жаловался становому, да тот его же обругал: зачем, говорит, казенную бабку не взял? Я, говорит становой, тебя же за это к суду потяну… Так и не взялся за бабу. А это все оттого произошло: становой-то на меня зубы точит от зависти. Приказывал сколько раз не лечить никого. И молодых, ишь ты, холостой: кабы свою жену имел, не то бы заговорил; кутило — страсть! А все же сила не в нем, а в мужиках, потому коли баба родить хочет, становова ли это дело?
— А казенной бабки разве у вас нет? — Опарина засмеялась и надменно проговорила:
— И к чему эти модницы?.. Не понимаю. Вот уж именно, што казна сорит по-пустому деньги; много у нее денег-то!
— Да ведь они учатся; им эти места дорого стоят. Ведь они, тетушка, из бедных, и им не легко было прожить — то время, в которое они учились, да и место не скоро получишь.
— А ты на деле узнай, да и толкуй. Я уж двадцатый год в город-то езжу и получше твоего знаю, — проговорила сердито Опарина и ушла в избу.
Обедать Опарина меня не пригласила, вероятно, на том основании, что больному человеку есть вредно; я не напрашивался. После обеда Опарина легла соснуть, проспала не более получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была в хорошем настроении и даже хохотала, рaзгoвapивaя с своей племянницей.
— Поди-ко, запряги бурка-то! — сказала Опарина девочке.
— Да я опять неладно…
— Ну-ну!.. Надо же ко всему приучаться. Слава богу, с невесту ростом… Пошла!
Девочка пошла во двор и встретила там мальчика.
— Ты што тут ковыряешь стену-то, дурак? — Сама дуя!
— Пошел, пошел!!
— Да ты не деись. Сказу мамке-то… я… — Мальчик заплакал.
— Вышла Опарина на крыльцо, закричала на детей.
— Я, тетуска… мамка послая… А она делется… я разве…
— Ну?!
— Мамка лодит… послая.
— Родит, говоришь?
— К тебе послая… Посколяе, бает, помият тожно.
— А, штоб вac! Только баловать… Пошел проворней: приду!.. Черти! — И Опарина ушла со двора, девочки тоже долго не было.
Опять скучно, как и вчера… Делать нечего; изба и приют Опариной казались мне противными, так и хотелось скорее удрать отсюда, но что-то удерживало.
Опарина воротилась часа через три, запрягла лошадь в долгушку, положила в долгушку два лукошка с чем-то, один небольшой бочонок и небольшую кадушку.
— Ну, оставайтесь, благословясь… В город поеду, — сказала Опарина, совсем готовая к отъезду.
— Возьми меня, я совсем здоров…
— Да тебе там что за надобность приспела?
— Ведь ты ненадолго, а я бы поглядел на город.
— Места нету: самой кое-как и то присесть. Завтра или послезавтра беспременно буду… А ты смотри, штобы все было в порядке, слышишь? Задеру, коли што… — говорила она племяннице.
— Сколько же тебе за житье-то, тетушка? — спросил я.
— А ты разе ехать хошь?
— Хочу.
— Так вот и пустили! — Она ушла во двор, а минут через десять поехала, говоря племяннице наставления.
Через полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью, и как пришла так и легла, не раздеваясь, на скамью. Во все это время я был хозяином в доме: щеголял в своем, костюме, сидел у раскрытого окна с трубкой, хлебал щи, которые находились в печке, и даже читал Библию, которая лежала в горенке, на небольшом столике под иконами. Но особенно меня занимали небольшие тетрадки, найденные Мною в том же угольном столике комнаты. Первые и последние листы были оторваны, прочие листы исписаны разными почерками — крупно, мелко, по-печатному, косо и прямо. Тут означались имена и фамилии, вещь и цена, например: «Никофору Яковличу сена 1 р. 15 коп.» — и все вроде этого. Немного страниц было пустых. Уплачены ли деньги — ничего этого не показано и не зачеркнуто. В иных местах было написано чернилами, две-три страницы залиты чернилами, несколько пол-листов слиплись и пропитались салом, во многих местах ничего нельзя было разобрать, потому что или карандаш стерся, или писано серыми чернилами, и хотя крупно, но неразборчиво, вроде таких слов: «аляси козу бракуй» — и т. п. Ни чисел, ни месяцев, ни даже праздников нигде не обозначено. Кроме этого, я обратил еще внимание на стену, против окна, у которой стояла кровать с периной, вероятно принадлежащая Опариной. На этой стене в нескольких местах начерканы углем палочки, косые и кривые, и крестики. Несколько палочек и крестиков были уже зачеркнуты. Я вывел то заключение, что Опарина грамоте не умеет и здесь, вероятно, что-нибудь на память записывает.
Вечером погода стояла хорошая, и я сидел большею частию у открытого окна, так как солнце светило на противоположные дома. Село было оживлено более обыкновенного, так что на улице играли ребята и сидело несколько мужиков кучками в разных местах; у своих или соседских домов сидели женщины с рукодельем или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между собою о чем-то не очень весело. О, чем они говорили — этого не слышал. Но вот из калитки противоположного дома вышел старичок в синей рубахе, опоясанный плетенным из красной шерсти, поясом, в таких же синих с заплатами штанах и в лаптях на ногах. Лицо его было очень бледно, волоса и борода седые; сам он был сгорблен, и его немножко трясло. Отойдя немного от калитки, он, сел на скамеечку, перекрестился и подпер голову руками.
— Дедушка Иван, подь в компанство! Чего сидишь один-то? — кричала какая-то женщина старику. Дедушка Иван посмотрел на кружок, заключавший в себе двух женщин и трех мужиков, и ничего не сказал.
К старику подошла молодая женщина, держа в левой руке пряжу, и, поглядев кругом, что-то шепотом спросила старика; тот только рукой махнул. Женщина подсела к нему, и между стариком и женщиной начался разговор шепотом. Я несколько, раз замечал, как женщина указывала рукой на дом Опариной как раз на то окно, у которого сидел я, и старик только взглядывал по направлению руки, сжимал рот и никаких при этом особенных движений не делал.
— А ты слышал: прибыль бог послал Анне-то Федосеевой, — проговорила вдруг женщина громко.
— Ужели родила? Когда? — спросил старик, широко взглянув на женщину.
— Никак в обед бог дал — сынок… Опариха была.
— Да ведь уехала Опариха?
— Уж она свое дело справила. Была я сегодня у нее, у Федосеевой-то: хомяк — мальчонко-то!
— Ну, дай бог.
— Ты бы зашел бражки выпить! А? Заходи?
— Покорно спасибо.
Женщина отошла прочь и что-то часто глядела на мою особу.
Хотелось мне очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти — значило нарушить беседы крестьян: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для них человек совсем посторонний. Кроме того; я еще не знал отношений крестьян к моей хозяйке, Опариной. Так я и просидел до заката солнца, когда на улице уже не было ни души.
Я уже хотел затворить окно, как услышал мужскую брань и визг женщины. Разобрать сначала не было возможности, потом я из криков понял, в чем было дело. Крестьянин, изрядно выпивши, тащил в волость свою пьяную жену, которая украла у него последние два рубля, и он нашел ее в кабаке. Что там она делала — я не понял, но надо полагать, что что-то нехорошее. Муж тузил жену, жена ругалась и кричала: «Зарежу, варнак, зарежу! ты меня в гроб вколотил, — зарежу!» А так как в окнах показывались мужские и женские головы и оттуда слышались одобрения, относящиеся к обиженному мужу, то обиженный муж останавливался и кричал:
— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики… осподи!
— Хорошенько ее… Она сегодня как Опариху при всем мире чествовала… Хорошенько!..
— Зарежу!! спалю село… — визжала отчаянно женщина…
— Веди ее… ничево!..
— Прислушайте ее речи… Будьте свидетелями… благодетели!..
Против церкви несчастную женщину уже тащило двое мужиков; она рвалась, билась, голосила; муж бил веревкой.
— Вот наказанъе-то… осподи! — говорили, качая головами, зрители и запирали окна…
В одном окне, недалеко от церкви, показалась голова мужчины, с волосами, заплетенными в косу.
— Што ж ты ее бьешь, мошенник! — крикнуло лицо.
— Отец Василь… право…
— Пошел спать, свинья… а не то самого в волость запереть велю!
— Он меня погубил… истребил совсем… кровь!.. — выла женщина.
Я закрыл окно и хотел идти на улицу, чтобы защитить женщину, но мне пришла в голову мысль: могу ли я тут помочь ей чем-нибудь, когда и она пьяна, и муж ее пьян, и все соседи вооружены против нее?.. Так я и оставил свое намерение. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хозяйка рассказала мне, что эта женщина испорченная; теперь я увидал, что в селе все против нее; муж ведет ее в волостное правление за кражу у него трудовых денег, которые, может быть, составляли весь его капитал, и за какое-то другое прегрешение… Вероятно, не она сама дошла до такого положения, что все против нее и что заставляет ее быть такою, а довело же ее до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будет дальше с этой женщиной? Во сне мне мерещилась, эта сцена, и казалось мне, что эта женщина горько раскаивается перед начальством во всех своих делах, просит прощения — и еще чего-то хотела бы она попросить, да не знает, чего бы такого…
Встал я при восходе солнца, разбудил девочку, взял по ее указанию набируху и пошел за грибами. Но когда я вышел за ворота, то решительно не знал, в какую сторону идти. По счастью, из одних ворот выехал в телеге крестьянин. Я спросил его.
— По грибы-то, поштенный, неблизко: верст пять будет, да и тут ходьба-то через речку Малиновку.
— Не пойдет ли кто из ваших?
— Из моих-то двое ушли. А вон к половинкиновскому дому постучись, может, старуха Маремьяна подет. Она поздно уходит.
Я поблагодарил крестьянина и подошел к указанному дому. Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибоискания, сегодня идти не может, к великому ее сожалению, так как у нее что-то очень неловко под сердцем, и она было посылала за попом, да поп уехал ночью в деревню Загибалиху. Молодуха сказала мне, чтобы я попросил Степаниду Игнатьевну, что живет напротив, чтобы она отпустила со мною своих парней. Я так и сделал. Оказалось, что парни сегодня поедут на покос и что если мне так желательно идти в лес, то я один могу идти, так как я не маленький, или бы мог взять с собою племянницу Опарихи, у которой я живу. Все это говорилось коротко и как-то неохотно.
Делать нечего, поплелся я наудалую. При выходе из села я увидал впереди женщину с лукошком на спине. Я ей крикнул раз, крикнул два, пустился вбег — кое-как женщина остановилась. Она была не молода; лицо ее было изнурено, глаза заплаканы. Я не стал тревожить ее и, при входе в лес, повернул от нее направо и ходил все больше по краю, и редко-редко заходил вдаль, опасаясь потерять из виду пашни.
О своем похождении за грибами, о том, как приятно быть в лесу одному, говорить не стану: это предмет известный. Но вот я вышел из лесу и увидал, что у ржи сидела та же самая женщина. Ее плетеное лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, из которых верхний был гораздо шире нижнего, потому что в лукошко были воткнуты свежие прутья рябины, а меж них переплетались такие же прутья и служили продолжением лукошка, так что будь у этой женщины желание сбирать грибы целый день, то она, вероятно, увеличила бы лукошко аршина на два. Около нее, на траве, лежало десятка три красных грибов, которые, по всей вероятности, не входили в верхний этаж лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ног была изранена во многих местах, и она теперь вытаскивала из левой ноги занозу… Я присел недалеко от нее и закурил трубку. На спрос мой, как она может ходить босиком в лесу, где почти на каждом месте лежат сухие прутья, сосновые иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не ответила и на замечание, что сегодня день жаркий. Поэтому продолжать какие бы то ни было вопросы мне было неловко, и я счел за лучшее идти домой.
День был действительно жаркий, тем более было мне жарко в моем длинном пальто, похожем на халат; мне хотелось пить, а воды не было. Но все-таки здесь дышалось лучше, чем в душном городе. Идя между двумя пашнями, я вдруг потерял из виду село. Оказалось, что местность, по которой я шел, была низкая. Наконец выбрался я на ровное место. Церковь наискось, левее. Налево, почти в ногу со мной, шла неразговорчивая баба: я видел только ее голову, повязанную платком, и верх лукошка с плотно укладенными в нем грибами. Вскоре я потерял ее из виду, но когда вышел на только что унавоженную землю, увидал опять ту же женщину, сидящую у одного обожженного пня. Она упирала голову обеими ладонями и горько плакала.
— Тетушка! о чем ты плачешь? Аль болит что? — спросил я, подойдя к ней.
— Ох! — простонала она и пуще прежнего заплакала.
Мне хотелось узнать причину ее горя, но я не знал, что сказать ей. Вдруг она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернулась, минут с десять проглядела на одно место — и вдруг кинулась мне в ноги и проговорила:
— Не освободишь ли ты, кормилец, сестру-то мою, Дарью Егоровну? Спаси, кормилец, по гроб буду за тебя царице небесной, молиться, матушке-то нашей!
Большого усилия мне стоило уговорить женщину сесть; я злился на то, что остался у Опариной, пошел по грибы — и теперь должен разыгрывать роль чиновника.
— Што, разе твоя сестра худое что сделала? — спросил я ее.
— Ой, ни в чем не повинна, как перед богом истинным… Перед небом, што перед престолом, говорю… Все это от него, от мужа-варвара, да от злодейки Опарихи жизь такая… Все он… Освободи ты ее… Отегать ее хотят.
— Если что могу — сделаю, только на меня ты много не полагайся: потому я человек не служащий, а живу здесь потому, что захворал дорогой, а раньше этого и вовсе не имел никакого намерения даже и мимо вашего села проезжать.
Женщина смотрела на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла из моих слов.
— Он, муж-то ее, да злодейка Опариха все жилы, проклятые, вытянули из нас.
Мы несколько минут молчали. Я не знал, что говорить, о чем спросить ее, и вдруг сказал:
— Чем же он и Опариха обидели вас?
Женщина только охала. С большими усилиями рассказала она мне целую историю, которая, как я понял, была такова:
Отец их был волостным старшиной в то время, когда они, сестры, были молоды. Братьев у трех сестер, живших душа в душу, не было; а мать, в то время, когда их уже прочили в невесты, то есть на пятнадцатом году, была не родная, но мачеха — и, само собой разумеется, не имела об них такого попечения, не любила их и не заботилась об их нравственности, как родная мать. Поэтому в доме часто случались драмы такого рода: мачеха заставляет падчериц что-нибудь делать — они вон из избы, к подругам, откуда, мачеха нередко прогоняла их с криком, бранью и побоями, чем попало, — что, разумеется, немало бесило девушек, забавляло парней, а от этого взрослые люди села считали дочерей старшины за отпетых девушек, у которых будто бы не было ни стыда, ни совести. Но все это была чистейшая ложь, потому что девушкам только и было радостей, что у подруг, где они, и то только на вечерках, играли в разные игры с парнями. Отец был пьяница; он вполне верил жене и даже боялся ее по одному обстоятельству, которое рассказчица не хотела выдать на свежую воду. До семнадцатилетнего возраста житье сестрам было каторжное. Не удалось им выйти замуж по своему желанию. Мачеха сказала своему мужу, что надо наперед столкать замуж старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за ее хорошего знакомого, десятского, у которого в селе в то время был постоялый дом и который, независимо от своих служебных обязанностей исполнял тогда даже почтовую гоньбу. Возражения и слезы Дарьи против этого не были приняты во внимание, и Дарью обвенчали насильно, но в первую же ночь молодой улизнул от жены, — что весьма удивило поселян и разозлило старшину. Не каково было посрамление молодой! — над нею смеялись все девушки, все парни, в особенности тот, кого она больше всех любила. Дарья, впрочем, долго, не думала и сама стала пропадать из дому. Начались безобразные ссоры, брань, побои. Между тем все произошло вот отчего: десятский просил от старшины приданого тысячу рублей, на которые хотел расширить отправление почтовой гоньбы и прикупить несколько десятков десятин хорошей земли в таком-то месте. Старшина обещал выдать ему эту сумму тотчас после венчания, и так как между ними не было заключено никаких письменных обязательств, то старшина, по благословении, молодых иконами, наотрез отказался от слова, отчего за ужином между тестем и зятем произошла драка, после которой десятский и удрал из села в город со вдовой Опарихой, а через неделю прогнал от себя жену и стал жить открыто с Опарихой. Потом он поссорился с Опарихой и взял к себе Дарью, и когда его сделали старшиной, он стал обращаться с ней ласково, говоря ей, что он доконал-таки ее родню тем, что отца за разные подлоги сослали в Сибирь, а мачеху он прогнал из дому, и она неизвестно куда потом скрылась. Все-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама рассказчица замуж не вышла, потому что ее жениха сдали в солдаты, и он неизвестно где пропадал несколько лет, и хотя потом и воротился на родину, но прежние привязанности и отношения называл глупостью и теперь на нее мало обращает внимания. Третья сестра тоже вышла замуж и жила довольно сносно, но назад тому три года умерла от родов. Так и билась Дарья несколько лет. Дела мужа ее пошли все хуже и хуже; продал он всех лошадей, стал пьянствовать, бить жену, наконец его сменили с должности, описали за казенные деньги все его имущество и посадили в острог. В это время Дарья и рассказчица жили где господь бог приведет и где добрые люди позволят. Из острога муж Дарьи выпущен недавно, несколько месяцев занимался конокрадством и теперь кое-как занимается извозом. В селе у него нет ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живет он у своего дяди, жене ничего не дает, и потому она бедствует ужасно и кусок хлеба достается ей горькими слезами.
— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля? — спросил я рассказчицу.
— Врет! врет он, аспид. Какие у него деньги?
— Да ведь ты говоришь, он извозом занимается, стало быть, у него деньги могут быть.
— Какие деньги, коли он приезжает пьян и побирается у дяди. А вчера приехал тоже пьян, ну и пошли они с дядей в кабак… тот тоже — не пролей капельку. Ну, оттуда приходят пьянее вина и давай искать Дарью, а Дарья только што в кабак нанялась за два целковых, на своих харчах. Он ее и давай бить, и потащил в волость. — Заступись ты, родной! — прибавила в заключение рассказчица.
Я не стал больше расспрашивать эту женщину и не знал, кому больше верить: ей ли или тетушке Опариной.
Мне все-таки казался этот последний рассказ более правдивым и я решил хлопотать за Дарью у Опариной. Мы вошли молча домой.
Опарина была уже дома, в горенке, и перерывала вещи в сундуке. Увидев меня и оставив незапертым сундук, она подошла ко мне с тетрадкой и, не обратив никакого внимания на грибы, сказала:
— Ну-ко, погляди, что тут наворакошено (написано)?
Я взял тетрадку; тетрадка немного засаленная; в ней написано то же, что и в тех тетрадках, которые я видел вчера.
— Огурцов кадка — пятьдесят семь копеек, — читал я.
— Ну, а сметаны?
Нашел сметану — два рубля.
— Как так?
— Так.
— Да ведь он писал: два двенадцать.
— Тут только два.
— Не врешь?
Я подтвердил. Она стала бранить того, кто записывал, выхватила книжку и ушла в комнату. Немного погодя мы опять стали сверять счеты, — оказалось верно.
— Один раз отрежь, десять примеряй. Нельзя! — сказала хозяйка довольным голосом и завернула тетрадку в тряпку, которую завязала в старенький платок, как будто тут хранились деньги.
— Ты, тетушка, и торговлей занимаешься?
— Помаленьку… бог милует.
— Я думаю, трудно одной-то за всем?
— Што делать-то? Вот и здешним-то нужно угодить, и в городе присмотреть, В городе-то у меня сестра торгует по малости, ну, а в ярмонки и я на базаре торгую чем случится.
— Выгодно?
— Мало… Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить, значит. Одново разу с меня много затребовали; ничего не дала — прогнали… Я к начальству: какое, говорю, право нашли твои подначальные деревенских баб обижать? Я здесь не первый год, говорю, торговлей занимаюсь, все мной были довольны. Я, говорю, мол, и до царя дойду. Ладно, говорит начальник, подожди. — Проходит день, проходит два, начальство ни шьет, ни порет. Пошла опять; я, говорит, собираю… не знаю чего…
— Справки, вероятно.
— Ну-ну! Я, говорит, постараюсь… А ярмонка-то через двои сутки кончается. На другой день я опять пошла к нему. — Дома, говорят, нет, уехал… Я через день к нему… Што, говорю, ваше благородие, правда-то где у те!.. — Я, говорит, все сделал, што ж ты, говорит, поздно пришла? — Ну, значит, надо всегды давать…
Хозяйка стала хлопотать об обеде, который состоял из грибницы и жарехи из грибов же, а я пошел в тот кабак, где, по рассказу женщины, сидела в последнее время Дарья.
Это была маленькая комнатка, с перегородкой и стойкой, имеющая вид лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стеной в углу стояла полубочка, с воронкой во втулке и с медным краном внизу бока. На полу стояло несколько бутылей, два-три полуштофа и несколько пустых косушек. Больше ничего не было. При моем входе в лавочке не было никого, и я, простояв минуты две, удивился простоте сельских жителей. Стал я кашлять — никто нейдет; отворил два раза дверь и хлопнул ею — тоже. Наконец я крикнул довольно громко: «Хозяин!»
Из-за перегородки показалась худощавая молодая женщина и, позевывая, спросила: што тебе?
— Однако какие вы безбоязливые… Не боитесь, что вас всю водку утащат.
— Не утащат!
Я попросил стакан водки и заговорил насчет городской торговли вином. Женщина уверяла, что у них, бог милует, воров еще не бывало, а так как в это время почти никто в будни не приходит в кабак, то она и дозволила себе немножко прикорнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придет в кабак в это время, то не беспокоит ее, а дожидается и сам пить не смеет, потому что шила в мешке не утаишь. Только один кум ее пользуется тем правом, что он, приходя в кабак, начинает бражничать: но он бражничает подолгу и не один.
— Это за что же, тетушка, вчера бабу в волость увели?
— А бог их знае. Напасть одна. Муж — пьяница, драчун… ну, и опять, ему больше веры…
— Она у вас жила?
— Да где ж ей и жить-то больше, как не у нас, потому уж вся избитая… Все Опариха.
— Опариха, говоришь?
— Ты хошь и у нее живешь, а я все-таки ее не боюсь, потому как теперь я торгую водкой, так и она тоже торговка, и говорить я все могу. Што она прытка, это за ней пусть и будет, а што насчет ее лиходейства — шила в мешке не утаишь. Вот што… Все знают, што как муженек-то ее помер, она и давай примазываться за мужем Дарьи-то, в та поры, когда он еще холостой был. Как ведь не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домом и владела… Ну, да тот на деньги позарился, женился на Дарье, да Опариха оплела его; так-таки и оплела. Чьи теперь у нее покосы-то да пашни? — Олексея. Чья лошадь у нее? — ево же. Вот она какая! Ну, разе жене это не обида? Да она, я те скажу, — хоть ты передавай, хоть нет, — через нево и в люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а как разорила, и знаться с ним перестала.
— Как же это она сделала?
— Как? Да так: как завидела она, что он на ней не женится, а на попятный двор от нее, она помалчивает, а потом и говорит: што же, говорит, Олексей Митрич, ты не зайдешь пивка попробовать? Тот зашел, стал плакаться на свое житье. Она его ласкать… Ну, и пошло дело. Денег ли надо, она даст, да не зря, а записку возьмет и срок в записке покажет. Вот она какова!.. Тот все брал-брал, да как попал в беду, то она ему и дай еще денег под лошадь да под корову, а потом и предъяви записки куды следует. Ну, знамо, без денег не обошлося.
— Она, значит, капитал имела?
— Знамо, воровски жила… У нас-то украсть нечего, так в городе воровала, а в городе-то у нее сестра родная за солдатом замужем; ну, и хоронили концы, тем и торговлю завели. Вот таким-то манером она и завладела покосами да пашнями. А уж насчет это… куды как речиста, заговорит. Вот Олексей-то Митрев и пришел к ней после острогу, и давай корить ее; а она на одну речь ему сто речей, ну, тот и присмирел; у нее же и занял опять под расписку… Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту он сбыл, другую завел, значит, потерял — ищи! Знать не знаю, говорит: у меня такая лошадь, а в твоей записке другая… Ну, значит, маху дала… Так она, значит, и разорила ево. А уж про Дарью и говорить нечего: так-то ли она на нее зловредна — беда!
— А давно лошадь-то потерялась?
Женщина посмотрела на меня подозрительно и спросила:
— А тебе на што?
— Нет, я так. Ведь мое дело стороннее.
— Да с месяц будет… Ты видел у нее лошадь-ту?
— Плохо.
— А лошадь отличная: рублей пятьдесят, надо быть, стоит, а она на ярмонке купила, говорят, за пятнадцать.
— Ямщики говорят, Опариха здесь в почете.
— Да мало ли дур-то да простофиль… Оно, конешно, свое добро даром отдавать не приходится, только уж она плутовата больно. Вот хоша бы к примеру: Кузьма Залыжных взял у нее пять мер овса…
— Своего-то не было?
— То-то, што сбился деньгами и закабалил овес-то ей же прямо с пашни. Ну, она записку с него: заплатить, мол, к паске. Паска пришла, а у того денег нет… Пиши, говорит, новую… Тот сдуру-то и напиши… Ну, значит, и вышло две записки… Вот какова Опариха-то!.. И ей все сходит, чтоб ее язвило!..
На этом мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мне хотелось расспросить ее о ее жизни, и я стал выжидать удобного к этому случая; только случая этого не представлялось, а расспрашивать ее прямо, ни с того, ни с сего, неловко.
По окончании обеда, когда Опарина наказывала племяннице, как какому-то крестьянину отмерять овса, так чтобы было не в убыток Опариной, или, попроще сказать, обмерять, я вдруг спросил ее:
— У вас, тетушка, на каком основании наказывают розгами женщин?
— На том, што обучать уму-разуму следует всякого!
— Ну, а если бы, к примеру, — тетушку Опариху?..
— Этова не будет: я законы знаю. Знаю, што ноне это отменено.
— Значит, коли отменено, наказывать противозаконно, а кто не исполняет закон, тот не должен ли отвечать?
— Да ты к чему эту историю подвел?
— Слыхала ты: хочут стегать Дарью Яковлеву?
Лицо Опарихи немного передернулось, глаза сверкнули.
— Откуда ты это слышал?
— Все говорят, — сказала племянница, перемывая чашки и ложки.
— Не тебя спрашивают! — крикнула хозяйка.
Я рассказал вчерашнюю сцену.
— Ну, этому не бывать!.. Вот еще новость!! Какое они такое право взяли баб стегать?
— Да тебе-то тут што?
— Разе мне не обида? Разе это не обида всем бабам, коли над ними мужики будут командовать так и издеваться?
— Да ведь ты на нее сердита?
— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я без чувствия?
Хозяйка торопливо оделась и скоро вышла; она скрылась за церковью.
Вечером на поляне, перед домом Опариной, сидело несколько женщин; сидели они в различных позах полукругом, с работами, а у завалинки дома Опариной сидели девочки с грудными ребятами, заменяя своими особами нянек, около них же терлось штук шесть детей-малолеток. Молодое поколение говорило негромко, потому что занято было играми в клетки, потчеваньем друг Друга глиняными лепешками и т. п. Налево от молодого поколения лежали на поляне холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумели по обыкновению, а вели себя чинно, вероятно потому что тут ораторствовала Опарина, Она уверяла, что гораздо лучше утыкать дома куделей, чем мохом, потому что от этого в избах теплее делается; смеялась над одной соседкой, что она, не имея хорошего рассудка, вздумала положить паклю на каменку. Все это она разъясняла в течение получаса, останавливаясь только тогда, когда ее перебивали, и хотя в ее слезах ничего не было нового и интересного, но женщины слушали ее, как я заметил, с удовольствием, часто отрывая глаза от работы; и когда она кончила, они не нашлись сделать какое-нибудь возражение Опариной.
— Бабы, не найдется ли у вас излишку пакли? — спросила вдруг Опарина.
— Тебе на што?
— Надо. В город — один купец просил пуда с два. Так… на пробу.
Разговор перешел, к пакле. Оказалось, что теперь пакли едва ли у кого можно найти. Одна женщина сказала, что у нее хотя и есть немного этого товара, но она дешево не отдаст, тем более потому, что у нее нет льну, а лен сеять они будут года через два, когда справятся. От пакли перешли к тому, что нынче торговля чем бы то ни было стала не в пример хуже прошлых годов, народ стал собака, полиция придирчивее, так что хоть и не езди в город. Только вот еще ярмонкой и можно кое-как биться, да и тут поганые татаришки стараются завладеть первыми местами, отбить их, бедных женщин, на задний план, и продают гнилой товар, перекупают лучшее, и их же, опытных торговок, ловко нагревают. Против этого Опарина смело возражала, что если кто не умеет взяться за какое-нибудь дело, тот не должен и браться за него, потому что он смешит народ и делает убыток своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примерами, но примеры разбивались Опариною различными доказательствами из своей практики; тогда женщины стали корить ее разными плутнями, и дело чуть не кончилось небольшой ссорой, но Опарина незаметно перешла к Дарье Яковлевой, показывая на нее, как на женщину, не умеющую ни за что взяться, отчего из нее впоследствии нельзя ожидать ничего хорошего.
— Да виновата ли она-то? — возразила вдруг одна женщина.
— Сам плох, так не подаст бог. Разе я не так же бедна была в молодицах-то? Разе вы тоже из богатых семей-то? Вспомните как прошлое время!
Несколько женщин вздохнули и вполне согласились с Опариной в том, что действительно Яковлева отчасти сама виновата; что она еще в девчонках избаловалась. Женщины три, неизвестно почему, стали гнать по домам своих детей. Затем Опарина что-то шепотом сообщила своим подругам, отчего одни из них вытянули лица и покачали головами, другие ударили по коленям. Заметно, что сообщенное Опариной известие женщинам пришлось не по сердцу. Вдруг они заголосили все, но я не мог понять смысла этого митинга, только слышал: «Врут они все! этому не должно и быть! на то разе мы дались им?»
По всей вероятности, суждение происходило насчет — Дарьи Яковлевой.
За ужином, состоявшим, как и обед, из грибницы и жарехи, я расспрашивал хозяйку о жизни крестьян и о том, какую выгоду приносит им земля. По ее взгляду, жить в селе очень можно, земля хорошая, и главное — нужно не лениться. Положим, оброки и разные повинности ныне большие, но она о нынешнем времени умолчала, а говорила, что при прежних порядках некоторые крестьяне сколачивали-таки капиталец и даже уходили в города, и как на факт, указывала на одного купца, ушедшего из их села в лаптях и теперь ворочающего большими капиталами. «На все это, — говорила она, — нужны сметливость, терпение и ловкость, нужно испытать всякие лишения и неприятности, и когда дела будут идти в гору, не нужно зазнаваться или выходить из себя». Но при этом о самой себе она ничего не сказала, даже не указала на себя примером. Потом она круто повернула к тому, что их село, находящееся от, города К. в двадцати верстах, может иметь выгодную торговлю с городом, если бы за торговлю принялись женщины. По ее понятию, мужчины должны работать в селе, например, ухаживать за пашнями, прихватывать работников из разных праздношатающихся людей, которые целыми десятками шляются по миру, могут приучать детей к работе, а женщины должны торговать в городе, тем более потому, что земля дает с избытком то, что посеешь, только пользоваться этим, по мнению Опариной, мужики не умеют, потому что многие из них или находятся в кабале у кулаков, или ленятся и пропивают излишние деньги в кабаках.
— Вот, например, я; про меня все чешут языки, и все меня не любят от зависти. Особливо ни одна баба не скажет про меня постороннему человеку хорошего и приплетет непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вон и такие, которые даже яковлевской Дашкой попрекают, будто она через меня такая сделалась… Иной раз так до того разозлят в глаза, што даже заплачешь от такой напасти… Ну, значит, креплюсь. А не крепись я да думай, что они меня спалят или что худое над моим хозяйством сделают, — все вверх дном пойдет. Ей-богу! А я на все плюю и им же добро сделаю, потому как бы худ ни был человек, а все же после пригодится, и благодарность к тебе будет иметь. Ничего нет хуже в жизни, судырь ты мой, как эта болезнь. Шесть раз я после мужа в лихоманке была, шесть раз соборовалась, а не померла… Видно, господь бог терпит моим грехам и для какой-нибудь пользы длит мою грешную жизнь. А они што?.. хоть бы одна пришла проведать… Вот только племянница и служит мне, да и ту сбивают: иди, говорят, к матери, — Опариха тебя изурочит… А разе я ей добра не желаю? Што она в городе-то выживет? чему научится? Еще, пожалуй, пельмянницей али калашницей сделается… Да и какие ноне нравы в городе! — Опарину перекрестилась, потом обратилась к девочке, которая вязала варежку:
— Поедешь в город-то, как бабы говорят?
Щеки девочки покрылись румянцем, она робко сказала: нет…
— Да ты у меня не смотри так-ту! Знаю я по себе: без меня на голове ходишь, а при мне — в угол. Подико, принеси пивка, да не копайся в погребе-то. Слава богу, наелась, поди.
Девочка вышла.
— А хитрая девчонка! нужды нет, што мала! Нужды нет, што я ее взяла полтора года — все порядки переняла, все по-моему делает. Не беспокойся, лишнего не передаст!.. Ну, в город-то я се не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной раз мужики заезжают за овсом. Ну, и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей- спрячет, так что я уж ей сундучок купила… А тоже ведь и любит меня она, нужды нет, что иной раз губы надует.
— Вы, тетушка, иногда уж очень сердиты бываете, — заметил я.
— А ты думаешь, так им и дай волю! Ты говоришь: принеси чашку, — а она сидит. Ну, разе так науку нужно производить? Какая она после этого мать будет?
— Лаской надо.
Опарина захохотала и сказала:
— Откуда ты это ласки-то найдешь? Разе меня лаской вспоили-вскормили? разе меня теперь ласкают, коль не огорчают тебя на каждом шагу? Ласка што значит? — поблажка… А как сделал поблажку раз-другой, да как будет дитятко чужих советов слушаться, тогда придется самой все делать. А я не так богата, штобы дармоедов держать; это, может, у богатых господ так принято… Но как рассерчаешь, тожно и не удержишься — и поколотишь, а потом и приласкаешь. Вот они и боятся, и слушаются. К примеру, меня-то как приучали? Не забыть мне…
В это время девочка принесла жбан пива. Хозяйка налила мне полную глиняную кружку, выпила и сама залпом кружку пива. Девочка села недалеко от тетки. Ей тоже, как видно, хотелось или пива выпить, или послушать, что будет рассказывать тетка. Становилось уже темно. На улице никого не было видно; в домах огней тоже не видать.
— Ты што же сидишь, полуношница! Когды — так и за делом спишь, — проговорила обыкновенным голосом хозяйка девочке.
— Я… так… не хотца спать-ту, — проговорила девочка, закрывая рукою рот, который при последнем слове широко раскрылся.
— Пошла, дрыхни! — сказала строго хозяйка. Пока девочка стлала себе постель в горенке, хозяйка и я молчали.
Хозяйка еще выпила пива и мне налила кружку.
— Что-то мне спать неохота! Оказия!
— Ты даве начала было о своем житье говорить, — сказала с сочувствием.
— Это насчет воспитания? Истинно, воспитывать нельзя, как строгостью: за всем надо самой присмотреть, потому кто припасает-то? Я припасай, а другой мытарь? — дудки!.. Вот, к примеру, мое дело. У родителев-то у моих семья была большая, а кажись, окромя меня, никому не было столько чижало. Вот перед истинным богом! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голос ее дрожал, как будто ей была обидно.) День и ночь… куды!! Никогда не знала спокою с малолетства. Перво-наперво — ребята. Кого качай, с тем водись; то прибери, другое; то сделай, пято-десято. А жили некорыстно, дай им бог царство небесно, хоша и считались за зажиточных, потому отец-то, но тем будь помянут, хоть и испивал малу толику, но все ж гоношил (старался) по хозяйству. Свои пашни имели и ладненько продавали в городе; бывало, в зиму-то мешков десяток продаст и зашибет рублев тридцать, потому пшеничная-то мука в та поры была три с половиной али четыре за мешок в пять пудов, а теперь вон она по пяти и по шести скачет. А мать-то моя продавала тоже в городе яйца, масло и капусту, только не умела беречь деньгу; как выручит рубля три-четыре — и давай покупать ситцу али пряников… И колачивал же ее за это отец, крепко колачивал, хоть бы и не следовало, потому огород или скотинка и птица завсегды должны принадлежать хозяйке; опять надо и то в расчет взять — сам-то он испивал же от своих трудов праведных! Ну, а все же она тратилась не в меру, и мы, по милости ее, никогда, что есть, яиц не ели. Впрочем, что об этом говорить? Бывало, поешь чего бог даст, а я так до семнадцати лет и терпеть, что есть, не могла яиц. Нутро не принимало. Сперва я все с ребятишками нянчилась да дома управлялась, потому, когда мать в город уедет, все хозяйство на мне лежало. Мать говорила, что я к хозяйству больше торовата, а вот сестра Катерина-то — к торговле. Только я замечала, што сестра Катерина ни к торговле, ни к хозяйству, не смышлена; а мне больно хотелось торговать, только мать не хотела. Ну, я и начала производить торговлю в селе. Уж больно мне смешно как вспомню, как я глупа была в та поры. Мать уедет. я отделаюсь дома и бегу к подруге, или подруга ко мне прибежит, и говорю: давай меняться! Та тоже: ну, давай. А менять-то было што? бусы, суперик (перстень), платок… да мало ли што?.. Ну, потом и говорю: сколь придачи? Так и менялись!.. А все эти придачи и другие, слова я от матери переняла. Али пойдем в огород и давай рвать морковь, и давай меняться. Видишь ли, я уж очень репу любила, а подруга морковь… Потом мать начала меня брать в город, ну, там я и узнала, в чем суть. И толковать об этом нечево. А тут вышла я замуж, судырь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу, порядки там не те. Родня большая, каждый в свою сторону да в свой карман тянет, а толку мало, бедность обуяла всех… Ну, дело молодое, хочется повеселиться, ан нет — делай. Хочется самой быть полной хозяйкой, — нет, тут все хозяйки. Обида просто берет, а муж смирный, олух; только когда пьян, тогда и боек, тогда и драться лезет… Так я и промаялась восемь годочков, и эти года я была совсем пустяшный человек, потому ровно ничего для себя не сделала; даже торговлей заняться не могла — нечем было торговать-то. А сестра в то время вышла замуж за вахтера. — Ну, а как помер муж-то, я словно воскресла. Перво-наперво же — своей коровенки нет. А от мужа мне досталось десять рублев: в шапке нашла — зашиты были, ну, я и не знаю, куды мне деть деньги, што с ними делать. На ту пору и подвернись Олексей Яковлев. Он раньше на мне жениться собирался, да потом надул. Пришел он ко мне, братец ты мой, — в дом. А я жила тогда в своем доме, сам муж строил, только тогда одна изба была, а уж это я все после состроила сама. Ну, я его пивком, он — так и так, говорит, лебезит… Ну, дело молодое… Прошло… На духу все прощено… Вот я ему и дай под росписку денег, никак шесть рублев. А тут дело подошло к лету, поспели огурцы, я в Т., да одна, на яковлевской лошади… Уж и наималась же я страстей!.. Воры напали, да видят — огурцы, хотели лошадь взять, да уж только Никола-святитель спас… Двои сутки прожила в Т., кое-как продала; только три цалковых и выручила. Ну, все ж — хоть и немного, а я была больно рада и стала потом ездить в город: почти все, что было в огороде, перевезла в город и деньги копила; только вот Яковлев и высасывал их. Так я и сделалась торговкой, и это нашим-то не больно сперва нравилось, а потом и бабы стали поручать мне продавать яйца, масло, капусту. Так што иной раз я с тремя возами катила в город с одними мальчишками. Купила я корову, овечек, куриц, свиней, ну, тогда дело пошло еще лучше, только, случалось, воровали скотину. И все же — гляжу, возни много, одной так трудно, што не приведи бог, а прибыли мало, потому не одна торгую, да и крупного товару у меня нет. Стала я подумывать, как бы мне постоянно торговать в городе. Ну, и нельзя: в селе у меня все хозяйство, а в городе надо начинать сызнова. Так ничего и не выдумала, а маялась много лет. Наши-то бабы много мне доверяли, и я без обмана исполняла поручения. А это много значит, и они еще больше стали располагать мной да на меня надеяться: нет у кого муки, ко мне бегут, потому отчего не дать своему человеку — не обманет, отдаст; а если и муку не возворотит, я сеном возьму, али овсом, али чем иным. Тоже, например, мужику нужен хомут, а денег нет. Ну, и плачется. Я говорю: ничего, подожди, на ярмонке дешевле купим, а ты мне только росписку пиши, после сквитаемся. Ну, а как не заплотит, и другим возьмем. Да, судырь ты мой, много возни нужно с нашими мужиками! Когда нужда, он и божится, и плачет, што вот как только поправится, со сторицею возвратит. А когда станешь просить свое, он же и обижается. Ну, подумала-подумала я: што. если я все таким манером буду упускать свои выгоды, не получать долгов, эдак сама обеднею. Положим, нуждающемуся дать нужно, только он-то зачем обманывает да кривит душой? Ну, думаю, не буду я вам больше в зубы смотреть. Нашла я через сестру в городе человека: судейский столоначальник. Вот коли кто мне не платит денег, я росписку столоначальнику, мужика и потянут. Ну, тот и пишет условие: поквитаться на овсе или ржи. Оно хотя и убыточно это для меня, потому я не могу определить: сколько измелется ржи, все ж таки что-нибудь да стоите и мужик уж зимой меня не проведет: покою не дам, как начнут молоть. А тут я и пашни, и покосы приобрела себе, и слава те господи, прибыль есть…
— Как же ты одна-то управляешься? — спросил я.
— Как? Ведь разе ты не знаешь, мы наши работы справляем помочами; ну, а мне многие должны, многие и не откажутся, потому грех; вот я и приглашаю; кои должны, долги зачитают работой, а кои не должны, тех удовлетворяю деньгами, поденно. Да деньги што! Помочи нужно только справить хорошенько: угощение надо сделать. Ради одного угощения пойдут. У меня, что есть, и сеют, и пашут даром. Вот што! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лекарским искусством занималась, а мне этого искусства не передавала, а я все-таки знала названье трав и знала, какую она траву откуда берет. Знала, што лечить не трудно, а тоже за леченье ей платят. Ну, как померла она, я и принялась за леченье скоро. Захворала баба — по всему селу стало известно, а мне особливо; свекровь ее приходит и спрашивает: нет ли, говорит, у тебя, Опариха, трав-ки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слыхала из разговоров от матери, какая трава от какой болести пользительна. Выздоровела баба. Ну, с тех пор и стали меня звать во все дома, и стала я для всех нужна. А тут вскоре и повитухой я сделалась. Тоже трудности нет большой; ничего худого не случалось, миловал бог. Вот они все и знают чувствие, видят, што у меня мужа-то нет, и пристают к мужьям: надо, говорят, помочь Опарихе-то. Да и мужья знают это, потому все мною от лихих болестей облегчение имеют. Ну, и испашут, и посеют.
— Своим посеют?
— Дожидай! Нет, мужик тоже плут: мы, говорит, вспахать — вспашем, не большой расчет, а засеять не можно, свое семя подай. Ну, да это так и следует.
— Ну, а как же ты кровь-то пускаешь? Ведь это вредно.
— И!.. кровь — с жиру али с застою. От чего болесть? — С крови. Выцедил ее — и легче. Да мне, судырь ты мой, сто раз выпускали кровь-ту!!
— То-то ты и худая.
— А разе… А тучный человек как помират?.. Нет, самое главное — это кровь… Опять же, у мужа Катерины фельшар есть — друг-приятель — так он мне лекарствия дает. У меня, кажись, пузырьков тридцать есть… Я ведь тоже и лошадей пользую.
— Много же у тебя дела-то, — сказал я после минутного молчания.
— Беда! И не поверишь, за все мои хлопоты и старания они мне все злом платят. Иной раз пьяный мужик так и грохочет на все село: пиявка Опариха… А бабы все только до случая, чего-чего не говорят!.. А как кто захворает или горе какое, идут, просят пиявку-Опариху. Вот какой крестьянский-то народ! — заключила Опарина и громко зевнула.
— Эк я — как рассиделась-то! Темень-то! — сказала она и встала.
Было действительно темно.
Опарина зажгла сальную свечку и стала делать себе постель на полу избы.
— Ну, летом ты торгуешь овощами, а зимой чем? — спросил я Опарину.
— Зимой-то? А. зимой я продаю муку, лен, масло, яйцы, — да мало ли што?.. Продаю и сита. Только этим больше занимается сестра. У нее в лавке все есть — только одной живой воды нет.
— И сено есть?
— Пошто сено? Сено ближние крестьяне продают, и я сеном не занимаюсь.
— Ну, а на ярмарке что продаешь?
— На ярмонке? Продаю орехи и пряники: потому деревенские гораздно падки до этого товара. Да и ярмонка-то што? — Только быками да лошадьми и торгуют, да вот разе еще поганые татаришки старый да гнилой ситец продают… — А ты иди — спи! Не цельную ночь сидеть для тебя, — прибавила она сердито.
На другой день утром мы пили чай, — я за столом против хозяйки, племянница ее поодаль, на лавке. На замечание мое: зачем ее племянница не сидит за столом, — она оказала, что девчонка еще мала и должна сидеть только тогда, когда будет совершенною невестою.
— Но ведь ты говоришь: без мужа жить лучше?
— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому сам ты рассуди, какое житье девке? Хоть где ни живи девка, а веры ей той нет, как бабе. И хорошего будь поведения, и тут насчет поведения сумлеваться будут, и надзору за ней больше. Да и какое житье девке одной? С кем она посоветуется? И опять; разве возможно устоять девке от соблазнов? А баба не то: куды ни приди, везде всем равна; никто тебя пальцем не ткнет, и веры тебе больше. Тоже и вдова… и вдова тоже баба, потому замужем была…
Опарина силилась объяснить положение вдовы, но у нее ничего не выходило, кроме того, что вдова была замужем, и потому ей более должно быть доверия.
Шел дождь. По улице шел полупьяный десятский и, остановившись перед домом Опариной, сказал что-то негромко. Опарина отперла окно и крикнула:
— Куда ты?
— Скликать! Дашку стягать хочут. Опарина с негодованием хлопнула. окном и стала скоро убирать со стола чашки. Я спросил у нее, где волость, и пошел туда.
За церковью стояло еще несколько домов, и из них особенно выдавались два дома: один, пятиоконный, стоял на площадке, против церкви. Дом был построен недавно и по новому фасону. У окон были расписные ставни, две трубы обелены. Наискось этого дома, через дорогу или улицу, был дом старинного фасона, старый, черный, с провалившейся до половины крышей. Над окнами, с разбитыми стеклами, болталась обеленная доска, держащаяся на одном гвозде, с надписью — волосное правление. В доме был гам и крик. Ворота были растворены, да они, как надо полагать, с давнего времени и не запираются, потому что половинки их держатся только на верхних болтах и подперты. Во дворе амбар с двумя дверьми. В этом амбаре, как я узнал после, содержатся виноватые, в одной половине — мужчины, в другой — женщины. Окон ни в том, ни в другом отделении нет. Во дворе грязно, воздух тяжелый, гнилой… Вошел я по небольшой лесенке на крыльцо, потом вошел в темные сени, из которых ведут двери вовнутрь, справа и слева. Направо двери отворены. Там, в небольшой комнатке с одним окном и с облупившеюся во многих местах штукатуренною стеною, стоял небольшой стол простой работы; на столе и на окне сидели в рубахах крестьяне, двое из них курили махорку. Я поклонился им, спросил: здесь волостное правление? — и получил утвердительный ответ. Никаких украшений в этой комнате не было, кроме одной рамки между печью и дверью, которою я вошел в комнатку, — рамки с разбитым стеклом. В рамке ничего не было, и я не мог понять, для какой именно цели повешена она; да надо полагать, и крестьяне об этом не знали.
Другая комната, в три окна, довольно просторная, но узкая, с такими же ощипанными и заплесневевшими стенами и потолком, с черным от грязи полом, только и отличалась от первой что простором да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столов; За одним столом сидело два человека в сюртуках, с длинными волосами и с плутовскими физиономиями, за другим сидел солдат и писал грамотку двум крестьянам. Этот солдат, как я узнал тут же, принадлежал к составу канцелярии волостного правления. А узнал я это из того, что вышедший из угловой комнаты писарь, молодой, бойкий господин, в легком летнем пальто и скрипящих сапогах, приказал ему переписать какую-то бумагу. В этой комнате было человек до тридцати крестьян, большею частью в рубахах и шапках. Половина из них сидели на полу у стен, половина, собравшись в небольшие кучки, о чем-то горячо разговаривали. Некоторые курили табак. Здесь происходил такой говор, что разобрать решительно ничего невозможно; никто не стеснялся ни крупными выражениями, ни языком, ни руками, все равно как на улице; всяк как будто бы чувствовал себя в своем доме; только из того, что при появлении волостного писаря в этой комнате или при проходе его в первую комнату народ немножко утихал, а некоторые даже вставали с полу, можно было заключить, что они у начальства.
Третья комната отличалась от первых двух тем, что, кроме табачного дыму, в ней пахло еще и водкой. Действительно, я увидел на окне полуштоф с жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и редьку. В этой комнате стояло два шкафа, окрашенные на скорую руку красною краскою, и посередине большой стол. За столом у стены стояло три стула, из коих один, крайний к окну, имел подушку, обшитую кожей. На столе были разбросаны бумаги, паспорты, две какие-то книги; писарь сидел на краю, противоположном той стене, у которой стояли шкафы, и что-то писал; перед ним стояли трое крестьян.
Простоял я с четверть часа, а начальство не являлось. У меня от дыму начала болеть голова. Крестьяне на меня не обращали внимания, только писарь, проходивший мимо меня, косился.
Наконец явился старшина: низенький человек, лет сорока, с лысой головой и большой черной бородой. Он был не толст и не тонок и не щеголял костюмом: на нем был надет черный зипун, опоясанный красным кушаком. Физиономия его выражала тупость и дикость. При входе он крякнул, вытащил из-за пазухи ситцевый грязный платок, отер им лицо и, протолкавшись в толпу, пробасил:
— Васька, падле-ец! — Затем он начал тузить одного крестьянина, стоящего ближе всех к выходу.
Народ опять враз захохотал.
— Илья Петрович… — произнес получивший удар.
— Зашибу! Зашибу!!
— Гляди, Кузьму за Ваську принял? — сказал, смеясь, молодой крестьянин.
Народ опять захохотал.
— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ах ты, ешь те леший… Кузьма?.. Ну, просим прощения, — говорил старшина и при последнем слове низко поклонился Кузьме.
— Ничего; зачти за недоимку.
— Целуй! друг! — говорил старшина и стал целовать Кузьму.
— С похмелья, аль пьян? — спросил старшину народ.
— Видно, грех попутал — пьян никак… Смотри, не грохнись, — острил молодой крестьянин.
Народ захохотал.
Старшина мотнул головой и пошел в третью комнату.
— А, Василь Васильч!.. Сто лет здравствовать, три пьянствовать… Водка-то есть ли? — И старшина ткнулся животом в стол, причем произнес: — Василь?.. как бы таво-сево?
— Есть мне когда с тобой раздобаривать! Садись на свое место да пей водку, вон! — проговорил писарь, указывая рукой на окно.
— О-О! Ах ты, сорока-белобока… Та-та-та! та-а-та! — Старшина, схватив полуштоф, сел на стул с кожаной подушкой.
— Яким! подай-кось лахань-ту? — сказал старшина мужику, стоявшему у двери.
— Раненько бы… тово… — начал было Яким и почесал себе затылок.
— Ну! не тебя — себя угощаю. Мужичок подал старшине чайную чашку, редьку и солонку.
— Вот!.. и потолкуем тожно… Важно! — произнес старшина, выпив чашку водки.
Старшина стал закусывать редькой и начал разговор с мужичком насчет лесу.
— А што ж, старшина, Яковлеву-то? — спросил писарь.
— Веди!.. Эй, Гаврило! веди Яковлеву! Живо веди, черт те дери! — кричал старшина.
Немного погодя в большую комнату была введена женщина лет тридцати пяти… Это была измученная женщина, с посинелым лицом, подбитыми бровями, босая, в изорванном сарафанишке. Всякий поглядел на нее и с состраданием, и с отвращением.
— Што?! опять ты меня в правленье! — кричал ее муж, подошедший к ней с кулаками.
— Не трожь!.. Разберем коли, тогда и бей, — унимали мужа крестьяне.
Тот отошел и начал ругать свою жену. Его кое-как уняли.
Вышедшие из присутствия, то есть третьей, угловой, комнаты, старшина сел на стул у одного стола, крестьяне стали во всю длину стены, женщина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоял за крестьянами.
Старшина встал со стула, подошел к крестьянам и стал осматривать их: он то поднимался на цыпочки, то заглядывал сбоку, причем голова его с половиною туловища описывала полукруг, что смешило крестьян, которые хихикали.
— Аль Прокопья нет?! Как же это, робята? — проговорил вдруг старшина.
— Хотел быть, да, видно, ногу сломал.
— Ишь ты… А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Ей-ей… в рекруты сдам, — проговорил старшина, обращаясь к молодому крестьянину.
— А ты, Илья Петрович, не раздобаривай, пущай коли домой, — произнес кто-то недовольно.
— Пущу, пущу!.. А ведь надо бы тово, четвертуху?.. А?.. робя!..
— С Яковлева бери.
— Васюха?! Васька? Ва-сю-ха!!! — прокричал старшина, обратясь к третьей комнатке: последнее слово он произнес по-кошачьи. Народ заговорил. Все роптали на старшину.
— Счастливо оставаться! — сказал вдруг один крестьянин и стал надевать шляпу.
— Стой!! Кто выдет — гривна серебра штрафу… — сказал строго старшина.
— Это-то небось помнит, на это трезв… — роптали крестьяне.
— Сичас, робята… Никифор, тащи-ко писаря-то за волосы! — сказал старшина и мигнул одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился сам, с пером во рту и какой-то бумагой в руках.
— Подписывай!
— Поди ты от меня! Плевать!
— Так я печать твою приложу.
— А вот! — И старшина, показал писарю здоровый кулак.
Писарь было пошел, но старшина крепко ухватил его за фалды сюртука.
— Постой-кась… Не уй-де-ешь!! Я… я тебя не пу-щу-у!! Олексейко, говори!
Из толпы выдвинулся муж Дарьи и, почесываясь, начал рассказывать о поведении своей жены.
— Врешь! врешь! — озлобленно говорила Дарья.
— А ты говори дело. Воровала она у тебя? — спросил писарь…
— Перед истинным богом говорю — воровала: около трех цалковых унесла… заставь богу молить…
Женщина поклонилась в ноги старшине и стала выть.
— Ну!.. што кричишь-то!! А ты, парень, ноне разбогател. тожно. А што ж подать-ту! — спросил старшина Алексея Яковлева.
— Батюшка, Илья Петрович… сколотырил было три цалковых. Ну, думаю, слава богу, завтра представлю в волостное правленье… Хвать, она и вытащила… И хоть бы грош!
— Што-о ты? — сказал старшина, растягивая. — Провалиться, не вру!
— Вася?.. врет Олексейко, али нет? по-твоему, как?
— Конешно, украла.
— А вы, робята? — обратился старшина к народу.
— Известно… нам што…
— Ну, значит, украла, и конец делу…
— Ну-ко, Дарюха? што ты скажешь, матка-свет? — обратился к обвиненной старшина.
Обвиненная вдруг начала браниться и, неизвестно почему, назвала и старшину подлецом.
— Постой, постой, сорока! ты скажи, зачем деньги украла?.. А за ругань я еще взыщу… гово-ри! — крикнул вдруг старшина так громко, что многие вздрогнули.
Дарья ничего не отвечала.
— Писарь! — старшина держал все еще писаря за одну только фалду сюртука, — каки твои законы?
— Стегать! — одно.
— Робята, как? — спросил старшина крестьян.
— Мы ништо… Нам што, — проговорили тупо крестьяне.
— Степанко! а Степанко! Из первой комнаты вошел тот солдат, который раньше здесь занимался.
— Кашка-то у те есть ли? — спросил его старшина, ухмыляясь.
Оказалось, что всю «кашку» увез с собой становой на следствие по какому-то делу, а што веники есть.
— А впрочем, — добавил усердный солдат, — можно виц нарезать и у хмельниковского дома.
Старшина согласился и послал Степанка за вицами. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будет наказание бабе — тяжкое или легкое. Старшина потребовал водки, принесли четверть; несколько крестьян выпили по чайной чашке, только закусить было нечем. Говор усилился. Кажется, все позабыли о происходившей недавно сцене, да и о предстоящей никто не говорил ни слова, только хвалили старшину, — вероятно, вследствие угощения, — что хотя он и пьян, да два угодья в нем.
Вдруг вбегает Опарина.
Все крестьяне разом смолкли и удивленно смотрели на нее.
— Где старшина?
Внезапно ли наставшая тишина или громкий голос Опариной заставили старшину выйти в эту комнату.
— Вон глядите! Опариха!! — кричал старшина, кусая редьку.
— Я давно Опариха… Ох ты, пьяница ты горькая! И какой тебя дурак старшиной-ту делал? — кричала Опарина и при последнем слове чувствительно дернула старшину за бороду.
— Нет… ты… па-стой, — размахивая рукой, говорил пьяный старшина.
— Моли бога, што ты пьян, а то я бы тебе глаза выковыряла.
— Ой ли? выковыряла бы?
— Ну-ко, скажи, каков твой суд насчет Дарьи?
— Стегать…
— Вот тебя бы постегать-то!
Народ захохотал.
— А вы-то што, олухи царя небесного… Вы-то што стоите, точно подохлые?.. Для того, что ли, вас позвали сюда, штобы табачище проклятый курить да хохотать!.. Ах! глядите, они водку лакают! Ну и суд!..
— Да мы ништо… наше дело што? коли бы… — загорланили крестьяне.
— Вы-то што! Вы и слов сказать хорошенько не умеете! — Потом, обратясь к ошеломленному старшине, который тупо глядел то на народ, то на нее и почесывал спину, Опарина крикнула: — Подавай писаря!
Писарь вышел сам.
— Ты што кричишь-то, калашница? Не твое дело — пошла вон!
— Как! меня вон?! Да я у самого губернатора была, лично с ним разговаривала, да он и тут не гнал меня. А ты што за фря такая?
— Говорю тебе, пошла вон! — закричал писарь.
— Ан и впрямь здесь кабак, только одного и недостает — бочки нет. Поглядите-ка, православные, — старшина с писарем лыка не вяжут.
— Ребята, гоните ее! — крикнул разозлившийся писарь диким голосом. Но никто не трогался с места, все переглядывались друг с другом, улыбались и шептали: «на-кась! эво, как!» Человека три, впрочем, делали эти восклицания вслух.
— А на столе-то не кабак! Ну-ко, старшина, скажи мне, каков твой суд?
Старшина и писарь не хотели отвечать.
— А вот подожди, увидишь.
— За вицами Степанко ушел, — проговорили негромко в толпе.
— И впрямь стегать?!
— И тебя выстегаю! — сказал важно старшина.
— Руки коротки! Дурак ты, дурак! Вот и видно, што; своего ума-разума нету… Ты спросил ли муженька-то ее, за что он ее искалечил? Глядел ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у нее все искалечено?
При последних словах Опарина подвела к старшине обвиненную и сказала:
— Видишь!
— Так и надо! — проговорил старшина.
— Не твое дело! — сказал писарь.
— Ax ты, чуча ты эдакая! Не по моей ли милости женушка-то твоя вылечилась? — сказала писарю Опарина.
— Ну, дак што?
— Дурак, сидел бы уж, лопал водку! А вот, поди-ко, пиши паспорт Дарюхе.
— Э-э! сорока-то што! а?.. Виц несите-ко, робята! — крикнул старшина.
— Это не меня ли уж, ваша милоств? — передразнила старшину Опарина.
— Известно.
— Покорно бла-го-дарю! — Опарина низко поклонилась старшине, потом обратилась к писарю:
— Ну-ко, скажи, умница: приказано баб стегать?
— Приказано.
— Кажи закон?
— С дурой и говорить нечего.
— А вот я хоть и дура, а доподлинно знаю, што бабы получили от самого царя избавленье от виц, и ты это должен знать!..
Народ громко захохотал разом.
— А вот попробуем, как не велено, — сказал, смеясь, писарь.
— На-кась, читай, — да вслух! — крикнула Опарина писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь начал было прятать записку в карман пальто, но народ загалдил:
— Читай, читай! Нече прятать-то… Вор!
— От отца Василья записка-то, — сказала Опарина.
— Читай!! — заревел народ и окружил писаря, старшину, обвиненную и Опарину.
— «Илья Петрович!» — начал писарь чтение и, пробежав письмо про себя, остановился.
— Читай!!
— Да ничего нет: отец Василий просит выпустить Яковлеву.
— Читай!!! — заревел народ пуще прежнего. Писарь, видя, что ему отвертеться от чтения нет возможности, и не находя слов сочинить что-нибудь сию минуту, начал продолжать письмо:
— «Всем уже давно опубликован царский указ об избавлении женщин от телесного наказания, и потому, сожалея о тебе, прошу помнить это на всяком месте, потому что за нарушение этого закона, который должен быть известен писарю…» Забыл… кажется, нет… — соврал писарь.
— Читай! читай! нечево…
— «… ты будешь тяжело наказан. Священник Василий Феофилатов».
— Эвона, штука-то! Баб не велено стегать! А мы-то што? Чудно! — галдили крестьяне, расходясь по комнате. Все заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не мог понять. Писарь толкнул его в бок.
— Спишь ты!
— Как же… а?.. Указ! А мы тово!.. Писарь увел старшину в третью комнату и стал что-то шептать ему, но старшина вдруг разразился ругательствами на писаря. Опарина, разговаривавшая с Яковлевым и ругавшая его на чем свет стоит за кражу лошади, вдруг вошла в присутствие, то есть в третью комнату.
— Ну, што ж вы народ-то маите? Отпускайте бабу-то.
— Да мы ужо… Где же этот закон-от? — ворчал старшина.
— Да, што с вами толковать! На вот трехрублевую, пиши пачпорт: Яковлеву на год во все города, — проговорила Опарина писарю.
Писарь призадумался.
— Три мало, пятитку — и пиши, Василь, — проговорил старшина…
— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевой-ту деньги взялись? Будет с вас и этих — пропьете, — сказала Опарина.
Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писарем и удивленные известием об отмене телесного наказания женщинам. Скоро комнаты опустели, только писарь писал паспорт крестьянской жене Яковлевой, а старшина, сидя рядом с Опариной, разговаривал с ней о поповском жеребце, подаренном недавно старостою священнику. Теперь между старшиной и Опариной не было несогласия. Я стоял около Опариной, потому что она рекомендовала меня старшине и писарю за своего хорошего знакомого, приехавшего к ней из города лечиться. Старшина сделался так любезен, что неотступно просил меня выпить водки и прийти к нему запросто откушать чего бог послал. Писарь подал старшине паспорт для подписания; старшина кое-как подписал.
— И из-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопочешь-то? Ведь она не исправится, — сказал писарь.
— А постегать надо бы! жалость!.. — проговорил со вздохом старшина.
— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мне от нее житья нет, то и дело ругается да баб наших мутит. По ее милости мало ли што говорят про меня?.. Ну, а как в город-то свезу, и лучше.
— Это истинно! — заключили старшина и писарь.
Опарина и я распрощались с начальством и вышли.
Яковлева сидела на крылечке и, как только увидала Опарину, бросилась ей в ноги.
— Прости ты меня, тетушка Онисимовна… прости-и! — причитала Яковлева.
— Ну, полно, дура. Говорила я тебе: не плюй в колодец, пригодится… Ставай, подем-ко мне.
Яковлева не знала, что сказать, однако пошла за Опариной.
Дорогой я спросил Опарину: неужели у них всегда такой суд? Она сказала, что в волостном правлении еще и не то делается: старшина и писарь что захотят, то и делают.
— Ну да, — прибавила она, — и старшине достается. Это в волости-то ничего, терпят, а попадется пьяный на улице старшина али писарь, так отдубасят! Поубавят-таки веку — и поделом! Одново раза даже писаря выстегали, и жаловаться не посмел.
Назначила Опарина отправиться в Т. в субботу утром. Я тоже налаживался с ней, а Яковлеву Опарина отпустила к сестре до субботы. После обеда к Опариной приходила женщина с просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что послезавтра отец младенца, кум и кума уедут на покос.
— Я, — говорила женщина, — ходила к нему, да он обещался в воскресенье: да и нам без тебя, тетушка Опарина, нельзя крестить, потому ты принимала.
Вечером Опарина сходила к священнику и получила от него разрешение принести младенца завтра утром в церковь. Я удивлялся тому, как Опарина везде успевает и все ее просьбы исполняются.
— Нечего и удивляться тут. Всякий может успеть, коли дело правое и рассудок имеет, — отвечала она мне и рассказала, как она раз одного крестьянина от рекрутчины избавила. Дело состояло в том, что у одного старика был сын двадцати двух лет. Были дети у старика и кроме этого сына, но все померли. Сына поставили в очередь, о чем он даже и не знал. Объявили набор и потребовали сына в рекруты. Надо заметить, что старик был слепой, а жена его постоянно хворала, так что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вот Опарина и подала просьбу губернатору, началось дело, освидетельствовали отца и освободили сына от рекрутства, а писаря и старшину предали суду.
В субботу мы, то есть тетушка Опарина, Яковлева и я, тронулись в путь, но нам пришлось идти, а не ехать, потому что Опарина нагрузила телегу капустой. Но идти все-таки было весело, потому что Опарина занимала нас смешными анекдотами из деревенской жизни, вроде того, как она вылечила одну бабу от глухоты тем, что поставила бабу под колокол и что при этом у церкви стояли все жители села и т. п. Вечером мы пришли в Т. и остановились у ее сестры Катерины.
Эта женщина была вполне торговка. Все ее манеры и слова изобличали в ней женщину, толкущуюся постоянно в публике и старающуюся различными способами приобрести себе хоть копейку барыша. У нее была лавочка на рынке, и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дегтем, орехами, ягодами, пряниками, табаком и тому подобными вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имела вид городской; сама она и муж ее, открывший недавно заведение «распивочно и навынос», приняли нас любезно. Яковлеву муж Катерины обещал посадить в питейное заведение.
В воскресенье Опарина стояла со своим возом на рынке. Нельзя сказать, чтобы капуста ее была самая лучшая, но покупатели были, и она не зазывала их к себе криком, не говорила, что ее капуста лучшего сорта, а только заламывала большую цену: за сотню вилков полтора целковых; ей давала восемь гривен, и она потом отдавала за рубль.
В полдень я навестил ее на рынке и отдал ей три рубая денег.
— И, што ты, судырь ты мой! За што это? Будет и рубль.
Я настаивал, чтобы она взяла все деньги, но она дала мне сдачи два рубля и сказала:
— Если считать по-божески, так дешевле рубля выйдет. Потому двое сутки нужно вычесть: раз ты хворал и не ел, другой — мы твои грибы ели. А што до другова, так я те скажу, моя сестра нахлебника держит за пять рублей в месяц.
Я не стал возражать и простился с ней…
1868
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые напечатано в «Современном обозрении», 1868, N 3. Подпись Ф. Решетников. Рукопись неизвестна. С незначительными изменениями текста при жизни автора перепечатано в: Сочинения Ф. Решетникова. Т. I–II. Спб., Изд. К. Н. Плотникова, 1869. Т. II. Очерки, рассказы и сцены. Серия «Добрые люди». Включалось во все посмертные собрания сочинений.
В советский период вошло в Полн. собр. соч., т. II; в кн.: Решетников Ф. М. Избранные произведения в 2-х томах, М., 1956, т. I.
Рассказ написан по материалам уральской поездки Решетникова летом 1865 г. в Пермь, Чердынь, Соликамск, Усолье. Екатеринбург.
Исходя из текста рассказа (стр. 1), его написание можно датировать 1866 г.
В 1867 г. Решетников предлагал свой рассказ в журналы «Дело» и «Отечественные записки» (А. А. Краевского), однако по неизвестным причинам в этих изданиях он не появился.
Демократическая критика высоко оценила произведение Решетникова (Н. Шелгунов, М. Цебрикова). Отстаивая новый положительный идеал и народность литературы, Шелгунов подробно останавливается на образе тетушки Опариной, как талантливом воплощении положительного героя из народа, видит в нем «здоровый тип», «здоровую силу, стремящуюся, стойкую»: «Опарина все: она кулак, и мелочный торгаш, и сельский хозяин, и повитуха, и лекарь, и коновал, она помогает деньгами и советом; она — ходатай за угнетенных; ее нравственному влиянию подчиняются не только крестьяне, но и сельское начальство; она — счастливое соединение Марфы Посадницы с торговкой, кумушкой и фактором… не у всех такой ум и характер. В Опариной есть сила подчиняющая — не среда подчиняет ее себе, а она среду, потому что она знает эту среду» (Шелгунов Н. В., с. 310).
Критик «Отечественных записок» М. Цебрикова в статье о творчестве Решетникова «Летописец темного царства» уделила большое внимание теме женской доли в творчестве писателя-демократа. Чертами активности и одаренности русского национального женского характера отмечены, по признанию критика, образы героинь романов Решетникова «Где лучше?», «Свой хлеб». Проблемы женской независимости, женского труда поставлены писателем едва ли не во всех значительных его произведениях. И среди этих незаурядных образов русских женщин критика выделила тетушку Опарину, нового человека русской деревни пореформенной поры.
Т. А. Полторацкая.
Примечания к изданию: Ф.М. Решетников. Между людьми. Повести, рассказы и очерки. Изд. «Современник», М., 1985 г.
Комментарии Т.А. Полторацкой к рассказу:
… между Е. и Т… — Буквами зашифрованы: Е. — Екатеринбург; Т. - вероятно, Тагил или Тюмень.
… ведет ее в волостное правление… — В России волостью называлась низшая сельская административно-территориальная единица в составе уезда, объединявшая несколько сел (деревень). Волостное правление состояло из старшины, старост и писаря.
… от города К. в двадцати верстах… — Буквой К. писатель мог зашифровать несколько городов, которые он проезжал летом 1865 г.: Красноуфимск, Кунгур или Камышлов.
… Кашка-то у те есть ли? — речь идет о порке, «березовой каше».


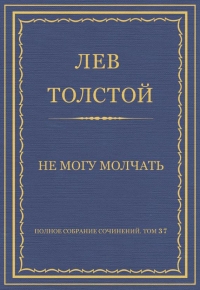
Комментарии к книге «Тетушка Опарина», Федор Михайлович Решетников
Всего 0 комментариев