Эльмар Грин МАТЬ Рассказы
МАТЬ
1
Вилма Туоминен открыла глаза, и в тот же миг тоска и боль опять пронизали ее сердце. Зачем открылись ее глаза? Неужели всемогущий бог не мог устроить так, чтобы они совсем не открылись? Ему ли, создавшему вселенную, не знать ее тайного желания, которое отныне пребывает в ней неотступно и днем и ночью, сопутствуя каждому ее шагу в этой постылой жизни, где уже не осталось для нее радостей. Что стоило ему, всесильному, избавить ее от ненужных мук, подарив ей вечное успокоение? Это было бы для него так просто: не дать открыться ее усталым, заплаканным глазам, которым стало невмоготу видеть белый свет. А он не сжалился над ней, и глаза ее открылись. Для какой радости было им открываться?
Она откинула теплое одеяло и села на краю кровати, опустив голые ноги на мягкий полосатый половик. Ноги у нее были полные и крепкие. А темный цвет загара усиливал их здоровый вид. Да и вся она была коренастая и крепкая, под стать своим объемистым ногам. Белая сорочка плотно облегала ее тугое и все еще молодое тело, полное сил и здоровья, и широкие скулы, пропитанные за лето солнцем, лоснились от избытка румянца. Но что ей было теперь до этого здоровья? Не радовалась она ему и даже не замечала его. Уже много дней тело это было для нее чужим, ненужным, неведомо зачем сохранявшим в себе жизнь. Двигалось оно теперь как бы само собой, без ее участия, механически выполняя по хозяйству все то, что привыкло выполнять в течение многих лет.
И когда она села так на краю своей теплой постели, с голыми, загорелыми коленями, подняв к затылку полные, сильные руки, ее глаза первым долгом обратились в сторону комода. Но она тут же закрыла их, чтобы не дать им увидеть рокового конверта, лежащего на его углу. Она даже попробовала сделать вид, что ничего не знает об этом конверте. Какой такой конверт? Нет его здесь и никогда не было. Угол комода пуст. Ничего нет на нем, кроме белой сетчатой салфетки, покрывающей весь комод. Только край салфетки свисает с этого угла. Вот все, что там есть. В эго она хотела верить и для поддержания в себе этой веры отвела глаза от комода и тогда только опять их открыла.
Спустив с плеч лямки сорочки, она обнажила груди, чтобы заправить их в чашечки лифа. Ее круглые плечи и руки тоже были темны от загара. Загаром были тронуты также живот и поясница. И только по той части туловища, которую обыкновенно охватывал бюстгальтер, проходила светлая полоса нежного, желто-розового цвета. В жаркие летние дни она выходила на полевую работу в одной короткой юбке, и солнце не замедлило отметить своей теплой золотистой печатью кожу ее тела в тех местах, где она оставалась открытой.
Бюстгальтер она не сразу водворила на место, обернув его сначала вокруг поясницы, чтобы легче было застегнуть пуговицы. И, застегивая их, она опять старалась не смотреть в сторону комода. Незачем было ей туда смотреть. Разве там что-нибудь лежало такое, ради чего стоило поворачивать голову? Ничего там не лежало. Пусто было на углу комода, слава богу. И вообще ничего страшного в ее жизнь за последние недели не вторгалось. Где-то, во сне кажется, произошло что-то такое… Но вот она проснулась, и все стало на свое место. А страшный сон остался далеко позади. И хорошо, что остался. Сейчас она оденется и примется, как всегда, за свои повседневные дела.
И думая так, она старалась в то же время сделать вид, что все ее внимание направлено на застегивание лифа. О, тут нельзя без внимательности! Не так это просто сделать, как на первый взгляд кажется. Она вот как застегивает свой лиф. Эти три пуговицы должны сойтись у нее на спине между лопатками с этими тремя петлями. Многие женщины застегивают их прямо на спине, выгибая назад руки и не сразу попадая пуговицами в петли. А она поворачивает на себе лиф чашечками назад и застегивает задние пуговицы тут же, перед глазами, не утруждая своих рук лишними вывертами. Потом она снова поворачивает на себе лиф чашечками вперед, вот так, и после этого подтягивает его вверх, прямо на нужное место.
Вот как ловко у нее это получается! Не всякая женщина догадывается, наверно, надевать лиф таким способом. А она догадывается. Почему бы ей не проявить иногда какую-нибудь новую выдумку в своих делах, если шли они у нее гладко, ничем не омрачаясь, кроме разве одного страшного сна, который тоже теперь, слава богу, позади.
Приподнимая поочередно ладонью груди, чтобы вложить каждую из них в матерчатое углубление, она с тайной гордостью ощутила тепло и жизнь, которыми они были наполнены. Несмотря на свою тяжесть, они очень мало отклонились книзу под грузом таившихся в них жизненных соков. Свою молодую форму они сохранили, конечно, по очень понятной причине. Они еще не успели растратиться. Ведь ими был вскормлен только один ребенок. Да, только один был вскормлен… Один только был… О боже! Был!
И как бы отгоняя проникающую в ее сердце боль, она с новым старанием затеребила руками лиф. Перекинув через плечи узкие лямки, она пристегнула их концы спереди, над чашечками лифа. Груди от этого сразу приподнялись и остались в таком положении, глядя сосками сквозь тонкую белую ткань прямо вперед, как в дни юности. Она провела по ним ладонями, все еще силясь не впускать в себя то, что уже ворвалось и терзало ее изнутри. Она даже попыталась ради той же цели растянуть в улыбке свой добрый, мягкий рот.
Но глаза не поддержали усилия рта. Слишком прочно увязла скорбь в их голубой глубине. А застывшая над ними суровая межбровная складка даже не дрогнула, словно высеченная на ее широком лбу из темного камня.
Вилма потянула вверх сорочку и просунула руки под ее лямки. Потом она встала, придерживая на затылке темно-русый клубок волос, готовый развернуться и рассыпаться. Все еще выказывая всем своим видом беззаботность, она как бы невзначай взглянула на комод. С чего было ей избегать комода, если все то страшное было только сном? Она взглянула на комод с таким видом, словно и знать не знала никогда ни о каком конверте. И в первый момент она действительно не разглядела его в предрассветных сумерках. Затаив надежду, она даже сделала в сторону комода несколько шагов. Но распечатанный серый конверт оказался на месте— на углу комода, куда она его положила в день получения этого страшного для нее известия. И когда она разглядела его теперь вполне отчетливо, боль и тоска уже без всяких препятствий наполнили ее всю. И тогда она сказала тихим голосом, сжав кулаки и обратив лицо к потолку:
— Как же так можно, о господи! Немыслимо это! Не должно этого быть!..
Но сказав это, она сразу же сникла, и ее мягкие губы опять сомкнулись для горестного молчания. Подойдя к печи, она сняла с деревянного шеста просохшие за ночь шерстяные чулки и присела на низенькую скамеечку, чтобы их натянуть. Чулки были длинные, но корсажа она не носила и поэтому закрепила их выше колен резинками. Сняв с шестка подсохшие башмаки, она обулась и затем надела то самое платье, в котором накануне ходила за грибами. Платье было старое, уже утратившее от многих стирок свой отчетливый темно-коричневый цвет. Но когда она повязала поверх него светлый полотняный передник с голубым окаймлением по краям и над карманами, оно сразу стало нарядным и праздничным. Завязанные на поясе тесемки передника сделали ее стройной, и будь это пятью неделями раньше, она бы не упустила случая полюбоваться собой лишний раз в зеркале, висевшем тут же, рядом с комодом. Но теперь это уже не приходило ей в голову. Это ушло куда-то далеко-далеко и невозвратимо. Сейчас она даже не поняла бы, что может существовать для женщины такая радость: смотреться в зеркало и любоваться своей фигурой, пока она еще полна упругости и силы.
Привычными движениями рук застелила она постель и вышла на двор умыться, прихватив с собой полотенце. Прохлада сентябрьского утра коснулась ее лица, когда она ступила на крыльцо. Рукомойник был закреплен возле крыльца, на стволе рябины. Вода в нем успела вобрать в себя весь холод северной ночи и теперь леденила кожу. Широкое темное лицо Вилмы еще сильнее запылало румянцем, когда она кончила умываться и обтерлась полотенцем.
Не так уж далеко до морозных ночей, когда стержень у рукомойника схватит льдом. Тогда придется его перенести в дом. Ей, конечно, не понадобилось бы возиться с рукомойником, будь в доме сын. Он собирался купить бак и насос. Для бака он готовился соорудить возвышение из камней высотой в два этажа и на эту высоту накачивать воду из ручья насосом. А из бака вода потекла бы по трем трубам в дом, в баню и в коровник. Откроет сна, Вилма, кран прямо в комнате и нальет сколько ей нужно в чугун, кастрюлю или кофейник. Он очень заботился о своей маме, ее славный Вяйно, и делал все, чтобы облегчить ей работу. Ее муж Антти тоже не раз поговаривал о водопроводе. Но он погиб в зимнюю войну. Его убили русские. Проклятые русские! Кто поселил их рядом с финнами? Какой крови стоила каждая ссора с ними! Пять лет назад они убили ее мужа, а теперь убили сына — ее последнюю, единственную радость. Есть ли зло чернее этого? О милосердный Иисус Христос! Ты, который сам познал человеческие страдания, сам принял муки, как позволяешь ты этому совершаться? Но тебе виднее, господи. Тебе виднее с твоей небесной высоты.
Стоя у крыльца, она взглянула на небо. Оно было серое, унылое и не обещало своим видом никаких утешительных изменений в ее судьбе. Земля выглядела богаче красками, но и они ее не радовали. Березы и рябины, окружавшие дом, не стали веселее от того, что половина их листьев пожелтела. А высокая осина у забора день ото дня все больше наливалась краснотой не от весенней свежести. При сильном ветре все они уже понемногу теряли самые слабые из своих листьев, усеивая желтыми и красными пятнами двор, сырой и грязный от осенних дождей. Только ягодные кустарники, прилегавшие к огороду по другую сторону дома, сохранили свою зеленую нетронутость, да не признавала близости осени крупная старая ива с изогнутым, толстым стволом, стоящая позади ягодного сада, у ручья.
Бывало, Вяйно любил с разбегу вспрыгивать на нее и затем взбегать по ее изогнутому стволу до самой вершины, раскачиваясь на ней и напевая что-нибудь удалое. Но теперь уже целое лето ива стояла нетронутой, и место вокруг нее поросло высоким бурьяном. Ей тоже недолго оставалось красоваться в зеленом наряде. Настанет день, когда ее ствол и ветки тоже станут голыми и черными. Всему придет конец, как пришел конец к ней, к Вилме, для которой уже не осталось в жизни ничего. Непонятно только, почему господь не прибирает ее к себе, оставляя неведомо зачем топтать землю.
Веселый, резвый Пейкко подбежал к ней и остановился, повиливая белым пушистым хвостом и глядя на нее преданными коричневыми глазами.
— Ну что, Пейкко? — сказала Вилма, со вздохом. — Небось уже есть хочешь?
И верный пес подтвердил это предположение признательным повизгиванием, участив и без того частые взмахи хвоста.
— Все вы каждый день хотите есть, — сказала Вилма, кинув тоскливый взгляд в сторону ивы. — Все вы пропадете, если я не приготовлю вам еды.
И снова Пейкко с готовностью это подтвердил.
— Все вы жить хотите, — сказала Вилма. — Всем вам дела нет ни до чего другого, только бы жить.
«Да, да, жить! — ответил ей всем своим видом Пейкко, обрадованный вниманием хозяйки. — А разве это плохо — жить? А что же еще надо? Что еще надо, хозяйка, а?»
И он запрыгал из стороны в сторону, не жалея в избытке восторга своего короткого пушистого хвоста. Головой он делал такие движения, словно сверлил воздух. Черный кончик носа ходил у него ходуном, ловя ее запахи, коричневые глаза ловили ее взгляд, а уши вставали торчком, ловя звуки ее голоса.
— Бессовестный ты, Пейкко, — сказала Вилма. — Давно ли ты неразлучно бегал со своим молодым хозяином и даже вспрыгивал вслед за ним на ствол вон той ивы. И вот не стало его, твоего хозяина, а тебе и горя мало. Ты скачешь, как прежде, и еду тебе только подавай.
«Да, да, хозяйка! — прокричал радостно пес. — Как ты верно угадала. Еду подавай! Еду, еду! Это такая великолепная вещь — еда! Что на свете может с ней сравниться?»
Вилма отвернулась от него и медленно поднялась на крыльцо. Вернувшись в дом, она повесила на место полотенце и открыла печную заслонку. Из печи ей в лицо пахнуло теплом. Дрова внутри лежали, сложенные в клетку еще с вечера. В нижней части клетки, в промежуток между колотыми поленьями, была заложена растопка — пучок щепок с берестой. Все это просохло за ночь в теплоте печи и нагрелось, ожидая огня. Она оттянула вьюшку трубы и ткнула горящей спичкой в бересту. Та с жадностью приняла огонь и сразу закурчавилась и задымила, передавая огонь щепкам. А от щепок языки пламени, постепенно удлиняясь, потянулись в разные стороны, прилипая к поленьям.
Пока огонь в печи разгорался, Вилма причесалась перед зеркалом, висевшим на стене между комодом и окном. Проделала она это быстро, давно усвоенными, привычными приемами. Вынув сперва приколки из растрепавшегося клубка темно-русых волос на затылке, она дала им свободно рассыпаться. Были они у нее не очень длинные, доставая чуть ниже середины лопаток, но густые. Взяв затем с комода гребень, она принялась их расчесывать, наклоняя голову вбок. Ранний утренний свет, проникая в окно, слабо освещал ее, и в зеркале отражалась не столько она, сколько огонь печи. Расчесав волосы, она скрутила их в толстый жгут и, завернув его на затылке спиралью, закрепила тугие выпуклости этой спирали медными приколками.
Делая это, она не думала о том, что делает. Делали ее руки, а не она сама. И глаза не видели того, что было перед ней. Они смотрели в какой-то иной, горестный мир, не следя за движениями рук. Сами руки сняли с вешалки легкий цветной платок и повязали им голову, соединив концы на затылке под узлом волос. Сами руки взяли в углу возле печки пустую корзину, и сами ноги понесли ее к двери.
Кошка спрыгнула с печи и остановилась у двери, просясь мяуканьем на двор. Ее голос вернул на время мысли Вилмы к тому, что ее окружало, и она сказала:
— Ну что, Мирри? Выспалась, отогрелась? Прогуляться тебе понадобилось? Иди, иди, прогуляйся.
Она выпустила кошку и сама вышла вслед за ней. Курочки уже появились на дворе, оставив насест, хотя еще не совсем рассвело. Для начала они выискивали себе корм где пришлось, но, увидев хозяйку, кинулись к ней со всех ног. А было их у нее тридцать четыре штуки с приплодом этого года. И впереди всех бежали к ней молодые, выглядевшие не в меру длинноногими, оттого что их туловища не успели еще укрупниться и обрасти длинными перьями. Быстро перебирая лапками, они неслись прямо на нее, растянувшись в две цепи, словно солдаты во время атаки.
— Кыш вы, глупые! — сказала Вилма, взмахнув корзиной. — Не торопитесь. Еще успеете получить свое.
И они остановились в недоумении, поглядывая на нее то одним глазом, то другим. А потом опять разбрелись по двору, выискивая себе корм где придется. Ей даже стало жалко их, бежавших к ней с такой доверчивостью. Но пусть знают свою очередь. Ишь каким войском на нее ринулись! И как просто было их остановить. Если бы всякое войско можно было так останавливать. Как легко жилось бы тогда людям на земле.
А если бы так же вот остановить русское войско? Ведь это такое зло, такое зло. И ничем его не уничтожить. Попробовали немцы его раздавить, но даже у них ничего не вышло. Такая это страшная сила. Но ведь гибли же они тысячами, сдавленные кольцом в Ленинграде. И се доблестный Вяйно содействовал этому с перешейка. Всех бы их так извести. И если бы даже ей, Вилме, дали в руки ружье и пустили на фронт, разве она стала бы их щадить?
Сурово сдвинув брови на широком лбу и крепко сжимая ручку корзины, Вилма спустилась в погреб за картошкой. Картошка, еще не совсем просохшая, лежала в погребе справа и слева, отделенная от узкого прохода двумя низкими жердяными загородками, которые тянулись от входа на всю трехметровую длину погреба.
С одной стороны лежала мелкая картошка, с другой— крупная. Это была огородная картошка, поспевшая раньше полевой, еще не копанной, и занимала она только малую часть погреба.
Погрузив ладони в груду мелкой картошки, Вилма наполнила ею полутораведерную корзину и положила сверху еще несколько крупных картофелин для себя. С этим грузом она прошла по тропинке между огородом и ягодным садом к ручью. Груз был нелегкий, но она не замечала этого. Только раз она перекинула корзину из одной руки в другую и при этом сказала, взглянув на небо:
— Прости меня, боже! Да, это жестоко — желать им смерти, я знаю. Но как же тогда, господи? Ведь Вяйно-то нет! Вот стоит ива, на которую он взбирался, а его нет. И не будет никогда. А убил кто? Они убили. О проклятые!
В ручье были сделаны два углубления. Одно для вычерпывания чистой воды — выше того места, где стояла ива, а другое ниже по течению. Она подошла к углублению, которое было ниже, и здесь перешагнула одной ногой через ручей, повернувшись лицом навстречу течению. Стоя так на обоих берегах над быстро бегущей чистой водой, она погрузила корзину в углубление, держа ее обеими руками за ручку, и тут же вынула ее из воды, встряхивая на весу и колыхая, чтобы дать струям воды лучше обмыть картофелины. Повторив это несколько раз, пока из отверстий корзины не потекли совсем прозрачные струи, она понесла вымытую картошку в дом.
И внутри дома она продолжала выполнять все привычное, каждодневное с тем же старанием, как всегда, но без всякого интереса к тому, что выполняла. Сердце ее было сдавлено болью, мысль была сдавлена, и двигалась она по комнате только потому, что надо же было двигаться и что-то делать, господи! Если не двигаться, то что же тогда? И она двигалась, выискивая для рук такое, на что требовался излишек усилий.
Отобрав из корзины крупные картофелины, она положила их в маленький чугунок, а в большой чугун высыпала всю остальную картошку. Воду в чугуны она могла бы налить из кадки ковшиком. Но, увидя, что в кадке осталось не более двух ведер воды, она подняла кадку, подхватив ее одной рукой снизу, а другой сверху, и залила картошку в чугунах прямо из кадки.
Так же точно — чтобы облегчить себе труд — она могла бы поставить оба чугуна на шесток до того, как залила их водой. Но она не искала облегчения и рада была каждому лишнему усилию. Что ей вес чугуна по сравнению с той тяжестью, которая давила на ее сердце? Она легко подняла на шесток чугуны с водой и картофелем, продвинув их затем ухватом в глубину печки. Рядом с ними она поставила горшок со вчерашним супом и медный кофейник с водой. Остатки воды из кадки пошли в чистое ведро. С этим ведром и подойником она отправилась в коровник.
Делала она все быстро, словно торопясь куда-то. Ей казалось, что если она поторопится, то и жизнь ее поторопится. А ей так хотелось, чтобы жизнь поторопилась, чтобы она пришла теперь к своему концу и дала наконец ей, осиротевшей матери, вечное успокоение от всех мук. Ничего иного она больше не желала. Но несмотря на быстроту, с которой двигались ее руки, жизнь ее не ускоряла своего движения. Все так же медленно ползло время, и крепкое тело не принимало болезней, готовое, кажется, выдержать еще не один год подобных терзаний. За что осудил ее бог на эту казнь?
Стойло для коров, овец и лошади находилось у нее под одной крышей. Даже маленький поросятник был пристроен вплотную к стойлу, в стене которого пришлось пропилить отверстие для поступления в поросятник тепла зимой. Поросята дружно хрюкнули, когда она прошла с ведром и подойником мимо этого отверстия к тому углу, где стояли две коровы и телка. Всего у нее было три поросенка. Двух она выращивала к будущему году, а одну свинью прошлогоднего приплода откармливала; держа ее в отдельной загородке. Перед зимой она собиралась пригласить из соседней деревни старого Урхо помочь ей заколоть свинью и разделать тушу. Все шло благополучно в ее хозяйстве, ибо она не жалела сил, чтобы к возвращению сына удержать все в лучшем виде. Но к чему это все теперь? Никому это теперь не нужно.
В коровнике для нее не было дела, требующего особенных усилий, но нужна была внимательность, чтобы молоко в подойник попало чистым, без запаха коровы.
И она старалась эту внимательность нарочно усилить, чтобы хоть как-то приглушить грызущую ее боль. К стене была прибита деревянная полка, на которой лежала маленькая деревянная скамеечка ножками вверх. Она сняла с полки скамеечку, а на ее место поставила пустой подойник. Со скамеечкой и ведром она подсела сперва к рыжей Мансикке и обмыла ей вымя, наливая воду из ведра прямо в ладонь. Потом она повернулась к черной Мустикке, тоже мирно жевавшей свою утреннюю жвачку, и обмыла и ее вымя. Выплеснув остатки воды в желоб, она обтерла изнутри ведро прихваченным с собой чистым полотенцем, проверила чистоту ведра при свете лампочки, свисающей со стены на металлической дуге, и еще раз обтерла.
Делая это, она силилась полностью уйти в то, что делает, но тщетно. Все вокруг слишком живо напоминало ей сына. Даже эта лампочка, дающая свет всему коровнику, где стояли отделенные друг от друга загородками две коровы, телка, лошадь и овцы, даже эта лампочка не преминула осветить в ее памяти былые дни. Почти год назад акционерная компания по какой-то причине прекратила подачу тока по этой линии. И когда ее мальчик в начале весны уходил на войну, в доме было сумрачно и невесело. Единственной световой точкой в темные вечера служил фонарь, в котором бережно сжигались остатки елочных свечей. Но он сказал ей:
— Ничего, мама. Как только я вернусь, так и свет загорится.
Но вот свет загорелся уже полтора месяца назад, а он не вернулся и никогда не вернется. О боже, боже!
Вилма присела на скамеечку возле Мансикки, зажав между колен ведро, и принялась доить. И снова она напрягла внимание. А как же без внимания? Без внимания и струя пронесется мимо ведра, и ведро может выскользнуть или повернуться в коленях так что молоко выльется. Доила она всегда в прямое ведро, у которого верх и низ были одинаковы. Его удобнее было зажимать коленями. Но зато попадать в него струями молока было труднее. Ну и что же? Она привыкла. Может быть, иным хозяйкам больше нравится доить в широкое ведро или даже прямо в подойник. А ей нравится доить в это ведро. Зачем она будет отказываться от своих привычек?
Нравится — и все тут. Она и в это ведро надоит не менее проворно, чем иная хозяйка в широкое.
Скользя влажными пальцами по соскам коровьего вымени, Вилма даже попробовала было подсчитать по отрывистым журчащим звукам в глубине ведра, сколько белых струй извлекалось из одной пары сосков и сколько из другой. Но очень скоро мысли ее опять ушли в свой неизменный горестный мир, а пальцы продолжали действовать сами по себе, как уже привыкли действовать за многие годы. И снова скорбь наполнила ее взор, и без того не ведавший радости. Брови сблизились, углубляя складку над переносицей, и все широкое лицо застыло в неподвижности, отливая медью при свете лампочки.
Только ее губы сложились не совсем так, как того требовала суровая скорбь лица. Они не были у нее приспособлены для выражения суровости. Наделенные с избытком полнотой и мягкостью, они даже в сомкнутом виде сохраняли такое положение, словно готовились вот-вот растянуться в улыбке. И как бы следуя этому стремлению, их углы даже выдавливали легкие вмятинки у края ее щек. Но в ее голосе не было мягкости, когда она встала, надоив полведра, и сказала, обращаясь к низкому потолку коровника:
— Нет, господи. Не могу я им простить. Не могу. Ты убей меня, если это грех, но проклятие им!.. Проклятие им!
И снова ее губы сомкнулись, выдавив ямочки на краях щек, и все лицо застыло в суровости и скорби. Она вылила молоко в подойник, стоящий на полке, накрыла его полотенцем и подсела к Мустикке.
Всего молока получилось около трех четвертей подойника. Положив скамеечку на место, она понесла молоко в дом, сопровождаемая понимающим взглядом белого, мохнатого Пейкко. Рыжая Мирри уже сидела на крыльце, тоже великолепно зная, какого рода груз находится у ее хозяйки в подойнике. Она знала, что сейчас получит свою долю, но все же на всякий случай еще раз напомнила о себе мяуканьем.
Вилма впустила ее внутрь, но сперва уделила внимание десятилитровому бидону. Он сушился у нее в опрокинутом виде на шестке, который служил также и пли-той. Накрыв бидон сложенной вчетверо марлей, она вылила в него почти все молоко. Оставшимся молоком наполнила двухлитровую стеклянную банку и деревянную плошку для Мирри.
Пока Мирри лакала свою долю, Вилма закупорила бидон, протолкнула выгребателем поглубже в печь горящие дрова и вышла во двор. Обойдя дом, она поднялась на несколько ступенек вверх по лестнице, приставленной к нему со стороны сада, и посмотрела в ту сторону, где стоял дом ее соседки Сайми. Ого, как там рано поднялись! Младший сын Сайми уже гнал свое стадо вдоль полевой дороги, к нижним лугам.
Вилма спустилась на землю и полубегом направилась к хлеву. Гнать коров, овец и телку через поле на соединение со стадом Сайми ей тоже пришлось почти полубегом. Мальчик еще издали крикнул ей:
— Здравствуй, тетя Вилма!
— Здравствуй, Тауно, — ответила она и, подойдя к нему поближе, сунула в карман его куртки четыре куска сахара, завернутых в бумажку.
Этот сахар ей удалось приобрести летом в обмен на яйца и масло. Целый килограмм сахара! И она берегла его на тот случай, если сын приедет в отпуск. Но сын уже никогда не приедет в отпуск. А сама она не могла есть его сахар. Так пусть он доставляет радость хоть маленькому белоголовому Тауно. Тот, правда, ежился и краснел каждый раз, бедняга, когда она делала такое добавление к его несложному завтраку, но от сахара не отказывался. Какой ребенок откажется от сахара, да еще в такое трудное время? А сделать ребенку приятное— не высшая ли это радость на земле? И кем надо быть, чтобы безжалостно убивать их, рождаемых на радость миру?
Домой Вилма шла еще более торопливым шагом, легко неся через поляну свое плотное, коренастое тело, перехваченное у пояса тесемками передника. И все дальнейшее она продолжала делать с большой спешкой, словно торопясь куда-то. Придя домой, она вывела из стойла лошадь и вскочила на нее верхом, держа в руках моток веревки с коротким колышком на конце. Лошадь не спешила уйти со двора. Но Вилма сжала ее бока каблуками башмаков и рванула повод.
— Ты же отдыхаешь сегодня, Пелле! — сказала она и заставила кобылу пойти рысью. А так как рысью довольно сильно трясло, то она скоро пустила ее вскачь, направляя вдоль ручья на выкошенную луговую низину, где уже успела вырасти новая молодая трава. Здесь она соскочила с лошади и оставила ее на привязи, вогнав колышек в землю с помощью камня.
На обратном пути она еще издали увидела едущего к ней на велосипеде старшего сына Сайми и ускорила шаг. Но тот опередил ее. Он уже сидел на ее крыльце и разговаривал с Пейкко, когда она подошла, вся потная и красная от спешки.
— Здравствуй, Вилли, — сказала она. — Что нового?
— Здравствуй, тетя Вилма. Вот новое.
И он протянул ей свежий номер газеты «Карьяла»[1] и последний из сентябрьских номеров журнала «Котилиеси»[2].
— Разве это новое, — сказала она, но все же бережно взяла в руки газету и журнал. Их выписал год назад ее Вяйно, и теперь они были для нее как бы продолжением его существования, как бы некоей долей его самого, еще живущей в этой бумаге.
Она внесла их в дом и положила на книжную полку, поверх других журналов и газет, а из дому вынесла десятилитровый бидон с молоком. Ей пришлось придержать велосипед, пока Вилли привязывал бидон веревкой к багажнику. Славный он был мальчик, этот Вилли. Такой же белоголовый, как Тауно, и щеки такие же нежно-розовые, на которые и загар-то не ложится. Он каждый день приезжал к ней, чтобы забрать утреннее молоко, а потом отвозил его вместе со своим на сдаточный пункт в Мустакоски. Дома ему приходилось пристегивать к велосипеду двухколесный прицеп, потому что кроме ее бидона он ставил на площадку прицепа два своих и еще четвертый бидон от хозяйства старого Урхо.
Ему едва исполнилось шестнадцать лет, а он уже работал как взрослый, выполняя в хозяйстве своей матери все, что надлежит мужчине. Он и голосу своему старался придать мужскую густоту, хотя это ему плохо удавалось. Завязав последний узел, он сказал, подражая размеренности речи взрослого:
— Новое еще то, что та перестрелка в лесу два дня назад была, оказывается, с «лесными братьями».
— Ах, вот как? — сказала она.
— Да. Так люди думают, потому что двое вчера вышли из леса и объявились властям в Мустакоски.
— Вот как! Стало быть, они до сих пор там прятались?
— Выходит, так.
— Значит, свои в своих стреляли? А я уж подумала, что русские опять появились.
— Какие? Те, что партизанили там, возле Сювяйоки?
— Да.
— Ну что ты, тетя Вилма. Те давно куда-то пропали.
— А хоть бы и все они пропали.
Отцовский велосипед был немного великоват для Вилли, а бидон, кроме того, мешал ему забросить ногу через седло. Он сел на велосипед с нижней ступеньки крыльца. И пока он постепенно набирал ход, Вилма сказала ему вдогонку:
— Ты им передай, что две сотни яиц у меня будут не раньше воскресенья. А масло собью на той неделе.
— Хорошо, тетя Вилма. До свиданья.
— До свиданья, мой мальчик. Счастливо доехать.
Она вздохнула, провожая его глазами, и некоторое время постояла так, опустив руки. Пейкко заскочил немного вперед, чтобы оказаться в поле ее зрения, и остановился, повиливая хвостом и вопросительно глядя на нее рыжими глазами.
— Да, да, Пейкко, сейчас! — заторопилась она и вошла в дом. Вода в чугуне кипела и пенилась. Вилма пошевелила выгребателем горящие поленья и снова вышла, прихватив горшок с холодной ячменной кашей, сваренной накануне. Помешивая в горшке на ходу ложкой, чтобы сделать кашу рассыпчатой, она прошла в амбар и там зачерпнула полный совок овса.
— Тип-тип-тип! — позвала она, выйдя из амбара, и птичье войско не замедлило ринуться к ней из всех закоулков. Выбрав место, поросшее травкой, она пошире раскидала овес, чтобы им не было тесно клевать, а разворошенную в горшке кашу старалась подбрасывать больше молодым курочкам. Молодых у нее было шест-наддать. Среди них пять петушков. Старых — восемнадцать, и среди них только один петух, но зато такой красавец, каких поискать. Четырех молодых петушков она уже заранее наметила продать зимой. А насчет курочек подумает ближе к весне, когда они начнут нестись. Конечно, с некоторыми из них тоже придется расстаться. Зато останутся самые плодовитые. Уже сейчас видно, какие они будут крупные и красивые. Их молодые перья по разнообразию окраски не уступали перьям взрослых кур. Она стояла в этом живом скоплении всевозможных красок, словно в переливах радуги. Все они были ее творениями — эти хлопотливые яркие комочки, такие жадные до жизни. Она дала им жизнь, и она обязана была поддерживать ее. Куда было ей от них деваться?
Когда к ней пришло то страшное письмо, она почти целый день просидела неподвижно, глядя в одну точку. И только коровы с овцами, придя вечером с пастбища, напомнили ей о том, что у нее есть обязанности, от которых она не имеет права отказываться, если не хочет за это потом ответить перед богом. А утром ее заставили ходить и двигаться опять они же, чьи жизни полностью зависели от нее. Так и не дали они ей сойти с ума от горя и одиночества.
Они не положили конца ее тоске, но и жизнь ее на этом не кончилась. Живые существа, наполнявшие ее двор, требовали своего, и она не могла их оставить. Все они доверчиво тянули к ней свои глупые морды и выжидательно таращили глаза. Как могла она обмануть их ожидания? От нее исходила к ним жизнь, и какое им было дело до того, что ее собственная жизнь перестала быть жизнью? Она была рождена для того, чтобы давать жизнь, распространять жизнь вокруг себя, и это она выполняла безропотно. Что еще могла она сделать, если так была устроена, себе на горе? Может быть, она теперь тоже хотела бы убивать и убивать! Но как ей добраться до тех, против кого кипел в ее груди гнев? Недосягаемы они были для нее. Полные суровой решимости, они теперь сокрушали и гнали обратно в Берлин единственную силу, которая отважилась было стереть их с лица земли. Что могла она сделать, если не они появлялись перед ее глазами изо дня в день, а те, кто заслуживал жизни? Ничего не могла она сделать, кроме как покорно нести отмеренные ей богом заботы. И только в торопливости находила она какое-то утешение. Торопливость в работе приглушала ее внутреннюю боль и словно бы подгоняла вперед время. Как еще могла она поторопить свою жизнь к желанному концу? Не было у нее другого способа.
Войдя в дом, она заглянула в печь. Дрова в ней уже превратились в жарко пылающие головни. Вода в чугунах клокотала, и выступающая поверх кипящей воды картошка подпеклась и зарумянилась. Отворачивая от жара пылающее румянцем лицо, Вилма потыкала картошку вилкой. Картошка сварилась. Действуя ухватом, она извлекла из печи оба чугуна и поставила их на плиту, служившую одновременно шестком. Прикрыв большой чугун крышкой, она прихватила ее сверху тряпкой и слила из него воду в деревянную лохань для помоев, а половину картофеля из этого чугуна вывалила в низенький, широкий ушат.
Окутанная горячим паром, она растолкла картошку в ушате деревянным толкачом. Этим же толкачом размяла в другом ушате три сладкие свеклины, сваренные накануне, добавила к ним толченой картошки и перемешала все вместе, присыпая сверху ржаной мукой. Заглянув еще раз в печь, она отодвинула подальше от огня кипящий кофейник, извлекла горшок со вчерашним супом и вылила его в третий ушат, самый маленький из всех. В супе была косточка, оставленная для Пейкко, и два маленьких кусочка мяса. Вилма поставила ушат на пол, чтобы дать супу остыть, и погрозила пальцем кошке, лежавшей на подоконнике:
— Не смей трогать, Мирри, слышишь? Это не твое.
Та лениво приоткрыла глаза и снова их зажмурила, как бы говоря этим, что с нее довольно и молока.
— То-то, — сказала Вилма. — Горе мне с вами. Так и норовите друг друга обидеть.
Подхватив оба ушата с толченой картошкой, она поспешила в поросятник. Ну и визг же там поднялся, когда она вошла. Особенно старались те двое, что находились в просторной загородке. Еще бы! Целую ночь не ели. Совсем извелись, бедняги. Пока она, перегнувшись через загородку, обтирала пучком сена их корыто, они совсем оглушили ее своим визгом и хрюканьем, тыча влажными рыльцами в ее руку. И стоило ей вывалить в корыто теплое картофельное месиво, как оба враз умолкли, жадно хватая ртами пищу, чавкая, оттесняя друг друга от корыта и залезая в него для удобства передними ногами.
Ушат с более сладкой смесью Вилма вывалила в корыто одинокой огромной Хелуне, ожидавшей своей печальной судьбы в такой тесной загородке, где она могла только стоять или лежать. Никаких иных движений от нее и не требовалось, дабы не растрачивался понапрасну накапливаемый ею жир. Она не проявила такой жадности к еде, как те двое, но, отведав месива, принялась поглощать его не менее охотно.
Вилма посмотрела на все это и вздохнула. Попробуй втолкуй вот этим тугим розовым живчикам, что не так уж много радости дает жизнь, они тебя, пожалуй, поймут! Да и Пейкко тебе такое скажет в ответ на этакие речи, что лучше и не пытаться ему доказывать. На ее обратном пути к дому он так выразительно заскакивал вперед, заглядывая ей в глаза, что она вынуждена была успокоить его:
— Да, да, Пейкко. Ты угадал. Пришла твоя очередь.
И он даже взвизгнул от радости и нетерпения. В комнате она добавила в его суп несколько кусков хлеба и вышла с ушатом в руках на крыльцо. Карауливший возле крыльца Пейкко уже не сводил с ушата глаз, пока она не поставила его на травянистое место у рябины. И тут наступили самые сладостные минуты его жизни.
Вилма постояла немного, наблюдая за тем, как он выхватывал из теплого, ароматного супа куски хлеба и мяса, лакая в промежутках жидкость. Свиной косточке он уделил особенное внимание, отойдя с ней немного в сторону и даже растянувшись на траве, чтобы насладиться ею в более удобном положении. А потом опять уткнулся носом в ушат, выедая оттуда хлеб, картошку, крупу и жидкость.
Да, все они, несмотря ни на что, хотели жить и есть. Не ею это было установлено, и не ей это нарушать. И если она хочет, чтобы у нее самой достало силы снабжать их пищей, то она не имеет права забывать и о себе. Таков неизбежный круговорот жизни, и никуда ей от этого не уйти.
Вилма сходила в амбар, взяла немного крупы для каши, спустилась в погреб, достала засоленную свиную косточку и две картофелины для супа, выдернула на огороде несколько морковин, свеклин и луковиц, натаскала из ручья полную кадку воды и поставила в печь обед для себя. А на завтрак поджарила три вареные картофелины из маленького чугуна и заварила в кофейнике ячменный кофе.
После завтрака она вымыла посуду, ушаты, чугуны, вынесла лохань с помоями, поставила в печь, в дополнение к супу и каше, горшок с молоком и чугун с чистой водой. Выждав, когда прогорела последняя головешка, она закрыла печь заслонкой, закрыла трубу и схватила стоявший в углу веник, предвидя с тайным страхом, что сейчас ее хлопотам придет конец и никакой защиты от страшных мыслей уже не останется.
Так оно и получилось. Она подмела пол в комнате, в сенях, обмахнула ступени крыльца и остановилась, припоминая, что еще такое не сделано в ее хозяйстве, требующее затраты сил и внимания? Как будто все было сделано. Только позавчера она закончила вспашку под зябь и вернула соседке Сайми ее мерина, которого впрягала вместе со своей кобылой в пароконный плуг. Незадолго до этого была закончена молотьба ржи, ячменя и овса на гумне старого Урхо. Зерно она уже засыпала в амбар, а солому удобнее будет перевезти зимой на санях. Перед молотьбой были засеяны озимые и снят овес. А до того были сняты рожь и ячмень.
Все эти работы она выполняла в компании с другими женщинами и мальчиками, переходя с ними из хозяйства в хозяйство. Так получалось намного быстрее. На ее земле они сделали за два дня то, на что ей одной понадобились бы недели. Самым кропотливым делом была летняя прополка полевых овощей. Но даже с этим они справились быстро. А для сенокоса успели ухватить лучшие солнечные дни первой половины июля, вовремя наполнив сеном все сараи. Такой выгодной оказалась эта совместная работа женщин из разных хозяйств.
И теперь у нее образовался свободный от полевых работ промежуток времени. Копать картошку еще было рановато, а кормовую свеклу с турнепсом — тем более. Оставалось пока одно: ходить за грибами и клюквой. К тому же там и внимательность была необходима да еще доставалось вдоволь и ногам, и рукам, и пояснице. А дома ей нечем было так себя загрузить. Войдя в комнату, она напрасно перебирала в памяти домашние дела. Стирать еще было нечего. Шитья тоже не накопилось. Заняться вязаньем она не могла. Эта работа оставляла свободной голову. А в свободную голову непременно лезли всякие черные мысли, от которых сердце сдавливало невыносимой тоской. Читать газеты и журналы она тоже теперь не желала. Как могла она читать о торжестве тех, кто убил ее сына? Даже библия не давала ей в последние дни утешения.
Она взяла с полки библию и наугад раскрыла ее. И как нарочно ей на глаза попались горькие слова из «Плача Иеремии»: «Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетования. Старцы уже не сидят у ворот; юноши не поют. Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши». Она поскорее закрыла библию и вышла в сени, где лежали корзины.
Одну корзину она взяла для грибов, другую для ягод и кроме того заплечный кузовок, сплетенный из бересты, куда можно было высыпать грибы из корзинки. Пейкко, лежавший с благодушным видом посреди двора, вскочил, заметив корзины в ее руках. Он догадался, куда она собралась, и выразил полную готовность сопровождать ее. Но она сказала строго:
— Будешь дома, Пейкко! Слышишь? И чтобы никуда! Смотри внимательнее.
Пейкко вильнул хвостом в знак понимания, но вид у него был недовольный. Некоторое время он даже шел за ней, надеясь, что она изменит свое решение. Но напрасно. Перешагнув ручей, она еще раз повторила свое наставление, и Пейкко остался за ручьем, тоскливо глядя ей вслед.
2
Пройдя вдоль своего картофельного поля, еще не тронутого пропашником, Вилма очень скоро подошла к лесу. Этот лес принадлежал крупному акционерному объединению, которое разрешало не только собирать в нем грибы и ягоды, но даже охотиться, подбирать сухой валежник и срезать сухостойные деревья. Это был пограничный лес, прилегающий к русской Карелии. Когда финские войска захватили в сорок первом году русскую Карелию, этот лес как бы слился с русскими лесами. И кто только в них не перебывал за время войны! Прятались там одно время русские, не успевшие вовремя уйти к себе на восток от финских войск. А потом в этих же лесах прятались финские дезертиры, которым надоела война и хозяйничанье гитлеровских войск в Суоми. Это по ним, значит, стреляли два дня назад солдаты финских регулярных частей, которые отходили теперь назад, на свою землю, как было условлено с русскими. Они отходили, оставляя, где надо, пограничную охрану и заодно просматривая леса. Скоро все они разойдутся по домам. И только ее Вяйно никогда не вернется к своему родному очагу.
Когда эти мысли снова коснулись ее своим черным, холодным крылом, она ускорила шаги. Ускоренный шаг— это хоть какое-то усилие. И кроме того, войдя в лес, она тотчас же принялась высматривать грибы и подобрала их немало, пока пробиралась по лесной тропинке среди молчаливых стволов к трем валунам. Возле них она остановилась.
Здесь, напротив этих трех крупных валунов, обросших мхом, протекал ручей, заслоненный с обоих берегов ольховником. Он был намного больше того ручья, что протекал мимо ее дома. Через него она не смогла бы не только шагнуть, но даже перепрыгнуть. Но чтобы этот ручей не смог стать для нее преградой, сын когда-то перебросил через него две толстые чурки, стесанные сверху, и плотно прижал их друг к другу забитыми в землю колышками. На один из колышков он повесил небольшой ковшик, сделанный им самим из бересты. Ручкой ковшику служил изогнутый прут ивы. Он повесил тут свое изделие, чтобы каждый переходящий этот ручей мог при желании напиться свежей студеной воды.
Иногда ей случалось встречать его здесь, когда он уходил с утра на охоту. Она присаживалась на самый низкий валун с вязаньем в руках и терпеливо сидела так, поглядывая в просвет, образованный его мостиком в ольховнике. Он появлялся в этом просвете всегда неожиданно, и первое, что она видела, — это радостную улыбку, в которой расплывалось его круглое лицо при виде матери. И какая же сладкая волна счастья проходила каждый раз по ее сердцу при виде этой улыбки!
Он и сейчас как живой встал перед ней с этой славной сыновней улыбкой, и она попробовала внушить себе, что именно таким он и появится сейчас опять перед ней из-за ольховника, густо обступившего с двух сторон звонкий ручей. Да и в самом деле, почему бы ему сейчас не появиться оттуда с белками или зайцем на поясе? Что-то там, правда, вторглось как будто в ее жизнь страшное и непоправимое, но ведь она уже установила, что это ей только показалось во сне. А на самом деле все обстоит благополучно, как всегда. И вот сейчас ее Вяйно должен появиться оттуда, из-за ручья. Вот молодец, что догадался наконец порадовать ее своим появлением, а то ей уже такое почудилось, что просто не дай бог! И письмо какое-то и еще что-то, настолько нелепое и страшное, чему и быть никогда не должно в жизни. Но, слава богу, все на месте: и ковшик берестяной и мостки. Да и сам он сейчас покажется с ружьем за плечами, улыбнется ласково, чтобы развеять все ее напрасные тревоги, и скажет: «Маловато сегодня, мама. Только три белки и один заяц да тетерев, — смотри, какой».
И она даже присела, как бывало, на низкий валун, поставив рядом корзинки и глядя с деланной беспечностью по сторонам. Жаль, не взяла она вязанья — хорошенький многоцветный шарф начала она для него еще с весны. Теперь бы очень кстати было кончить его и тут же показать ему. Но не беда. И так можно дождаться. Ей не привыкать ждать его с тех пор, как он остался у нее в жизни один. Подождет и теперь.
Она взглянула на небо. Оно было пасмурное, но дождем не пугало. Березы желтели, рябины желтели. А осина и черемуха больше наливались красным цветом. И молодой клен, заполнивший своей листвой промежуток между стволами сосны и ели, тоже пытался в осенней своей окраске подражать больше осинам, чем березам. Но это ему давалось туго. Зато кусты ивы и ольхи делали вид, что осень их совсем не касается, и силились удержать на себе зеленый летний наряд нетронутым. Но надолго ли? И только ели и сосны, возвышаясь над всей этой переменчивой яркостью, были спокойны за свой вечнозеленый, неумирающий цвет.
Вилма отвернулась от елей и сосен, вид которых опять пробудил в ее душе что-то грызущее. Зачем ей это грызущее? И откуда оно, если для этого нет никакой причины? Она отвернулась от их вечно молодых вершин и принялась внимательно рассматривать подобранные на пути сюда грибы, поглядывая все же время от времени на переход через ручей. Семь подосиновиков успела она подобрать и четыре подберезовика. Один из подберезовиков был старый. Она разломила его. Нет, он не был червивый и мог пригодиться. И три сыроежки тоже вполне годились в пищу. Только кому годились? О боже! Кому? Она еще внимательнее принялась перебирать грибы, пытаясь придать этому занятию характер обыденности, где все шло гладко и куда ничего страшного не врывалось.
Но где-то в глубине ее души не переставало таиться нечто грозное и беспощадное, которое не желало быть подавленным. Оно как бы выжидало там, это черное и злое, притаившись насмешливо, и заранее злорадствовало, предвкушая неизбежность своего появления наружу. И оно все возрастало и раздувалось там, вытесняя прочь всю ту ненадежную прозрачную хитрость, с помощью которой она пыталась это страшное и неистребимое прикрыть. И, вырастая, оно подавляло и захлестывало ее сопротивление, смеясь над ней, пока наконец не наполнило ее всю, торжествуя и издеваясь над ее наивными уловками. С холодной трезвостью оно безжалостно растолковало ей, что все то жуткое действительно совершилось и никуда ей от этого не уйти до конца своей жизни.
И никогда больше не появится из-за ручья с ружьем за плечами ее незабвенный Вяйно. Не может он появиться. Нет его на свете, ее единственного мальчика. Как это могло так получиться? Где же твоя мудрость, о господи? Нет его и не будет больше. И ничего у нее теперь не осталось. Осталась только тяжкая, грызущая боль. И она всегда будет при ней, эта боль, потому что его нет больше на земле и никогда не будет. Как матери вынести это? Как выплакать ей свое горе, если горю этому не видно конца и если нет больше слез для плача?
Схватив корзины, Вилма направилась к мосткам через ручей. Он журчал, как всегда, весело и звонко, и берестяной ковш висел на том же месте, готовый к услугам жаждущих. Она постояла немного над журчащей водой и подержала в руках берестяное изделие сына. Она даже зачерпнула им воды из ручья и глотнула ее, а потом опять повесила на место, защемив ивовую ручку в расщеплении колышка. Пусть висит здесь и выполняет то, для чего он предназначен ее мальчиком. Она поправила ковш на колышке, стараясь придать ему то же положение, в каком его оставил сын, а то как бы он не обиделся, увидя, что не так висит. Ничего, Вяйно, не тревожься. Я повесила его в точности, как он висел у тебя. Вот посмотри. Так ведь, верно? Я же помню хорошо, как он у тебя висел. Разве я забуду, глупый ты. Ну, видишь теперь? Висит, как висел. Разве не так?
И она опять не удержалась, чтобы не взглянуть в ту сторону, откуда ожидала его. Но его по-прежнему не было видно в просвете листвы. Тогда она сама прошла туда с мостика, протиснувшись между кустами ивы и ольхи. Ветки скользнули по ее груди и плечам, гулко зацепив корзины. Выбравшись на невысокий травянистый склон, она с надеждой взглянула вверх, туда, где продолжался лес, полыхающий жаром и золотом. Но никто не шел оттуда ей навстречу. И, понимая отчетливо, что никто оттуда и не выйдет, она бросила тоскливый взгляд вправо и влево вдоль заросшего кустарником ручья. И вдруг она замерла на месте, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. На узком травянистом склоне между лесом и ручьем в пяти шагах от нее лежал человек.
— Вяйно! — вскрикнула она и бросилась к нему.
Человек не шевельнулся. Он лежал ничком, головой к ручью, и его руки были слегка выдвинуты вперед, впившись полусогнутыми пальцами в траву. Видно было, что он пытался доползти до ручья, который манил его своим звонким журчаньем, но не дополз, потеряв силы и сознание в трех метрах от него. Взволнованная Вилма еще раз произнесла: «Вяйно!» — но уже без прежней надежды в голосе, ибо по форме кистей рук и очертанию уха уже догадалась, что это был не он. Тогда она остановилась в двух шагах от лежавшего и спросила громко:
— Кто здесь?
Но человек не отозвался. Он даже не шевельнулся в ответ. Неужели мертвый? Откуда он, боже мой! И все еще думая о Вяйно, она бросила на землю все корзины и склонилась над ним, пытаясь осторожно повернуть его лицо вбок. Нет, это был не Вяйно, слава богу, но тоже очень молодой парень, почти мальчик. В этом она легко убедилась, коснувшись рукой его подбородка. То, чем он оброс, было мягкое, пушистое и реденькое, почти незаметное на его подбородке и ничуть не укололо ее пальцев, как не кололи щеки и подбородок Вяйно, когда она брала их в свои ладони.
Юноша был жив. Она в этом убедилась, просунув руку за ворот его пиджака. Тело было теплое, и шейная артерия чуть заметно пульсировала. Она просунула руку дальше, к его груди, чтобы ощутить биение сердца. Оно билось. Но там ее пальцы окунулись во что-то теплое и липкое, и когда она извлекла их оттуда, они были в крови. Человек был ранен и полз, истекая кровью, к ручью. Но сил на это у него не хватило, и он потерял сознание, продолжая истекать кровью.
Коренастая, румянолицая Вилма была не из тех, кто способен только охать и беспомощно озираться при виде беды. Не теряя даром времени, она осторожно перевернула лежащего на спину. От этого движения на запекшиеся от крови раскрытые губы юноши вытекла изо рта свежая алая струя. Две тонкие струи вытекли также из запекшихся ноздрей. Было ясно, что кровь текла еще и оттого, что он лежал головой вниз по склону. Ее надо было остановить. Опустившись на колени, Вилма слегка приподняла теплыми ладонями безжизненную голову и приложила ее затылком к своей мягкой материнской груди. Придерживая ее в таком положении, она подхватила сильными руками плечи юноши и, приподнявшись с колен, повернула все его тело на травянистом склоне таким образом, что голова его оказалась выше ног.
Затем она бросилась к ручью, преодолев за одно мгновение те пять шагов, на которые не хватило сил у него. Тут же она вспомнила про берестяной ковш сына, зачерпнула им воды и вернулась к лежащему. Наливая понемногу из ковша в ладонь, она обмыла лицо юноши, обтерев его затем своим головным платком. Но лицо юноши продолжало оставаться неподвижным и бескровным, и только загар придавал ему какое-то подобие свежести.
Вилма еще раз прикоснулась рукой к его груди. Но трудно было уловить сквозь одежду биение сердца. Да и некогда было тратить на это время. Жизнь постепенно уходила из юноши вместе с кровью, от которой взмокла его одежда, и надо было его спасать. Она уже догадалась, что это был один из тех, которые прятались от войны в лесу. Власти не собирались оставлять их без наказания. Да и от народа они не получали особенного одобрения, особенно от тех, чьи близкие продолжали воевать на фронте против русских.
Но не время было сейчас пускаться в рассуждения о виновности этих людей. Умирал человек. Надо было спасти человека. Просунув под одежду юноши свой влажный платок, она прижала его к ране на груди и затем легла рядом с ним, примериваясь к его росту. Он был на полголовы выше ее, как и сын. Осторожно повернув его на бок и придерживая в этом положении, она подобралась плечами под его грудь и опрокинула его на себя.
Некоторое время она лежала на животе, придавленная тяжестью его тела и в то же время проверяя, насколько удобно он расположился на ее спине. Его подбородок пришелся к ее затылку. Поймав его руки, она перебросила их через свои плечи и, упираясь локтями в землю, поднялась вместе с ним на ноги. Почувствовав, что ноги юноши оторвались от земли, она крепче перехватила его руки, свисающие с ее плеч, и, согнувшись, медленно двинулась к переходу через ручей.
Вилма была крепкая женщина, но все же тяжесть крупного человека скоро дала себя знать. Однако устраивать передышки она не собиралась и только ускорила шаг, с удовлетворением ощущая спиной тепло, идущее от тела юноши. Жизнь в нем еще теплилась, и надо было успеть удержать эту жизнь в его теле, пока она еще не ушла. Быстро перебирая ногами, Вилма скоро вышла из леса и далее продолжала нести свою ношу полем, все ниже пригибаясь под ней, но не останавливаясь.
Пейкко яростно залаял, когда на дворе появилось невиданное двухголовое существо. Но Вилма прикрикнула на него:
— Замолчи, Пейкко! Перестань сейчас же!
Тяжело дыша, она поднялась на крыльцо, с трудом открыла дверь в сени и затем в комнату. Добравшись до кровати, она сперва сама легла на нее ничком, а потом осторожно спустила со спины на постель неподвижное тело. И, не успев даже перевести дыхание, она выбежала на крыльцо, где уже стоял недоумевающий Пейкко, и бросила внимательный взгляд вокруг, чтобы выяснить, не видел ли кто-нибудь ее, входящую в дом с такой необычной ношей. Нет, кажется, никто не видел. Она обежала дом и поднялась на несколько ступеней по приставной лестнице. Нет, никто не шел к ней со стороны усадьбы Сайми, и в других местах тоже никого не было видно.
— Оставайся тут, Пейкко, и смотри внимательно, — сказала она собаке и вернулась в дом, заперев за собой на защелку обе двери.
Юноша лежал на ее постели в том же неудобном положении, в каком она его второпях оставила. Прежде всего она расстегнула на нем пиджак. Рубашка под ним была изорвана и окровавлена. Пришлось осторожно стянуть с него и то и другое. Под рубашкой оказалась голубая застиранная майка, тоже разорванная напротив раны и окровавленная. Она сняла и майку.
Рана на груди была сквозная. Пуля пробила правую сторону груди, зацепив, должно быть, легкое, и вылетела чуть пониже правой лопатки, не задев ребра. Вторая пуля пробила мякоть левой руки выше локтя. Здесь она тоже прошла насквозь, попав спереди и выйдя сзади. Это легко определялось по двум круглым ранкам разной величины.
Она обмыла ему раны на груди и под лопаткой теплой кипяченой водой. Они уже слегка воспалились по краям, и она не решилась прижечь их йодом. Вместо йода она употребила столетник, разрезав часть его листьев ножницами на тонкие пластинки. На бинты она изорвала самую тонкую из своих простынь. Сквозная рана на руке юноши не успела еще воспалиться; и она залила ее йодом. Руку ей удалось перевязать быстро. Гораздо труднее далась ей перевязка ран на груди и под лопаткой. На это у нее ушла почти половина простыни.
И, перевязывая, она сказала с горечью:
— Боже мой, что делают с людьми! Кому это нужно, господи, чтобы твои же создания так терзали друг друга?
Перевязав раны на груди и под лопаткой, она сняла с него сапоги и всю остальную одежду. На внутренней стороне ляжки обнаружилась еще одна рана. Здесь пуля только скользнула по мякоти, проложив на ней желобок. Но крови отсюда успело вытечь немало. Брюки и трусы намокли от крови и прилипли к телу. Пришлось осторожно их отдирать. И еще одна рана оказалась у самой щиколотки. Здесь пуля, пробив кожу сапога, ударилась в кость и застряла в ней. Когда Вилма стянула сапог, пуля отвалилась от кости и упала на пол, вытряхнутая вместе с портянкой. Должно быть, это рана и заставила юношу в конце концов потащиться ползком, хотя кость и не была надломлена. Вилма залила ее йодом. Точно так же залила она йодом рану на внутренней стороне бедра. Ободранные в кровь колени и ладони рук тоже пришлось смазать йодом.
Потом она снова налила в таз теплой воды и, смачивая полотенце, обмыла всю остальную часть его тела ниже пояса. Тело этого юноши по своему сложению так напоминало тело ее Вяйно. И его кожа была такая же нежная и упругая. Сколько раз она ощущала ее под своими пальцами, проводя по ней намыленной мочалкой или просто так трогая от избытка материнской нежности, когда ему случалось быть без рубашки. Каким зверем надо быть, чтобы это живое, теплое и прекрасное терзать и предавать смерти! Как назвать это?
Она поднесла ко рту юноши маленькое зеркальце. Оно замутилось. Значит, он дышал. Тело его продолжало сохранять свое тепло. Осторожно вытянув из-под него намокшую, окровавленную простыню, она подсунула сухую и накрыла его одеялом, а под голову подложила две подушки.
Перебирая его одежду, она пыталась определить, кто он и откуда. Но ничего такого не нашла. В кармане брюк лежал грязный носовой платок, оторванный от большого куска белой ткани. В другом кармане лежал перочинный ножик с обрывком веревки. На узком кожаном поясе висел пустой чехол для ножа, который он, должно быть, потерял, пока полз. Был еще обрывок сложенной гармошкой газеты, похожей своим шрифтом на «Карьяла», были крошки табака и пустой раздавленный коробок спичек «Карху».
Она еще раз перебрала его одежду, надеясь найти хоть солдатскую книжку. Но перебирать было нечего. Рваные носки, дополненные портянками, старые черные трусы, выцветшая майка, рубашка без пуговиц, брюки, продранные на коленях, и рваный пиджак — таков был весь его наряд. Свой солдатский билет он, видимо, потерял или выбросил. На что дезертиру билет? Когда трое из их лесного убежища приходили сюда прошлой зимой просить пищи, из них тоже лишь один был в солдатской форме, да и то без погон. У другого сохранились только ботинки и шинель. А третий успел полностью пере-одеться в штатское, хотя и не решался покинуть совсем убежище, которое находилось у них примерно в десяти километрах севернее этих мест. Люди неохотно снабжали их едой. Отсыпая им в мешки ячменя или картофеля, каждый думал: «А с какой бы стати мне подкармливать этих, бежавших с фронта? Почему мой сын или муж должен там оставаться и проливать за них свою кровь?»
И вот их разогнали наконец. Да и вчера еще где-то там вдали постреливали изредка из автоматов, вылавливая, должно быть, одиночек. Досталось и этому мальчику. Сколько же он прошел потом по лесу, теряя кровь, и сколько еще прополз на руках и коленях после того, как больная нога перестала его держать и он потерял силы?
Она сложила всю его окровавленную одежду в намокшую простыню и стянула в узел. Запихнув его под кровать, она опять склонилась над юношей, просунув ладонь под одеяло к его обнаженному телу. Оно стало теперь еще теплее под одеялом, но сердце билось все так же слабо. Он был очень истощен, этот мальчик, ползший по глухому лесу неизвестно сколько времени, и, может быть, поэтому так долго не приходил в себя.
И тут она спохватилась, что ведет себя довольно-таки неосторожно. Занялась его перевязкой, а сама даже не выглянула ни разу. А вдруг придет кто-нибудь и увидит? Ведь его же заберут сразу. Повезут, растрясут, и он так и умрет, не приходя в сознание. Разве будут беречь такого, кто от войны убежал? А он еще совсем ребенок. Он даже не понимал, что делал. Он просто боялся — и все. Разве можно ребенка за это наказывать?
Она еще раз вышла на крыльцо и осмотрелась. Нет, никого не было видно. Но как-то надо было укрыть его от чужого глаза. А в доме не укроешь. Куда бы его поместить? В амбаре будет холодно. В баню разве? Больше некуда. Она сбегала в баню, стоявшую рядом с ягодным садом, недалеко от ручья. Там она прибрала верхний полок, освободив его от остатков веника, от шайки, ковша и мочалки. Вернувшись в дом, достала из чулана матрац сына и снесла его в баню. Вслед за матрацем принесла в баню простыню и подушки. В бане было прохладно. Ее следовало протопить, но дым, идущий из трубы, могла увидеть Сайми и подумать, что баня топится для мытья. А очередь приглашать в баню была за Вилмой. И Сайми могла вечером неожиданно появиться с обоими мальчиками в надежде попариться и помыться. Лучше протопить ее позднее, когда стемнеет и дым из трубы не будет виден.
Приготовив постель, Вилма выбежала и еще раз посмотрела вокруг с высоты лестницы, прислоненной к задней стороне дома. Никого не было видно. Тогда она оставила распахнутыми внутреннюю и наружную двери бани и опять поспешила в дом. Вначале она попыталась взять юношу на руки вместе с одеялом. Но он все же был тяжел и выскальзывал из рук. Одеяло мешало ухватить его поудобнее. Тогда она отбросила одеяло и взяла его на руки голого, обернутого лишь белыми повязками. Дверь в сени она толкнула ногой и оставила открытой, а дверь, выходящую на крыльцо, закрыла спиной. Она была сильная женщина и в баню несла его полубегом. А Пейкко бежал рядом, вопросительно на нее поглядывая. Положив его на верхний полок подальше от края, она сбегала домой за одеялом.
— Смотри внимательнее, Пейкко! — повторила она в который уже раз и, войдя внутрь бани, заперла за собой на крючок наружную дверь.
Он лежал, как она его положила. И опять кровь проступила в уголке его рта. Она обтерла ему рот и осторожно передвинула неподвижное тело на середину постели. Оставалось накрыть его одеялом и оставить в покое. И, накрывая, она еще раз всмотрелась в него с материнским участием. Как много было в нем схожего с ее Вяйно! Все такое же молодое, нетронутое. Нежная кожа, гибкие мышцы. Давно ли они перестали быть совсем ребячьими? В памяти ее на мгновение мелькнул сын таким, каким он был в самом раннем возрасте. Сколько раз она мыла его здесь, в этой бане, тепленького, мягонького, пушистенького. Потом он подрос и уже сам стал взбираться на верхний полок, прося похлестать его веником. И в эту пору ей тоже приходилось его мыть, ибо разве можно было доверяться небрежному к чистоте мальчугану?
Так он рос изо дня в день у нее на глазах, и редкая суббота проходила без того, чтобы она не ощутила своими ладонями его теплого, упругого тела. И постепенно он превратился в юношу. Она и не заметила, как это произошло. Для нее он всегда оставался ребенком, даже тогда, когда взял на свои плечи всю мужскую работу по хозяйству. Но сам он этого не считал. И скоро она стала замечать, что он старается вымыться в бане раньше ее, пока она еще занята кое-чем по хозяйству. Когда она появлялась в бане, он обычно уже одевался. Сначала она думала, что это происходит случайно, но потом поняла, что он стесняется ее. И это наполнило ее грустью. Она поняла, что это родное для нее тело перестало принадлежать ей. К другой обладательнице предназначено ему было скоро перейти в полную власть. И она уже заранее чувствовала тайную неприязнь к той, другой, еще пока неведомой будущей владелице ее кровного дитяти.
И, стремясь продлить свое материнское право собственности над ним, она пускалась на хитрость, чтобы иной раз как бы невзначай приласкаться к нему, обнять за плечи, шлепнуть по спине, взъерошить волосы, притянуть к себе его руку, прижаться щекой к его щеке. Однажды она пришла в баню раньше, чем он успел оттуда выйти. Она разделась в предбаннике и вошла внутрь в то время, когда он еще окачивался из шайки чистой водой. Пропуская ее мимо себя, он посторонился, а потом поставил шайку на скамейку и заторопился к выходу. Но она спросила:
— А ты свежим веником парился или старым?
— Свежим, — ответил он. — А что?
— Да так просто. Я забыла сказать, чтобы ты свежий взял с чердака. А ты сам догадался. Ну и ладно, А мыла хватило тебе?
— Хватило.
— А где оно?
— Вон там, в конце скамейки.
И, отвечая так, он избегал смотреть на нее, но сам стоял перед ней, как и прежде, без всякого стеснения, нагой и влажный. Он даже шагнул мимо нее к тому месту, где лежали мыло и мочалка. А она делала вид, что действительно интересуется этими вещами, но сама любовалась и любовалась им. Ведь оно из нее вышло, это живое красивое чудо. Это ее плоть и кровь из маленького, теплого комочка преобразились неведомо как в этакую крепкую, стройную радость, на которую она не могла наглядеться. И она любовалась им, переполненная счастьем. А он не понимал этого, глупый. И когда он снова направился к выходу, она спросила:
— А где же ты ковшик положил?
— Ковшик? — Он обернулся и, к великой ее радости, сделал несколько шагов назад, озабоченно осматривая скамейку и обе ступени, ведущие наверх. — Да ведь тут он был только что. Ах да! На верхний полок я его затащил. Вот он.
— А зачем ты его туда? — спросила она просто так, чтобы еще немного удержать его возле себя.
— А я его с водой туда взял, чтобы прямо, не слезая, оттуда на каменку плеснуть.
— Ишь ты, хитрый какой! Ну и как же, получилось у тебя?
— Да. Свесился немного и прямо туда наискосок плеснул.
И, говоря так, он встал одной ногой на нижнюю ступеньку, а другой на следующую и в таком положении дотянулся до ковша, лежащего наверху. А она с тайной гордостью любовалась красотой и гибкостью его юного тела и, видя, что он не разгадал ее материнской хитрости, наивно полагая, что все дело в ковше, думала про себя: «Глупый ты мой. Родной мой».
— Вот возьми, — сказал он, протягивая ей ковш ручкой вперед, изогнувшись в ее сторону и на этот раз прямо взглянув на нее, забыв о стеснении. Она взяла ковш с таким видом, словно только он ее и заботил, а сама украдкой следила за тем, как он спускается вниз, как повернулся к ней спиной и вышел в предбанник, высокий и гибкий, созданный ею, единственный, неповторимый, родной, так и не разгадавший ее хитрости.
Случалось ей иной раз просто так прильнуть к нему в тихий вечерний час, когда все по хозяйству уже сделано: стол после ужина прибран, и вымытая посуда опрокинута на теплой плите. Он усталый присаживался на скамейку у окна, обдумывая, что надлежит сделать завтра. Еще бы! Он же был хозяином в доме. А она потихоньку пристраивалась рядом, обняв его за плечи и делая вид, что с той же озабоченностью обдумывает порядок дел завтрашнего дня, но сама только любовалась им сбоку и прислушивалась к его голосу, не вникая особенно в суть его слов. Не то было для нее важно, как пройдет завтра работа. Да бог с ней, с работой! Хорошо она пройдет и радостно. Это она знала наперед. И весь день будет радостный и ясный, потому что с ней был он, ее сын. А еще прекраснее было то, что он в эту минуту сидел с ней рядом, ее родной, единственный, и произносил что-то своим басистым голосом, который так недавно у него установился и сквозь который все еще проникал прежний высокий, звонкий тон, так долго услаждавший ее слух.
Он говорил, глядя в окно на дым овина, и она делала вид, что всматривается туда же. А чтобы найти повод положить ему руку на плечи, она сначала смахивала с них какую-то несущественную соринку. И, положив руку на его плечи, она делала вид, что, в свою очередь, пытается всмотреться через окно в то же место, куда всматривается и он. А это давало ей повод заодно приблизить и свою голову к его голове. И что ей еще было надо на свете?
И прислушиваясь к милому звуку его голоса, она в то же время думала: «Родной ты мой глупыш. Басишь, гудишь и вид какой солидный уже напускаешь на себя. А давно ли ты крохотным комочком был? Весь на двух ладонях умещался. Пищал, плакал, ножонками дрыгал и лепетал невесть что. А теперь туда же— басит, как большой. А сам еще совсем теленочек, глупый-преглупый».
И она испытывала неизъяснимое чувство счастья, прикасаясь к тому, что когда-то было частью ее, да и теперь было от нее неотделимо, хотя и увеличилось в размерах, беря теперь для своего роста уже не ее соки. В ее материнском сердце он был тем же маленьким, беспомощным комочком, нераздельным с ней. Но пусть он не знал этого. Где ему это понять. Зато она знала и понимала и была счастлива этим. И, не вникая в его слова, она прислушивалась к его голосу и говорила: «Да, да».
— Через полчаса я пойду и подкину еще несколько полен, — говорил он.
— Да, да, — соглашалась она. — Подкинь.
— Думаю, что этого хватит, — продолжал он. — Час тому назад я потрогал снопы. Они уже не такие влажные. А те, что ближе к печи, почти совсем сухие.
— Да, — кивала она. — Да.
И грудь ее при этом касалась его плеча, подбородок прикасался к его затылку, а ноздри вдыхали запах его светло-русых волос, такой знакомый, близкий, родной с давних лет запах.
И теперь нет его. Совсем нет. И не будет. Он умер героем, как сказано в извещении. А был он такой же юный и несмышленый, как этот бедняга. Но ведь и этот может умереть на горе своей матери. Ведь есть же у него она где-нибудь в Кякивуори или в Мустаниеми. И она ждет его там и не дождется. Она долго и терпеливо ждала от него писем. Но кто будет писать своей матери письмо с признанием, что он бежал с фронта? Боже мой, не всем же быть храбрыми! А мать ждет. Что еще остается матери, как не ждать? И ждет напрасно. Она даже не получит извещения о том, что он пал героем. Не героем он пал. Свои его пристрелили, чтобы не прятался в лесу, когда другие воюют. А она ждет. И вдруг он совсем не вернется к ней? Это вполне может случиться, если его никто не спасет. Но что тогда станет с матерью? Об этом подумал кто-нибудь или нет?
Стоя на второй ступеньке банного полка, она склонилась над юношей и взяла в ладони его безжизненную голову, всматриваясь в лицо. Совсем юное лицо и почти такое же округлое, как у Вяйно. Только щеки слегка опали. Все они так похожи друг на друга в этом возрасте. Давно ли он и бриться-то начал? Раз в месяц ему, наверно, достаточно, если не реже. Проведет слегка бритвой туда-сюда и ходит недели три-четыре с гладким подбородком, как ходил ее Вяйно.
А есть ли у него мать? Может быть, и нет ее? Один только отец, да и тот на войне? А может быть, у него и отца нет? Что, если он один на свете? Ведь может и так быть. Бедный мальчик. Непременно надо его спасти. Кто же о нем позаботится, если у него матери нет?
До вечера она несколько раз пыталась влить ему в рот бульона, но так и не могла понять, проглотил ли он хоть каплю. Каждый раз все вытекало изо рта обратно на подушку. Оставалось только дожидаться, когда он придет в себя. В надежде на это она поминутно забегала в баню, отрываясь от своих дел.
После того как Тауно пригнал коров и овец, а Вилли привез пустой бидон, она быстро выполнила все вечерние дела по хозяйству, но спать не легла. Завесив черной суконкой окошко бани, она включила в ней свет и развела огонь под котлом с водой. И весь вечер она почти не выходила из бани, выжидательно всматриваясь в бледное, неподвижное лицо юноши и поправляя в печке огонь. Уйти спать в дом она не решалась. Юноша мог без нее очнуться, испугаться и, чего доброго, упасть с полка. Сначала она прихватила из дому вязанье и некоторое время занималась им, но позднее сходила в дом еще раз и принесла полушубок, подушку и чистый половичок. Расстелив это на скамейке возле затемненного окошка, она прилегла, погасив свет, но заснула только перед утром и то часа на полтора.
Проснувшись в полной темноте, она испуганно вскочила и первым долгом включила свет, всматриваясь в лицо юноши. Оно было неподвижно, и голова его сохраняла то же положение, в каком оставалась вчера. Однако он дышал, правда очень слабо и с легким хрипом, но все же дышал. Выключив свет, она вышла в предрассветную прохладу ночи, чтобы проверить, все ли благополучно в ее владениях. Все было на месте, и Пейкко добросовестно бодрствовал, о чем немедленно дал ей знать, подбежав с легким радостным визгом к ее ногам. Она взяла в доме горшок с цветком алоэ, пузырек с йодом и вернулась в баню.
Там при свете лампочки, укрепленной над окошком, она снова перевязала его раны, приложив, где нужно, свежие пласты алоэ и где нужно добавив йода. Раны почти не изменились, но две из них еще кровоточили. Кончив перевязку, она с тревогой пересчитала оставшиеся листья алоэ. Их вряд ли хватило бы еще даже на один раз. Йод в пузырьке тоже заметно поубавился. Надо было подумать, как пополнить запас. Она подумала и придумала.
Подоив, как обычно, коров и прогнав их вместе с овцами к стаду Сайми, она вернулась в дом и обмотала себе полотенцем правую ногу ниже колена, после чего опять натянула на нее чулок. Не затапливая печи, она наполнила утренним молоком свой десятилитровый бидон и, взяв его на плечо, понесла к Сайми сама, не дожидаясь приезда Вилли. Когда дом Сайми оказался на виду, она вспомнила о своей перевязанной ноге и начала слегка прихрамывать. Нехорошо это было перед богом, но что же делать? Остроглазая Сайми, конечно, сразу заметила это и спросила:
— Что это с тобой?
И, продолжая задуманное ею грешное лукавство, Вилма ответила:
— Да вот, ударилась в темноте и ободрала.
Может быть, она покраснела, сказав это, но кто бы заметил? И без того ее скулы разрумянились до предела, пока она шла к Сайми со своей нелегкой ношей. Сайми сказала:
— Ай-ай-ай! Как же это ты так?
И Вилма развела руками:
— Да уж и сама не знаю. Поторопилась, поскользнулась…
— Очень больно?
— Да вроде того. Боюсь, не воспалилось бы.
— Зачем же ты сама молоко-то понесла?
— А я у тебя столетник пришла взять, если дашь. Мой погиб вчера. Кошка на горшок прыгнула, и он свалился на пол. Я пришла и наступила нечаянно. Он и не прижился больше. Возьму твой горшок, ладно? Что останется, верну.
— Бери, бери. У меня же их два.
— И йоду на всякий случай дай капельку. Хватилась я — и нет его.
— Да возьми, конечно, отлей себе.
— И хотела я еще попросить Вилли купить в аптеке бутылочку риванола, если достанет. Вот деньги.
— Ладно. Скажу ему. Обязательно.
Сайми была рада сделать что-нибудь полезное для своей соседки, на которую свалилось такое страшное горе. У нее самой дети, слава богу, не доросли до этакой напасти. Да и муж уцелел на Северном фронте. И, радуясь тому, что Вилма отрешилась наконец от своей молчаливой удрученности, снова проявляя живость и разговорчивость, она была готова поддержать ее в этом состоянии чем угодно.
— А помочь тебе не надо в хозяйстве? — предложила она.
— Нет, что ты! — отмахнулась Вилма. — Я же хожу, видишь? Да и руки здоровы.
— А баню протопишь в субботу?
И тут бедная Вилма, и без того уже осквернившая свои уста заранее подготовленной ложью, осквернила их еще раз.
— Баню? — сказала она. — Да уж и не знаю как. Что-то там стряслось у меня. Кирпич в трубе обвалился, что ли. Попробовала нагреть воду для стирки — дымит. Надо будет почистить, и потом уж…
— Хочешь, я старому Урхо скажу? Он быстро починит.
— Нет, нет, не надо! Зачем? Я сперва сама посмотрю. Не надо его пока тревожить.
— Ну как хочешь.
Возвращаясь домой, Вилма мысленно просила бога простить ее за совершенный грех. Ведь ради жизни человека все это делалось. Ради финского мальчика, ни в чем не повинного. Кому, как не ей, матери, только что потерявшей своего собственного мальчика, заняться его спасением? Разве можно это доверить тем, для кого главное — военные законы, а не человек?
Придя домой, она сразу же побежала в баню. Юноша лежал в том же положении, в каком она его оставила, и в его слабом дыхании слышался тот же хрип. Растопив печь, она зарезала самого крупного из молодых петушков и половину его пустила на бульон. Но до самого вечера она напрасно держала бульон подогретым. Юноша в сознание не пришел.
Ближе к ночи она снова перевязала его раны. С рукой дело обстояло благополучно. Йод выполнил свое назначение. Рана на внутренней стороне бедра тоже не изменилась. Вилма перебинтовала бедро, не отрывая присохшей тряпочки от раны. Не то было с поврежденной костью у лодыжки и с простреленным боком. Особенно тревожила ее та рана под лопаткой, где пуля вышла. Вокруг раны образовалась легкая краснота и появилась припухлость. Но это могло произойти оттого, что пласты алоэ сместились и не подействовали. Она опять прикрыла обе раны на груди плотным слоем листьев алоэ, разрезанных вдоль, и аккуратно прихватила их бинтами. Такую же повязку она наложила на рану у щиколотки.
Неизвестно, что повлияло на его состояние, может быть ее руки, которыми она приподнимала его туловище, протаскивая под ним бинт, но в его дыхании появилось что-то неспокойное. К легкому хрипению присоединился как бы чуть заметный стон, а на губах выступила розовая пена. Боже мой, как ему плохо, бедному! Она смотрела на его опавший живот и думала, правильно ли она поступила, не дав знать о нем властям? Может быть он и не умер бы там? А здесь он может умереть. Как восстановить его силы, если он неспособен глотать? В таких случаях человеку вливают в жилы глюкозу или кровь. А у нее он ничего не получает. Имеет ли она право так рисковать его жизнью? И в то же время как довериться тем, для которых он только дезертир, и все?
Вилма с тревогой всматривалась в это юное безжизненное лицо, и в ее материнском сердце к старой грызущей боли прибавилась новая боль. Не могла она спокойно видеть страдания человека. Кому и терзаться этим, как не матери? На то и создал ее господь. И всегда на ней первой отзывалась та жестокость и нелепость, с какой люди устроили на земле свою жизнь, данную им богом для разумных и радостных дел. Они сами же губят свой лучший цвет. Гибнут самые крепкие мужи и самые красивые юноши, едва достигшие расцвета. Но кто создал их? Над этим хоть раз призадумались ли они, убивающие? Когда негодный Каин убил своего брата, то на кого первого пало это горе? На мать. Но кто вспоминает это убийство как удар по сердцу матери? Никто не вспоминает его так. Одной матери дано воспринять каждое убийство человека именно таким образом.
Стараясь придать юноше более удобное положение, Вилма заметила, что его дыхание становится легче, когда она поворачивает его на бок. Сообразив, что боль ему могло причинять давление на рану, она повернула его на левый бок. Но в этом положении он оставался, пока она придерживала его руками. Стоило ей отнять руки, как он снова валился на спину. Тогда она сама прилегла рядом с ним, позади его спины, обняв его поверх одеяла. Так она лежала до утра, уткнувшись лицом в его теплую шею и с радостью ощущая, как дыхание его становится ровнее и спокойнее. Но усталость брала свое, и она то и дело засыпала. В такие минуты ее рука соскальзывала с его плеча и его тело начинало понемногу отваливаться от нее. Она просыпалась, полная страха за него. Ведь без ее поддержки он мог уткнуться ничком в подушку и задохнуться. И снова она тянула его на себя, придерживая на боку и вдыхая запах его тела.
Под утро она принесла из дому все остальные подушки и с их помощью уложила его так, чтобы на повязку, охватывающую его грудь, ничто снизу не давило. Сделав это, она поспешила к своим хозяйственным делам. Скоро приехал за молоком Вилли. Он передал ей бутылочку с риванолом. Отправив его, она взяла из топившейся печи кастрюльку с вчерашним подогретым бульоном и поспешила в баню. И, не успев еще перешагнуть порог затемненной бани, она уже почувствовала, что произошло какое-то изменение. Сердце ее наполнилось надеждой и тревогой. Поставив на окно кастрюльку с бульоном, она включила свет и взглянула вверх. Да, она угадала. Юноша пришел в сознание.
3
Некоторое время его сомкнутые ресницы трепетали, потревоженные светом. Видно было, что в полумраке он уже открывал глаза и теперь снова их сощурил. Но постепенно они раскрылись опять, и в них затаился вопрос. Она поднялась на вторую ступеньку и склонилась к нему, переполненная радостью.
— Ну, как себя чувствуешь, мой мальчик? — спросила она тихо. — Удобно тебе? Не больно?
Она сказала это полушепотом, приблизив лицо к его лицу. И тут в ее сознании отметилось, что глаза у него были точно такие же голубые, как у ее Вяйно. В них мелькнуло изумление и беспокойство, когда он услыхал ее речь. Окинув ими внутренность бани, он снова задержался взглядом на ее лице, словно изучая его. Она смотрела на него с улыбкой, ожидая его слов. Это была хорошая, ласковая улыбка доброй женщины, улыбка матери, жаждущей излить на кого-либо избыток своей любви. Нельзя было не откликнуться на эту улыбку. И юноша откликнулся. Губы его слегка дрогнули и даже приоткрылись, как бы собираясь произнести что-то. А она прошептала поощрительно:
— Да, да, мой мальчик. Я слушаю. Скажи хоть одно слово, и довольно, если тебе трудно. А я пойму остальное. Я же знаю, что ты из тех, кто не захотел драться с этими проклятыми русскими. Но мне ты можешь довериться. Я вам не враг.
Но его губы вдруг снова сомкнулись, а в глазах затаилась настороженность. Она не разгадала их выражения, переполненная заботой о нем, и, объяснив его молчание слабостью, сказала торопливо:
— Ну, не надо, не надо говорить. Я вижу, трудно тебе. Успеется. Потом расскажешь все. А сейчас бульону выпей.
Бульон был еще горячий. Она отлила из кастрюльки немного в чайную чашку и, поднявшись к нему наверх, стала вливать ему в рот понемногу с помощью чайной ложки, придерживая одной рукой его голову. Он глотал с жадностью, но она не решилась дать ему больше одной чашки. Поправив под его спиной подушки, она сказала:
— Поспи теперь немного. Отдохни. А потом я тебя перевяжу.
Он действительно скоро заснул и проспал часа три. А она терпеливо выжидала, когда откроются его глаза. За это время она успела еще раз подогреть бульон и поставить в печь вариться новый, из второй половинки петушка. Проходя через дверь, она присматривалась к молодым петушкам, намечая самого крупного из них для очередного бульона.
С горячим бульоном она пришла в баню и постояла немного на нижней ступеньке полка, глядя в лицо спящего. Сои его был тревожный. Это чувствовалось по легким стонам и выражению страдания, пробегавшему по его исхудавшему лицу. То ли одолевали его страшные сны, то ли пронизывала боль, вызванная ранами. И когда он открыл глаза, она скормила ему вторую чашку бульона, а потом принялась за раны.
Они мало изменились за ночь. Прежде всего она развернула повязку на руке. Кусок чистой тряпочки под ней успел присохнуть к ране. Вилма внимательно осмотрела кожу вокруг тряпочек, прикрывавших места входа и выхода пули. Воспаления не было видно на бледной коже, и Вилма не стала отрывать тряпочки, снова обернув руку бинтом. На внутренней стороне бедра рана тоже подсыхала, не воспаляясь. Оставалось лишь оберегать ее и не тревожить.
Значительно хуже обстояло дело с лодыжкой. Ранка над ней была едва заметная, но все опухло под кожей сантиметров на десять в окружности и посинело. Лист алоэ здесь ничем не помог. Он только не дал прилипнуть к ране кусочку тряпки. Она приложила к этому месту свежую, сложенную вчетверо тряпочку, обильно смоченную риванолом. Юноша вздрогнул. Эта рана была для него, кажется, самая болезненная. Пока она перевязывала ему руку и бедро, он лежал неподвижно, закрыв глаза и лишь изредка взглядывая на нее, явно стесняясь того, что чужая женщина прикасалась к его обнаженному телу. А когда она прикоснулась к его поврежденной лодыжке, он вздрогнул, зашипел и стиснул зубы от боли. При виде этого сердце ее переполнилось жалостью и состраданием.
— Потерпи, милый, — сказала она. — Потерпи.
Бережно обернув его ступню самодельным бинтом, она осторожно уложила ее на прежнее место и передвинулась ближе к его груди, где была самая трудная для перевязки рана. Он все еще тяжело переводил дух и лежал, запрокинув голову и сжимая зубы. Она подождала немного, глядя на него с бесконечным состраданием.
— Бедный ты мой, — сказала она, положив свою жесткую, натруженную ладонь, на его влажный от пота лоб. — Но потерпеть надо, мой мальчик. Нельзя же оставить раны без внимания. Сами по себе они не заживут. Воспалиться могут.
И с той же нежной настойчивостью она принялась разбинтовывать ему грудь. Листы алоэ не позволили повязке присохнуть, но красноты вокруг задней ранки не убавили. Зато передняя осталась без изменения. Значит, к передней ранке можно опять приложить лист, а к задней риваноловую примочку. Она заранее это все приготовила и разложила у его постели.
— Ты не мог бы присесть? — спросила она.
Юноша не ответил. Она повторила свой вопрос. Но вместо ответа он закрыл глаза. Тогда она сама придала ему сидячее положение. Упираясь грудью в его плечо, а щекой и подбородком в шею и затылок, она взяла одной рукой тряпочку, смоченную в риваноле, и приложила к ране на спине, прижав сверху кусочком пергамина. Придерживая эту тряпочку одной рукой, она другой взяла тряпочку с пластами листов алоэ и приложила к передней ране. Теперь обе ее руки были заняты придерживанием этих тряпочек на ранах, а грудью, подбородком и щекой она продолжала подпирать его сзади, удерживая в сидячем положении. Теперь нужно было обернуть вокруг его туловища несколько раз повязку. Но чем ее взять?
— Ты не мог бы придержать вот так обе тряпочки? — спросила она.
Он промолчал, тяжело и часто дыша от боли. Нет, он не мог, конечно. Он даже сидеть не мог — так он обессилел. Стоило ей хоть слегка ослабить нажим грудью и щекой на его спину, как все его тело начинало отклоняться назад. Напрасно она вообще его приподняла. Лучше было бы перевязать его в лежачем положении, как прежде. Она немного помедлила, приткнувшись щекой к его затылку и вдыхая запах его теплого тела, потом осторожно растопырила пальцы одной руки так, что они захватили и прижали обе тряпочки. Эти раны не были далеко друг от друга. Про них можно было сказать, что обе они были у него на боку, а не спереди и сзади. Это и поддерживало в ней надежду на то, что пуля, проскочив между ребрами, очень слабо задела легкое.
Придерживая растопыренными пальцами одной руки обе наложенные на раны тряпочки, она другой рукой подвела к ним конец бинта, прижала его свободным пальцем и обернула вокруг туловища. Сделала она это с большой тщательностью, чтобы не сместить наложенные на раны тряпочки. В то же время ей приходилось поддерживать юношу грудью и щекой со стороны спины, чтобы не дать ему упасть навзничь. Обернув бинт несколько раз вокруг его туловища, она дважды перехлестнула им через его плечо и после этого стала действовать обеими руками. Закончив перевязку, она обхватила его за плечи и осторожно опустила на постель.
— Устал? — спросила она, сама вся потная и красная от усилий. И, вытирая лицо полотенцем, добавила: — Ну, теперь отдыхай опять до утра. Тебя как звать? — И, не получая от него ответа, она ласково провела ладонью по его волосам и еще раз повторила: — Как звать тебя? Мне-то уж мог бы имя свое сказать. Разве я выдам?
Но он вместо ответа опять закрыл глаза. Лицо его было бледно, все еще сохраняя выражение боли, и скулы как будто обострились. Он очень заметно исхудал за эти два дня. И боже мой, как опал у него живот! Под нажимом ее ладони он раздался и опустился еще ниже, хотя ему уже некуда было опускаться. Ей показалось, что она ощутила позвоночник сквозь пустоту его живота. Бедный мальчик! Сколько же дней он голодал еще до того, как попал к ней? Да еще у нее двое суток лежал без пищи. И надо же до такого состояния довести человека! Как можно! Это же чудо господне — человеческая жизнь, человеческое тело! Сколько в нем красоты — и вдруг разрушать его! Сколько материнской заботы, ласки, сколько сил затрачивается, пока получится этакое чудо, а они терзать. Не ваше это! Мать создала это для жизни, а не для терзания. Пришли, взяли, погнали, заставили таких убивать других таких же, а о том не подумали: а мать как же? Как же мать?
Она натянула на него одеяло и спустилась вниз, чтобы налить из кастрюльки в чашку остатки бульона. Бульон был еще теплый, и она, приподняв одной рукой его голову, стала поить его прямо из чашки. И опять он глотал с большой жадностью, готовый проглотить неимоверное количество этой благоухающей жидкости. Когда в чашке осталось менее трети бульона, она отставила чашку в сторону и снова взяла в руки кастрюльку. В ней на дне лежал кусочек куриного мяса. Она раздавила его ложкой на мелкие кусочки и один за другим вложила их ему в рот. Он все с жадностью разжевал и проглотил. И после этого она дала ему допить остатки бульона из чашки. Он выпил и покосился на ее руки, словно ожидая от нее еще какого-нибудь куска. Но она развела руками:
— Все пока. Нельзя тебе много. Потерпи.
Он улыбнулся смущенно и кивнул в знак благодарности. Это была его первая улыбка. И она наполнила ее нежностью. Славный он был мальчик. Ну, пусть испугался войны, пусть бежал от нее и спрятался. Но ведь он же еще ребенок. Почему он должен быть бесстрашным, если он и жизни-то еще не успел хватить?
Она заботливо опустила его голову на подушку и подоткнула вокруг него одеяло. И тут бы ей спросить кстати, пока он улыбался, как его звать и откуда он. Но она спохватилась, когда уже спустилась вниз. А к этому времени он опять закрыл глаза. Но ничего, успеется. Только бы поправился, чтобы не осиротела еще одна финская мать. А имя не все ли равно какое у него? Ну, пусть Пекка, или Тойво, или Юсси. Сам-то он от этого не сделается другим. И мать не перестанет его ожидать где-нибудь в Кякивуори или Мустаниеми. Только больно ему очень. Видно по лицу, как он страдает, бедный.
Вечером Тауно, подогнав к ее двору коров и овец, сказал:
— Мама к тебе хотела прийти сегодня, тетя Вилма.
— Хорошо, — сказала Вилма, но про себя решила не допустить этого.
Подоив коров и поставив молоко на простоквашу, она сама пошла к Сайми, накрутив предварительно на ногу полотенце. У Сайми она взяла свой пустой десятилитровый бидон, стараясь прихрамывать слегка, пока топталась на ее дворе. Та спросила:
— Ну как? Не полегчало ноге?
— Полегчало, — сказала Вилма. — Еще как полегчало. Видишь, уже совсем свободно теперь хожу.
— А я уж собралась было прийти к тебе и по хозяйству помочь.
— Нет, нет. Спасибо тебе. Сама теперь управлюсь.
— Значит, пригодился риванол?
— Да, да. Спасибо твоему Вилли. Очень пригодился. У меня же воспалилось тут все. И лист не помогал. А сколько я его извела! Теперь на поправку пойдет, слава богу.
И шагая от Сайми домой, она думала про себя: «Дай бог, чтобы пошло на поправку. И тогда все обойдется хорошо. А там и мир, может быть, скоро заключат. Ведь уже отдали назад все, что у русских взяли. Незачем им теперь дальше на нашу землю лезть. По всему видно, что уже близко мир. И тогда по домам пойдут наши мальчики».
И когда она подумала так, сердце ее сжалось знакомой горькой тоской. Да, верно, по домам пойдут мальчики. Но не все. Ее мальчик, ее бесценный, ни с кем не сравнимый Вяйно не придет домой никогда. Проклятые русские осиротили ее. И дни для нее будут идти за днями, тоскливо и безрадостно. А зачем они ей? Зачем ей жизнь, если некого будет ею согревать? Она для того и создана, чтобы согревать, чтобы давать жизнь всему, с чем соприкасается. Но кому теперь будет она отдавать отпущенный ей богом избыток тепла? Вот поставит она, даст бог, на ноги этого мальчугана и чем станет наполнять свои дни опять? Но как рада будет его мать, когда он вернется к ней! Как будет она рада, если она у него есть, конечно. Да. Если она у него есть…
И, приближаясь к своему одинокому дому, она вдруг пожелала в глубине своего сердца, чтобы не оказалось матери у этого юноши. Но тут же сама упрекнула себя: «Ой, что это со мной такое? Как не стыдно? Прости мне, боже. Что это я?»
Но, упрекая себя так, она вспомнила ту ночь, когда лежала рядом с юношей на верхнем полке бани, придерживая его в трудном положении на боку, и как вдыхала теплый запах его молодой кожи, так похожий на запах кожи ее сына. Да, как счастлива будет твоя мать, мой бедный мальчик, когда ты вернешься к ней и обнимешь ее. Если бы ты знал, как счастлива бывает мать, когда ее обнимает сын, особенно после разлуки. И твою мать ждет это счастье, если она у тебя есть, конечно. Если она есть. Неужели есть? О боже, прости меня…
Вернувшись домой, она закончила свои дела по хозяйству и заторопилась к бане, но у двери внезапно остановилась. Ей послышался стон изнутри. Она выждала немного, прислушиваясь. Да, он стонал. Значит, ему так плохо, бедному. Но стоило ей войти внутрь, как стоны прекратились.
Она включила свет и взглянула вверх. Юноша лежал на боку лицом к ней, и глаза его были закрыты. Но он, конечно, не спал, и по лицу его было видно, как сильно он страдал от боли в ранах. Она встала на нижнюю ступеньку и дотянулась рукой до его лица. Оно было влажное, хотя жаром не пылало. Приложив ладонь к его лбу, она спросила ласково:
— Очень больно, мой мальчик?
Но в ответ на ее ласку он повел себя странно и неожиданно. Резко отстранив свою голову от ее ладони, он приподнялся на локте и, глядя сверху вниз прямо ей в глаза, заговорил вдруг слабым голосом, в котором слышались и стон и плач и который то звучал нормальным юношеским баском, то срывался на шепот.
Она отпрянула, услыхав этот голос. Но не голос ее поразил, хотя и он звучал необычно, пронизанный стоном и болью. А поразили ее слова, произносимые его запекшимися губами. И не потому, что в этих словах содержался какой-то страшный для нее смысл. Нет, какой там смысл! Их смысл не дошел до нее, ибо это были непонятные для нее, чужие слова. Но звуки этих слов были знакомы ей. Потому-то и поразили они ее. Это был русский язык. Вот что заставило ее отпрянуть назад. Это был язык ее смертельных врагов, язык тех, кто убил ее сына, ее мужа. И он, вот этот самый, которого она пригрела в своем доме, тоже был из их проклятого стана.
Она ни слова не понимала из того, что он ей говорил, и только пятилась все дальше к двери, глядя на него с ужасом. Свет лампочки падал на его лицо сбоку, и от этого яснее обозначились на нем выступы скул и челюстей и глубже казались впадины между ними, выявляя его изможденность. Слова вырывались из его рта прерывисто. Почти после каждого слова он переводил дыхание. И видно было, что даже самое дыхание причиняет ему боль. А говорил он ей по-русски такие слова:
— Никакой я тебе не пойкани…[3] Хватит в прятки играть… Все равно конец… Это твои постарались… На радостях, что к дому ближе очутились… Нашли на ком силу испробовать… Целым батальоном… Герои… Ну, что стоишь? Иди, зови своих полицейских… или кто у тебя там? Беги… Доноси… Награду получишь… За доблесть…
Она все пятилась, пока ее спина не коснулась двери. Он потерял ее из поля зрения, но продолжал говорить:
— Иди, иди… Торопись… За наградой… Еще бы! Смертельного врага в плен взяла… Как не прославиться!.. Иди… Больше от вас и ждать нечего… Так воспитаны, в ненависти… Слепыми были — слепыми остались… Иди…
Он говорил это, сдерживая стон, который явственно прорывался сквозь каждое его слово— так трудно ему они давались. И когда она вышла в предбанник, этот стон прорвался наконец наружу, заменив слова. Она вышла из предбанника в темноту ночи, прикрыв за собой наружную дверь, но даже после этого не переставала слышать его стоны, сопровождаемые злыми словами на ненавистном ей языке.
Придя домой, она опустилась возле стола на скамейку и долго сидела так, положив локти на стол и глядя немигающими глазами в черноту окна. В жизнь ее снова вторглось что-то унылое, безрадостное и пустое, как эта чернота за окном.
По справедливости, его убить надо! Да, да! А что вы думаете? Ее сына могли убить, а она не может? Ведь они же и убили, вот эти самые. А кто им дал право? Она тоже имеет право. Она мать. Она тоже убьет. Пойдет сейчас и убьет. За кровь сына она тоже прольет кровь. Кто ее остановит? Кто скажет, что она не должна убивать? Она должна убить. Обязана убить. Это ее враг. Убить его надо, убить!
Однако она сидела и не двигалась, глядя в черную пустоту ночи, и внутри у нее тоже постепенно становилось все более черно и пусто. Ничего там скоро не осталось, у нее внутри, никаких намерений, никаких желаний. Просто так она сидела в темной комнате и смотрела в темноту, и в душе у нее была та же бездонная темнота. Посидев так еще часа два без всякой мысли, она устало поднялась и, медленно подойдя к своей разоренной кровати, свалилась на нее не раздеваясь. Сон долго не приходил к ней, лежавшей без мысли и без движения, но в конце концов одолел ее.
А проснулась она, как всегда, перед рассветом, нона этот раз не отдохнувшая, а вялая и опустошенная, с тяжестью в ногах. Что-то надо было предпринять относительно забредшего к ней в дом врага. Подумав немного, она решила попросить Вилли, чтобы он, когда отвезет молоко в Мустакоски, сообщил в полицейский участок о раненом русском партизане, подобранном в деревне Раякюля. Пусть придут, заберут и поступят с ним как надо поступить. Значит, оставалось только дождаться приезда Вилли.
Остановившись на таком решении, Вилма вышла во двор, держа в руках подойник и ведро с теплой водой. Пейкко уже дожидался ее возле крыльца. Увидев ее, он завилял хвостом и запрыгал из стороны в сторону, а когда она направилась к хлеву, кинулся ей под ноги, словно намереваясь помешать ей туда идти. Она замедлила шаг, чтобы не наступить на него невзначай. А он продолжал кидаться ей под ноги и с явной неохотой пятиться задом перед ее шагающими ногами.
— Что с тобой, Пейкко? — спросила Вилма, заметив что-то не совсем обычное в поведении собаки.
И пес, уяснив из этих слов, что на него обратили внимание, кинулся от нее в сторону. Но, видя, что она продолжает свой путь, он тотчас же вернулся и, слегка заскулив, запрыгал перед ней опять, препятствуя ее шагу.
— Да что с тобой такое сегодня? — повторила она удивленно.
И пес в ответ на это восклицание опять кинулся от нее в сторону, отбежав на этот раз дальше. И, отбегая, он то и дело озирался на бегу, словно проверяя, не догадается ли она пойти за ним. И тогда она поняла, что он вел себя так неспроста. Что-то он хотел этим сказать, обратить на что-то ее внимание. И бежал он прямо в сторону бани. Господи, что же там такое? Тревога сжала ее сердце. Она поставила ведра на землю и поспешила за Пейкко. А тот, завидя это, громко залаял, и уже не останавливаясь, помчался к бане.
Но у бани он не остановился, а пробежал дальше, в сторону ручья. Вилма тоже не остановилась. Она увидела, что наружная дверь бани открыта настежь, и смутная догадка резнула ее сознание. Вечером она не заперла дверь на задвижку, и вот получай теперь! Что там еще такое стряслось, боже мой? Чего еще ей не хватало для полноты горя? Господи! Зачем на мне остановил ты внимание в гневе своем?
Пейкко уже скрылся из виду, но остановился где-то там, возле ивы, позади ягодных кустарников, продолжая лаять. Подойдя к нему ближе, Вилма увидела русского. Он лежал в бурьяне под ивой, уткнувшись в землю лицом, и не двигался. Завернувшись в простыню и накинув на плечи ее полушубок, он пытался, как видно, уйти. А куда уйти? Опять в лес? Он даже не подумал, что идет на свою погибель, не подумал, способен ли далеко уйти, только бы уйти. Но силы покинули его, и он потерял сознание, не добравшись даже до ручья.
Вилма нагнулась и повернула слегка вбок его голову. Лицо русского белело в утренних сумерках, как та простыня, которой он обмотал свои бедра. И кровь снова окрасила его губы. Уж не умер ли он? Она просунула руку под полушубок, наполовину сползший с его спины. Нет, он был жив, но лежал голым телом прямо на холодной земле. А ведь сегодня была очень холодная ночь, и на открытых местах земля даже покрылась инеем. Пусть в бурьяне не было инея, но все равно был тот же промозглый холод, пронизавший его, наверно, до самых костей. Голые ступни, торчавшие из-под края простыни, посинели и стали совсем как ледяшки. Господи боже мой! Да что же это такое, наконец? Ну, как можно так? О силы небесные!
Она не знала, что думать, что решить. Но ее руки, сильные, теплые материнские руки, уже просовывались под это холодное неподвижное тело, пытаясь его обхватить и приподнять. И она приподняла его, присев на корточки. А когда он оказался у нее на коленях, перехватила его поудобнее, крепко прижав к своей материнской груди, живой и мягкой, созданной для того, чтобы дарить жизнь и тепло. С трудом выпрямившись, она торопливо понесла этот враждебный ей, тяжелый груз обратно, в свою баню.
Свет в бане горел, оставленный невыключенным с вечера. Она положила русского на прежнее место и накрыла одеялом. В бане было прохладно от проникшего туда сквозь открытые настежь двери ночного холода, но топить печку она уже не собиралась. Выключив свет, она закрыла обе двери и неторопливо сходила за оставленным в бурьяне полушубком, возле которого растерянно крутился Пейкко.
Полушубок она понесла к дому, но, проходя мимо бани, не удержалась и зашла внутрь, чтобы накрыть им поверх одеяла того, застывшего, как его там… Он лежал в том же положении, в каком она его оставила: кисть одной руки неловко подвернута, а голова так повернулась набок, что заткнуло мякотью подушки одну ноздрю. Она поправила ему голову и руку. От прикосновения к руке вздрогнула — такая она была леденяще холодная. Да! Ведь он же промерз! Она тронула его колени и ступни: они были совсем ледяными.
И опять во всю свою непреодолимую силу заговорило сердце матери. Подчиняясь его могущественному велению, крепкие ноги Вилмы бегом понесли ее по тропинке к дому, а руки вынесли оттуда два пузырька. В одном из них был одеколон, в другом — спирт. Уже некогда было ей считаться с протестом, клокотавшим у нее внутри. Он был захлестнут состраданием, которое опять плотно отпечаталось на ее широком, загорелом лице, заполнив светлую глубину глаз и выдавив широкую вертикальную складку между бровями. И только ее мягкие губы, надавливая своими уголками на края щек, сохраняли такой вид, словно все еще выжидали повода для улыбки.
Она сняла с него одеяло. О несчастный, что он себе наделал! Он почти совсем содрал повязку с ноги, ободрав кожу на вспухшей, воспаленной части повыше лодыжки. Повязка, охватывавшая бедро, тоже сползла, надорвав рану, которая перед этим так легко могла бы зажить. И на руке повязка тоже сместилась, вызвав кровотечение. Он теперь опять весь кровоточил, и только повязка на груди, кажется, осталась непотревоженной.
Смочив одеколоном шерстяной шарф, она принялась растирать его окоченевшее тело и в первую очередь ступни ног. Растирать приходилось очень осторожно, чтобы не коснуться ран. Наконец кожа на растертых местах порозовела. Ступни и кисти рук тоже стали мягче и теплее, утратив синеву. Она убрала здоровую ногу под одеяло, а с больной стала сматывать окровавленную повязку.
Скоро он слабо застонал и открыл глаза. Она воспользовалась этим, чтобы влить ему в рот из чайной чашки несколько глотков спирта. Он поперхнулся им, замотал головой, но проглотил все. Спирта у нее было совсем немного в маленьком пузырьке, и она не торопилась тратить его весь. Только немного еще она взяла, чтобы смочить ватку и обмыть края ран. А свежие надрывы ран рискнула залить йодом.
Выпитый спирт оказал свое действие на больного. Его щеки порозовели. Зато и боль стала для него ощутительнее, заставляя вздрагивать от прикосновений Вилмы. Но ни одного звука, ни одного стона она от него не услыхала до конца перевязки. Послушно уступая давлению ее рук, он лежал, закрыв глаза и стиснув челюсти с такой силой, что их углы на соединениях вздулись двумя белыми буграми.
Уложив его на спину, она подоткнула вокруг него со всех сторон одеяло, выключила свет и направилась к выходу. И когда она уже переступила порог предбанника, до нее донеслось неумело сказанное по-фински слово:
— Kiitos[4].
Она в это время уже закрывала за собой дверь. И она закрыла ее, но тут же и осталась позади двери стоять в предбаннике, наполненная звуком этого финского слова, произнесенного устами русского.
Мало ей было того горя, что давило своим тяжким грузом ее сердце. Мало ей было ненависти к русским, дополнявшей этот груз. Нет, надо было еще, чтобы в эту, уже отлежавшуюся внутри нее горькую ношу врезалось вдруг все там всколыхнувшее и перевернувшее сказанное русским слово благодарности; ей сказанное слово, горькой вдове Вилме Туоминен; русским сказанное слово, одним из тех, что ее осиротили; за то сказанное, что его, русского, ее осиротившего, она спасла от смерти. Не слишком ли это много для одной слабой женщины, пресвятая матерь божия? Но тебе виднее, тебе виднее с твоей небесной высоты.
Белая мохнатая голова Пейкко с черным кончиком носа мелькнула за открытой наружной дверью бани в сумерках утра, и Вилма заторопилась к своим делам. А дел у нее было нескончаемо много. И в первую очередь ее дожидались два ведра, оставленные прямо посреди двора.
Но пока она доила коров, пока протапливала в доме печь, пока кормила все живое на своем дворе, в ней все сильнее росло чувство обиды, неведомо чем рожденной. И, заглушая эту обиду, она старалась как можно больше нагрузить себя делом до приезда Вилли. Налив чистой водой все свободные чугуны и кастрюли, она нагрела ее в печи и выстирала окровавленную одежду русского. Развесить ее пришлось перед жаром печи, чтобы она успела высохнуть к тому времени, когда за русским приедут из Мустакоски. Надо думать, что они не замедлят приехать сразу, как только Вилли им сообщит. Скоро и сам он должен здесь быть.
Она вынесла бидон с молоком на крыльцо и снова поискала себе дела. В чугуне осталась теплая вода, и это надоумило ее вымыть пол в комнате, хотя он еще не нуждался в этом. Заодно она вымыла сени и крыльцо. И когда она выплеснула из лохани остатки воды и, выжав тряпку, расстелила ее на нижней ступени крыльца, взгляд ее остановился на Пейкко, мирно лежавшем на траве после своего сытного завтрака. Под этим взглядом тот встрепенулся и вскочил на ноги, с готовностью подбежав к ней. А она спросила:
— Ну что, Пейкко? Опять что-нибудь сказать хочешь?
И тут же она подумала, что он действительно уже сказал кое-что, и хорошо сказал. Честный, прямодушный пес, не знающий колебаний, когда нужно сделать доброе дело. Видя человека в беде, он не спрашивает, что это за человек. Он просто спасает его, как повелел бог. А она? Вилма с беспокойством взглянула в сторону бани. Вот уже почти три часа, как она туда не заглядывала, а ведь он был в таком состоянии…
Крепкие, полные ноги Вилмы уже несли ее к бане, а обида схлынула на время куда-то в глубину. И она совсем угасла, эта непонятная обида, когда Вилма увидела русского. Он лежал, сбросив с себя одеяло, и дышал часто-часто. Она тронула его лоб и грудь. Но можно было и не трогая ощутить исходящий от него жар. В прохладной бане он как бы заменял собой печку — так сильно несло от него теплом.
Не издав ни единого слова ропота, Вилма накрыла его одеялом и сбегала в дом за градусником. И пока градусник вбирал в себя жар его тела, она растопила печку, подкладывая в огонь ольховые поленья, которые почти не давали дыма. Правда, она знала, что даже самый малый дым, выходящий из трубы ее бани, будет виден от дома Сайми. Ну и что же? Пусть будет виден. Нельзя же не топить, когда в бане становится прохладно. Какая же это баня, если в ней тот же холод, что и на дворе?
Когда огонь разгорелся, она вынула из-под мышки больного градусник. Он показывал без малого сорок один. Боже мой, что он себе наделал! И ради чего? Ведь никто же не гнал его, раздетого, на ночной холод. Она не дала к тому никакого повода и даже слова ему не сказала. Не было у него никакой причины так неосмысленно поступать.
И в то же время она понимала, что была у него к тому причина. И причиной была она сама. Потому и выискивала она для себя оправдание, что была причастна к этому новому для него несчастью. Не оправдываться надо было, а немедленно спасать его от простуды. Кому, как не ей, было вовремя за ним присмотреть, за бестолковым юнцом, и удержать его от этого глупого шага? Все они — как дети неразумные в этом возрасте. Ее Вяйно тоже, бывало, выкидывал такие штуки. Босиком однажды выскочил на снег только потому, что ей показалось, будто он забыл задать лошади овса. Он вернулся с пустым ведром, ко дну которого прилипли зерна овса, и сказал: «Вот! Можешь сама убедиться, что я не забыл». Все они как телята несмышленые, и ей ли об этом не знать? Да, это ее вина, и она же сама ее загладит.
В это время на дворе коротко пролаял Пейкко. Вилма быстро выбежала из бани и встала перед наружной дверью с таким видом, словно готовилась грудью своей защитить от недругов того, кто не перестал быть ее смертельным врагом. Но никто, кажется, не собирался его от нее отнимать. По тропинке от крыльца дома к ней шел белокурый Вилли. Бежавший рядом с ним Пейкко вопросительно взглянул на хозяйку, словно ожидая от нее одобрения своему лаю. Но Вилме было не до Пейкко.
— Ты что, Вилли? — спросила она встревоженно.
Вопрос, правда, был нелепый, потому что она прекрасно знала, зачем он тут оказался. Но мысль о том, что он мог сейчас неожиданно войти в баню и застать ее за тем немыслимым для финской женщины делом, которым она там занималась, наполнила ее ужасом. Холод пробежал по ее широкой спине, когда она только подумала об этом. И все, что она с утра готовилась ему сказать по поводу русского, вылетело начисто из ее головы. Не то что сказать, но не допустить его близко к бане, чтобы, упаси боже, не долетел до него какой-нибудь внезапный стон, — вот чем она была озабочена. И с этой целью она заторопилась к нему навстречу, чтобы остановить его как можно дальше от бани, а остановив, пытливо всмотрелась ему в лицо. Но его глаза были чисты и ясны, как всегда. И он сказал своим звонким, мальчишеским голосом:
— Здравствуй, тетя Вилма. А я зашел и вижу: никого нет. Хотел взять бидон, а потом подумал: «Надо же сказать». И вот вижу дым из бани. Думаю: «Наверно, там». И угадал, оказывается.
— Да, да, — сказала она, поворачивая его за плечи в обратную сторону и подталкивая слегка в спину, чтобы он шел перед ней по тропинке к дому. — Я тут стирку затеваю. Потому и задержалась…
— Значит, печка у тебя в бане опять исправна, тетя Вилма? — спросил он.
Она понимала, что означает этот вопрос, и ответила не совсем складно:
— Да нет еще. Не знаю даже… Завалилось там что-то. Пробую пока. Но плохо. Я скажу потом, когда налажу.
— А дедушку Урхо не прислать? Он такой мастер по печкам.
— Нет, нет, не надо его беспокоить. Бог с ним. Я сама.
И, говоря так, она радовалась, что он обращен к ней своим беловолосым затылком, избавляя ее от необходимости смотреть в его чистые голубые глаза. Как бы она могла выдержать их взгляд, произнося эти лживые, греховные слова? Все перевернулось внутри бедной Вилмы, и она уже не могла разобраться, где у нее там начинается правда и где она кончается. Человека ей нужно было скорей спасти, человека! Вот единственное, к чему рвалось ее материнское сердце.
Отправив мальчугана, Вилма опять поспешно кинулась к бане. И весь этот день она уделила больному. Она ставила ему банки, насколько позволяла повязка, ставила горчичники, непрерывно держала на его лбу влажное, холодное полотенце и кормила холодным клюквенным киселем. И все-таки к ночи температура у него не спустилась ниже сорока.
Она провела возле него также всю ночь, продолжая сменять на лбу полотенце и вливать время от времени ему в рот холодный кисель. Сидя, усталая и измученная, на верхнем полке у него в ногах, она вглядывалась озабоченно в его пылающее, исхудалое лицо и прислушивалась к бессвязным словам, которые он произносил в бреду. Это были русские слова, резавшие ей ухо враждебностью своих звуков. Но теперь она уже не пыталась от них уйти.
Свет лампы падал на ее загорелые скулы, делая их похожими на медные. И все лицо отливало медью, сохраняя такое выражение, словно все то горькое и скорбное, что когда-либо привелось испытать матерям земли, собралось воедино и легло на его просторную, загорелую поверхность, легло и застыло, не собираясь уступать места другому выражению. И только ее полные, мягкие губы оставались, как всегда, чуть растянутыми, надавливая своими уголками на щеки, словно еще не оставили надежды обрести улыбку.
Перед утром она развела в кипятке малиновое варенье и дала ему выпить целую кружку. Молча подоткнув одеяло, она снова набросила сверху свой полушубок и отправилась к своим утренним делам, а к нему вернулась лишь после того, как отправила молоко. Просунув руку под одеяло, она ахнула. Его тело было влажное и липкое, а простыня под ним такая сырая, будто ее облили водой.
Но это было как раз то самое, на что она надеялась. Дай бог, чтобы это было то самое! Если ей удалось так скоро вызвать у него потение, значит это обыкновенная простуда. И можно надеяться, что от воспаления легких его спасла повязка на груди, не позволившая ему соприкоснуться плотно с холодной землей. Дай бог, чтобы именно так и было, дай бог!
За свежим бельем она побежала в дом с радостью в сердце. Вернувшись в баню, обтерла больного сухим полотенцем, сменила под ним и над ним простыни, дала выпить остатки киселя, снова подоткнула одеяло и поставила градусник.
Градусник показал тридцать девять и две десятых. Это укрепило в ней надежду. Но она отлично видела также, какую пользу принес кисель, и снова наварила его побольше, почти прикончив на этом свои скудные запасы сахара. Не забыла она и про куриный бульон, Без него тут невозможно было обойтись. Это она тоже понимала. И ради спасения жизни человека она без колебания пресекла еще одну молодую петушиную жизнь.
Кисель и бульон пополнили запасы влаги в его организме, и в течение дня ей пришлось еще два раза извлекать из-под него пропитанные потом простыни. Но, послушно глотая жидкость и поворачиваясь куда нужно под ее руками, он лежал, безучастный ко всему. Сам он ничего не просил и ничего не желал. Она могла оставить его совсем без помощи, и он принял бы это с полным равнодушием. Прекрати она его поить и кормить— и он безропотно смирился бы с этим, не издав ни звука жалобы. Она ясно понимала это по выражению его исхудалого лица и тем сильнее укреплялась в своем непременном желании вызволить его из этого положения, добиться, чтобы он перестал быть таким безучастным к своей судьбе и проникся интересом к жизни. Она, финская женщина, желала этого, она, сама потерявшая от руки русских все. Богу угодно было так все повернуть и его пресвятой матери. Но им виднее с их священной высоты.
Вечером градусник показал тридцать восемь, и ночью больной уже спал спокойнее. Она тоже прикорнула внизу на скамейке, а утром после посещения Вилли перевязала ему раны, изрезав на бинты половину свежей простыни. Рана на груди, не потревоженная его ночным бегством, заживала нормальным порядком. Воспаленность под правой лопаткой убавилась, и она повторила риваноловую примочку. У свеженадорванных ран на руке и бедре она только сменила пропитавшиеся потом повязки, не тронув присохших к ранам нижних тряпочных прокладок, черных от йода и запекшейся крови.
Рана у лодыжки тоже не вызвала у нее особенной тревоги. Что-то вытекло из нее, должно быть лишнее, потому что опухоль вокруг нее опала и больной уже не так сильно дергался, когда она прикасалась к этому месту. Сюда она опять приложила листья алоэ, накрыв ими не только рану, но и всю болезненную припухлость вокруг. Все это она проделала молча. Уже два дня она ему не говорила ни слова. Он тоже молчал. Но когда она, закончив перевязку, подоткнула вокруг него одеяло, он опять сказал ей по-фински: «Спасибо».
Она в эту минуту уже готовилась спускаться вниз, но, услыхав это слово, осталась на месте и даже присела на край полка у него в ногах. Он смотрел на нее глубоко запавшими голубыми глазами, такими похожими по густоте цвета на глаза Вяйно, и неизвестно о чем думал своим русским умом. Она тоже смотрела на него некоторое время молча, а потом спросила:
— У тебя мама есть?
Он, может быть, и не понял ее, но слово «мама», конечно, понял и по нему догадался о сути всего вопроса. Он кивнул. Она вздохнула. Конечно, ей не стало веселее от его ответа, но на что она надеялась? А если бы он сказал: «Нет»? Разве это изменило бы что-нибудь в ее судьбе? Ничего бы это не изменило. Просто уж такое испытание дал ей бог. Нельзя на него роптать. И сердиться на этого чужого мальчика у нее тоже не было причины. Он смотрел на нее такими благодарными глазами, что она не могла держать против него в сердце зла. Она спросила:
— Где?
Это слово он понял и ответил по-русски:
— В Ленинграде.
Она тоже поняла, и сердце ее сдавило тревогой от этого названия.
— Ты у нее один? — спросила она, подняв кверху для ясности указательный палец.
Он кивнул.
— И у меня был один. Такой же.
Она пояснила это жестами, показав на себя и на него и подняв опять кверху палец. Он кивнул, готовясь что-то ответить, но она вскричала:
— Был! Понимаешь? Был! А теперь его нет. Нет!
— Теперь его нет, — неумело повторил он за ней по-фински слабым голосом и спросил на том же языке: — Где?
— Убит! — вскричала она снова. — Убит. Ваши его убили. Там, на фронте. Понимаешь? Он мертв теперь.
И, поясняя свои слова, она сложила крестом руки и чуть запрокинула голову, закрыв при этом глаза.
— О, — сказал он с печалью в голосе и шевельнул на подушке головой в обе стороны. Его светлые брови чуть сдвинулись на молодом лбу, а в глазах, обращенных к ней, она увидела сострадание.
У нее дрогнуло в груди от этого взгляда, такого же ясного и открытого, как у ее Вяйно. Видно было, что этот взгляд выразил подлинное движение его сердца. И он растопил в ней остатки холодности к нему.
Но ей не стало легче. Новая горечь проникла в ее сердце от мысли, что даже тут на ее долю выпало сделать совсем не то, к чему призывали законы войны и ненависти. Таков, как видно, был ее материнский удел — делать все вопреки велению времени, зовущего к вражде. Ее сын погиб, и некуда ей деться от грызущей ее сердце тоски. А она не смогла причинить ровно такое же горе другой женщине, враждебной ей, — если та уцелела, конечно, в том страшном кольце…
И теперь ее сын лежит где-то далеко в сырой могиле, а этот, из враждебной ей страны, остался в живых да еще смотрит на нее светлыми благодарными глазами, такими похожими на глаза ее несравненного Вяйно, смотрит и не понимает, что она ему враг, что она обязана его убить, убить, убить! Не согласна она оставлять все так, чтобы чья-то чужая, враждебная ей женщина испытала счастье встречи с ним, в то время как она, Вилма, будет пребывать в горькой тоске, от которой жизнь перестала быть жизнью. Не согласна она, чтобы это осталось так! Несправедливо это! Видит бог, несправедливо! Не заслужила она этого, нет!
Отвернув от русского юноши лицо, она уперлась руками в край полка, на котором сидела, и, стоя одной ногой на верхней ступеньке, другой шагнула, не глядя, на нижнюю. И в это мгновенье он взял ее за руку. Не успев еще снять с верхней ступеньки ногу, она вопросительно повернула к нему лицо, на котором глаза, полные влаги, ярко блеснули, отразив свет лампочки. А он сказал, с трудом подобрав два финских слова:
— Murha… minua…[5]
— Что ты, бог с тобой! — воскликнула она, пораженная его словами. — Зачем я буду тебя убивать? В чем ты-то передо мной провинился? Этого еще не хватало, господи…
Слезы с новой силой подступили к ее глазам и заполнили полость рта. Глотая их, она сделала движение, чтобы и вторую ногу опустить на нижнюю ступеньку. Но он продолжал держать ее за руку, и это лишило ее равновесия. Вторая нога не опустилась вниз, а оперлась коленом на ту же верхнюю ступеньку. А сама она, покачнувшись, невольно коснулась локтем его груди. Он слегка зашипел от боли, и она испуганно зашептала:
— Ой, прости! Очень больно? Да? Ах ты, боже мой…
И, стремясь как-то загладить свою неловкость, она вся потянулась к нему с виноватым видом, обняв его одной рукой поверх одеяла и проведя другой по его волосам, растрепанным и влажным. Он в ответ на это тоже прикоснулся ладонью к ее голове, пригладив ее тяжелые темно-русые пряди, выбившиеся из-под косынки во время хлопот с ним.
Это была давно забытая ею ласка, от которой она сразу присмирела, оставаясь все в том же неудобном положении: левая нога в грубом башмаке опиралась носком на нижнюю ступеньку, правая опиралась коленом на верхнюю, правая рука обнимала его поверх одеяла, левая упиралась в край полка, на котором он лежал, а голова склонилась над ним. И, оставаясь в этом неудобном положении, она вдруг приникла лицом к его худым, горячим ключицам в промежутке между краем одеяла и небритым юношеским подбородком. Его тело излучало тепло и жар, и пахло от него все тем же молочным знакомым запахом. Но ей уже было не до запахов…
Поток слез, давно закупоренный в ней, хлынул вдруг с неудержимой силой из ее глаз. Тщетно пыталась она удержать этот поток, торопливо глотая часть слез и плотно смыкая ресницы. Они проникали сквозь эту ненадежную преграду и лились двумя теплыми ручьями прямо на его исхудавшую голую шею. Она не плакала, не всхлипывала. Это ей удалось подавить. Но удержать слезы она не могла. Накопленные за многие дни горького одиночества, они обильно лились из ее глаз, пока не вылились полностью. Он же тем временем нежно проводил рукой по ее волосам, выбившимся тяжелыми кольцами из-под многоцветной косынки на край синего одеяла и на его лицо. А когда она подняла голову, он сказал:
— Olet… suuri… aiti…[6]
Она молча взяла своей рукой его руку и мягким движением убрала ее под одеяло, молча вытерла полотенцем его худую шею, молча натянула на нее одеяло и вышла из бани, тихо прикрыв за собой обе двери. У наружной двери она постояла немного, прислонясь к ней плечом и головой, вокруг которой клубились в беспорядке ее густые волосы, ускользнувшие от власти платка и приколок.
Что изменилось в ее жизни? Ничего не изменилось. По-прежнему она одна и будет одна. Но она выполнила то, что предписано в жизни выполнить матери, и пусть попробует кто-нибудь ее за это упрекнуть! Она сумеет ему ответить. Не ему отменять законы, созданные богом. Кто ты, чтобы отрешить мать от ее истинного назначения? Разве ты сам не матерью рожден? Призывая убивать подобных себе, обратился ли ты предварительно за советом к ней? Меня спросить надо — мать! Слышите вы, творящие земные законы? Меня спросите, как надо их составлять, и тогда в них не будет ошибки, ввергающей людей в безумное истребление друг друга.
Веселый лохматый Пейкко выпрыгнул из ягодного кустарника и остановился перед ней, ожидая распоряжений. Она тронула его за шею и сказала с чувством:
— Славный ты у меня, Пейкко. Очень славный.
И Пейкко заметался вокруг, осчастливленный ее лаской. Подпрыгнув повыше, он лизнул ее в соленую от слез щеку и вдруг погнался со всех ног за какой-то птицей, чтобы хоть в этом беге выразить свой восторг.
Вилма двинулась вслед за ним, полная раздумья. Все исходило от бога. Он, высокомудрый, предусмотрел, чтобы выполнили свое назначение и берестяной ковш сына, и теплая постель сына, и сахар сына, и даже его любимая ива, склонившая над русским юношей листву для защиты его от ночного холода. И, обратив лицо к хмурому осеннему небу, Вилма сказала:
— Милосердный боже, сделай так, чтобы та мать была жива!
1957
ХЕЙНО ПОЛУЧИЛ ВИНТОВКУ
Теперь я знаю, что мне делать и куда идти. Конечно, я не предвидел, что приду к этому таким путем, но теперь уж ничего не изменишь. Да и зачем менять? Все пришло и установилось на свое законное место, и для меня тоже не было иной дороги.
Прошла вторая осень, и пришла вторая зима. Такие же снежинки, как и в прошлом году, закружились в холодном воздухе. Но мне все равно. Снежинки так снежинки. Я одинаково рад и снежинкам, и морозу, и дождю, и грязи. У меня есть жизнь, хорошая жизнь, и дороже ее у меня никогда ничего не будет.
Я берегу эту жизнь. Я не хочу, чтобы она изменилась, и веду себя с ней очень осторожно. Я очень мало смотрю вокруг, очень медленно закуриваю свою трубку и очень долго ее курю, ни на кого не глядя. Но я отлично вижу и чувствую все то, что меня окружает. Я только не хочу спугнуть все это, все то, чем я сейчас живу.
Я прижимаю своим почерневшим от тяжелой работы жилистым пальцем огонь трубки и делаю это медленно и осторожно, чтобы не просыпать ни крошки табака, ибо я знаю теперь цену каждой крошке.
Степан Иваныч поступил глупо — так я полагаю… Если бы у него было больше ума, он жил бы и сейчас…
На дворе легкий ветер кружит снежные хлопья. На дворе приятный морозный воздух, придающий мускулам бодрость и силу. Там жизнь по-своему идет вперед. Зима сменяет осень, принося с собой разные трудности и невзгоды. А потом наступает весна. Все знают, что такое весна, и каждый человек постоянно ждет ее. Зачем он постоянно ждет? Никто не может на это толком ответить. Бедные, глупые люди.
Но Степан Иваныч уже не ждет весны. Что может ждать зарытый в землю? Кончены для него ожидания. И все это потому, что он поступил глупо, очень глупо. Иначе это никак нельзя назвать. Зачем было ему оставаться дома, когда нагрянула такая беда? Ведь он хорошо знал, что русскому пощады не будет, а в особенности такому, который говорит: «Мы построим коммунизм». Глупый, упрямый старик.
И теперь вот он лежит под слоем мерзлой земли и снега, а Егоров Иван как ни в чем не бывало бродит по земле. А ведь Егоров тоже говорил: «Мы построим коммунизм».
Я никогда не любил Егорова, и мы с ним грызлись при каждой встрече. Он был совсем из другого мира — из советского мира. А я смеялся над его миром. Я говорил ему так:
— Долго ты строишь свой коммунизм. Тебе нужно тысячу лет прожить, чтобы дождаться каких-нибудь плодов от своих стараний. Но ты не проживешь тысячу лет. Твоя партийная работа доведет тебя до гроба через пять лет, если не раньше, потому что я, например, давно собираюсь тебя пристукнуть где-нибудь из-за угла.
Он улыбался, когда я говорил так. Конечно, это было смешно: маленький жилистый человек грозит большому и плотному человеку, у которого кулаки как две гири. Но все равно я грозил ему:
— Не смейся! Думаешь, я забуду, как ты меня с хутора в деревню переселил? Никогда не забуду!
И верно, трудно было это забыть. Я не ударил даже палец о палец. Только сидел и курил свою трубку. А они выкопали мои старые яблони, подняли их вместе с землей на грузовик и перевезли на новое место. А потом принялись за дом.
Только мать плакала, глядя на это, а Лиза — нет. Я спросил ее:
— Ты рада?
Она взглянула на меня сияющими глазами и сказала:
— А ты разве нет? Ведь с людьми теперь вместе будем жить, а не одни в лесу. Ты молодец, что согласился.
Что я мог ответить на это? Я выколотил трубку, встал и начал помогать людям разбирать свой собственный дом.
Если моя красавица Лиза была рада этому, то мог ли я грустить? Не могло принести мне огорчения то, что радовало мою сестру.
Но Егоров не должен был этого знать. Егорова нужно было укорять за этот переезд, чтобы он не вообразил себя благодетелем. Он спрашивал: «А что ты потерял от этого?» И тут уж лучше было с ним совсем не разговаривать. Что я потерял? Разве он поймет, что я потерял? Каждый вечер после работы я брал трубку в зубы и садился на своем крыльце лицом к западу. Лес окружал мой хутор, и вершины его черными зубцами выделялись на угасающем небе. И я до глубокой ночи сидел и смотрел, как меняются на небе краски. Трубка гасла. Я набивал ее снова и снова курил и смотрел. Кому какое дело — о чем я думал в это время?
Но я сидел так часами, и никто не мешал мне — вот что было главное. Но как объяснить это Егорову, который ничего не знал, кроме своих большевистских лозунгов? Не понял бы он никаких объяснений.
Не забывал я также о своем отце, который часто твердил мне о том, чтобы я не покидал хутора. Я верил своему отцу, потому что кому же мне больше верить? Он был умнее меня.
Но когда он умер и со мной остались только мать и Лиза, то Лиза стала говорить мне совсем другое. И мне уже некого было больше слушать, кроме Лизы. А ведь человек должен кого-то слушать — так я полагаю.
Нельзя же вечно доверяться одним лишь своим мозгам. Или это только моя маленькая голова постоянно нуждается в чужих советах?
Лиза скучала по людям — это я знал. Ну, что ж. Я сделал, как она хотела. Могу ли я не сделать что-нибудь для Лизы? А через два года, когда изменилось кое-что в запасах моего амбара, я сам перестал жалеть о том, что переехал, и начал о многом думать иначе. Но никто не должен был об этом знать, а тем более Егоров. И я ругал Егорова всякими словами, перебирая все те неприятности, которые он сделал для меня. А Степан Иваныч говорил:
— О выеденном яйце заспорили, друзья. Не пытайтесь меня заверить в том, что вы враги. Не поверю. И товарищ Салаинен вовсе не плохой человек, хотя он и салаинен[7].
И он улыбался добродушно в свою бороду, которая была вся седая, до единого волоска. А потом наливал нам с Егоровым из самовара еще по стакану чая и пододвигал печенье.
Мне бы следовало прекратить ходьбу на эти чаепития, но я не чай пить ходил. Я ходил, чтобы высказать им в лицо всю правду. А они только усмехались и пододвигали мне чай с вареньем и печеньем. И я продолжал ходить к ним чуть ли не каждый день, хотя сам не видел от этого никакого толку.
Не понять им было души финна. Так думал я. И я не мог понять их. Мы были из разных миров. Они знали что-то такое, чего не знал я.
Гораздо понятнее был для меня Эркки Пиккуранта. Он прямо говорил мне про русских: «Скоро мы их всех перережем». Он говорил мне это потихоньку, но видно было, что он кое-что знал.
Иногда я жалел, что держался в стороне от таких людей, как Матти Леппялехти, Юхо Ахо и Степан Тундра. Но душа не лежала к ним. Что я мог с этим поделать? А ведь они остались верными себе, когда нагрянула эта беда. Но я на первое время совсем потерял их из виду.
У нас объявили было дополнительную мобилизацию, но ничего не успели сделать.
И русские тоже не успели выехать. А Степан Иваныч даже не пытался покинуть свой дом. В этот жаркий солнечный день он, как всегда, после работы в школе ушел гулять в наш красивый карельский лес.
А в этот же день финские войска прошли через нашу деревню на восток, а вслед за ними в деревню вступил отряд Суоелускунта[8], а с ним — гитлеровский офицер с пятью эсэсовцами. Из этого я заключил, что на лесопункте уже покончено со всеми. Оставалось дожидаться своей очереди.
Нас всех собрали в одну кучу, и старший суоелускунтовец сказал:
— Suomalaiset ja karjalaiset, eteenpain![9]
Я сразу же вышел вперед и остановился, ни на кого не глядя. Мне было наплевать на всех. Я хотел жить.
Кое-кто еще вышел из общей кучи, а остальных куда-то угнали. Нас, всех финнов и карелов, допросили, и я рассказал о себе все, как было. Мне нечего было скрывать. Я всегда был против большевистских колхозов, и я так и сказал. Заодно я спросил офицера, где Леппялехти, Юхо и Тундра, но он мне ничего не ответил. Все-таки было бы лучше оказаться с ними вместе в такое время. Особенно мне хотелось посмотреть на Матти Леппялехти. Как бы он повел себя в такое время? Он бы знал, что делать. Но его не было. И Юхо Ахо тоже не было. Я был один.
За окном вьются густые снежные хлопья. Они кружатся, обгоняют друг друга и падают вниз. Но временами кажется, что они вовсе не падают вниз, кажется, будто они неподвижно застыли в воздухе, а вся землянка, в которой я сижу, стремительно летит вверх со столом, скамейками, нарами и крохотным окном. И мысли мои тоже летят в прошлое, обгоняя струйки дыма из моей трубки.
В тот день была очень хорошая и ясная погода, и со стороны леса пахло земляникой. Она всегда растет на опушке леса и вокруг старых пней.
Суоелускунтовцы вышли из лесу и задержались на опушке, чтобы поесть земляники. А тот, кого они вели, стоял и ждал, пока они лакомились. Я не мог сразу узнать, кто это такой, но не все ли мне было равно? Меня он мало интересовал. Каждый по-своему расплачивался за свои дела.
Они опять повели его вдоль опушки, пока не дошли до ямы, из которой весной был вытащен камень для крепления моста. Здесь они остановились. Потом они обернулись и крикнули что-то назад. Оказывается, один из них так увлекся земляникой, что остался у пней, забыв, куда и зачем шел. Когда ему крикнули, он подхватил свой автомат и подбежал к остальным.
У них было три автомата. Они приставили их к животам прикладами и встали в ряд, а их старший поднял руку. Послышался такой звук, как будто сыпали дробь в железный ящик, и от каждого автомата пошел дымок.
Так они и убили этого человека там на опушке, а потом опять пошли доедать землянику, оставив торчать из ямы его босую ногу.
Ветер все время дул оттуда, и запах земляники наполнял маленькие улицы.
Меня не сразу отпустили. Я еще побывал у эсэсовцев.
Там меня спросили:
— Ненавидите большевиков?
Я только усмехнулся в ответ на это. Что зря спрашивать? Это и без того было ясно для них.
— А если мы вам дадим оружие и пошлем вас защищать Финляндию, на которую напали большевики?
Я подумал и сказал:
— Давайте.
Они засмеялись все, кто был в комнате. А переводчик сказал мне:
— Хорошо. Мы постараемся исполнить твое желание. Можешь идти.
Я пошел. Опять я был свободен. Я шел по улице, где толпились парни из Суоелускунта, и никто не задерживал меня.
Я пришел домой. Дома у меня тоже сидело трое таких молодцов. Они ели за обе щеки и пили водку, которую взяли в магазине лесопункта.
Мать наливала им в тарелки суп, и когда увидела меня, то вся задрожала от радости. А один из парней сказал ей:
— Ничего, хозяйка, наливай, наливай. Я говорил, что он вернется. Он молодец. Пускай он тоже сядет с нами. Садись, Салаинен. Тебя как звать?
— Хейно.
— Садись, Хейно. Не бойся. Теперь конец твоим страданиям. Твоя мать все рассказала нам. Теперь ты можешь опять заводить хутор или что хочешь.
Я сел за стол, чтобы не обидеть их, и спросил у матери:
— Где Лиза?
— А ее взяли убирать помещение учителя. Там будет стоять эсэсовский офицер.
Я сразу встал, но она удержала меня:
— Ничего, Хейно. Я думаю, ничего. Их троих взяли. Вымоют полы и придут.
Но я видел, что и она как-то беспокойно поглядывает в окно. Я опять хотел встать, но неудобно было не съесть ни ложки за компанию. Я начал есть.
Унтер налил мне из фляжки полстакана русской водки и похлопал по плечу. Я хотел отказаться, но они все в один голос закричали:
— Пей, Хейно! Пришел твой праздник. Пей!
Я выпил и посмотрел на мать. Она ничего не сказала, только вздохнула и опять стала смотреть в окно. Я тоже посмотрел туда же. А третий солдат, который громче всех чавкал, сказал:
— Сестру ждешь? Ничего. Она поработала на большевиков, теперь пусть на немцев поработает. Это ей как бы в искупление вины.
Я спросил:
— Какой вины? И почему на немцев, а не на финнов?
Тут унтер посмотрел на меня так, как будто только что увидел, и сказал:
— Понимать надо — почему. Немцы нас выручили. Немцы с нашей земли русских прогнали. Немцы нам культуру принесли.
И, говоря так, он три раза крепко стукнул кулаком по столу, а потом очень строго и даже подозрительно посмотрел на меня.
Я не хотел, чтобы он так смотрел на меня. И, чтобы замять свои слова, я сказал:
— Мне тоже завтра дадут винтовку. И я с вами пойду бить большевиков.
Они закричали «ура» и налили мне еще полстакана и выпили сами.
Я выпил и посмотрел на третьего из них. Он уже не чавкал так громко. Он совсем осоловел и все пучил на меня глаза. Я понял, что он хочет что-то сказать, и слегка придвинулся к нему. Тогда он выдавил из своего рта сквозь пищу, которую жевал:
— А твоя сестра ничего девчонка. — И он показал руками, какая она — моя сестра, и при этом икнул и рыгнул, пустив слюни. Он чуть не подавился куском мяса, но прокашлялся и добавил:
— Жаль, что ее уже заняли, а то бы я не упустил…
— Как заняли?
Я с тревогой посмотрел на мать, а она на меня. Я видел, что ее руки дрожали, и снова спросил:
— Как заняли? Кто?
Никто ничего не хотел мне объяснить. Только унтер снова тронул меня за плечо и сказал:
— Ты вот что, парень. Помни, что посланцу Гитлера нельзя ни в чем отказывать. Его надо уважать. Вот все, что я хотел тебе сказать.
Я кивнул головой и доел суп.
Я не хотел больше отвлекать на себя его внимание. Он слишком сердито махал своим здоровым кулаком и тыкал меня в плечо так, что проливал мой суп из ложки. И слишком пристально смотрели на меня его глаза, которые глубоко сидели между его широкими скулами.
Я не хотел, чтобы эти парни подумали, что я им враг, и не стал больше ничего спрашивать. Но все-таки я встал, когда они принялись за картошку со свининой, и вышел, чтобы пойти в дом учителя. Но в сенях уже стояла Лиза. Она только что пришла и не решилась войти сразу, когда услышала в избе чужие голоса.
Я взял ее за руки и заглянул в глаза. Это было не трудно сделать, потому что мы были одинакового роста. По влажной коже ее пальцев я понял, что она действительно мыла полы.
Я быстро потянул ее в боковую комнату и велел запереться и молчать. По глазам ее я увидел, что она недавно плакала. Я сразу же спросил:
— Ты что?
Она насупилась и ответила:
— Ничего. Не пойду я больше туда.
— Почему?
— Не пойду и все.
— А что случилось?
Я старался заглянуть ей в глаза. Она поняла, о чем я думаю, и сказала:
— Пока еще ничего не случилось.
Я велел ей запереться и ждать, пока гости уйдут. Но сам я тоже не пошел больше в комнату. Не тянуло меня туда. Конечно, они принесли нам свободу, эти парни, которые угощались в наших домах, но мне просто захотелось пройтись немного. И я пошел прочь от своего дома, как будто он был чужой.
День уже повернул на вечер. Солнце захватывало только верхнюю часть леса, покрыв ее желто-розовым цветом, а нижняя часть окунулась в тень. Но яма с торчащей босой ногой все еще была заметна на опушке среди пней, и ветер доносил оттуда запах земляники.
Меня не интересовало, кто там попал в яму. Он получил то, что заслуживал. Но мне просто очень сильно захотелось земляники, и я пошел туда.
Там, вокруг пней, все было красно от земляники. Я пошел туда, где была эта яма, из которой торчала босая белая нога. Мне было наплевать, чья она. Просто возле нее земляники было больше. Я нагибался и клал ее в рот, хотя почему-то не особенно разбирал ее вкус.
В конце концов я все-таки подошел к яме и заглянул в нее. Не знаю почему — я сразу не догадался, кто это такой, пока видел его издали. Легко можно было догадаться по сутулой спине, что это Степан Иваныч — старый учитель. Ясно, что они его поймали в лесу и разули. А суд с такими недолгий. Я вспомнил, как он говорил: «Мы построим коммунизм». Вот и построил.
Я нагнулся, чтобы присмотреться к нему поближе. Солнце уже зашло, и начинались сумерки. В яме он сложился пополам, и средняя часть его тела намокла от крови. Но голова, торчавшая вверх, была не тронута, и даже белая борода и волосы не успели запачкаться. Казалось, что он и теперь улыбается в свою седую бороду, как бывало раньше. Только глаза уже не щурились от этой улыбки. Они были закрыты. Я вспомнил, как он сказал: «И товарищ Салаинен вовсе не плохой человек, хотя он и салаинен». Теперь уже не скажет больше таких слов и не пододвинет ко мне вазу с печеньем.
Коричневая рубашка на его плече была разорвана, и из нее торчало его голое старческое плечо, белевшее так же, как и борода. А ниже все было в крови. Они расстреляли его в живот.
Но меня это не касалось. Я отошел и опять стал рвать землянику. Я рвал ее, мял между пальцев, и не помню, что я с ней делал.
Этого старика нужно было зарыть, но как? Нельзя же было пачкать землей такую белую бороду. Можно было забросать его сначала ветками и листвой, но кто осмелится это сделать на глазах у тех, кто его убил? Я и то слишком уж долго возле него задержался. Я пошел прочь.
И опять я пожалел, что был один, что оторвался от таких людей, как Леппялехти, Ахо и Тундра. Ведь они тоже были финны. И они, наверно, знали бы, что делать. Мне следовало и раньше поближе к ним держаться, но я не умел. Я был сердит на всех за свой хутор, и все чувствовали это.
Как-то раз люди закуривали из кисета Матти Леппялехти. Когда все взяли по щепотке, я тоже потянулся и спросил:
— Не весь еще?
Он покосился на меня и ответил: «Весь». И сунул кисет в карман.
Если подумать как следует, то он был прав, не питая ко мне большой дружбы. Ведь и я отвечал ему тем же. Но за Матти Леппялехти можно было смело идти хотя бы потому, что он знал какую-то свою прямую дорогу, никогда не сворачивая с нее. И в эти трудные дни он тоже знал бы твердо, чью сторону взять и кого бить. А когда Матти Леппялехти начинает кого-нибудь бить, то спасенья не жди. Этот широкий и тяжелый детина может ударить так, что не оставит ничего, кроме мокрого места.
Егоров, наверно, убит в первый же день. Может быть, его прикончил сам Леппялехти, или Юхо, или Эркки.
Так думал я, подходя к своему дому. И в это время я увидел сухую фигуру Эркки и его костлявое лицо с коротким острым носом. Он вышел из моего дома и быстро пошел по улице, не заметив меня в сумерках.
Я раза четыре на него оглянулся, чтобы узнать, куда он так спешит. И, оглянувшись в пятый раз, я заметил, что он остановился перед домиком учителя, в котором поместился эсэсовский офицер.
Подойдя к своему дому, я увидел на крыльце унтера. Он стоял и мочился прямо на ступеньки моего крыльца. Заметив меня, он закивал своей пьяной головой и заорал:
— A-а, как тебя… Хейно! Пришел? Гуляешь? Гуляй, гуляй. Теперь ты свободен. Теперь вы все свободны… мы освободили вас… Мы, защитники угнетенной внешней Карелии.
Я подождал, пока он кончил мочить ступеньки, и затем вошел за ним в комнату. В сенях я попробовал рукой боковую дверь. Она была заперта.
А в средней комнате два других пьяных суоелускунтовца уже укладывались спать на кровати моей матери. Один из них только что разулся. Выковыривая пальцем потную грязь, которая наросла у него между пальцами ног, он подмигнул мне и сказал:
— Вольная пташка теперь? Гуляй, гуляй, Салаинен. Но помни, кто тебя сделал свободным.
Странно, что им так нравилось повторять одно и то же.
А третий, тот самый, который очень громко чавкал за столом, пожевал немножко губами, надул свои толстые щеки и проворчал:
— Не ценят они наших трудов. Им свободу принесли, а они скрытничают… девчонок прячут…
Он, видно, здорово напился — этот толстощекий — и поэтому ничего больше не мог из себя выдавить. Ему тоже следовало раздеться, но он так раскис, что завалился на простыню одетый и в сапогах.
Я спросил потихоньку у матери:
— Зачем Эркки приходил?
— Лизу спрашивал.
— Зачем?
— Не знаю.
— А ты что сказала?
— Ушла Лиза.
Она помолчала немного и спросила:
— А это верно, что они нас теперь совсем освободили и что те… советские не вернутся?
— Верно, — сказал я, — только Лизу не выпускай, пока не заснут.
Но я все-таки прозевал Лизу. Как это я упустил ее! Эх, Лиза, Лиза…
Целая неделя прошла как будто ничего. Суоелускунтовцы стояли у меня три дня, потом ушли. Лиза уже совсем свободно ходила по дому. Какая красавица была моя Лиза! В ее большие синие глаза можно было смотреть и смотреть без конца. Я никогда не мог на нее налюбоваться. Она замечала это иногда и радовалась, но делала вид, что ничего не понимает, и спрашивала:
— Ты что, Хейно?
Я начинал смотреть в другую сторону и ничего не говорил. Тогда она подходила ко мне, брала своими мягкими теплыми руками мою голову, целовала меня в лоб, смотрела несколько секунд в мои глаза и опять отходила прочь. А я оставался сидеть на месте, стараясь не шевелиться, чтобы не сдуть ее поцелуй с моего лба.
И как я прозевал ее! Ведь я же часто видел Эркки и у своего дома и у квартиры эсэсовского офицера. Я должен был понять, к чему дело клонится. А я прозевал, как самый последний дурак.
Я отвлекся другими событиями. Эркки временно исчез, а потом опять появился. И сразу же появился Егоров. Его привели четверо суоелускунтовцев.
Сначала его допрашивал офицер суоелускунта, а потом эсэсовец. Я встретился с Егоровым на улице, когда его уже вели из эсэсовского штаба. Лицо его было сильно окровавлено, и я не сразу узнал его, но когда узнал, то не выдержал и крикнул:
— Ванька!
Он не услышал, и я еще раз крикнул:
— Ванька!
Один из часовых посмотрел на меня внимательно и сказал:
— Молчи. Нет здесь для тебя Ванек. Иди прочь.
Но я не отходил. И Ванька узнал меня, но сразу же отвернулся.
— Куда? — спросил я у конвойных. А они покосились на меня и буркнули:
— Это тебя не касается.
Все-таки я пошел рядом с ними. Один из них видел, когда меня отпускали на все четыре стороны из немецкого штаба, и поэтому не стал меня отгонять. А я заговорил с Егоровым по-фински:
— Что! Попался наконец? Агитировал, агитировал и удрать вздумал? Нет, у нас не удерешь. Ну, что молчишь? Говори что-нибудь, пока тебя желают слушать…
Я очень хотел, чтобы он хоть как-нибудь ответил, хотел узнать его настроение, хотел услышать его голос, но он молчал. Его руки были связаны за спиной, и он не мог вытереть крови на лице. Она текла из носа и с виска. Он только облизывал губы, когда струя крови попадала на них. Я еще покричал на него немного, и по-русски и по-фински, и наконец оставил его в покое. Он все равно ничего не ответил, даже не взглянул на меня. Я посмотрел, как его втолкнули в сарай, и пошел прочь.
В этот день я узнал, как его поймали. Он пытался выручить свою жену, которая лежала в родильном доме, а Эркки выследил его. Знакомый мне унтер сказал, что тот сам нарочно сунулся к ним в руки, чтобы замести следы двух товарищей, помогавших ему.
— Но крепкий черт! Ничего из него не вытянешь, — так сказал унтер и даже тряхнул от удивления своей крупной скуластой головой.
Действительно, трудно было что-нибудь выдавить из Егорова. На допросе он все время валял дурака и нарочно говорил только по-фински, чтобы поддразнить тех, кто его допрашивал. Некоторым казалось, что он вовсе не русский, и, может, поэтому его не убили сразу.
На следующий день его снова водили в штаб и снова привели к сараю ни с чем.
Я как раз в это время шел мимо него на мобилизационный пункт. У них там не хватало своих солдат, и они рады были подцепить среди советских финнов таких, как я. Что ж делать, неудобно было отказаться. Я пытался было заговорить о том, что идет сенокос и что женщинам одним не справиться, но меня спросили:
— Что тебе дороже: сено или родина?
Я промолчал в ответ на это, но я знал, что мне дороже. И вот я сказал матери, что пойду, и пошел. Она вздохнула и сунула мне в карман какую-то закуску. Лизы не было. Она ушла копновать высушенное сено, потому что погода была пасмурная в этот день и по всему видно было, что пойдет дождь. Я сказал матери на прощанье, чтобы она больше никуда не посылала Лизу одну.
И вот по пути на сборный пункт я увидел Егорова. На этот раз он еле держался на ногах и очень тяжело и часто дышал. И я не думал, что он так сильно может похудеть. Румянца уже не было на его щеках. Они стали какими-то рыхлыми, побледнели и впали. Но я не заметил на них ни капли крови. На этот раз его били по какому-то другому месту.
Он стоял, прислонившись своим широким плечом к бревенчатой стене сарая, и ждал, когда отодвинут засов у двери. А второе плечо его так и ходило вверх и вниз от частого и тяжелого дыхания. И руки по-прежнему были скручены веревкой за спиной.
Я даже не нашелся сразу, что ему сказать, и простоял минуты две возле сарая. А он поднял на меня голову и посмотрел так, что засверкали глаза. Потом отдышался немного и сказал:
— Ну, что стал? Иди. Лижи им зад.
Я промолчал. А потом сказал тихо:
— Ванька, бросил бы ты все это… ведь жить надо…
— Иди, тебе говорят!..
И он тале посмотрел, что я понял: конец. Ничем его не переубедишь. И в это время один из часовых заорал:
— Не разговаривать по-русски!
Я пошел прочь, но крикнул еще раз:
— Подумай, Ванька! Тебе и партия твоя не простит за то, что так дешево кончишь. Не имеешь права ты этого делать. Жить надо остаться, чтобы, при случае, опять делать свое дело.
Я хотел задеть его поглубже, чтобы расшевелить его и заставить призадуматься. Мне все-таки немного жалко стало этого дурака. Пускай бы он жил. Черт с ним. Но он больше даже не взглянул на меня. А часовой опять заорал:
— Проваливай-ка отсюда, парень, а то как бы ты рядом с ним не оказался…
Но я уже ушел.
И к вечеру этого дня мне дали наконец военное обмундирование и оружие. Сначала мне предложили на выбор: автомат «суоми», немецкую винтовку с тесаком или русскую. Я выбрал русскую. Как-никак, русские командиры на летних лагерных сборах уже показали мне, как с ней обращаться, а в немецкой винтовке и в «суоми» я мало понимал.
Мне предложили показать мое уменье перед двумя чучелами, и я показал им свое уменье.
Что-то все время щемило мне сердце в тот вечер, и мне хотелось куда-нибудь уйти поскорее и остаться одному, чтобы обдумать кое-что. Но люди, как нарочно, не отпускали меня от себя, и я злился неизвестно на кого.
Я показал им, как нужно действовать русским штыком. Я торопился, чтобы скорей отвязаться и уйти, и у меня получилось так здорово, что только ветер свистел вокруг штыка. И они сказали: «Вот это крепко! Молодец! Вот с такими мы весь мир покорим!»
И они рассказали, как мне пройти в свое подразделение.
Уже смеркалось, когда я вышел на улицу. Я нарочно пошел потише, чтобы обдумать кое-что, но в голове как-то все мешалось, и я ничего не успел обдумать. Я только вспомнил угрюмого Матти Леппялехти, который не дал мне закурить из своего кисета, и пожалел, что его нет здесь возле меня. Больше я ни о чем не успел подумать, потому что как раз в это время мне навстречу попался тот самый суоелускунтовец, который выковыривал грязь из пальцев ног на постели моей матери. Он заорал:
— A-а! Салаинен! Вольная пташка! И ружье успел получить? Бороться за свою свободу решил? Правильно.
Нужно бороться. Мы тебя освободили, а ты теперь нам помогай. Помни, кто тебя от большевиков спас.
И он хлопнул меня по плечу так, что я чуть не выронил винтовку. Не знаю почему, но мне на этот раз захотелось толкнуть его прикладом в бок или куда-нибудь в другое место. И я скорей прибавил шагу, чтобы на самом деле не обидеть того, кто освободил меня от таких людей, как Егоров.
Уже стемнело, когда я пришел в солдатскую часть, занимавшую здание школы. Первым навстречу мне попался толстощекий парень, который так сильно чавкал за столом моей матери. Увидев меня, он сразу заворчал:
— Ну вот, давно бы так. Теперь и сестра и братец— оба пристроились, а то прятал, прятал…
Я подскочил к нему:
— Как оба пристроились?!
А он продолжал бурчать:
— Один в солдатики пошел, а к другой прямо на сенокос легковой автомобиль подъезжает…
— Где сестра?! — заорал я, не помня себя. Но он отстранил меня рукой и прошел мимо. Я подбежал к нему сзади и начал трясти свободной рукой за плечо.
— Где сестра! Говори, где сестра?!
Тогда он буркнул:
— У Эркки Пикуранта спроси.
Я больше ничего не стал спрашивать. Я выскочил за дверь. Кто-то закричал:.
— Стой! Стой! Нельзя без разрешения!
Но я побежал в темноте по улице прямо к себе домой с русской винтовкой в руках. Я забыл ее бросить в казарме.
В кухне нашей горел свет. Мать навалилась грудью и лицом на стол и плакала так, что тряслась ее спина. Там же был Эркки. Он уже собирался уходить, когда я вошел, и мы столкнулись лицом к лицу.
Я посмотрел туда и сюда и закричал:
— Где Лиза?
Мать сразу подняла голову и выпрямилась. Все лицо ее было залито слезами.
— Хейно! Хейно! Это ты, Хейно? Нет у нас больше Лизы…
— Где Лиза?!
Я орал так, что прыгало пламя в лампе и у меня самого звенело в ушах. Я орал и смотрел в упор на Эркки. А он взял меня за руку и сказал:
— Тише, Хейно. Будь благоразумен. Подумай: что может быть дороже родины…
Но я стряхнул его руку и снова заорал:
— Где Лиза? — И я обратился к матери: — Что здесь произошло? Ты скажи, мама. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, мама! Где Лиза?
Но я уже понимал. Я уже отлично все понимал. Но мне было страшно от своей догадки, и я, как сумасшедший, продолжал кричать:
— Где Лиза? Лиза где?
И я пятился к двери, загораживая Эркки выход. А он вильнул туда-сюда своим тощим телом и остановился, оглядываясь по сторонам.
В моих руках была винтовка. Русская винтовка со штыком. Она дрожала в моих руках, когда я смотрел на Эркки. И только когда мои глаза встретились с глазами матери, винтовка перестала дрожать в моих руках.
— Да, — сказала мать и сжала губы. — Это все он.
И она стала смотреть в сторону.
А я поднял винтовку над головой, как только мог быстро, и ударил Эркки прикладом в лицо. Он хотел защитить свое тощее лицо руками, но все равно я ударил его по рукам и по лицу так, что он опрокинулся спиной на плиту. А я добавил ему еще и еще, пока он совсем не свалился на пол. Он потянулся было за своим ножом, но я ударил его еще раз по голове, и он перестал двигаться.
Я мог бы сразу проткнуть его штыком, но я не хотел пачкать свой дом его вонючей кровью. И я сказал матери.
— Его убрать надо, мама. Куда-нибудь под пол. А я пойду за Лизой. Уберешь, мама?
И я весь дрожал, когда говорил это.
Она уже не плакала. Глаза ее прошлись по комнате, и она ответила спокойно:
— Да, я уберу его, Хейно. Иди.
Она была настоящая финская женщина, моя мать. Но я не успел даже поцеловать ее на прощанье. Я снова побежал по темной улице прямо к дому Степана Ивановича.
В это время начался дождь. Первые крупные капли упали на мое горячее лицо, но я даже не почувствовал их тогда.
Часовой у крыльца сделал шаг вперед, и я узнал форму солдата суоелускунта. Кто-то другой стоял на крыльце, прячась от дождя. Я торопливо сказал по-фински то, что придумал по дороге:
— Срочно к капитану Вайсбергу с рапортом!
Я уже раньше слышал фамилию этого офицера.
Суоелускунтовец что-то сказал по-немецки, и с крыльца голос буркнул:
— Хирайн[10], — и часовой-эсэсовец тоже посторонился, давая мне дорогу.
Я пробежал сени и ворвался в комнату. Я должен был вежливо постучать сначала и спросить разрешения. Но я вбежал и крикнул:
— Лиза! Лиза!
Но никого не было в первой комнате, а из второй комнаты выглянул эсэсовский офицер и выпрямился по-военному, глядя на меня вопросительно.
Но сквозь раскрытую дверь я уже увидел во второй комнате Лизу и бросился к ней. Она лежала на кушетке, запрокинув голову, и глаза ее были закрыты.
Офицер подскочил к ней первым и быстро поправил на ней платье. А потом он схватил со стола стакан с водой и начал на нее прыскать изо рта. Лицо ее и без того уже было мокрое. Он уже прыскал на нее до моего прихода, но не мог привести ее в сознание. Но отчего же она была без сознания, моя бедная Лиза?
— Лиза, — позвал я, — Лиза!
Я приподнял ее мокрую голову левой рукой и, трогая ее лицо своими губами, снова позвал ее тихо:
— Лиза, Лиза…
И она услышала наконец. Большие синие глаза ее открылись, и она стала приподниматься на кушетке. А офицер стоял и смотрел со стаканом в руке.
Я помог ей приподняться левой рукой, потому что в правой руке у меня все еще была винтовка. Она узнала меня, но смотрела куда-то мимо и все шептала: «Домой, домой…»
Я поднял ее на ноги, довел до дверей и пропустил вперед, чтобы не толкнуть ее в дверях.
— Иди, иди домой, Лиза, — сказал я. — Иди домой.
И она вышла, согнув плечи и держась рукой за косяк. Платье ее не было как следует расправлено…
Я все еще плохо соображал, что все это значит. У меня все перемешалось в голове, и я хотел, чтобы рядом оказался кто-нибудь большой и сильный, который помог бы мне разобраться во всем этом. Как я жалел, что оторвался от Леппялехти. Мне казалось, что если бы он в то время оказался рядом со мной так близко, чтобы я мог прикоснуться к его огромному плечу, то я бы наверно знал, что делать. Но я был один. Перед моими глазами прошла, согнув плечи и пошатываясь от слабости, моя бедная Лиза в помятом платье, а я стоял, как истукан, и ничего не делал. И я хотел кричать и плакать от злости на себя. Но в это время кто-то тронул меня за плечо, и я оглянулся.
Эсэсовский офицер сказал по-фински: «odotta»[11] и закрыл двери. Потом он достал бумажник и стал зачем-то отсчитывать советские деньги. Я стоял, и смотрел, и ждал. Бумажки мелькали между его пальцами так быстро, что у меня зарябило в глазах. Я не сразу понял, что он хочет, но когда он отсчитал несколько десятков мелких бумажек и сунул их мне, махнув при этом рукой на дверь, я понял, что он хочет, и я понял вообще все, что здесь произошло. И бумажки выпали из моей руки на пол.
Я шагнул к офицеру, сам еще не зная хорошенько — зачем, а он шагнул от меня. Я ничего ему не сказал, только разевал рот и хлопал глазами, глядя то на его погоны, то на маленькие черные усики над его красными губами. Но он шагнул от меня назад и крикнул мне по-фински:
— Pois! Mene pois![12] — и оглянулся на револьвер, который лежал на столе.
Но на меня его финские выкрики не действовали. Плохо он выучил финские слова для того, чтобы командовать здесь. Лизу, опозоренную Лизу, видел я перед своими глазами. Больше я ничего не хотел понять.
Я прыгнул вперед, чтобы не дать офицеру схватить со стола револьвер, и выставил вперед штык. Но он оказался ловким дьяволом. Он перескочил через мой штык и все-таки схватил револьвер.
Но я тоже не ждал. Я не дал ему даже повернуться ко мне лицом и ткнул его в бок штыком раз, два и три. Я видел, как из него побежала кровь, видел, как он сполз по краю стола на пол. Я слышал, как он страшно закричал, видел, как открылась дверь и в комнату вбежал немецкий часовой.
Тогда я ударил прикладом по лампе, разбил стекло и дунул на огонь. После этого я отскочил в сторону так далеко, что немецкий часовой проскочил мимо. А я и его тоже ткнул в темноте наугад штыком и ударил прикладом.
Я очень здорово ворочал в этот вечер винтовкой, в точности так, как меня учили русские командиры на летних лагерных сборах.
Немецкий часовой тоже закричал, но не упал, и начал тыкать в темноте своим тесаком куда попало. Тогда вбежал финский часовой и заорал в дверях:
— Что здесь такое?!
А я крикнул по-фински:
— Немцы финнов бьют!
И он тоже сунулся в темноту комнаты. Но я его не тронул и выскочил вон.
К крыльцу бежали какие-то люди с винтовками и автоматами. Я увидел на них немецкую и финскую форму. Некоторые из них попробовали загородить мне дорогу, но я еще раз крикнул: «Немцы финнов бьют!» и побежал дальше. Кое-кто из них побежал за мной.
Тогда я свернул в боковой переулок и, пробежав еще немного, пошел шагом, держась поближе к заборам.
Мне очень хотелось узнать, где Лиза и дошла ли она домой. Но как тут узнать, когда за твоей спиной черт знает что творится и по твоим следам бегут и рыщут какие-то чужие люди! Кто они такие? Кто их звал сюда? И какое право они имеют гнаться за мной, свободным человеком? Они пришли сюда, загадили мой дом, растерзали мою сестру и теперь гонятся за мной, как будто я собака.
Мне хотелось колоть штыком направо и налево, хотелось проткнуть еще какого-нибудь насквозь и ударить прикладом. Я хотел колоть, и бить, и кричать во все горло, потому что мне было больно. Что-то щемило и грызло мне грудь, и я хотел разогнать эту проклятую боль.
И вдруг кто-то крикнул мне по-фински в самое ухо:
— Назад! Нельзя сюда подходить! Ты опять лезешь! Сколько раз говорил!..
И я увидел перед носом того самого человека, который уже грозил мне арестом.
— Пошел ты к черту! — сказал я.
А он выставил штык, щелкнул затвором и снова заорал:
— Назад!
И он еще смел на меня орать! Меня, у которого Лизу… И опять все перемешалось в моей голове. Я прыгнул вперед, ударил по его винтовке так, что она откачнулась в сторону, и проткнул его штыком насквозь. Я проткнул его без всякого труда, как чучело на ученье, и даже сам удивился.
— На, гитлеровский холуй! Получил?
Он забился на земле, но я только пнул его ногой. Не будет больше кричать на меня, сволочь. Стоял бы и молчал на своем посту, если жить хотел. Пускай-ка вот теперь покараулит здесь, продажная шкура. Кого он тут караулит?! Я постоял немного на месте и хотел уже идти куда-нибудь подальше, как вдруг вспомнил, кого он тут караулил. И я сразу бросился к сараю, отодвинул засов, открыл дверь и крикнул:
— Ванька!
В темноте кто-то заворочался, вставая на ноги. Я бросился туда и, держа винтовку штыком кверху, начал щупать в темноте свободной рукой.
— Ванька!
— Ну что? — спросил он из темноты.
— Выходи скорей отсюда. Скорей!
— Куда?
— Выходи, тебе говорят!
Я нащупал его в темноте и начал подпихивать к выходу. Он упирался. Все-таки я его выпихнул на дождь и слякоть. И здесь я увидел, что руки его связаны сзади. Я приставил винтовку к стене и осторожно перерезал ему ножом веревку на руках. Потом я шепнул:
— Бери ружье у часового и бежим скорей.
Но он не двигался с места и молчал, глядя на меня в темноте исподлобья. Я спросил его:
— Ты возьмешь винтовку или нет?
Он молчал.
— Бери, говорят тебе!
Я поднял винтовку и сунул ему в руки.
— Бежим, а то поздно будет! Слышишь — орут?
В темноте сквозь дождь кто-то уже подбирался к нам. Но Егоров продолжал стоять на месте.
— Ты пойдешь или нет, дьявол?
Я со злости ткнул его кулаком.
И в это время кто-то заорал в темноте по-фински:
— Вот он! Сюда! Сюда! — и бросился на меня. По голосу и росту я узнал того самого солдата, который ковырял пальцем свои грязные ноги на чистой постели моей матери.
Он бросился на меня, а я бросился на него, потому что я был злее голодного волка. Я не помню, что было у него в руках, но я выбил из его рук все, чем он махал, и проткнул его штыком в нескольких местах раньше, чем он упал.
— Бежим, — сказал я Егорову, и на этот раз он побежал, подпираясь на ходу винтовкой.
И вот мы бежали и шлепали с ним по грязи под проливным дождем, а потом перелезли через забор и побежали по огородам. Он все время припадал на одну ногу и очень тяжело дышал, но не отставал от меня. И мы еще раз перелезли через забор и побежали полями прямо к реке.
Но за нами все-таки гнались. Мы слышали то окрик, то свист с разных мест, позади нас и сбоку. На нас устроили настоящую облаву. И когда мы добежали до спуска к реке, к нам навстречу из-за груды камней выпрыгнули два суоелускунтовца.
Но Егоров не видел их. Он еще раньше споткнулся обо что-то своей хромой ногой и, скрипнув зубами, покатился вниз по скату берега вместе с винтовкой. А я встретил этих двоих на штык. Если бы винтовка была заряжена, я успел бы выстрелить в них, но у меня совсем не было патронов, и я принял их на штык.
Мне было тяжело действовать винтовкой, потому что я еще не отдышался, но я был очень обозлен и сам прыгнул к ним навстречу.
У одного из них был автомат. Он приставил его к плечу и хотел дать очередь, но вдруг остановился, вгляделся в меня сквозь темноту и дождь и заорал удивленно:
— Салаинен!
Оказывается, это был тот самый толсторожий парень, который так громко чавкал за моим столом и который так жадно облизывался, когда говорил о моей Лизе.
Он остановился, разиня рот, а я воспользовался этим и, пригнувшись пониже от его автомата, вогнал ему штык прямо в брюхо. Он только ахнул.
Это было не совсем хорошо пользоваться таким случаем, но черт с ним. Он был большой, жирный и сильный, а я — маленький, жилистый и слабый, которого все на свете обижали. Я имел полное право действовать, как мне было выгоднее, и я ничуть не пожалел его.
Но от второго я не успел увернуться. Второй навалился на меня сбоку и опрокинул. Он сначала хотел ударить меня по голове рукояткой пистолета, но промахнулся и только сшиб мою солдатскую кепку.
Зато грудью он толкнул меня так, что мы оба покатились вниз по склону берега. Падая, я узнал также и его. Это был тот самый унтер, у которого были такие сердитые глаза. Сползая с ним вниз, я почувствовал, какие у него крепкие кулаки.
Я укусил его за руку, и он выронил пистолет. Но от этого мне не стало легче. Все равно винтовкой я уже не мог действовать. Я выпустил ее и полез за своим пуукко[13]. Я не сразу его нащупал у пояса, а когда нащупал, то не сразу сумел выдернуть. Я слишком туго забил его в чехол после того, как освободил Егорова от веревок.
А тем временем мы с унтером все еще сползали вниз. Я лежал на спине, а он давил меня сверху, колотил и душил. У него были не руки, а молоты. Когда я попробовал оторвать их от моего горла, я понял, что не оторву, и мои руки показались мне самому слабыми, как цыплячьи лапки.
Я хотел укусить его за щеку или нос, но не мог поднять головы. А он душил меня и свирепо усмехался прямо мне в лицо. Он видел, что он сильнее и что победа за ним.
Я все-таки выдернул наконец из чехла свой нож, но в это время мне уже не стало хватать воздуха. Я начал дергать руками и ногами, но ничего не мог поделать. В глазах у меня потемнело, и я не помню, что я делал своим ножом. Я успел только почувствовать, что спина моя больше уже не сползает вниз по мокрой глине, и на этом кончилось для меня все…
Когда я открыл глаза, дождь все еще лил. Егоров спихивал с меня размякшего и тяжелого унтера, и я почувствовал, как вместе с дождем на мою руку капнуло что-то теплое.
— Скорей, — сказал Егоров, когда увидел, что я зашевелился. Он сунул мне мою винтовку и пошел к реке.
А я не пошел к реке. Я сел, подтянув под себя ноги, и остался на месте. Там, наверху, за моей спиной перекликались и пересвистывались те, кто нас искал. Они могли в любую минуту сбежать вниз по глинистому мокрому обрыву, а я сидел, не трогаясь с места, и со злостью смотрел на Егорова, который ковылял к воде, опираясь на свою винтовку.
Не хватало еще, чтобы он меня выручал, хромой черт! Очень мне нужна была его помощь — кто его просил? Я чуть не плакал от такой обиды. Рядом со мной лежал мой пуукко, который я выронил из рук. Даже его я не мог удержать, жалкий курносый гриб.
Я поднял нож и сунул его в чехол. Егоров оглянулся на меня и полез в воду. А я все еще сидел. Зачем он оглянулся? Уж не думал ли он, что я полезу за ним? Напрасно он так думал. Обойдутся здесь и без него…
Егоров вошел в воду по грудь, а я все сидел. Наверху кто-то крикнул:
— Внизу надо посмотреть! Внизу, у реки! Не упу-ска-ай!
И после этого послышалась также короткая немецкая команда. Тогда и я не стал ждать. Я тоже побежал к реке и вошел в воду. Вода в Кивийоки была холодная, но я и без того уже был весь мокрый и поэтому не почувствовал большой разницы. Егоров уже плыл к середине реки, выставляя над головой винтовку. Поплыл и я, держа винтовку над головой.
Течение отнесло меня гораздо ниже Егорова. Когда я начал вылезать на противоположный берег, то услышал чужие голоса позади себя у самой реки. Они уже сбежали с обрыва вниз, но поздно. И сквозь дождь и темноту они не могли увидеть нас на этом берегу.
Я прошел немного вверх по берегу и увидел Егорова. Не знаю, ждал он меня или нет, увидел меня или нет. Но когда я увидел его, он повернул в лес.
Дороги наши были с ним разные. Но я все-таки пошел за ним. Я должен был сказать ему, что я плевать хотел на его помощь и что пусть он от меня благодарности не ждет. Но я не сразу нашел его среди деревьев. Он уже далеко ушел. Мне пришлось немного пробежать, чтобы поравняться с ним.
Он шел и хромал, опираясь о землю винтовкой. А я стал придумывать, чем бы уколоть его посильнее.
— Прытко шагаешь, — сказал я по-фински. — Мало тебя там трясли?
Он молчал, продолжая ковылять вперед, и я тоже помолчал немного. У обоих нас хлюпала в сапогах вода. Дождь уже начал переставать, но с деревьев по-прежнему текло на наши головы. Я был без шапки и чувствовал каждую каплю. А он сумел сохранить на голове свою кепку, и это еще больше злило меня. Я покосился на него и сказал:
— Попрыгаешь теперь! Это тебе не агитировать…
Он вдруг замедлил шаги и прислонился плечом к стволу большой сосны. Я тоже остановился. Я видел, как часто поднималось и опускалось его плечо и как покачивалась в его руке финская винтовка с тесаком, на котором еще виднелись не совсем смытые дождем следы крови унтера.
Я все еще не высказал ему всего, что хотел, потому что никак не мог найти сразу подходящих слов.
Но я ждал, когда он снова тронется вперед, чтобы сразу же выложить ему все.
Неинтересно было задевать его, пока он так стоял. Трудно пронять каким-нибудь словом человека, который свесил голову и дышит часто, как овца в жару.
И я уже решил отложить это на другой раз и уйти обратно, потому что больше мне с ним нечего было делать. Но в это время его плечо поползло вниз по шершавому стволу сосны, ноги подогнулись и он лег на землю, выпустив из рук винтовку.
Я подождал немного, прежде чем уйти. Он не шевелился. Я окликнул его:
— Ванька! Ванька!
Но он молчал и не шевелился. Тогда я подошел к нему и приподнял его голову. Она была мокрая и холодная, и кепка с нее свалилась наконец. На этот раз и он не удержал ее на своей большой круглой голове. Но я поднял ее и снова надел на его мокрые волосы.
Я не знал, что с ним делать. Я позвал его еще раза два, но он опять не ответил. Тогда я положил его голову обратно на мокрую землю, встал и оглянулся по сторонам среди темного сырого леса.
Мне нужно было обратно, но куда идти? Домой или в ту самую воинскую часть, куда меня зачислили солдатом? Едва ли я попал бы домой или в ту воинскую часть. За рекой меня искали вовсе не для того, чтобы отвести домой или в ту самую часть.
Я топтался один среди темного леса, и сырая хвоя чавкала у меня под ногами. Никто ничего не мог мне посоветовать. Я был один.
— Ванька! — позвал я опять. — Ванька!
Но он, как нарочно, продолжал молчать и лежать без движения. А я не знал, что делать. Я топтался возле него, как привязанный, и никуда не уходил. Он-то, наверно, знал, что делать, но он лежал, дьявол, и ему было наплевать на меня. Никому на свете не было сейчас до меня никакого дела. И я готов был заскулить, как бездомный щенок.
Я опять подошел поближе к Егорову. Куда мне было еще идти? Он был единственный, кто еще оставался рядом со мной. Как я мог от него уйти?
И, стоя так возле него, я начал думать про себя о том, что он вовсе не был для меня таким плохим человеком, этот русский лесной рабочий Егоров Иван. Я хорошо помнил, как он пододвигал мне варенье, сахар и наливал чай за столом Степана Ивановича.
И он всегда встречал меня с улыбкой. Это я хорошо помнил. Где бы мы ни встретились и как бы озабочен он ни был, но он всегда встречал меня с улыбкой, всегда протягивал руку и говорил:
— Здравствуй, товарищ Салаинен.
Разве врагу протягивают руку? Такой человек, как Егоров, никогда не улыбнется врагу и никогда не протянет ему руку. Как это мне раньше не пришло в голову!
Я топтался возле Егорова и думал так напряженно, что заболела голова.
Ну пусть он русский, черт с ним. Но разве он не помог мне перевезти хутор вместе с моим старым садом, доставив этим переездом так много радости моей бедной Лизе? Он вовсе не обязан был делать это. И, может быть, он потому и сделал это, что он был русский и русская добрая была у него душа?
А Степан Иваныч! Разве не такой же, как Егоров, был седой Степан Иваныч, русский учитель, который так непростительно глупо погиб? Он лежал в сырой яме на опушке леса, по которому так любил бродить, и густой аромат земляники сомкнулся над его могилой…
Я вспомнил, как наутро унтер, из отряда Суоелускунта спрашивал у всех:
— Кто его зарыл ночью? Кто прикрыл его сосновыми, еловыми сучьями и насыпал над ним могилу?
Но никто этого не знал. Он смотрел на меня, когда спрашивал это, но я тоже не знал. Я так и ответил ему. А доказать что-нибудь другое он не мог, потому что он тогда вместе с теми двумя пьяными спал, как убитый, до самого утра. Откуда ему было знать: уходил я ночью из дому или нет? И никто никогда ничего не будет об этом знать. Я спал в ту ночь, как и все другие. Я готов был в этом поклясться кому угодно, даже Егорову. Вот и все.
— Ваня! — позвал я Егорова. — Ваня!
Я прислонил к дереву винтовку, встал перед ним на колени и снова слегка приподнял его от земли. Он был весь мокрый и холодный насквозь и очень тяжелый. Такие люди не бывают легкими.
Я прижал его к себе, чтобы отогреть немного, но чем отогреть. Я сам продрог, как пес. И я готов был заплакать от злости на то, что не могу ему ничем помочь. Я только покачал его слегка, как будто хотел убаюкать. И он вдруг открыл глаза. Я сразу же отпустил его и отодвинулся в сторону. А он узнал меня, улыбнулся и сказал по-фински:
— Ослаб я очень…
Я спросил его по-русски:
— Они били тебя?
Он кивнул головой и ответил тоже по-русски:
— А главное, ни разу не накормили.
Тогда я быстро выпрямился и начал хватать себя за мокрые карманы. Ведь мать что-то сунула мне на дорогу. А когда я переоделся в форму солдата, то переложил все, что у меня было, в новые карманы.
И я нашел у себя кусок пирога с черникой. Но на что он был похож! Бумага намокла и прилипла к нему, и сам он раскис и развалился. Я не знал, что делать с этим липким комком, и держал его перед собой в руках, как дурак. А Егоров улыбнулся и взял его. Он разломил его пополам и протянул половину мне. Но я сказал:
— Зачем? Не надо мне. Ешь, ешь!
А он ответил:
— Нет, возьми и ты, Хейно.
И после этого я больше ничего не мог ему сказать. Я только отмахнулся и отошел прочь. Слезы душили меня, и я не мог больше выдержать. Никогда прежде не называл он меня «Хейно», а тут назвал. Это что-нибудь да значило. Это очень много значило. Я не знал, куда деваться. Голова моя была готова лопнуть от боли, и мне хотелось кричать. Я лег позади деревьев на мокрую прошлогоднюю хвою и заплакал.
Черт его знает, почему я был такой плаксивый в ту темную сырую ночь! Я заплакал, уткнувшись лицом в хвою, и начал ее хватать губами и жевать, чтобы он не услышал, как я плачу.
Но он услышал, потому что я в конце концов разревелся, как баба, и не мог удержаться. А когда я немного успокоился, он подошел ко мне, тронул за плечо и тихо спросил по-фински:
— Пойдем?
— И я ответил ему по-русски:
— Пойдем.
Он сунул мне в руки мою винтовку, и мы пошли.
Я не знал, куда он шел. Но я готов был теперь идти за ним куда угодно — все равно. И пусть бы кто-нибудь посмел теперь его тронуть у меня на глазах. Я знал бы, что мне делать с моей винтовкой и штыком.
Я шел за ним и думал о том, как сильно мы все ошиблись, враждуя с русскими. Никогда не найдешь на свете друга лучше, чем русский человек. И какой сильный этот народ! С таким ли народом не дружить!
Егоров шел впереди, и по временам я различал в просвете деревьев его широкую спину. Винтовки наши задевали за листву, и на нас сыпались брызги.
Я шел за ним, и мысли мои шагали вместе со мной.
В мире творилось непонятное. Все так же мирно поднималось и садилось солнце, окрашивая небо теми же красками. Но на земле совершались непонятные и страшные дела.
Вольный финн призвал в свои леса жестокого, выхоленного гитлеровца и не мог понять, что этим отдал себя в его власть. Русский бился с этим гитлеровцем с такой яростью, что гудела земля и трещали кости. Получалось так, что он бился за свободу того же финна. А что делал в это время финн? Что делал финн?
Я слегка ускорил шаги, поравнялся с Егоровым и спросил по-русски:
— Мы еще вернемся, Ваня?
И он ответил мне по-фински:
— Да. Вернемся, Хейно.
И я опять спокойно пошел за ним. Раз он сказал «вернемся», значит так и будет. Лиза и мать будут свободны, и дом со старым садом — тоже.
Мы шли, а над нами в темноте шумели мокрые вершины. Мы шли долго, до самого утра, и я не устал нисколько— вот что было удивительно. Я только беспокоился за Егорова, который продолжал хромать, опираясь на винтовку.
На рассвете мы перешли по зыбкой поверхности какое-то болото и снова вошли в глухой лес. И здесь нас окликнул человек с автоматом:
— Пропуск!
Егоров ответил:
— Никакой пощады!
Человек с автоматом молча кивнул Егорову, и мы вошли в землянку.
И первый, кто поднялся нам навстречу при свете коптилки, был широкий и могучий, как сама земля, Матти Леппялехти. Он только что собирался ковырнуть трубкой в своем кисете, но, увидев Егорова, потянулся к нему, вытаращив от радости глаза и разинув рот, в котором все зубы были целы и крепки, как у лошади. И они поцеловались, черти, русский с финном, и я отвернулся, чтобы не особенно мешать им.
А потом к Егорову потянулись другие руки, и я отодвинулся еще дальше. В комнате было тесно. Я нащупал в полумраке скамейку и сел на нее, глядя в маленькое окно, за которым рассветало все больше и больше. А рядом со мной сел широкий и грузный Матти Леппялехти. Он покосился на меня раза два, черпая трубкой в своем кисете, и спросил:
— Трубка есть?
У него был густой и сильный бас, но слегка глуховатый, как будто шел не из богатырской груди, а из-под земли.
Я кивнул головой, и он протянул мне свой кисет. Я торопливо достал из кармана мокрую трубку и набил ее табаком. А он зажег спичку и сначала ткнул огоньком в мою трубку, а потом в свою. Проклятые слезы опять полезли из моих глаз, но неудобно было их вытирать. Ладно. Можно было считать, что это у меня от дыма. Я подвинулся слегка на скамейке так, чтобы чувствовать своим плечом плечо Леппялехти, и больше уже не шевелился.
И так мы сидели рядом с ним в то бледное летнее утро и курили наши трубки, глядя на стекло маленького окошечка лесной землянки. Все было на своем месте там, где слышалось медленное и могучее дыхание Матти Леппялехти.
С тех пор прошло немало времени и совершилось немало дел. Я бы рассказал о них, если бы умел рассказывать. Но это не так важно. Пусть люди думают, что я ни с кем на свете не желаю знаться. Но я-то хорошо знаю, возле кого мое настоящее место.
За окном кружатся снежинки, и мысли мои ведут такой же веселый хоровод. Главное, хорошо то, что я наконец знаю, что мне делать и куда идти. Этого мне не хватало раньше.
1943
МЕСТЬ ПЕККИ
Черт его знал, что так получится. Русские рванулись вперед, как дьяволы, и только очень быстрые ноги помогли некоторым финским ребятам уйти от их удара за каменное укрытие соседнего скотного двора. Но Пекка Хильясало не имел таких быстрых ног и был настигнут крайним русским солдатом на краю ягодного сада.
Сперва столкнулись их автоматы. Они столкнулись в тот момент, когда дуло автомата медлительного Пекки повернулось назад, чтобы сразить русского, а приклад русского автомата завершал взмах вслед затылку Пекки. Приклад русского получил от быстроты и силы этого взмаха дополнительный вес в сотни килограммов. И когда он вместо затылка финна встретил на своем пути ствол его автомата, руки финна не удержали оружия. Краем глаза финн успел заметить место его падения, и какой-то долей мозга успел сообразить, что попытаться отпрыгнуть к нему и подобраться слишком невыгодное дело.
Но пока одна доля его мозга занималась этим соображением, руки его уже впились в автомат русского.
А руки у него были тяжелые и сильные, способные поднимать многие пуды. Он рванул ими русского к себе, и лица их сблизились, выражая гнев и ярость. Пот обильно покрывал широкий лоб русского и, дополняемый каплями из-под зеленой пилотки, сбегал вниз по загару его молодых щек, блестя на солнце неровными, извилистыми полосами. В его светлых глазах, смотрящих прямо в глаза Пекки, была угроза, и рот раскрылся, обнажая зубы, тоже не для улыбки. Досадуя на задержку в своем движении вперед, он попробовал высвободить свой автомат из рук Пекки, ворочая им вправо и влево. Но черта с два! Не на такого он напал. Пекка рванул его к себе еще раз и опрокинул на землю вместе с автоматом. Продолжая вырывать автомат, он уперся в русского ногой. Но этого не стоило делать. Русский вывернулся из-под его ноги, заставив ее уйти в пустоту. А на второй ноге Пекка не удержался и тоже упал, ткнувшись головой в малиновый куст.
Падая, он выпустил автомат из рук, чтобы опереться на них при падении. И тяжесть, которую приняли на себя его руки, была настолько солидной, что он не сразу смог потянуться за русским, когда тот вскочил на ноги. Стебли малины помешали ему с нужной быстротой вытянуть руку, и вместо горла он вцепился русскому в гимнастерку. Рука скользнула по крепкой материи, застряла на кармане и вырвала его, но не остановила русского, успевшего не только вскочить, но и плотнее прижать рукой пилотку к своим светло-русым волосам, схожим по цвету с волосами Пекки. И когда Пекка протянул за ним вторую руку, он получил по ней такой удар прикладом, от которого треснула кость. Он взревел от этого удара и на целую минуту перестал видеть божий свет. Если бы русский не спешил, дело могло кончиться хуже, но русский торопился, и когда Пекка от его удара приник отяжелевшей головой к земле, он умчался за своими.
Когда блеск солнца снова проник в глаза Пекки, светлевшие двумя голубыми точками на его широком темном лице, он первым долгом перевалился поглубже в малиновый кустарник, подтянув к себе поближе тяжелые неуклюжие ноги, не сумевшие унести его от беды. Упираться на правую руку он не мог. Проклятый русский переломил ее у плеча. А левая рука все еще что-то сжимала. Разжав пальцы, Пекка взглянул на то, что из них выпало, и пролежал некоторое время без движения, пропуская мимо себя русские голоса и топот.
Ждать пришлось долго. И пока он ждал, пригибая голову как можно ниже, глаза его поневоле видели перед собой оторванный русский карман да еще какой-то клочок бумаги, оказавшийся в нем. Это был белый конверт, слегка измятый жесткой рукой Пекки. Что-то было написано на нем, должно быть имя этого проклятого русского, а внизу — имя и адрес того, кто ему писал. Дьявол мордастый, как он ударил его, Пекку, по руке. Этой рукой Пекка мог поднять над головой гирю в пятьдесят кило весом, а русский взял и переломил ее, как ненужную сухую хворостинку, своим глупым автоматом.
Но что-то нужно было делать, если он собирался ускользнуть от русских. Опираясь на левую руку, Пекка слегка приподнялся и сел, стараясь не колыхать стебли малины. Правая рука пошла к черту. Это он ясно понимал. Двигать ею он уже не мог, и когда приподнялся, то по ней прошла такая боль, что он даже застонал слегка, скрипя зубами. Взяв правую руку за кисть, он положил ее на колено, чтобы придать ей согнутое положение. В этом положении он достал левой рукой из кармана бинт и стянул им сколько мог место перелома выше локтя, подтянув концом бинта кисть поврежденной руки к шее, чтобы удержать руку в согнутом положении.
Но и после этого он вынужден был просидеть еще несколько часов среди зеленых ягод малины, ожидая вечера. Конечно, рука срочно требовала врача, но не попадать же ради этого к русским. Не хватало еще такого позора, чтобы он попал на попечение к своим смертельным врагам. Один русский подбил его, а другие русские будут лечить. Что может быть обиднее?
И как это он упустил его, не ответив на удар? Он мог бы достать его хотя бы ножом. О, черт! Ножом надо было его ткнуть, а не отрывать у него карман с ненужным клочком бумаги. Догадайся он вовремя выхватить нож, русский лежал бы сейчас тут с выпущенными кишками, а он, Пекка, сказал бы ему: «Что? Получил? Будешь знать, как трогать Пекку Хильясало». А теперь вместо русского перед ним только кусок его кармана и смятая бумажка с его именем. А на черта ему имя без самого русского?
Пекка шевельнулся, чтобы отшвырнуть в сторону лоскут солдатской гимнастерки и скомканный конверт, но резкая боль в правой руке заставила его замереть в одном положении. Проклятый русский! О, дьявол! Подвернись он сейчас, Пекка прикончил бы его одной рукой, несмотря на его здоровые лапы. Чертов медведь! Не хватало еще потерять руку из-за какого-то рюсси.
До позднего вечера таился Пекка в тени малинника, стараясь не шевелиться. И все это время близко перед его глазами торчал ненавистный кусок зеленого русского кармана с измятым конвертом. Написанные химическим карандашом буквы отчетливо виднелись на несмятых местах, и почти все они были похожи на финские буквы. Прислушиваясь к тому, что творилось вокруг, Пекка временами ворочал головой вправо и влево, а затем опять возвращал ее в то положение, при котором глазам ничего больше не оставалось делать, как разглядывать эти чужие буквы, составлявшие имя его врага, которого он так непростительно упустил, забыв о ноже.
До поздних сумерек сидел Пекка, пригнувшись над именем и адресом ускользнувшего от его мести русского, а потом осторожно приподнялся, окидывая взглядом ряды малиновых кустов. Они хорошо укрыли его от русских, чьи голоса доносились к нему со стороны дороги. По ней катились теперь их машины и орудия, готовые пробивать в новых местах оборону финнов. Кусты малины уходили в сторону от дороги, опускаясь к луговой низине, над которой уже поднималась белая пелена тумана. А за низиной виднелся лес куда и решил направить свой путь Пекка Хильясало.
Но едва шагнув с места в направлении тумана, он остановился. Что-то ему нужно было сделать, прежде чем уйти отсюда. Сдвинув светлые брови на темном лбу, он медленно повернул вправо и влево свою тяжелую квадратную голову, крепко сидящую на плотной шее. Взять автомат? Но какая ему польза от автомата, если он все равно не сможет из него стрелять? Нести его просто так без пользы в левой руке? Но левая рука понадобится для всяких других дел в дороге. И, неся автомат, он скорее получит пулю от русских, если попадется им на глаза. Все же что-то еще удерживало его на месте, и в поисках причины этого он кинул взгляд себе под ноги.
Да, там оно все еще лежало, имя русского, против которого кипела в нем ярость. В ожидании темноты он убил его в мыслях десятками разных способов, начиная с того, что успел выпустить в него еще до столкновения пулю из автомата, и кончая тем, что легко настиг его в беге и вонзил нож между лопатками. И, убивая его в мыслях разными способами, он привык иметь перед глазами как бы некую долю убиваемого и теперь сразу ощутил нехватку чего-то.
Не нагибаясь вперед, чтобы избежать боли в сломанной руке, Пекка медленно присел, согнув колени. И когда его левая рука коснулась земли, он сгреб ею скомканный конверт с лоскутом русской гимнастерки и сунул себе в карман. Для чего это было нужно, он и сам не мог бы объяснить, но после этого уже ничто не мешало ему двинуться неторопливо вдоль малинника в сторону леса.
Всю ночь без остановки брел он по лесу на север, прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий и громыханью русских машин по дорогам. Встречая болото или озеро, он терпеливо обходил их и затем снова брел в сторону ночной зари. Натыкаясь на дорогу, он предварительно останавливался, высматривая и прислушиваясь, и лишь потом неуклюже перебегал ее на цыпочках, придерживая левой рукой правую. Далее он опять шел своим неторопливым крестьянским шагом, тяжело переставляя короткие, крепкие ноги, обутые в солдатские ботинки.
Недолгие сумерки летней ночи помешали ему уйти далеко, и к восходу солнца он опустился на подсохший желтый мох у края болота, сняв с головы суконную солдатскую кепку. Кусты ивы не были надежной защитой от посторонних глаз, но правая рука не позволяла забираться в густую чащу. С каждым часом она все болезненнее отзывалась на любое его движение. Извлекая из правого кармана штанов кисет, он весь изогнулся наподобие винта, едва не разорвав кармана. Развязывание шнурка кисета тоже доставило ему много хлопот. Проклятый русский! Он сейчас несется, наверно, вперед с той же торопливостью и даже не вспоминает, что оставил по себе такой след. Встретить бы его еще раз!
Один только раз. И уж теперь Пекка знал бы, как с ним разделаться.
Трубка и спички лежали у него в левом кармане куртки. Зажав коробок между коленями, он закурил. Правая рука ныла. Что-то в ней творилось неладное. Он прислушался к боли, сжимая широкие челюсти. Не случилось бы беды. Конечно, можно было выйти на дорогу, и тогда нашлось бы кому спасти его руку. Но там, на дорогах, ему нужен был только один человек. Только один, будь он проклят.
Пекка выкурил трубку, выбил ее о носок ботинка и осторожно откинулся на спину, положив согнутую правую руку себе на живот. Заснул он почти сразу, но не очень спокойным сном. Боль в руке напоминала о себе даже сквозь сон. Рука болела, когда он проснулся во второй половине дня. Что-то грызло ее внутри. Он сел, и боль немного утихла. Рука требовала, конечно, основательной перевязки, но где было ее добиться, не выходя на дорогу?
В левом кармане брюк у Пекки лежали две пластинки сухого хлеба и четыре куска сахара, оставленные от вчерашнего завтрака. Маленький запас пищи он всегда старался иметь при себе в ожидании того, что давала походная кухня. Другие ребята высмеивали его за это. Но хотел бы он знать, чем они питались вчера после того, как русские отбросили их от кухни, от штаба и от личных вещей, оставленных в бараке. Прикончив одну хрустящую пластинку и два куска сахара, Пекка выкурил трубку и снова прилег в ожидании вечера. Хотелось пить, но это можно было сделать в пути.
И опять он брел всю ночь, оберегая правую руку от встречных сучьев, и опять притаился на день. Поваленная случайным снарядом ель приютила его среди своих ветвей. За день он очистил ножом от коры всю нижнюю часть ее ствола, соскабливая с обнаженных мест белую, сладкую пленку. Этим он дополнил свой обед, после которого в левом кармане брюк у него осталось только русское письмо с обрывком гимнастерки. Рука ныла не переставая, но выходить на дорогу он не собирался. Только одно обстоятельство могло бы выманить его на дорогу. И, думая об этом обстоятельстве, Пекка заскрежетал зубами, ударив несколько раз ножом по расщепленному пню ели.
На третью ночь он едва не увяз в болотах, прилегающих к станции Тали. Свирепая перестрелка справа и слева заставила его углубиться в самые непроходимые места. Но зато по ту сторону болот он попал наконец к своим.
Лотты[14] не решились тревожить его распухшую руку и переправили прямо в дивизионный госпиталь. Там у него спросили:
— Давно?
— Три дня.
— Что же ты сразу не явился?
— Куда? К рюссям?
— Да хотя бы к рюссям, если тебе рука дорога. А теперь за нее никто и двух пенни не даст.
Так обернулись его дела. Два пенни. Да, это была неважная цена за руку, поднимавшую когда-то над головой пятьдесят кило. И все оттого, что он вовремя не выхватил ножа. Ножом надо было ударить. Ножом! Перехватить его немного покрепче рукой хотя бы за ногу, чтобы он ткнулся носом в землю, и — ножом!
Все же в походном госпитале с его рукой сделали все, что могли. Под общим наркозом ему снова разъединили изломы кости, которые уже начали неправильно срастаться. Эта операция вызвала новое воспаление, затянувшееся на многие недели. Временами у него поднимался жар, и в полубреду он срывался с койки, требуя дать ему рюссю. Санитар перехватывал его, укладывал обратно и успокаивал как мог.
— Какого тебе еще рюссю? — говорил он. — Нету здесь рюссей.
— Все равно какого, — хрипел Пекка. — Все равно какого.
— А на что тебе рюссю?
— Мне бы только воткнуть в него нож. Только нож воткнуть.
— Э-э, когда хватился, — говорил санитар. — «Нож воткнуть». Попробуй достань их теперь, когда фронт стабилизировался. А раньше где ты был, когда они вперед прорвались? Тогда и втыкать надо было.
— Тогда и втыкать надо было, — соглашался Пекка. — Да… Тогда и втыкать надо было…
И он вновь принимался метаться в постели, скрипя зубами.
Осматривая его руку, хирурги озабоченно переглядывались и все настойчивее поговаривали об ампутации. Но доносившийся до них при этом скрежет его зубов, дополняемый злым блеском воспаленных глаз из-под сдвинутых светлых бровей, заставлял их откладывать свое намерение.
А тем временем крепкий организм делал свое дело. Жар в руке постепенно спал. Это позволило сменить временную шину на гипс. Но до гипса он успел столько раз повредить своей руке, что сращиванье кости затянулось еще на месяц. И даже после этого срока ее нельзя было считать восстановленной. Повторные ушибы отбили у нее охоту срастаться. Когда Пекка выразил по этому поводу свое неудовольствие, лотта сказала ему:
— Не надо было выскакивать из постели в погоне за рюссей да нас пугать.
Но этими словами она только прибавила Пекке горячих углей в тот жар, что пылал в его груди против рюссей.
В походном госпитале Пекка не нашел человека, умеющего читать по-русски. В тыловом госпитале он нашел такого среди санитаров и первым долгом спросил:
— Откуда ты знаешь русский?
Тот пожал плечами и ответил:
— Каждому финну следовало бы знать язык соседа, который в пятьдесят раз многочисленнее.
— А ты сам уж не рюсся ли? Откуда родом?
— Из Хельсинки.
— A-а. Ты, видать, еврей. Они всегда знают все на свете. Угадал я или нет?
— Угадал.
— А я коренной хямяляйнен и могу с гордостью сказать, что в той маленькой деревне Суокуоппа, откуда я родом, нет ни одного еврея.
— Потому-то она не более как маленькая деревня, — сказал санитар.
— А?
— Ты меня зачем звал? — спросил санитар.
— Прочитай мне вот это письмо, — сказал Пекка.
Санитар прочел ему русское письмо. В нем говорилось:
«Родной мой Степушка! Вот мы и домой вернулись. Но радоваться этому не приходится. Одна слава, что домой, а дома-то нет. Немцы при отступлении спалили всю деревню. Даже для скотины места не оставили. Живем мы в землянках. Но и землянки не у всех еще есть. А скотина, какая уцелела, под общим навесом стоит. Туго нам тут без вас приходится, Степушка, ой как туго. Только и живем надеждой, что прогоните скоро этих гадов проклятых с нашей земли и вернетесь домой. Пиши, Степан. Помни, что думаю о тебе постоянно. Девочки наши здоровы и тебе привет шлют. Крепко целую. Твоя Дуня».
А из надписи на конверте можно было понять, что того русского солдата звали Степан Петрович Смирнов и что написала ему это письмо Евдокия Ивановна Смирнова из колхоза «Луч», Еловецкого района, Ленинградской области.
Об этом колхозе и вспомнил Пекка, вернувшись домой. Вспомнил не сразу. Первые дни не было надобности вспоминать — до того обильны были они радостью. Первые дни оба его мальчика так и висли на нем, обрадованные его появлением. Три года они знали об отце только то, что он пребывает «где-то там», где очень опасно и страшно. И вот он теперь был с ними, живой и здоровый. Жена тоже сияла от радости. В первый момент она с тревогой взглянула на его правую руку. Но все тревоги ее сразу развеялись, когда эта рука обняла ее с прежней силой.
А на третий день, приканчивая свою тарелку толченой картошки с молоком, он сказал:
— Пойду опять к Эмилю Хаарла.
— Да, надо, — сказала жена. — Полтора гектара — это все-таки только полтора гектара.
Она была еще молодая и крепкая женщина, но губы ее уже начали стягиваться в мелкие морщины от постоянной озабоченности, и темные волосы заметно поредели. Прошло то время, когда из них получалась толстая коса, свисавшая почти до пояса. Теперь они легко укладывались на затылке в комок, величиной с детский кулак.
— Да, — сказал Пекка, глядя на ее щеки, потерявшие прежнюю округлость. — Надо продолжить у него осушку болота, если он, конечно, без меня не продолжил.
— Нет, — сказала жена. — Хватало у него забот и без того с таким-то хозяйством.
— Он давно вернулся?
— Недели две.
— Пойду завтра. До зимы месяц покопаю. Это двадцать тысяч. После зимы еще месяца на два хватит. А зимой топором поработаю в Мустаниеми. Будем выбираться, как наметили.
— Да, надо, — сказала жена, отбирая у старшего мальчика кусок хлеба, только что взятый им с тарелки. Разрезав кусок пополам для обоих мальчиков, она продолжала — Полтора гектара — это годилось бы где-нибудь возле Хельсинки. Там всю землю можно пустить под овощи, ягоды и фрукты. А на доходы можно еще дом для дачников построить — не только самим прожить. А здесь кому продавать, если даже в Савуселькя рабочие живут своей картошкой.
— Да, но возле Хельсинки тебе землю не продадут, — сказал Пекка. — А если и назовут цену, то на ногах не устоишь.
— А здесь не меньше пяти гектаров надо иметь, чтобы снимать все нужное для самих себя и скотину держать.
— Но здесь тебе и не продаст никто, — сказал Пекка.
— Нет, не продаст, — согласилась жена. У всех соседей та же беда, что и у нас.
— Говорят, возле Корппила можно купить землю, — сказал Пекка.
— Вот бы хорошо! — сказала жена.
— Хорошо-то хорошо, но это станет в четыреста тысяч, если не в полмиллиона марок.
Жена вздохнула и, плеснув мальчикам в кружки остатки молока, принялась убирать со стола. Чтобы подбодрить ее, Пекка сказал:
— Ладно. Выберемся.
Но жена еще раз вздохнула, и в голосе ее была жалоба, когда она сказала:
— Пора бы уж. На таком клочке одному дай бог прожить. И не земля это, а горе. В одной части голый песок, в другой — голая глина. Только на картошке и держимся. Да и мне бы тоже спину разогнуть пора. Три года — и все одна, все одна. И дети на мне оказались в самом трудном возрасте. Теперь хоть скоро к работе можно будет приучать. А я одна билась.
— Ладно, Хенни, — сказал еще раз Пекка. — Теперь все наладится. На пять гектаров нам нужно наколотить— в этом все дело. Считай, что на полтора гектара мы выручим с продажи нашего участка и даже на два, если целину купим. А на остальное вот эти руки добудут. Начнем с болота Эмиля Хаарла.
Но именно болото Эмиля Хаарла оказалось тем самым, что вернуло мысли Пекки Хильясало к русскому колхозу «Луч».
Первый день все шло хорошо. Он обновлял старую канаву, срезая острой лопатой с ее боков наплывы и углубляя дно. Эта работа была ему приятна тем, что быстро подвигалась вперед. За половину дня он продвинулся по следам своей былой работы на такую длину, какую перед войной с трудом прокапывал за два-три дня.
Сам Эмиль Хаарла пришел полюбоваться его работой. Спустившись от своей усадьбы на заливные луга, он постоял немного у того места, откуда канава брала свое начало, и посмотрел вдоль нее в сторону болота, где над ее продолжением трудился Пекка. От него до Пекки канава выглядела такой, словно ее только что прокопали заново. Темно-коричневые срезы торфа на ее боковых скатах все утолщались по мере удаления канавы в сторону болота, а срезы глины все убывали, образуя только нижнюю часть канавы, на дне которой поблескивала вода.
Канава протянулась прямая, как стрела, и Пекка выбросив наверх очередной пласт влажной глины, проверил ее ширину у верхнего края и глубину, подержав для этого свой метровый черенок лопаты поочередно в горизонтальном и вертикальном положении. Дно канавы он измерял двойной шириной железной части лопаты. Все шло гладко в его работе. Увидев подходившего к нему хозяина, он выбрался из канавы и закурил трубку. Хозяин приблизился к нему, неторопливо передвигая длинные ноги в тяжелых сапогах, и сказал тихим голосом:
— Для первого дня дело неплохо идет как будто?
Вид у него был такой, словно он стеснялся немного того, что заставил на себя работать чужого человека, и своими словами старался прикрыть это стеснение. Пекка указал ему подбородком на ту часть канавы, которую еще предстояло очистить. Чем дальше она шла к середине болота, тем больше виднелось в ней воды. И он сказал ворчливо своим басовитым голосом:
— Там было бы легче копать новую, чем очищать старую.
— Да, пожалуй, — согласился Хаарла, помедлив немного, и в его тихом голосе прозвучало такое, словно он признавал виноватым себя за эту воду, что набралась в канаву за три года. И как бы в оправдание своей вины он добавил — Зато от середины болота дальше поведешь новую. Только просеку сквозь кустарник делай не уже трех метров, как договорились.
— Да, — сказал Пекка. — Но еще хватит возни со старой.
И его левая ладонь осторожно прошлась по правой руке выше локтя. Он так ретиво действовал в этот день лопатой, что больная кость руки вдруг снова напомнила о себе. Он имел обыкновение держать черенок лопаты в ее нижней части правой рукой, и это ее утомило. В лопату попадали не только торф и глина, но и камни. Некоторые из них весили немало. А выбрасывать их на высоту метра приходилось той руке, которая держала лопату внизу. Кроме того, лопатой же приходилось обрубать корни молодых кустарников, давших первые побеги три года назад. И в этих случаях каждый удар лопатой отзывался в больной кости правой руки.
— Пойдем к нам обедать, — сказал тихо Хаарла.
— А? Нет. Зачем же, — возразил Пекка. — Мне старший мальчик сюда принесет обед.
— Ничего, пойдем. Ради первого дня пообедаем у нас, — повторил, застенчиво улыбаясь, Эмиль Хаарла.
Он был выше Пекки на полголовы, если брать за мерку его собственную голову, словно бы нарочно непомерно удлиненную от подбородка к выпуклому лбу. А если бы меркой служила небольшая квадратная голова Пекки, то разницу в росте можно бы обозначить почти целой головой. Зато туловище Хаарла, обтянутое желтым свитером, выглядело тоньше, чем у Пекки, что не было, однако, признаком его хилости. Свисающие с узких плеч жилистые руки заканчивались такими крупными кистями и ладонями, которые ясно показывали, что этот человек хватил на своем веку работы.
Он спрятал эти ладони в карманы и тем же тихим голосом повторил свое приглашение. Пекка обтер мохом запачканные глиной сапоги, и они пошли через заливные луга в сторону главного бугра, на котором стоял дом длинного Эмиля. С главного бугра они оглянулись на болото, и оно предстало перед ними полностью в окружении возделанных бугров, поросшее из конца в конец ивняком и мелкими березками, уже потерявшими свою летнюю одежду. Эмиль сказал своим неторопливым, тихим голосом:
— Когда эта канава пройдет до конца, через нее поперек проведем еще две канавы. А если и это не поможет, еще добавим. Работа тебе будет и после зимы.
— Ого, — сказал Пекка. — Это тебе гектаров шесть новых лугов.
— Не только лугов, — ответил Эмиль. — Попробую и посевы. Вон там у меня тоже было болото. А после осушки уже два раза снял овес, ячмень и тимофеевку.
— У тебя, я смотрю, ни одного метра даром не пропадает, — сказал Пекка.
— А у тебя разве пропадает?
— У меня? Из полутора гектаров? Да они у меня вот! — И Пекка вытянул ладонь, разогнув и согнув на ней пальцы — словно беря что-то в горсть. — А у тебя пятьдесят семь.
— А у меня они тоже вот, — сказал тихо Эмиль, потупив слегка от застенчивости взгляд своих выпуклых зеленых глаз и тоже вытягивая вперед ладонь, размерами покрупнее, чем у Пекки. И этой же ладонью он сделал движение, предлагающее посмотреть вокруг.
Пекка посмотрел. Действительно, все поля были удивительно ладно пригнаны друг к другу у Эмиля Хаарла, и дороги по ним были проложены очень экономно в обход пашням. Каждый луг имел свой сарай для сена. Поля, служившие для его стада дополнительным пастбищем до сенокоса, теперь были распаханы и засеяны озимой рожью и пшеницей. Они уже зеленели сплошными зелеными коврами, получив нужную долю удобрения. Картофельные поля были полностью убраны, несмотря на то, что занимали довольно большое место среди земель Хаарла. Ботва на них лежала в аккуратных кучах, готовая к тому, чтобы весной просохнуть и быть сожженной для дополнительного удобрения.
Рядом с картофельными полями шла уборка турнепса и кормовой свеклы. Этим занимались женщины, приглашенные из соседних мелких хозяйств. Немного далее работник Эмиля распахивал под зябь те из сжатых полей, которые не получили семян клевера. А на жнивье, засеянном весной клевером, уже давшим за лето первую нежную зелень, теперь свободно паслись медлительные от сытости коровы и овцы. Их стало больше у него за время войны, и это заставило его выстроить рядом с каменным коровником новое хранилище для корнеплодов, над которым сейчас трудились два плотника, взятые из соседней деревни.
Сам Эмиль был мобилизован лишь в последний год войны во время летнего наступления русских и сразу же отпущен после заключения перемирия. Это помогло его хозяйству сохраниться в образцовом состоянии.
Пекка совершил на месте полный круг, обозревая его владения. Эмиль избрал для своего дома такой бугор, откуда мог видеть самый отдаленный кусок своей земли.
— Отсюда и твоя земля видна, — сказал он. — Видишь?
— Да, отозвался Пекка. — Сдается мне, что ты и ее охотно пристегнул бы к своей.
— Это можно бы, — застенчиво ответил Хаарла. — Ты скажи, когда будешь собираться отсюда.
— Но ведь между нами лежат участки Корвинена и Раутио.
— С ними молено будет устроить обмен.
— А ты сам не продашь гектара три, чтобы мне не уезжать?
— Нет, я землей не торгую.
— Только покупаешь?
— Да, не хватает мне еще немного для одного дела, — с виноватым видом признался Хаарла, кладя свой длинный подбородок на грудь и глядя в сторону.
— Сколько же тебе надо? До войны ты уже купил участки у двух уехавших отсюда малоземельников. Вчера вдову Лойминен уговаривал продать ее гектар и тоже уехать в город. А теперь и от моего клочка не отказался бы.
— Кто откажется от лишнего гектара? — сказал кротко длинный Эмиль. — Разве ты сам не хотел бы прибавки к своему бугру?
— Я?
Пекка даже не знал, что ответить на это — настолько не подходило сказанное Эмилем в равной мере к ним обоим. И пока он моргал глазами, осмысливая услышанное, Эмиль добавил, как бы в оправдание своей корысти:
— Такая уж у человека природа, чтобы желать постоянно приобретать все больше и больше. Это вложено в него самим богом, и не нам это изменять. Но оно и есть самое главное, что помогло человеку подняться. Только любовь к собственности дала ему силу сделать на земле то, что он сделал. Это ты и по себе можешь видеть.
— Я?
— Вот здесь, например, был когда-то совсем дикий край. Одни лесистые бугры и болота между ними. А мы превратили их в плодоносящие поля, работая каждый на своей доле земли и думая только о ней. Разве не так?
— Да, так, пожалуй. Да, — согласился Пекка. — Только вот, если бы эти доли были ровнее…
— Но, обрабатывая каждый свою долю и думая только о ней, мы обжили и сделали полезным для страны целый край.
— Да, да. Но если бы…
— Вот какие результаты получаются, когда человек работает на своей собственной земле, а не на чужой, как в советской России. Там таких превращений не может быть. У них там огромные пространства земли лежат пустыми в их Сибири и Средней Азии и будут лежать. А если бы они отдали своим людям в собственность по гектару, по два, то лет через десять-пятнадцать эти земли стали бы такими же полезными и обжитыми, дающими людям хлеб.
— Да, — сказал Пекка, продолжавший думать о своем. — Собственность — это хорошо. Но плохо, когда она у многих до того мала, что даже не кормит, а у некоторых…
— Все мы через это прошли, — поспешил сказать Хаарла и повернулся, чтобы идти к дому.
Но Пекка был из тех, которые непременно договаривают начатое слово до конца, и потому сказал, зашагав рядом с хозяином:
— А у некоторых она, пожалуй, крупнее, чем надо.
— Никому в Суоми не запрещается прибавлять к своей собственности сколько он желает, — сказал Эмиль.
— Так-то оно так, — ответил Пекка. — Но сколько бы иной не желал, а прибавка всегда уходит к таким, как ты, у кого и без того много. А у кого мало, тот обыкновенно последнее теряет вместо прибавления.
— У тебя прибавится, — заверил его Эмиль Хаарла.
Да, в этом все было дело, чтобы прибавилось. В этом было все дело. И, сидя за столом Эмиля Хаарла, Пекка думал о том, что другого пути у него нет. Он должен добиться, чтобы все в жизни у него пошло как у Эмиля Хаарла. Не с теми должен совпадать его путь, кто теряет последнее, а с теми, кто умеет прибрать это последнее к своим рукам. Все те малоземельщики, что населяли Суокуоппа и владели участками от одного до четырех гектаров, не могли питать надежду на лучшую долю. С одной стороны к ним подступала хорошо обработанная богатая земля Эмиля Хаарла. С двух других сторон их подпирали без малого такие же богатые земли рыжего Карху и веселого толстяка Валкеакоски. С четвертой стороны подпирало озеро.
Улучшение доли для них означало прибавление земли. Но откуда могло прийти это прибавление? Трое крупноземельных, взявшие их в кольцо, не были похожи на благодетелей и не собирались наделять никого дополнительной землей. Так устроен человек. Чем больше он имеет, тем труднее ему этим делиться. Оставалось ждать, чтобы разорился кто-нибудь из своих же мелких соседей. Но в таких случаях земля разоренного уходила почему-то прямиком к одному из крупноземельных. Пекка только руками разводил, наблюдая это. Из восемнадцати мелкоземельных крестьян, населявших когда-то Суокуоппа, осталось одиннадцать. И земли исчезнувших не обогатили никого из оставшихся малоземельцев. Они прилипли к трем крупным землям, лежащим вокруг.
И он, Пекка, тоже, когда придет его время выбираться из Суокуоппа к месту будущих пяти гектаров, разве он продаст покидаемый участок своему соседу Корвинену или Раутио? Нет, он продаст его тому же Эмилю Хаарла. А почему же Эмилю Хаарла? А потому, что получит от него лишнюю тысячу марок.
Нет, он, конечно, не собирался глохнуть всю жизнь в Суокуоппа на полутора гектарах. Он шел к тому, чтобы жить по примеру Хаарла и питаться как он. Разве он, Пекка, не имел права поставлять своей семье ежедневно на стол такой же вкусный картофельный суп из свинины, такую же жирную ячменную кашу, сдобренную кислой капустой, а такую же яичную запеканку, какими румянощекая пожилая хозяйка Эмиля накормила одним разом не только свою семью, но и всех временных и постоянных работников.
Нет, он твердо решил идти только по такому пути. С Эмиля Хаарла стоило брать пример. Несмотря на тихий нрав, он умел держать всех своих людей в железных руках, и хозяйство его катилось вперед, как хорошо смазанная машина. Вставая из-за стола, он сказал работнику своим тихим, сиповатым голосом:
— Хорошо бы насадить ригу сегодня.
Тот развел руками:
— Не успеть мне, хозяин. Вы же велели распахать весь нижний склон за гнилой березой.
Но хозяин повторил негромко:
— Хорошо бы все-таки насадить. — И в голосе его при этом послышалось такое, словно он просил извинения за то, что ему вздумалось этого пожелать. Но виноватость в голосе не помешала ему добавить еще такие слова: — Надо кончить пшеницу из второй скирды. Эйла тебе поможет укладывать снопы. А за огнем я сам присмотрю.
Работник хотел еще что-то возразить, но Эмиль сказал ему:
— Это сейчас хорошо бы сделать, чтобы успело лучше просохнуть к четырем утра. И склон успеешь кончить. Ничего, если темноты хватишь немного. Тебе, молодому, лишняя работа только на пользу после тысячи дней сиденья в окопах.
Вот как он двигал делами в своем хозяйстве, этот смирный, длинноголовый Эмиль.
Продолжая после обеда расчистку его канавы на болоте, Пекка не один раз тряхнул одобрительно головой, вспоминая о нем с уважением. Да, именно так надо уметь вести свою линию, если хочешь успеть в жизни. Но ничего. Он, Пекка, тоже не собирался быть последним. Эмиль дал ему хорошую плату для первого месяца работы: двадцать пять тысяч марок. После зимы он заработает у него еще пятьдесят тысяч. А если потребуются дополнительные канавы, он вытянет из одного только Хаарла целую сотню.
Ничего. Еще не поздно пробить себе дорогу в тридцать лет. Рука бы только выдержала. Когда он после обеда снова взялся за лопату, кость опять напомнила о себе. Но не беда. Она привыкнет постепенно. Должна привыкнуть. Иначе и быть не могло. Чем же, как не этими руками было ему вытягивать свою семью к сносной жизни на пяти гектарах?
Но рука не привыкла. На следующий день кость уже ныла с утра. Надеясь, что она все же постепенно свыкнется с работой, как привыкают мускулы после долгого бездействия, Пекка старался не обращать на нее внимания и действовал лопатой с прежним старанием. Однако скоро пришлось обратить. Больная кость не желала привыкать к длительному напряжению подобно мускулу. Она с каждым днем все сильнее и сильнее протестовала против всякого напряжения.
Работа Пекки поневоле замедлилась. С большим трудом довел он до конца расчистку старой канавы, а на ее продолжении застрял окончательно. На продолжении канавы он сначала действовал топором, вырубая с корнями заросли ивы, и каждый удар топора отдавался резью в месте перелома. Он пробовал рубить левой рукой, но в левой руке топор был как чужой, ударяя не туда, куда нужно.
Само копание канавы требовало теперь особенно здоровых рук, потому что землю приходилось выбирать из всей толщи канавы сверху донизу. Оставив глиняную перемычку между старой и новой частями канавы для защиты новой части от воды, наполнявшей старую почти на треть, Пекка кое-как положил начало новой канаве. Но теперь ему приходилось почти каждую минуту давать отдых правой руке. Увидя вдали длинную фигуру Эмиля в теплом пиджаке поверх свитера, Пекка перехватил черенок лопаты внизу левой рукой, и хотя это было непривычно и утомительно для него, он отваливал ею землю направо и налево без перерыва, пока тот не приблизился вплотную.
— Я смотрю, у тебя медленнее дело идет последние дни, — сказал Эмиль с таким видом, словно стеснялся своего замечания.
— А? — сказал Пекка. — Разве? Хотя может быть. Рука у меня немного расшалилась. Не она ли подводит?
— Рука? Это с переломом которая?
— Да, немного было такое. Но уже проходит. И теперь пойдет дело. Пойдет. Ничего.
— А не дать ли ей отдых? — сказал Хаарла, окидывая сомнительным взглядом то немногое, что было сделано Пеккой за последние дни.
— О, что ты! — сказал Пекка. — Да она уже в порядке. Я же говорю, что позади все это.
И чтобы тут же наглядно доказать сказанное, Пекка принялся бодро срезать пласт за пластом чавкающую от влаги глину и выбрасывать ее на обе стороны канавы.
Хозяин постоял возле него еще немного и затем направился в другие места своих обширных владений, не забыв оглянуться несколько раз на Пекку. И когда его кожаная меховая шапка исчезла за гущей голых кустарников, Пекка уселся на край канавы и замычал негромко, взяв правую руку в левую и раскачиваясь туловищем взад и вперед.
Он уже не видел, как в это время кожаная шапка Эмиля снова появилась в просвете кустарников, и его длинное лицо с выпуклым лбом по крайней мере с минуту задержалось на месте, обращенное в сторону Пекки, проделывавшего свои странные движения.
Помычав и пошипев таким образом несколько минут, Пекка выкурил трубку и вновь принялся за лопату, твердо решив держать ее в нижней части только левой рукой и рубить кустарник тоже одной только левой.
Но он уже запоздал с таким решением. Боль в правой руке зашла настолько далеко, что рука не только отказывалась быть направляющей при копании лопатой, но не могла даже отгибать упругие стволы ивы при вырубании их топором левой рукой. Рука распухла на месте перелома. В течение нескольких дней Пекка держал ее перед сном в теплой воде, и жена прикладывала к ней на ночь распаренную сенную труху. Но это мало помогло. Рука болела и не могла работать. Ей нужен был отдых. Но как же тогда с пятью гектарами и с первой сотней тысяч марок? Нельзя было давать ей отдыха. И Пекка продолжал ходить на болото Эмиля Хаарла, не видя из положения иного выхода.
Но в один из дождливых дней Эмиль Хаарла снова подошел к нему. Он был в промасленном брезентовом плаще с таким глубоким капюшоном, который полностью спасал даже его длинное лицо от холодных струй осеннего дождя, в то время как Пекка, раздетый до жилета, полностью принимал их на свои спутанные светлые волосы и широкое красное от холодного ветра лицо.
— Можно бы сделать передышку, пожалуй, — сказал тихо Эмиль, окинув хозяйским глазом самого Пекку и его работу.
— Какую передышку? — спросил Пекка, и сердце его защемило от предчувствия недоброго.
— Ну… оставить на этот год. Переждать зиму и тогда опять.
— Зачем же, хозяин? — вскричал Пекка, и в голосе его просквозило отчаяние. — Зачем оставить? До морозов еще недели две, а то и больше. Покопаем еще, хозяин. Покопаем. Ничего.
И, подхватив тяжелой от облепившей ее глины лопатой свежий торфяной пласт, Пекка послал в свою правую руку новую режущую боль. Но хозяина это не убедило, и он повторил как бы в раздумье:
— Да, надо бы тебе передохнуть. Два метра в день — какая уж это работа, если до края болота еще двести метров. Да, так и решим.
— Нет, нет, хозяин! Теперь-то у меня пойдет, — заверил его Пекка. — Это меня рука немного подвела, но уж теперь…
— Ладно, — сказал хозяин. — Сегодня можешь раньше закончить. Ничего. Я зачту тебе полный день. Вот хотя бы до той коряги доведешь— и все.
И он ушел, неторопливо вдавливая в моховую влажность болота свои высокие сапоги. А Пекка молча смотрел ему вслед, ловя открытым ртом холод и дождь.
Но он еще не потерял надежды. Он был не из таких. Прикинув расстояние до коряги, указанное хозяином, он вдруг придумал кое-что. Ах, так! Докопать до этой коряги — и все? Хозяин думает, что только это ему под силу? А вот он возьмет да прокопает еще метра на три за корягу. Тогда что? Хозяину показалось, что у него неладно с рукой. А, он, Пекка, докажет, что все ладно. И потом приведет его сюда и скажет: «Вот смотри. Я же говорил, что теперь у меня все в порядке с рукой и к морозам доведу канаву до края болота».
И в предвкушении этого Пекка принялся за дело, налегая как можно больше на левую руку. Однако это все-таки не спасало от боли правую. Дело не очень ускорилось. Вдобавок на пути его лопаты попался камень, потребовавший дополнительных усилий. Поддеть его снизу в один прием не удалось. Острие лопаты не нашло края камня. Чем глубже Пекка пытался под него подобраться, очищая от глины и торфа, тем шире оказывалась поверхность камня. И каждый удар лопаты о камень отдавался нестерпимой болью в его правой руке, державшей рукоять лопаты у верхнего конца.
Теперь он уже более не думал о передышке. Он торопился удалить скорее неожиданное досадное препятствие, чтобы успеть выполнить намеченное. А препятствие словно издевалось над ним, не поддаваясь действиям его лопаты. Нацеленная в мякоть болота на целый шаг в сторону от камня лопата неизменно натыкалась на поверхность все того же камня. Вместо плавного погружения в торф или глину она скрежетала по камню своим острием, выматывая из Пекки последние запасы силы и терпенья.
Он был так некстати, этот камень, словно сам черт принес его в болото нарочно для Пекки и нарочно ради этого дня. Бормоча про себя проклятия, Пекка торопливо провел рукавом серой рубашки по разгоряченному лицу, мокрому от пота и дождя, и с новым упорством налег на лопату. Он отчетливо ощущал, как усиливается в руке воспаленность от всех этих движений, таких трудных и бесплодных, однако не хотел изменять своего намерения.
Но когда он окопал наконец полностью далеко просунувшееся в пределы канавы грязное брюхо огромного валуна, он понял, что выворотить эту глыбу из канавы ему одному будет не под силу. Оставался один выход: нарушить прямую линию канавы, обогнув ею валун. Черт бы драл все на свете. Не хватало еще этой лишней работы. Но куда деваться? Надо копать. Выполняя это, Пекка заметил, что уже наступили сумерки, и сердце его защемило тоской. Огибая камень, он все еще продолжал натыкаться лопатой на его отлогую поверхность, и это отдавалось в правой руке такой болью, от которой хотелось кричать.
И в это время как нарочно усилился дождь, связывая и без того небыстрые движения Пекки. Усилился дождь, и гуще стали сумерки. Пекка оглянулся на корягу, и новые проклятия потекли из его мокрого рта. Какое там к черту на три метра за корягу! Ему и до коряги не докопать из-за этого проклятого камня. И, полный досады, он снова круто повернулся лицом к валуну. Нога скользнула по мокрому скату канавы, и он покачнулся, откинувшись назад. Правая рука, первая коснувшись земли, удержала от падения его тяжелое тело. Но зато она получила такую встряску, как будто заново переломилась в кости.
Пекка взвыл, опустившись прямо в жидкую грязь на краю канавы, и закачался взад и вперед, закрыв глаза и оскалив зубы. Все пошло к черту. Открыв глаза, он окинул свирепым взглядом утопающее в сумерках мокрое болото и сильнее сдавил в левой руке черенок лопаты. Все пошло к черту с работой на этом болоте. Что скажет он теперь своей Хенни, в которой заронил надежду на пять гектаров? К черту пошли пять гектаров! К черту! К черту!
Он хватил несколько раз лопатой по камню. Железо погнулось, покорежилось и наконец отлетело от переломившейся рукоятки. Но и после этого он продолжал бить по камню обломком рукоятки, пока один ее конец не стал похож на мочалку. Тогда он отшвырнул ее на дно канавы и заплакал тихо, полный злой обиды, поливаемый сверху осенним холодным дождем.
Конечно, Хенни не обрадовалась такому исходу дела. Но она промолчала, приготовив ему очередную припарку из сенной трухи. Только губы ее сильнее стянулись в морщины, сделавшись тоньше и белее. И еще дней пять после того, как он принес расчет от Эмиля Хаарла, она не упоминала о его работе, а затем спросила:
— Он тебе же обещал дать ее закончить весной?
— Да, — ответил Пекка.
Жена как-то неопределенно хмыкнула, доставая из печи чугун, и Пекка уловил в ее голосе не то недоумение, не то насмешку.
— А что? — спросил он.
Жена не сразу ответила. Прикрыв чугун тряпкой, она вылила из него в лохань горячую воду и затем стала толочь для поросенка оставшийся на дне чугуна мелкий картофель. Сквозь пар, поднявшийся из чугуна, Пекка не мог разглядеть как следует лицо жены, но услыхал ее голос, в который она пыталась вложить равнодушие.
— Уже копают у него, — сказала она.
— Кто копает?
— Раутио.
Он остался сидеть, как сидел. Но перед вечером, как бы невзначай, прошелся по соседним буграм, поглядывая в сторону болота Хаарла. Да, это было верно. Там копали.
На следующий день он опять сидел, и вид у него был такой, что жена избегала тревожить его разговорами. Прислушиваясь к боли в руке, подвешенной на лямке из полотенца, он смотрел на стол. А на столе перед ним лежало измятое русское письмо с оторванным солдатским карманом. Жена входила в дом и выходила, делая все то немногое, что необходимо делать, когда в хозяйстве есть одна корова с теленком, две овцы, один поросенок и полдюжины кур. А он сидел, сжимая широкие челюсти, отчего на их углах вздувались бугры, и только с приходом детей из школы убрал письмо с лоскутом кармана в комод.
К зиме он устроился лесорубом в Мустаниеми. Он и до войны уходил туда, ибо пищи с полутора гектаров хватало только до апреля. Но если раньше он возвращался оттуда домой в разгар весенней распутицы, то теперь вернулся на пятый день после рождества. Хенни всмотрелась внимательно в его лицо и, не говоря ни слова, пошла скорей в сарай за сенной трухой.
Пекка просидел дома всю зиму. И когда наступила весна, не он ушел добывать марки на покупку пяти гектаров, а ушла Хенни, чтобы заработать на сено и зерно. Первое время она терпеливо выносила это, но когда Эмиль Хаарла опять пригласил на осушку болота посторонних людей, минуя Пекку, она стала жаловаться на свою горькую долю, из которой не видела выхода до конца своих дней.
Чтобы вселить в нее бодрость, Пекка опять собрался в путь. Посадив с помощью мальчиков картофель, он ушел в такие места, где еще не знали о его руке. Но в тех местах траву было принято косить ручными косами, а ручная коса устроена только для правой руки. Уже на третий день хозяин упрекнул Пекку за медлительность в работе, а на пятый день выдал ему расчет.
Домой Пекка вернулся не сразу. Заработанных денег хватило на то, чтобы съездить в город Савуселькя и показаться доктору. Доктор сказал, что рука у него проболит месяца два, и начисто запретил ему выполнять ею после этого тяжелую работу. Он предупредил, что если Пекка еще раз потревожит кость, она разболится на целые годы. Нужна операция с удалением незажившей части. Но это риск, и это такая сумма, какой Пекке не заработать за всю жизнь.
Получасом позднее молодой рабочий целлюлозного завода Тойво Вихури встретил на улице города странного деревенского парня, глаза которого дико блуждали, а широкие челюсти были сжаты с такой силой, что побелели на углах щек выдавленные ими бугры. Остановившись перед Тойво, этот парень спросил его, нельзя ли в этом городе найти рюссю.
— Какого тебе рюссю? — спросил Тойво.
— Все равно какого, — ответил парень, — лишь бы это был рюсся.
— А на что он тебе?
— Нужен он мне! — простонал парень и заскрипел зубами. — На одну только минутку нужен. На одну секунду только — и все.
— Нет здесь русских, — сказал Тойво. — В Хельсинки поезжай. Там их много сейчас. Они проверяют, чтобы мы армию честно распустили и оружие не прятали.
— В Хельсинки? А во сколько это обойдется?
— Тысячи за три доедешь.
— Нет у меня столько. О, перкеле! И половины даже нет. Всё отдал доктору.
— А зачем ты был у него?
— Рука. Не видишь разве? Рука у меня пошла к дьяволу.
— Где ты ее повредил?
— На войне. Где же еще?
— И так долго лечишь? А почему сразу не вылечил?
— Сразу. А где сразу?
— Разве некуда было обратиться?
— Некуда. Только к рюссям.
— Вот и нужно было к ним. У них врачи знаешь какие? На весь мир известные. Обратился бы к ним — и сейчас твоя правая рука была бы крепче левой.
— О, перкеле! — только и мог выговорить этот странный парень, имя которому было Пекка.
Когда он опять появился дома, Хенни не выдержала. Обратив к небу тоскливый взгляд, она всплеснула натруженными руками и простонала:
— О, я, несчастная! За что мне от бога такое наказание?
Пекка ни слова не сказал ей на это. Что он мог сказать? Но, оставшись один в комнате, он выхватил левой рукой нож и несколько раз с силой вогнал его в дерево комода возле того места, где лежало русское письмо.
Что ему теперь оставалось делать? Полностью посвятить себя собственному хозяйству? Богатое хозяйство — что и говорить: полгектара озимой ржи, полгектара сеяных трав и полгектара картофеля. Земля после трав сразу же пошла под озимый хлеб, а после него опять на один только год под сеяные травы. Иногда менялись местами рожь и картофель. А о другом чередовании не приходилось и думать, если он не хотел дробить землю и собирался снимать урожай с более или менее видных участков.
Но в этом году даже не он снял урожай. Жена выкосила клевер и тимофеевку. Он только сушил сено с ребятами и таскал на себе в сарай. Она же вспахала на лошади Хаарла выкошенный участок. Он только бросил в землю левой рукой семена. Жена сжала хлеб. Он только перетаскал на себе домой снопы. Но на копке картофеля его левая рука могла многое сделать, и это позволило Хенни уйти копать к Эмилю Хаарла, чтобы заработать на зимние дрова и обувь.
Ребята были довольны пребыванием отца дома. Но их удивляло, что они часто застают его в комнате с ножом в руках, смотрящим куда-то в одну точку с недобрым выражением на лице. Застав его однажды в таком состоянии, старший мальчик спросил несмело:
— Папа, ты, наверно, опять резать хочешь?
— Резать? — переспросил Пекка, впиваясь в него страшными глазами.
— Да… Я думал… ты, может быть, еще нам что-нибудь вырежешь смешное.
— А-а, — сказал Пекка с облегчением. И, придя немного в себя, он спросил: — А что у вас там еще сохранилось? Покажи-ка!
Мальчик вытряхнул перед ним на стол из объемистого берестяного кошеля деревянные фигурки разной формы, привезенные Пеккой домой в дни солдатского отпуска. Он сам вырезал их когда-то из березовых и сосновых чурок, скрашивая этим однообразие окопной жизни. Некоторые фигурки были уже расколоты и поколупаны малышами, но некоторые уцелели.
— Что же вы их не уберегли? — сказал Пекка, расставляя на столе уцелевшие.
Самой заметной фигуркой была та, что получила в окопах название: «Сержант Салминен поет». Она вызывала немало веселья и в их землянке, потому что приземистый и косолапый сержант Салминен получился очень похожим со своим коротким плоским носом, задранным вверх. Засунув руки в карманы брюк и разинув пасть, он откинулся назад, издавая первые звуки песни, и все лесные звери понеслись от нее кто куда.
— А где же они? — спросил Пекка, разбирая фигурки. — Ах, вот!
Он извлек узловатую березовую чурку, изображающую в замысловатом сплетении медведя, волка и зайца, ударившихся в бегство. Их испуганный вид показывал, что они только что мирно дремали и вдруг прянули с места, давя друг друга и косясь в смертном страхе назад, на глотку Салминена.
— Вот здесь им место, — сказал Пекка. — Где доска?
Мальчики разыскали дощечку, и он закрепил на ней гвоздями фигурки в нужном порядке. В целости оказалась еще фигурка зевающего деда, а все остальное уже не стоило внимания.
— Ты новое что-нибудь вырежь, — попросили мальчики.
— Новое? А из чего я вам вырежу новое?
Он прошел с ними к дровяному навесу, где запас дров требовал пополнения, и потрогал ногой сваленные отдельно самые крупные и узловатые поленья. Они оказались не по силам для женских рук, но от каждого из них была отколота какая-то доля, что убавило их размеры и обеднило форму.
— Тут не из чего выбрать, — сказал он, переворачивая ногой сколотую с двух сторон березовую корягу, у которой третья сторона еще сохранила неотрубленный изогнутый сук. — Что отсюда выкроишь, кроме разве узкой морды Эмиля Хаарла, да и его руки кстати…
Он еще раз уже внимательнее всмотрелся в корягу, а затем поднял ее за сук и внес в комнату. Там он поставил ее перед собой на стол. Мысленно он уже видел то, что она таила под своими изломами и вздутиями, и скоро его острый нож заходил по ее поверхности, извлекая скрытое наружу. Действовал он правой рукой. Это не относилось к тому трудному виду дел, что подпало под запрещение врача. Он сам чувствовал это. Работали главным образом пальцы, кисти и предплечье, а кость плеча отдыхала.
Когда Хенни вернулась домой с копки чужого картофеля, мальчики, взвизгивая от восторга, потянули ее к столу. А на столе в окружении мелких щепок уже возвышалась голова Эмиля Хаарла. Непомерно длинная и тощая, слегка наклоненная вбок от стеснительности, она высматривала что-то выпученными глазами из-под выпуклого лба. И рука Хаарла тоже тянулась от узкого туловища к тому, что он высмотрел. А высмотрел он гектар земли вдовы Лойминен. И бедная маленькая Лойминен, сделанная из отдельной пузатой чурки, вся так и приникла к земле, пытаясь прикрыть подолом юбки и передничком свой несчастный гектар, чтобы спасти его от жадной руки Хаарла.
— Мы к этой руке еще кисть приделаем с пальцами, — сказал Пекка.
Хенни взглянула на все это, сердито стягивая в морщины посиневшие на осеннем ветру губы, и молча отошла к печке. Прислонившись к ней спиной, она опустила вниз усталые руки и сказала равнодушным, бесцветным голосом:
— О, я несчастная! Есть ли на свете еще такие? Нет на свете таких.
— Все сделано по хозяйству, — сказал Пекка. — Тебе только корову подоить.
— Все сделано по хозяйству, — повторила она тем же тоном. — По хозяйству. А где хозяйство? Только обещания вместо хозяйства. Все сделано. А что там делать? И без тебя все делалось.
Зубы Пекки издали скрежет. Мальчики с удивлением на него взглянули. Он сказал им:
— Мы еще тут кисть приделаем с пальцами. Бо-оль-шую кисть вон из того полена. А пока закрепим их на одной доске.
— За что мне одной такое наказание? — сказала Хенни. — За что мне одной?
Пекка сжал зубы и молча принялся строгать ножом плоский кусок полена, готовя основу для новых фигурок.
И в течение всей зимы он только таким способом отделывался от ее причитаний. Отвечать на них, кроме молчания, было нечем. Весной и летом, когда он опять пригодился в поле, причитания немного стихли. Зато осенью они возобновились в удвоенном количестве. Не выдержав этого, Пекка стал уходить из дому и целых пять лет упорно наведывался к разным состоятельным крестьянам в пределах двадцати километров вокруг Суокуоппа. Но от каждого из них он очень скоро возвращался домой с надорванной рукой, встречаемый каждый раз все более злыми причитаниями.
Мальчики тем временем росли и скоро так втянулись в дела хозяйства, что на долю матери осталось менее половины забот по дому. А Пекка был в этом хозяйстве лишний. Это ему слишком часто давала понять утерявшая в него веру Хенни, которая сама проводила больше времени на полях Эмиля Хаарла, чем на своих.
Спасаясь от ее упреков, он, скрепя сердце, толкнулся на целлюлозный завод в Савуселькя. Но когда он там в конторе назвал свою фамилию, ему ответили:
— A-а, так вы тот самый с переломанной рукой. Жаль, жаль. Парень такой здоровый с виду. К сожалению, у нас нет работы для одноруких.
До самого вечера просидел Пекка на бревнах за воротами завода, не зная, куда идти дальше. Жизнь его была кончена начисто. Каких сомнений и колебаний стоило ему решение бросить землю и пойти в рабочие. И вот даже в рабочие его не взяли. Всюду знали теперь о его переломленной руке. Жизнь его окончательно покатилась ко всем дьяволам, прямо в преисподнюю. Но черт с ней, с жизнью. Он уже свыкся с мыслью о ее конце. Но обидно было уйти из жизни, не прикончив русского, от которого пришло все это зло. Обидно было теперь только это. На все остальное ему уже было наплевать.
Никогда в жизни не спускал он никому ни одной обиды, всегда воздавая сдачи с лихвой. Однажды его избили три здоровых парня из Тюхьясалми. Справиться с ними Пекка один не мог. Но он не успокоился, пока не переловил каждого из них в отдельности и уж такую память оставил по себе, которая сохранится у них на всю жизнь. А случай с Вейкко Силтаненом! Тот лишь слегка задел ножом его плечо, находясь в компании приятелей во время гулянья в Тюхьясалми. А Пекка три недели подкарауливал его одного на дороге и так хватил ножом, что проткнул плечо насквозь. Никогда в жизни не спускал он обиды. И вдруг теперь приходится спускать. И кому? Рюссе! О, перкеле!
До самого вечера просидел Пекка перед воротами завода на груде очищенных от коры бревен. А когда мимо него из открывшихся ворот повалили рабочие, один из них крикнул:
— A-а, старый знакомый! Ну как, нашел своего рюссю?
— Нет, — ответил Пекка. — А надо бы найти.
— Ничего нет проще, — сказал Тойво Вихури. — Поезжай в Россию — и там к твоим услугам сразу двести миллионов.
— Нет, мне бы только одного.
— Только одного? А зачем он тебе, только один?
Пекка промолчал.
— Зачем он тебе? — повторил Тойво.
— Это он мне руку сломал, — пояснил Пекка.
— Ну и что же? А у меня они брата убили на войне. Так разве они в этом виноваты?
— А кто же? — удивился Пекка.
— Ты чудак, я вижу.
— Я теперь зарабатывать себе не могу, чтобы землю купить, — сказал Пекка.
— Теперь? А раньше покупал?
— А?
— До войны ты много купил земли?
— Нет… Совсем не покупал. У меня отцовские полтора гектара.
— А хотел купить?
— А как же!
— И руки здоровы были?
— Да…
— И не купил?
— Нет… Все как-то уходило то на одежду, то на хлеб, сено, дрова…
— И теперь уходит?
— И теперь…
— Так, может быть, дело не в больной руке, а в чем-то другом? А?
— О, перкеле! — только и сказал Пекка, совсем сбитый с толку.
— А насчет России — это несложно, — продолжал Тойво. — Недавно наших двое побывали там с профсоюзной делегацией. Недели две как вернулись. Я тоже хочу съездить в следующий раз. — Он оглянулся на проходивших мимо рабочих и сказал озабоченно: — Один из них уже успел уйти домой. Жаль. Но второй задержался, и мы подождем его. Он член профсоюзного комитета. Можешь поговорить с ним. Только если ты зло питаешь к русским — ничего не выйдет. Они не любят к себе пускать враждебно настроенных людей.
— Не любят?
— Нет. Да и наши с собой такого не возьмут.
— Не возьмут?
— Нет. Кому это приятно? А вот и он идет. Хей! Пакаринен! Подойди сюда на минутку! Вот здесь парень объявился. Из малоземельщиков, насколько я понял. Очень желает побывать в России.
— Что ж, похвальное желание, — сказал, подойдя к ним, рослый, худощавый парень лет сорока. Он протянул руку, и Пекка ощутил железную силу его пальцев. — Жаль, что вы месяц назад не объявились, — продолжал он. — Мы бы вас прихватили. А вас там что интересует?
— Меня? А так… посмотреть я хотел… какие они там есть, эти рюсси… русские, то есть… Нравятся они мне очень. Хороший они народ, говорят…
— Неплохой народ, разумеется. Как и всякий народ. А финны, думаешь, хуже?
— Нет… зачем… я не думаю…
— Сумел бы и финский народ совершить кое-что мудрое, имей он право совершать. И с перешейком бы мы остались и без войны обошлись, если бы разговор с русскими вел сам финский народ. Как вы думаете?
— А? — сказал Пекка и тут же закивал головой. — Да, да. С русскими? Да, да.
— Жаль, что вы опоздали, — сказал парень с железными руками.
— А когда вы опять поедете? — спросил Пекка.
— О, не скоро теперь. Через год, наверное, а то и через два.
— Меня возьмете?
— А вы согласны ждать?
— Да, — сказал Пекка.
Железный парень удивился его терпению, но записал адрес и пообещал приехать за ним, когда их комитет получит приглашение.
Два года — немалый срок. Но Пекка высидел их дома, не отлучаясь на этот раз никуда. За это время его уши приняли несметные потоки ворчливых причитаний, переходивших теперь каждый раз в крикливую брань. Он переносил все это, сжав челюсти и не издавая ни звука. Он словно закостенел в своем ожидании, внушив себе, что уже не живет на свете и что только одно короткое дело осталось ему совершить, чтобы затем уйти из этой жизни совсем. Нож он держал остро отточенным, тщательно оберегая его от ржавчины, и русское письмо с лоскутом солдатского кармана держал завернутым в бумагу, чтобы в любую минуту без канители прихватить его с собой.
Мальчики выросли, и расходы на одежду прибавились, а доходы оставались те же. Темные волосы еще более поредели на голове Хенни, выбиваясь из-под платка растрепанными прядями, и серые глаза ее запали. Ненависть горела в них, когда она смотрела на Пекку. Да, жизнь его была кончена, и только одно короткое дело он жаждал совершить, уходя от нее. И пускай там тоже было горе и даже похуже, чем здесь, ибо люди ютились в земле, не имея жилищ, но не надо было ломать человеку кость. Не надо было кость ломать, перкеле! Вот о чем он хотел им напомнить, прежде чем самому уйти к могильным червям.
Два года высидел Пекка в своем закостенении. И к концу второго года, в середине лета появился наконец на его дворе знакомый профсоюзный комитетчик. В нем словно прибавилось железа за эти два года — такая легкость и сила сквозили в его движениях, когда он, спрыгнув с велосипеда, направился к домику Пекки.
Пекка напряг всю силу своей правой ладони, принимая его рукопожатие, и все-таки гот смял ее сопротивление. Даже сухощавое лицо гостя, не особенно богатое выпуклостями, походило скорее на вылитое из железа, нежели на живое лицо, обтянутое загорелой кожей. Он сказал Пекке:
— Ну вот. Наши ребята поговорили между собой и согласились принять вас в свою компанию на время поездки. И правильно сделали, насколько я вижу. Человеку из этих бедных землей мест очень полезно побывать в Советском Союзе, где одних только целинных и залежных земель подняли за год четырнадцать миллионов гектаров.
— Четырнадцать миллионов?
— Да. Это впятеро больше всей нашей финской пашни, поднятой за многие сотни лет.
— Они что же, отдали ее людям, и те распахали?
— Кто отдал? Кому? Она и так им всегда принадлежала. Но до сих пор ее не трогали. А пожелали сделать маленькое дополнение к основной пашне и тронули.
— Маленькое дополнение? В пять раз больше всей финской?
— Вот именно. Я вижу, вам будет очень интересно расспросить их там об этом подробнее. А пока давайте мне ваш паспорт и деньги на билет.
— Деньги?
— Да, деньги. Почему это вас удивляет?
— У меня нет денег, — сказал Пекка упавшим голосом.
Парень свистнул и побарабанил пальцами по столу.
— А как же вы думали ехать? — сказал он.
Пекка молчал, поникнув головой, но внутри у него все кричало, и стонало, и брызгало кровью.
— Никто за вас платить не станет, — сказал парень. — Если бы вы были членом нашего профсоюза…
— А много надо? — спросил Пекка.
— Тысяч пятьдесят на всю поездку.
— Пятьдесят тысяч, — прошептал Пекка, но даже в шепоте его послышался стон.
— Да, не меньше.
И сверх того тысяч десять — пятнадцать вам на одежду. Нельзя же ехать в таком виде. Русские могут подумать, что мы здесь черт знает как бедно живем. А мы же богачи рядом с ними, не так ли?
— Да… так… а?.. — сказал Пекка.
— А продать у вас нечего?
Парень обвел глазами комнату и сам же понял всю нелепость своего вопроса. Действительно, что тут было продавать? Печь с плитой? Или этот расшатанный стол? Или облезлую железную кровать? Или тот сверток тряпья в углу, что служил кому-то постелью по ночам? Пекка даже не поднял головы, зная все это.
Но гость внезапно поднялся с места и подошел к окну.
— А это чья работа? — спросил он, беря с подоконника дощечку с изображениями Хаарла и вдовы Лойминен.
— А… это так… для ребят я резал, — сказал Пекка.
— Любопытно сработано, — сказал гость, беря с окна вторую группу. — Чувствуется, что характер каждого схвачен верно. Это вы определенных лиц изображали или просто так?
Пекка назвал ему фигуры, и парень записал это зачем-то себе в блокнот. Он еще некоторое время смотрел на них с улыбкой, а потом сказал:
— Знаете что? Заберу-ка я их с собой и попробую кое-что в воскресенье. Не уверен в успехе, но попытаюсь. А паспорт все-таки дайте. В понедельник вечером приедете к воротам завода, и там я его вам верну, если дело сорвется.
Они переложили фигурки соломой и увязали в пакет. Привязав пакет к велосипеду, железный парень уехал обратно в Савуселькя.
В понедельник Пекка ушел из дому до восхода солнца, и никто даже не спросил его, куда он уходит. Так надоел он всем своим сиденьем дома, и так уверены были все в бесплодности его ухода. Никому не был он нужен дома и менее всего измученной и постаревшей Хенни. И себе тоже он не был нужен. Он мог пригодиться в жизни только для одного очень короткого дела. Это дело он уже совершал сотни раз в мыслях и даже во сне. И только ради этого дела он еще тянул свое существование на земле, твердо зная, что после этого дела оно сразу пресечется, чему он был заранее рад. Так надоела ему эта канитель, которая по вине рюсси выпала ему на долю вместо жизни. Все же он постоял немного среди поля лицом к дому, куда ему, быть может, не суждено было больше возвращаться, а затем выбрался на дорогу.
К воротам завода он пришел вовремя. Там его уже поджидали. И далее все в жизни Пекки завертелось так быстро, как не вертелось даже на войне. Его торопили. Его привезли в Хельсинки и одели в новый костюм. Его обули в новые ботинки. Его снабдили свежим бельем, запасными рубашками, платками, галстуками, чемоданом и посадили в русский вагон.
Все это, конечно, исходило от железного парня. Он сам был тут в числе двенадцати человек, едущих в Россию. И, чувствуя к нему признательность, Пекка сказал про него веселому Тойво Вихури:
— Какой-то он весь вроде как железный.
— А как же! — ответил Тойво. — В такой стране, как наша, коммунисту приходится быть железным, иначе съедят и не подавятся.
— Коммунисту? — сказал Пекка.
— Да. А что тебя удивляет?
— Нет. Ладно. Все равно. Мне нужно узнать, как сказать по-русски: «На! Получай!»
— А зачем тебе это?
— Так… Просто так. Хотелось узнать — и все.
— Спроси у того пожилого человека. Он скажет.
Пекка спросил, и пожилой человек произнес нужное ему по-русски. Эти слова Пекка повторял про себя весь вечер, пока не заснул. И, просыпаясь ночью, он опять повторял их шепотом и мысленно представлял себе, как он одновременно выхватывает нож и ударяет что есть силы. Сперва он дает ему письмо с куском гимнастерки, чтобы напомнить встречу в малиннике, а потом говорит: «На, получай!» И бьет изо всей силы, не задумываясь. Главное — напомнить ему, за что он получает наказание. Чтобы он знал, чтобы почувствовал.
Конечно, все вокруг будет отвлекать его, Пекку, от этого намерения: и свои спутники, и новый серый костюм, так шикарно на нем сидящий, и все эти удобства и сытость, пришедшие к нему так неожиданно, неведомо откуда, и вид русской страны, по которой они поедут. Но все это случайно и непрочно и минует, как пришло. Его дело— воспользоваться этим случайным, чтобы совершить единственное и главное, что осталось ему в жизни. Надо только это держать в голове, выношенное за десять лет. А остальное пусть идет мимо, Оно не его касается.
В Ленинграде он сказал, что ему хотелось бы побывать в колхозе «Луч», Еловецкого района. Зачем побывать? А затем, чтобы повидать одного русского, с которым он когда-то встречался. Финны, мечтавшие о Кавказе, выразили недовольство его желанием. Но русские считали себя обязанными исполнять желание каждого. На всякий случай они навели справку и выяснили, что человек, названный Пеккой, действительно проживал в колхозе «Луч». Только относился теперь этот колхоз к Новгородской области, а не к Ленинградской.
Радость и злость шевельнулись одновременно в сердце Пекки, когда он узнал, что русский жив. Злость оттого, что он, русский, убивший Пекку, спокойно продолжал жить на земле, даже не помня причиненного зла, и радость оттого, что он, Пекка, шел наконец воздать ему за это после десяти лет зубовного скрежета.
Зная, чем закончится эта встреча, он вызвался съездить в колхоз один. Однако Тойво Вихури уже с самого начала возымел намерение присматривать за ним на всякий случай, чтобы потом не пришлось раскаиваться всей делегации, и поехал в колхоз вместе с ним.
Но даже и Тойво не успел вмешаться — так быстро это все совершилось. Пекка слишком хорошо приготовился к тому, что вызревало в нем десять лет изо дня в день, из ночи в ночь, и теперь двигался к этому подобно снаряду, вытолкнутому зарядом из орудия. Глаза его, как и у Тойво, с готовностью озирали окружающие их русские просторы, но мысли видели только одно то, что уже было неотвратимо, как судьба. Приветливые улыбки русских будили в его сердце что-то новое, но он подавлял это, чтобы оно не помешало ему совершить неизбежное, ради чего он пока еще жил.
Только один вопрос он задал русской переводчице и то в самом конце их пути, когда они уже вышли из машины, доставившей их от станции к месту назначения. Он спросил, не ошиблась ли госпожа переводчица, привезя их в это новое, богатое селенье вместо сожженного дотла. Но она ответила, что не ошиблась, и указала ему на новый дом с высокой крышей и шестью окнами, окруженный молодыми березками:
— Сюда, пожалуйста. Он дома.
Пекка вошел. Уже ничто не могло сбить с пути летящий к цели снаряд, даже новый дом, занявший место землянки. Он скорее даже усилил полет снаряда, нежели задержал его, ибо еще раз напомнил о благополучной жизни русского в течение тех десяти лет, когда он, Пекка, уже был мертвецом.
За столом сидело несколько человек, но Пекка увидел только одного и сразу узнал его, несмотря на похудевшие щеки. Больше ему никто не был нужен. Переводчица что-то сказала русскому, глядя на Пекку, и Пекка протянул ему конверт с лоскутом солдатского кармана. Тот взял письмо, и по лицу его прошлись попеременно недоумение, изумление и радость. И когда прошлась радость, он обернулся к столу, чтобы сказать о письме еще кому-то, может быть жене, писавшей это письмо. Но Пекка не видел его жены. Ему не нужна была жена. Никто не был ему нужен в эту последнюю минуту его жизни. Только один человек был ему нужен, и только в одно лицо он впился взглядом, приближая постепенно свою левую руку к тому месту, где под полой пиджака висел его нож.
Ему пришлось шагнуть вправо, чтобы не упустить из виду лицо русского, когда тот повернулся к столу. И сбоку он видел, как вдруг нахмурился русский и как он снова начал поворачиваться обратно с вопросом на лице. Вспомнил! Хватит! Сейчас глаза встретятся! И, выхватив нож, Пекка одновременно крикнул по-русски:
— На! Получай!
Как ни быстр был в своих движениях Тойво Вихури, прыгнувший к нему через половину комнаты, он не успел предотвратить взмах ножа. Взмах ножа пресекло другое. Ловя взгляд русского, Пекка в то же время видел его руки, опущенные на стол вместе с письмом. Он видел, как они скользнули по столу, следуя за поворотом туловища. Но в то время, как правая рука русского, держащая письмо, поднялась выше стола, левая рука с черными, твердыми пальцами скользнула по нему до края и с края сорвалась вниз, повиснув мертвым грузом вдоль туловища русского. Это пресекло взмах ножа, хотя возглас уже прозвучал и острие ножа сверкало, открытое взорам всех, пораженных тревогой.
И, словно желая прикрыть от них этот блеск, Пекка обхватил острое лезвие ладонью правой руки. И в этот миг он встретил взгляд русского. Не сознавая еще сам, что делает, Пекка медленно вытянул руки, держащие нож в горизонтальном положении, ему навстречу и повторил еще раз уже совсем тихим голосом:
— На, получай…
Он повторил это и остался с раскрытым ртом, сам удивленный тем, что делает. Пот выступил у него на лбу от небывалого напряжения мысли, но голова его выдержала испытание, не допустив ошибки. И когда русский принял от него нож и ножны, Пекка сказал переводчице, тяжело выдавливая каждое слово:
— Это ему… в знак того, что… кончена… между нами… вражда.
Русский горячо встряхнул ему руку, и Пекка поморщился от боли.
— Твоя работа, — сказал он, тронув ее у плеча.
Русский тоже потрогал ее с виноватым видом. Но Пекка сказал:
— Не твоя вина. К вашим докторам нужно было мне сразу пойти. — Он подумал немного и добавил: — И не она помешала мне заработать пять гектаров, а всякие другие причины, делающие вас богачами рядом с нами. — И, подумав еще немного, он прибавил к сказанному — И могло бы совсем обойтись без драки, если бы разговор с вами вел сам финский народ.
Тойво Вихури положил ему руку на плечо и сказал русскому:
— О, Пекка у нас парень с головой. Самородный талант, к тому же. На днях отдел народного искусства в Хельсинки приобрел его резную работу по дереву за сто двадцать пять тысяч марок.
— Вот как! — сказал Пекка.
— Да что же вы стоите? — спохватился русский. — Садитесь за стол. Вот это моя жена и дочурки. Садитесь. Будем обедать вместе.
— Вот как! — повторил Пекка, чья голова получила в этот день слишком непривычную нагрузку, но все же одолевала ее. И, садясь на стул, указанный хозяйкой, он сказал: — Приезжайте и вы к нам. У меня тоже очень добрая хозяйка. Конечно, нам еще недостает чего-то такого, что помогло бы человеку, совсем потерявшему на войне руку, выстроить себе новый дом и подняться из нищеты, но надо бы подумать. Нам тоже надо бы подумать и понять, как это к людям приходит такое.
И он уселся за стол русского, полный новых мыслей и новых слов. Так все обернулось в его жизни. За стол русского он уселся, того самого русского. И это нужно было до конца понять.
Черт его знал, что все так получится. Не за этим он сюда ехал. Но хорошо, что все получилось именно так.
1954
Примечания
1
«Карелия».
(обратно)2
«Домашний очаг».
(обратно)3
Мой мальчик.
(обратно)4
Спасибо.
(обратно)5
Убей меня.
(обратно)6
Ты великая мать.
(обратно)7
Скрытный.
(обратно)8
Шюцкор.
(обратно)9
Финны и карелы, вперед!
(обратно)10
Войдите.
(обратно)11
Подожди.
(обратно)12
Прочь! Иди прочь!
(обратно)13
Финский нож.
(обратно)14
Члены женской шюцкоровской организации.
(обратно)


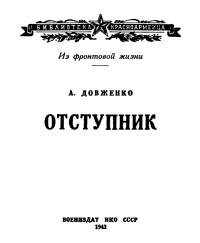


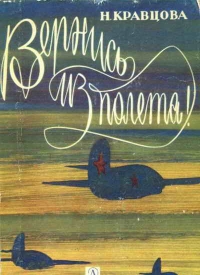
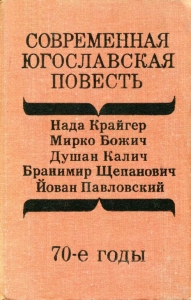


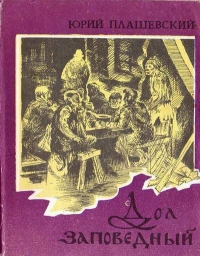

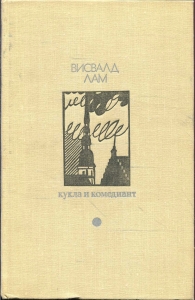

Комментарии к книге «Мать», Эльмар Грин
Всего 0 комментариев