Богдан Сушинский Живым приказано сражаться (сборник)
© Сушинский Б. И., 2008
© ООО «Издательский дом «Вече», 2008
* * *
Книга первая Живым приказано сражаться
1
Спецкоманда оберштурмфюрера СС Штубера «Рыцари Черного леса», спешно сформированная управлением СД при штабе группы войск «Юг», прибыла в Подольск почти сразу же после вступления туда передовых частей вермахта и румынской королевской армии. В городе пока еще царил хаос: особые команды вылавливали по окраинам успевших переодеться в гражданское легко раненных окруженцев и дезертиров, «фильтровали» застрявших здесь беженцев; местная полиция, штаты тюрьмы и лагеря для военнопленных еще только формировались, а всевозможные армейские и гражданские тыловые службы только-только успели найти себе приют и распаковать ящики с документацией.
Однако вся эта неустроенность Штубера не смущала. Даже при такой неразберихе людям его профессии можно успеть очень многое. Тем более что в его подразделение из пятидесяти человек входили русские белоэмигранты, а также украинцы и немцы, давно являвшиеся агентами гестапо, службы безопасности или абвера и получившие хорошую подготовку в разведывательно-диверсионных школах. Кроме того, в большинстве своем «рыцари» уже приобрели достаточный опыт борьбы с подпольем и силами сопротивления в Польше, Бельгии, Франции… Вот почему командование было убеждено, что теперь они столь же эффективно смогут оказывать помощь гестапо, сигуранце и местной полиции в подавлении сопротивления на Украине.
Наспех обосновавшись в одном из зданий на территории давно опустевшего и вконец разграбленного женского монастыря, оберштурмфюрер затребовал списки схваченных в городе русских диверсантов и активистов, попытался выяснить контингент лиц, преследовавшихся большевистским режимом, а главное – наладить контакты с давно действовавшей в городе и его окрестностях немецкой разведывательной агентурой, досье на которую ему было предоставлено еще на правом берегу Днестра.
Но каково же было удивление Штубера, когда сам он вдруг получил совершенно неожиданное для него задание. Несмотря на то что фронт продвинулся уже на добрую сотню километров вглубь Украины, гарнизоны нескольких мощных дотов, составляющих когда-то узловые точки линии обороны по Днестру, все еще отказывались сложить оружие. Сначала их сопротивление показалось столь незначительным эпизодом этой войны, что командование 2-й немецкой армии даже не сочло необходимым сообщать о сражающихся дотах в штаб южной группы войск. Однако потери возрастали, доты оказывались во все более глубоком тылу, и нужно было что-то предпринимать еще до того, как они попадут в сводки, направляемые в штаб Верховного командования вермахта.
Смелый рейд оберштурмфюрера Штубера по тылам русских, который он провел, воспользовавшись операцией по захвату моста в районе Подольска, и его обстоятельная разведка большого участка укрепрайона сразу же принесли ему славу опытного и бесстрашного разведчика. О его подвиге уже было доложено руководству гестапо в Берлине, и оно санкционировало представление Штубера к награждению Железным крестом.
Само собой разумеется, что когда стало ясно: гарнизоны дотов будут продолжать это бессмысленное сопротивление до последней возможности, – в штабе командующего группой армий «Юг» сразу же вспомнили об этом офицере. Ему и было приказано возглавить операцию по подавлению четырех дотов южнее Подольска. При этом в приказе особо подчеркивалось, что скорейшая капитуляция гарнизонов – задача не только сугубо военная, но и пропагандистская. Русские и их союзники на Западе не должны получать столь яркие примеры героической борьбы против непобедимой армии фюрера.
Да, действительно, не должны… Как человек, знающий цену пропаганде, Штубер был абсолютно согласен с этим. К тому же он с трудом соглашался верить, что гарнизоны дотов настолько непоколебимы. Просто в подобных ситуациях нельзя полагаться только на оружие и угрозы. Чаще всего, наоборот, нужно исключать и то, и другое. Именно поэтому, прибыв в расположение 120-го дота, уже третьи сутки осаждавшегося немецкой и румынской ротами (а до них здесь оставили до трети своих составов две другие роты, сражавшиеся на этом участке в момент захвата укрепрайона), он был настроен весьма оптимистично. По крайней мере, Штубер твердо знал, что нужно сделать, чтобы русские осознали всю бессмысленность сопротивления.
– Господин оберштурмфюрер, вверенная мне рота…
– Знаю, обер-лейтенант, знаю, – снисходительно остановил его Штубер. – Еще несколько таких бездумных штурмов, и от вверенной вам роты останется только список личного состава. Сколько вы потеряли здесь людей?
– Сорок два человека, – Штубер был одного звания с командиром роты, но обер-лейтенант хорошо понимал, что простое соотношение званий здесь недопустимо. Перед ним был эсэсовец, сотрудник гестапо, командир особой команды… О чем его заранее поставили в известность.
– А наши доблестные союзники? – кивнул он в сторону запоздавшего с докладом румынского капитана, который, грузно переваливаясь с ноги на ногу, пытался подбежать оставшиеся двадцать метров.
– Около шестидесяти.
– Я вижу, вы даже убитых не хороните. И раненых тоже, наверное, оставляете на поле боя?
– Раненых стараемся подбирать, господин оберштурмфюрер. Ночью. В доте снайпер, мы несем большие потери.
– Что, действительно снайпер? Со снайперской винтовкой? Или просто метко стреляющий человек?
– Разве это можно определить?
– При некоторой наблюдательности.
– Не знаю. Но стреляет он метко. Не дай вам Бог лично убедиться в этом.
Они начали разговор на верхней террасе долины, однако Штубер постепенно спускался вниз, поэтому обер-лейтенант и румынский капитан, доклад которого Штубер так и не пожелал выслушать, вынуждены были спускаться вместе с ним. При этом они все время с опаской поглядывали на дот.
– Здесь уже опасный участок. Он простреливается из дота. Мертвая зона – вон там, господин оберштурмфюрер, – показал обер-лейтенант Вильке на плато за амбразурами. – Мы можем подняться на крышу дота. А на амбразуры можно взглянуть вон оттуда, от реки, из окопов…
– Я видел их, когда в этих окопах еще были русские, а вы со своей ротой отсиживались в тылу за пятьдесят километров отсюда. А что касается крыши – это интересно. Как ведут себя русские?
– Вчера они пытались вырваться из окружения.
– Вот как? Весь гарнизон?
– Почти весь. В доте оставалось несколько добровольцев, прикрывавших прорыв. Это была яростная атака.
– И что же?
– Семерых мы убили. Остальных заставили уползти в свою каменную нору.
– Почему же не ворвались в дот на их спинах?
– Это происходило около двух часов ночи. Русские прорывались в двух направлениях. Все произошло неожиданно.
– Понятно: вы не сумели организовать штурм дота, когда он, по существу, был небоеспособным. И еще… объясните мне: почему вы не выпустили русских? Почему не разомкнули кольцо окружения?
Обер-лейтенант удивленно смотрел на Штубера и не мог понять, шутит тот или говорит серьезно.
– Что вы так смотрите на меня, обер-лейтенант? Вам не понятен вопрос? Или размышляете над тем, как бы получше донести на меня в гестапо?
– Мы не имели права упускать этих русских.
– А загонять их назад, в дот, чтобы они сопротивлялись еще яростнее, обстреливая наши переправы и дорогу на той стороне, вы имели право? – Штубер не повышал голоса. Он говорил спокойно, с почти доброжелательной улыбкой на лице. Но именно это спокойствие гестаповца привело обер-лейтенанта в холодный ужас. – Русские вышли из дота. Почти весь гарнизон. Пошли на прорыв. Неужели непонятно, что на вашем месте любой мыслящий офицер бросал бы каждому русскому по плитке шоколада, только бы он подальше убрался отсюда? А вам, капитан, это тоже непонятно?
– Понятно, господин, э-э… – привстал капитан на носках, пытаясь разобраться в звании Штубера.
– А если вам все понятно, господа, тогда выстраивайте свои роты, сами становитесь впереди и строевым шагом, под барабанный марш, идите на амбразуры, выбивайте русских. Делайте что хотите, но чтобы до вечера их там не было. А я посмотрю отсюда, с этой крыши, как это у вас получится.
Капитан и обер-лейтенант переглянулись и опустили глаза. Сейчас-то они, конечно, поняли, что относительно психической атаки оберштурмфюрер шутит. Тем не менее каждый из них с ужасом подумал, что этот гестаповец и впрямь может заставить их снова пойти в лобовую атаку на дот. Ведь решались же они на такие атаки уже дважды!
– Да, господа офицеры, не зря не только в штабе армии, но и в штабе группы войск обеспокоены тем: в состоянии ли вы выполнить эту заурядную тыловую задачу.
– Но ведь есть же газы, господин оберштурмфюрер, – поспешил перевести разговор в другое русло Вильке. – Одна газовая атака – и…
– …И весь мир узнает, что мы нарушили международную конвенцию, запрещающую использование химического оружия, – вновь улыбнулся своей обаятельно-садистской улыбкой Штубер. – Кроме того, я уже побывал в одном из захваченных дотов. Там есть фильтрационные устройства, бойцы снабжены противогазами… Так что оставим фантазии, обер-лейтенант.
– Может, допросим пленного, господин э-э… – нерешительно предложил толстячок капитан на своем скверном немецком.
– А что, взят пленный из гарнизона? – удивленно уточнил Штубер, глядя на Вильке. – Почему он до сих пор не здесь?
– Его взяли румыны, господин оберштурмфюрер, – поежился тот.
– Ах, его взяли румыны? Так доставьте его сюда вместе с вашими румынами.
Пока из ближайшего блиндажа доставляли пленного, которого специально придержали в надежде, что он обратится к гарнизону с просьбой последовать его примеру, Штубер сел в свою переоборудованную из бельгийского полицейского фургона пропагандистскую машину и приказал двум помощникам поднести громкоговорители к мертвой зоне, поближе к доту.
– Русские солдаты, – сказал он спокойно и несколько устало. – С вами говорит командир осадного отряда оберштурмфюрер СС Штубер, – он не считал необходимым скрывать свою фамилию. Откровенность должна импонировать несчастным, которых загнали в каменный мешок. – Вы храбро сражались, до конца выполнив не только приказ командования, но и свой солдатский долг. И не ваша вина, что войска вынуждены были бежать, оставив вас на произвол судьбы. – Штубер помолчал, давая русским возможность осознать истинность сказанного им. Конечно, любой другой немецкий офицер сейчас же предложил бы красноармейцам уничтожить командира и большевиков и выйти с поднятыми руками. После чего им гарантируется… Однако Штубер считал этот ход примитивным. Заставить стрелять в людей, с которыми ты только что сражался насмерть! Или поступать против воли командира… Возможно ли это в условиях дота? – Да, вы храбро выполнили свой долг, и я как офицер ставлю вашу храбрость и преданность в пример своим солдатам. Но вы сами понимаете, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Гарнизоны многих других дотов уже сдались. Пора и вам тоже подумать о своем спасении. Предлагаю такой план сдачи в плен. Я отведу своих солдат еще метров на триста от дота. Вы выходите с личным оружием и складываете его возле входа. После этого состоится беседа, и вас на автомашине доставляют в ближайший лагерь для военнопленных. Со временем уроженцы освобожденных нами от большевизма мест будут отпущены по домам, к своим семьям. Раненых сразу же поместим в немецкий госпиталь, где им окажут необходимую помощь. Жизнь офицеру и коммунистам также гарантируем. Я заявляю это, имея полномочия штаба группы армий «Юг» войск Великой Германии. На размышление – двадцать минут. Для уточнения условий сдачи можете выслать парламентеров.
Штубер выключил микрофон, вышел из машины и, закурив сигарету, пошел к карнизу, под которым, на нижнем ярусе склона, находился дот. Повсюду сопровождавший Штубера фельдфебель Зебольд тотчас же подал ему бинокль.
– Вы, конечно, очень хорошо обратились к ним, – плелся Вильке вслед за оберштурмфюрером. – Но уверен, что они не сдадутся. Так просто они ни за что не оставят свой дот.
– Вы пророк, обер-лейтенант, – невозмутимо заметил Штубер. – А главное, только вы один знаете, как их можно выбить оттуда. Но храните это в тайне. С какой стати?
– Вот пленный, господин э-э…
– Не экайте, капитан. Если вам трудно запомнить мое звание – оберштурмфюрер, то называйте просто: мой генерал. Вашему коллеге, обер-лейтенанту Вильке, это будет импонировать больше, чем «э-э».
Он взглянул на пленного. Узкоплечий, приземистый, лицо посеревшее, осунувшееся, все в синяках и кровоподтеках; гимнастерка разорвана, левое предплечье перевязано грязным бинтом. Лет двадцать семь – двадцать восемь. Лицо простолюдина, без каких-либо признаков интеллекта. Судя по всему – из крестьян.
– Красноармеец Рогачук, – подсказал капитан, заглядывая в подсунутую ему унтер-офицером бумажку.
– Ты из гарнизона этого дота? – спросил пленного Штубер, расстегивая кобуру.
– Нет, – замотал тот головой, пытаясь отступить на шаг назад, но натолкнулся на конвоировавшего его унтер-офицера. – Я был в прикрытии.
– А почему ты испугался? Ничего страшного, даже если бы ты был из гарнизона. Приходилось бывать в доте?
– Нет. Туда посторонних не впускали.
– Сколько там осталось солдат?
– Не знаю. Всего вроде было тридцать. Сейчас не знаю.
– Ясно. Сколько пулеметов?
– Не считал.
– Что – находясь в прикрытии, не смог определить количество пулеметов?
– Да не определял я, – болезненно поморщился Рогачук. – Мне это ни к чему.
– Боишься выдать военную тайну? – поиграл желваками Штубер. Сейчас он с величайшим удовольствием разрядил бы в этого русского всю обойму. Но не время… – Ну ладно. Не стану принуждать тебя к этому. Последний вопрос, который военной тайной не является: как фамилия коменданта дота? Если ты не ответишь на этот пустяковый вопрос, я прикажу пригвоздить тебя штыком вон к тому клену.
Пленный молчал. Но за его спиной, оттеснив румынского унтер-офицера и двух солдат-конвоиров, уже стоял верзила-фельдфебель.
– Фамилия и звание офицера, который командует дотом? – повторил Штубер.
Ударом в голову фельдфебель сбил пленного с ног. Конвоиры услужливо подняли его, но фельдфебель сбил еще раз. И так повторялось трижды. Потом один из солдат полил на него из фляги, дал возможность сделать несколько глотков и, когда тот пришел в себя, поднял на ноги. Фельдфебель молча достал из ножен узкий длинный кинжал, обтер его об штанину и пошел на пленного. Тот попятился, споткнулся, но его подхватили под руки.
– Ответь, идиот, – по-дружески прошептал ему на ухо фельдфебель, схватив левой рукой за волосы, а правой приставив кинжал к глотке. – Мне уже пятерых пришлось зарезать. Он и тебя прикажет…
– Лейтенант, – еле выговорил пленный, ибо лезвие мешало ему говорить. – Кажется, Беркут. Так его называли.
– «Беркут» – это название дота. А фамилия лейтенанта? Его тоже так называли? Зебольд, уберите свой дурацкий кинжал, дайте поговорить с пленным. Так, значит, его тоже зовут Беркутом?
– Да, и младший лейтенант наш, и сержант называли его именно так.
– А фамилия?
– Ответь, – снова прохрипел на ухо Зебольд. – Он же заставит распять тебя.
– Кажется, Громов, – еле выдавил из себя пленный. – Да, я слышал: Громов. Но точно не знаю.
– Значит, лейтенант Громов, он же Беркут. Это уже кое-что. Как с тобой обращаются здесь, в плену?
Рогачук пожал плечами и с тоской посмотрел куда-то в сторону реки.
– Капитан, дайте возможность пленному помыться, накормите его, обеспечьте сигаретами и покажите фельдшеру. Завтра мы с ним еще поговорим.
Штубер посмотрел на часы. Объявленные двадцать минут давно прошли. Из дота никто не показывался. В сопровождении офицеров он спустился ниже, приказал фельдфебелю дать ему рупор… Но воспользоваться им не успел: в эту минуту оба орудия дота открыли огонь по дороге, ведущей к переправе, а пулеметчики сразу же пригнули к земле румынских солдат, высунувшихся было из окопов в предчувствии выхода гарнизона, которого ждали, словно пришествия Христа.
– Поздравляю, обер-лейтенант, – невозмутимо сказал Штубер, видя, как тот торжествующе улыбнулся. Очень уж не хотелось Вильке, чтобы Штубер оказался удачливее и хитрее его. – Этого и следовало ожидать. У вас есть радиосвязь с артиллеристами на противоположном берегу?
– Есть.
– Сколько там орудий?
– Четыре.
– От моего имени прикажите артиллеристам в течение получаса бить по амбразурам. Под их прикрытием вройте в землю еще четыре орудия – уже на этом берегу.
– У меня их нет.
– Вон они, – показал Штубер на дорогу, ведущую вдоль берега реки. – Там, в долине, за развалинами, два орудия. Их нужно подогнать как можно ближе и поставить на прямую наводку. Кроме того, наверху ждут две танкетки. Подготовьте для них укрытия, в той стороне, где завод. Пусть бьют, сменяя друг друга. В перерывах между стрельбой и потом всю ночь держать амбразуры под ружейным огнем. Отберите в своих ротах по десять лучших стрелков. А я постараюсь заполучить для вас хотя бы одного профессионального снайпера.
– Спасибо, господин оберштурмфюрер.
– Да, вон, видите, на плато – трубы и бетонное отверстие. Это воздухонагреватели. Когда кончится обстрел, пошлите пару солдат, пусть забросают их гранатами и забьют камнями. Причем забьют так, чтобы туда не смог проползти даже муравей. Тогда русские будут дышать орудийной гарью. Это поднимет их боевой дух. И еще: через каждые два часа имитируйте пластунскую атаку. Пусть румыны, – Штубер замолчал и взглянул на стоявшего в стороне капитана, – ползком подбираются к доту, а в это время ваши стрелки будут бить по амбразурам.
2
После каждого взрыва дот вздрагивал, словно загнанный в яму-ловушку мамонт, который уже не в состоянии был ни спастись, ни ускорить свою мученическую гибель. Единственное, что ему еще удавалось, – это подавлять предсмертные стоны приступами глухой, гордой ярости: те, кто добивал его, не должны были слышать его стонов. Вот почему, когда начинались обстрелы, Громов все чаще приходил сюда, в дальний закоулок, где в углублении, уже внутри скалы, почти за пределами дота, был выдолблен небольшой колодец. Вода в нем оказалась удивительно холодной и по вкусу своему напоминала Громову воду лесного родника, который находился недалеко от его дома на Дальнем Востоке.
Возле колодца всегда стояло ведро, но, когда рядом никого не было, Андрей не пользовался им, а наклонялся и черпал кружкой. Ему казалось, что так, склонившись над колодцем, он даже улавливает источаемый им запах соснового леса. Того леса, из которого, вполне возможно, и пробилась сюда эта вода. Впрочем, пригоняла его сюда не жажда. Просто это было единственное место в доте, где, в виде небольшого подземного родничка, все еще пульсировала та естественная, завещанная Богом жизнь и где, созерцая ее пульсацию, лейтенант мог отсидеться, прийти в себя, осмыслить создавшееся положение.
Вот и сегодня, почувствовав, что от грохота, а еще от усталости и бессонницы, у него раскалывается голова, Громов подошел к колодцу, набрал в кружку воды и, вдыхая знакомый, почти пьянящий запах соснового леса, вдруг услышал… журчание ручейка. Дикость какая-то.
Прислушался внимательнее. «Галлюцинация? Не похоже. Галлюцинации – это чуть попозже, через несколько дней. Как зов с того света».
Он придвинулся поближе к стене, снова наклонился и ощутил, как из стенки колодца дохнуло на него сырым, могильным каким-то холодом. Нагнувшись еще ниже, лейтенант повернулся на бок и ощупал стенку. В двух местах пальцы его ушли в зияющую пустоту. Туда же постепенно уходила и вода.
«Только этого не хватало!» – с ужасом подумал он, поняв, что произошло. Строители дота не заметили, что от пустоты их отделяет лишь тонкая стенка камня. А сейчас, под взрывами бомб и снарядов, эта стенка дала трещину. Пока трещина захватила только верхнюю часть колодца и вода вытекает до определенного уровня. Но что будет завтра? После еще одного попадания бомбы? А без воды они больше двух суток не продержатся.
– Товарищ лейтенант, – налетел на него в проходе Степанюк. – Второй пулемет вышел из строя. Снаряд врезался в амбразуру и взорвался почти в доте. Ужицкий и Загойный убиты.
– Погибших – в спецотсек, – еле слышно проговорил Громов после тягостного молчания. – Опять потери. Почему мы так много теряем людей? Да, возьмите двух бойцов и заполните водой всю имеющуюся в доте посуду.
– Зачем? Ведь колодец…
– Очень скоро можем остаться без воды. В колодце трещина. Но говорить об этом бойцам не нужно. И еще… В доте есть максим, которым вы нас прикрывали. Попытайтесь пристроить его на турель. На нем будем работать мы с Абдулаевым. Немцы не должны догадаться, что вывели из строя пулемет.
Сержант неуклюже козырнул и трусцой побежал к пулеметной точке. Глядя ему вслед, Громов подумал: «Хорошо, что я не отправил Степанюка и его людей наверх, как предлагал Газарян. К этому времени никого из них уже не было бы в живых. Атак погиб лишь Загойный». И сразу же поймал себя на том, что уже не воспринимает смерть этих двух людей так болезненно, как воспринимал гибель первых своих бойцов: Сатуляка, Рондова, Кожухаря… Что это, очерствение души? Безразличие, появившееся перед ощущением близости и неотвратимости своей собственной смерти? Одно из проявлений обреченности? Впрочем, как бы это ни объяснялось, бойцы не должны заметить его черствости.
Подумав это, Громов сначала зашел в отсек, где лежали убитые, в присутствии всех пулеметчиков попрощался с ними, и только потом пошел в свой командный… По привычке взялся за перископ, но почувствовал, что он не выдвигается. Странно… Разворотило трубу? Просто забило ее? Он открыл амбразуру и сразу же отпрянул: прямо перед ним вырос столб взрыва.
– Газарян! – крикнул он в телефонную трубку. – Слушай меня! Пушкари на том берегу совсем обнаглели. Ударь по одному из орудий своими двумя. Подави его к чертовой матери. Потом возьмешься за другое. Не думаю, чтобы после этого немцы пригнали туда еще несколько орудий. Они нужны им на фронте.
Газарян что-то ответил ему, но расслышать его слова комендант не смог. Его заглушил взрыв гранаты. Взрыв, который прогремел уже в самом доте.
Андрей выскочил из отсека, огляделся. Снова взрыв. Где-то в районе санчасти.
– Мария! – крикнул он. – Что там, медсестра?!
– Немцы! Немцы забрасывают нас через трубы! – услышал в ответ голос Коренко. – Они угробят всю нашу вентиляцию!
«Вот оно что! Впрочем, и это еще не самое страшное. Куда страшнее будет потом, когда они начнут забивать вентиляцию камнями».
– Держитесь подальше от труб! – посоветовал он. – Где Мария?!
– Возле Роменюка. Он бредит.
Час от часу не легче. Утром Кристич сказала ему, что у Симчука тоже плохи дела. Рана начала гноиться, нужна операция, которую сама она, тем более здесь, в доте, сделать не в состоянии. А значит, все кончится гангреной. И мучительной смертью. Однако чем он мог помочь ему? Имеет ли он право удерживать раненых в доте? Имеет ли право обрекать их на физические и духовные страдания? Но что же тогда – открыть дот и сдаться в плен? Сдать дот, в котором еще несколько суток можно вести бои, сковывая вокруг себя как минимум две роты солдат и батарею орудий? Нет, на это он не пойдет. Тогда что же делать? Может, разрешить покинуть дот только раненым и медсестре?
– Товарищ лейтенант, это я, сержант Вознюк из 119-го.
– Слушаю тебя, сержант. Как вы там? Еще держитесь?
– Да трое нас осталось. Всего трое. Один пулемет и винтовки. Что делать?
– Сражаться, сержант, – холодно, жестко ответил Громов. – Сражаться, пока есть такая возможность.
– Но ведь они взорвут дверь и ворвутся. Тут раненые говорят, что надо бы сдаться. Сколько можно мучиться?
– Много раненых?
– Одиннадцать человек, товарищ лейтенант. Шесть из них – тяжело. Что с ними делать? Страшно смотреть на их мучения.
– Да, страшно, – согласился лейтенант, думая еще и о тех раненых, за судьбу которых, за их мучения несет ответственность он сам.
– Я хотел разрешить им выйти. Вынести их. Но побоялся. А дот комбата не отвечает.
– И правильно побоялся. Устав не допускает сдачи в плен ни при каких обстоятельствах. Пока мы живы, приказ для всех один: сражаться! Еще раз поговори с бойцами. Лучше обречь себя на мучительную смерть, чем на позор плена.
– На словах оно, ясное дело… Но тут – сама жизнь…
– Именно о жизни, а не о словах я и толкую. Напомни раненым, что они солдаты. И что во все века, во всех крепостях мира раненые разделяли судьбу своих гарнизонов.
– А ведь так оно и было, – согласился сержант.
После разговора с Вознюком лейтенант сразу же попробовал дозвониться до Шелуденко, но дот действительно не отвечал.
«Может, ведут бой и просто некому поднять трубку?» – подвернулась спасительная мысль. Громову не хотелось верить, что дот Шелуденко замолчал навсегда. Уже отчаявшись услышать в трубке чей-либо голос, лейтенант покрутил ручку еще раз и… вдруг до него долетел слабый, будто идущий из глубокого колодца, голос комбата:
– Ты, Громов? Ты… Прощай, лейтенант…
– Что случилось, товарищ майор?!
– Сожгли они нас, гады. Огнеметами. В амбразуры. Всех, сволочи… Я один. Тоже… ранен… Тут у меня ящик… с гранатами. Сейчас… ворвутся, но я… Сними… Прощай, Беркут…
Андрей еще немного подержал свою трубку, но уже понял, что трубка майора упала в гнездо, а значит, больше он не услышит ни голоса комбата, ни того, что там произойдет.
Громов сел на нары и, обхватив голову руками, прижался затылком к стене. Он устал. Это уже какая-то нечеловеческая усталость, вместе с которой приходит безразличие к жизни. Он настолько устал, что в какую-то минуту вдруг сказал себе: «Поскорее бы это случилось! Нет сил. Пора кончать… Я сделал все, что было в моих силах». Но через минуту-другую все же сумел одернуть себя: «Не паникуй! Как там орал этот Штубер: “И не ваша вина, что войска бежали, бросив вас на произвол судьбы”? На психику жмет. Но ведь нас не на “произвол”, нас для борьбы оставили. В конце концов, кто-то же должен был остаться. Точно так же, как кто-то первым должен пойти на прорыв обороны противника… и погибнуть; первым ворваться в окоп – и тоже…»
– Камандыр! – закричал в трубку Газарян. – Наблюдай! Нэт адын арудий!
– Вижу, Газарян, вижу, – ответил Громов, не поднимаясь с места и не открывая глаз. – Молодец, младший сержант!
– Это тебе мой подарок, камандыр. От солнечной Армении!
– Спасибо, друг. Настоящий солдатский подарок. Береги людей.
– Но должэн тэбэ сказать, что они закапывают в землю два танка. На южный сторона, наблюдаешь?
– Ничего, значит, твоим гайдукам скучать не придется.
– Гайдуки, – сразу же пригасил свою радость младший сержант. – Правильно говоришь. Пусть будет, как хотел Крамарчук: гайдуки. Ребята привыкли. Какой был камандыр, а, какой камандыр! Но… война. Сейчас ничтожим другой арудий!
– Андрей, они забивают трубы камнями, – выросла на пороге Мария. – В отсеках становится трудно дышать.
– Так они и должны поступать. У них нет другого выхода. Чувствую, что у них появился знающий, толковый офицер, настоящий профессионал войны.
– Ты бредишь, лейтенант!
– Почему «бредишь»? Рассуждаю. Там ведь тоже офицеры. Они тоже выполняют приказы.
– Но ведь там, в отсеках…
– Я все понял. Иди к раненым. Успокой их.
– Андрей…
– Идите к раненым, санинструктор Кристич. Ваше место рядом с ними.
Как только она вышла, Громов выдвинул из-под нар ящик с лимонками, быстро распихал несколько штук по карманам, две взял в руки и побежал к выходу.
Видно, фашисты почувствовали себя настолько уверенными, что даже мысли не допускали, что кто-то из гарнизона может вырваться наружу и выбить их с крыши. Этим Громов и воспользовался. Пригнувшись, вскочил в окоп, потом, уже в конце его, выскочил, сделал несколько шагов в сторону и, увидев пятерых или шестерых солдат, таскающих камни, метнул в них одну за другой две лимонки, затем под пулеметным огнем залег, достал из кармана и бросил третью и только тогда спрыгнул назад, в окоп. К стонам и крикам раненых он прислушивался уже сидя под приоткрытой дверью. Что отвечать Марии, как вести себя, слушая ее донесение, – он не знал, зато сделал то единственное, что мог и обязан был сделать. Так пусть же это ему зачтется.
«Ну что ж, теперь до вечера здесь, на плато, они успокоятся», – решил Громов спустя несколько минут, поднялся, сплюнул и спокойно, словно к себе в дом, вошел в дот.
3
Лейтенант погасил свет в отсеке и, прильнув к прикладу карабина, всматривался в фиолетовый квадрат долины, открывавшийся ему с командирской амбразуры.
Помня о том, как немцам удалось сломить дот Шелуденко, он теперь установил круглосуточное дежурство у амбразур, ибо могло случиться так, что однажды, открыв заслонки, они увидят в каждой из них трубу огнемета. И это будет последнее, что они смогут увидеть.
Неожиданно замолчал вечером и 119-й дот. Еще час назад, когда Коренко (который сменил теперь Петруня у телефонов и стал как бы ординарцем коменданта) позвонил туда, Вознюк сообщил, что немцы пытаются взорвать входную дверь.
– Что значит «пытаются»? – подоспел к этому разговору Громов. – У вас уже некому стоять у амбразур? Отбивайте их от двери!
– Считай, некому, – прохрипел в трубку Вознюк. – Отвоевались мои казаки-казаченьки.
– Мы сейчас ударим по твоему доту. Прямой наводкой.
– Ударь. Пусть он и для фрицев станет могилой.
После этого трубку уже никто не поднимал. Хотя линия связи действовала. Неужели и там огнеметы? Да, вермахтовцы постараются использовать ту же тактику, которую использовали у дота Шелуденко. Немецкая страсть к шаблонам.
Громов посмотрел на часы. Без пятнадцати два. Бойцы отдыхали, сменяя друг друга у амбразур. Сегодня осаждавшие вели себя осмотрительнее обычного, но именно эта осмотрительность немцев показалась лейтенанту подозрительной, а недоброе предчувствие помешало закрыть заслонку и лечь.
Тем не менее, задумавшись, он слегка задремал, а очнулся от того, что услышал топот ног. Потом вдруг – длинная автоматная очередь, еще одна, душераздирающий крик человека, которого, очевидно, ударили ножом и, словно галлюцинация… голос Крамарчука, который Громов узнал бы среди тысячи других: «Гайдуки, подъем! Открывай!»
Этот голос мог явиться ему во сне, он мог послышаться от усталости… Однако Громов ни на секунду не засомневался в том, что действительно слышит Крамарчука и, схватив с лежака автомат, пулей вылетел из отсека.
– Камандыр! Там – камандыр! – пронесся мимо него Газарян, чуть не сбив Громова с ног. А вслед за младшим сержантом бежал еще кто-то из бойцов. – Он вернулся!
– Откуда он взялся? – на ходу пытался выяснить лейтенант.
Уже открывая дверь, Громов слышал, как на крыше дота взорвалась граната, но все же бросился в окоп. Правда, сразу же о кого-то споткнулся, а сзади на него навалился тоже споткнувшийся Газарян… И лишь тогда, уже из этой кучи, вдруг снова возник невероятно спокойный голос обиженного Крамарчука:
– Что ж вы, христопродавцы, навалились на меня, как на родного батька, всем гарнизоном?!
И еще им очень, просто-таки сказочно, повезло, что кто-то, выскочивший уже пятым или шестым, в последнюю секунду успел скосить появившегося на крыше фашиста. Правда, при этом шмайссер убитого скатился и больно ударил Громова по голове. Но это уже мелочи.
Потом несколько минут все они выползали из этой свалки, а те, что оставались у амбразур, прикрывая их, напропалую строчили из пулеметов и автоматов, хотя не видели вблизи ни одного фашиста. Из окопов, не понимая, что происходит, тоже начали палить по доту из всех видов оружия. Но когда прогремели первые разрывы снарядов, все пятеро уже были за спасительными стенами дота.
Только теперь Громов заметил, что Крамарчук одет в немецкий китель, а на голове каска. И с ужасом подумал, что, появись сержант в таком одеянии перед амбразурой, он, не задумываясь, выстрелил бы в него.
Бойцы сразу же обступили Крамарчука, ожидая рассказа о его похождениях, но, как всякий опытный балагур, он не спешил: достал пачку немецких сигарет, угостил всех, кому досталось, и, выждав, пока гарнизон успокоится, сказал:
– Однако покурим, гайдуки, потом. Сейчас снова все к амбразурам. А я выползу и соберу автоматы и гранаты. Но главное: один немчура тащил на спине какую-то хре… извиняюсь, здесь женщины… Так вот тащил ее – и не дотащил.
– Где лежит этот немец? – сразу же насторожился лейтенант.
– Недалеко. Это он заорал, когда снимал его ножом.
– Это огнеметчик. Что-то вроде баллона на спине? Точно, огнеметчик. Пойдем вместе. Нужно захватить огнемет.
– Хватит, камандыр, – решительно оттеснил его в сторону Газарян. – Не нада делать все сам. У тебя есть боец, который тоже хочет показать свой храбрость. Я пойду. И ты, Канашов. Тебе, дарагой, доктор Мария давно свежий воздух приказал.
Вслед за ними пошел на вылазку и Коржевский. Желая хоть как-то пособить им, Каравайный, Абдулаев и Кравчук тоже вышли в окоп, чтобы принимать оружие и прикрывать товарищей. Появление Крамарчука сразу же привнесло в жизнь дота неожиданное оживление, породив при этом волну не то чтобы храбрости, а какого-то отчаянного азарта. Прикажи им Громов в эту минуту прорвать окружение, они, конечно же, вышли бы все как один и смяли фашистов. Вышли – и смяли. Но лейтенант не приказал. Он просто не готов был к прорыву. Да и не об этом он сейчас думал.
Нет, этой ночью им действительно везло. Как может везти только в последний раз. Тем, кто уже обречен. Вылазку Крамарчука и остальных бойцов осаждавшие своевременно не засекли, поэтому трое румын, пытавшихся выяснять, что там произошло возле дота, были расстреляны группой почти в упор. Пока остальные бойцы группы собирали автоматы и гранаты, Газарян тащил то, что сейчас больше всего интересовало Громова: баллон с карабином, то есть огнемет. Потом лейтенант несколько минут выяснял, что там к чему в этой немецкой конструкции и как пользоваться этим, вроде бы примитивным, но в то же время страшным оружием, а бойцы тем временем успели вынести на плащ-палатках и оставить среди убитых фашистов тела двух своих товарищей. Завтра, подбирая своих, немецкие санитары подберут и этих бойцов, наверное, решив, что они погибли во время перестрелки, и, конечно, похоронят. Это все, что гарнизон мог сделать для своих погибших товарищей.
– Значит, тогда, во время прорыва, ты сумел прорваться через окружение – это ясно, – сказал Громов, когда все, кроме оставшихся у амбразур Конашева и Абдулаева, собрались в красном уголке. Сам Крамарчук, скрестив ноги, сидел на полу и не спеша курил дорогую, очевидно, у офицера добытую сигарету. – Что было дальше?
– Дальше?.. Если бы мы поднажали именно там, где прополз я, наверняка все и вырвались бы. Хотя, конечно, вру: не все.
– А как же те, двое, моих? – подал голос Степанюк, которому места в отсеке уже не хватило, и он стоял за проемом двери.
– Храбрые были ребята твои бойцы, сержант. Да только жаль, что нет их больше. А вот Ивановский – тот действительно спасся бы. Он ведь вслед за мной пополз. Только я замер под пулеметом, а он обошел меня и дальше… По-моему, его просто не заметили. Тогда я тоже начал карабкаться вслед за ним. Вдруг смотрю: он, отчаянная душа, к пулемету свернул. С тыла решил. Спасение – вот оно! Еще несколько метров – и вершина склона, а за ней – кустарник и лес, и дальше – все места знакомые. Но Ивановский-то не уходить собрался, а подавить пулеметное гнездо. К нему ползет. Атам их двое. Ну, беру курс на пулемет, чтобы, значит, привлечь внимание к себе. В воронку заполз – откуда до пулеметчиков можно гранатой дотянуться. Так свой же близко, мешает. Вдруг слышу: очередь из автомата. Но убил Ивановский только одного, а другой – за нож. Схватились и катятся прямо на меня. Я же – дай Бог разобраться, где свой, где чужой… И сразу за пулемет… Неужели не слышали, как я по немцам прошелся?
– Да не поняли сначала… – вставил Петрунь. – Вроде бы бьет, а кто и по кому?..
– А, то-то же. Фрицы тоже сначала не поняли. Но когда мы отползли и ударили по верхней галерке ихней – сразу всполошились. Ну, пулемет у нас ручной. Я вижу, что свадьба наша уже без музыки, поднялся, отхожу, кричу Ивановскому: «Драпай, браток!» А он метров десять отбежал и осел, хрипит. Несколько метров протащил его… Нет нашего Ивановского. От своей пули-крестницы, говорят, не уйдешь.
– Но, может, он только ранен?
– Ты что, командир, считаешь, что я смог бы оставить его раненого? Храбрый у вас политрук был. Здесь, в доте, мы его храбрости как-то не замечали. Вроде как все. А там он дал бой. – Крамарчук сделал глубокую затяжку, помолчал. – Ну, тогда я что? Я – к окопам. Но то ли заело у меня что-то в пулемете, то ли патроны кончились – ей-богу, так и не понял. Словом, отбросил эту бандуру подальше и даю драпа окопами. Они пустые, снарядами разрытые. Но вижу: от поселка – тоже немцы. Забился я в полуразрушенный блиндаж с обвалившейся крышей, залез под нары и только там докумекал, что я же совсем безоружный: автомат-то мой где-то возле пулеметного гнезда остался. Хоть повесься: ни гранаты, ни ножа… И даже камня под рукой. Ну, думаю, вытащит меня сейчас немчура за шиворот, встряхнет и начнет мной в футбол играть. Верите: лежу, потом холодным обливаюсь. Когда слышу: румын орет. А я ж тут среди молдаван жил, все понимаю. «Он здесь! – орет. – Убит!» Это он на Ивановского наткнулся. Потом уже и немцы закрякали. Пулемет нашли, убитого русского нашли и, считай, успокоились. Так, для порядка, потоптались возле окопов, фонариками посветили, но, видно, решили, что только один и прорвался. Посидел я в этой норе еще с часок. И тоска взяла. Дом рядом, всего за несколько километров. Но чувствую: не пройти мне туда. Пошарил по окопам, нашел засыпанную глиной трехлинейку с тремя патронами – и в перелесок. Немцы-румыны кругом, а я – как заяц под елкой. Когда вижу: Ганс-обозник с термосом на спине марширует. Согнулся в три погибели, тяжело ему. Аж пар из него валит. Конечно, пришлось помочь вояке. А вечером, как только стемнело, в его мундире и с его автоматом присоединился к румынам. Смотрю: несколько человек сюда снарядились. Я через окопы – и за ними. Румыны сзади кричат: «Немец, стой! Куда? Там дот!..» А мне туда и нужно. Ну а дальше вы все знаете.
Крамарчук еще раз затянулся, пустил сигарету по кругу и только сейчас заметил, что все удивленно уставились на него, как на седьмое чудо света.
– Вы чего? – не понял сержант. – Что – думаете, бульки пускаю?
Бойцы молча переглянулись.
– Чего ж ты сюда вернулся, Крамарчук?! – первым нашелся Конашев.
– Как это – «чего»? Куда же мне еще возвращаться? – не понял сержант.
– Ну ведь ты уже был там, на свободе. Зачем же ты сюда?.. Господи, мне бы только вырваться отсюда…
– Так ведь я и не прорывался, – пожал плечами Крамарчук. – Мы ж как договорились, вон, с товарищем лейтенантом? Отвлекаем фашистов, прикрываем отход. И назад. А тут получилось, что вроде бы я обманул и дал драпа. Целый день на душе муторно было. Представлял себе, как вы тут меня чехвостите. А я что? Если бы уходить хотел, я бы так и сказал…
«Узнают ли когда-нибудь историки войны, – подумал Громов, слушая Крамарчука, – Украина, вся страна или хотя бы этот небольшой городок, под стенами которого мы умираем, о том, какие человеческие драмы здесь разыгрывались, какое мужество и какую преданность проявляли эти ребята – Крамарчук, Коренко, Газарян, Ивановский? Неужели все, что мы здесь пережили и что нам еще предстоит пережить, так и останется для потомков мрачной тайной этого подземелья? Это было бы несправедливо. Слишком несправедливо…»
Утром на позициях немцев южнее дота вдруг начали рваться снаряды. Они падали нечасто, хаотично, но стрелявшие клали их именно в ту просматриваемую с «Беркута» долину, в которой фашисты накапливались и в которой уже были готовы к стрельбе два танка.
– Крамарчук! – приказал по телефону Громов. – Немедленно поддержи из обоих орудий. Это ожил 121-й дот. Степанюк, причесывай пулеметами всех, кто высовывается из окопов.
А сам вызвал по телефону «Сокола». Трубку поднял Родован.
– Наблюдаю работу твоих пушкарей, лейтенант. Возьми чуток ниже, поближе к реке. Мы поможем.
– Нет уже моих пушкарей, Беркут.
– Как нет? А стрельба?
– Я сам стреляю. Телефон переключил сюда, на артотсек. Только что погибли санинструктор и двое моих последних бойцов.
– И даже санинструктор? – невольно вырвалось у Громова.
– Последнюю атаку она отбивала, стоя у амбразуры. Мужественная была женщина. В городе осталось двое ее детей. – Они оба помолчали. – У меня здесь вблизи цели для орудия нет. Так что пока видишь разрывы моих снарядов – лейтенант Родован жив. Последняя гастроль, Беркут, последняя гастроль…
– Держись, лейтенант, держись.
– Извини, некогда… Гости с того берега.
Орудие «Сокола» замолчало через полчаса. Минут десять Громов пытался дозвониться до Родована, но безуспешно. Потом вдруг орудие ожило еще раз. Снаряд лег почти возле дота. Очевидно, лейтенант послал его, уже будучи тяжело раненным. Это был его прощальный выстрел. Прощальный салют своему погибшему гарнизону.
4
Когда утром Штубер подъехал на своей, как он называл ее, фюрер-пропаганд-машинен к доту, пленный Рогачук уже стоял там, в окружении румынского капитана, немецкого обер-лейтенанта и двух немцев-конвоиров. Приказ оберштурмфюрера был выполнен в точности: пленный побрит, гимнастерка постирана, правый рукав оттопыривался, скрывая бинты, которые – Штубер в этом не сомневался – были свежайшими.
– Пленного – к машине, – бросил оберштурмфюрер, приказав фельдфебелю Зебольду включить магнитофон.
Рогачук подошел и остановился в двух шагах от дверцы, но Штубер велел ему подойти еще ближе.
– Военнопленный, для того, чтобы поместить вас в лагерь, где вас будут содержать со всем надлежащим для подобных лагерей обеспечением, нам нужно выполнить небольшую формальность. Вы обязаны ответить мне, как представителю немецкого командования, на несколько вопросов. Ваша фамилия, имя, отчество?
– Рогачук Степан Петрович.
– Воинское звание?
– Красноармеец, – неохотно отвечал пленный.
– Вы сдались в плен добровольно?
– Раненым взяли. Раненым. Яне сдавался.
– Почему вы так заволновались? Мы не собираемся выдавать вас русскому командованию, которое могло бы предать вас суду. Даже если бы вы оказались перебежчиком.
– Но я не перебежчик. Я не сдавался, – с тупым упрямством твердил пленный, слегка раздражая Штубера.
– Как с вами обращались теперь, здесь, в плену? – сделал ударение на слове «теперь».
– Ну, вчера хорошо.
– Вы ранены, поэтому вам оказали медицинскую помощь: перевязали, сделали укол и, конечно же, накормили?
– Да… вроде.
– Жаль только, что нечего курить? Могу предложить сигарету. Что вы говорите, обер-лейтенант? Солдаты угощали его? Немецкие солдаты действительно поделились с вами сигаретами, военнопленный Рогачук? У вас целых две пачки?
– Да. Только я у них не просил. – Он вынул из карманов обе пачки и бросил на землю перед автомашиной. Но те, кто будет слушать запись допроса, этого не увидят.
– Отказавшись сдаваться в плен, сражаясь в окружении, вы совершили тяжелое преступление против армии фюрера. На вашей совести много погубленных жизней, много сирот среди детей немецких солдат, которые пришли сюда с единственной целью: очистить вашу землю от коммунистической чумы. Однако немецкое командование гуманно. Вам будет сохранена жизнь. Вы будете помещены в лагерь для военнопленных, организованный прямо здесь, недалеко от Подольска. Да, кстати, вы местный? В каком селе проживает ваша семья?
– В Грушевом.
– Очевидно, это недалеко отсюда?
– Недалеко.
– В таком случае вам повезло. Вы дадите точный адрес, и комендатура лагеря сможет сообщить о вас родным. А те, в свою очередь, смогут повидать вас. Через три месяца, если вы будете хорошо работать в лагере и не будете нарушать дисциплину, вас освободят и отправят домой.
– Уж вы отправите!.. Это точно.
– Речь идет не только о вас. Так поступают со всеми, кто ведет себя благоразумно.
В тот день, в перерывах между жесточайшими обстрелами дота, Штубер четырежды пропускал эту запись через громкоговорители, призывая гарнизон «Беркута» прекратить бессмысленное сопротивление и разделить божескую участь своего товарища.
– Мужественные защитники дота, – завершил он четвертый сеанс агитации, сидя в своей фюрер-пропаганд-машинен, – вам предоставляется последняя возможность почетно сдаться в плен. Немецкое командование гарантирует вам жизнь. Если через два часа вы не поднимете белый флаг, все вы будете уничтожены, а ваши семьи и ближайшие родственники казнены через повешение. Пусть примером для вас служит мудрость красноармейца Рогачука, не пожелавшего умирать за бредовые идеи большевиков. Можете завидовать: он спокойно дождется конца войны в обнимку со своей Марусей.
Когда прозвучали эти слова, Рогачук, поняв, для чего немцам нужно было подсовывать ему сигареты и стирать гимнастерку (его уже предупредили, что он еще должен будет подойти прямо к амбразурам дота и попытаться уговорить гарнизон сдаться), сбил с ног конвоира, выхватил винтовку и…
Выстрелить он не успел. Хладнокровный выстрел Штубера, прямо в лицо, прогремел на секунду раньше.
Но о том, что произошло тогда возле фюрер-пропаганд-машинен, в доте уже никогда не узнают.
5
Громов отпустил ручки максима и почувствовал, что затерпшие, почти онемевшие пальцы не хотят разгибаться, а в руках все еще пульсирует лихорадочная дробь пулемета.
– Все, Коренко, на этот раз мы их тоже умыли, – он повернулся на спину и лег на покрытый шинелью дощатый лежак. – Немного отдохнем, потом поднесем патроны… Обычная фронтовая работа.
Сегодня фашисты вели себя как ошалелые. Они пригнали сюда еще целую роту румын, и теперь атака следовала за атакой, а в перерывах между ними, сверху, с крыши, их забрасывали гранатами. Очевидно, кому-то из высокого немецкого командования понадобилось во что бы то ни стало сегодня же оседлать амбразуры и, окончательно блокировав дот, сделать его существование бесполезным. Никакими иными причинами эту их ошалелость объяснить было невозможно.
Да, тактика противника изменилась. Громов понял это еще утром и теперь все больше убеждался, что фашисты не жалеют ни снарядов, ни людей.
– Отдохните, товарищ лейтенант. Вы устали больше, чем я. Тем временем притащу колодки с лентами. Вдруг опять нахлынут.
Громов молча кивнул. Дважды отказавшись уйти из дота вместе с ранеными, Коренко теперь всячески старался быть полезным. Он помогал Громову у пулемета, становился с винтовкой к амбразурам, постоянно помогал Марии ухаживать за ранеными и даже варил для них на примусах консервные супы, заменив при этом убитого Зоренчука. И хотя ничего героического этот парень вроде бы и не совершал, будь его, Громова, воля, он присвоил бы ему звание Героя Советского Союза как истинному, беспредельно преданному присяге солдату.
– Глотни, лейтенант, – появился в отсеке с флягой в руке Крамарчук. – Трофейный шнапс, вчера раздобыл.
Громов сделал пару глотков и, отдав флягу сержанту, закрыл глаза, пытаясь хоть немного подремать.
– Это за Конашева. А теперь отпей и за второго моего пушкаря, – присел Крамарчук напротив него на каменную плиту, служившую пулеметчикам и столом, и лавкой.
– Ты о чем?
– Нет больше первого орудия, лейтенант. Конашев убит. Коржевский тяжело ранен в голову. И, видно, тоже не жилец на этом свете.
– Как это произошло? – почти шепотом спросил Громов, чувствуя, что ему перехватило горло.
– Танк проклятый. Пока Газарян додалбывал одного, другой пристреливался по нему. Хорошо хоть сам Газарян уцелел.
Еще несколько минут Громов лежал с закрытыми глазами, и Крамарчуку показалось, что лейтенант уснул. Но как только сержант поднялся, чтобы тихонько уйти, Андрей тоже начал подниматься.
Амбразура первого капонира была закрыта заслонкой. Тусклая, опоясанная металлической сеткой, лампочка едва освещала отсек, и казалось, что все это происходит глубокой ночью в погребальном склепе. Дав лейтенанту взглянуть на убитого, бойцы унесли его в санитарный отсек, а Мария и Коренко продолжали бинтовать голову Коржевского. По тому, как бинт у него на глазах пропитывается кровью, лейтенант понял, что жить Коржевскому оставалось несколько минут, от силы час. Мария и Коренко тоже, очевидно, понимали это, однако продолжали старательно перевязывать.
– Что будем делать с ранеными, товарищ лейтенант? – тихо спросила Кристич, когда Андрей присел возле нее. Все бойцы ушли из отсека, Мария попросила их об этом, чтобы дать раненому больше воздуха, и перевязку заканчивала уже сама.
Громов погладил ее щеку, убрал упавшие на глаза локоны волос. Ему показалось, что в них уже блеснула седина, но не захотел поверить этому.
– Что будем делать с ними? – снова спросила она, мягко положив с помощью Андрея голову раненого на разостланную шинель. – Роменюк в очень тяжелом состоянии. У Симчука рана гниет, нужна операция. Пирожнюка – его ранили сегодня утром – еще можно спасти. Только нужен уход. А сейчас вот Коржевский… Раненым не хватает воздуха. Прежде всего – воздуха.
– В перерывах между боями будем заносить их в пулеметные отсеки.
– Там тоже удушье. Много пороховой гари. Нужно что-то делать, Андрей, – уже почти прошептала она, обняв Громова за голову и прижимаясь лбом к его лбу.
– Нужно делать именно то, что мы делаем, Мария. Отражать атаки, уничтожать противника и держаться.
– Но ведь они же мучаются.
– Такова их солдатская судьба.
– Я тоже измучилась, Андрей.
– Вижу, милая, вижу. И видеть это – тоже… очень больно.
Громову хотелось напомнить Марии, что он давал ей шанс избежать страшной участи, но решил, что делать это сейчас – бессмысленно и жестоко. К тому же он просто не представлял себе, что бы они здесь делали с ранеными, не будь с ними Кристич. В доте неплохая аптека: шприцы, обезболивающие, снотворные, антисептические средства… Осмотрев ее впервые, Громов даже поразился, что о них так основательно позаботились. Но разобраться во всем этом мог только медик. Не зря Шелуденко строго запрещал отпускать санинструкторов.
– Кстати, умоляю: если меня ранят, если я буду без сознания… словом, в любом случае я не должен попасть в плен. Я покажу тебе, как пользоваться пистолетом….
– Что ты, Андрей, что ты?!
– Бойцы могут побояться добить командира. А я не должен попасть в плен, не имею права. Ты поняла меня?
– Не нужно об этом, Андрей. Как ты можешь приказывать мне такое? Нет, на такое я не способна.
– Ты сделаешь то, что я приказываю.
Громов помог бойцам отнести раненого в санчасть и вернулся в артиллерийскую точку. Все ожидающе посмотрели на него. Чувствовалось, что они подавлены случившимся и что каждый сейчас думал об одном и том же: А ведь следующее попадание может оказаться моим»…
Лейтенант молча достал из ящика снаряд, заслал в казенник и, наведя по висевшим на стене данным для стрельбы на понтонную переправу, дернул за шнур.
– Петрунь, снаряд!
– Есть снаряд.
Он на глазок довернул так, чтобы снаряд ушел на дорогу возле моста, и снова выстрелил.
– Разрешите, товарищ лейтенант, – опомнился наконец Крамарчук. – У нас это будет получаться нежнее.
– Да, сержант, к орудию. Огонь по переправе. Держать под контролем шоссе. Бить по окопам, по любой цели. У нас еще уйма снарядов. Дот должен держать фашистов в постоянном страхе. Мы здесь не для того, чтобы скулить, а чтобы заставлять врага бросать на дот все новые и новые силы.
6
– Какой день сражается гарнизон этого дота, обер-лейтенант?
– В полном окружении – шестой.
– В таком случае ценю ваше олимпийское спокойствие. На вашем месте я бы слегка нервничал. В городе уже появились листовки: «Беритесь за оружие! Бейте оккупантов! Пусть вас вдохновляет пример бойцов бессмертного дота». Вас это не смущает?
– Господин оберштурмфюрер, в моей роте осталось двадцать человек. Двадцать, понимаете?!
– Но вас укрепили еще одним взводом и ротой румын. Кроме того, танки, полевые орудия, пулеметы…
– Атаки в лоб ничего не дают, господин оберштурмфюрер. Мы только губим людей.
– Вы меня растрогали, обер-лейтенант. Прикажете таким же образом растрогать командира вашей дивизии?
Ясное дело, Штубер понимал, что этих бездумных атак нужно было избегать. В конце концов русские никуда не денутся. Их ресурсы ограниченны. Но существовал приказ: атаковать, захватить, казнить всех оставшихся в живых… И отменить этот приказ он не мог. Кто-то там, из командования, все еще не хотел понять, что они столкнулись с необычным дотом. Впрочем, остальные тоже были необычными. Однако их сопротивление удалось сломить довольно быстро. В устах командования это был сильный, убийственный аргумент.
«Вот именно: убийственный, – саркастически ухмыльнулся Штубер этому определению. – В чем нетрудно убедиться, выслушав доклад обер-лейтенанта».
Штубер не верил в то, что в «Беркуте» особо подобранный гарнизон. Просто речь должна идти о талантливой организации обороны. О том, что комендант дота умеет поддерживать дисциплину, да и сам, наверно, храбрый человек. Как все-таки много зависит от офицера!
– Привезли женщину, господин оберштурмфюрер.
– Да, вижу, – ответил тот, неотрывно глядя на склон долины, в который врос этот проклятый дот. – Ну, ведите ее. Где этот ваш унтер-полиглот? Пусть идет вслед за ней и выкрикивает все, что ему велено сказать.
Проходя мимо Штубера, женщина затравленно посмотрела на него и вдруг замерла от удивления. Она, конечно, узнала его. Штубер лишь указал дом, но с самой женой Крамарчука, Оляной, не беседовал. И все же Оляна сразу признала в нем того «красного командира», которого кормила, которому давала приют и с которым…
Вспомнив об их невольном грехе, Оляна вздрогнула: «Господи, за что ж Ты так караешь меня?!» – прошептала она.
И все же Оляна ожидала, что Штубер заговорит с ней, объяснит, что происходит, кто он такой. Однако оберштурмфюрер лишь смерил ее холодным, презрительным взглядом и брезгливо махнул рукой. Еще позавчера он верил, что этот пропагандистский трюк с женой артиллерийского сержанта, возможно – заместителя коменданта, повлияет на моральное состояние гарнизона. Но сейчас он уже не сомневался в том, что ни к сдаче дота, ни к чему бы то ни было конкретному это не приведет.
Тем не менее отменять задуманный им «акт устрашения» Штубер не собирался. Конечно, куда эффектнее было бы вывести сюда семьи всех солдат гарнизона. И расстрелять. Но женщина твердо стоит на своем: никого из красноармейцев, сражающихся в доте, она не знает. Ее избивали, обещали жизнь… Бесполезно.
– Зольдатен гарнизона! Эта женщина есть жена зержанта вашей дот – Крамарчук. Зержант не хотель здаваться в плен, он зовершаль преступлений перед армий фюрер. Ми винужден будем казнить ее через повешаний, – Штубер видел, как, выкрикивая все это в рупор, унтер-офицер прятался за спину женщины, однако не считал его трусом. Знал, что русские действительно попытаются убить унтер-офицера. – Ми также будем казнить всех родственник, всех жен зольдатен ваш дот. Сдавайтесь, и ви спасете себя и свой родственник. Если вы, Крамарчук, сейчас не сдадитесь, немецкий зольдатен будет маленько баловался с ваш жена и потом ее повешаль.
Штубер поморщился и брезгливо передернул плечами. Этого «маленько баловался» в его тексте не было. Находка самого унтер-офицера. Или обер-лейтенанта. Но, кто знает, может, именно она по-настоящему ударит по психике и Крамарчука, и других.
Красноречие унтер-офицера иссякло. Казалось, вся эта огромная долина замерла в ожидании развязки той страшной трагедии, что разыгрывалась на склоне ее «амфитеатра».
– Ахтунг, ахтунг! – послышалось из дота. Штубер тотчас же бросился в окоп и, пригибаясь, побежал вниз, поближе к тому месту, где стояли унтер-офицер и женщина. – Говорит комендант дота! Сержант Крамарчук не может сдаться. Он погиб и не может спасти свою жену! – В бинокль Штубер видел только кончик рупора. Лейтенант предусмотрительно прятался за косяк двери. – Если вам, господа офицеры, дорога честь воинского мундира, прекратите этот гнусный спектакль и освободите ни в чем не повинную женщину! То, что вы делаете, есть грубейшее нарушение Женевской конвенции об обращении с мирным населением на оккупированной территории!
Комендант говорил на вполне приличном немецком, с легким акцентом, который можно было принять за польский или словацкий. Но главное – Штубер узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи других похожих голосов. Потому что голос этот принадлежал тому лейтенанту, который пленил его и допрашивал у моста. Конечно, это был Беркут, он же Громов.
– Унтер-офицер! – крикнул Штубер. – Вернитесь с женщиной в окоп.
– Прикажете прекратить? – со вздохом облегчения поинтересовался обер-лейтенант, глядя, как унтер-офицер тащит плачущую и вырывающуюся из его рук женщину. Судя по всему, он еще не привык к подобным методам психологического воздействия.
– Следовало бы. Но уже нельзя. Русские не должны думать, что они нас усовестили. Дайте им час на размышление. И еще… Передайте этому мини-Антонеску, капитану, что я запрещаю переводить румынским солдатам смысл сказанного комендантом дота. Дайте мне эту железку. По доту не стрелять! – крикнул он, когда унтер-офицер подал ему рупор. И румынский капитан сразу же повторил это по-румынски. – Господин комендант! Я гарантирую вам неприкосновенность! Выйдите из дота, и мы проведем переговоры!
– Цель переговоров?! Выдача погибшего сержанта Крамарчука?!
– Вам пора сдаваться!
– Я не собираюсь вступать в переговоры о сдаче дота! Гарнизон будет сражаться до последней возможности!
– Похвально, господин лейтенант! Тогда дайте слово офицера, что гарантируете мою неприкосновенность, и я войду в «Беркут», чтобы поговорить с вами! Это не будут переговоры! Это будет обычный человеческий разговор! Без излишней пропаганды!
Наступила пауза. Предложение, очевидно, застало коменданта врасплох, поэтому-то он и не торопился с ответом. И, возможно, советовался с бойцами гарнизона.
– Обычный человеческий разговор, оберштурмфюрер, возможен был только месяц назад, до войны. А сейчас это в любом случае будут переговоры офицеров двух враждующих армий!
– Почему вас это пугает, господин лейтенант?! Вести переговоры все же гуманнее, чем стрелять друг в друга.
– Гарнизон решил сражаться до последней возможности, и пока будет жив хотя бы один боец, вы в этот дот не войдете. Надеемся, что женщина будет освобождена! У меня – все.
«Ну что ж, по крайней мере, в порядочности этому лейтенанту не откажешь. Другой бы впустил меня и превратил в заложника. Или отдал на растерзание гарнизонных фанатиков-большевиков. Он на это не пошел. Благородно».
7
Когда время ультиматума истекло, гитлеровцы снова вытолкали из окопа жену Крамарчука. Теперь она еле держалась на ногах, платье было изорвано в лохмотья, волосы растрепаны. Два прятавшихся за ее спиной фашиста подталкивали ее все ближе и ближе к доту. По тому, что они выкрикивали и как вели себя, Громов определил: пьяны!
– Рус комиссар! – это был все тот же унтер-офицер, только шнапс сделал его русский язык еще более «изысканным». – Ти не виходиль здавалься! Твой фрау будеть сейчас повешаль! Все родственник будет повешаль на береза!
Все, кто был в доте, забыв об опасности, сгрудились у амбразур. Бойцы не открывали огонь сами, считая, что и немцы, получив приказ офицера огня не открывать, будут придерживаться этих условий. И когда неожиданно прозвучал одинокий винтовочный выстрел, в пулеметном доте как-то не сразу обратили на него внимание. Но долетевший из амбразур артиллерийской точки крик Крамарчука: «Снайпер! От амбразур! Хомутов убит! Снайпер!» – дал понять Громову, для чего понадобился фашистам этот повторный спектакль.
– Убейте меня, слышите?! – долетел вслед за этим слабый голос женщины. – Убейте меня!
– От амбразур! – повторил лейтенант, но на какое-то мгновение раньше прозвучал второй выстрел. И снова крик: «Сволочи! Чобану!».
– Убейте же меня! – снова закричала женщина, поняв, что происходит. – Николай, родненький! Убейте же!
– Абдулаев! Снять снайпера! – приказал лейтенант. – Снять его! Всем отойти от амбразур!
– Так нельзя, командир, – ворвался в отсек Крамарчук. – Так дальше нельзя. Сейчас, Оляна! Сейчас, потерпи!
И, оттолкнув Громова, припал к пулемету.
Очередь, еще очередь, крики, стоны, пальба в ответ… С силой оторвав Крамарчука от максима, Громов подался ближе к амбразуре и увидел, что женщина лежит навзничь, рядом с ней, держась за грудь, осел один из фашистов. Другой пытался уползти, но возле самого окопа рванулся, словно хотел проскочить оставшееся расстояние, и сразу же рухнул на землю.
– А теперь пристрели меня, лейтенант, – тихо сказал Крамарчук, когда пальба снова стихла. Он сидел на полу возле пулемета и, обхватив руками колени, раскачивался из стороны в сторону, словно напевал тоскливую песню или самозабвенно молился. – Ну пристрели ты меня! Пристрели! Как собаку! Сейчас же!
Громов присел возле него, обнял за плечи. Что он мог сказать этому отчаявшемуся человеку? Храброму, мужественному человеку, которого никто не осмелился бы упрекнуть ни в слабоволии, ни тем более в жестокости. С таким человеком он мог теперь только помолчать.
– У тебя не было другого выхода, – сказал он то единственное, что способен был сказать сейчас этому бойцу. – На твоем месте я, наверно, поступил бы точно так же. И потом точно так же просил бы пристрелить. Время рассудит. – Крамарчук почему-то снова взялся за ручки пулемета, но Громов с силой оторвал его руки. – Наберись мужества. Опомнись. Нельзя так. Нужно идти к орудию. К орудию, сержант. Бойцы ждут приказа.
Громов поднялся, уже с порога оглянулся. Крамарчук сидел, обхватив колени, и тупо смотрел в пол. Слова, которые он шептал, были одновременно и молитвой, и проклятием.
– Гранишин, – позвал ефрейтора. И когда тот появился из своего отсека, негромко проговорил: – Побудь с Крамарчуком. Ни на шаг. Понял?
Когда Андрей вошел в отсек второго орудия, Степанюк стоял над Хомутовым на коленях, застегивая его гимнастерку и, не скрывая слез, плакал, почти по-детски всхлипывая.
– Последний боец моей роты, товарищ лейтенант, – тихо, сквозь слезы объяснил он, держа в руках красноармейскую книжку и еще какие-то бумаги, найденные во внутреннем кармане Хомутова. – А ведь три недели назад было нас сто двадцать человек. Сто двадцать молодых ребят, а, лейтенант?..
– Поднимитесь, сержант! – неожиданно резко приказал Громов. Хотя чувствовал острую необходимость опуститься на колени рядом с ним. Не хотел бы он дожить до того момента, когда придется вот так же, на коленях, стоять над последним бойцом своего гарнизона. Лучше уж пусть кто-нибудь постоит над ним. – Возьмите себя в руки. На вас смотрят бойцы. – И твердым, не допускающим промедления голосом приказал: – Лободинский, Кравчук, отнесите погибшего в спецотсек. Каравайный, пойдете вторым номером к сержанту Степанюку. Абдулаев – вторым номером к Гранишину, вместо погибшего Чобану. Только сначала снимите снайпера, Абдулаев, снайпера…
– Вот он, камандыр, – прижавшись плечом к откосу амбразуры, Абдулаев осматривал изрытый воронками, засеянный валунами и осколками камней склон долины. – Смотрю, нет ли другой.
– Где? – подошел к нему Громов, берясь за бинокль.
– Вон, яма неболшой. За валун прятался. Халат совсем желтый был, как глина измазанный. Когда наш пулемет женщина стрелял, он чуть-чуть приподнялся, посмотрел, откуда стрелял, зачем стрелял.
– С первого выстрела, что ли? – не поверил Громов.
– Пачему удивляешься, камандыр? Абдулаев – охотник. Разреши ночью туда ходить. Там ружье с биноклем. На солнце блеснул. Абдулаев видел. С такой Абдулаев фашиста на том берегу бить будет. Как соболь.
Громов внимательно осмотрел воронку, убитого. Но винтовки не видел. Потом незаметно перевел бинокль на женщину и двух убитых немцев, которых пока никто не пытался затащить в окоп. Видно, смерть снайпера подействовала на них.
– Держи их в страхе, Абдулаев. Чтобы ни один патрон зря. Иди к пулеметчикам. Оттуда ближе к воронке. Никого не подпускай к снайперу. Но если попытаются затащить в окоп тело женщины, не стреляй.
– Андрей! Товарищ лейтенант, – вошла в отсек Мария. – Коржевский скончался. Только что. Я ничего не могла сделать. И Роменюку очень плохо.
– Я понял, Мария, – устало кивнул Громов. – Попроси Лободинского и Кравчука унести умершего от раненых. Ничего не поделаешь, над этим подземельем смерть витает уже давно. Сержант Крамарчук, к орудию! – приказал он, увидев в ходе сообщения сержанта. – Огонь по боевым порядкам врага, шоссе и переправе. Не давайте фашистам восстанавливать мост.
Поздно вечером бойцам Крамарчука удалось выиграть дуэль с танком. Когда эта стальная махина, пылая, вышла из укрытия и попятилась в сторону завода, в доте все, кроме Крамарчука, ликовали так, словно вернулись свои и пришло долгожданное освобождение из каменного плена. Но даже в этой суете Крамарчук сумел со второго снаряда добить ее, уже пятившуюся. Каждый снаряд, посланный сейчас во врага, Крамарчук воспринимал как личную месть фашистам. Он был мрачным и, казалось, успел за эти несколько часов основательно постареть. Но все же не хандрил, не впадал в истерику, а сражался. В той ситуации, в которой оказался сейчас гарнизон, это было очень важно. И лейтенант был признателен ему за мужество.
«Ну что ж, – облегченно подумал Громов, поздравляя бойцов с этой небольшой победой. – Смерть витает не только над дотом. Она витает и над окружившими нас врагами».
8
– О, поручик Розданов! Честь имею. Не знаю, как вам шла форма белогвардейца, но в форме лейтенанта вермахта вы вполне смотритесь. – Встретив Розданова во дворе здания, в котором находятся гестапо и абвер, Штубер не удивился. – Он понимал, что каждая из этих организаций имела свои причины для того, чтобы интересоваться особой поручика. Уточнять же, в какую именно он направляет свои стопы сегодня, – не имело смысла.
– Я бы предпочитал смотреться в форме офицера… ну, допустим, русской освободительной армии. Это больше соответствовало бы моим патриотическим чувствам.
– Чего вы не можете простить немцам, Розданов? – загадочно улыбнулся Штубер. – Первой империалистической, похода нашего экспедиционного корпуса во время вашей Гражданской, когда вы сами умоляли кайзера спасти вас от большевиков? Нынешней кампании, благодаря которой снова оказались у себя на родине?
– Я всего лишь сказал, что шинель русского офицера для меня предпочтительнее.
– Ну уж со мной-то вы можете быть абсолютно откровенны, поручик. Независимо от того, чем кончится эта война и кем будут считать вас потомки – героем или… – все еще ухмыляясь, Штубер выдержал классическую паузу и снисходительно, с ног до головы осмотрел Розданова, – немецким предателем, агентом гестапо. Знаете, всякое может случиться. Но все равно мы с вами до конца дней своих останемся братьями по оружию. Пройти такой путь по тылам красных!.. Так что, откровенничая со мной, исходите из этого обстоятельства.
Впрочем, Розданов и не опасался Штубера. И по тому, как тот вел себя во время их рейда через Днестр, и по тому, как потом спокойно, не теряя чувства превосходства, прорывался к своим, поручик определил: оберштурмфюрер – птица более высокого полета, чем тысячи других шпиков абвера и агентов СД, готовых донести на каждого, кто осмелится высказать хоть малейшее сомнение в гениальности идей фюрера.
– Но мы не можем существовать сами по себе, – заметил Розданов.
– Почему не можем? Очень даже можем. Не вдвоем, естественно. Подобрав группу профессионалов международного класса, создав хорошую разведывательно-диверсионную школу. А война, с ее окопами, полевыми госпиталями и лагерями для военнопленных, пусть катится своей страшносудной колеей.
Розданов удивленно посмотрел на Штубера, он плохо понимал, о чем это вдруг повел речь оберштурмфюрер. О какой такой группе профессионалов?
Во двор въехала крытая машина, и два эсэсовца буквально вышвырнули из ее кузова человека в изодранной гражданской одежде. Босые ноги, искалеченные руки, лицо, шея… – все было покрыто комьями запекшейся крови.
Вышедший из кабины тип в форме русского железнодорожника самодовольно ухмылялся, глядя на офицеров с видом победителя, вернувшегося с Ватерлоо местного значения.
– Не хотите поприсутствовать, господа? Превращение великомученика-комиссара в иуду. Ровно через полчаса он начнет источать список всего городского подполья.
– Ты плохо кончишь, Звонарь, – презрительно оскалился Штубер. – Этот человек имеет еще меньшее отношение к подполью, чем я – к сицилийской мафии.
– Заблуждаетесь, оберштурмфюрер. Знать русский язык, язык аборигенов, – перешел Звонарь на русский, – еще не значит – знать их нутро. Пшел, пшел, мразь лапотная!
– Не имеете чести? – кивнул в сторону этого типа Штубер, когда тот пошел к двери.
– При чем здесь честь?
– Бывший ротмистр Полонский. Кличка Звонарь. Офицер врангелевской контрразведки. Начал работать на нас, как русский белоэмигрант, еще в Болгарии, сразу же после бегства из Крыма. Помог отправить на тот свет добрый десяток бывших белоофицеров, которые, как оказалось, не с должным энтузиазмом восприняли приход к власти Гитлера. С удивительной наивностью доверяются ему люди.
– Мы с вами – не чище этого провинциального мерзавца Звонаря.
– Мы с вами – фронтовики. Это меняет дело. У этого человека есть определенные способности. Но это еще не талант контрразведчика. Обычный платный агент полиции – и не более. Дальше подсадной утки он никогда не поднимется. Даже здесь, на своей родине. Но, что самое странное, его это вполне устраивает.
– Насколько я понял, он никогда и не был фронтовым офицером. В армии Врангеля офицерами становились даже недоучившиеся гимназисты. Потому что к тому времени многие настоящие офицеры уже или погибли, или ждали своего часа по явочным квартирам захваченных большевиками городов.
– А некоторые к тому времени уже ударно трудились разносчиками булочек в парижских пригородах. Бог с ними, у каждого своя дорога через Синайскую пустыню. Кстати, о пустыне… Мне стало известно, что вы командуете охранным взводом.
– У Звонаря нет оснований завидовать мне.
– Напрасно вы так. Очистка ближайших тылов. Стычки с окруженцами. Истребление диверсантов. Рыцарская романтика войны, – философствовал Штубер, выводя Розданова за ворота. У него оставалось совсем мало времени, а в СД, считал он, поручика подождут. – Или, может быть, я уже чего-то не понимаю в том, что здесь происходит, ваше благородие?
Розданову не нравилась издевательская манера беседы, которую уже не впервые навязывал ему Штубер. Он предпочитал бы, чтобы с ним говорили, как подобает говорить с офицером. Однако понимал, что с такой манерой оберштурмфюрера ему пока что придется мириться. В той судьбодробилке, в которую превратилась сейчас Германская империя, заступничество влиятельного эсэсовца, сына генерала Штубера, ему еще может пригодиться. Притом не раз. Тем не менее он ответил ему в том же духе.
– Похоже, в этом уже никто ни черта не может понять. По крайней мере те, кто пытается понять саму сущность войны и философствовать о ней, сидя на окраине этого, извините за выражение, Подольска, оплота провинциальных мерзавцев.
– Согласен, – совершенно невозмутимо согласился Штубер. – Оплот. Кстати, среди тех, кого вашему взводу приходилось доставлять в лагеря или подвалы гестапо и полиции, не попадались какие-либо интересные типы? Вы знаете, что меня интересует.
Розданов задумался. Первым, кого он вспомнил, был кавалерист Есаулов, расказаченный казак. Вслед за ним воспроизвелась в воображении громадная, источающая могучую силу фигура семинариста.
– А вы знаете, есть. Двое. По крайней мере один из них заинтересует вас основательно. Я ведь знаю, что вас интересуют не только те, кто поддается вербовке, но и люди, выделяющиеся своими характерами, взглядами и способом жизни.
– Они в Сауличском лагере?
– Да.
– Что за люди?
Розданов коротко обрисовал обоих пленных.
– Вы распорядились, чтобы их не пускали в расход?
– Нет, просто сдал.
– В машину, поручик.
– Но, господин оберштурмфюрер, я был вызван…
– В СД, гестапо? Это не имеет значения. Те, кто вас ждет, будут уведомлены из комендатуры лагеря.
Найти в лагере Есаулова и Гордаша оказалось довольно просто. Оба они в составе группы из шести человек попытались совершить побег. Лагерь был еще довольно плохо оборудован, и ночью этой группе удалось проникнуть за пределы ограды. Однако ровно через полчаса на окраине деревни они были замечены ночным полицейским патрулем. Одного полицаи убили, остальных под плотным огнем заставили залечь в небольшом овражке, в заброшенном саду. Там они и были схвачены подоспевшим взводом лагерной охраны.
Выслушав из уст коменданта этот рапорт-рассказ, Штубер попросил выделить ему кабинет и немедленно доставить Есаулова.
– Гордаша, значит, пока не нужно? – уточнил комендант – невысокий худощавый блондин с маленьким невыразительным лицом и тихим вкрадчивым голосом желчного сельского учителя.
– Насколько я понял, все пятеро находятся сейчас в отдельном бараке? – в свою очередь спросил Штубер, не желая дважды повторять, что он просит доставить ему именно Есаулова.
– В бараке номер тринадцать, господин оберштурмфюрер, – вежливо склонил голову гауптман. С сотрудниками СД и полиции безопасности он был приучен обращаться предельно вежливо. Независимо от их чинов. Он знал, что в этих службах почитались вовсе не чины. У многих высокопоставленных эсэсовцев, по обычным армейским меркам, они были довольно незначительными. Однако же они занимали какое-то особое положение в эсэсовской иерархии, в тонкостях которой гауптману разобраться было довольно сложно.
– Тринадцатый, говорите? Что ж, номер вполне подходящий.
– Они там вместе с двумя окруженцами, которые были захвачены в плен при попытке агитировать местное население за создание партизанских отрядов.
– Тогда почему эти окруженцы здесь, а не в гестапо или в полиции?
– В полиции их уже допросили. Передали сюда. Просили повесить перед строем пленных. В назидание.
– Провинциальные мерзавцы, – бросил доселе мрачно молчавший Розданов. Он сказал это по-русски, и гауптман ошалело посмотрел сначала на него, потом на Штубера. Рука его с поднесенной ко лбу фуражкой предательски задрожала. «Уж не диверсанты ли» – вычитал в его глазах Штубер и покровительственно рассмеялся. – Доставляйте, гауптман. Доставляйте со спокойной совестью и без каких-либо подозрений. А вы, Розданов, пойдите вместе с комендантом. Ваши старые знакомые будут рады встрече.
Есаулова привели минут через десять. Он был избит, гимнастерка изорвана, губы – две запекшиеся кровяные шишки.
Конвоир вышел. Комендант сел в сторонке на стул, и решил не вмешиваться в ход допроса. Однако, как выяснилось, вмешиваться, собственно, было не во что. Несколько минут эсэсовец молча стоял перед пленным, с презрительно-жалостливой миной осматривая его и при этом покачиваясь на носках. Пленный же стоял, опустив глаза, и, не поднимая головы, косясь, поглядывал на немецкого офицера.
– И эту дохлятину вы предлагаете мне в качестве будущего офицера казачьей части русской армии освободителей? Постыдились бы, поручик Розданов!
– Но ведь из казаков же, – принял условия игры поручик. Закинув ногу за ногу, он не спеша достал сигарету, долго стучал ею по портсигару и потом смачно, эффектно закурил.
– Этот – из казаков? Бросьте, поручик! Они теперь все выдают себя за казаков. Ате, настоящие, казаки или погибли на берегах Дона, сражаясь против жидо-большевиков, или же лежат расстрелянными на всем пространстве от Дона до Тихого океана. Кстати, Есаулов… Странная фамилия. Если мне не изменяет память, есаул – это казачий офицер. Отвечать, Есаулов!
– Так точно, офицер.
– К тебе-то оно как прилипло? Из беспризорников, небось? Давали клички: «граф», «князь», «есаул». Так потом и записывали, вместо фамилий?
– Офицеры в роду тоже были, – потупясь, объяснил кавалерист.
– Командир взвода в добровольческой казачьей части – такая должность вас устроит, красноармеец Есаулов? В звании лейтенанта, или подпоручика – как вам удобнее будет называть этот чин?
– Разве есть такие части – казачьи, добровольческие? – наконец-то поднял голову пленный, однако, спрашивая это, смотрел не на Штубера, а на Розданова. Понял, что эсэсовец все же не русский, а немец. Розданов же как-никак свой, из русских, из кавалеристов.
Поручик вопросительно посмотрел на Штубера. Лицо эсэсовца оставалось безучастным. Однако, после небольшой паузы, он все же заговорил:
– Создаем, Есаулов, уже создаем. Чем ближе немецкие войска подходят к Дону, тем больше казаков будет подниматься на борьбу за возрождение казачества. Казаки хотят жить так, как жили их предки: с казачьим кругом, выборными атаманами… Я ничего не перепутал, поручик Розданов?
– Все верно, господин оберштурмфюрер. Немцы победят большевиков и уйдут. А казачество на Дону и Кубани заживет своей жизнью, своим миром.
Они оба выжидающе посмотрели на Есаулова. Тот переминался с ноги на ногу и молчал.
– Почему молчите, казачий офицер? – напомнил о себе Штубер. – Надеюсь, я уже могу обращаться к вам как к казачьему офицеру? – оберштурмфюреру все еще казалось, что самолюбие Есаулова должно взыграть именно на этом неожиданном производстве в офицерский чин.
– Негоже, господа офицеры, мне, казаку, из армии в армию, из войска в войско бегать. Казак, он ведь прежде всего об своей воинской святости думать должен. Потому как без нее – какой же он казак?
– Дуришь, станичник, дуришь! – поморщился Розданов, недовольно мотая головой, словно пытался усмирить зубную боль. – Не к месту это. Неужели не понимаешь? Да и тебе ли, казаку потомственному, лезть во все эти философии? Что ты ведешь себя, как провинциальный мерзавец?!
– Не кипятитесь, поручик. Думаю, господин подпоручик войска казачьего понял нас. Просто ему нужно освоиться со своим новым положением. Поэтому не будем его торопить. Семь суток, считаю, должно хватить. Как-никак, за семь суток Господь Бог умудрился сотворить землю и небо. – А как только Есаулова вывели, сказал коменданту: – Сделайте одолжение, гауптман. Кого бы в лагере ни расстреливали или вешали, прихватывайте к месту казни и этого молодца. Как обреченного. По ошибке, которую вам случайно придется исправлять в последний момент. Пусть прочувствует все тернии пути обреченного.
– Яволь, господин оберштурмфюрер.
– И еще, окажите любезность: потребуйте от писарей составить список всех пленных, кто родом с Дона или Кубани.
– Или хотя бы служил в кавалерийских частях, – добавил Розданов.
– Вот именно. А что наш друг, рыцарь странствующего ордена монахов? – обратился Штубер уже к поручику. – Как он чувствует себя?
– Как мне сказали, целыми днями вырезает что-то из куска древесины. Говорят, он художник и скульптор.
– Даже так? – оживился Штубер. – Продолжайте, продолжайте. Это уже интересно.
– В бараке валялось несколько кусков липы, из которой плотники мастерили нары. Он раздобыл где-то кусочек лезвия перочинного ножа, две стекляшки… Много ли нужно умельцу? Древесина липы – мягкая, податливая.
– Не препятствовать, гауптман. Инструмент не отбирать. Предупредите старшего барака, своих подсадных. Барак объявить бараком смертников, однако самого Гордаша не трогать, пусть трудится. Через несколько дней навещу. Нет, Розданов, – резко выпалил Штубер уже садясь в машину, – тут вы не правы! Скульптор в бараке смертников – в этом что-то есть! Вырезать свое творение, зная, что оно – последнее, что завтра тебя казнят – это ли не стимул для истинного гения?
– В мыслях не было возражать, – удивленно уставился на него Розданов.
9
Снилась ему река. Но не та, у которой они держали сейчас оборону, а какая-то маленькая, почти неподвижная речушка с ивовыми берегами, гроздьями лодок у причала да ажурными деревянными мостками.
Громов осматривал эту речушку как бы с высоты птичьего полета и потому мог любоваться зелеными лугами по ту сторону ее, цепочкой миниатюрных, похожих на яркозеленые коврики, островков, водопадом у древней полуразрушенной мельницы…
Ничего с ним в этом сне не происходило. Не было ни дота, ни фашистов, которые врывались в их подземную крепость чуть ли не в каждом его коротком сне, ни пикирующих самолетов… Это был на редкость тихий, мирный сон. И единственная мысль, которая пронизывала сонное полусознание Андрея, – что все это вне войны, что наконец-то он нашел тот, почти сказочный уголок земли, в котором война его уже не настигнет.
И кто знает, может быть, этот сон и подарил бы ему еще несколько минут невероятного блаженства, если бы и реку, и нависшую над ней тишину, и скособоченную башню мельницы не прошили вдруг короткие пулеметные очереди.
– Дот, к бою! – скомандовал он, прежде чем осознал, где это стреляют – во сне или наяву, и проснулся ли он сам, или же все еще находится в том уму непостижимом состоянии между сном и реальностью, в котором ему приходилось проводить уже пятую ночь.
– Не наблюдаю, командир! – ворвался в его дрему охрипший бас Крамарчука. – Отлеживаются бранденбурги, землю нюхают. Это их пулеметчики просто так очередь дали: то ли нервы, то ли для острастки, во спасение души.
«Он действительно не теряет самообладания или же все это игра? – всмотрелся в лицо сержанта Громов. – Хотя… если человеку удается перебороть страх, скрыть его, пренебречь опасностью – это, конечно же, игра. Но чтобы так сыграть, нужно быть талантливо храбрым. А этот сержант в храбрости своей истинно талантлив. С такими можно держаться. Впрочем, держаться можно, как оказалось, и с такими, как Сауляк. Может, в этом и заключается высшее предназначение офицера: суметь выполнить приказ с любыми, даже самыми неподготовленными солдатами?»
Раздалась еще одна короткая очередь, и только теперь Громов поверил, что этот пулемет ему не приснился. Он подошел к амбразуре и осмотрел открывшийся квадрат склона. Рассвет только-только зарождался. Реки еще не было видно, однако ее уже довольно четко обозначал густой вал тумана. Этот вал образовывал нечто похожее на крепостную стену, и, может, поэтому река казалась значительно ближе к доту, чем была на самом деле.
Он видел, как прямо на глазах туман редел и, медленно испаряясь, поднимался вверх. Еще одно солнечное утро в пятистах метрах от реки. Еще одно утро его жизни. Сколько их осталось? Два, три?
«Артиллерией они нас не возьмут. Значит, что-то должны предпринять. Что? Попробуют затопить? Пожарные насосы… Река рядом. Колодец еще ближе. Шланги в воздухозаборники и… Но затопить они нас полностью не смогут. Так, по пояс… Может, газами? Конвенцией запрещено, да что им конвенция?..»
Снова пулемет. На этот раз из дота. Но очередь была короткой. Значит, ничего особенного. Нужно беречь патроны!
«Да, так, значит, они попробуют газами…»
– От амбразуры, командир. Сейчас начнут упражняться их задрипанные снайперы-самоучки.
Он снова задремал, прислонившись к станине орудия, но голос сержанта не дал ему уснуть. Надо пойти отоспаться. Еще хотя бы два часа. Хотя бы час. Пока не начался артналет. Или не пустили в ход авиацию. Дот дарит им роскошь, которой лишены сотни тысяч других людей, загнанных в окопы этой войны: у них есть нары. И даже белье. Надо держаться.
– Не прозевай, сержант, не подпусти к амбразурам. Пойду в пулеметную точку, посмотрю, что там у них, – Андрей взглянул на часы, поднеся их к амбразуре. – Через двадцать минут тебя сменят.
Удивительная и немного угнетающая тишина, гулкие шаги. Тусклое мерцание лампочек на стенах возле отсеков. Громов заглянул в главный каземат. Света не было. Из мрака доносилось тревожное бормотание и легкий храп кого-то из спящих. Лейтенант решил не будить сегодня никого. Пусть спят, пока не разбудят немцы. Даже странно, что ночью фашисты дали им передохнуть. Раньше ведь и по ночам стреляли. По нервам били, изматывали.
– Хорошо, что наведался, командир. Тут вот дело такое… Немец с того света вернулся, – доложил Гранишин, как только Громов вошел в пулеметную точку. – Ни с того ни с сего взял и вернулся.
– Что значит с «того света»?
– А вот так: мертвый лежал, в воронке, вон там. После вечерней атаки. С гранатой рвался к амбразурам. Сам я его и скосил. А сейчас вдруг ожил, стонет, выкрикивает что-то. Несколько раз высовывался. Я его пробовал успокоить, но, кажется, не достал.
– Ну если он ранен, тогда зачем же. Тогда пусть.
– Так что, может, выползти и перевязать его? Пилюлю в рот сунуть?
– Раненый он, Гранишин, что тут непонятного? Раненых мы не добиваем, – медленно проговорил Андрей, внимательно всматриваясь в то место, где чернела воронка. Она была метрах в двадцати, а это уже на бросок гранаты. – Вот если бы раненый пытался стрелять.
– У нас тут что, ревизоры есть? Акт по каждому усопшему составлять будут?
– Ты же солдат, Гранишин. Солдат, а не убийца.
– Это мы до войны солдатами были. Война всех убийцами сделала.
– Чушь. Хотя лежит он близковато…
– Вдруг гранатами начнет… – поддержал его опасения Гранишин. – Может, его специально там…
– О чем ты? – устало оборвал лейтенант. – Если бы он мог бросать, уже давно забросал бы нас. Да только они там знают, что гранатами дот не возьмешь. Вчерашняя атака – это какой-то бред. Разве что хотели проверить, с чем мы здесь остались, на что рассчитываем. Но проверка обошлась им дороговато.
– Или просто с дури поперли. Шнапса нанюхались.
– С дури немцы не попрут. Не должны. Часть, по всему видно, кадровая. Офицеры опытные. Может быть, из тех, кто уже прошел и Францию, и Польшу. Да и вообще, на дурь противника рассчитывать не стоит.
Он замолчал, и почти сразу же из воронки начали долетать сначала стон, потом ругань и наконец слова мольбы.
– Пить просит, – перевел Громов. – Санитаров и пить.
– Ишь ты – санитаров и пить! Король! – оскалился Гранишин, осекшись на полуслове. – Хотя… оно и понятно. Отлежать ночь, истекая кровью, это, конечно, не в сладость. Ну так, может, к нему еще и медсестру прислать, чтобы приголубила?! Он ведь будет орать здесь сутки. Душу в лохмотья изорвет.
– Ведите себя, как солдат, а не как истеричка, – спокойно сказал Громов. Хотя он, конечно, понимал красноармейца: выслушивать все это, да еще от врага… когда сам с минуты на минуту ждешь, что осколок или пуля снайпера снимут тебя. Однако… Не добивать же его, в самом деле!
В бинокль он видел, как просыпался фашистский окоп. Видел офицера, рассматривающего дот. Слышат они там крики раненого или нет?
– Подползать к нему немцы не пробовали?
– Не замечено, – проворчал Гранишин, очевидно, обидевшись за «истеричку».
– Станьте к пулемету. Наблюдайте. Следите за окопом.
Громов отодвинул бронированную дверь и, пройдя по врытой галерее, остановился в конце хода сообщения.
– Не стрелять! – крикнул он в рупор по-немецки. – Говорит комендант дота! – В ближних окопах зашевелились. Черными пауками повыползали на бруствер каски. – У дота тяжело раненный немецкий солдат. Двое санитаров без оружия могут подойти и забрать его. Безопасность гарантирую. Слово офицера.
Шли минуты. Ответа не было. Из окопов тоже никто не поднимался.
Громов повторил сказанное и только тогда услышал:
– Рус большевик, сдавайся! Это есть твой последний день!
– Условия остаются прежними! – по-немецки ответил лейтенант, давая понять, что не изменил своего решения.
Возвращаться в дот не хотелось. Отсюда, прижимаясь к стенке галереи, он видел крутой скалистый изгиб речного каньона, вершину которого начало освещать призрачное утреннее солнце; видел уже освободившуюся от тумана часть берега, крыши хат у реки… Однако вокруг стояла все та же удивительная, слишком затянувшаяся, устрашающая тишина, безжалостно накалявшая нервы обреченных, но все еще обороняющихся в доте людей. Даже этой тишиной война постоянно напоминала о притаившейся опасности, пугая вечным безмолвием небытия.
От реки веяло прохладой, воздух был сыроват, и все же это была не та казематная сырость, которая пронизывала их в отсеках подземелья. Громову даже казалось, что он чувствует, как пропитанное каким-то ревматическим холодом тело его постепенно оттаивает и оживает. Оттаивает, оттаивает… вместе с душой. Единственное, чего он желал сейчас – это дождаться здесь солнца. Однако понимал, что дождаться его не удастся, через несколько минут противник обязательно откроет огонь.
Уже вернувшись в дот, лейтенант видел из амбразуры, как двое немецких солдат демонстративно бросили на землю автоматы и, воровато поглядывая на пулеметную точку, подошли к воронке.
– А ведь не верят, что не будем стрелять, – ухмыльнулся Гранишин, глядя, как немцы выносят на плащ-палатке раненого. – По себе судят, сволочи. Хотя, как по мне, командир… Благородство это наше ни к чему. Подлечат они этого, недобитого, и пойдет он снова в бой. А так одним было бы меньше.
– Ничего, урок стойкости мы им уже преподнесли. Уроки человечности тоже не помешают.
10
Роменюк умирал. Последние два дня он держался довольно мужественно, почти не стонал, а как только чувствовал себя немного лучше, все выспрашивал у Марии, сколько их осталось в доте, да умолял перенести поближе к выходу и обвязать гранатами. «Когда они ворвутся, – объяснял ей и лежащему рядом Симчуку, – устрою им прощальный салют. Это я еще могу им устроить».
– Отслужил я, товарищ лейтенант, – еле шептал он сейчас, пытаясь ослабевшей рукой сжать руку Громова. – Так ничем и не помог вам. Впустую, считай, отвалялся…
– Ты это брось – впустую. Сражался не хуже других. Там, у орудия, жалеют, что нет тебя.
– Если бы к орудию… Но вы меня… К амбразуре… Поднесите… Хоть взглянуть бы… Небо… А то как в могиле. Страшно.
– Позови Абдулаева, – попросил лейтенант Марию.
– Не нужно, капитан. Он и так устал.
– Позови, позови. Абдулаев последний, кто остался из расчета Газаряна, в котором Роменюк был заряжающим.
Раненый действительно очень обрадовался появлению Абдулаева. Капитан дал им несколько минут для немногословного солдатского разговора и тогда предложил:
– Отнесем его к выходу. Откроем дверь. Пусть увидит солнце.
– Да нельзя его поднимать! – всполошилась Мария. – Неужели вы не понимаете?
– Можно, санинструктор, можно…
«Жаль, я почти ничего не знаю об этом человеке, – корил себя Громов, пока они шли к выходу. – О других хоть немного, хоть чуточку… Уже характеры угадываю, разузнал, откуда родом, чем занимались до войны… А ведь, умирая, именно меня позвал к себе, командира… как на исповедь».
Они открыли дверь и положили носилки так, чтобы Роменюк мог увидеть хотя бы кусочек неба. Ярко светило утреннее солнце. Вокруг опять стояла удивительная, непостижимая какая-то тишина, будто все живое, сама природа замерла, прощаясь с еще одним уходящим из жизни человеком.
– Атам дальше – река… – сказал Громов, но, взглянув на Роменюка, увидел, что глаза его закрыты. Две большие слезины застыли на посеревших щеках, как две капли расплавленного болью, но уже остывшего свинца.
– Река, – едва слышно прошептал раненый.
– Да, там река… – тоже закрыв глаза и уже в полубреду подтвердил Громов. – Ты видишь ее? Это же твой Днестр… Милый, как само детство…
– Лейтенант! Товарищ лейтенант, дот! Там кто-то есть. Он ожил!
– Какой дот? – словно во сне спросил лейтенант, с усилием открывая глаза. – Какой дот, Коренко?
– Там… Телефон… Я даже не знаю…
– Унесите Роменюка. Закройте дверь, – устало сказал Громов. – Следите за противником. Я сейчас.
И вдруг, словно вспомнив о какой-то своей оплошности, сорвался с места и побежал к командному пункту.
– Господин лейтенант? Не кладите трубку. Нам нужно поговорить.
– Это вы?! – А ведь он надеялся, что это отозвался Родован.
– Да, я – оберштурмфюрер Штубер. Звоню из соседнего дота. Линия здесь оказалась надежной, мои люди всего лишь сменили разбитый аппарат. Будем говорить на русском или перейдем на немецкий?
– На немецкий.
– Хотите получить небольшую языковую практику? Разумно. Если, конечно, позаботиться о том, чтобы она когда-нибудь пригодилась. – Громов промолчал и, немного поколебавшись, Штубер продолжал: – Все, что произошло с этой женщиной, конечно, гнусно. И, каюсь, я тоже имею к этому определенное отношение. Правда, унтер постарался, чтобы все выглядело значительно гнуснее, чем я предполагал.
– У нас мало времени, оберштурмфюрер. Оправдываться будете на суде. Кстати, какова судьба защитников этого дота?!
– Трагическая. Как и следовало ожидать. Послушайте меня, Громов, – так, кажется, ваша фамилия?!
– Это не имеет значения.
– Завтра ваш дот прекратит свое существование. Гарнизон погибнет. Появилась одна адская идея, которая ускорит падение вашей крепости, и смерть ваша будет страшной. Я говорю это не к тому, чтобы запугать…
– И на том спасибо.
– Мне не хочется, чтобы среди трупов оказался и ваш. Поэтому предлагаю: оставьте дот в три часа ночи. Просто выйдите из дота и поднимитесь на верхнюю террасу долины. Ни один выстрел в это время не прогремит. Вас будет ждать мой заместитель, фельдфебель, с моей машиной. В доте даже не поймут, куда вы делись. А командование Красной Армии будет считать, что погибли вместе со всеми.
– Интересно, зачем вам понадобилось спасать меня, оберштурмфюрер? Неужели считаете, что, сидя в этом доте, я могу обладать какими-то ценными сведениями? Все, что нужно знать о дотах, вы уже знаете, остальное…
– Вы правы: как язык вы не представляете собой никакой ценности. Наши войска вот-вот возьмут Киев и Ленинград. Ваше сопротивление – всего лишь эпизод. Но вы – храбрейший человек. И мне жаль, что вы погибнете в этом подземелье вместе со всеми.
– Какова же судьба мне была бы уготована, – сделал Громов ударение на словах «была бы, – если бы я оказался в ваших руках? Шпион, которого вы забрасывали бы на территорию русских?
– Пока мы вас подготовим, никакой надобности в этом уже не будет, лейтенант. К тому времени Москва окажется в наших руках. А посылать разведчиков за Урал, чтобы разведать, что там делают бродящие по тайге отряды большевиков, – это нелепость. Я возглавляю спецотряд, который выполняет задание особой важности. Поэтому можете не сомневаться: у меня достаточно полномочий, чтобы определить вашу судьбу самым лучшим образом. В этом отряде уже есть немало опытных, отчаянных парней. Но мне не хватает нескольких личностей. Ярких личностей, с которыми можно было бы совершать «экскурсии» не только по Европе, но и, скажем, по Латинской Америке, США, Англии… Впрочем, все это уже подробности. О них позже. Слово офицера: дав согласие сотрудничать со мной (а я не вербую вас, идет обычный разговор), вы не пожалеете. Такие люди мне очень нужны. Тем более что вы хорошо владеете и русским, и немецким. Так что, лейтенант?.. – перешел Штубер на русский. – Вы поняли меня?
– Я достаточно хорошо владею немецким, чтобы понять все, что вы сказали, – тоже по-русски ответил Громов. – Но завтра я так же упорно буду сражаться против вас, как и сегодня. Вместе со своим гарнизоном.
– Остатками гарнизона, лейтенант, жалкими остатками.
– Это несущественно. Пока есть хотя бы два человека – есть и гарнизон.
– Вы заметили, что возле дота тихо?
– Да.
– Можете подышать воздухом, погреться на солнышке. Много времени подарить я вам не могу, но полчаса – ваши. Выйдите и убедитесь, что ни одного выстрела не прогремит. Хотя ответ вы уже, по существу, дали, я все же позвоню вам еще разок, в половине третьего ночи. Поэтому не прощаюсь, лейтенант.
Положив трубку, Громов еще несколько минут молча смотрел на аппарат. Этот звонок показался ему звонком из какого-то другого мира, а разговор – продолжением кошмарного сна, смысл которого он уже не помнит.
– Кто это был, товарищ лейтенант? – напряженно смотрел на него Коренко, так и не ушедший из отсека и слышавший весь разговор.
– Да так, один давний знакомый. Решил развеять мою грусть.
– Неужели тот самый немец, который по-русски говорил? По радио.
– Тот. Связь, как видишь, работает исправно. Иди, открой дверь дота. Пусть подземелье немного прогреется. Скажи ребятам, что могут посидеть в окопе, подышать свежим воздухом. Стрелять по ним не будут. Но из окопа не выходить.
«Конечно, грешно пользоваться благодеянием врага. Но почему, однако, не полюбоваться солнцем? Тем более что враг вынужден давать нам эту поблажку».
– Эй, обер-лейтенант! – крикнул он в рупор. – Высылай санитаров и забирай раненых! В течение сорока минут огня открывать не будем! Есть договоренность с оберштурмфюрером Штубером! Ты слышишь меня?!
– Да, слышу! – донесся голос откуда-то из-за дота.
– Но условие: ваши санитары похоронят и наших убитых.
– Хорошо! – послышалось в ответ после почти минутного молчания.
– Кравчук, Петрунь и остальные, – приказал Громов, – выносите убитых. В плащ-палатках. За линию окопа. Быстро! Раненых тоже к выходу. Мария, иди, полюбуйся солнцем. – Он еле сдержался, чтобы не сказать: «Может быть, в последний раз».
– Крамарчук, – подозвал он сержанта. – Возьми бинокль, высматривай и засекай цели. Фашисты что-то замышляют. Сегодня и завтра днем нужно дать им настоящий бой. А ночью будем уходить. С ранеными. Попробуем прорваться в лес. Мы бы попытались сделать это сегодня ночью, но сегодня они будут начеку.
11
Утром Штубера вызвал к себе начальник Подольского отдела гестапо и задал один-единственный вопрос: до каких пор засевшие в доте большевистские фанатики будут расстреливать из орудий переправу через Днестр и подъезжающий к ней транспорт? Тон, в котором штурмбаннфюрер задал его, Штубер счел бы непозволительным, если бы не понимал, что сам майор СС отлично знает: Штубер не обычный оберштурмфюрер, и нельзя определять его положение в гестаповской иерархии только исходя из звания. А раз штурмбаннфюрер понимает это, значит, случилось нечто такое, что позволяет ему говорить именно в таком тоне. Но что? Угрожающий звонок из штаба группы армий «Юг»? Из Берлина (если, конечно, сообщение о днестровском доте каким-то образом все же попало в сводки, идущие в столицу рейха)?
– Следующей ночью дот замолчит, господин штурмбаннфюрер.
– Следующей?
– Да.
– Это вы так решили? – саркастически оскалился штурмбаннфюрер. – Если я не ошибаюсь, он сражается в полном окружении уже восемь суток. Что вам мешало заставить его замолчать еще пятеро суток назад?
– Пятеро суток назад я не командовал штурмом дота. И кроме того, замечу: дот очень мощный. Хорошо укреплен.
– Мне это известно.
– И все же дот «Беркут» – это действительно особый случай в военной практике. Он сражается так же упорно, как гарнизон Брестской крепости, о которой вы, несомненно, слышали, господин штурмбаннфюрер.
По тому, как начальник отдела гестапо пробормотал что-то нечленораздельное, Штубер, однако, понял, что никакой информации об обороне этой крепости у него нет. Но все же сравнение возымело кое-какое действие. Во всяком случае, тон беседы штурмбаннфюрер несколько поумерил.
– Что вы собираетесь предпринять? – только теперь начальник отдела гестапо сел сам и предложил сделать то же самое Штуберу.
– Я внимательно осмотрел дот. Русских можно наказать самым жесточайшим образом. Например, забросать вход и амбразуры камнями и залить их раствором. То есть заживо похоронить. Как в склепе. Если уж кому-то вздумалось писать листовки, прославляя подвиг гарнизона, то пусть все, кто успел узнать о доте, узнают и о том, чем закончилось это бессмысленное сопротивление. В конце концов, мы тоже умеем писать листовки.
– А что, это идея, – поиграл желваками штурмбаннфюрер. – Очень жаль, что эта гениальная мысль пришла вам в голову слишком поздно. Практически она, надеюсь, осуществима?
– Вполне. Правда, понадобится еще пара пулеметов, чтобы держать под огнем…
– Вы получите четыре пулемета, – перебил его штурмбаннфюрер. – Нет, пять.
– И еще – три грузовика. И на каждую машину по десять грузчиков, которые бы собирали камни и свозили их к доту. С тыльной стороны, конечно. Кроме того, понадобится несколько строителей, способных приготовить к вечеру три центнера хорошего цементного раствора.
Штурмбаннфюрер посмотрел на часы: половина десятого.
– Через два часа у вас будут пулеметы, грузчики и грузовики. К шестнадцати ноль-ноль в ваше распоряжение поступит бригада строителей с необходимым материалом и инструментами. У вас все, оберштурмфюрер?
«Вот что значит истинно немецкая пунктуальность!» – почти с восхищением подумал Штубер, нисколько не сомневаясь в том, что в назначенное время все это действительно поступит в его распоряжение.
12
Ночью Громова разбудил Абдулаев.
– Они подползают, командир, – почти прошептал он, словно те, о ком шла речь, могли услышать его голос. – Там, – показывал на амбразуру, – к артиллерийской… Их много. Ползут тихо. Медленно.
– Ясно. Поднимай людей. Только без шума. Света не зажигать.
Лейтенант повесил через плечо автомат и схватил огнемет, который вечером занес к себе. Вчера он уже испытал его в дальнем конце дота, у колодца. Получилось эффектно и жутковато.
Подойдя к амбразуре, он начал вглядываться, пытаясь различить в темноте ночи то, что сумел увидеть Абдулаев. Но лишь через несколько минут, немного привыкнув к темноте, заметил движение, а потом услышал едва уловимое шуршание ползущего тела. Они уже слишком близко. Хотят оседлать амбразуры? Очевидно – да. И выбивать их, ползущих в темноте между воронками, будет непросто.
Первая же струя огнемета осветила трех ползущих друг за другом вермахтовцев и сразу же упала на них огненными гроздьями. В ответ полетела граната, но разорвалась она чуть-чуть в стороне, а взрыв ее слился с криками и стонами охваченных пламенем людей. Андрей видел, как они метались в ночи, вскакивали, снова падали и катались по земле, пытаясь сбить пламя. Еще через минуту он бросился к другой амбразуре… И снова склон озарила огненная радуга. Снова охваченные пламенем враги. В это же время заработали все три пулемета, и кто-то из бойцов-автоматчиков успел занять место у амбразуры, которую только что оставил Громов.
Предоставив защиту своей точки артиллеристам, лейтенант подхватил огнемет и побежал к пулеметчикам. Те тоже сумели прижать противника к земле. Но фашистов залегло человек двадцать. И у дота уже взорвались пять или шесть гранат. Опять их выручил огнемет. Его струи снова и снова заставляли фашистов подниматься (при этом они сразу же попадали под пулеметные очереди), пятиться, вспыхивая живыми факелами…
«Странно, что никому не пришло в голову вооружить гарнизоны дотов огнеметами… – подумал Громов, когда эта атака наконец-то была отбита. – Ведь можно было предусмотреть для них миниатюрные амбразуры, стоя у которых, бойцы выжигали бы врага этим кощеевским огнем, не подпуская к пулеметным и артиллерийским точкам. Ну и, конечно, баки в доте могли бы быть намного вместительнее».
– Что тут у вас? Потери? – спросил он у появившегося в отсеке Гранишина.
– Напоролись, товарищ лейтенант. Коренко опять ранен.
– Коренко? Как это могло произойти? Ведь и боя-то…
– Да умудрились. Бросились к амбразурам, не поняли сразу… Думали, что фашисты пойдут в атаку, а они, оказывается, уже у дота… Вот и… Легко, правда, – в руку. Не везет ему. Только-только подлечился.
– Везет – не везет! Нужно учиться воевать! Воевать нужно учиться – вот что!
– Учимся, – мрачно ответил Гранишин. – Отучились уже. Дот совсем опустел.
– Спасибо за информацию.
– Это правда, что завтра ночью пойдем на прорыв?
– Правда, правда… Мы свое сделали. Последний бой. Почему спросил? Не верится?
– Честно говоря, нет. Думал, вы это так, для поднятия духа.
– И для поднятия – тоже. Что, очень хочется вырваться отсюда?
– Кому ж не хочется? – тяжело вздохнул Гранишин. – Помирать – радости мало. А чую, что уже и моя очередь подходит. Не все же кому-то другому гибнуть да от ран стонать…
– Ладно, не думай об этом. Не нужно думать. Однако ночь, судя по всему, будет трудной, – добавил Громов, прислушиваясь к разрывам снарядов, ложащихся чуть выше дота.
Андрей понимал, что, решив, во что бы то ни стало морально сломить их, гитлеровцы, очевидно, предпримут этой ночью что-то гнусное. Однако что именно? Газы? Затопление? Более плотную блокаду? Но у гарнизона есть снаряды, есть вода и пища. Асам дот непробиваемый. Странно только: почему другие доты не сумели продержаться столь же долго? Ведь какую массу войск мы сдерживали бы на этом рубеже! Сколько уничтожили бы фашистов уже здесь, в тылу! И все же… Что они задумали?
– Командир, разреши уйти из дота. Заляжем в пещерах, наверху, а утром дадим бой.
Громов внимательно осмотрел Коренко. Вся левая рука его в бинтах. Они окровавлены. Мария только что перевязала его, но остановить кровь не сумела.
– Может, попытаетесь прорваться?
– Не получается у нас, командир. И вас по рукам свяжем. Лучше дадим бой в пещерах.
– И кто это «мы»?
– Я и Симчук. Прихватим трофейный пулемет, гранаты…
– Но ведь вы даже не сможете пройти туда.
– Почему? Ползком. Симчук на спине. Он уже пробовал.
– Да ранены вы, ранены! – взорвался было Громов, однако сразу же осекся. А что он мог предложить им, раненым, особенно Симчуку, вместо этой вылазки? Прорываться вместе со всеми? Ждать смерти здесь, в доте?
– Ну что ж… Если вы твердо решили… Можете прикрывать дот в мертвой зоне. Крамарчук, Петрунь и вы, Гранишин… Помогите им собраться и доставить туда пулемет. На плато фашистов пока нет. А вот дальше… Дальше не пройти. Мы, все остальные, прикроем вас. Да, не забудьте фляги с водой. И консервы.
Громов понимал, что эти двое идут на смерть. Но разве они, остающиеся в доте, не так же обречены? Поэтому он не стал устраивать сцены прощания. Все должно было выглядеть так, будто они переходят из одного отсека в другой, меняют позицию – вот и все.
На удивление, операция эта прошла довольно спокойно. Похоже, что после неудавшейся атаки фашисты убрались в окопы и отошли на верхнюю террасу. Оставлять пост на крыше они просто-напросто не решились. Или не сочли нужным.
Громов посмотрел на часы. Половина третьего. «Послать этого Штубера, что ли? И без него тошно».
Возможно, он и утвердился бы в решении не поднимать трубку, но именно в эту минуту давно и, казалось, навсегда умолкнувший аппарат вдруг ожил. Услышав его трель, Громов не задумываясь шагнул в мрачную пещеру отсека.
– Ну, что скажете, господин лейтенант? – послышался в трубке наигранно бодрый голос оберштурмфюрера. Неужели действительно это тот самый старший лейтенант СС, которого он скрутил у моста и который потом, по иронии судьбы, именно здесь, напротив дота, сумел уйти на правый берег? Вчера Громов не спросил его об этом. Просто забыл. Слишком уж неожиданным был звонок Штубера и весь этот разговор.
– Все, что я мог сказать, я уже сказал, отбивая атаку ваших войск.
– Ну, сидя в подземной цитадели и при таком вооружении, можно отбивать атаки посложнее. Стоит ли говорить сейчас об этом? Вы подумали над моим предложением?
«Да пошел бы ты!..» – мысленно вскипел Громов, но вместо этого ответил довольно спокойно:
– Подумал. Гарнизон будет сражаться до последнего бойца.
– Ну что ж, это ответ солдата, – сразу же отреагировал Штубер, очевидно, будучи готовым к такому варианту беседы. – Только знайте, – вдруг перешел он на немецкий, – я дарил вам последнюю возможность спасти свою душу.
– Это была возможность продать ее, оберштурмфюрер. Продать, а не спасти. Это далеко не одно и то же. Кстати, я хотел бы задать вопрос и вам. Уж не тот ли вы офицер, которого я… пленил там, у моста, дней двенадцать назад?
– Я мог бы вас разочаровать, сказав, что понятия не имею, о ком идет речь. Однако не стану портить вам настроение, лейтенант. Хотя вы мне его испортили. Да, тот самый. Судьбе, как видите, было угодно, чтобы со временем мы поменялись ролями. И теперь уже вы стали моим пленником.
– Это еще не факт. Пленниками мы себя пока не считаем.
– Напрасно. Для вас это единственный выход. Иначе гибель.
– Ничего, бой рассудит.
– Не бой, лейтенант, а война, история.
– Они уже рассудили.
И, не ощущая никакого прилива ни злости, ни обычного раздражения, Громов с силой ударил трубкой о цементный пол. А потом еще с величайшим удовольствием потоптался по ее железкам и осколкам, будто этим «ритуальным» топтанием, словно печатью, скреплял свое окончательное решение: души своей на жизнь предателя не разменивать.
13
На рассвете Громов снова попробовал подремать, но его тотчас же разбудил Петрунь.
– Я пойду к ним, товарищ лейтенант, – проговорил он тоном обреченного. – Выйду из дота и…
– К ним? К кому это – к ним? – не понял Громов. – Нельзя ли чуть яснее?
– Ну, к ним, туда, наверх. Трудно им там будет одним, раненым. Атак… Все равно это наш последний день.
– Кто это тебе сказал, что последний? – только сейчас Андрей поднялся с лежака и внимательно посмотрел на Петруня. Лампочка едва освещала отсек, и лицо бойца казалось ему безликой серой маской. – Почему ты так решил? – спросил он еще жестче.
– Да все так думают. Словом, пойду. Трудно им там… Попытаемся продержаться хотя бы до обеда.
– Ну хорошо, – согласился лейтенант после минутной паузы… – Если ты так решил… Только обязательно продержитесь. До вечера. Мы вас будем поддерживать гранатами. Вечером попытаемся прорваться.
– Не сможем мы уже никуда прорваться, комендант. Вы же понимаете, что не сможем.
– Только не надо хоронить себя живьем. Что за дурацкая привычка? Ты же знаешь, что я этого не терплю.
– Теперь знаю. Вы единственный человек, который в эту ночь спокойно, как ни в чем не бывало, уснул. Каравайный пришел и говорит: «Браточки, а лейтенант наш спит себе, как у тещи под яблоней!» Мы не поверили – пошли, посмотрели: точно, спокойным детским сном.
– Лучше бы тоже выспались перед боем, провидцы! – проворчал лейтенант, смущаясь от того, что стал предметом внимания всего гарнизона. Вот уж не думал он, что сон перед решающим боем способен удивить кого-либо из этих людей.
– Можно, я позвоню им?
Петрунь покрутил ручку телефона и, немножко подождав, тихо спросил:
– Как вы там?
Наклонившись к трубке, Громов услышал голос Симчука:
– Пока ничего, терпимо.
– Товарищ лейтенант посылает меня к вам, на помощь. Втроем будет веселее.
– Посылает? – не поверил Симчук. – И ты согласился?
– Уже иду.
– Патронов захвати.
– Что там слышно, Симчук? – сразу же взял трубку лейтенант.
– Появились какие-то машины. Наверное, привезли подкрепление.
– Вполне возможно. Лишний раз не высовываться. Сейчас попробуем переправить к вам Петруня.
– Пусть прихватит карабин и побольше патронов.
– Об этом позаботимся.
Петруня фашисты не заметили. Он сумел проползти к пещерам, не вызвав ни единого выстрела. При этом протащил за собой конец веревки, благодаря которой они перетащили потом карабин, а также сумки с гранатами, патронами и консервами.
Как только эта операция закончилась, Крамарчук доложил, что на шоссе появилась колонна машин.
– Огонь по шоссе и переправе! – немедленно скомандовал Громов. – Представляю себе удивление фашистов, которые здесь, в глубоком тылу, через несколько дней после отхода наших вдруг окажутся под артиллерийским обстрелом! – добавил он, засекая в бинокль разрывы снарядов на серпантине дороги.
Петрунь говорил, что все бойцы решили: этот день – последний в судьбе гарнизона. Ну что ж, последний так последний. Громов и сам понимал, что развязка этого фронтового эпизода приближается, и будет она трагической. Тем не менее старался вести себя совершенно буднично. Обычный день, обычная солдатская работа. Он объявил гарнизону, что их последняя боевая задача – продержаться до ночи. Ночью – прорыв. А потом марш к своим. Верят бойцы в такую возможность? Громову очень хотелось, чтобы верили. Нельзя сражаться, зная, что ты обречен. В счастливый исход нужно верить даже в самом безнадежном бою.
– Товарищ лейтенант, – обрадовался Петрунь, услышав в трубке голос командира. – Появились машины, и солдат что-то многовато. Слева, у завода, вижу три орудия.
– Ясно. Спасибо. Что еще замечено?
– Справа тоже два ствола. Вон солдаты спускаются окопами вниз. Наверно, будут сжимать кольцо.
– Слушай, Петрунь, еще не поздно, еще можно вернуться в дот. Спроси ребят.
– Мы говорили. Поздно. Остаемся. – Громова поразило, что он сказал это сразу, не засомневавшись в правильности своего решения. И как-то удивительно спокойно.
– Ну что ж… Смотри по обстоятельствам. Не выдавайте себя. Провод пролегает по ложбинке. Его не сразу заметят. Сколько можно, не выдавайте себя. Нужно продержаться до ночи. Ночью прорвемся.
Что он мог еще сказать этим трем обреченным бойцам? Чем обнадежить? А ведь они наверняка тоже на что-то надеются, наверняка еще верят, что командир сумеет предпринять что-то такое, что бы спасло их. Но, может, тогда и не стоит вселять в них эту надежду? Они солдаты – и этим все сказано.
Еще минут десять гайдуки Крамарчука «инспектировали» дорогу и переправу, а Громов и Степанюк точно так же «инспектировали» своими пулеметами фашистские окопы возле дота. Но потом на «Беркут» обрушился смерч огня. Пять или шесть орудий били прямой наводкой с того берега, несколько орудий расстреливали его со стороны завода и поселка. Одновременно по амбразурам прицельно ударили сотни карабинов и автоматов.
Дот трещал, стонал и судорожно содрогался от взрывов. Иногда Громову казалось, что они находятся в наглухо закупоренной бочке, по стенам которой изо всей силы бьют сотнями молотков. В то же время амбразуры почти постоянно были завешены шлейфом из глины, каменного крошева и осколков, сквозь который уже ничего нельзя было различить.
Прикрыв свою бойницу искореженной заслонкой, Громов приказал Каравайному подносить патроны, а сам пошел в отсек Степанюка. Сержант лежал на полу с раскроенным черепом. Даже не оттащив его от пулемета, Гранишин продолжал непрерывно поливать свинцом пространство перед дотом.
– Прекратить огонь! – крикнул лейтенант. – Я сказал: прекратить огонь! – опустился он на колени рядом с Гранишиным, но тот отчужденно уставился на планку прицела и совершенно не реагировал на приказ командира.
Тогда, ухватив Гранишина за шею, Громов буквально рванул его на себя. И надо же было случиться так, что именно в это время снаряд угодил в угол амбразуры.
– Спасибо, командир. Еще пару часов ты мне подарил, – тихо сказал Гранишин, поднимаясь с земли и отряхивая лицо от пыли. – Да только хватит нас сегодня ненадолго.
– У тебя кровоточит рука, – прокричал в ответ Громов, переждав очередной взрыв снаряда. Похоже, что фашисты отлично пристрелялись по этой амбразуре. – Сбегай к Марии, пусть перевяжет. И захвати носилки.
– Почему молчит наше орудие, лейтенант?
– Да? – удивился Громов. – А что, действительно молчит?
– По-моему, молчит.
Громов осторожно выглянул в амбразуру. Прямо на дот, стреляя на ходу, ползли два танка. Он понимал, что крутизна склона не позволит им подойти слишком близко, но все же теперь они смогут расстреливать их подземную крепость в упор. Неужели, говоря о том, что сегодняшний день решающий, Штубер имел в виду именно танки? Но ведь они могли бы двинуть их на дот и раньше. Если речь шла о танках, тогда это еще полбеды.
– Гранишин, отставить санчасть. Вон за танками поплелась пехота. Отсекай ее от машин. И бей по щелям танка. Я – в артиллерийскую.
Артиллеристов он увидел возле входа в точку. Там же была Мария.
– Что случилось?! – еще издали крикнул он. – Крамарчук, к орудию!
– Отстрелялись мы, командир, – на удивление спокойно, почти беззаботно ответил Крамарчук, помогая Марии перевязывать раненого. – Угробили фрицы нашу 76-миллиметровку.
– Да ты что?! О, Господи! Именно сейчас, когда она так нужна! Проклятый день! Этот проклятый день… Кто ранен?
– Газарян.
Он был ранен в плечо и в скулу. Раны оказались тяжелыми. Газарян был без сознания, а теперь еще и терял кровь. Терял слишком щедро, чтобы у Марии оставалась надежда вернуть его к жизни. И все же она пыталась сделать это.
Громов метнулся в артиллерийскую точку. Она содрогалась от взрывов. Отсек, где находилось орудие Газаряна, был буквально забит пылью. Когда он, почти на ощупь, добрался до амбразуры, один из танков подполз уже совсем близко. Его бы сейчас… Но ствол у орудия действительно был покорежен, и они оказались беззащитными перед этой стальной громадиной. Через несколько минут фашисты поймут это и окончательно оседлают все амбразуры.
В промежутках между взрывами Громов слышал, как коротко и зло огрызался пулемет Гранишина. Там, наверху, тоже шел бой. Значит, Петруня, Коренко и Симчука уже обнаружили. Да, похоже, что в краткой истории их подземной крепости этот день и в самом деле может оказаться последним.
– Каравайный, огнемет сюда! – выглянул он из отсека. – Крамарчук, Лободинский – с гранатами на выход! Отогнать танки! Кравчук – с автоматом к амбразуре. Не подпускайте пехоту.
Все, что происходило в доте, кажется, совершенно не касалось Абдулаева. Притаившись у амбразуры, он делал свое солдатское дело спокойно, с той долей хладнокровия и степенности, которые заставляют стоящего рядом побороть страх, забыть о смерти, вспомнить, что он тоже солдат.
– Видишь, командир: танк стоит? – Громов не заметил, чтобы Абдулаев оглядывался, но каким-то образом сразу определил, кто именно появился рядом с ним. – Моя думай: «Танкиста убит». Вон окошко в танке. Абдулаев туда стрелял.
– И снаряды у них, очевидно, кончились, – добавил Громов, наблюдая, как залегшие за танком солдаты стали осторожно отползать в стороны, чтобы не оказаться под его гусеницами. – Иначе плевались бы из своей пушчонки. Водитель для этого не нужен. Не дать бы им опомниться.
14
Каравайный успел вовремя. Именно тогда, когда кто-то из танкистов сел на место водителя и попытался увести танк от дота, Громов сумел ударить по нему огненной струей. Следующая струя дотянулась до пехотинцев. Танк задымил и, словно раненый зверь, попятился вниз по склону. Рядом с ним факелом вспыхнул один из солдат. Другого немца, пытавшегося отбежать от живого факела, сразил Абдулаев.
Горящий танк медленно уползал к окопам, и Громов очень жалел, что поразить его уже нечем. Вслед за ним, отстреливаясь из орудия и пулемета, уползал второй танк. Громов видел, как на броне его разорвалась противопехотная граната, и попытался ударить еще одной струей по пехоте, но огнемет выпустил всего лишь маленькую струйку и зашипел.
Все, теперь они остались и без этого последнего грозного оружия.
– Что у тебя, Петрунь?
– Отбили. Ребята помогли. Гранатами.
– Ты остался один?
– Симчука убило. Коренко снова ранило. Без сознания.
– Ясно. Они что, пытались пройти к доту, к амбразурам по крыше?
– Да. Только нас не заметили. Ну, а мы их тут…
То, что связь с Петрунем все еще действовала, показалось Громову чудом. Он только потому и не клал трубку, что понимал: этот тоненький проводок – единственная ниточка, связывающая Петруня с гарнизоном, с армией, с надеждой…
– Слушай меня, Петрунь, – почти с нежностью проговорил он, – попытайся все же вернуться в дот.
– Не смогу, – еле слышно ответил боец, немного помолчав. – Подстрелят. Здесь я тоже, как в доте. Только пусть ребята еще раз поддержат меня гранатами. Когда германец попрет, пусть поддержат. Почему орудие молчало? Танки ведь…
– Нет у нас больше орудия, Петрунь.
– И второго нет? Господи, что ж теперь?! Значит, все…
– Ну, это мы еще…
– Немцы, командир, немцы!..
Петрунь положил трубку рядом с аппаратом. Может, в спешке, а может, не желая обрывать эту последнюю связь, чтобы лейтенант тоже мог слышать, как он ведет бой. И Громов действительно слышал, как начал нервно исповедоваться его пулемет.
– Ну что ж, еще один бой мы выиграли, – сказал Громов минуту спустя и только тогда положил трубку на полевой аппарат. – Теперь фашисты на час-другой успокоятся. А там будет видно.
В коридоре он чуть было не столкнулся с Крамарчуком, который вместе с Каравайным нес кого-то на носилках.
– Кто? – нагнулся над носилками. – Ах, да…
Это был Лободинский. Громову показалось, что он мертв.
– А где Кравчук?
– Тоже ранен. Тяжело. В санчасти. Мария перевязывает.
– Проклятье!
Громов посмотрел на часы. Они показывали половину двенадцатого. До вечера оставалась тьма времени, но лейтенант понимал, что каждый час будет казаться теперь годом. Если так пойдет и дальше, ночью в доте уже будут немцы. В это время раздался сильный взрыв у входа.
– Кажется, они пытаются подорвать дверь! – крикнул Крамарчук, выскочив из санчасти. – Сейчас проверю.
Громов бросился в пулеметную точку. Если вермахтовцы действительно принялись за входную дверь, нужно было срочно перенести один пулемет в ход сообщения и соорудить в конце коридора баррикаду, иначе они сразу ворвутся. А сдерживать их уже не будет никакой возможности.
Он вошел в отсек, где стоял трофейный пулемет, взял его и, проходя мимо соседнего отсека, позвал Гранишина. Тот молчал.
Лейтенант заглянул внутрь. Голова Гранишина покоилась на кожухе максима, и казалось, что кровь источает сам пулемет. «Это и есть война… Крестом не осененная», – мелькнула в сознании Громова какая-то странная мысль.
– Дверь заклинило! – появился в отсеке Крамарчук. – Так что войти они не смогут. Разве что рванут еще раз. Но их там сейчас Абдулаев распугал. Выйти, правда, мы тоже не сумеем.
Говоря эти слова, сержант приподнял голову Гранишина, убедился, что тот мертв, и оттащил тело от пулемета. Делал он все это с убийственной будничностью, которая просто поразила Громова, хотя ему казалось, что уже давно разучился поражаться чему-либо, что происходит в этом доте и вокруг него.
– Нужно еще «помочь» им из пулемета. Прижми немцев на этом участке, загони поглубже в окопы, а я прощупаю их у входа.
Громов дал несколько очередей по всей линии окопов, которые открывались ему в этом секторе, но фашисты и так не очень-то высовывались – очевидно, теперь они больше уповали на артиллерию. Однако там, наверху, пулемет Петруня все еще молчал.
Андрей пошел на командный пункт и попробовал связаться с ним. Связи не было. Еще несколько минут он прислушивался к тому, что делается наверху, однако ничего такого, что свидетельствовало бы о существовании там своего бойца, расслышать не смог. Тем временем осаждавшие снова ударили по амбразурам изо всех видов оружия. Они поняли, что дот на грани гибели и, стараясь ускорить развязку, наседали, как изголодавшаяся стая волков.
«Ну что ж, прощай, Петрунь. Мужественный ты был парень. Сколько храбрых ребят полегло здесь, на этих склонах, сколько их полегло! Остается только пожелать себе умереть так же мужественно, как все они…»
В пулеметную точку он звонил с затаенным страхом, что и там поднять трубку уже будет некому. Может быть, поэтому вздрогнул, услышав:
– Алло! Сочи на проводе! Курортников просим собраться у второго причала!
– Ты жив, Крамарчук?! Ты, чертяка, жив?! Что там у тебя?!
– Фашисты из окопа убрались. Правда, не все, несколько человек осталось в нем навечно. Но с пушкой оно как-то посолиднее было, комендант.
– Теперь о пушке даже мечтать невмоготу. Так что… А Петрунь молчит. Нет с ним связи.
– Может, еще отзовется?
– Да уже, наверное, нет. Не верится.
– Подождем, комендант, подождем. Это же Петрунь, наш хлопец. Вдруг провод перебило, да мало ли что…
– А как хочется, чтобы там, наверху, оставалась еще хотя бы одна родная душа!
– Скоро и наши души будут там, «наверху».
– Отставить, сержант.
Впрочем, Крамарчук оказался почти пророком. Телефон действительно ожил.
«Немцы…», – решил Громов, услышав этот долгожданный зуммер.
– Петрунь? О, Господи, мы уже подумали… Что? Что-что?!
– Симчук… Сим…
– Кто?! Симчук? Это ты, Симчук?!
– Ятова… лей… Убит… Петрунь. А я… вот… – в трубке послышалось нечто похожее то ли на сдавленный стон, то ли на всхлипывание.
– Понял, Симчук, понял! Где фашисты?
– Отбил их Петрунь. Сейчас… Камни… Много…
– Что?!
– Камни…
– Не понял, Симчук! Какие камни?! Что камни, что?!
– С горы… Камни… Прощай… Немцы…
Громов отчетливо слышал в трубке немецкую речь. Слышал, как Симчук еще силился что-то сказать, но только хрипел в трубку, которая в конце концов захлебнулась взрывом гранаты. Андрей вздрогнул всем телом, словно осколки достигли его по проводам. Но быстро овладел собой и, все еще не выпуская трубку, вопросительно посмотрел на Крамарчука.
– Эти христопродавцы подвозят камни. Будут скатывать их с горы, – меланхолично как-то объяснил сержант.
– Камни? Зачем? – скорее по инерции, чем по необходимости выяснить замысел гитлеровцев, спросил Андрей. – Зачем им это понадобилось?
Крамарчук отрешенно взглянул на коменданта и молча отвел взгляд.
15
– Как обстоят дела, мой фельдфебель? – Штубер появился только к двум часам дня, когда у дота уже вовсю кипела работа: подъезжали машины, одна группа солдат скатывала камни с верхнего яруса на нижний, а другая забрасывала ими дверь и амбразуры, тотчас же заливая свежий слой раствором.
– Дверь уже замурована, господин оберштурмфюрер. Пулеметная точка – тоже. Трудимся над артиллерийской.
– Вы перестараетесь, Зебольд. У меня и в мыслях не было сооружать для гарнизона «Беркута» пирамиду.
– Но замуровать-то их все равно необходимо.
– И что же предпринимают русские?
– Стреляли до последней возможности. Даже когда стрелять им уже было не по кому. Я приказал всем убраться из секторов обстрела.
– Были заявления о сдаче в плен?
– Не было, господин оберштурмфюрер. Мы ничего такого не слышали, – добавил он, уловив настороженный взгляд Штубера. – Если бы они просили об этом, мы бы, конечно, приостановили работу, подождали вас.
Он знал о страстном желании Штубера пленить коменданта дота и догадывался, что оберштурмфюреру не по себе от мысли, что так и не смог сломить советского фанатика.
– А вообще-то я ему не завидую, этому лейтенанту. Когда он почувствует, что задыхается, сразу же захочет выкарабкаться на свежий воздух.
– Ваши чувства по этому поводу меня совершенно не интересуют, мой фельдфебель. Лучше скажите, что бы предприняли на его месте лично вы? Они могут попытаться взорвать ваши баррикады?
– У них есть один разумный выход – сдаться в плен. Но, судя по всему, эти красные предпочитают смерть.
Выслушав фельдфебеля, Штубер приказал ему приостановить замуровывание и подойти с рупором к артиллерийской амбразуре.
– Через пять минут мы завалим вас камнями! – кричал Зебольд, коверкая слова. – А еще через полчаса вы в своем бункере задохнетесь! Однако немецкое командование гуманное! Оно предлагает вам сдаться в плен! Предлагает последний раз.
Повторив это дважды, Зебольд решил подождать ответа русских, но вместо него в оставшуюся щель осажденные каким-то образом сумели протолкнуть лимонку, и стоящий на крыше дота фельдфебель лишь на какую-то секунду успел броситься на землю раньше, чем прогремел взрыв. Одним осколком ему пробило свалившуюся пилотку, другим разорвало голенище сапога.
– Не огорчайтесь, мой фельдфебель, – невозмутимо прокомментировал это происшествие Штубер, когда через несколько минут после взрыва Зебольд примчался к нему в окоп. – Русские вас просто-напросто не поняли. О чем они будут горько сожалеть. Обер-лейтенант, – обратился он к Вильке, – замуровать последнюю амбразуру.
– Не хотите поговорить с русскими по телефону? Мои связисты могут подсоединиться к кабелю, что вел к пещерам, которые защищали солдаты взвода прикрытия.
– Я с покойниками не общаюсь, обер-лейтенант, – презрительно процедил Штубер.
16
Камень, снова камень… Всплески раствора… Все меньше света в отсеке, все гуще и чаднее становится воздух…
Громов поднял автомат и в отчаянии расстрелял по камням весь магазин. Пули рикошетили, с воем уносились куда-то вверх или врезались в стенки амбразуры, не причиняя при этом каменному завалу никакого вреда. Это были выстрелы бессилия. У него еще осталось трое боеспособных солдат (в последнем бою Абдулаев был ранен в плечо и сейчас лежал в санчасти), масса снарядов и патронов, есть даже гранаты… Они находятся в мощном доте. Разве не обидно, что, обладая всем этим, они в концов оказались бессильными и обреченными? И самое страшное – что умереть придется не в бою, а вот так, задыхаясь или кончая жизнь самоубийством.
– Даже пострелять не дадут напоследок, – остановился за его спиной Крамарчук. – Измором возьмут, христопродавцы. Удушат в подземелье – и отпевать некому будет.
– Зато склеп идеальный. Лучшего и желать не приходится, – мрачно отреагировал Громов.
– Может, все-таки сдадимся, а? В самом деле, какого черта умирать, да еще вот так, мученически? Только бы нас выпустили отсюда, а там мы еще по дороге в лагерь сбежим.
– Брось, сержант. «Сбежим! По дороге в лагерь!..» Ты же знаешь, что обороны этого дота они нам не простят. И хорошо представляешь себе, что нас ждет. Не говоря уже о бесчестии самого плена.
– Но ведь жалко же подыхать вот так, по-крысьему! Ведь повоевали бы еще! И скольких бы уложили!
– Мы храбро сражались, сержант. Теперь наша задача: так же храбро и мужественно умереть. Ну а то, что они замуровали гарнизон… Именно как зверство этот случай и войдет в историю войны.
– Да что мне до истории, лейтенант?! – почти простонал Крамарчук. – Мне дышать нечем – вот какая история! Понимаешь ли ты это или нет? Сколько мы еще протянем здесь, когда они… ну, полностью?
– Не более часа.
– И все?
– И все.
– Будь она проклята, эта бетонная могила!
– Послушай, Крамарчук, иди к раненым. Там Мария… Когда увидишь, что… Не доводи ее до мучений. Словом, ты понимаешь, что я имею в виду…
– Ну что ж… Теперь – конечно. Теперь только бы не сойти с ума и вовремя пустить себе пулю в лоб.
– Где Каравайный?
– В энергоотсеке. Все еще пытается запустить свой дизель и дать нам свет. Не знаешь, зачем он нужен мертвецам?
– Тогда он святой человек. Однако запускать этот дизель сейчас нельзя. Сожрет весь воздух.
– А что, если натаскать сюда снарядов? И рвануть? Проломить стенку.
– Уже думал об этом. Можно и рвануть. Но это не спасение, а смерть. Погибнуть, конечно, можно и таким образом.
– Что же будем делать?
Громов молча смотрел на амбразуру. Теперь сквозь нее пробивался лишь тоненький лучик света. Последний лучик жизни. Достаточно было одного-двух камней, чтобы раз и навсегда оборвать его. Одного-двух камней…
– Эй, красные! Можете считать свой дот неприступным! – кричал тот же немец, который совсем недавно предлагал им сдаться. – Мы укрепляем его по всем законам фортификации!
– Крамарчук, – вдруг схватил Громов сержанта за рукав. – Быстро в энергоотсек. Принеси лом. Или что-нибудь в этом роде.
– И что? Что тогда?
Громов не стал объяснять ему, сам бросился в коридор и побежал к энергоотсеку. В проходе все еще коптели две керосинки, и лейтенант подумал, что надо бы погасить их – зря съедают кислород. Но тратить на это время не стал. Он забежал на командный пункт, взял со стола трофейный фонарик и через минуту уже был в энергоотсеке.
– Что? – встревоженно спросил его Каравайный, копавшийся при свете керосинки в моторе. – Немцы? Я сейчас. Уже вот-вот…
– Лом нужен, Каравайный, только лом.
Он был голым по пояс. В отсеке, всегда таком влажном и прохладном, теперь становилось душно.
– Что делать, товарищ лейтенант? – спросил он, подавая Громову довольно увесистый лом. – Что им делать?
– Продолжайте ремонтировать. Доту нужен свет, – бросил Андрей уже на ходу.
– Я бы… Но очень трудно дышать…
«Там, в стенке колодца, – щель. Если ее расширить… – пульсировала одна и та же мысль. – Там струя воздуха. Я помню. И если щель расширить, – думал он уже стоя по пояс в холодной, почти ледяной воде и загоняя острый конец лома в трещину, – если ее расширить, то мы сможем продержаться еще несколько суток…»
Громов долбил и долбил, однако никакой струйки воздуха почему-то не ощущал. А ведь тогда он явственно почувствовал ее. Она была. Почему же сейчас?.. Неужели после очередного обстрела щель сузилась настолько, что?..
Но все же в колодце дышать стало несколько легче. Возможно, здесь существовал еще какой-то свой автономный запас кислорода. Должен был существовать.
– Командир? Ты здесь? – послышалось сверху. И в колодец свесилась голова Крамарчука. – Что там?..
– Щель. Была щель. Как Мария, раненые?
– Плачет Мария. Раненым плохо. Они первыми не выдержат.
– Да, первыми… – словно во сне повторил Громов. И, в очередной раз вогнав лом в трещину, вдруг ощутил, что он вошел в мягкую породу, словно в кучу щебенки.
– Есть, Крамарчук! Щель!
– Дай лом. Теперь я…
– Подожди, сейчас. – Он яростно ударил еще несколько раз, вогнал железо поглубже, расшатал и наконец почувствовал, что в лицо повеяло холодком. Легко-легко. Совсем слабая струйка.
– Я со свежими силами.
– Чуешь, сержант? Чуешь? Воздух!
– Что-то ощущается, – еле слышно отозвался Крамарчук.
– Быстро за гранатами! Нужно заложить и рвануть.
– Нужно, – согласился сержант уже чуть-чуть громче и увереннее. – Я мигом! Но если меня долго не будет…
– Понял, Крамарчук, понял!
Вода леденила ноги. Лейтенант уже не чувствовал их. Но зато щель становилась все шире и шире, а струя воздуха все ощутимее. Значит, и там, в отсеках, дышать становится легче. Впрочем, доходит ли туда воздух? Должен. Мария… Господи, хотя бы она продержалась еще несколько минут! А раненые?.. «Несколько минут… Несколько минут…» – как заклинание, повторял он, все раздалбывая и раздалбывая щель.
По ту сторону стенки была пустота. Лом несколько раз вырывался из ослабевших рук и уходил в расщелину. Громов еле успевал поймать его за самый кончик. Вслед за ломом туда, в пустоту, уходила и вода. Но сейчас Андрея это уже не волновало. Запас воды в доте есть. Родник сохранится… Сначала доту нужно вернуть жизнь.
– Лейтенант! Бери! И веревка. Два куска.
– Молодец, сержант. Ну, гусары-кавалергарды!.. – вспомнились вдруг словечки комбата.
Громов затолкал в щель одну гранату. Вошла! Божественно. Подсказал бы кто-нибудь, как ее взорвать.
– Держи веревку.
– Отойди, сержант, – Громов выбрался из колодца, взял другую гранату и, подсвечивая себе фонариком, несколько раз вогнал ее в разлом. Вырвать чеку – и в разлом. Вырвать чеку – и…
– Крамарчук, за выступ!
Он и вырвал чеку так, словно тренировался. Раз, два, три… Еле успел откатиться от края колодца, как в нем рвануло, и хотя осколки камня и металла в основном вобрал в себя колодец, но все же часть их вырвалась наружу, и откуда-то с потолка на голову Громову упал кусок бетона, очевидно, отвисшего после взрыва снаряда.
– Что, лейтенант?! – бросился к нему Крамарчук, увидев, что тот потерял сознание. Подтянул его к колодцу, нагнулся и плеснул в лицо водой.
– Что за выстрел? Кто стрелял? – первое, что спросил Громов, придя в себя и откашливаясь от идущих из колодца дыма и гари. Нет, он не бредил, в доте действительно прозвучал выстрел.
– Полежи, я сейчас… Узнаю… Слышишь, дышать уже намного легче стало.
– Нам легче. А в отсеках?
– Отлежись. Молчи.
– Порядок. Лежу. Дай еще одну гранату.
17
На рассвете Орест Гордаш извлек из сена, которым были притрушены нары, своего «Обреченного», нащупал стеклышко и, усевшись напротив зарешеченного окна, принялся за резьбу. На куске липовой древесины еще только вырисовывались контуры тела – головы, мускулистых плеч, ног, – однако мысленно скульптор уже четко видел свое творение: «Обреченный» должен быть опутан веревками. Но мощное тело его, напрягаясь, пытается избавиться от пут. Это последняя попытка бунта человека, стоящего под виселицей, в которую превращен обтесанный ствол дерева со срезанной кроной.
«Господи, почему мне не пришло в голову вырезать такого “Обреченного” раньше, еще до войны? Сколько я бился, пытаясь подыскать подходящий образ. Но каждый раз вновь и вновь принимался вырезать Марию. Телом он мог быть немного похожим на “Давида” Микеланджело. Или на его “Вакха”, – взволнованно размышлял Гордаш, размеренно соскабливая и соскабливая податливое древесное волокно липы уже основательно притупившимся осколком бутылочного горлышка. – А теперь что ж… Если уж Ты не послал мне раньше этот сюжет – ниспошли хотя бы плохонький резец. Хоть какой-нибудь. Я ведь не гений, чтобы одним только стеклышком…»
– Что ты там мурыжишься? – долетел до него сонный голос Есаулова, чьи нары были рядом с его. – Лучше бы вспомнил напоследок что-нибудь эдакое, если есть что вспомнить.
– Мне нечего вспоминать, – резко отрубил Гордаш. В последние дни, после того, как в камеру к ним начал наведываться этот бывший поручик Розданов, Орест только и слышал от них: «казаки, казачество, расказачили…» И понял, что по существу они сладили. Еще день-другой, и Есаулов согласится служить немцам. Тем более, что Розданов намекал, будто немцы собираются создать охранный казачий батальон. Правда, пеший, что Есаулову, прирожденному кавалеристу, не очень-то нравилось… Словом, он понял, что Есаулов решил сменить камеру тюрьмы на казарму охранного батальона, и начал презирать его. Лично он, Гордаш, служить немцам не собирался. Правда, он и в Красной Армии не очень-то наслужился. Но уж пусть извинят: он – скульптор, художник… Убивать – ремесло других. Даже если убийство это праведное, во спасение.
– И все же, на кой черт тебе эта деревяшка? Лучше бы уж подкоп делал, по крайней мере появилась бы надежда сбежать, вырваться на свободу.
– Я и так вырвусь. Разнесу вдрызг эту конуру, но вырвусь. Но я не крот. Мне нужно беречь руки.
– Он бережет руки! – изумился лейтенант Мащук. – Маэстро резца и кисти! Господи, а что мне, сбитому пилоту, беречь? Обожженные крылья, что ли?
– Не об этом нужно думать сейчас, – вмешался младший лейтенант Величан. – Думать нужно о побеге. Очевидно, расстреливать поведут не только нас двоих. Из других камер тоже подберут. Расстреливают у ограды сельского кладбища. Над ямой. Если сыпануть в разные стороны… Хоть один, да спасется.
– Или, по крайней мере, дать им последний бой, – согласился пилот.
Он был сбит над Молдавией во второй день войны, попал в плен, однако очень скоро сбежал из лагеря, уже с территории Румынии. Прошел всю Молдавию, переправился на левый берег Днестра, к своим… Казалось: все, свобода! Вконец измученный, он заявился под вечер в штаб какого-то пехотного полка, располагавшегося в приднестровской деревне. Там ему на удивление быстро поверили, через радиста из штаба армии успели сообщить о появлении сбитого пилота в штаб авиаполка. Беспредельно уставший, но счастливый, летчик напросился в дом какой-то старушки, устроил себе баньку и решил отоспаться.
Под утро ему снился вещий сон: гитлеровцы окружают его в крестьянской хате. Он отстреливается последними патронами, но петля смерти затягивается все туже и туже. Уже проснувшись, Мащук несколько минут лежал с закрытыми глазами и, слыша выстрелы, блаженно улыбался: это всего лишь сон. Почему-то очень быстро вспомнилось тогда, что он уже на левом берегу, среди своих, а на соседней улице – штаб полка, возле которого утром его подберет уезжающая в тыл машина. В чувство его привел страдальческий крик хозяйки: «Йой, утикай, сынку, нимци!..»
Да только убегать уже было поздно. Переправившиеся на рассвете десантники, которые должны были захватить плацдарм на левом берегу Днестра, уже вбегали во двор.
Рассказ Мащука о том, как он снова попал в плен, Гордаш слышал уже много раз. Не в силах простить себе того, что он «проспал свою офицерскую честь», лейтенант все казнил и казнил себя этими рассказами. Его уже выводили на расстрел, но в последнюю минуту в лагере появился какой-то эсэсовец, который, узнав, что должны казнить летчика, приказал отсрочить казнь на семь суток. Этого времени лейтенанту должно было хватить, чтобы решиться перейти на службу в люфтваффе.
– Может, и попробуйте. И кто-то спасется. Только не я, – Гордаш проговорил это без отчаяния, без страха, голосом человека, окончательно смирившегося со своей обреченностью.
– Потому что ты уже похоронил себя, – снова заговорил Мащук. – Ты себя уже похоронил, а мы все еще живы.
– И не так чтобы слишком уж долго тебе осталось жить, – заметил Есаулов. – Помнится, четвертые сутки сгинули из семи, отмеренных тебе оберштурмфюрером Штубером.
– Розданов, Штубер… Очень быстро ты заучил их фамилии. А как же: приглянулся их компании. Казак, видишь ли. Нет у нас казаков! Есть пролетариат. Сельский пролетариат. А казачье – это, считай, сплошь кулачье.
– Отпусти гашетку, идиот: ты уже все выстрелял. Все, чем тебя зарядили.
Услышав это, Гордаш насторожился. Он понял: завтра Розданов или этот самый Штубер добьются своего. Гордаш не осуждал Есаулова. Это даже не предательство: так, животное спасение жизни. «Он-то еще может как-то спасти ее, мне даже не предлагают, – мрачно размышлял Орест. – А если так… Что мне до Мащука, Есаулова? Все, что с ними случится, что случится в этом лагере, на этой земле – будет происходить уже без меня, в ином мире».
«Потому что ты уже похоронил себя, – громыхало у него в висках. – А мы еще живы. Ты уже… похоронил себя…»
Пленные еще долго говорили о чем-то своем, спорили, возмущались, взывали к судьбе. Однако Гордаш уже не обращал на них внимания. Иногда он просто-напросто не слышал их. У него в руках кусок древесины молодой липы. Плотникам, которым было приказано срочно переоборудовать это старинное, казарменного типа здание в тюрьму, не хватило березовых и кленовых досок. Вот они и свалили прямо здесь, в парке, несколько молодых лип, распилив их потом на доски.
Завершив работу, они старательно убрали после себя, но этот кусок липы каким-то чудом завалялся под нарами. Плотники не тронули его, словно предчувствовали, что одним из первых, кто попадет в эту камеру, будет резчик по дереву, скульптор.
Глаза Ореста слезились, и все тело его время от времени пронизывала дрожь, сдерживать которую становилось все труднее, ибо порождалась она не столько утренней прохладой, сколько истощением и болью, которые вот уже много дней подтачивали и разрушали его могучий, жаждущий жизни организм. Гордаш не верил, что отыщется сила, способная остановить это разрушение. Однако чем больше убеждался в этом, тем старательнее не то что вырезал – пестовал каждую линию, мышцу, каждую жилку своего «Обреченного».
Так, со стекляшкой и куском древесины в руках, он вдруг уснул, не расслышав, как дверь камеры отворилась и вошли два немецких офицера в сопровождении полицая. Проснулся лишь тогда, когда один из офицеров носком сапога приподнял его руку, чтобы лучше разглядеть зажатую в ней вещицу.
Все еще сидя на полу, пленный растерянно уставился на эсэсовца, но очень быстро опомнился и, отдернув руку, прижал «Обреченного» к груди: чужеземцу не должно быть дела до того, что он вырезал этой, может быть, последней своей ночью. Теперь Гордаш жалел, что не успел, как обычно под утро, спрятать статуэтку под нары. Больше всего он боялся в эти дни, чтобы «Обреченный» не исчез вместе с ним. Он уже взял слово со своих сокамерников, что когда его уведут на казнь, они будут передавать статуэтку друг другу, авось кому-нибудь удастся выбросить «Обреченного» в кювет, где его подберет какой-нибудь мальчишка. Подберет и сохранит.
– Ты вырезал это здесь? – спросил эсэсовец почти на чистом русском.
– Мы обыскивали его, когда переводили сюда из лагеря, – поспешил заверить полицай, очевидно начальник тюрьмы.
Но эсэсовец никак не отреагировал на это объяснение. Сейчас его интересовало не состояние дисциплины, а нечто другое.
– Я спрашиваю: ты создал это здесь, в камере? Или, может быть, принес с собой?
– Где же еще? – прогрохотал своим осипшим басом Гордаш.
– С офицером нужно говорить стоя, – напомнил эсэсовец. – До тех пор, пока идет война и ты числишься ее рядовым или ее пленным, с любым офицером нужно говорить только стоя.
Орест взглянул на нары. Никто из заключенных, лежавших на них, даже не поднял головы. Но это не от безразличия – от страха. Замерли, закрыв глаза, и молятся.
– Я не солдат, я семинарист. Приказывай кому-нибудь другому.
– Он действительно учился в семинарии, мы выяснили, господин офицер, – снова вмешался полицай. – Но форма-то на нем солдатская. Значит, успели одеть, хотя и не постригли. Это мы его уже здесь обезволосили.
Офицер что-то проворчал по-немецки, вырвал из рук Гордаша «Обреченного», долго рассматривал, поднеся его к окну, к солнечному свету.
– Давно увлекаешься этим?
Орест не ответил. Разве не все равно, когда именно созрело в нем это ремесло. Его, семейное… Страшно, что не сегодня завтра оно умрет вместе с ним.
– Отвечай, дурак, когда тебя спрашивает немецкий офицер, – пробубнил полицай.
– Я ведь не спрашиваю, кто и зачем оставил тебя в немецком тылу и кто руководитель диверсионной группы, в которую ты входишь? – предельно вежливо заметил эсэсовец. – Речь идет всего лишь об искусстве.
Еще раз внимательно осмотрел «Обреченного» и бросил его Гордашу.
– Да он с детства этой дурью мается, – снова заговорил полицай, видя, что Гордаш так и не собрался с духом для объяснений. – Отец, дед и прадед его были художниками, ну, богомазами, по-нашенски. Церкви, соборы, монастырские стены расписывали, иконы обновляли.
– Вот как? – впервые оглянулся на полицая эсэсовец. – Они были известными в этих краях мастерами? Вы лично знали их?
– Деда немного знал. Он в нашем селе церковь обновлял. Как только обновил, коммунисты ее тут же и взорвали! – расхохотался. – Дали закончить работу, даже откуда-то из района или области приезжали – полюбоваться, работу похвалить. А потом ночью саперов прислали. Ну, те ее аккуратненько… Какой с них, коммунистов-нехристей, спрос?
– Значит, ты перенимал науку отца? А для того чтобы получше освоить иконопись, подался в семинарию? Там изучал Библию, знакомился с работами лучших мастеров-иконописцев мира: Джорджоне, Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти? Я никого не забыл, ничего не напутал?
– Все точно, – вдруг довольно добродушно подтвердил Гордаш и только теперь, наконец, поднялся.
Увидев этого гороподобного исполина во весь его рост, оберштурмфюрер удивленно отступил назад и, пораженный, осматривал его, словно перед ним возникла еще одна скульптура, вполне достойная резца великого Леонардо.
– Наконец-то я слышу здравый голос мастера. Правда, мне нечасто приходилось бывать в залах Дрезденской картинной галереи, но все же кое-какое представление о живописи и скульптуре итальянских и нидерландских мастеров эпохи Возрождения получил. Этого не расстреливать, – уже другим, резким тоном обратился к полицаю. – Пока что. Скульптор тем и отличается от любого смертного, что прежде чем умереть, должен позаботиться о своем бессмертии. Поэтому грех убивать мастера, не закончившего свою работу. Возможно, это единственное, что на войне действительно стоит считать грехом. Или, может, я ошибаюсь, а, местный Микеланджело? Кто там у вас в списке первый, полицай?
– Стефан Рануш, – развернул тот свою бумажку. – Выходи.
– Расстреливать будем по одному, – вздохнул Штубер, наблюдая, как молча, медленно идет к двери седоволосый крестьянин. – А что поделаешь? Кто-то из них наверняка знает что-либо о подпольщиках, диверсантах или просто оставшихся в тылу коммунистах. Значит, не выдержит и скажет. Жестокая реальность войны.
Оберштурмфюрер еще раз внимательно всмотрелся в заметно исхудавшее, слишком рано подернутое едва наметившимися морщинами лицо скульптора, и в глазах его вспыхнул хищный огонек какой-то, пока что только ему одному ведомой, идеи.
– Да, ничего не поделаешь… А этого не трогать, – напомнил полицаю и офицеру, коменданту лагеря, за все это время так и не проронившему ни слова.
18
Крамарчук, пошатываясь, побрел в темноту подземелья, а Громов, немножко отлежавшись, снова спустился в колодец. Голова гудела. Волосы слиплись от крови. Он промыл голову водой и одну из гранат засунул в расщелину, загнав ее чуть-чуть наискосок, чтобы от взрыва другой гранаты она не вылетела в пустоту.
Опять взрыв. Опять дым, гарь, чадная пыль… Но зато на этот раз наружу осколки почти не вырвались. Все вобрали в себя стены. Пролом оказался таким большим, что вода буквально хлынула в него, и, спустившись через несколько минут в колодец, Громов уже ощутил ее только на скользком дне, между грудами щебенки. «Почему я не позаботился о запасном выходе раньше? – корил себя лейтенант. – Можно было испытать этот путь, сохранив колодец. И почему его не предусмотрели военные инженеры?» Впрочем, вопросов в связи с устройством «Беркута» возникало много. Только задавать их некому.
Пошарив под осколками камня, Андрей нашел лом и снова принялся расширять щель. Наконец луч фонарика осветил такой пролом, в который лейтенант довольно легко мог протиснуться. Еще не веря в удачу, Громов начал прощупывать лучом таинственный потусторонний мир. В общем-то, ему открылась всего лишь небольшая пустота, что-то в виде сталактитовой пещеры. Но в конце ее обнадеживающе чернел еще какой-то коридор.
«А вдруг за ним – другая, более широкая пещера? – с волнением подумал он, всматриваясь в черноту прохода. – И оттуда можно пробиться дальше? А если нет?» – Андрей с болью проглотил сухой горьковатый комок, застрявший было в горле, и постарался поглубже вдохнуть влажный, отдающий плесенью воздух. Сейчас он с ужасом подумал о том, что последует за этим «если нет». «Молись удаче, Громов, – сказал он себе. – Своей солдатской фортуне молись».
Он уже был наслышан о местных пещерах, пустотах, о целых подземных дворцах, которые исследовались отрядами добровольцев-спелеологов. Но если дальше пещеры действительно нет? Что тогда? Тогда нужно продержаться в доте еще двое-трое суток, пока фашисты не уйдут от него. И попытаться пробиться через артиллерийскую амбразуру или через дверь.
Как бы там ни было, у них появился кое-какой шанс на спасение, появилась надежда. Главное – не задохнуться. О Господи, как же не хочется возвращаться в этот дот! Да, кто же там стрелял? Неужели?! Нет, не может быть… Мария не могла этого сделать. Мария не могла!
Нужно перенести ее сюда, к колодцу, решил он, выбираясь наружу. И раненых тоже. Всех.
На развилке, откуда ход сообщения вел к пулеметной точке, луч фонарика одну за другой выхватил две фигуры.
– Помоги, лейтенант!
Крамарчук! Сам уже обессилевший, он все же нес на спине Марию. Санинструктор была без сознания.
Вдвоем они быстро донесли ее до колодца. Громов сразу же спустился в него и несколько раз плеснул Марии водой в лицо.
– Подвинь ее поближе к колодцу, здесь больше воздуха, – попросил он Крамарчука. А когда сержант сделал это, спросил: – Где Каравайный? Нужно побыстрее перенести сюда раненых.
– Поздно, лейтенант.
– Не понял.
– В «Беркуте» нет больше раненых.
– Яснее, сержант, яснее!
– Мария сумела подползти поближе к вентиляционной трубе. Оттуда поступало немножко воздуха. А раненые подползти не сумели. К тому же потеряли много крови.
– Что, Абдулаев тоже?
– Все.
– Это он стрелял? Нет? Тогда кто, кто?! Кравчук? Газарян? – Лейтенант допытывался об этом с такой страстью, словно для него действительно было крайне важно узнать, кто осмелился уйти из жизни этим путем, упредив мученическую смерть.
– Я сейчас, комендант.
– Возьми фонарик. Захвати гранаты.
Когда Крамарчук ушел, Громов еще раз плеснул Марии в лицо, похлопал ее по щекам, а услышав тихий сдавленный стон, погладил по щеке и нежно, словно боясь разбудить, поцеловал в губы.
– Несколько минут… Продержись, милая. Несколько минут, и все будет хорошо…
Осторожно, боясь поранить, он стащил Марию в колодец и усадил, прислонив ее к стене напротив пролома.
– Абдулаев, Абдулаев… – тихо прошептала она. – Не оставляй их. Я… я сейчас.
«С этими словами она ушла из отсека, – понял Громов. Искать его, Громова, искать Крамарчука… струйку воздуха.
– Он с ранеными, – сказал Громов. – Посиди здесь. Я скоро вернусь.
– Ты, Андрей? Где мы? Почему темно? – она коснулась пальцами его лица, и Андрей почувствовал, как к горлу подступил уже иной комок – нежности и жалости.
– Потерпи, милая, потерпи. Я – к раненым… Там беда.
Лейтенант на ощупь добрался до энергоотсека и позвал Каравайного. Ответа не было. Дышать теперь стало легче, но все равно, ступив в отсек, он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Воздух там был тяжелым, угарным.
– Эй, моряк!
– Я уже разведал, – раздался за спиной голос Крамарчука. – Это он стрелял. Не ходи в отсек, лейтенант.
Громов включил фонарик и повел лучом по отсеку. Каравайный лежал за машиной, Андрей увидел только его ноги. Подойти поближе не решился. Да и какой смысл?
– Немного поспешил, – вздохнул Крамарчук. – Зато по-солдатски…
– Дрянные мы с тобой командиры, сержант, – мрачно произнес Громов, принимая из рук Крамарчука автомат. Хотя и не понял, зачем сержант прихватил его. – Не сумели сохранить людей. Грош нам цена.
– Так сложились обстоятельства. Мы-то здесь при чем?
– Обстоятельства… Это не оправдание. Ну да что уж тут? Пробирайся к Марии. Еще бы один фонарик…
– Я прихватил свечу. Попытаемся пробиться через колодец в пещеру?
– Иного пути пока не существует.
Присвечивая себе, Громов добрался до санчасти. Там он подошел к каждому бойцу, осмотрел, мысленно попрощался. Уже уходя, наткнулся на зажатую в руке Абдулаева гранату. Очевидно, боец припас ее на тот крайний случай, когда фашисты ворвутся в дот, да так и умер, боясь расстаться с ней.
Громов разжал пальцы, осторожно забрал гранату. Абдулаеву она больше не нужна. Приказ сражаться до последней возможности касался только живых.
Уходя из командного пункта с четырьмя гранатами, он вдруг услышал зуммер телефона. «Интересуются, живы ли, – понял он. Хотел поднять трубку, но вовремя остановился. Пусть немцы считают их погибшими. Они не должны догадываться, что часть гарнизона все же спаслась от удушья.
Громов уже не помнил, как добрался до колодца. А когда с помощью Крамарчука и Марии пролезал через пролом в стене, то делал это словно во сне.
– Слышишь, сержант, – сказал он уже по ту сторону пролома, теряя сознание, – пока мы живы… Приказ один: сражаться.
– Ясно, командир. Живым приказано сражаться – что здесь неясного?
19
Очнулся Громов от толчка в грудь.
– Командир, командир, – услышал долетающий откуда-то справа от него, из темноты, голос. И не сразу понял, что он принадлежит Крамарчуку. – Очнись. Надо отползти. Я заложил две гранаты.
– Что? – едва слышно отозвался лейтенант. – Какие гранаты? Где Мария?
– Надо отползти, – порывисто сопел ему на ухо сержант. – Я их тесьмой подорву. А Мария отдышалась. В пещерке она. Ну здесь, рядом, в пещерке.
Огромным усилием воли Громов заставил себя оттолкнуться спиной от влажного известняка и, где поддерживаемый, а где бесцеремонно подталкиваемый Крамарчуком, тоже пополз за выступ.
– Две гранаты, командир. Козырные. Или – или… – почти хрипел над ним Крамарчук. – Но, думаю, прорвемся.
– Где остальные? Остальные бойцы где?
– Какие остальные? Бредишь, что ли? Трое нас осталось. Лучше помолись гранатам. Только бы хорошо рванули, ни любви им, ни передышки.
– Да рванут они. Должны, – бесшабашно как-то ответил Громов, почувствовав наконец, что к нему возвращается сознание, а вместе с ним и уверенность. – Действуй, сержант, действуй. Не тяни.
В голосе лейтенанта вдруг настолько четко зазвучала командирская нотка, что Крамарчук не сдержался и ответил: «Есть!» Хотя субординацию он не очень-то соблюдал даже в первые дни их службы в доте, когда Громов по-настоящему нажимал на дисциплину.
– Только надо за пролом… Здесь нас иссечет.
Громов пролез первым и уже затем помог пробраться Крамарчуку. Теперь Андрей чувствовал себя неловко за то, что на несколько минут умудрился потерять сознание. А ведь не должен был. Физически он в общем-то крепче Крамарчука. Это все ранение в голову… Ранение и удушливые отсеки. Они сделали свое дело.
Слабая струйка воздуха, поддерживавшая их в той, большой пещере, сюда, за пролом, теперь уже почти не доходила. Наверно, мешали вставленные в трещину гранаты. Дышать сразу же стало тяжелее.
– Мария! Где ты?
– Здесь… – то ли вздохнула, то ли простонала медсестра. Но лейтенант так и не понял, откуда исходил этот стон.
– Во спасение души, командир. Отсалютуем напоследок.
Взрыв показался Громову таким мощным, словно взорвались не противопехотки, а двухсоткилограммовая бомба. Вместе с воздушной волной сотни каменных и металлических осколков ударили в выступ, за которым они притаились, в своды их укрытия, смертоносным смерчем пронеслись над головой.
– Живы? – первым опомнился лейтенант, когда пыль и гарь немного развеялись.
– Во спасение души, командир. Мария, ты где?
– Вроде легче… – тихо ответила медсестра. И только теперь Громов понял, что она пряталась чуть дальше от них, в небольшой нише. – …дышать легче. Может, это кажется?
– Сейчас посмотрим, – поднялся Громов. Но как только тронулся с места, сразу ощутил боль в икре левой ноги. «Неужели осколок?! – почти с ужасом подумал он. – Когда ж он успел, сволочь? Да нет, – успокоил себя, – не должен был. Царапина, обычная царапина. Порода здесь на редкость мягкая, не то что в районе дота. Это нас и спасло: осколки почти не рикошетили».
– Погоди, комендант, свечу зажгу.
Однако ждать Громов не мог. Скользя по каменной крошке, он на ощупь пробирался к новому пролому, на который его выводила струя все того же сыроватого, отдающего прелостью, воздуха. Вот и стена. Споткнувшись о камень, лейтенант буквально упал на нее, но успел ухватиться руками за рваные края пролома. И раны-ссадины на пальцах не в счет. Лихорадочно ощупал проход. Узкий, слишком узкий! Вряд ли в него можно будет протиснуться, но все же…
– Что там? – возник у него за плечом Крамарчук.
– Не пройдем. Но дальше вроде посвободнее. А вообще-то нам «везет»: из одного склепа в другой.
– Давай попробую, – взволнованно зашептал на ухо сержант. – Авось проползу. По-змеиному.
– Неплохо бы…
Однако после третьей попытки прорваться через пролом сержант зло выругался и осел у ног лейтенанта.
– Еще бы одну гранату. А лучше бы – лом. Ведь слой-то небольшой: взломать его – и прорвемся. Но лом остался где-то там, позади. Искать надо.
– Может, мне попробовать? – Громов даже не заметил, когда Мария успела подойти к ним.
– Не торопись. Еще неизвестно, что там, за проломом.
– Неизвестно? Значит, нужно узнать, – лейтенанта Мария буквально оттолкнула, Крамарчуку приказала не путаться под ногами и начала осторожно ощупывать пролом.
Мужчины напряженно молчали, ожидая ее решения. Она была потоньше их обоих и, конечно, могла бы разведать, что скрывается за этой стеной спасения.
– Ну что? – не выдержал наконец Крамарчук. Молчание Марии казалось ему пыткой. – Рискнешь?
– Можно попытаться. Только жаль, одежду изорву.
– Ага, на танцы не попадешь. Не в чем будет. Пробуй, красавица, пробуй, платье мы тебе потом подберем.
«Автомат… Где автомат? Нужно попытаться короткими очередями сбить эти выступы», – лихорадочно соображал Громов, понимая, что даже если Мария пройдет через пролом, это проблемы не решает. Они-то останутся по эту сторону. Ну, а думать о том, что, этот пролом ведет в еще одно небольшое намертво закрытое подземелье, что это пролом в никуда, ему просто не хотелось.
– Что там у тебя? Чего застряла? – доносились до него вместе со струей живительного воздуха хриплые слова Крамарчука. – Ага, бедра, говоришь?! Кто ж виноват, что ты такая бедрастая? У меня такая же… была, – с грустью добавил он. – Кормил, кормил, а она только в бедрах и раздавалась.
«Вот трепач!» – с горькой досадой подумал Громов, не терпевший никаких сальностей. Но понимал: для перевоспитания единственного оставшегося в живых, да еще и спасшего тебя солдата этот каменный мешок – место не самое подходящее.
Автомат он нащупал именно в ту минуту, когда услышал радостный крик Марии: «Все! Я здесь!» Уже теряя сознание, он, оказывается, умудрился положить оружие в нишу. Жаль только, что куда-то исчез фонарик.
– Что там, Мария? – спросил он. – Свет видишь?
– Да, что-то такое… Вроде бы сереет… Только далековато отсюда.
– Сможешь пройти туда?
– Скользко здесь. Где-то недалеко родник. Ручеек струится.
«Ничего она там одна не разведает! – понял Андрей. – Слишком много эмоций».
– Крамарчук, нужно вернуться в дот. Найти еще гранаты. Отыскать лом. И прихватить оружие.
– То есть как это – в дот? – растерянно переспросил сержант. – Что, одному вернуться, что ли?
– А нас здесь целый взвод?
– Так что, одному, что ли? – встревоженно переспросил сержант. И только теперь Громов понял, что дело не в лени. Просто Крамарчуку страшновато возвращаться в дот, где в каждом отсеке трупы, кровь… И где все еще можно задохнуться. – Все-таки нас трое… Может, потом, а?
– Ладно, прекратить, – хладнокровно прервал его лейтенант. Даже сейчас он старался ничем не выдавать своего раздражения. – Мария, где ты?
– Здесь я! – по тому, что голос ее прозвучал словно из колодца, Громов понял: подземелье уводит вниз. Значит, все же не вверх, как он ожидал, а вниз. И отошла она уже довольно далеко. Это насторожило Андрея. Однако назад пути нет.
– Стань за ближайший выступ. Порода мягкая, попробую расширить пролом очередями из автомата.
– Я уже за поворотом!
– Все время кричи! Не умолкай. Мы должны знать, где ты и что с тобой. В сторону, сержант. Кстати, приказ вернуться в дот ты обязан был выполнить, не задавая лишних вопросов, немедленно.
– Да я что? Только вместе бы…
Громов еще раз внимательно ощупал пролом и, вставляя в него автомат, начал короткими очередями крошить каменные выступы.
Несколько каменных брызг посекли руку, которой он держал рожок с патронами шмайсера, и, перезаряжая автомат, Громов почувствовал, что она кровоточит. Но, только выстреляв почти весь второй магазин, приказал: «Крамарчук, проверь!» – и, усевшись под стенкой, достал из кармана пакет. Раны, очевидно, были пустяковые. Но зато каждую минуту напоминала о себе нога. И он никак не мог понять: остановилось там кровотечение или все еще продолжается. Не хватало только, чтобы, сидя здесь, он истек кровью.
– Наверно, хватит, лейтенант. Теперь я проползу. Жаль, что нет приклада.
Крамарчук уже был по ту сторону пролома, когда откуда-то издали снова донесся крик Марии:
– Свет, Андрей! Свет!
– Не может быть, – проворчал Громов. – Не может быть, чтобы из этой каменной могилы существовал какой-либо выход.
– Почему не может? – возмутился сержант. – Мария видит свет.
– А потому, что не может быть, чтобы мы вот так, просто, вырвались из этого подземного ада, сержант! – отрубил Громов, с большим трудом протискивая плечи в пролом. – Где Мария? Крамарчук, быстро к ней! Разведай выход! Вдруг там всего-навсего щель.
20
– Ну-ка, Гордаш, позвольте полюбоваться вашим произведением, – Штубер взял из рук ефрейтора, который сопровождал заключенного, деревянную статуэтку, внимательно осмотрел ее со всех сторон, поставил перед собой на стол. – Работа пока не завершена, я верно понял?
– Какое вам дело до нее? – мрачно басил Гордаш. Огромный, неуклюжий в своей широкой гимнастерке без ремня и порванных галифе, облепленных комьями глины и стеблями сена, он был похож на человека, который только что выбрался из тайного укрытия, где провел по меньшей мере полгода.
– Странный вопрос, красноармеец Гордаш. – Штубер вышел из-за стола, отошел к окну и еще раз осмотрел статуэтку «Обреченного» уже при свете яркого предобеденного солнца. – Произведением искусства имеет право любоваться или по крайней мере оценивать его любой человек. И вообще, как говорят ваши вожди, искусство принадлежит народу, – оберштурмфюрер добродушно улыбнулся. Гордаш заметил именно это: улыбка его была до наивности добродушной. – Я, конечно, мог бы строже оценить вашу работу, найдя в ней немало изъянов. Но понимаю, в каких условиях создавался ваш «Казненный».
– «Обреченный».
– Что? «Обреченный»? Пардон, не всмотрелся в музейную этикетку. Да, вы правы: так будет точнее – «Обреченный». Так вот, я понимаю, в каких условиях и каким инструментом вы создавали это свое произведение. Узнав, чем вы – тоже, кстати, обреченный на казнь, не буду скрывать этого, – занимаетесь в камере, я как человек, любящий искусство, долго думал, каким бы образом помочь вам.
– Помочь?
– Сразу предупреждаю: спасти от уготованного вам расстрела я не смогу. Оказавшись в нашем тылу, вы, вместо того чтобы сдаться властям, сколотили группу партизан, вооружились пулеметом и продолжали нападать на наших солдат и наши обозы. Однако мы уклонились от темы. Я решил помочь вам и в то же время провести уникальный эксперимент, к которому не прибегал еще ни один человек в мире. Посмотрите, что я достал специально для вас. Подойдите к столу.
Когда Гордаш приблизился на несколько шагов, Штубер достал со стоящего в углу сейфа газетный сверток, развернул его и положил на стол.
Взглянув на то, что лежало на газете, пленный отшатнулся.
– Да, это кость! – подтвердил Штубер. – Обычная, человеческая. Я консультировался со специалистом. Она, конечно, не столь податлива, как древесина липы, однако вполне подойдет для работы.
Гордаш еще раз присмотрелся к кости. Она казалась еще довольно свежей. Орест затруднялся определить, какой части тела она принадлежала, но не это интересовало его сейчас. Неужели эсэсовец заставит его вырезать что-либо из человеческой кости? Зачем это ему?
– Логика очень проста, – словно бы вычитал его сомнения и страхи Штубер. – Зачем воплощать образ человека в дереве, глине или камне, если рядом, в буквальном смысле у нас под ногами, столько прекрасного поистине человеческого материала? Причем с каждым днем его становится все больше. Сын человеческий, вырезанный из кости человеческой, – разве это не апофеоз реализма?
– Это что, действительно человеческая?
– Я же честно признался, что провожу своеобразный эксперимент. Так неужели стану обманывать вас и самого себя? Для чистоты эксперимента я даже приказал изъять эту кость именно из трупа повешенного. Помня, что ваш «Обреченный», как вы его называете, стоит под виселицей. Мне хотелось бы, чтобы вы повторили его, сделали, так сказать, копию, только уже из кости. Берите, берите, не смущайтесь.
Гордаш протянул было руки к свертку, но тут же отдернул их и нервно потер о гимнастерку, словно уже сейчас пытался отмыть-оттереть от прикосновения к этому страшному материалу.
– Я верю, что вы настоящий скульптор. По призванию. И кто знает, возможно, здесь, над этой… как называется ваша река? Ах да, Днестр. Так вот, здесь, над Днестром, я открою славянского Микеланджело. Но даже если вам и не удастся сравниться с несравненным итальянцем, все равно это будет неподражаемое произведение. Вдумайтесь: фигурка обреченного, вырезанная обреченным в камере смертников из кости бывшего обреченного. Не спешите, не спешите отказываться! – впервые повысил голос Штубер. – Прежде чем говорить «нет», вдумайтесь в то, что я сказал. Ибо потом миллионы людей, пришедших посмотреть на вашу работу в музей Берлина, Дрездена или Киева, будут точно так же задумываться над глубоким философским смыслом, заложенным в саму идею создания этого своеобразного шедевра. Фигурка обреченного, вырезанная обреченным в камере смертников из кости обреченного! Да такое произведение просто-напросто обречено на славу и вечность. Вы можете вспомнить нечто подобное в мировом искусстве? Так можете или нет?!
– Нет, – выдавил из пересохшего горла Гордаш. – Такого не было. Я бы знал, если бы…
– И я бы знал. Это было бы описано во многих пособиях по искусству. Следовательно, пока что до этого еще никто не додумывался. Я дарю вам не просто идею, я дарю вам бессмертие, которое не способен подарить даже Господь Бог. Уверен, что эта работа, как беспрецедентная, обойдет с выставками все музеи мира. Лучшие музеи. Которые будут почитать за честь видеть у себя «Обреченного» работы знаменитого подольского мастера Гордаша.
Штубер открыл стол, достал из него маленький сверточек и бросил рядом с костью.
– Здесь три резца разной конфигурации. Все, что удалось раздобыть в этом захолустном городке. Если понадобятся еще какие-то инструменты: напильник, ножовка… – сообщите коменданту лагеря. Добудем все необходимое.
Кроме того, в течение двух недель никого из вашей камеры казнить не будем, чтобы не травмировать вас.
– Я христианин. Учился в семинарии. Я не могу… из человеческой кости, – проговорил Гордаш, не отводя взгляда от открывшихся ему резцов, сам вид которых действовал на него привораживающе.
– Сможешь. Если хочешь продлить жизнь своим товарищам и свою собственную – сможешь.
Гордаш взял резцы, сжал в руке один из них и свирепо взглянул на оберштурмфюрера.
– Разве что из твоих костей, – почти шепотом проворочал пленный.
Однако Штубер расслышал. Он холодно смерил великана с ног до головы, положил руку на кобуру.
– Кому принадлежала кость, из которой вырезан «Обреченный» – уточнять музеи не будут, – процедил он. – Для искусства это особого значения не имеет.
Гордаш положил резец к двум другим, снова завернул их в бумагу и сунул в карман. В свою очередь Штубер сгреб газету, в которой лежала кость, ткнул ему в руки, а сверху положил «Обреченного».
– Ефрейтор, увести! – приказал по-немецки. А когда Гордаш ступил за порог, крикнул вслед ему по-русски: – Мастер должен заботиться не о собственной жизни, а о жизни своих творений! Только тогда он настоящий мастер! Я обещаю сохранить имя творца этой скульптуры. Чего еще желать тебе, обреченному?!
21
Около часа, раздирая одежду, разбивая в кровь локти и колени, выползали они лисьим лазом, как назвала его Мария, из карстовой пещеры. И когда наконец увидели над головой небо, то уже не в силах были даже обрадоваться ему.
Впрочем, видеть могли пока лишь небольшую полоску неба – ровно столько, сколько позволило глубокое каменистое ущелье, в котором они оказались. И поскольку равнинного выхода из этого ущелья не было, то оно скорее напоминало провал или воронку от упавшего здесь тысячу лет назад метеорита.
Склоны этой воронки оказались крутыми, почти отвесными, и лишь серые камни-валуны, которыми они были усыпаны, позволяли выкарабкаться из нее без альпинистского снаряжения.
– Погибельная какая-то дыра, командир, – уловил его настроение Крамарчук. – Посмотри на склоны: ни одного кустика.
– Все в норме, – устало ответил Громов, чуть приподнимая голову и отыскивая взглядом медсестру. – К черту кустики! Главное, что мы опять на этом свете. Пока что отдыхать. Но прислушиваться.
И только тогда радостно улыбнулся: «Неужели действительно спасены?!»
Сшитая из шинельного сукна уже в доте, юбка Марии выглядела намного приличней, чем их изорванные брюки. Но нужно было видеть еще и ее ничем не защищенные ноги. Это были две сплошные кровоточащие раны, и странно, что ни там, в лисьем лазу, ни уже здесь, на этих холодных безжизненных камнях, Андрей не услышал от медсестры ни стона, ни жалобы.
Девушка лежала на спине так, что голова ее свешивалась с невысокого плоского валуна, а четко очерченная налитая грудь казалась непомерно выпуклой, словно Мария хотела во что бы то ни стало дотянуться ею до первых, падающих где-то на метр выше, лучей невидимого солнца. Громов старался смотреть на грудь медсестры, чтобы не видеть ее ног. Впрочем, разглядывать ее сейчас, такую измученную, было с его стороны подло – он это тоже понимал.
Несколько минут Андрей лежал молча, закрыв глаза. При этом он очень чутко прислушивался к каждому доносившемуся из-за пределов этого затерянного мира звуку. Больше всего он боялся сейчас услышать человеческую речь: немецкую, румынскую, даже русскую. Кто бы из врагов не обнаружил их – они по существу оказывались беззащитными. Любой обозник мог перестрелять их здесь, между камнями, как в тире. Промахи только подзадоривали бы его.
Однако речи не прозвучало. Беглецов томила своей затаенностью настоянная на камнях и сосняке замшелая первородная тишина.
Отлежавшись, лейтенант, ни слова не говоря, поднялся, забросил за спину автомат и по заранее примеченной расщелине начал взбираться наверх. Увидев это, Крамарчук тоже поднялся, но последовать за командиром у него уже не хватило сил. Вот если бы лейтенант приказал…
Их ущелье оказалось посреди небольшого ельника. Вся земля вокруг была усеяна такими же камнями, как и склоны ущелья, только здесь они были помельче и все до единого присыпаны, словно замаскированы, многолетним слоем хвои.
Пробравшись через заросли, Громов внимательно осмотрел простиравшуюся перед ним небольшую равнину, отделявшую ельник от леса. Местность показалась ему знакомой. Да, вон и тропинка, которой еще совсем недавно они с Кожухарем шли от батальонного дота к своему «Беркуту». Мог ли он предположить тогда, что вернется к ней вот так, почти что с того света?
– Что тут слышно, комендант? – появился возле него Крамарчук.
– Знакомая тропинка, узнаешь?
– Пока нет.
– Слева, в километре отсюда, дот комбата. Справа, где-то вон там, должен быть обрыв. За ним, внизу, наш «Беркут».
– Значит, ушли мы совсем недалеко. А под землей казалось, что вынырнем возле Днепра. Надо уходить отсюда подальше, командир, пока нас не выловили. Фашисты будут осматривать каждый куст.
– По всей вероятности, они уже сделали это.
– Все равно подальше.
– Где медсестра?
– Вместе выползли. Прихватила бы она с собой сумку с медикаментами, мы бы хоть раны ей перевязали.
Громов достал из кармана так и не использованный им пакет и ткнул в руку сержанту.
– Отнеси. И осмотри местность по ту сторону ущелья.
– Есть, комендант.
Это его «комендант» уже начинало раздражать Громова, но запретить называть себя так он не решался. В конце концов, Крамарчук и Мария – последние, кто помнил, что еще несколько часов назад он действительно был комендантом. И в этом обращении Крамарчука, наверно, было что-то и от обжигающей болью памяти, и от преданности, и от солдатского братства. Хотя раньше, в доте, он называл его в основном командиром.
«Мотоциклы?! Точно. И еще… Грузовик? Нет, кажется, легковая».
Лихорадочно проверив автомат, Громов заполз в заросли и поднялся на небольшой увенчанный тремя густыми елями, холм. Лучшего места для обороны, чем этот холм, здесь не найти – это он сразу понял. Да только долго ли продержишься, если на троих – один рожок к шмайсеру и пистолет с двумя обоймами? К сожалению, из-под елей не видно было ни мотоциклов, ни машины, хотя они проходили где-то рядышком. Неужели собираются окружать рощицу? Что они, сквозь землю видели, как трое выбирались из дота?! Разве что солдаты, окружавшие дот (не могли же немцы так сразу оставить его без присмотра), услышали подземный взрыв и догадались, в чем дело. Теперь этот самый Штубер кружит возле дота, выискивая спасшихся.
Ага, вот и они. Хорошо, что он не сменил позицию. В данном случае ему помогла собственная нерасторопность. Мотоцикл, легковушка, еще два мотоцикла… Нет, таким «королевским парадом» на прочесывание местности немцы не выедут.
– Комендант, – услышал он растерянный голос Крамарчука. – Где ты? Немцы!
– Вижу, – негромко ответил Андрей. – Возвращайся к медсестре. Ждите меня в ущелье.
Но через минуту и сержант, и медсестра уже были рядом с ним. Тем временем, поравнявшись с ельником, первый мотоцикл неожиданно свернул направо и, проехав метров двести, остановился. За ним последовала машина. «Там обрыв, – понял Громов. – Под ним – “Беркут”. Отсюда, с этой линии, генерал, которого они охраняют, сможет прекрасно видеть в бинокль все три дота с их секторами обстрела, позиционными преимуществами и недостатками. Но зачем это ему? Ведь фронт уже далеко».
Многое бы он отдал, чтобы иметь сейчас бинокль и присмотреться к тем троим, что остановились на краю обрыва. Впрочем, двое держались чуть в сторонке. Подчеркнуто не мешая старшему. О чем они там говорят? Очевидно, изволивший прибыть сюда генерал считается специалистом по фортификации. И вслед за этим общим осмотром он пожелает побывать в одном из дотов. Доставить бы такого языка через линию фронта!
– Ты видишь, командир, – взволнованно прошептал Крамарчук, – как они разгуливают? Генерала по лесу возят. Где же наши? Заметил, даже стрельбы не слышно?
– Придет – время выясним, сержант.
Осмотр длился недолго. Офицеры сели в машину, мотоциклисты мигом развернулись, и вскоре вся колонна скрылась в долине, по которой, как вспомнил лейтенант, проходила дорога, ведущая в город. А еще где-то здесь, недалеко, он чуть было не попал в лапы десантников из дивизии «Бранденбург».
– Но если наши уже далеко, что тогда будем делать мы? Идти по тылам сотни километров до своих? Так ведь не пройдем. Через фронт не пробьешься. Или переждать, пока уляжется? Как тебе это предложение?
– Переждать не выйдет, сержант, – властно улыбнулся Громов, поднимаясь, чтобы лучше осмотреть окрестности. Ели маскировали его. Лучшего наблюдательного пункта здесь не найти.
– А что, присоседиться к какой-нибудь молодке… Одобряешь, доктор Мария?
– Ты видел эту машину? Будь у нас еще один автомат, пару магазинов с патронами и хотя бы одна граната… Думаешь, мы не дали бы им бой? Не сбили с них спесь? Не поубавили наглости? Но у нас ведь будут и автомат, и патроны. И за гранатами дело не станет.
Громов взглянул на сержанта, на поникшую Марию и ощупал пальцами небритое, осунувшееся лицо. Еще несколько минут назад он думал только об одном: как спасти жизнь себе и своим бойцам. А теперь уже страдал от осознания того, что не может привести себя в порядок.
– Я тоже так думаю. Добывай форму, добывай оружие… И учись воевать. Не маршировать и глотки драть, а воевать. По-настоящему. Только вот… – замялся Крамарчук, – спросить хочу, лейтенант. Я видел тебя в атаке. Слышал, как ты с ними по-немецки. В доте мы потом много говорили о тебе. И все сошлись на том, что ты не простой взводный. Что тебя специально готовили… Ну, чтобы остался в тылу фашистов. Вот как немцы готовили своих бранденбуржцев… – Он умолк и вопросительно посмотрел на лейтенанта.
– Я готовился к этому с детства, сержант. Но не будем уточнять… – Громов вдруг подумал, что легенда, которую Крамарчук вынес из дота, сможет сослужить ему неплохую службу. Не сейчас, конечно, а потом, когда вокруг них соберется еще десяток-другой окруженцев. Растерянных, измученных… Офицер, которого специально подготовили и оставили в тылу, чтобы он собирал окруженцев, освобождал пленных, налаживал партизанскую борьбу… зачем разрушать такую легенду? За таким офицером пойдут. С таким не будут трусить. Обдумав все это, он, неожиданно даже для самого себя, добавил: – А в общем, ты молодец, сержант, что понял это… И поскольку нам с тобой еще воевать и воевать, скажу… меня действительно готовили – и не меня одного, конечно… А потом разбросали по дотам, гарнизонам, частям. Вдоль всей границы…
– Мог бы и не сознаваться, – довольно ухмыльнулся Крамарчук. – Раз уж до сих пор молчал.
– Обстановка, видишь ли, другой была.
– Ну а что сказал – спасибо… Доверяешь, значит. Впрочем, я и так все давно понял. Вспомни Рашковского, командира маневренной роты, – сказал он, уже спускаясь вслед за лейтенантом и Марией с холма. – Я же слышал, как он просил твоего подтверждения. И знаю, что ты дал ему…
– Да, войну люди встречают по-разному. Воевал Рашковский вроде бы неплохо, но, видно, нервы сдали. Захотелось уцелеть. Любой ценой уцелеть. А это уже первая ступень трусости. Которая очень часто становится последней. Кстати, фамилию мою забудь, – воспользовался ситуацией Громов. – Ты, Мария, тоже. Отныне для вас и для всех остальных я буду Беркутом. Как и там, в доте. По крайней мере, так называл меня комбат.
22
В камере Гордаш коротко рассказал о том, что произошло, положил свертки с костью и резцами на пол, сам уселся рядом и, обхватив голову, замолк. «Мастер должен думать не о собственной жизни, а о жизни своих творений. Только тогда это настоящий мастер».
– Неужели действительно человеческая? – недоверчиво переспросил пилот, наклоняясь над костью.
– А ты не видишь? – ответил Есаулов, поднимая сверток и осматривая его на свету.
– Что тут видеть? До сих пор человеческой в руке не держал. Из могилы выкопали, что ли?
– Черт их знает, – по-стариковски покряхтывая, спустился с нар младший лейтенант Величан. Он был так избит, что трое суток вообще не мог подниматься, да и сейчас еле двигал ногами. – Может, в госпитале взяли. Или где-то в поле нашли. Теперь в полях столько костей, что если бы они могли пускать корни, к следующей весне негде было бы ступить. Ты, монах, за это дело не берись, а кость… она ведь человеческая как-никак. Здесь, в земляном полу, и похороним ее.
Все пятеро заключенных посмотрели сначала на младшего лейтенанта, потом на кость и уже потом, долго, испытывающе – на Гордаша. Решать должен был он. Однако «монах» молчал.
– Может, они в самом деле сдержат свое слово и две недели не будут трогать нас, – пришел ему на помощь Есаулов. – А здесь резцы, – кавалерист настороженно оглянулся на дверь. Охранявшие их полицаи часто подслушивали под дверью. – Можно попытаться сделать подкоп.
– Как только мы его сделаем, так сразу ты нас и заложишь, – парировал Величан. – Ты ведь к ним собрался.
– Не к ним, а спасаться от смерти. Это разные вещи, казаки-станичники, – спокойно заметил Есаулов. – Хотя власть эта ваша – бесовская. Но если будет возможность бежать на свободу, то на кой черт они мне, твои немцы? Казаку, что цыгану – конь да волюшка.
Они все еще спорили, а Орест лег на нары лицом к стене и, сжавшись в огромный неуклюжий ком, лежал там беззвучно и недвижимо, пытаясь хоть на какое-то время забыться, отдохнуть от всего, что приносило ему страшное бытие обреченного пленника.
Так прошло несколько часов. Заключенные вдоволь наспорились, разошлись по своим нарам и постепенно угомонились. Кость все еще лежала на полу, однако Гордаш пытался не вспоминать о ней. Он проклинал лейтенанта всеми известными ему проклятиями, но какая-то неведомая сила все же согнала его с нар и подвела к «материалу» и резцам. Уселся над ними, отрешенно втупился в кость и замер, сдерживая яростное желание схватить ее и хотя бы раз пройтись резцом. Хотя бы раз!
В конце концов не сдержался, взял кость в руки.
– Я вырезал бы из тебя… если бы ты меня простил, – прошептал он, обращаясь к духу того, чья кровь еще недавно омывала эту кость. – Я бы вырезал из тебя «Обреченного», который перед казнью рвет веревки… Чтобы умереть свободным.
– Слушай, Есаулов, отбери у него эту кость, не то он сойдет с ума, – устало попросил пилот.
– Не я давал ее, не мне отбирать. – И тоже смотрел на Гордаша так, словно видел его впервые в жизни.
Однако Орест не обращал на них внимания. Решение должно было зависеть от его мыслей, его убежденности, совести – и посторонних это не касается.
– Пусть бы действительно смотрели на это творение и ужасались. В лучших музеях мира – ужасались. Через много лет после войны. И знали, на что способны люди, растерявшие в себе все человеческое.
– Вот увидите, он вымудрит из этой кости такого же человечка, как из липы, – сказал единственный гражданский среди них, старик-бухгалтер, которого немцы заподозрили в том, что он агент НКВД, оставленный для диверсионной работы. – Чтоб в меня стреляли, я бы не дотронулся до нее.
– Если бы я знал, что из моих костей кто-нибудь нарежет таких человечков, – не так страшно было бы ложиться в яму.
Целый день Гордаш просидел над своим «Обреченным», отстраненный от всего, что происходило в камере, в коридоре тюрьмы, во дворе. Боялся, что под вечер часовой отберет инструменты, однако им всем принесли довольно сносный ужин, каким никогда раньше не кормили, а потом еще повесили на стену вторую керосинку и подсвечник с двумя свечами, приказав работать всю ночь.
Но как только полицай, принесший свечи, закрыл дверь, Орест метнулся под свои нары и принялся разгребать пол тыльной стороной резца. Он знал, что забор проходит всего в метре от стены их тюрьмы и, пробившись под ним, они сразу же оказались бы на свободе. Невольник, который до сих пор покорно и молчаливо нес свой крест обреченного, вдруг ожил в Гордаше, взбунтовался и разрывал кандалы.
На следующий день никого из камеры на допрос не водили и вообще тревожили только тогда, когда приносили еду. Причем мастеру – двойную порцию. А еще, меняясь, часовые приоткрывали дверь камеры, довольно вежливо интересуясь, скоро ли он завершит работу. Им приказано было докладывать. А Гордаш, действительно, с утра до ночи работал над своим творением, в то время как другие заключенные, сменяя друг друга, поспешно делали подкоп, утрамбовывая извлеченную землю под нарами, по углам и вдоль стен.
А через две недели, поздним вечером, когда у «Обреченного» наконец начали зарождаться первые черты изможденного лица, когда на едва зримых мышцах его уже просматривались грубые шрамы веревок, первый заключенный успел протиснуться по подземелью и оказаться на пустыре за оградой.
Но прежде чем и самому раствориться в спасительном мраке вечерней вольницы, Гордаш в последний раз схватил резец и с яростью исковеркал то, над чем так тяжело работал и чему так никогда и не суждено было стать творением искусства.
23
Дот Шелуденко оказался невзорванным, и Громов решил, что лучшего места для ночлега им не найти. Неподалеку от дота чернели два могильных холма. Один был увенчан грубо сколоченным крестом, на котором висела немецкая каска. На другом не было ничего. Именно под этим холмом, очевидно, и покоились сейчас гарнизон дота и бойцы из группы прикрытия.
Они молча постояли возле могилы, отдавая дань памяти павшим. Громов попытался вспомнить лицо майора Шелуденко, но оно не являлось ему. То есть он вроде бы и вспоминал, но почему-то по частям: усы… морщинистый лоб… густые седоватые брови. А еще… «Петрушка мак зеленый…» Аляповатая шелуденковская присказка. Но мужик вроде был ничего…
«Мужик вроде ничего…» – это все, что, по скупости своей словесной, лейтенант мог сказать сейчас на могиле батальонного, с которым он и виделся всего два-три раза по несколько минут.
– Помянуть бы вас, хлопцы, да нечем, – вздохнул Крамарчук, первым отходя от могилы. – Где-то и наши будут лежать вот так же. Если, конечно, немчура решится распечатать их могилу.
– Вряд ли, – ответил лейтенант. – Они и забетонировали-то нас для острастки. Мол, каждого, кто не сдается, ждет такая же страшная смерть. – А увидев, что Крамарчук направился к доту, крикнул:
– Стоять! Я сказал: стоять!
Тот остановился и непонимающе посмотрел на лейтенанта.
– Ты же видишь: не тронули. Значит, могли заминировать. Чтобы окруженцы не воспользовались. Лучше я сам осмотрю осторожно. А вы пока пройдитесь. Любое оружие, патроны, гранаты, штыки – все сюда, все может пригодиться. Да и ты, сержант, без оружия как-то не смотришься.
– Только осторожно, командир.
Крамарчук ушел, а Мария задержалась.
– Оставь его, Андрей. А вдруг там и вправду мина? Лучше где-нибудь здесь побудем.
– Отойди и подожди меня. Все будет нормально. Вряд ли здесь минировали, это я так, подстраховываюсь.
Внимательно осматривая окоп, Громов осторожно приблизился ко входу и заглянул внутрь. Заходящее солнце едва пробивалось сюда. Несколько снарядов, очевидно, легли возле самых амбразур, и они оказались полузасыпанными.
Постепенно лейтенант обошел все отсеки. Ни тел убитых, ни оружия. Лишь бесконечное множество гильз – на полу, в нишах, на нарах. В одной из ниш он нашел чудом уцелевшую керосиновую лампу. Зажег ее и снова заглянул в спальный отсек. Там все было перевернуто и разгромлено. На полу валялось несколько обгоревших, расцвеченных бурыми пятнами одеял. Очевидно, прежде чем ворваться сюда, немцы сначала забросали отсек гранатами. К одеялам Громов не притронулся, опасаясь, как бы под ними не оказалось растерзанного тела. Во всех отсеках дота витал чадный запах пороха, крови и смерти.
Лейтенант нашел две винтовки, но у одной был расщеплен приклад, другая оказалась без затвора. В эту, целую, он вставил затвор и прихватил ее с собой – еще могла пригодиться. Куда более ценным трофеем оказались завалявшиеся в разорванном вещмешке две банки консервов. Была там и черствая, покрытая пылью буханка хлеба. Но взять ее Громов не отважился.
– Пошли отсюда, Мария, – сказал он, буквально выскакивая из дота, – где-то здесь неподалеку было одно тихое местечко. Майор показывал.
– Смотри: там, под глиной, что-то лежит.
Это был ручной пулемет. Упавший рядом снаряд, очевидно, накрыл его взрывной волной вместе с пулеметчиком. Солдата откопали, а оружие его не заметили.
Вдвоем с Марией они очистили пулемет и ленту. Пошарив в глине, Андрей обнаружил еще и колодку с нетронутой лентой.
Неизвестно, что там выудит в лесу Крамарчук, но что искали они дот не зря – это уже ясно. Сержант пытался убедить Громова, что нужно идти к ближайшему селу, попроситься в крайнюю хату или переночевать где-нибудь в сарае. Его тянуло поближе к селу, к жилью, но Громов понимал, что появляться сейчас у любого села без оружия равносильно самоубийству.
– Ты ничего не говоришь, Андрей. Но мне нужно знать. Что теперь будет со мной? Что я должна делать?
– Я думал об этом, Мария, думал. Пока переночуем здесь. Из какого ты села? Извини, забыл.
– Родом? Из Гайдамаковки. Но это далеко отсюда, километров за пятьдесят. А работать пришлось в Брацлавке.
– Значит, ни в одной, ни в другой деревне показываться тебе пока не стоит. Где-нибудь вблизи у тебя есть родственники? Или подруга, знакомая? Возможно, вспомнишь кого-нибудь из лечившихся в вашей больнице.
– То есть ты не хочешь, чтобы я оставалась с вами?
– Тебе нельзя оставаться с нами, Мария. Твоя мобилизация кончилась. Части нет, армия отступила. Ты свой долг выполнила. Все, что будет происходить дальше, это уже не для твоей девичьей судьбы. Тут пошли сугубо мужские «развлечения»: лесные лагеря, засады, облавы…
Облюбованное когда-то майором местечко между валунами посреди ельника осталось нетронутым. Еловые лапы, высохшая трава, обкуренная дымом костров шинель… И ни одной воронки рядом, ни одного следа пуль на камнях. Неужели те, кто прочесывал лес и хоронил убитых, даже не обнаружили этого убежища? Впрочем, на что здесь обращать внимание?
– Нет у меня здесь никого, Андрей, – сказала Мария, когда они оказались у этих валунов.
– Это неправда. Ты работала в этих местах два года. Или я что-то не так понял из твоих рассказов? И не может быть, чтобы ни в одном из сел у тебя не оказалось знакомых.
– Если немцы узнают, что я была медсестрой в доте, они растерзают меня…
– Это понятно. Поэтому я и не хочу, чтобы ты оставалась в городе или в пригородах. Там, за лесом, есть какое-нибудь село?
– Гродничное. Но в этом селе у меня тоже никого нет.
– За ночь должны появиться. Не в Гродничном, так в соседнем, – жестко посоветовал Громов. – А на рассвете я провожу тебя. Постарайся прижиться в селе. Подружиться с хозяевами, соседями. Скажем, что больницу ты оставила вместе с фронтом. Но сейчас вернулась, ищешь работу. Словом, что-нибудь придумаем.
Где-то в глубине леса вдруг разгорелась стрельба. Трехлинеек было немного, три-четыре ствола, и выстрелы их становились все реже и реже. Зато трескотня шмайсеров нарастала.
– Подожди здесь, – сказал Андрей, хватаясь за автомат. – Я сейчас. Видно, немцы прочесывали лес и обнаружили окруженцев.
Он пробился через густой ельник, проскочил довольно большую поляну, но за первыми же кустами наткнулся на Крамарчука.
– Что за стрельба, сержант?
– Километра за два отсюда. Похоже, что наши отходят в глубь леса. Мы им уже ничем не поможем. – В руках у него Громов увидел кавалерийский карабин. Карманы оттопыривались от лимонок. На поясе висел немецкий штык-тесак.
По инерции они еще метров на двести углубились в лес, но стрельба неожиданно затихла. Последнюю точку в этой лесной трагедии, наверно, поставил взрыв гранаты, который они услышали. Очевидно, немецкой.
– Хороший карабин, но всего два патрона, – первым повернул назад Крамарчук. Говорить о том, что произошло в лесу, им сейчас не хотелось. – Правда, разжился на две лимонки.
– Съестного ничего?
Крамарчук молча повертел головой.
– Зато я раздобыл две банки консервов. Последний гостинец майора Шелуденко.
Мария уже спешила им навстречу, и Громов подумал, что она то ли боится оставаться одна, то ли опасается, что они просто-напросто решили оставить ее, чтобы окончательно избавиться, как от обузы.
– Теперь-то ты все поняла, медсестра? – строго спросил Громов, кивая в сторону леса. – И еще неизвестно, что здесь будет завтра. С нами. Похоже, что фашисты окружили этот лес постами, да еще и время от времени прочесывают его. Впрочем, по науке так и должны…
– По какой науке? По науке войны, что ли? – растерянно переспросила Мария.
– Да, по ней. Наверное, самой древней из всех существующих в нашем цивилизованном обществе. Не знаю только, стоит ли этим гордиться? Вот так вот, медсестра…
– Ты можешь хоть раз назвать меня по имени? – вдруг вспылила Мария, нервно забрасывая за спину распущенные волосы, в которых, уже кое-где серела пока еще едва заметная седина.
– Так вот, медсестра, – продолжал Андрей, – чтобы уже закончить наш разговор… Со временем мы разыщем тебя. Нам нужна будет крыша, нужны продукты, медикаменты… Важно будет знать, что происходит в вашем и в соседних селах. А еще ты постараешься вернуться в больницу. То ли в ту, в которой работала, то ли в другую. Все остальное я объясню тебе потом. Крамарчук, сейчас мы перекусим, и нужно основательно почистить пулемет. Он нам будет очень кстати.
– Странно, – почти прошептала Мария.
– Что? – насторожился Громов. – Что странно?
– Там, в доте, все как-то было по-иному. И проще, и человечнее.
– Ты напрасно обиделась, Мария. В доте действительно все было по-иному. Но ведь действовать мы должны исходя из ситуации.
– «Действовать, действовать!..» – передразнила его Мария. – Тоже мне… вояка бессердечный!
24
Ночь выдалась теплой, сухой, настоянной на запахах сосны, ельника и лесных трав. В этот укромный уголок, который война чудом обошла стороной, не способны были проникнуть ни гарь пожарищ, навеваемая ветром из городка, ни трупно-пороховая чадность дота, да и само воспоминание о недавно пережитых ужасах казалось воспоминанием о давнем кошмарном сне.
Громов и Крамарчук коротали эту ночь, устроив себе постель между огромным валуном и еще теплым кострищем. Марии же отвели лежанку майора, утепленную двумя шинелями, принесенными Громовым из дота.
– Знаешь, комендант, мне почему-то кажется, что это наша последняя ночь, – неожиданно заговорил сержант, хотя Громов был уверен, что он уснул.
– После ада, из которого нам удалось вырваться, тебя еще могут посещать такие предчувствия? Это страх, Крамарчук, обычный страх. Наоборот, мне кажется, что, вырвавшись из подземелья, в котором нас по существу похоронили, я окончательно потерял это чувство. Ярость – да, ярость появилась. Да кое-какой опыт. Надо учиться воевать, сержант. Воевать нужно учиться.
– Может, тебе больше повезет. Ты и опытнее, и сильнее. И наверняка удачливее. Но у меня на душе почему-то тяжело. Как думаешь, немцы уже сумели перейти Буг?
– Не должны. Вполне возможно, что их держат именно на Буге. Где-то же их должны остановить. Мы ведь дали частям возможность более-менее спокойно отойти. Как бы там ни было, здесь, на Днестре, мы подарили многим из них по крайней мере сутки. Почему ты спросил об этом?
– Да так… Вспоминается всякое…
– Все будет нормально. Воспоминания – потом. Спать.
Спал Крамарчук или только притворялся, это уже не имело никакого значения. Он молчал, и Громов тоже затих. Он не хотел вспоминать. Хотя вспомнить есть что. Воспоминание – это последнее убежище человека, спешащего укрыться от того, что ему нужно пережить и решить сейчас. Удобное, уютное убежище. Многих оно спасает от отчаяния, даже от самоубийства, возможно, кому-то придает силы или хотя бы дает возможность передохнуть от страха. Однако он в таком убежище не нуждается.
Дот, словно бурно прожитая жизнь, остался позади. Сегодняшний день он подарил себе и двоим спасенным бойцам для передышки. Но завтра надо решать, что делать дальше. Где сейчас находится линия фронта – об этом можно узнать только от немцев. Он хотел бы также намного больше узнать о том, что собой представляют эсэсовцы, каково их положение в армии. Насколько ему было известно, эсэсовцы считаются армейской элитой. А значит, офицеры-эсэсовцы вне подозрения. Заполучить бы эсэсовскую форму и документы… Вряд ли он смог бы надолго и серьезно внедряться в войска. Но использовать форму и знание языка в каких-то отдельных операциях – это он сумеет.
Раздумья его прервал треск веток. Громов прислушался. Еще треск. Едва слышимое покашливание. Кто-то проходил совсем рядом, по кромке зарослей, в которых они прятались.
Лейтенант подхватил автомат и, неслышно ступая, начал пробираться навстречу идущему.
– Стой, кто идет?!
Тот, кого он окликнул, очевидно, метнулся в сторону и замер.
– Ни с места, буду стрелять, – уже громче предупредил его лейтенант.
– А ты кто? – послышался в ответ густой бас.
– Я… лейтенант Красной Армии, – представился Громов, несколько помедлив. – Подойди сюда. Тебе нечего бояться.
– Свой, что ли? – прохрипел бас, и через минуту на освещенную луной полянку вышел невысокий, довольно широкоплечий, грузный человек.
– Брось оружие! – приказал Громов, все еще стоя за елью.
– А я его, чтоб ты знал, давно бросил. И тебе советую.
– Окруженец, что ли?
– Хрен его знает, кто я теперь, – устало ответил тот. – Такой же, как ты. Если, конечно, ты действительно лейтенант.
– Один пробираешься?
– Один. Спички у тебя есть? Костер нужен. На мне сухой нитки не осталось. Из-за Днестра я.
– Из-за Днестра? Вплавь, что ли?
– Нет, птицей сизокрылой… Бревно какое-то выручило. А видел бы ты, сколько мимо меня трупов пронесло! Не река, а судный исход мертвецов.
– Что там, комендант? – услышал их разговор Крамарчук.
– Разведи костер. Вроде свой. Ваша фамилия? Звание?
– Может, тебе еще и честь отдать? – зло проворчал пришлый, проходя мимо Громова. – Во фронт вытянуться, а, лейтенантик? Небось, прямо из училища – и на парад? А я свое отмутузил. Красноармеец я. Готванюк – фамилия. Если тебе так уж интересно.
– Говори тише, – цыкнул на него из темноты Крамарчук. – Медсестра тут с нами. Спит. И не ворчи, отвечай, что спрашивают. Перед тобой командир.
– Ага, ты меня еще на гауптвахту посади, – отрезал Готванюк. – Да разведи ты костер, у меня душа отмерзает. И все прочее – тоже.
Пока Крамарчук разводил костер, а Готванюк снимал с себя сапоги и одежду, Громов пошел проведать Марию. К счастью, голоса не разбудили ее. Шинель, которой он укрыл медсестру, сползла, Мария лежала на спине, слегка изогнув стан и широко раскинув руки. Почти так же, как там, в ущелье, на камне. Лунное сияние разбивалось о нависший над ней валун, и поэтому лица Марии лейтенант разглядеть не мог. А хотелось.
Мучительные дни, проведенные ими в подземелье, никого из них моложе и краше не сделали. Но все же Мария всегда казалась ему удивительно красивой.
Не потерять бы эту девушку, спасти ее. Самому дожить до победы. О нет, это невозможно. Такое везение почти немыслимо.
Громов укрыл Марию шинелью и прилег рядом. Теперь лица их почти соприкасались. Какое-то время Громов лежал затаив дыхание, потом, немного осмелев, благоговейно провел рукой по груди – это почти непреодолимое желание коснуться груди появилось еще тогда, когда видел ее лежащей на камне – и ощутил, как, будто откликнувшись на едва уловимое прикосновение, девушка вздрогнула всем телом и, покоряясь тому, что померещилось ей сейчас во сне, подалась вперед, навстречу его руке.
Еле сдерживая волнение, Андрей нервно посмотрел в ту сторону, откуда потянуло дымком (еще не хватало, чтобы Крамарчук застал его вот так, лежащим возле медсестры), и в предчувствии чего-то таинственного лизнул шероховатым непослушным языком потрескавшиеся, почти бесчувственные губы.
Там, в доте, чувство особой, уже даже не мужской, а сугубо солдатской солидарности подсказывало ему, что он не имеет права ни на какие проявления чувств, ни на какие особые отношения с этой девушкой. Андрей помнит, как в день ее появления в гарнизоне, проходя мимо него и Кристич, самый молодой и, пожалуй, самый смазливый в их гарнизоне, Рондов, совершенно не смущаясь ни командира, ни медсестры, пропел: «Эх, прислали бы еще парочку таких для полного милосердия! Ведь милосердие – это когда или всем, или никому».
При этих воспоминаниях Громов улыбнулся и, нежно отведя с лица Марии растрепавшиеся волосы, поцеловал ее в загрубевшие, чуть-чуть сладковатые губы.
– Что? Что?! – встрепенулась Мария, но лейтенант придержал ее за подбородок.
– Все нормально, Мария, все нормально, – прошептал он. Сейчас он не чувствовал себя скованным святостью гарнизонного «милосердия». – Это я.
– А, ты, Андрей? Уже надо идти? – пролепетала она, все еще не в состоянии вырваться из сна.
– Да нет, рановато.
– Ты только не тронь меня… А так, полежи рядышком…
– Божественная мысль.
Лейтенант погладил ее по щеке, и Мария невольно потянулась к нему в ожидании поцелуя. А когда Андрей прикоснулся губами к ее губам, прошептала:
– Теперь я поняла, что это… было на самом деле. Ты ведь уже целовал меня? Только я решила, что приснилось.
– Точно, приснилось.
– Э, нет, – мечтательно улыбнулась она. – Было, было. Теперь я поняла. Страшно мне, Андрей, оставлять тебя здесь… И самой оставаться без тебя. Мне почему-то кажется, что уцелели мы в доте только потому, что были вместе. Нас оберегала наша с тобой судьба. Но стоит нам разлучиться, стоит только хотя бы на один день…
– Не надо об этом, Мария. Все равно утром придется отвести тебя в село.
– Опять «не надо»? Мы ведь и так никогда ни о чем не говорили.
– И правильно делали. Окруженный, расстреливаемый дот… О чем там можно было говорить, какие планы строить?
– Знаешь, мне казалось, что этот ужасный дот будет сниться всю жизнь. А сейчас, в первую же ночь, приснилось что-то такое… Странное, про любовь. Удивительно устроен человек: еще утром я была на волоске от смерти, а вечером уже такое снится… хоть сразу в монастырь, грехи отмаливать.
Андрей обнял ее, нежно поцеловал в губы, в шею… но Мария уперлась руками в его грудь.
– Нет, нет, нет!.. – яростно прошептала она. – Что ты?! Я же не к тому сказала, чтобы…
Объяснить Марии, что он тоже «не к тому», у Громова просто не хватило выдержки. Он резко поднялся и, бросив на ходу: «Поспи еще, разбужу», – пошел к двум небольшим кострам, между которыми было развешено обмундирование Готванюка. Сам Готванюк сидел в гимнастерке Крамарчука, без брюк и без кальсон.
25
– Так почему вы до сих пор оставались за Днестром? Части ведь отходили довольно организованно, – спросил Громов Готванюка, присаживаясь на камень.
– Если бы только я один остался. Но я-то хоть понятно – меня оставили на прикрытие. Двадцать бойцов при двух пулеметах. И держаться сутки. Ротный у нас вроде тебя был – молодой. И тоже ни страха, ни жалости. Такие, наверное, только для войны и рождаются.
– Главное, что не из-за таких она начинается.
– Хотя, может, это я от обиды… Что оставил именно меня. В последнюю минуту присоединил к тем, девятнадцати… Для счета, наверное. Но командир был железный. С таким командиром и в бой идти не страшно, и трусить стыдно. Обычного страха своего человеческого стыдишься.
– Вы местный?
– Да. Село мое километров за двадцать отсюда. Липковое. Я так и думал: мне бы только через Днестр, а там я, считай, дома.
– А что же остальные… те, девятнадцать? – подал голос Крамарчук.
– Ох, курить, братцы, хочется не по-божески. Неужели оба некурящие?
– Бессигарные мы. Сам бы покурил. Так что же с теми?..
– Продержались мы возле маслобойни, на развилке дорог, два часа. Ровно два. И смяли нас. Цепью поперли, так, что пулеметы захлебнулись. Однако мне повезло, меня еще до атаки снарядом похоронило, землей засыпало. Очухался только в колонне военнопленных. К счастью, конвоировали нас румыны. С винтовочками. Пока затвор, то да се… Словом, ночью человек десять сбежало. Врассыпную.
– Понятно. Остаетесь с нами?
– Зачем оставаться? – на удивление спокойно ответил Готванюк. – Что я здесь не видел? Домой пойду. Осмотрюсь, отлежусь. А там посмотрим.
– То есть, как это – домой?! – изумился Громов.
– Куда же мне еще? Я за Днестром уже человек пять встречал таких. У одного ночевал в доме. Вернулись – и ничего. Записали их в комендатуре, на работу определили. У них там новый порядок.
– Но вы же солдат, Готванюк! – взорвался Громов. – Что значит «записали», «определили на работу»? Идет война! В вашем селе враги! В вашем селе, вашем доме.
– Так что, она первая на этой земле идет, что ли? Или, может, это я ее проиграл, эту войну, а, лейтенант?! Мой дед в Первую мировую с трехлинейкой воевал. И я – с той же трехлинейкой. Но в Первую он танка в глаза не видел. А сейчас они десятками прут. Чем их бить, если мне и гранаты завалящей никто в руки не сунул? О чем же вы думали, господа-товарищи офицеры? Неужели действительно не знали, какая у немца армия, сколько у него танков, самолетов, какие автоматы? Ведь мы же вооружены – что румын, что я. Но за спиной у румына – немцы. И самолеты с воздуха. А много ты видел наших самолетов? Что, «Красная Армия всех сильней»? Что пели, в то и верили?
– Что мы пели и до чего допелись – с этим будем разбираться после войны. А пока что вы – солдат. Вы живы. И идет война. Что здесь непонятного?
– Ладно, Беркут, – тронул его за плечо Крамарчук. – Что ты ему объяснишь сейчас?
– Так ведь объяснять нужно не мне одному. Увидишь, сколько нас будет по деревням. К зиме пол-армии разбежится и попрячется от Днестра до Урала, – бормотал Готванюк, поспешно натягивая на себя еще не просушенные кальсоны. – Думаешь, если силой оставишь, я тебе много навоюю?
«А почему он не боится, что я расстреляю его? – молча смотрел на Готванюка Громов. – Почему он даже не предполагает, что могу пристрелить его как дезертира? И что я сделаю это. Сейчас же!»
Громов рванул кобуру и уже пытался выхватить пистолет, но именно в эту минуту, уловив его настроение, Готванюк перепрыгнул через костер и в чем есть, босиком, метнулся в заросли ельника.
– Все, комендант, хватит, – подхватился вслед за ним Крамарчук. – Давай еще начнем стрелять друг в друга, на радость фашисту. Эй, ты! – крикнул он в темноту, подхватив сапоги и гимнастерку Готванюка. – Возьми свое барахло! Да верни гимнастерку! И чтоб духу твоего!..
– Давай их сюда! – откликнулся откуда-то из другого конца ельника Готванюк. – А то этот твой лейтенант… Что, у них, у таких, как он, есть хоть капля жалости? Понимания человеческого? А ты повоюй, лейтенант, повоюй! – услышал Громов через несколько минут. Готванюк кричал это уже из лесу. – Увидим, долго ли навоюешься!
– Будь спокоен, – буднично так ответил ему Крамарчук. – Этот как раз будет воевать! Оставляй мою гимнастерку и сматывайся. Только форму сними. Не позорь!
26
Когда часы Громова показали половину четвертого, он разбудил Марию, и они сразу же тронулись в путь. Крамарчук должен был ждать его возвращения в этом ельнике. Или в каньоне, благодаря которому выбрались из карстовых пещер. Там безопаснее.
Вообще-то сержант хотел идти вместе с ними, но лейтенант отговорил его от этой прогулки:
– Отдыхай. Исследуй все поблизости. Присмотрись к деревне, что по ту сторону дороги. И запасайся оружием. Ты же понимаешь, что трое – слишком заметная группа. К вечеру постараюсь вернуться.
– Да уж, надеюсь, не сбежишь, как от злой тещи, – проворчал вслед им Крамарчук. И Громову показалось, что сержант по-настоящему завидует ему. А может, и ревнует.
«Впрочем, – подумал он, – на месте Крамарчука я бы тоже завидовал и ревновал. Наши отношения с Марией для него не секрет».
Лес встретил их настороженно и молчаливо. И потому углубляться в него не хотелось.
– Нам надо выйти к небольшому озерцу, – объяснила Кристич, шедшая первой и чувствовавшая себя проводником. – Оттуда свернем к лесной сторожке. В двух километрах от нее стоят фермы. Это уже село.
– Если только удастся найти озеро. Теперь вся надежда на тебя, Иван Сусанин в юбке.
Мария рассмеялась. Весело и беззаботно.
Войны не было. Они всего лишь заблудились в лесу. Громов несколько раз пытался обнять Марию, но девушка каждый раз уходила от объятий. Однако дело даже не в том, что она не позволяла обнимать себя. Андрей вдруг почувствовал, что изменилось само отношение к нему. Он помнил, какой ласковой и загадочной показалась ему Мария тогда, ночью, в скоротечные минуты пробуждения. А сейчас… Ну что ж, по крайней мере, теперь он будет знать, какой она бывает в минуты пробуждения.
Чем дальше они уходили в лес, тем менее освещенным он становился. Луна словно говорила им: «Я провела вас до леса, а дальше ступайте себе с Богом без меня. Я туда не ходок». Неестественно мрачные тени сосен на опушках, какие-то загадочные звуки в чащобе, неожиданный треск падающего ствола сушняка где-то впереди… А ведь пальнуть может любой из оказавшихся вблизи окруженцев. Так, с испуга, для оттаивания души.
Вскоре они набрели на довольно широкую тропу, которая, очевидно, и должна была привести их к озеру. Но именно на тропе лейтенант по-настоящему начал опасаться засады.
– Патрон в стволе, – протянул пистолет Марии. – Как стрелять, ты уже знаешь. Будь осторожна. – Сам он перебросил автомат из-за спины на грудь, подтянул повыше доставшийся ему от бранденбуржца нож, который каким-то чудом уцелел за голенищем во время их ползаний по подземелью…
– Скажи, ты действительно мог бы убить того, что приблудился к нам ночью?
– А ты разве не спала? Все слышала?
– Да, я слышала, когда он уходил. Так ты действительно мог бы убить его?
– Убить – нет. Расстрелять – другое дело.
– Это разве не одно и то же?
– Нет, санинструктор, это разные вещи. Я не убийца. Но как офицер мог бы расстрелять этого предателя за трусость. Перед вами. Перед строем. Куда пойдет завтра Готванюк? Кем он станет в селе? Кому будет служить? На кого работать? Я отказываюсь понимать солдата, который не желает сражаться только потому, что оказался в окружении, что рядом нет его командира, что ему не приказывают из штаба. Боец, пока он жив, должен оставаться бойцом. Как говорил Крамарчук: «Живым приказано сражаться».
Андрей сказал все это негромко, но отчетливо, твердо. И его кричащий шепот казался Марии зловещим.
– Я-то думала, что ты просто так, пугаешь, – поежилась она. – Не верила, что смог бы…
– Идет война. У нее свои законы. Так вот, по этим законам… Все, Мария, молчим. В лесу речь слышна метров на двести. Теперь я пойду первым, ты больше посматривай назад и влево. Скоро будет светать, поэтому присматривайся к любой тени, лови любой звук.
Мария хмыкнула и замолчала. Лейтенант снова начал относиться к ней как к своему солдату.
27
Зебольд разбудил оберштурмфюрера Штубера около шести утра. Штубер не оговаривал с фельдфебелем, в каких случаях его можно будить, но все равно решение Зебольда разбудить его в такую рань было довольно смелым.
– Господин оберштурмфюрер, думаю, вас заинтересует один человек. Его только что задержали в лесу. Напоролся на наш патруль.
Штубер спал одетым. Он лежал на диване, сняв лишь сапоги. Дверь не была заперта, но присутствие в комнате постороннего он выявил еще до того, как на полу возле дивана появился зайчик фельдфебельского фонарика. И первое, что он сделал, – выхватил пистолет.
– Слушаю вас, мой фельдфебель, слушаю, – голос был не злым, но и не добродушным. Штубер давно научился произносить слова без каких-либо интонаций. Впрочем, фельдфебель уже привык к бесцветному голосу своего шефа.
– Он окруженец. Рядовой. Шел из-за Днестра.
– Их много сейчас, окруженцев, идущих из-за Днестра, Зебольд. Почему меня должен заинтересовать именно этот?
– Я допросил его. В лесу он встретился с небольшой группой…
– Понял, мой фельдфебель. Сюда его. Но сначала зажгите обе лампы.
Пока фельдфебель зажигал их, оберштурмфюрер обулся, набросил на плечи китель и, отодвинув плотные шторы, выглянул в окно. Уже светало. Руины древнего костела, лежавшие почти рядом (Штубер остановился в добротном кирпичном доме ксендза, судьба которого пока была ему неизвестна), напоминали сейчас руины средневекового замка. Он любил старину: замки, крепости, старинные родовые усадьбы… Однако руины костела и дом возле него Штубер избрал еще и потому, что это было единственное место в селе, где его небольшой отряд мог, в случае надобности, по-настоящему держать оборону.
Фельдфебель ввел пленного и остался у двери, вопросительно глядя на Штубера. Он знал, что сейчас последует одна из двух бессловесных команд: «выйди» или «стань за спиной допрашиваемого».
Штубер кивком головы показал: за спину. Ощущая у себя за спиной присутствие этого громилы, с минуты на минуту ожидая удара по голове, допрашиваемый редко находил в себе мужество не отвечать на какой-либо из вопросов Штубера.
Оберштурмфюрер подошел к пленному. Коренастый, почти квадратный, плотно скроенная фигура… Лицо плоское, с едва заметными восточными чертами. Все в кровоподтеках.
– Местный?
– Да, – тихо ответил пленный, боязливо, через плечо, озираясь на фельдфебеля.
– Ты будешь отвечать: «так точно, господин офицер». – Штубер произнес это негромко, спокойно, почти вежливо.
– В лесу ты встретил группу… Как называются у вас люди, попавшие в окружение?
– Окруженцами.
– Спасибо… Я этого слова не знал, – офицер говорил с акцентом, очень похожим на тот, с которым говорили на русском украинцы Подолья. И это удивило Готванюка. – Итак, ты встретил группу окруженцев… Почему ты решил сообщить о ней господину фельдфебелю?
– Я ничего не решил. Он спросил, кого встречал в лесу. Я ответил.
– Их было пятеро?
– Трое, господин офицер.
– А мне известно, что их было пятеро, – продолжал примитивно провоцировать его Штубер.
Окруженец снова испуганно оглянулся на фельдфебеля.
– Я говорю правду: их было трое. Третьей была женщина. Я не видел ее. Но сержант говорил, что их трое. Может, пятеро, но сержант говорил…
– Старшим там был офицер? Его звание?
– Взводный. Лейтенант. Он меня чуть не пристрелил как дезертира.
– Фамилия.
– Готванюк.
– Фамилия лейтенанта, – терпеливо уточнил Штубер, повернувшись к нему спиной.
– Сержант назвал его Беркутом.
– Что?! – резко обернулся Штубер. – Что ты мелешь, идиот?! Какой еще Беркут?!
– Он так называл его… ну, сержант, тот, что развел костер. Он еще спас меня. Лейтенант требовал, чтобы я остался в его группе. И чуть не расстрелял…
– И правильно сделал бы. Дезертиров расстреливают во всех армиях мира. Кроме того, что сержант называл его Беркутом, что ты еще слышал о нем? Что говорил сам лейтенант? Откуда они шли? Что собирались делать? Где их база?
– От Днестра шли. Они вроде бы из тех, ну, кого оставляли в дотах. Заслон там был, в дотах. Прикрывал переправы.
– Я хорошо знаю, что они делали в дотах! – повысил голос Штубер. – Что ты еще слышал о лейтенанте? Что говорил он сам?
– Он был с девушкой. Мы сидели у костра с тем, сержантом. Фамилии его не знаю. Я сушил одежду. Потом появился лейтенант. Потребовал, чтобы я оставался с ним.
– Ну хорошо, хорошо… Этот лейтенант Беркут… Раньше он что, командовал гарнизоном дота?
– Не знаю. Сержант почему-то называл его комендантом.
Штубер изумленно посмотрел на фельдфебеля. Тот не менее изумленно уставился на него. Хотя все это он уже слышал от окруженца. Правда, слово «комендант» Готванюк на допросе не употреблял.
– Так, это уже интересно. Садись, солдат. Фельдфебель, вы свободны. А ты садись к столу. Лейтенант говорил тебе, из какого он дота?
– Сержант сказал, что дот недалеко, – пленный присел на стул и весь сжался, словно его мучило ранение в живот. – Получилось так, вроде бы дот этот находится там, где я переплывал ночью реку.
– Ты переплывал ее недалеко от завода? Между заводом и селом?
– Кажется, да. Город был совсем близко. Огни видел. Слева от себя.
Штубер снова вопросительно посмотрел на все еще мнущегося у двери фельдфебеля. Теперь у него не оставалось сомнения в том, что Готванюк встретил спасшихся из дота «Беркут», который он приказал замуровать. А ведь фельдфебель лично обследовал всю окрестность. Были допрошены жители ближайшего села. И фельдфебель, и допрошенные уверяли его, что никаких запасных выходов у «Беркута» нет. Да и в других дотах их тоже не оказалось. Как же могло произойти, что эти трое вырвались из дота?
– Фельдфебель, чаю!
Фельдфебель скрылся в соседней комнате и вскоре пришел оттуда с двумя чашками уже остывшего чая.
– Слушай меня, солдат. Успокойся и опиши мне внешность этого лейтенанта.
– Да я не запомнил. Темно было.
– Такого не может быть. Ты же видел его. Вы сидели у костра. Ведь у костра?! Вспомни, какие у него скулы, подбородок.
– Широкий такой подбородок. Крупный. А волосы густые и короткие. Как у красноармейца. Будто недавно отросли. И нос, по-моему, крючковатый. В самом деле похожий на клюв беркута. Это я заметил.
– Ты сказал все, что знал?
– Все, господин офицер, – поднялся окруженец, так и не притронувшись к чашке.
– И шел ты домой?
– Домой. Части нашей нет.
– Ну и пойдешь домой. Части твоей действительно нет. В селе ты, наверное, был пастухом?
– Плотник я.
– Значит, гробы сбивал для умерших односельчан? Понятно. Ну что ж, теперь у тебя будет много работы. И хорошие заработки. Мы отпустим тебя. Раскрывать военную тайну: номер части, фамилию командира – мы, как видишь, не заставляем. Я ведь понимаю: честь солдата есть честь солдата… Ну а рассказ об окруженцах – какая ж это тайна? Сейчас ты сядешь с нами в машину и покажешь, где ночуют эти трое. Думаю, что до утра они оттуда никуда не уйдут. Не слышу ответа…
– Да это уже вроде как… выходит, что, – замялся окруженец, – показывать надо, где свои прячутся…
– Ну и что? Прячутся. Там ведь не часть, не линия фронта. Они – окруженцы и обязаны сдаться в плен. Это мы им и предложим. А пленных мы не расстреливаем.
Побудут несколько месяцев в лагере и вернутся домой. А если не сдадутся – погибнут. Ты же не хочешь, чтобы они погибли?
Готванюк смотрел в пол и упрямо молчал. Штубер понимал, что в эти минуты пленник своим неповоротливым крестьянским умом решал, может быть, главную задачу всей оставшейся жизни: выдавать до конца или погибнуть?
Офицер упомянул о чести солдата. Он, наверное, говорил это с какой-то своей корыстью. Но, сам того не желая, напомнил Готванюку то, о чем и взводный, и политрук говорили ему почти перед каждым боем.
– Если ты откажешься показать, мы и сами найдем их. А тебя отвезут в твою родную деревню. И там повесят. У ворот родного дома. И хоронить придется без гроба. Всех, кто знает, как его следует смастерить, мы расстреляем еще раньше. Машину, – приказал он фельдфебелю, не ожидая ответа окруженца. – Передайте приказ лейтенанту Штольцу: поднять взвод по тревоге. Через двадцать минут выезжаем.
– Кажется, я знаю, о какой местности идет речь, – заметил фельдфебель по-немецки. – Он говорил мне, что там неподалеку есть дот. Не тот, запечатанный нами…
– Дело не в местности, фельдфебель, – поучительно ухмыльнулся Штубер. – Дело в принципе. В подходе к человеку.
«Очередной эксперимент, – понял фельдфебель. – Что он цацкается с этими русскими? – недоумевал Зебольд. Недоумевал с первого дня службы в группе Штубера. – С поляками, русскими, украинцами?..» Возможно, этому и существует какое-то разумное объяснение, да только с его, Зебольда, точки зрения, оно им совершенно ни к чему. Поэтому, уходя, чтобы выполнить распоряжение, он, как всегда, снисходительно поморщился.
– А может, их уже нет там, господин офицер, – неуверенно сказал окруженец.
– Что гадать, плотник-гробовщик? – «Хорошая была бы кличка для агента – Гробовщик, – подумал Штубер, – романтичная. Весь вопрос в том, удастся ли подогнать этого кретина под смысл клички». А ведь создание агентурной сети для борьбы с советским подпольем было вторым по важности (а может, и основным) пунктом его «вольной охоты» на территории Украины. Охоты-проверки. От того, насколько успешно она пройдет, будет зависеть его дальнейшая судьба. – Поедем, посмотрим… Если Беркут хватался за пистолет, не пуская тебя домой, то почему бы и тебе не помахать пистолетом или автоматом у него перед носом? Пусть поймет, что в наше время не следует чувствовать себя безнаказанным, даже растаптывая муравья. Часовой, провести к машине! – приказал он по-русски. И добавил еще несколько слов по-немецки, смысл которых Готванюк понять уже не мог.
Пока Штубер пил чай, надевал свой черный кожаный плащ и вообще готовился к операции, его люди избивали Готванюка у машины. Делали они это молча, ожесточенно, ни о чем не спрашивая окруженца и ничего от него не требуя. Причем каждый из троих эсэсовцев имел свои любимые точки. По ним и бил, отрабатывая удары, как на манекене.
– Да вы что, озверели? – вроде бы без всяких эмоций, но все же довольно искренне поразился Штубер, выйдя из дома. Однако и после этого еще несколько минут наблюдал, как солдаты избивают пленного у него на глазах. – Прекратить. У тебя, Готванюк, что, хватило ума отказываться ехать? А, Гробовщик?
– Я не отказывался! – с ужасом пробормотал пленный, стараясь держаться поближе к «спасителю». – Они даже не спрашивали меня.
– Вот видишь, как важно, чтобы с тобой говорили по-человечески. А ты этого не понимаешь. Зебольд, Гробовщика ко мне в фюрер-пропаганд-машинен. Ничего не поделаешь, Гробовщик, придется проведать коменданта Беркута еще раз.
28
…Азасаду заметила все же Мария. В какое-то мгновение, когда лейтенант настороженно осматривал кусты справа от лесной тропы, она вдруг резко схватила его за рукав и пальцем показала куда-то вперед. В утренней дымке Громов без особого труда увидел три сросшиеся в корнях березы, между которыми, словно аист в недостроенном гнезде, сидел – спиной к ним, упершись плечами в ствол одной, а ногами в ствол двух других берез, – немец. Конечно же, усаживаясь там подремать, спиной к тропинке, немец думал о чем угодно, только не о маскировке.
Жестом задержав Марию на том месте, где она и стояла, Громов пригнулся и, перебежав к соседним кустам, внимательно осмотрелся. Других солдат поблизости не было. Но за сросшейся троицей виднелся довольно густой кустарник, и остальные двое-трое из засады могли находиться именно там. Однако подкрадываться к кустам – терять время. Конечно, можно было обойти этого «аиста», но Громову нужны были патроны к автомату. И форма. Значит, стоило рискнуть.
Он еще несколько метров осторожно прошел по тропинке – на ней не было веток, треск которых мог выдать его, – а потом, уже не скрываясь, огромными прыжками бросился к фашисту. Тот услышал его шаги, встрепенулся и даже попытался подняться, но опомниться ему лейтенант уже не дал. Перехватив одной рукой автомат фашиста, он другой резко, наотмашь ударил его мощным натренированным ударом в сонную артерию. Немец охнул, хватанул искривленным ртом воздух, пытался, очевидно, что-то крикнуть, но, ухватившись за автомат, теперь уже обеими руками, Громов ударил им в горло и прижал шею фашиста к стволу.
Мария все это видела, и когда лейтенант потащил обмякшее тело немца в кустарник, бросилась к нему. К своему удивлению, Громов обнаружил в кустах хорошо замаскированный мотоцикл. Значит, где-то неподалеку бродили еще двое фашистов. Наверное, патрулируя, разошлись в разные стороны.
– Уходи, Мария. Я догоню. Нужно переодеться. Бери мой автомат.
Однако китель оказался слишком тесным, и от него пришлось отказаться. Сплюнув со злости, Громов взял только солдатскую книжку немца, автомат и запасные рожки с патронами. Когда неподалеку послышался голос – очевидно, один из фашистов звал своего напарника, – лейтенант уже опрокидывал мотоцикл в лужу выпущенного из бака горючего.
Пройдя еще километра полтора долиной и перелесками, они с Марией прокрались к стоящему несколько на отшибе дому. За этим домом уже было поле, но зато к нему почти незаметно можно было подойти довольно глубоким оврагом. И Громов сразу оценил это.
Открыл им высокий худощавый старик. Он молча взглянул на пришельцев, обвел настороженным взглядом двор, пытаясь выяснить, нет ли вблизи еще кого-нибудь, и только тогда молча кивнул, показывая, что можно войти.
– Нужно приютить эту девушку, отец. Хотя бы на сутки-двое. – Громов вопросительно посмотрел на Марию. – А там будет видно.
– Кто такой? – сухо спросил хозяин, поднося керосинку чуть ли не к самому лицу лейтенанта.
– Она медсестра, отец. Работала в больнице, здесь недалеко.
– Да знаю, что медсестра. Узнал. Мария, кажись.
– Мария, – подтвердила Кристич.
– О тебе спрашиваю. Командир никак? В окружении?
– Пока в окружении. Так сложились обстоятельства.
– Сын у меня, Петро… Лозовский… За Днестром где-то был. Месяц как призвали…
– Лозовский? Петро? Нет, не встречал.
– А ведь большая часть войска через наше село отходила. Был бы жив, так… – он осекся, опустил лампу и только сейчас перевел взгляд на Марию. – Тебя что, уже ищут?
– Нет, – ответил за нее Громов. – Можете сказать, что ее мобилизовали, но на пункт сбора она не явилась. И скрывалась здесь.
– Ага, – задумчиво кивнул старик. – А медсестра им в больнице все равно понадобится. Они тут, по всему видать, решили захозяйничать надолго. Уже записывали: кто каменщик, кто плотник, кто в технике смыслит… Власть здесь вроде как румынская будет. Эти хоть меньше стреляют, все больше плетке верят. Только пухкалку эту, – кивнул на автомат Марии, – придется тебе унести. Мне на петлю и без нее наберется.
– Унесу, отец.
– Звания ты какого будешь? Я в этих железках не очень.
– Лейтенант.
– Во как! – старик воскликнул это так, будто узнал, что перед ним генерал. – Уходить тебе пока нельзя. Ослаб ты. Лес таких не любит. Сейчас я тебе бритву сынову выдам. Брейся, а я сбегаю к соседке, пусть сварит что-нибудь. Вдовый я. Уже год, считай. Вон там, за оврагом, погребок. Неприметный он. Ляг отоспись, иначе свалишься где-нибудь на дороге. Хоть хлопец ты и крепкий, тут ничего не скажешь, а все равно истощила тебя война.
– Только смотри, старик, – остановил его Громов уже у двери. – Если что – гореть буду вместе с твоей хатой.
Старик молча отстранил его костлявой рукой и вышел.
«Нет, этот не должен выдать, – подумал Андрей, глядя ему вслед. – И рискует не меньше нас. Это тоже нужно учесть».
29
Рассвет выдался сырым и холодным, такой лучше было переждать в доте. Крамарчук взял пулемет, колодки с лентой и побрел к едва различимой в тумане бетонной крепости. Пулемет он оставил у входа, в окопе, а сам решил хорошенько осмотреть отсеки. Там, где Громову удалось найти две банки консервов, могла обнаружиться и третья.
Однако ничего съестного в доте не оказалось. Единственной его находкой стала лимонка. Он обнаружил ее в спальном отсеке, под разорванной окровавленной гимнастеркой, к которой до него, очевидно, никто не решался притрагиваться.
Оставался последний отсек. Зайдя в него, Крамарчук обо что-то споткнулся, разгреб носком бетонную крошку и увидел флягу. На дне ее плеснулась жидкость. Вода? Водка? Отвинчивая крышку, он подошел к амбразуре. Вырвавшийся из фляги запах заставил его почти блаженно улыбнуться. Но в ту самую минуту, когда поднес флягу ко рту, он вдруг заметил, как резко качнулся куст на краю того ельника, где они втроем ночевали. Качнуться так от ветра он не мог.
Крамарчук мигом выскочил из дота, пробрался по окопчику к пулемету и осторожно выглянул. Неподалеку, за сосной, стоял немец. А вон еще один… Это было похоже на сон. Он отчетливо видел фигуры врагов, они были совсем близко, перебегали от дерева к дереву, замирали за стволами – и ни звука.
Все еще оглядывая местность, сержант машинально поднес флягу ко рту, сделал несколько глотков, но, похоже, что горло его затерпло сейчас так же, как и губы. Никакого вкуса этой жидкости он не почувствовал. Пристроив флягу на бруствере, он ухватил одной рукой пулемет, другой – колодку с лентой и оттащил их поближе ко входу. Потом вернулся за карабином и флягой.
Заметили? Окружают? Знали, что он здесь? Неужели схватили Марию и Громова, и они выдали его? Не они, поправил себя Крамарчук, лейтенант не выдаст. Мария – та может не выдержать. А вдруг просто прочесывают? Но нет же, остановились. И ни слова. А прочесывая, палили бы по кустам.
– Эй, в доте, вы окружены! – Крамарчук вздрогнул от неожиданности и присел за бетонный козырек, отделявший дот со взорванной дверью от окопа. – Вам дается пять минут на то, чтобы выйти и сдаться! Медсестру мы отпустим. Вас, лейтенант, и сержанта будем считать пленными, хотя вы и нарушили приказ оккупационных властей о сдаче в плен и регистрации всех попавших в окружение!
Этот усиленный рупором голос… Где же он слышал его? Неужели в «Беркуте»? Неужели это тот же обер… как его там, который уговаривал Громова сдать дот? Крамарчуку вдруг показалось, что время и события потекли вспять. Ничего не изменилось. Он опять оказался в том же доте, откуда они чудом вырвались. Тот же дот, тот же лязгающий голос гитлеровского офицера, будившего их по утрам и среди ночи… Где же лейтенант? Мария? «Готванюк, – вдруг осенило Николая. – Готванюк – вот кто нас выдал».
– Готванюк! Сволочь! – люто заорал он, обращаясь туда, к лесу. Крамарчук почти не сомневался, что Готванюк сейчас где-то среди них, среди фашистов. – Я тебя и на том свете найду, гадина! Из могилы встану и задушу тебя, понял, шкура?! Лучше бы я тебя сам пристрелил!
– Лейтенант Беркут, прикажите сержанту прекратить истерику! С вами говорит оберштурмфюрер Штубер. Вы помните меня по доту «Беркут». Предлагаю почетный плен. У нас с вами есть о чем поговорить. Ваша дама может покинуть дот еще раньше вас. Вы будете свидетелем, что мы ее не тронем.
«Значит, он все еще думает, что нас трое, – Крамарчук вспомнил о фляге и с удовольствием сделал еще несколько глотков. Вот теперь все стало на свои места: запах отвечал содержимому. – То, что нас не трое, они поймут очень быстро. Вот только взять меня здесь будет непросто. Побольше бы патронов! Патронов бы!..»
Он понимал, что дважды чудо не свершается. Даже на войне. А значит, из этого дота ему не вырваться. Но и выйти, просто так выйти и сдаться, он не мог. Не сдался в «Беркуте», не сдастся и здесь. «Может, еще подоспеет лейтенант? А вдруг? Атам бой покажет…»
– Спасибо, браток, что поделился, – поблагодарил он того солдата, чья фляга ему досталась. – Оставил, не пожадничал. Я за тебя допил, я за тебя и довоюю. Помяну всех вас, в этом доте сражавшихся.
Он достал из кармана лимонку, еще раз внимательно осмотрел ее, нежно, словно фотографию любимой, поцеловал и сунул назад в карман. «Только не подведи, – прошептал. – Раз уж ты досталась мне. Я тебя напоследок…»
– Эй, фрицы, не тяните жилы! Милости прошу к моему шалашу! Готванюк! Не забудь помолиться на моей могиле! Половину греха отпущу!
Из окопа, из одной, другой, третьей амбразуры он видел, как к доту начали подползать немцы. Человек двенадцать, редкой цепью, со всех сторон. И ползли по всем правилам – скосить одного такого в густой траве – пол-ленты выстрочишь. А те, что остались за деревьями, открыли прицельный огонь по амбразурам и по выходу.
«Жаль, – последнее, что подумал Крамарчук, берясь за пулемет. – Пошли бы цепью, как в ту, первую атаку на “Беркут”…»
30
– Он еще жив? – спросил Штубер, когда солдаты принесли на плащ-палатке раненного ими в перестрелке окруженца. Как раз во время атаки дота этот стриженый мальчишка-новобранец, засев в кустарнике, открыл огонь по его машинам. Он решился на это, имея в магазине трехлинейки всего три патрона!
– Еще дышал, господин оберштурмфюрер. И даже на минутку пришел в сознание. Наши красавцы разумно использовали эту минутку… – иезуитски улыбнулся фельдфебель, жестом руки приглашая Штубера взглянуть на работу «красавцев».
Оберштурмфюрер подступил поближе к брустверу окопа, на который солдаты положили тело, и вздрогнул. То, что он увидел, не поддавалось никакому пониманию. Уши и нос отсечены, лицо исполосовано, на груди вырезана кровавая звезда.
– Кто этот эстетствующий самоучка? – кивнул он на звезду.
– Шарфюрер[1] Лансберг.
– Которого мы выудили из охраны польского концлагеря? – удивился Штубер, почти с уважением посмотрев на стоявшего теперь чуть в стороне и спокойно курившего толстяка. – Никогда бы не подумал.
– Если позволите, мы этого красного вздернем и напишем, за что ему оказана такая честь.
– Вздернуть? Мертвого? Тогда уж лучше распять, – Штубер тоже достал сигарету, постучал мундштуком о крышку золоченого портсигара, не отводя взгляда от изуродованного лица красноармейца, – он никогда в жизни не был свидетелем подобного уродства и сейчас просто-напросто испытывал нервы, заставляя себя привыкать и к такому. – Этого сержанта из дота отправили в госпиталь?
– Приказал везти в ближайшую больницу. Раны средние. Операция – и будет жить. Пока ему будет позволено.
– Наверняка это сержант из дота «Беркут». Этим он и интересен. Срежьте на дереве кору и напишите: «Здесь распят убийца солдат фюрера, не пожелавший сдаться в плен». Распять, конечно, следовало бы сержанта. Причем живого. Но, думаю, этот тоже не обидится. Красные приучены страдать за общее дело. Если Беркут осмелится вернуться сюда, он будет приятно удивлен, увидев такой цивилизованный натюрморт с распятием. Но впредь до подобных зверств не доходить. Убивать тоже нужно интеллигентно.
– Учту, господин оберштурмфюрер.
– Где Готванюк? Сюда его. Ему не мешает видеть все это.
Фельдфебель передал распоряжение оберштурмфюрера Лансбергу, справедливо полагая, что и распинать окруженца тоже должны под его началом, а сам отправился искать Готванюка.
– Русский сбежал, господин оберштурмфюрер, – испуганно доложил он через несколько минут. – Воспользовался внезапным нападением на колонну этого юнца.
Штубер побледнел и, поиграв желваками, процедил:
– Готванюк – украинец. Я всегда требовал, чтобы вы были точны в определении национальности.
– Позвольте приступать? – совсем некстати подвернулся в эту минуту Лансберг. Ему хотелось, чтобы оберштурм-фюрер заметил его рвение.
– Делайте свое дело, шарфюрер, делайте! И не мельтешите у меня перед глазами. Я этого не терплю. Зебольд, вы помните название села, к которому шел Готванюк?
– Так точно, помню.
– Передайте тамошнему начальнику полиции, коменданту, старосте, да хоть Господу Богу, но обязательно передайте, что всю семью Готванюка, вплоть до младенцев, а также всех родственников, близких и дальних, следует расстрелять. Но только в присутствии самого Готванюка. Пусть выставят засаду, установят за его домом наблюдение и, как только этот окруженец появится, расстреливают. Однако самого его не трогать. И дом тоже. Пусть живет. А расстрелянных похоронить у него во дворе. Так ему легче будет скорбеть по убиенным, я прав, мой фельдфебель?
– Как всегда, господин оберштурмфюрер, – с некоторым опозданием отчеканил Зебольд. В этом приказе, в этой мести окруженцу оберштурмфюрер превзошел не только самого себя, но и все возможное, что только могло быть выдумано человеком, оказавшимся в данной ситуации.
31
Пока Громов брился, Мария успела переодеться. Доставшиеся ей расшитая замысловатыми узорами кофта и юбка лежали в комоде хозяйки, очевидно, еще со времен ее молодости. Неизвестно как они смотрелись на хозяйке, но Мария в них просто расцвела. Правда, и в этой одежде она почему-то не воспринималась как обычная сельская девушка. Наверное, этому мешала модная городская стрижка, сделанная, как узнал Андрей, в последнюю мирную субботу. Скорее, она была похожа на молодую сельскую учительницу.
– Выходя на улицу, лучше надевай платок, причем постарее, – посоветовал Андрей, пытаясь дотянуться до Марии свободной рукой, чтобы обнять. – И вообще, одевайся очень скромно. Красота привлекает, а это небезопасно даже в мирное время.
– Хорошо, я буду маскироваться под старуху, – увернулась от его объятий.
Он добрился и еще раз внимательно посмотрел на себя в зеркало. Нет, дни, проведенные в подземелье, не очень состарили его. По крайней мере, не так, как ему показалось, когда взглянул на себя в зеркало до бритья. Только глаза покраснели от бессонницы и усталости. Да щеки немного осунулись.
– Мария, посмотри на меня.
Девушка стояла у окна. Услышав его просьбу, она оглянулась через плечо.
– Вот сейчас, глядя на меня, еще не искупанного… – улыбнулся Андрей. – Скажи: ты бы согласилась выйти за меня замуж?
– Нет, – сразу же и довольно резко ответила она, повернувшись к нему лицом.
– Почему?
Она пожала плечами.
– Ну почему, почему?! У тебя есть жених?
– А почему ты до сих пор ни разу не спросил меня об этом?
Он подошел к ней, но обнять не решался. Резкий ответ вышиб его из седла.
– Почему ты ни разу не спросил об этом? – повторила она уже настойчивее. В голосе ее звучали нотки обиды.
– Мария, милый ты наш санинструктор… Да ты просто-напросто забыла, чем мы там, в доте, занимались. Мы воевали, Мария! – ему хотелось рассмеяться, но почему-то не получалось. – А еще там умирали, гибли… – Громов запнулся на полуслове и замер. Он увидел в окно, как во двор с автоматом на груди и с ведром в руках входит немец. – Я буду немилосердно нежным, Мария, но только после войны. А сейчас к нам пожаловал немец… – хватило у него спокойствия закончить этот неожиданный разговор.
– Где? – встрепенулась Мария.
– Во дворе. С ведром. Очевидно, шофер. И вроде бы один.
То, что немец один, Громов понял по тому, как тот робко входил во двор, держа палец правой руки на спусковом крючке автомата. Решение пришло мгновенно:
– Мария, в коридор. Быстро. Выгляни, улыбнись и позови его. Ком, битте… Понятно?
Андрей спрятался за дверью. В щелку он видел вермахтовца. Когда Мария появилась на пороге и довольно приветливо на немецком начала приглашать его, немец – высокий, довольно крепкий детина – расцвел и оскалил зубы в торжествующей улыбке. Здесь его встречают как победителя.
– Ком, битте… – настойчиво твердила девушка, жестами приглашая солдата войти.
А почему бы не войти, если приглашает такая украиночка? Он снял палец с крючка, мужественным движением сдвинул автомат на бедро, ведро как-то само собой выпало из руки…
Пропуская немца мимо себя, Мария отступила в сторону, и на какое-то мгновение он оказался спиной к Громову.
Лейтенант тотчас же рванул его за плечо, развернул и сунул дуло пистолета просто в открытый от удивления рот.
– Руки вверх, – приказал он по-немецки. – Одно движение – смерть.
Немец пробормотал что-то нечленораздельное. От него разило горючим и выхлопными газами.
Отведя пистолет, Громов ударил фашиста ногой в живот и в момент, когда тот согнулся, сорвал с него автомат.
– Марш в дом, – скомандовал по-немецки. – Ком… Битте…
Он усадил фашиста за стол, под стеной и, попросив Марию постоять в коридоре и проследить за тем, что происходит на улице, уселся за стол напротив.
– Где ты оставил машину?
– На дороге. За полем. Нужно долить воды. – Солдат был явно не из фронтовиков. Рабочий парень, шофер, мобилизованный на фронт и, по существу, ничему не обученный. Но сейчас он был врагом. Пусть даже необученным.
– Кто в машине?! Говори правду, иначе – смерть.
– Никого. Там, в кузове, ящики.
– Ты не мог ехать один, без охраны, без сопровождающего.
– Унтер-офицер приказал ехать одному. Здесь недалеко, в соседнее село. Вчера мы ездили туда вместе. А сегодня он решил немного поспать.
– Ты возишь эти ящики на станцию?! В них боеприпасы? Почему ты молчишь? Отвечай: в ящиках боеприпасы?!
– Да, господин… Есть и боеприпасы. Скажите, вы немец? Русский немец, живший здесь?
– Можешь считать меня русским немцем. Скажи, оберштурмфюрер… – что это за чин такой?
– Оберштурмфюрер СС. Это как обер-лейтенант в вермахте.
– Оберштурмфюрер Штубер… Такого офицера ты знаешь?
– Штубер? Нет. Не убивайте меня, господин офицер. Я никому не скажу, что здесь происходило. Клянусь Господом Богом, – перекрестился он. – Спрашивайте. Расскажу все, что знаю. Я не фашист. Работал недалеко от Франкфурта-на-Майне. Отец мой тоже шофер.
– Сейчас ты – солдат, – резко ответил Громов. Ему противна была трусость в любом ее проявлении. – На тебе форма. И твоя армия грабит эту землю, убивает ее людей. Ты что, так до сих пор и не понял этого?
– Понял, господин офицер. Я все понял.
– По-немецки я говорю правильно? – неожиданно мягко спросил Громов, чтобы успокоить немца.
Тот на минуту замер – таким неожиданным показался ему вопрос этого странного русского офицера.
– Да, очень правильно. Почти… Иногда чуть-чуть слышатся неправильные произношения. Например, когда вы произносили звание офицера СС.
– Учту. Если фашисты узнают, что тебя отпустил русский партизан и что ты ответил на все его вопросы, они вздернут тебя.
– Конечно, вздернут. Но от кого они узнают? Зачем мне рассказывать об этом? Смерть от гестапо ничуть не приятнее, чем от рук партизана.
– Ты уже имел дело с полицией безопасности?
– Бог миловал. Но знаю, что ее побаиваются даже офицеры контрразведки. Там служат в основном эсэсовцы. Это страшные люди. Тот, кто попадает туда, оказывается или на виселице, или в концлагере, откуда тоже не возвращаются.
– Консервы у тебя в машине есть?
– Два ящика. Хорошие бельгийские консервы. Говядина. И четыре ящика гранат. В остальных патроны к пулеметам. И мины. Кажется, мины. Вчера они были.
Громов отсоединил от его автомата магазин, проверил, нет ли патрона в стволе, и бросил автомат на стол.
– Бери и пошли.
Во дворе он дал немцу возможность набрать воды и приказал, чтобы тот шел к машине, а сам спустился в овраг, пролегающий параллельно дороге.
Потом, уже сидя в кабине, он приказал водителю развернуться и поехать к перелеску, что виднелся неподалеку.
– Возле леса тебя остановил партизан в форме немецкого офицера, – объяснял он шоферу. – Он выволок тебя из машины и начал осматривать ящики. Воспользовавшись этим, ты убежал. И понял, что твоей машины уже не существует. Не ты виноват, что оказался без охраны. Так и говори на допросах.
Они свернули с дороги, заехали в небольшую рощу. Немец сам услужливо отнес два ящика с тушенкой и два ящика с гранатами в лес и замаскировал их в небольшой ложбине, указанной ему Громовым. Делал он все это быстро и аккуратно, как будто сам уже был партизаном. Пока он управлялся с консервами, Громов вскрыл еще один ящик и взял оттуда пять гранат с длинными деревянными ручками. Когда шофер замаскировал и этот ящик, они вернулись на дорогу и проехали еще с километр. Дорога пока что была пустынной. Пропылило всего две машины, но сидевшие там немцы ничего подозрительного не заметили.
Потом они снова свернули в перелесок. Там Громов и вправду вытащил водителя из кабины и с огромным удовольствием съездил его по челюсти.
– А теперь вон, в лес! – Но вдруг, опомнившись, крикнул: – Стой! Ты понял, почему я ударил тебя?
– Это доказательство, господин офицер.
– Все может случиться в этом мире, парень. Я спас тебе жизнь, хотя мог бы пристрелить. Ты должен запомнить это. Не зверствуй. Где и в чем только можешь, помоги людям, на землю которых ты пришел как враг. А теперь дай-ка я тебя еще раз. Для верности. Не бойся, зубы и челюсть останутся целы…
– Спички у тебя есть? – спросил уже у лежавшего на земле.
– Зажигалка, господин офицер, – еле проговорил тот, сплевывая кровь.
– Облей машину бензином, подожги и беги в лес.
– Спасибо, господин офицер. Вы истинный христианин.
Громов рассмеялся, подобрал пилотку немца и положил туда три банки консервов. Автомат спрятал в кустах.
Возвращаться в село к Марии он уже не мог. Ничего, они с Крамарчуком проведают ее завтра вечером. Заодно устроят себе баньку.
Он ушел, не оглядываясь, будучи твердо уверенным, что немец выполнит его приказ.
Взрыв прогремел, когда Громов уже был далеко.
32
Он проснулся от нервного татаканья автоматов и с ужасом понял, какую непростительную ошибку совершил, забравшись сюда, на чердак заброшенной лесной сторожки. Ведь если бы фашисты оказались вблизи – первым делом они бы окружили и обшарили эту хижину.
Какое-то время лейтенант лежал у открытой дверцы и вслушивался в то, что происходило в лесу. Не там ли идет бой, где остался Крамарчук? Да, но в какой стороне этот дот? К своему стыду, он понял, что просто-напросто сбился с основного направления и ему придется хорошенько поблуждать, прежде чем удастся найти и дот, и ельник.
Нет, он не верил в то, что бой мог вести Крамарчук. Он ведь ясно сказал сержанту, чтобы утром тот ушел в каньон. А там лисий лаз, в котором его никто не решится преследовать. Через дверной проем, через щели он внимательно осмотрел окрестность. Ничего подозрительного.
Собрав оружие, Андрей спрыгнул с чердака и, пригнувшись, метнулся к ближайшим зарослям. Прислушался. На какое-то время стрельба затихла. Но вот раздался взрыв гранаты. Неужели в селе стало известно о том, что произошло с машиной, и был послан карательный отряд? Этот отряд, возможно, и напоролся на какую-то вооруженную группу.
Рядом была небольшая криничка. Сама она оказалась засыпанной листьями и ветками, но вытекающая из нее вода оставалась удивительно прозрачной и отливала серебром.
Громов жадно напился и посмотрел на часы. Они остановились на пяти. Солнца нет, сумрачно, низкие, но не дождевые тучи. Который час? Сколько он проспал?
Еще минут двадцать лейтенант прислушивался к тому, что происходило в лесу. Ждал новых выстрелов, взрывов, по которым можно было бы определить, приближается к нему цепь карателей или нет. И закончилась ли разыгравшаяся где-то там, в глубине леса, трагедия.
«Я двинусь через час, – решил он, – в том же направлении, откуда доносились звуки боя. В любом случае гитлеровцы уже не вернутся туда».
Завел часы и принялся за банку консервов. К этой бы банке да картошку старика Лозовского… Может, вернуться туда? Как все было бы проще, если бы Крамарчук пошел с ними.
Прошло чуть больше часа. Сквозь серую пелену свинцового неба едва заметно пробивались холодные лучи невидимого солнца. Судя по тому, где находился источник этих лучей, Громов мог определить, что проспал не так уж много и что сейчас все еще раннее утро.
К дому лесника сходилось множество разных тропинок, но лейтенант старался избегать их, предпочитая идти оврагами, зарослями, нехожеными ложбинами.
Судя по времени и расстоянию, которое прошел, он уже давно должен был наткнуться на тот ельник, где остался Крамарчук, и на дот. Значит, и в самом деле заблудился.
Прошло еще с полчаса, прежде чем Громов набрел на едва приметную лесную дорогу. Это была та самая, по которой шли они с Марией. Но теперь на ней отчетливо видны свежие следы колес. Машин прошло несколько. Значит, это не прочесывание леса, не стрельба наобум, для острастки. Немцы двигались прямо к доту. Твердо зная, куда и зачем едут.
Лейтенант почувствовал, как от волнения у него пересохли губы. Крамарчук! Это он давал бой. И, очевидно, последний. Если бы он, Громов, услышав звуки боя, бросился тогда… Если бы успел…
Громов свернул с дороги, но старался не упускать ее из виду, чтобы опять не сбиться. Ни моторов машин, ни выстрелов уже не слышно было. Только нервное перестукивание двух дятлов, напоминающее пулеметную перестрелку, долго сопровождало его, мешая прислушаться к голосам и шорохам леса.
Вот, наконец, и знакомая просека. За ней должен показаться ельник. Чуть дальше – дот. Последние метры, отделяющие его от просеки, лейтенант прополз, и прежде чем пересечь ее, какое-то время лежал в кустах, осматривая местность. Вроде бы ничего подозрительного. Неужели не оставили засады? Или решили, что?.. Впрочем, откуда им было знать? Готванюк? Только он мог выдать. Он знал, сколько нас. Он указал дорогу. Напрасно Крамарчук пожалел его. Зачем он это сделал?!
«Лучше спроси себя, почему ты пожалел немца-шофера? – вступился за Крамарчука. – А ведь одним оккупантом было бы меньше».
Громов еще раз внимательно осмотрел все окрест и поднялся, приготовившись к броску через просеку…
– Пан-товарищ, пан-товарищ…
Лейтенант круто развернулся и только чудом сдержался, чтобы не выпустить очередь по какому-то невысокому худощавому человеку, оказавшемуся в пятнадцати-двадцати шагах от него.
– Не ходите туда, пан-товарищ… там вашего жолнежа… солдата вашего повесили. На дереве распяли… Немцы. Как Езуса Кристоса.
Только теперь, присмотревшись, Громов понял, что перед ним старик лет шестидесяти пяти. Он стоял, прислонившись к стволу сосны. В руке у него было лукошко. Говорил он довольно странно – смешивая польские, украинские и русские слова. Андрей слышал, что в городке так разговаривали местные поляки. Он понимал их легко: в Белоруссии, на Буге, поляков было много, и словарный запас его оказался довольно богатым.
– Как это – распяли? Ты что, старик? Живьем, что ли?
– Не живьем… Но так… Полуживым. Раненым.
– Ты видел, как все это происходило?
– Не видел, пан-товарищ. Если бы видел, меня бы тоже распяли, как Езуса. Фашист не любил этого, свидка… Свидетеля, по-русски. Но сейчас фашиста нет. Я оказался здесь случайно. Когда стреляли, прятался недалеко отсюда, в яру.
Старик говорил еще что-то, но Громов уже не слушал его. Бросился в ельник, пробился через заросли, пробежал поляну, отделяющую дот от леса.
– Негодяи! – прорычал, увидев прямо перед собой распятое на стволе и ветвях иссохшего дуба обезображенное тело красноармейца. – Кто же так зверствует?! Кто так воюет? Кто так живет, звери?!
К счастью, старик не ушел. А его присутствие – вообще присутствие здесь живого человека – как-то сразу помогло Громову вернуть себе самообладание. Сдержаться, сцепить зубы и терпеть… С помощью поляка он отвязал и похоронил тело замученного красноармейца (только снимая его, Громов понял, что это не Крамарчук, и был очень удивлен этому) в небольшой, наспех отрытой тесаком яме, рядом с братской могилой бойцов Шелуденко.
«Что же произошло с Крамарчуком? – мучительно размышлял Андрей, совершив этот скорбный обряд. – Где он? Неужели сумел прорваться через кольцо немцев?» Не похоже. Судя по записке Крамарчука, которую он обнаружил перед похоронами возле входа в дот, положение было безвыходным. Значит, плен? Немцы увезли его раненым? Но откуда тогда взялся этот красноармеец? Странно…
– Спасибо тебе, отец, что не ушел. Не оставил меня. За человечность спасибо.
– Я стар… – устало проговорил поляк. – А потому должен верить, что когда-нибудь и меня добрые люди предадут земле, а не оставят на поталу крукам, воронью…
– Все равно… Ты – настоящий солдат.
– О, когда это было! А пан-товарищ есть офицер? – спросил старик, отводя его, как мальчишку, за руку, подальше от могилы, от этого страшного места.
– Да, отец, офицер.
– Пану-товарищу нельзя ходить так, в форме, при ремнях… Нужно в цивильном. Цивильном, понимаешь? Немцы вокруг. Погибнешь.
– Хорошо, я раздобуду. Хотя почему бы не ходить в форме?
– Ясно: офицерская честь… – мягко заметил старик. – Но тота честь ваша требует, чтобы офицер мстил за ойчизну. А чтобы мстить, надо перехитрить врага. Прийдешь ко мне. Когда стемнеет. Сейчас ты пойдешь следом за мной, до края леса. Я покажу село. И объясню, как меня найти. Переночуешь у меня.
– Ты такую фамилию – Готванюк – никогда не слышал?
– Готванюк? Не приходилось. Он из нашего села? Сказал вам, что из нашего?
– Нет. Он называл село, но… Да, вспомнил: село называется Липное или Липканы…
– О, то пан-товарищ мает на увази Липковое. Я покажу. Это далековато. Но я покажу, как туда дойти. Не сейчас – завтра.
– Покажи, отец, ради Бога, покажи… Мне нужно побывать там. А уж потом будь что будет…
33
Колонна из трех машин медленно выезжала из леса. Штубер и Зебольд сидели в кабине средней машины. Зебольд чуть приоткрыл дверцу и, высунув автомат, зорко всматривался в лесную чащобу, готовый в любую минуту выпрыгнуть и открыть огонь. Водитель тоже нервно поглядывал на заросли, и автомат его лежал на коленях. Только Штубер, сидевший между ними, закрыл глаза и, казалось, невозмутимо дремал.
На самом деле оберштурмфюрер был удручен. Что ни говори, операция не удалась. Распятие этого окруженца – слишком мелкая месть за потери, которые они понесли. И он не завидовал лейтенанту, командиру взвода, ехавшему сейчас в первой машине. Если тот доложит своему командиру правду, а соврать он вряд ли решится, то завидовать ему действительно трудно. Хотя, что он мог поделать? У Штубера есть право привлекать для операций любые находящиеся вблизи воинские подразделения.
Нет, Штубер не дремал. Страх перед лесной дорогой он заглушал презрением к любым опасностям, которое так долго и старательно вырабатывал в себе, а волнение переплавлял в сосредоточенный анализ создавшейся ситуации. Молниеносная реакция и железная логика – эти две феи-спасительницы создавали вокруг личности оберштурмфюрера Штубера пусть еще не очень эффектный и звучный, но все же миф, который уже делал его известным в Берлине, в кабинетах особого отдела гестапо по борьбе с диверсионными группами.
Ну а что касается сегодняшней операции… Кто сказал, что успех должен приходить сразу? Может, это даже к лучшему, что Беркута в доте не оказалось. Если, конечно, он – не легенда и если речь действительно идет о чудом спасшемся лейтенанте из 120-го дота, которого Штубер предпочитал видеть перед собой живым? Вот именно, живым. Но не для того, чтобы мстить ему. Почему, собственно, он должен мстить этому лейтенанту? Беркут – офицер и выполняет свой долг.
Штубер пока плохо знал этого человека, однако предчувствие подсказывало, что столкнулся он с личностью незаурядной. В конце концов, такие личности встречаются в любой нации. Истреблять их, не попытавшись использовать, – грешно и бессмысленно. При всем уважении к Гитлеру, он все же не понял этой истины. И поэтому масса талантливых людей, не принадлежавших к арийской расе, автоматически оказалась или еще окажется в стане его лютых врагов. Поразительное умение наживать себе врагов – вот бич, который мешает фюреру предстать перед миром в ореоле гения.
Конечно, рано или поздно фюрер растопчет многих из них. Но сложность заключается в том, что чем меньше остается вокруг вождя волевых талантливых последователей, тем больше плодится бесхребетных бездарей, способных опошлить любую, даже самую праведную его идею. Впрочем, если верить данным разведки, этим же грешит и нынешний вождь большевиков – Сталин. Похоже, они оба кончат плохо.
Кстати, об этом сержанте… Он не посмотрел его документы. Уж не тот ли это сержант из дота, жену которого приводили к «Беркуту»? И еще… почему своей внешностью сержант напомнил ему самого Беркута? Неужели случайное сходство? А может, это он и есть, Беркут собственной персоной?
Закончить размышления он не успел. Водитель затормозил так резко, что Штубер чуть было не вышиб головой лобовое стекло.
– Что?! – рявкнул он, мгновенно выхватывая пистолет. – Зебольд, выяснить!
Фельдфебель пулей вылетел из кабины и, еще ничего не понимая, залег за дерево. Вслед за ним выскочил и Штубер.
У первой машины лейтенант Штольц держал под дулом пистолета какого-то парня. В немецкой форме, но без пилотки, ворот расстегнут, руки подняты вверх…
«Беркут?! – мелькнуло в сознании Штубера. – Да нет, какого черта он оказался бы здесь?! С поднятыми руками… Это было бы слишком пошло».
Штуберу не хотелось, чтобы легенда о Беркуте закончилась так прозаически. Это – как неудачно рассказанная сказка.
– Кто такой? – подошел Штубер к солдату. – Почему не по форме? Почему избит?!
– Говорит, что водитель, господин оберштурмфюрер.
– Вижу, что не врач. Разит от него не медикаментами.
– Меня встретили партизаны… – начал объяснять водитель.
– Его машину взорвали, – помогал прояснять ситуацию Штольц. – Подожгли и взорвали. В кузове были снаряды.
– Опусти руки. Застегни китель. От штрафной роты, а может, и от расстрела тебя спасет только правдивый ответ. Но предупреждаю: эта правда должна быть сказана здесь, сейчас. Потом, вырванная в подвалах гестапо, она тебе уже не зачтется.
– Я отвечу, господин оберштурмфюрер, – испуганно пробормотал шофер. – Святую правду скажу.
– Там было несколько партизан или на тебя напал один? Только правду, солдат, правду…
На удивление, шофер облегченно вздохнул. Судя по всему, он ожидал более страшного для него вопроса, и Штубер заметил это.
– Он был один, господин оберштурмфюрер. Появился неожиданно. На дороге. С автоматом и гранатой в руках. Но я-то думал, что в засаде еще несколько.
– Девушки вблизи не было?
– Ты не видел какой-либо девушки вблизи, кретин? – повторил лейтенант вопрос Штубера.
– Никак нет, господа офицеры. Девушки не было.
– Как выглядел этот партизан? Он был в немецкой форме?
– Нет, господин оберштурмфюрер. В русской. Тоже офицер.
– Какой он из себя?
– Моего роста. Даже чуть повыше. Широкоплечий. Безжалостный жестокий взгляд…
– Взгляд безжалостный? – язвительно ухмыльнулся Штубер. – Жестокий, говоришь, взгляд? И ты сразу же струсил. Ты хотел, чтобы в лесу твою машину со снарядами встречали русские офицеры с нежными девичьими улыбками?
– Нет, господин оберштурмфюрер. Я так не думаю.
– Кретин. Вот так, лейтенант, а вы твердите: «партизаны»… «Встретили, сожгли, взорвали». А напал, оказывается, один. Русский офицер. Окруженец. И это совершенно меняет дело. Документы у этого храбреца изъять – и в машину, под охрану. Остальное он мне расскажет в штабе… за чашкой кофе… А, внебрачный сын рыцаря Львиное Сердце?
Штубер еще раз измерил язвительным взглядом сначала водителя, потом лейтенанта и пошел к своей машине.
Значит, вот где в это время был Беркут! Промышлял на дороге. Ему нужно было оружие? И все, только оружие? В любом случае, взорванная машина с боеприпасами – за погибшего, дорого отдавшего свою жизнь солдата… Неплохой размен, Беркут, неплохой. Тогда, может быть, пойти в этих логических рассуждениях дальше: Беркут – не обычный армейский офицер, а специально подготовленный диверсант, которыйдолжен создать здесь, в тылу, диверсионный отряд? Вполне можно допустить и то, что Беркут диверсант-одиночка. Хотя до сих пор о таких он не слышал. Впрочем, он еще многого не знает, ведь война с большевиками только-только начинается. Еще не захвачена даже половина Украины.
34
Дом Залевского, как назвал себя старик, Громов отыскал поздним вечером.
Старик и его жена встретили лейтенанта довольно приветливо. Только семнадцатилетний Янек, которого старик представил как племянника, с первой же минуты отнесся к нему с недоверием. Не успел Громов переступить порог, как парнишка начал расспрашивать, где он служил, где находился его дот, какое офицерское училище заканчивал…
Янек был рослый, крепкий, на вид ему можно было дать все девятнадцать. Однако слишком уж выпирала мальчишеская наивность, когда он пытался устроить Громову допрос. Но что самое любопытное – ни старик, ни хозяйка даже не пытались усмирить племянника. Наоборот, каждый раз, когда Громов тактично отказывался отвечать на вопрос, осаждая парнишку словами: «Это не имеет значения», – старик внимательно, изучающе смотрел на гостя.
«Странно, – подумал лейтенант, – Залевский ведет себя так, будто и не было встречи в лесу, не было замученного красноармейца, не было похорон. Что-то не похоже, чтобы Янек устраивал эту проверку по собственной инициативе. Неужели они успели создать подпольную организацию? Тогда это меняет ситуацию».
Скрасил эти первые часы его пребывания в гостях небольшой сюрприз: оказалось, что в доме есть нечто среднее между большой ванной и миниатюрным бассейном. Эта ванна-бассейн была вымощена в кирпичной пристройке, и к моменту появления Громова туда уже была набрана вода. Янеку только осталось долить котел кипятка и сказать: «Проше пана, королевская купель ждет вас».
Да, это было настоящее блаженство. За такой сюрприз Громов готов был простить Залевским любую проверку.
Одежду из ванной Янек унес, сказав, что принесет ему цивильную, а эту тетя постирает. Но в дверную щель Громов увидел, как, едва переступив порог, парнишка начал ощупывать его гимнастерку. У лейтенанта уже не оставалось сомнения, что, пока он будет смывать с себя грязь войны, они там, в комнате, старательно прощупают каждый рубец. Но даже это не особенно встревожило его.
– Как ванна, герр офицер?
– Спасибо, великолепная, – поблагодарил Громов, с наслаждением потягиваясь в ванной, и только сейчас сообразил, что Янек-то говорит с ним на немецком.
– Боюсь, что рубашка может оказаться для вас несколько маловатой, герр офицер, – совершенно переменившимся тоном сказал парень, ловко подхватывая одной рукой лежавший на стуле автомат, а другой бросил на стул одежду. – Извините, другой у нас нет.
В ту же минуту Громов заметил, что в дверях появился еще какой-то мужчина, которого раньше в доме он не видел. Ему было лет сорок. Худощавый, подтянутый. Однако китель на нем… нет, это был не вермахтовский китель. Неужели перед ним польский офицер? Божественно!
– Пардон, лейтенант, автомат и гранаты только мешают вам, – язвительно заметил Янек, проскальзывая с оружием мимо незнакомца.
– Не дури, парень. Веди себя повежливее.
– Я довольно хорошо воспитан.
«Ловко же ты попался на эту словесную удочку, “герр офицер”, – с досадой подумал лейтенант, надевая кальсоны, старые, но старательно отутюженные брюки и широкую, стираную-перестираную рубаху. Все это оказалось разных размеров, однако носить в общем-то можно было. Неприятным оказалось другое: вместе с обмундированием из комнаты были унесены и сапоги. А вот о туфлях или тапочках хозяева не позаботились.
35
Через некоторое время Громов так и предстал перед стариком, Янеком и тем, в мундире, босиком, с незаправленной в брюки сорочкой. Поляки сидели за столом. Все по одну сторону. Незнакомец посредине, а старик и юноша по бокам. Молчаливые и суровые, словно тройка военно-полевого суда. А Громов стоял перед ними, как человек, которому уже не до одежды, знающий, что через несколько минут его выведут и расстреляют. Этим троим не до формальностей.
– Пан-товарищ Залевский, насколько мне помнится, я пришел сюда в сапогах, – спокойно заметил лейтенант, мельком оглядывая стол. Пистолет незнакомца лежал на его, Громова, раскрытом офицерском удостоверении. Рядом, ближе к парнишке, отливал чернотой шмайсер.
– Вы уверены, что они понадобятся вам, герр офицер? – в голосе незнакомца не было и тени насмешки, поэтому он казался еще более зловещим.
– Они понадобятся мне в любом случае.
– Пол теплый, несколько минут потерпишь, – сказал незнакомец по-русски, но с заметным польским акцентом. И уже по-немецки добавил: – А тем временем ответишь на несколько вопросов.
– Вы, недоученный контрразведчик, – бросил ему Громов. – На немецком вы говорите еще отвратительнее, чем на русском. Так что говорите уж лучше на польском, я вас отлично пойму. И прежде всего на любом из этих языков представьтесь.
– Можете присесть, герр офицер, – сказал незнакомец. – Зовите меня Казимиром. Это имя легко запомнить.
– Спасибо, я постою, пан Казимир, – и отступил еще на шаг от стула, на который его хотели усадить. – Итак, я жду объяснений.
– Слушай, ты, фашистская вша! – разъяренно прорычал Казимир на польском. – Я тебе сейчас дам такие объяснения, что ты у меня кровью плеваться будешь. А потом пойдешь туда, куда ты или твои дружки отправили этого русского лейтенанта, – ткнул он костлявым пальцем в удостоверение. – Кто ты такой? Фамилия, звание? Тебе повторить на русском, на немецком?
– Лучше на немецком, – улыбнулся Громов, чувствуя, что улыбка дается ему с большим трудом. Ситуация была идиотская. Он понимал, что вряд ли сможет что-либо доказать, а в том, что Казимир, или как его там, готов хоть сейчас разрядить в него обойму, не сомневался.
– Слушайте, отец, – обратился он к хозяину уже совершенно иным тоном. – Вы пригласили меня, и я пришел. Я не знаю, кто этот человек, – кивнул в сторону Казимира, – но ведет он себя по-хамски.
– Он так и должен вести себя, – невозмутимо ответил старик. – Объясните мне: как получилось, что вы вышли на меня?
– Я вышел на вас? Насколько я помню, это вы окликнули меня там, в лесу.
– Да, окликнул я, так было. Но вы же оказались там не случайно.
– Вы отлично знаете, почему я оказался там. Меня должен был ждать сержант Крамарчук, последний боец гарнизона дота, комендантом которого я был.
– Комендантом которого был лейтенант Громов, – уточнил Казимир. – И которого вы схватили, – он окончательно перешел на русский. – Кстати, дот, которым вы якобы командовали, фашисты завалили камнями и залили раствором.
– Боже, какие точные сведения! По-моему, я сам рассказал об этом старику. А на удостоверении моя фотография.
– Не сомневаюсь. С таким же успехом на нем могла оказаться и моя. Хорошо, вы были комендантом дота… Как же вы тогда выбрались из него?
– Обнаружили ход. С помощью нескольких гранат расширили его.
– В дотах не было подземных ходов и запасных выходов. Нами установлено это совершенно точно. Мы еще удивлялись, почему русские не позаботились об этом. Ведь строили, по существу, не доты – целые подземные крепости. Последнее слово фортификационной мысли.
– Кто это «мы»? Хотите сказать, что у вас тут создана мощная подпольная организация? И она настолько нашумела, что гестапо решило подсадить к вам своего агента?
– Мы – это группа польских патриотов, – с вызовом ответил Янек, – которая… – но Казимир опустил руку ему на плечо, и тот замолчал.
– Группа польских патриотов, действующая на Украине? Вполне приемлемый вариант. Враг у нас общий, значит, мы союзники. Я – офицер Красной Армии, комендант дота № 120. Вместе с сержантом Крамарчуком мы сумели вырваться из него. Утром в лесу, неподалеку от того места, где находится заброшенная хата лесника, я уничтожил машину с боеприпасами. Гранаты, с которыми я пришел (гранат на столе не было, и Громов понял, что «группа патриотов» уже припрятала их для себя), – из ящиков, захваченных на вражеской машине.
– У нас нет времени проверять вашу легенду. У нас здесь не отдел армейской контрразведки.
– Но проверить акт уничтожения машины все же можно. Судя по форме, вы офицер польской армии?
– Об этом нетрудно догадаться. Китель я надел специально для вас.
– Как вы оказались здесь?
– Решили, что настало ваше время задавать вопросы? – процедил Казимир сквозь сжатые зубы. – Чтобы вы не мучились, отвечу: я оказался здесь намного раньше, чем вступили немцы. Еще тогда, когда русские захватили наши галицкие и карпатские земли.
– Вы отлично знаете, что это украинские земли. Исконно украинские. Но, думаю, сейчас не время дискутировать по территориальным вопросам. Тем более, что мы с вами мало похожи на дипломатов, ведущих переговоры об определении новых границ. Насколько я понял, вы были резидентом польской разведки? Мне приходилось слышать о работе ваших людей, еще когда я служил на западном Буге. Странно только: слишком далеко вас забросили.
– А это тоже польские земли, – снова вмешался Янек. Чувствовалось, что Казимир зря времени не терял, успел вдолбить в голову этого мальчишки все азы великопольской философии. – Когда-нибудь они снова будут принадлежать Польше.
– Приятно видеть человека, который мечтает об этом сейчас, когда разорена и сожжена сама Польша, – заметил Громов. – Интересно, кому же вы теперь служите, господин надпоручик или как вас там?
– Польше. Только ей.
– И что, намерены один сражаться сразу на всех фронтах – и против немцев, и против русских, а также украинцев, румын и всех прочих?
– Сначала мы поможем русским выбить отсюда немцев и их союзников, – спокойно сказал Казимир, закуривая сигарету. – Потом будет видно… У вас все вопросы? Мне не хотелось бы затягивать эту светскую беседу до утра. Закончим ее к полуночи. Сразу же объясню вам: в лесу старик был не один. Там были еще я и этот юноша. Дело в том, что неподалеку есть моя летняя резиденция. Хорошо замаскированная. Так вот, когда старик ушел, я продолжал следить за вами. Вы ни с кем не контактировали, были в доте, потом в ельнике. Следовательно, никто не знает, где вы сейчас находитесь.
– Какая логика!
– Кроме того, вы не знали и не могли знать, что неподалеку окажется именно этот старик. Ваша задача была войти в доверие тех, кто появится возле распятия. Ну а старик оказался там случайно. Он возвращался от меня.
В лесу было неспокойно, мы слышали звуки боя, поэтому какое-то время я сопровождал старика, до того момента, когда вы встретились. И даже видел, как хоронили.
– Почему же не вмешались, если слышали, что идет бой?
– Я не Робин Гуд. Один против полсотни врагов в бой не вступаю. По крайней мере до тех пор, пока мне его не навяжут. Все, вопросы исчерпаны. Больше ответов не будет. Ваше имя, звание нас уже не интересуют. Кто должен выйти на связь с вами? Где и как это должно произойти? Кроме того, нас интересует, известны ли вам какие-нибудь имена польских подпольщиков.
– Я вам уже объяснил, кто я такой. Там, в удостоверении, есть записка, составленная сержантом Крамарчуком в доте. Она адресовалась мне.
Казимир отодвинул пистолет, взял бумажку, которую уже наверняка изучил, и начал читать, элегантно сбивая указательным пальцем левой руки пепел сигареты. «Комендант, прощай. Даю последний бой. Отомсти за меня. Кра…»
Дочитать Казимир не успел. Прыгнув на стол, Громов сильнейшим ударом ноги в шею сбил Казимира со стула и, подхватывая автомат, пяткой правой ноги нанес несильный, но резкий удар в голову Янека.
Уроки охотника Дзяня. Мог ли он предположить, как далеко от Дальнего Востока и в какой ситуации придется их впервые применить его ученику?
– Лежать! – крикнул он, полуприсев на столе и поудобней перехватывая автомат. – Старик, лицом к стене! Руки вверх!
Старик молча повиновался. Казимир, схватившись руками за глотку, катался по полу. Янек, похоже, еще был без сознания. Сунув пистолет в карман, Громов спрыгнул со стола, быстро ощупал офицера. В кармане у него был еще один пистолет. Совсем маленький. Он слышал о таких: их называли кто швейцарскими, кто дамскими. Говорят, были такие и у польских разведчиков, которых удавалось задержать на границе. Никакого оружия, кроме примитивного самодельного кастета, у Янека не оказалось. Отбросив его в сторону, Громов навел пистолет на старика и потормошил парня за волосы. Тот что-то промычал, но в себя так и не пришел.
– У тебя оружие есть, отец?
– Нет.
Он не поверил, подошел, чтобы обыскать. В это время старик развернулся и ударил рукой по автомату, который Громов держал в левой. Ударил неплохо, но выбить не смог, только отбил руку к груди.
Ударить его в ответ Громов не решился. Просто развернул к стене и обыскал. Пистолет был сзади, за брючным ремнем.
– Ты что, тоже разведчик?
– Тоже, – дрожащим голосом ответил старик. – Сдал я, как видишь. Да и не учили нас тогда, в наше время, всему этому. Это сейчас…
– Оттащи Янека в угол. Я еще раз обыщу офицера. Только не дури, пристрелю сразу же.
Старик молча подошел к парнишке, поднял его за шиворот и потащил в угол.
Громов ощупал спину офицера и, к своему изумлению, извлек из-за ремня еще один пистолет.
– Он что, ходячий арсенал? Где еще? – спросил старика. – Где еще, я спрашиваю! – крикнул Андрей, видя, что офицер уже приходит в себя.
– За голенищем, герр офицер.
Там была небольшая финка с лезвием, узким, как жало змеи.
– Тащи его.
Старик еле сдвинул Казимира с места. Но тот уже пришел в себя и, выругавшись по-польски, попытался встать.
– Лежать. В угол! Старик, посмотри, что с мальчишкой. Он жив?
– Живой, – ответил старик, даже не склонившись над Янеком. Висевшая на стене большая керосиновая лампа почему-то пригасла, и комнате стало темновато. Поэтому сам Громов рассмотреть лица мальчишки не мог. Тем временем Казимир сел.
– Неплохо выучили тебя, вошь фашистская, – прохрипел он, растирая рукой шею. Другая рука его потянулась за спину под китель.
– В голенище тоже ничего нет, – успокоил его Громов, подходя к столу и забирая свои документы.
Пришел в себя и Янек. Он что-то пробормотал, потом вдруг подхватился и ошалело осмотрел всех, кто был в комнате. Видимо, ему очень трудно было понять, где он и что здесь происходит.
– Извините, другого выхода у меня не было, – сказал Громов. – Но, в отличие от вас, я не буду столь маниакально недоверчивым. Если бы вы меньше горячились и спокойнее проанализировали ситуацию, вы бы поняли, что все ваши подозрения абсурдны.
– Я же говорил тебе, Казимеж, – проворчал старик. – Напрасно ты все это затеваешь.
– Помолчите, капитан.
«Надо понимать, бывший капитан, – подумал Громов. – Для службы он слишком стар».
– Ну ладно. Что будем делать, братья-славяне? Как расставаться? Я склонен думать, что мы все же больше союзники, чем враги, даже учитывая, что у нас разные взгляды на некоторые территориальные проблемы. Я прав, капитан? – обратился он к старику.
– Прав. Казимир никому не доверяет, это у него в крови.
– Закройте рот, пан капитан!
– Вы ведете себя, как истеричка, – заметил Громов. – Я понял, что мы с вами ни о чем не договоримся. Поэтому давайте поступим так: снимайте сапоги.
– Что?!
– Я говорю: снимайте сапоги. Капитан, переведите ему по-польски. Здесь теплая земля, Казимир. Снимайте, иначе я сниму их вместе с вашей башкой.
– Ваши сапоги в коридоре, – понял Казимир.
– Да что вы говорите?! Отец, принесите их. Надеюсь, пулемет у вас там не припрятан?
Старик молча принес сапоги, поставил их возле стола, за которым стоял Громов, и вернулся в угол. Лейтенант положил автомат себе на колени и, не сводя глаз с троицы в углу, не спеша обулся.
– А теперь вы, пан офицер Войска польского, разуйтесь. Я приказа не отменял.
– Я – офицер, – поднялся наконец с пола Казимир.
– Да? А я, по-вашему, кто, хвост собачий?! Но у вас же хватило наглости разуть меня и держать перед собой босым, как уличного воришку. Разувайся! – пошел на него Громов.
Ожидая нового прыжка и удара, Казимир съежился, страдальчески взглянул на Громова, на старика и Янека, стоявших с опущенными головами, сел на пол, стянул сапоги и отшвырнул их от себя.
– А теперь вон отсюда! Босиком! И чтобы духу твоего здесь не было!
Казимир грузно поднялся и, понурив голову, вышел из комнаты.
– Ладно, – сжалился в последнюю минуту Громов. – Выбросьте ему сапоги на улицу, капитан. И пусть поскорее убирается со двора.
– Это придурок, – проворчал старик, подбирая сапоги Казимира. – Я всегда говорил, что он сумасшедший. Когда-нибудь он всех нас погубит.
– Ничего, насмотрится на то, что здесь будут творить фашисты, сразу поумнеет.
36
– Как чувствуешь себя, парень? – спросил Громов у Янека, когда, взяв сапоги, старик вышел во двор.
– Гудит голова. Покажете мне, как вы бьете?
– Если будет время. Как видишь, сейчас не до этого. Давно ты в группе Казимира?
– Недавно.
– Казимир – это его настоящее имя?
– Не знаю. Мы все называем его так. А вообще-то он майор Войска польского.
– Вот как? Божественно. Садись за стол, поговорим. – А когда Янек сел, продолжал: – Скажи, ты действительно хотел бы по-настоящему сражаться против фашистов?
– Конечно. Иначе бы я не сотрудничал с Казимиром.
– Родился ты в этих краях?
– В этих. И учился здесь. Мать умерла. Отца, вернее, отчима моего призвали в армию. Теперь я живу здесь, с дядей.
– Где-нибудь работаешь?
– Работал на мельнице. Пока не пришли фашисты. Завтра снова попробую устроиться на работу. Уже сейчас очень плохо с продуктами. Дяде трудно.
– Понятно. Устраивайся. Это нам пригодится. И пойми: бредить тем, чем бредит Казимир, не стоит. Сейчас главное – сражаться с фашизмом. Один убитый оккупант Украины – это и один убитый враг Польши. Разве не так?
– Дядя говорил мне то же самое. Но он боится Казимира.
– Что, твой дядя действительно в чине капитана? Или по крайней мере когда-то был им?
– Нет, когда-то давно он был старшим лейтенантом. А Казимир сказал, что его повысили. Дядю это рассмешило. Ведь он уже старик. Но все же ему приятно, что в Польше его не забыли и до сих пор считают офицером. Хотя он мог и обмануть.
– А живет он здесь давно? Я имею в виду твоего дядю.
– С двадцатого года. По-моему, его заслали сюда, чтобы он жил, работал… Но потом многие годы его никто не трогал. Пока в позапрошлом году сюда не прислали Казимира.
– Спасибо, парень, ты помог мне многое понять.
– Вы будете считать меня предателем? Я не имел права рассказывать.
– Ты ведь рассказал только потому, что понял: мы – союзники. Тем более что ты вырос на этой земле. Это твоя родина. Разве я не прав?
Янек молча пожал плечами.
– Ну и божественно.
Во дворе послышались чьи-то приглушенные голоса. Слышно было, что хозяин кого-то уговаривал, а потом уже приказывал уйти.
– Что там происходит? – спросил Громов, метнувшись к окну.
– Там есть еще один наш. Это сосед, Владислав. Он охранял нас. Видимо, Казимир рассказал ему, что здесь произошло, и…
– Выйди, помоги дяде. Кстати, где мои гранаты?
– В той комнате.
– Скажи, что, если они не уберутся отсюда, я вдребезги разнесу весь этот дом.
Янек исчез за дверью, а Громов метнулся в другую комнату. Там, на стуле, лежал его мундир, который старуха обещала постирать, а под стулом, прикрытые тряпкой, – гранаты. Громов быстро переоделся. Когда Янек и старик вернулись, он уже стоял у окна в форме, с засунутыми за пояс гранатами.
– Они что, хотели войти и разоружить меня? – спросил лейтенант.
– Я же говорил, что этот Казимир – придурок, – мрачно ответил старик. – А Владислав не сразу понял, что происходит. Он тоже думает, что вы – немец. Сейчас он забрал Казимира к себе. Кажется, я им все объяснил. К тому же вблизи появился немецкий патруль.
– Из этого дома есть подземный выход?
Старик вопросительно посмотрел сначала на Янека, как бы спрашивая: «Неужели успел разболтать?», – потом на Громова.
– Есть. Под огородом – каменная пещера. Напрасно вы надели мундир. Придет старуха, постирает. Она у соседки. Не собираетесь же вы уходить.
– Да уж спасибо, приютили, обогрели… Никогда бы не подумал, что вслед за вашим приглашением последует такой спектакль.
– Я еще пригожусь вам, пан офицер, – покаянно молвил старик. – И я, и этот дом. Не надо мне мстить. Я ведь понимаю, что вы здесь не один. Где-то в лесу или в городке есть еще ваши люди. Так что вам понадобятся и связной с городским подпольем, и надежная квартира. Мы договорились, пан офицер? – с надеждой посмотрел он на Громова.
– Хорошо. Будем считать инцидент исчерпанным. Мои люди не тронут вас, это я гарантирую. Вот ваш пистолет.
– Пусть лучше он будет у вас, так вам будет спокойнее. Оставайтесь здесь. Спать будете в той, крайней, комнате. Дверь закроете на засов. Оттуда вход в подземелье. Охранять нас будет Янек. Если случится облава, он предупредит.
– Помните, я говорил вам, что хотел бы найти одного человека. Он живет в деревне, как ее?..
– Помню. Липковое. На городской мельнице работает знакомый паренек. Именно из этой деревни. Я расспросил его… как бы между прочим. Но потом, грешный, подумал, что это вам уже не пригодится.
– Еще бы! Янек, хочешь пойти со мной в эту деревню? Это будет твоей первой боевой операцией. Речь идет об одном предателе.
– Он пойдет, – ответил старик за парнишку. – Только это не первая его операция. На его счету уже три фашиста.
– Ого! – с уважением посмотрел Громов на Янека. – Тогда тем более. Вдвоем будет легче. Опыт есть опыт.
37
Прошло четверо суток после неудавшейся операции по захвату лейтенанта Беркута, прежде чем Штуберу доложили, что Готванюк наконец появился в деревне и наведался домой.
– Его арестовали? – поинтересовался оберштурмфюрер. Было раннее утро, и он только что поднялся. Спал Штубер на солдатской кровати, укрываясь солдатским одеялом. Всем своим бытом он подчеркивал, что не позволяет себе ничего такого, что бы выделило его в отряде. Войну и роскошь он считал несовместимыми.
– Пока не трогали, – ответил Зебольд. – Проследили. Прячется у старухи, дальней родственницы. Но поздним вечером наведывался к семье.
– Прелестно, мой фельдфебель, прелестно. – Это «мой фельдфебель» он продолжал произносить, пародируя подобострастное «мой фюрер», пытаясь хотя бы в такой форме выразить аристократическое презрение к «несостоявшемуся ефрейтору».
– Родственники должны быть расстреляны во дворе и там же погребены, – то ли переспрашивал фельдфебель, то ли повторял давний приказ.
– Окруженец обязательно должен присутствовать при экзекуции, – напомнил Штубер. – И сам засыпать яму. Да, медсестру не обнаружили?
– Пока нет. Вполне возможно, что она нездешняя и каким-то образом ее переправили поближе к фронту.
– А мне известно, что гарнизоны дотов комплектовали в основном из местных.
– Поиски будут продолжены, господин оберштурмфюрер.
– Но предупреждаю: медсестру не трогать. Организовать слежку. Где-то рядом с ней может оказаться Беркут.
Штубер спешил. Три дня назад он передал со старым другом отца, полковником, вылетевшим в Берлин, письмо, в котором просил помочь ему перейти в группу войск, движущихся на Москву. В разведку, в гестапо, да хоть в строевую эсэсовскую часть, лишь бы они действовали на московском направлении. Он отлично понимал, что главные события развернутся там и лавры пожнут те, кто войдет в столицу русских или по крайней мере прольет кровь на ее подступах. Не зря его старый друг Отто Скорцени не захотел оставаться ни в Берлине, ни в какой-либо тыловой службе, а сражается, командуя взводом в эсэсовской дивизии «Рейх». Он знает, что сам факт участия в боях на Восточном фронте – это уже политический капитал.
Какие битвы и какие войны возможны после падения России? Блицкриг в Англии? Война флота и авиации с Америкой? Все это уже не то. Войны против европейских стран и против Америки не станут столь популярными. А в аристократических кругах они вообще будут встречены с негодованием. В конце концов, речь идет о странах западной цивилизации, с которыми у многих аристократов и промышленников давно налажены коммерческие и иные связи.
Если письмо было доставлено отцу сразу же, через неделю может прийти распоряжение относительно его дальнейшей судьбы. И к тому времени Штубер уже хотел бы видеть Беркута перед собой. Он постарался бы определить его в диверсионную школу, чтобы потом иметь под рукой опытного, хладнокровного, а главное, истинно своего человека из местных. Если же Беркут не даст согласия сотрудничать, он постарается поместить его в лагерь для военнопленных, под особый надзор, для раздумий, чтобы со временем вернуться к прежнему разговору.
Но даже если вербовка не удастся, разоблачение диверсанта такого ранга ему все равно зачтется.
38
Утром, когда Громов уже позавтракал вместе с Залевским, в доме снова появился Казимир.
– Я без оружия, – предупредил он еще с порога, видя, что лейтенант схватился за кобуру. – Надо поговорить.
– Ну, если надо. И если хозяин пригласит тебя…
– Заходи, заходи, Казимир, – отозвался старик. – Есть хочешь? Мы уже позавтракали…
– Добрые люди тоже не оставили меня голодным, – он присел к столу, резко отодвинул от себя краюху черного хлеба, внимательно посмотрел на Громова. – Я ночевал у одного знакомого, возвращаться в лес было далековато. Этот мой хороший знакомый, с которым я могу говорить откровенно…
– Зовут его Владислав. Вчера ты пытался уговорить его, чтобы он ворвался в дом вместе с тобой. Чтобы взять реванш. Поэтому объяснения лишние. Насколько я понял, он и сейчас дежурит у дома.
– Ничего не поделаешь, должен же быть кто-то, кто мог бы предупредить нас, что у ворот появились фашисты. Кстати, мы проверили: вчера действительно была взорвана машина с боеприпасами. Немцы оцепили весь тот район. Пошел слух, что в округе появился специально подготовленный диверсант, нападающий на машины. В близлежащих селах швабы провели облавы. Дорогу теперь будут патрулировать.
– Как много шума из-за одной машины, в то время, когда гибнут целые дивизии, – облегченно вздохнул Громов. – Вот твое оружие, Казимир. Я – человек, случайно оказавшийся в этом доме и в вашем обществе. У меня свой путь и свои проблемы. Но, думаю, мы не должны забывать о существовании друг друга. Я вижу, что у вас действительно есть неплохая агентурная сеть. Понятно, что, хотя я советский строевой офицер, а не немецкий контрразведчик, раскрывать эту сеть вам не хочется…
Казимир как-то слишком поспешно и стыдливо спрятал пистолеты, засунул нож за голенище.
– Тебе нужна наша помощь?
– Я уже попросил о ней Янека. Нужно сходить в одно село. Там должен находиться человек, предавший того красноармейца, которого фашисты распяли.
– Зачем рисковать жизнью мальчишки? Пойдем вдвоем. Я и сам чувствую, что засиделся. Надо сражаться. Мы с Владиславом думаем над тем, как бы создать польский отряд сопротивления. На примете уже есть несколько надежных людей. Кстати, этот, предавший, он что, был из твоего гарнизона?
– Нет, случайный окруженец.
– Хорошо. Выступаем вечером. Сейчас я уйду отсюда. А в шесть вечера встретимся за селом возле скалы, на которой вырезан крест. Капитан объяснит, как туда пройти.
– Возьмите и Янека, – вмешался старик. – Лучше пусть он побудет с вами. Он связался здесь с несколькими мальчишками, с которыми убил тех «своих» фашистов, и, по-моему, пытается создать молодежное подполье. Боюсь я за него. Это безумная храбрость, а в таком деле нужен трезвый рассудок и жизненный опыт.
– Немцы! – вдруг ворвался в комнату невысокий, совершенно лысый человек, даже сейчас, в июле, одетый в короткую кожаную куртку.
– Сколько их? – не оглядываясь, спросил Громов.
– Трое. Приехали на подводе. Идут сюда.
– Выйди, капитан, – обратился Казимир к хозяину. – Спроси, что им нужно. Очевидно, это обозники.
– Старик говорил, что здесь есть подземелье, – Громову понравилось, как держится Казимир. Правда, он понимал и то, что сейчас всем своим поведением майор старался изменить впечатление о себе.
– Успеем, лейтенант. Зайди в ту комнату. Ты в форме. Вообще-то пора сменить ее на более удобную. Можно даже повысить тебя в звании.
– У вас есть немецкая форма?
– И даже офицерская. Она здесь. Две половицы у печки. Там вход. Отодвинь шкаф. Фонарик в нише.
Громов метнулся в комнату. Дернул шкаф. Он не поддался. Тогда лейтенант чуть приподнял угол с другой стороны и почувствовал, что вся эта махина довольно легко сдвинулась с места, открыв под собой узкую деревянную лестницу. Уже спускаясь по ней, Андрей заметил, что в неглубокой нише что-то блеснуло. Он захватил угол шкафа, задвинул его на место, оставив лишь небольшую щелочку, и включил фонарик.
39
Подземелье показалось слишком мелким и миниатюрным. В нем почти невозможно было развернуться. Но, старательно ощупав боковые обшивки, он обнаружил узкую, состоявшую из двух досок, дверь. Протиснулся в нее и оказался в комнатке. Здесь было не так сыро, как за стеной, и это сразу же делало тайник более уютным.
Громов осветил его. Двухъярусные, застеленные серыми одеялами нары, столик, лампа, а рядом – немецкий автомат и три магазина с патронами. Две лимонки. На стене нечто среднее между большим тесаком и маленькой сабелькой. Видно, отсюда и начинался ход, который выводил к оврагу, но искать его было некогда.
Мундир, довольно аккуратно сложенный, лежал на стуле. Еще плохо представляя себе, что он сможет предпринять, Громов вдруг почувствовал непреодолимое желание переодеться и выйти. В доме – Казимир и его люди, они поддержат. Более подходящего случая испытать себя в роли немецкого офицера ему все равно не представится.
Одеваясь в нижнее офицерское белье, Громов брезгливо осмотрел его. Нет, следов крови не видно. Дыр тоже. Сняли аккуратно, с живого.
Китель показался ему тесноватым, но все же его можно было застегнуть.
Он уже был на лестнице, когда шкаф съехал в сторону и в просвете показалась лысина Владислава.
– Пан офицер, назад! Янека схватили.
– Где?
– Во дворе. Обыскали. Старик уговаривает немцев.
– Сейчас, – прошептал Громов. – Дай выйти.
– Матка боска, – встретил его в соседней комнате Казимир. – Он стоял бледный, с его, Громова, автоматом в руках, и, прижавшись к стене, наблюдал через окно за тем, что происходит в огражденном высоким каменным забором дворе Залевских. – Придется ввязываться в драку. Но тогда все пропало: дом, тайник…
Сунув пистолет за пояс брюк, Громов рванулся в коридор.
Появление на крыльце сонного, потягивающегося немецкого капитана было настолько неожиданным для троих обозников, что они на какое-то мгновение замерли от удивления. Один из них держал под прицелом Янека, другой обыскивал старика, третий с пистолетом в руке подстраховывал своих товарищей.
– Отставить! Смирно! – гаркнул капитан, только сейчас, с некоторым опозданием, поняв, что здесь происходит. – Что случилось? Что за люди? Почему обыск?
– Господин капитан, – бросился докладывать тот, что стоял с пистолетом в руке. – Это партизаны. Этот пистолет обнаружен у парня. Старик заодно с ним. В этом доме…
– Еще раз обыскать обоих, – прервал его офицер.
Пока немцы старательно исполняли приказ, Громов подошел к воротам и выглянул. Невдалеке стояла подвода. Немцы в самом деле были обозниками. По ту сторону улицы проходил румынский патруль. Увидев у калитки немецкого капитана, офицер и солдаты вежливо отдали честь.
Громов закрыл высокую калитку, задвинул засов и остановился возле нее.
– Ну, что там, ефрейтор? – небрежно спросил у того, что стоял с пистолетом (винтовка была у немца за спиной).
– Больше ничего нет. У старика оружие не нашли. Но это партизаны. Если вы здесь остановились, господин капитан…
– Двое останьтесь здесь. Присмотрите за этими. Только не надо шума. Ефрейтор, за мной. Осмотрим дом. Я хочу спать спокойно, – он подошел к Янеку и несильным ударом двинул его в скулу. Парнишка отлетел к стене. – Смотрите, не упустите их. Что за пистолет? – остановил он ефрейтора уже на крыльце.
– Немецкий, господин капитан, – протянул ему оружие. – Видно, убили офицера.
Громов открыл перед ним дверь, а как только ефрейтор вошел в комнату, сорвал с него винтовку и сильным ударом в затылок свалил на пол.
– В подвал его, – скомандовал Казимиру.
– Владислав, – позвал тот, – займись. Что дальше, лейтенант?
– Зайди в соседнюю комнату. Введите сюда обоих! – крикнул он с крыльца.
Первым вошел старик.
– Ты подожди в той комнате, – грубо оттолкнул его Громов. – Этого сюда. Садись за стол.
В той комнате послышалась какая-то возня, и солдат, вошедший первым, вопросительно посмотрел на офицера.
– Загляни, что там, – приказал ему Громов.
Солдат осторожно заглянул туда. Кто-то из тех, что были в комнате, ударил его по голове. Но удар оказался недостаточно сильным и точным. Прогремел выстрел, и сразу же послышался приглушенный крик раненого человека.
Громов отбил ствол винтовки другого конвоира и негромко приказал по-немецки: «Руки!»
Янек сразу же бросился на стрелявшего. Но тот оказался крепким: ругань, возня. Понимая, чем это может кончиться, Громов выстрелил в стоявшего возле него немца. Терять уже было нечего.
Как оказалось, ранен был в руку старик Залевский. Однако на лице его Громов не заметил ни бледности, ни испуга. Отставной капитан Войска польского держался неплохо.
– Янек, во двор! Посмотри, нет ли кого поблизости.
– Дом особняком, – хрипло сказал Казимир, стоя с пистолетом в руке над убитым немцем. – Пистолетные выстрелы не слышны. Винтовочные тоже глуховаты. Вот только нужно отогнать подводу.
– Владислав, переоденься в форму того, первого, – сказал Громов. – Он пришел в себя?
– Уже не придет, я добил. Но переодеться лучше Казимиру, меня знают.
– Действуй, Казимир, – уже увереннее скомандовал Громов. – Заодно внимательно осмотри все вокруг. Нет ли вблизи еще какой-нибудь подводы. И гони к лесу.
– Я заеду в долину. Вынесите убитых к оврагу, – предложил Казимир, переодеваясь. – Попытаюсь увезти их уже сейчас.
40
Через полчаса тела были погружены на подводу и прикрыты сеном. Казимир погнал лошадей к лесу, а все остальные залегли в долине, чтобы в случае необходимости отвлечь фашистов на себя. А когда подвода скрылась в лесу, вернулись в подземелье и через него – в дом.
Прошло более двух часов напряженного ожидания. Владислав не уходил. Янек дежурил во дворе, оглядывая улицу через щель в стене сарая. Это был его давний наблюдательный пункт. Для удобства оттуда в дом был протянут шнур, на концах которого висели звоночки. Благодаря этому нехитрому устройству старик и Янек могли переговариваться.
На улице было неспокойно. Звоночек трижды объявлял тревогу, и каждый раз трое присутствовавших молча переглядывались, решая для себя, что делать, если во дворе появятся фашисты: давать бой или уходить? В конце концов Громов, все еще в мундире немецкого капитана, решил выйти за ворота, чтобы самому разобраться, что там происходит. Он видел, как на соседнюю, начинавшуюся за пустырем улицу выводили какого-то седовласого мужчину. Вслед за ним выбежала причитающая женщина. Немцы сначала отталкивали ее руками и прикладами, а поняв, что унять женщину невозможно, тоже загнали в машину. Может, она сама и попросила их об этом, чтобы разделить участь мужа.
Не успела машина отъехать, как по ту сторону долины, где пригородный поселок уступом надвигался на село, начали раздаваться выстрелы.
Еще через пять минут, в очередной раз выглянув из калитки, Громов увидел, что ко двору тоже подъезжает машина. Фельдфебель уже открыл дверцу, чтобы спрыгнуть и приказать солдатам оцепить двор, но, заметив капитана, замешкался.
– Что происходит? – воспользовался этой паузой Громов.
– Облава, господин капитан. Вылавливаем партизан, большевиков, евреев и окруженцев. В доме все в порядке?
– Только что оттуда доносилась какая-то стрельба, – кивнул Громов в сторону долины. – Поезжайте, выясните, что там случилось.
– Яволь, господин капитан. Поезжай, – приказал фельдфебель водителю.
– Придется вам действительно заквартировать у меня, господин капитан, – вполне серьезно сказал Залевский, наблюдавший за этой сценой из глубины двора. – Лучшего охранника нам не найти.
– Но все еще как-то страшновато, – признался Громов, думая о своем. – Нет уверенности. Чувствую себя слишком скованно.
Его так и подмывало пройтись в форме по поселку, подъехать на попутной в город… Однако отважиться на это он пока не решался. Нужно было привыкнуть к форме, к языку команд, нужны были надежные документы.
Где-то через час появился Казимир. Он устал, мундир пропитался потом. И злой был, как черт.
– Проклятые швабы, – возмущался он. – Как только мы въехали в лес, они начали по очереди оживать. Тот, которого мы свалили первым, чуть было не выпрыгнул с подводы. Бросился на меня. Можешь ты, лейтенант, представить себя везущим по лесу троих по очереди оживающих мертвецов?
– Ты мужественный человек, Казимир. – Так уж получилось, что они сразу перешли на «ты», и Громов не желал изменять форму обращения.
– Мы здесь тоже пережили несколько «приятных» минут, – заметил старик. – Немцы затеяли очередную облаву. Если бы не «герр капитан», нам пришлось бы плохо. Во всяком случае фашисты могли бы хорошенько перетрусить весь дом.
– Ничего, главное, что все позади. Кстати, где Янек? Позови его.
Как только парнишка появился, Казимир тотчас же, в присутствии Громова и Владислава, отвесил ему два подзатыльника, да таких, что у того выступили слезы.
– Ты мог погубить всех нас! – заорал на него Казимир. – Сколько раз я говорил тебе, чтобы не шлялся днем с пистолетом в кармане?! Это тебе не игрушка! Уже сейчас ты был бы в гестапо. А завтра тебя бы повесили. Скажи спасибо лейтенанту. Если бы не он…
– Брось, Казимир, – вступился за парня Громов. – Зачем так? Парню ведь неудобно.
– Ничего. Лучше пусть я сам сверну ему шею, чем это сделают швабы. Никто не говорит, что нельзя рисковать. Но ведь нельзя же попадаться на собственной глупости.
Он хотел еще раз дотянуться до Янека, но Громов, улыбаясь, перехватил его руку.
– Это уже не по-командирски.
– А кто тебе сказал, лейтенант, что я по-командирски? – огрызнулся Казимир. – Впрочем, ладно… Что тебе объяснять?
– Тут, понимаешь, какая штука, лейтенант, – объяснил за него старик, только уже значительно позже, вечером, когда Громов и Казимир собирались идти в деревню. И сделал это так, чтобы не слышал Казимир. – Дело в том, что Янек – сын майора.
– Казимир действительно в звании майора? – несколько некстати уточнил Андрей.
– Да, конечно, конечно. Как бы мы с вами ни относились к нему, но, судя по всему, в польской разведке его ценили.
– И Янек действительно его сын?
– Мать Янека была моей младшей сестрой. На подробностях их отношений с Казимиром я не останавливаюсь, тем более что она умерла. Но с тех пор, как это произошло, парнишка оказался без присмотра. Вот Казимир и волнуется за него. Он и по отношению к тебе был таким агрессивным только потому, что боится за сына. И вообще, если фашисты раскроют эту квартиру, мальчишка останется бездомным. У самого Казимира, конечно же, есть запасная явка. И, наверно, не одна, просто я о них не знаю – он скрывает. А вот куда деваться парню?
– Да… История… Янек-то хоть знает, кто его отец?
– Нет, Казимир запретил говорить ему об этом. Хотя… может быть, парнишка и догадывается. Они ведь очень похожи – не обратили внимания?
– Пожалуй, какое-то сходство есть. И теперь я понимаю, почему Казимир не желает, чтобы Янек шел с нами.
– У вас-то детей, очевидно, еще нет?
41
Вторые сутки Готванюк почти не выходил из дому. Он просто боялся смотреть на могилу, боялся показаться на глаза односельчанам. Теперь он боялся всего, кроме смерти. Как он умолял офицера, чтобы тот расстрелял его вместе со всеми! Отчаявшись, он даже пытался прыгнуть в яму живым, но солдаты перехватили его.
Еще вчера Готванюку казалось, что он сходит с ума. Что обязательно рехнется. И Готванюк ждал этого. Покончить жизнь самоубийством ему пока не хватало мужества, и сумасшествия он ждал, как спасения. Но оно не приходило.
…А ведь до войны он был лучшим плотником и столяром не только в своей деревне, но и во всей округе. Он гордился тем, что вся самая денежная работа приплывала к нему, хотя плотников в окрестных селах было немало. И, конечно же, даже в мыслях не допускал, что кто-либо из мастеров может обойти его в тонкостях этого ремесла. Руки Готванюка знали ту столярную мудрость, без которой мастер – не мастер. А еще он обладал особым восприятием дерева. Так подобрать фактуру шкафа или спинки дивана, как делал он, так украсить резьбой венчик кресла, как делал это Готванюк, сумеет не каждый. Не зря же к нему несколько раз приезжали из областной реставрационной мастерской, приглашали на работу.
В последний раз Готванюк уже чуть было не согласился, но удержала жена. И правильно сделала, что удержала. У них всего один ребенок, всегда свежая копейка, живут получше, чем многие другие, свой дом, хозяйство… Что им искать в городе?
У ворот остановилась машина. Готванюк не поднялся из-за непокрытого стола, не выглянул. За ним? Ну и пусть! Значит, пришла и его пора. Пусть расстреляют здесь же, во дворе. Он готов.
Да, стучат в дверь, но он не отзовется. Дверь открыта, пусть входят. Он вылил в стакан остаток самогонки (спасибо, кум, божий человек, принес бутылку) и выпил. Впрочем, что толку? Все равно ведь не хмелел.
…Это тот самый офицер, который возил его в лес, к доту. Эсэсовец. И с ним фельдфебель. «Значит, пришел и мой час».
– Садитесь, гости дорогие, – бездумно ухмыльнулся Готванюк. – Садитесь, если земля все еще носит вас. Будете закапывать меня живьем? Так вот я. Принести лопату?
Штубер молча сел за стол напротив Готванюка, брезгливо смел с досок зачерствевшие крошки.
– Встань, – приказал Готванюку фельдфебель. – С офицером говоришь…
– Пусть сидит, мой фельдфебель. Тебя, Готванюк, действительно нужно было закопать живьем. Ты струсил на фронте, потом…
– На фронте я не трусил, – почти прошептал Готванюк. – Там я не трусил. А попал в окружение…
– …Потом струсил, выдав место, где прячутся твои товарищи, такие же окруженцы, как ты.
– Но ведь вы же заставили меня. Вы же пытали-мучили меня, как Иисуса Христа!
– Как Иисуса Христа, пытали не тебя, а сержанта Крамарчука, который однажды спас тебе жизнь. Вот его действительно схватили раненым, долго пытали, а затем распяли, как Иисуса. Фельдфебель этому свидетель.
– Истинно так, – подтвердил Зебольд.
– Вот и получается, что, по сравнению с его муками, твои – это забава навозного червя. А в лесу ты снова струсил и сбежал. Но и сбежав, струсил еще раз и вместо того, чтобы пробиться к линии фронта, как это делают многие другие окруженцы, пытался спрятаться дома, как говорят у вас, у жены под юбкой. Вот здесь немецкий лейтенант, потерявший десять своих солдат, и настиг тебя. В войну трус не имеет права выживать, он должен гибнуть первым. Война – это и есть вселенское выявление и истребление трусов. Это избавление от них. А значит, и от подлецов, которые во все времена рождались именно из трусов.
– Ты должен благодарить господина оберштурмфюрера, – как всегда коверкая слова, проговорил фельдфебель, – это он спас тебя от расстрела. Он не мог запретить лейтенанту и его солдатам расстреливать твою семью. Но все же уговорил не трогать тебя.
– Неужели ты сам не понял этого, Готванюк? – вставил Штубер.
– Я уже ничего не понимаю, – пробормотал тот.
– Судьба оказалась милостивой к тебе. И если ты до сих пор не погиб – значит должен наконец набраться мужества. Лейтенант и его люди обошлись с твоей семьей по-зверски – это понятно. Да и старуху наказали. Но, видит Бог, я простил твой побег из леса и требовал не трогать тебя. Ну а семью… Что поделаешь, гибель семьи – это и есть плата за твою трусость.
– А ведь господин оберштурмфюрер и дальше печется о тебе, – снова заговорил фельдфебель. Он уже привык разыгрывать такие сценки. Штубер давал ему общие установки, а уж Зебольд сам высчитывал, когда удобнее ставить ту или иную реплику. – Как раз сегодня он добился, чтобы тебя назначили старостой села.
– Я понимаю, что это несколько неожиданно для тебя, Готванюк. Побег, расстрел родственников – и вдруг такое предложение! Но это реальная возможность снова стать уважаемым человеком. И на селе, и в целом районе.
– Вам-то какой смысл назначать меня старостой? – впервые за эти двое суток ожил Готванюк. Он уже слышал: в соседних селах успели назначить старост, и теперь они там большие начальники. – Я-то думал, вы меня специально оставили. Чтобы помучился пару дней. А потом туда же…
– Правильно вы считали, – вдруг перешел Штубер на «вы». – Логично. Любой другой армейский офицер так и поступил бы. Любой другой, но только не я. Потому что я верю в человеческую судьбу, стараюсь понять ее смысл, ее законы. Словом, это длинный разговор. Так вот, завтра вам официально предложат стать старостой. И вы согласитесь. Вас никто не сможет упрекнуть, что вы выслуживаетесь перед оккупантами, как это пишут в листовках о других старостах оставшиеся в тылу комиссары. Наоборот, вы пострадали. Может быть, больше, чем многие другие. Но, в отличие от многих других, поняли, что пострадали справедливо. И нашли в себе мужество искупить вину. Вы пошли на этот шаг сознательно, поддавшись идеям великого фюрера, веря в непобедимость немецкой армии, гуманность нового порядка. Как видите, я не скрываю, что у нас тоже имеется определенный интерес. Хотя, согласитесь, мы можем обойтись и без Готванюка, нас вполне устроит любой другой староста. Так что вы выигрываете значительно больше, ибо ваш выигрыш – жизнь, положение в обществе, уважение.
«Неужели они действительно не расстреляют меня?! – все еще не верил в свое спасение Готванюк. Ведь сначала ему показалось, что фашист просто решил поиздеваться над ним перед казнью. – Неужто я еще нужен им? Я, труп?»
– В селе мы организуем полицейский участок, – продолжал между тем Штубер. – Так что охрана у вас будет надежная. Дом вы, конечно, попытаетесь сменить. И мы могли бы помочь вам в этом. Но я советовал бы остаться в этих стенах. Могилы во дворе будут каждому напоминать о вашей личной тяжелой участи. Ничто так не вселяет доверие к человеку, как его трудная судьба и его мужество, благодаря которому он сумел преодолеть тяготы своей судьбы. – Вы хотите что-то добавить, мой фельдфебель? – Штубер умышленно не стал выяснять, согласен ли Готванюк.
– Вы забыли сказать, господин оберштурмфюрер, что, если он вздумает ломаться и откажется от поста старосты, ему предложат стать полицаем.
– О да, конечно! Но уже рядовым. А это собачья служба.
– Не стану я ни тем, ни другим, – неожиданно отрубил Готванюк, не поднимая головы.
– Тогда есть третий вариант, – вежливо заметил фельдфебель. – Последний. Тебя отправят в концлагерь. Куда-нибудь в Польшу или в Чехию. И там ты еще несколько лет будешь рабочей силой. Рабом. А потом тебя сожгут в газовой печи. Чтобы твоим пеплом удобрять поля. Вокруг лагерей обычно растет хорошая капуста.
– Но я думаю, что до этого дело не дойдет, – успокоил его Штубер. – Пойдем, мой фельдфебель. Не будем мешать господину Готванюку, господину старосте, наслаждаться своим одиночеством.
42
Громову и Казимиру повезло. Как только они вышли на дорогу, одна из проходящих машин остановилась, и сидевший в кабине рядом с водителем унтер-офицер предложил им подъехать. Он даже готов был уступить капитану свое место в кабине, но садиться туда Громов отказался.
Доставшийся им в попутчики раненый ефрейтор встретил их молчаливо. Он был ранен в шею, но, судя по всему, легко и уже выздоравливал.
– Село, названное унтер-офицером, находится рядом с тем, которое нужно нам? – вполголоса спросил Громов у Казимира.
– Да, в пяти километрах.
– Ехать туда минут тридцать-сорок?
– Чуть больше, господин капитан, – неожиданно вмешался в разговор раненый. – Около часа. Дорога здесь отвратительная.
– Скверная дорога – это точно, – согласился Андрей. – Но под Киевом, где сейчас сражаются наши войска, она не лучше.
– Разве наши уже дошли до Киева? – удивился раненый. – Я слышал, что бои идут только возле этого, как его… возле Житомира. Это уже недалеко от Киева, но все же…
Громов и Казимир переглянулись. Андрей специально запустил этот пробный шар, пытаясь выяснить, что ефрейтору известно об обстановке на фронте.
– А вы, господин унтер-офицер, наверное, из польских немцев, – вдруг обратился ефрейтор к Казимиру.
– Как и господин капитан. Только он раньше уехал из Польши. Намного раньше. Сейчас нашел меня. Спасибо ему, все-таки земляки. Мне будет легче.
«Вот и готова легенда, – подумал Громов. – Молодец, Казимир».
В одном месте машина притормозила и начала медленно съезжать с дороги.
– Что случилось? – выглянул из кузова Громов.
– Два дня назад здесь была взорвана машина, – ответил унтер-офицер. – Видите – огромная воронка. Говорят, появился какой-то террорист-одиночка, лейтенант Беркут.
– Беркут? Впервые слышу. Ну и что? Его до сих пор не вздернули?
– Это не так просто. Говорят, он очень агрессивный, храбрый и неплохо владеет немецким. Этим и опасен.
– Ничего, попадется. Ребята из гестапо и полевой жандармерии знают свое дело.
– Приготовьте оружие, господин капитан. Въезжаем в лес. Беркут бродит в этих местах. Вчера, слышал, пропало трое солдат. Вместе с подводой. Тоже, говорят, его работа.
– Езжайте спокойно, унтер-офицер, – весело посоветовал Громов. – Сегодня нападения не будет. Меня хранит мое везение.
– Становишься известным, – вполголоса сказал Казимир по-польски. Теперь он мог не опасаться за свой язык.
– Чем страшнее легенда, тем больше страха, – ответил ему Громов по-немецки. И по-украински добавил: – Я не честолюбивый, но считаю, что нужно поддерживать эту легенду. Вряд ли солдат сможет отличить польский от украинского.
Они проехали лес. Справа оставалось село, то самое, в котором Андрей расстался с Марией. Вон и дом старика. Как она там?
– Ты-то сам где воевал? – вдруг спросил раненого Казимир.
– Да здесь, недалеко, за Днестром. Командир сказал, что представил меня к Железному кресту. Собираются присвоить унтер-офицера. В госпитале меня проведал товарищ из нашей роты, он и передал.
– За что такие почести? Взяли в плен офицера? – поинтересовался Громов.
– Я в плен не беру. Это не в моих правилах. Поляков мы расстреливали сотнями. Непонятно, почему сейчас требуют: пленных, пленных… Дескать, нужна рабочая сила. Отбирают наиболее здоровых…
– Где ты был в Польше? – прервал его Казимир. – Ты что, и там успел повоевать?
– Там я был во втором эшелоне. Мы сгоняли в лагеря бывших солдат и евреев. Вылавливали и сгоняли. Офицеров сразу расстреливали. С поляками мы вообще не панькались. Наш ротный говорил, что они все подлежат истреблению. Все без исключения.
43
Громов сумел предвидеть, что именно должно последовать вслед за этим признанием, однако предвидение это озарило его слишком поздно, и поэтому упредить реакцию поляка он уже не успел. Казимир выхватил из-за голенища финку, бросился к фашисту и, вцепившись левой рукой ему в глотку, с силой ударил под сердце.
Конечно, майор погорячился: то, что он сделал сейчас, было совершеннейшей глупостью, – однако обсуждать или осуждать его поступок было уже бессмысленно. Прислушались. Мотор работал, как и прежде. В кабине пока не всполошились. Тем не менее эту приятную поездку пора было прерывать. Лейтенант подхватил автомат убитого и выглянул из машины.
– Впереди лесок, – предупредил он.
– В леске-то они как раз могут насторожиться.
– Плевать. Постучишь в кабину. Я объясню, что нужно побывать в кустах. Берешь на себя шофера. Машину когда-нибудь водил?
– Приходилось.
– Божественно. Руль твой. Обоих в кузов – и в лес.
Как только въехали в рощицу, Казимир постучал. Унтер-офицер высунулся из кабины и настороженно поинтересовался, что случилось. Громов объяснил.
– Сейчас, только проскочим эти заросли. Потерпите, господин капитан, они небольшие.
И захлопнул дверцу.
Громов и Казимир переглянулись. Выпрыгивать и убегать?
– Они видели нас. И хорошо запомнили, – процедил Казимир. – А нам еще как минимум два дня предстоит побыть в этой шкуре. Не дадут. Перекроют постами все дороги.
По ту сторону леса, как только впереди открылось село, унтер-офицер сам приказал водителю остановиться возле небольшого кустарника. И сразу же вышел из кабины.
Андрей и Казимир выпрыгнули из кузова, но увидели впереди, на изгибе дороги, мотоцикл с пулеметом, две машины… и снова мотоцикл.
– Ждем, – предупредил Громов, оставаясь у заднего борта машины.
Майор молча кивнул.
Шофер снова вскочил в кабину и съехал на обочину, уступая место колонне.
Все трое сидевших на первом мотоцикле подозрительно покосились на стоявших у левого борта водителя и унтер-офицера, а пулеметчик на всякий случай повернул в их сторону пулемет.
– Что случилось? – высунулся из кабины первой машины офицер.
– Все в порядке, господин лейтенант! Проверка кустов!
Чтобы не привлекать внимание своими погонами, Громов зашел за правый борт. Колонна медленно ползла, пробуксовывая в песчаных колеях. В первой машине был какой-то груз, там сидело два охранника. Во второй машине находилось еще несколько солдат.
– Эй, герой, как дела?! – крикнул унтер-офицер, обращаясь к ефрейтору, который должен был сидеть в кузове. И, поскольку ответа не последовало, пошел к задку.
– Он дремлет, – объяснил Громов. – Пусть отсыпается перед передовой.
В это время Казимир уже был возле сидящего за рулем водителя. Громов не спешил, дал возможность низкорослому унтер-офицеру стать на подножку и заглянуть в кузов. С каждой минутой колонна удалялась все дальше, и это работало на них.
Выстрел из пистолета прогремел сразу же, как только унтер-офицер понял, что произошло, и в ужасе заорал. Он так и повис на борту. Тем временем Громов схватил лежавший у края, на скамейке, автомат ефрейтора и послал длинную очередь по кузову задней машины. Через какую-то долю секунды заговорил и автомат Казимира. В колонне поднялась паника. Опасаясь засады, водители увеличили скорость. Задний мотоцикл развернулся, но выпрыгнувшая из машины охрана, отстреливаясь, отходила вслед за колонной. Она-то и не позволяла пулеметчику вести прицельный огонь.
Громов метнулся к кустарнику, послал еще две очереди, перезарядил автомат и, крикнув Казимиру: «Отгоняй машину!», – побежал к лесу, тем самым приближаясь к колонне. Это было рискованно. Немцы могли остановить машины и развернуться в цепь. Но слишком велик был страх перед лесом и засадой. Колонна уходила все дальше, наконец скрылась за перелеском, и прикрывавшие ее мотоциклисты уже поливали пулеметным и автоматным огнем придорожные кусты. Немцы увидели, что лес небольшой, и пытались во что бы то ни стало побыстрее проскочить его.
– Казимир! – крикнул Громов. – Отходи!
Садиться в машину было опасно. Впереди село. Там слышали выстрелы и уже, наверное, объявили тревогу.
– Казимир! Ты слышишь меня?!
Предчувствуя недоброе, Громов помчался назад к машине. Казимир сидел, прислонившись спиной к переднему колесу. Весь правый бок его был окровавлен.
– Не везет мне сегодня, пся крев, – проговорил он, морщась от боли. – Пулеметчик достал. Дальше иди сам.
– Брось, сейчас мы вырвемся отсюда.
Громов стащил с сиденья убитого водителя, быстро обыскал его. Но пакет обнаружился в сумке, висевшей на задней стенке кабины. Он расстегнул китель майора, однако рубашку снимать не стал, она уже припеклась к ране. Андрей наложил бинт прямо по рубашке, потуже затянул его и только успел подхватить Казимира под мышки, как увидел, что из села, из-за крайней хаты, выбегают и сразу же разворачиваются в цепь фашисты. Их было около взвода.
– Соберись с силами, Казимир. Нужно сесть в машину.
– Это я еще смогу.
Громов усадил его на место рядом с водителем и сел за руль. Водить машину его учили еще шоферы в части отца. Потом немного практиковался в училище. Теперь их наука пригодилась.
Осмотревшись, он попробовал завести мотор, но из этого ничего не вышло. Он выскочил, покрутил ручкой. Казимир пытался что-то подсказывать ему, но машина была мертва. В очередной раз бросаясь к заводной ручке, лейтенант увидел то, чего не сумел заметить раньше: стенка мотора была прошита очередью.
– Казимир, – сел он рядом с майором. – Приехали. Пулеметчик достал и мотор.
– Возьми, – протянул тот Громову маленький швейцарский пистолетик. – На память. Ты его слишком неохотно отдавал. У меня есть еще один. Стащи меня и дай автомат. Прикрою.
Рассуждать было некогда. Он вытащил Казимира из кабины и уложил за пригорком возле дороги. Потом подал ему автомат и два запасных магазина. Кроме того, Казимир выложил возле себя пистолет, нож и лимонку.
– Последний бой за великую Польшу от моря до моря, – слабо улыбнулся он, превозмогая боль.
Громов метнулся к убитым немцам, нашел еще три рожка с патронами и положил их возле Казимира. Присел рядом, чувствуя, что у него не хватает силы оставить этого человека одного.
Немцы как раз спускались в ложбинку. Как только они окажутся на этой стороне, начнется бой. Их пули и так уже вспахивали ближайший пригорок.
– Не тяни, лейтенант, – простонал Казимир. – Глупо. Уходи. Через кустарник. Пять минут подарю. Пять минут жизни. От майора Анджея Поморского. Мое настоящее имя – Анджей. Расскажи все Янеку. Слышишь? Обязательно расскажи.
– Я знаю, это твой сын. Ну спасибо, майор Поморский, за пять минут. Спасибо, тезка. Прощай.
Пока фашисты преодолевали долину, Громов успел незамеченным добежать до кустарника, а потом, прикрываемый им, скрыться в лесу. Тем временем фашисты охватывали машину полукольцом, а на помощь им из села уже мчалась танкетка. Громов понимал, что теперь они прочешут все окрестности и что в этом лесу ему не отсидеться. А вокруг поля. Значит, нужно было поскорее оказаться в том селе, где скрывается Мария. Старик наверняка спрячет и его.
Да, нужно было спешить, но все же Громов задержался и видел, как давал свой последний бой майор Анджей Поморский. Фашистов, очевидно, сбило с толку то, что он был в немецкой форме. Возможно, он и крикнул им что-то по-немецки, потому что несколько человек смело бросилось к нему, и, только подпустив совсем близко, майор встретил их автоматными очередями. К сожалению, помочь отсюда Анджею лейтенант уже не мог – нужен был пулемет.
Еще раз, теперь уже мысленно попрощавшись с майором, Громов бросился в глубину леска и уже там услышал, как возле машины грохнул взрыв гранаты.
44
До дома деда Лозинского Громов добрался, когда уже совсем стемнело. Старик сразу же открыл ему и испуганно отшатнулся:
– Зачем же ты? Тебя здесь ищут. Возле Вишняка засада на тебя.
– На меня? Откуда ты знаешь, что ищут меня, отец?
– А кого же? Лейтенанта Беркута ищут. Староста по секрету сказал. Говорит, что какой-то эсэсовец из Берлина лично тобой интересуется.
– Божественно. Однако почему у Вишняка? Кто это такой?
Старик подкрутил фитиль лампы, с которой встречал гостя, и поднес ее чуть ли не к лицу Громова.
– Да тот, у которого ты был. Это же и есть Вишняк.
– Какой Вишняк, отец? Ни у кого, кроме тебя, я здесь не был.
– Ты что, белены объелся? Что ты меня в дурни пошиваешь?! – возмутился старик. – Когда ты у Вишняка не признавался, я еще мог понять. Не хотел подавать вида, что знакомы…
– Я ничего не понимаю, старик. И у меня нет времени разгадывать твои загадки. Где Мария?
– Как где? Ушла. Как тебя начали искать, Вишняка арестовали – так она и ушла.
– Но куда, отец, куда она ушла? – еле сдержался Громов, чтобы не схватить его за грудки. – Что ты мне все про какого-то Вишняка да про Вишняка?!
– Да не знаю, куда. Говорит: надо подальше от этих мест, где никто не слышал ни о Беркуте, ни обо мне. Потом она сама даст знать о себе. Сообщит мне, а уж ты через меня… Э, да ты, вон, до сих пор в форме. Староста тоже говорит, что, мол, в немецкой форме разгуливает. Диверсант-одиночка. Ты что, и впрямь этот, диверсант?
– Будем считать, что всего-навсего партизан, отец. Неужели Мария даже приблизительно не сказала?..
– Может, и не хотела ничего говорить. Ночью ушла. За меня побоялась. Знает, что рано или поздно фашисты и до меня доберутся. А я могу выдать.
– Что, действительно мог бы?
– Мог, – отвел взгляд старик. – Мук не выдержу. Боюсь я этого всего: нагайка, пальцы в дверь… Я и сам думаю на пару недель сбежать отсюда. Брат у меня в соседнем районе. Может, потерпит полмесяца, пока все уляжется. Тут сейчас такое… Вон, Вишняка…
– О Господи, снова этот Вишняк! Объясни, пожалуйста, толком. Только сначала погаси лампу. – Громов осторожно обошел все окна, высматривая, нет ли кого поблизости. – И сразу говорю: Вишняка я не знаю и в доме у него никогда не был. Но лейтенант Беркут – это, конечно, я.
Они сели к столу. Какое-то время старик молчал, собираясь с мыслями. Категорическое отрицание Громовым того, что он бывал у Вишняка, окончательно загнало его в тупик. Вначале-то он считал, что лейтенант просто не хочет сознаваться.
– Тогда, может, это был другой парень? Очень похожий на тебя? Это я о том, который был у Вишняка. Правда, грудь у него забинтована – так я понял…
– Может быть. Он что, тоже лейтенант?
– Да нет, форма на нем не офицерская. Но я видел его, как тебя. Говорю: «Здравствуй, что ж ты сюда заходишь, а Марию не проведаешь?» А он (я-то думал, что это ты) отвечает: «Какая Мария, старик? Обознался. И вообще: ты не видел меня, я не видел тебя». Ну я, понятное дело: не видел, так не видел. Говорить дальше он со мной не захотел. Я тоже обиделся. Пришел, Марии рассказал. Она – в плач. Бросилась к Вишняку (дело это уже к ночи было), но тебя, ну, его то есть, там уже не было.
– Странная история. Он что, тоже назвал себя Беркутом?
– Нет, о Беркуте он ничего не говорил.
– И грудь у него была забинтована?
– Я видел бинт.
– Однако никакой раны на груди у меня нет. В этом очень просто убедиться.
– Теперь и так уже верю.
«Неужели это Крамарчук?! Неужто сумел вырваться из плена? Ну конечно, Крамарчук. Если похож, то кто же еще? И без раны ему не обойтись».
– Как ты попал тогда к Вишняку?
– Сам пригласил зайти. Встретил на улице, говорит: «Подсоби. Принеси харчей. Сколько можешь. Тут ко мне хлопец из лесу должен прийти. Их там лейтенант один собрал. Человек шесть…» Я как услышал про лейтенанта, так решил, что это ты и есть. А потом пришел, вижу, как будто действительно ты. Только в красноармейской форме и бинты… Ну так мало ли что… Я-то тебя мельком видел. Да и то ночью.
– Так, отец, так… Ты с хлопцами этими, что в лесу, мог бы как-нибудь связаться?
– Думаю, что ночуют они не в лесу, а в селе, у старухи. Она в том конце живет, в яру, возле леса. Как-то немцы наведывались к ней вместе со старостой и полицаями, но она прикинулась сумасшедшей. Хотя на самом деле это обычная сельская ведьма. Такая кем хочешь прикинется. Так вот, Вишняк намекал, что окруженцы вроде бы собираются у нее. А утром уходят в лес.
– Объясни мне, как найти хату этой старухи. И намекни ей, что один офицер хотел бы присоединиться к тем боевым хлопцам. Послезавтра ночью буду у нее.
Старик уложил его в той же постели, где раньше спала Мария, и Громов долго не мог уснуть – подушка все еще пахла ее волосами, а простыни, казалось, хранили тепло ее тела. Будь она сейчас здесь, он, наверно, чувствовал бы себя самым счастливым человеком в этом разразившемся войной мире. Но ее не было. И лейтенант с отчаянием думал о том, что теперь он вряд ли когда-нибудь встретит ее. Может, в этом и заключается смысл их судьбы: война свела их, влюбила друг в друга, развела и, очевидно, так, поодиночке, и похоронит.
Дот. Ужас человека, почувствовавшего себя заживо погребенным. Почти немыслимое спасение. Ночь, проведенная рядом с Марией там, в «гнезде» майора Шелуденко. Распятие красноармейца. Проверка в доме Залевского. Гибель майора Поморского, спасшего его ценой своего солдатского подвига «во имя великой Польши от моря до моря»… Громову казалось, что за эти несколько недель он прожил целую жизнь, причем не имеющую никакой связи со всем тем, что прожито за предыдущие двадцать пять лет.
Как было бы хорошо, если бы оказалось, что Крамарчук жив! Как хорошо!..
Проснулся Громов на рассвете. Быстро побрился, позавтракал вареной картошкой в мундире с кислым молоком, проверил все три пистолета и попросил старика спрятать на время автомат и магазины с патронами. Он за ними еще вернется.
– Не ходил бы ты, сынок, никуда, – задержал его на пороге старик. – Тоскливо мне на душе. Мария ушла – неизвестно, жива ли. Теперь вот ты… Может, не поверишь, но и ее, и тебя провожаю с такой болью, будто с родными детьми прощаюсь.
– Верю, отец. Сам привыкаю к людям настолько, что становятся роднее родных. Только на дорогу ты уж, пожалуйста, не каркай. Все будет хорошо. Не забудь поговорить со своей хитро-сумасшедшей ведьмой. Пусть передаст хлопцам, что нашелся еще один охочий к путешествиям окруженец.
45
Штубер сам выехал на то место, где было совершено нападение на колонну. Из показаний солдат, охранявших груз, он уже знал, что партизаны были одеты в немецкую форму. И что прежде чем открыть огонь по колонне, они убили водителя машины, на которой ехали сами, ефрейтора и унтер-офицера.
Оберштурмфюрер, конечно, высказал старшему колонны все, что он думает по поводу его личной бдительности и храбрости его вояк, однако все это – эмоции, которые вряд ли стоило расточать. Теперь он не сомневался, что и это дерзкое нападение – работа лейтенанта Беркута. Но если раньше Беркут действовал в одиночку, то теперь, похоже, у него появились сообщники. Значит, вскоре сколотит целый отряд. Такой сколотит, можно не сомневаться.
Партизан лежал на плащ-палатке, расстеленной на траве. Он еще был жив, но колдовавший над ним фельдшер (Штубер сразу же приказал вызвать его) очень сомневался в том, что сумеет довезти раненого до госпиталя живым.
– Он – поляк, – объяснил обер-лейтенант, командовавший взводом, который захватил партизана. – В бреду говорил по-польски. И, судя по всему, офицер. Черты лица – аристократические.
– Вот как? Аристократические? Черты лица? Психолог! А что-нибудь посущественнее вы бы не могли мне сообщить? Тогда помолчите.
Штубер наклонился и, ткнув дулом пистолета в щеку партизана, спросил по-польски:
– Вы слышите меня? Пан офицер, вы меня слышите?
– Да, – прошептал тот.
– С вами был лейтенант Беркут? Я спрашиваю, с вами был Беркут?
Тот кивнул, хотя, очевидно, уже не осознавал своих действий. На него влияла магия родного языка.
– Где он сейчас? Где он скрывается?! Фельдшер, укол! Я сказал: сделайте ему укол!
– Бесполезно. Он уже не придет в себя.
– Мне лучше знать, что полезно, а что нет! Укол!
– Где скрывается Беркут? – продолжал он допрос после того, как фельдшер ввел в вену партизану какое-то средство. – Хорошо, ответьте: вас забросили сюда с самолета? Из Англии? Нет, вы – местный поляк? И Беркут – тоже?
– Еще укол? – угоднически спросил фельдшер, понявший, что злить эсэсовца не стоит.
– Еще, еще! Что вы трясетесь над ним, словно повитуха над младенцем? В машину его! И живо в госпиталь. Обер-лейтенант, выделите двоих в помощь фельдшеру. Зебольд, поедете с ними. Если поляк придет в себя, попытайтесь поговорить. Возможно, он проболтается в бреду. Меня интересует абсолютно все!
Штубер молча проследил, как поляка подняли в кузов, закурил и пошел к машине, которую Беркут и этот партизан пытались захватить. Унтер-офицер, ефрейтор и рядовой лежали в ряд, плечо в плечо, словно в лежачем строю на смотре. «Неистребимый немецкий педантизм, – заметил Штубер. – Пусть каждый, кто считает его легендой о немцах, придуманной самими немцами, прибудет на это страшное место и убедится».
– Он что, отстреливался один, обер-лейтенант?
– Сначала их было вроде бы двое. Потом один исчез. Пока мы проходили долину, он скрылся в лесу. Этот же остался прикрывать, зная, что с его раной не уйти.
«Значит, это или Беркут, или тот сержант из дота». На пятые сутки после операции сумел пробраться на чердак больницы и бежать оттуда через крышу. Причем бежал всего за час до того, как его должны были перевезти в лагерь. Очевидно, до побега он просто-напросто симулировал тяжелое состояние, потому что раны, в общем-то, были пустяковые.
– Лес уже прочесали?
– Да, но пока брали этого поляка, потеряли слишком много времени. Поляк был ранен, однако хорошо вооружен и еще не потерял способности сопротивляться.
– О таких подробностях вы могли бы и не докладывать мне, – проскрипел зубами оберштурмфюрер, язвительно улыбаясь при этом. – «Не потерял способности сопротивляться!..» Любой служащий магистрата позавидует.
– Я всего лишь объясняю ситуацию, господин оберштурмфюрер, – проглотил обиду обер-лейтенант. – Я приказал солдатам взять его живым. Они выполнили бы приказ, если бы польский варвар не взорвал возле себя гранату. Очевидно, пытался бросить ее, да не хватило сил.
– Он пытался взорвать себя вместе с вашими солдатами, обер-лейтенант. Что здесь непонятного? Именно на это у него, раненого «польского варвара», как раз и хватило силы… воли. Побольше бы таких варваров в нашей армии. Когда поляк бредил, он употреблял английские слова?
– Кажется, нет. Честно говоря, я не прислушивался. По-моему, он бредил по-польски.
– А вот это вы напрасно, милейший, – оскалил сжатые зубы оберштурмфюрер. – Ни к чему не стоит так внимательно прислушиваться, как к человеческому бреду. Ибо нет ничего более любопытного и достойного внимания, человеческого и Божьего, чем наш с вами бред, обер-лейтенант!
Окончательно сбитый с толку манерой общения и странной логикой эсэсовца, командир взвода несколько мгновений недоуменно смотрел ему прямо в глаза, представления не имея о том, как ему реагировать на сказанное и вообще как вести себя дальше. Но все же, когда оберштурмфюрер садился в машину, щелкнул каблуками и отдал честь с такой чинопочитательской лихостью, словно провожал генерала.
– Бред может казаться абсурдным только тогда, когда мы живем в нормальном мире. Но мы-то с вами оказались в мире абсурда, обер-лейтенант.
– В моих действиях было что-то не так? На самом деле поляк – известный английский шпион?
– Меня интересует не поляк, а тот, кто был с ним. Вам приходилось что-либо слышать о Беркуте? Диверсанте Беркуте?
– Диверсанте? – демонстративно напрягал не столько память, сколько мышцы грубоватого обветренного лица командир взвода. – Простите, не приходилось. Я только недавно прибыл в эти края.
– Тогда вы счастливый человек, обер-лейтенант. Беру свои слова обратно – «абсурдный мир»! Никакой он не абсурдный. Просто идет обычная война. Которая имеет свою, особую логику. А что касается лейтенанта Беркута, то о нем вы еще услышите, обер-лейтенант. А теперь уводите своих саксонских храбрецов, больше им здесь делать нечего. Этот день война им еще подарила. Точнее – простила. Как прощают страшный грех.
46
Мотоцикл стоял неподалеку от штаба, и топтавшиеся возле него водитель-рядовой и ефрейтор, очевидно, решили, что капитан вышел именно оттуда. Сам же Громов так и не понял, почему они здесь и кого ждут. Он просто подошел, молча сел в коляску и тоном, не допускающим никаких возражений, приказал:
– Водитель, мотор! Ефрейтор, на заднее сиденье!
Судя по реакции ефрейтора, он оказался здесь совершенно случайно: остановился поболтать с водителем. Но приказ есть приказ.
– На окраине села я покажу вам один дом. Как только подъедем к нему, проверьте оружие.
– Слушаюсь, господин капитан, – сразу же как-то сник ефрейтор.
Старуха, которую, коверкая русские слова, Громов спросил, где живет Готванюк, указала ему на верную примету: в конце села, в долине, напротив холма, на котором стоит ветряк. Хотя солнце уже зашло и в широкой долине, по склонам которой раскинулось село, быстро темнело, крылья этого ветряка все еще были видны издали. Андрею казалось, что где-то там, за мельницей, должна появиться и река. Однако ее не было. Каменистая долина, над которой ревматично поскрипывал крыльями ветряк, была пепельно-серой и безжизненной.
Громов приказал водителю остановиться у ворот и вошел во двор. Деревянный забор, калитка, ставни на окнах – все было украшено резьбой, все подогнано и покрашено с такой любовью, с какой может украшать свое жилье только истинный мастер по дереву. Да и сам дом Готванюка, кажется, был единственным деревянным строением в этой буквально заваленной камнем долине.
«Видно, не родился этот человек ни солдатом-храбрецом, ни предателем, а создала его природа мастером на все руки, – подумал Громов, внимательно оглядывая двор, нет ли там засады. – Однако войне совершенно безразлично, кем и для чего создавала нас природа и кем бы мы стали, если бы ее не было».
Справа, между двумя яблонями, виднелся небольшой холм свежей земли, чем-то напоминающий могилу. Впрочем, креста на нем не было. Где это видано: во дворе – и вдруг могила?
– Господин капитан! – встревоженно окликнул его ефрейтор. Громов оглянулся и увидел, что возле мотоциклистов, наведя на них винтовки, стоят трое мужчин в какой-то странной форме с белыми повязками на рукавах. «Это и есть засада! – понял он. – Сидели в ветряке». – Они требуют документы, господин капитан!
– Нам приказано проверять. Всех, – едва сумел объясниться по-немецки один из мужчин. – Мы – полиция. – И по-русски добавил: – Партизаны часто переодеваются в немецкое, так что вы уж извините, если что…
– Ефрейтор, дайте-ка ему в морду, – четко приказал Громов и, выждав, пока ефрейтор вроде бы и нерешительно, но тем не менее довольно старательно исполнит приказ, вошел в дом.
«Документ» ефрейтора подействовал сразу же, потому что полицаи отошли к ветряку и уже оттуда наблюдали за тем, что будет происходить дальше. «А ведь тоже, наверное, из окруженцев», – подумал Андрей, нащупывая в темноте коридора дверную ручку. – Докатились, сволочи. Сколько их наберется, этих предателей? Интересно, посчитает их кто-нибудь после войны?»
47
Готванюк – в грязных сапогах, заросший, исхудавший – лежал в постели и напряженно всматривался в открытое настежь окно, словно упрямо ждал кого-то.
– Встань, Готванюк. Встать!
Готванюк спокойно перевел взгляд на Громова. Ни одна жилка на его лице не дрогнула. И вставать он не собирался.
– Что, не узнаешь, красноармеец Готванюк?
– Неужели и ты у них служишь?
– Я служу у нас. Так же, как служил Крамарчук, которого ты предал, и тот красноармеец, которого замучили и распяли на дереве. Там, возле дота.
– Неужели и впрямь распяли? – переспросил Готванюк, медленно поднимаясь с койки. – Зачем? Зачем же так страшно мучить человека? Немец мне тоже говорил, что распяли, но я не поверил.
Готванюк остановился посреди комнаты и, переступая с ноги на ногу, нервно ощупывал себя дрожащими руками, словно искал чего-то.
– Лучше расскажи, как ты предал нас. И что тебе за это пообещали.
– Избивали, смертно избивали – вот и все их обещания. – Он ответил так просто и естественно, что Громов вдруг почувствовал: злость его на этого человека начинает таять. – Я думал, что вас там уже нет. А сказать что-то надо было. Ведь били бы, пока не сказал бы.
– И распинал красноармейца тоже, потому что били?
– Там не били. И распинал не я – немцы. Я из лесу сбежал. Сразу сбежал, еще когда он из пулемета отстреливался. Меня возле машины оставили, но солдат зазевался, отошел, хотел своим помочь. А тут еще из лесу кто-то по машине стрелять начал… Словно сам Бог послал мне этого самоубийцу-окруженца. Ну, я – в овраг и дай бог ноги.
– Значит, удрал, и все? И теперь они тебя охраняют? Не трогают, не бьют, даже в лагерь военнопленных не отправили? Живешь себе как ни в чем не бывало?
– Выследили меня. Ночью зашел, чтобы попрощаться со своими, вот полицаи и выследили. А потом… Жену, дочку мою, Наташку, и старуху, ту, у которой я, значится, ночь просидел, чтобы под утро сюда пойти, всех там… – кивнул он на дверь. – Всех троих…
– Что там? – не понял Громов.
– Во дворе. При мне. Почему их, почему меня не захотели, а, лейтенант? Я ж перед ними на коленях ползал. Не спасения просил, а чтобы с ними. Они же видели, что меня не расстреливают. Они все видели… Три бабы… За меня, за солдата, смерть принимают.
– Так этот холм во дворе – могила?!
Готванюк кивнул и опустил голову. Он все еще был в форме, только без ремня, однако отшельнический вид его мог отпугнуть кого угодно.
– Мне бы повеситься надо было… Ане могу. Не хочу я идти туда… висельником. Не было у нас в роду таких… Что ж ты меня не стрельнул возле дота? А, да… Крамарчук не дал. Заступился. Зря он вмешался тогда, зря…
– Да уж, видно, зря, – совсем незло подтвердил лейтенант, осматривая в окно могильный холм во дворе.
– Там, в ветряке, полицаи дежурят. Я боялся, что ты придешь, а они и тебя схватят.
– А все равно знал, что приду по твою душу?
– Знал. Другой мог бы и не ввязываться, побоялся бы. А ты найдешь – я это сразу понял.
Наступило неловкое, тягостное молчание, прерывать которое пришлось Громову:
– Так что, полицаем стать предлагали?
– Старостой.
– Ну?! Сразу старостой? Божественно. И ты, конечно, согласился.
– А куда денешься? Боялся. Снова бить будут. Они страшно бьют, под ребра. Я не смерти… калекой подыхать оставят. Ну да тебе некогда.
– Да, Готванюк, времени на разговоры у меня нет.
– Ты знаешь что… ты меня не здесь. Ты там меня, во дворе. Подожди минут десять. Ну, пятнадцать. Я при тебе яму отрою. Хотя бы небольшую ямку! – вдруг взмолился он, приложив руки к груди. – Чтобы только землей потом кто-нибудь притрусил. Но чтобы рядом с ними. По справедливости.
«А ведь я не смогу пристрелить его, – вдруг понял Громов. – Я не смогу поднять руку на этого человека. На этого труса и предателя. На этого исстрадавшегося… Не смогу. Это было бы слишком жестоко».
– Слушай, Готванюк, я обязан или сейчас же казнить тебя как предателя, или попытаться спасти. От всего этого… спасти.
– Да? – изумленно посмотрел на него Готванюк. – Как спасти? Как ты можешь спасти меня? И зачем?
– О том, что ты выдал нас и что согласился быть старостой, знаю только я. И никто больше не узнает. Нас теперь целая группа. Мы идем к линии фронта. К своим. Ты пойдешь с нами. Мы вернемся к своим, и весь этот кошмар останется здесь. В прошлом, позади. Если, конечно, искупишь свою вину в бою с фашистами. Ну, идешь? Решай. Только быстро.
Готванюк беспомощно развел руками. По щекам его текли слезы. Он был перепуган и беспомощен, как ребенок.
– Значит, решено: идешь. Теперь слушай меня: забудь о страхе. Делай, что прикажут. У тебя есть веревка?
Готванюк метнулся в коридор, порылся там и принес довольно толстую веревку, на конце которой была связана петля.
– Это ты что, в самом деле готовился? – изумился Громов.
– Готовился, но… как видишь. Не хочется представать перед Ним висельником. Жил не по-людски, так хоть смерть принять по-божески.
– Задумчивый ты, Готванюк. Все хочешь предвидеть. Вплоть до Страшного суда. Ладно, руки за спину. Выходи. Делай, что прикажу, и ничего не бойся. Смерть «по-божески» я тебе гарантирую.
48
Они вышли во двор. Немцы и полицаи стояли двумя группками и ждали, чем кончится разговор капитана с хозяином дома.
– Ефрейтор! Вместе с одним полицаем остаетесь в засаде. Этот болван действительно ждал к себе в гости партизана. А эти двое, – показал пальцем на старшего среди полицаев, которого бил ефрейтор, и на самого юного из них, – пойдут со мной. Им выпала честь казнить врага рейха. Большая честь. Объясни им это.
Ефрейтор, успевший заучить несколько русских слов по разговорнику, который ему выдал в части фельдфебель, объяснил тем двоим, что господин капитан приказывает им «имель экзекуция, вешаль».
Старший полицай безропотно склонил голову в поклоне:
– Яволь, герр капитан.
«Уже и знаки различия успел запомнить!» – вскипел Громов.
Он бросил ему в руки веревку и показал на виднеющийся за селом, в конце долины, лес.
– Шнель. Пошел! Бегом, бегом!.. Ефрейтор, скройтесь в ветряке! – крикнул он, уже садясь в коляску мотоцикла.
Полицаи гнали Готванюка к месту казни, а Громов ехал вслед за ними на мотоцикле, подгоняя всех троих.
Когда наконец углубились в лес, Громов оглянулся. Те, оставшиеся в селе, в засаде, теперь уже не могли видеть их. Значит, пока все идет хорошо.
– Оставайся здесь, солдат, тебя это не касается, – сказал он мотоциклисту. – Эти ублюдки все сделают сами. – И помахал пистолетом, показывая полицаям: подальше, подальше уводите.
Полицаи уже дважды останавливались возле деревьев, которые казались им вполне подходящими, старший полицай даже подыскал небольшой высохший ствол, который можно будет выбить из-под ног обреченного, но капитан все загонял и загонял их в глубь леса, пока наконец не остановил свой выбор на небольшой поляне. Да, действительно, старый развесистый клен… Толстая ветка идет почти параллельно земле… Такая выдержит. Вот только низковато, петля останется почти под веткой. На всякий случай старший полицай предварительно примерял на себе, как это будет выглядеть. Ничего, сойдет и так. И приказал молодому взобраться на дерево, на развилку. Тот приставил винтовку к стволу и полез.
Все это время Громов пристально следил за действиями обоих.
Пока, забросив свою винтовку за плечи, старший полицай ждал, когда можно будет подать молодому конец веревки, Готванюк покорно стоял, заложив руки за спину. Он смотрел только на Громова, только на него, и ждал.
В какое-то мгновение Громову даже показалось, что тот не верит ему. Решил, что лейтенант просто обманул его. А полицаи казнят, понятия не имея о том, кто ими командует, маскируясь мундиром немецкого офицера.
– Пальнул бы, лейтенант, – негромко напомнил его обещание Готванюк. – Что ж ты меня опять-таки в висельники загоняешь, душа твоя нехристовая?
– Молчать! – по-русски осадил его «капитан».
– Палач ты. Был и есть палач.
Но когда Андрей взглядом приказал ему: «Хватай винтовку!», – он все же нашел в себе мужество вырваться из оцепенения и мгновенно схватить ее.
– Не стреляй, – успел предупредить его лейтенант и, зажав старшему полицаю рот, ударил ножом в грудь. – Держи под прицелом того.
Молодой полицай как свесился с ветки, чтобы взять конец веревки, так в этой позе и замер.
– Слезай. Молча, – приказал Громов, приглашая его пистолетом на землю.
– Дядечки, родненькие! – вдруг запричитал парнишка, по-детски прижимая руки к груди и не решаясь спуститься на землю. – Не убивайте, родненькие. Я ведь ничего. Меня заставили.
– Кто тебя заставил?
– Так он же, – показал на корчившегося в траве полицая. – Пришел. С немцами. Говорит: «Этого. Не пойдет – повесим. В активистах был, пусть теперь искупает свою вину перед народом и немецкой армией».
– Ты был в армии?
– Да нет. Только призвали. В военкомате собрали нас, а тут за райцентром десант немецкий. А мы без оружия. Ну и кто куда, по домам. Не убивайте меня, дядечка, родненький…
– Помилуй и его, лейтенант, раз уж меня… – неожиданно заступился за него Готванюк. – Спаси еще одну душу. Убивать теперь все мастаки. А про то, что надо кому-то и спасать, вроде совсем забыли.
– Хорошо, слезай. Только не нуди!
Полицай покорно слез с дерева и бочком-бочком подсеменил поближе к Готванюку. Сейчас он искал защиты у человека, для которого еще две минуты тому назад готовил виселицу и которого безо всякой жалости вздернул бы. Громова потрясло это. Вот уж воистину неисповедимы судьбы людские на войне, вот уж воистину!..
– Я – лейтенант. Моя фамилия – Беркут. Тот, которого ты ждал в засаде.
– Ага-ага, – испуганно заулыбался полицай.
– Мы идем к своим, к линии фронта. Хочешь искупить вину?
– Я с вами пойду, товарищ лейтенант. Куда угодно… пойду. Всего три дня как в полиции. Никого не убил, никого не выдал.
– Про то, что был в полиции, помалкивай. Но искупать вину должен все годы, сколько будет длиться война. Да и вообще, сколько будешь жить. Понял?
– Спасибо, товарищ лейтенант. Добрый вы человек, святой.
Громов раздосадованно покачал головой и отвернулся. Лучшее, что мог сделать сейчас этот человек, – это помолчать.
Он вытер нож о траву, сунул его в голенище.
– Готванюк, подбери винтовку убитого. И патроны. Повязку тоже на всякий случай сними. И медленно идите за мной. Только держитесь подальше.
* * *
– Что, солдат, затосковал?
– Уже все? – облегченно спросил тот.
Однако сесть за руль не успел. Лишь только он отвернулся, Громов ударил его ножом так же, как несколько минут назад старшего полицая. Как учил их, курсантов военного училища, бить, снимая часовых, опытный разведчик-инструктор, прошедший Гражданскую и Финскую. Учил воевать.
А еще через минуту на поляне показались Готванюк и полицай.
– Готванюк, быстро надень каску и китель. Возьми автомат, патроны. Водитель из меня никудышный, но все же не пешком.
– Так ведь я немного умею, – подбежал к мотоциклу полицай. – У дядьки моего был. Здесь почти все, как в нашем. Я присматривался. Только скорости попробую.
Через несколько минут они уже объезжали этот небольшой, как оказалось, лес с той, невидимой из села, стороны, за которой проходила проселочная дорога.
– Тебя как зовут?
– Федор. Фамилия – Литвак.
– Отныне – красноармеец Литвак. Тебя, говоришь, призывали? Вот ты и в армии. Понял?
– Да, товарищ лейтенант. Спасибо, что помиловали.
– Что ты причитаешь, как дьяк над усопшим?
Водителем Литвак оказался довольно старательным.
И хотя гнать пока не решался, все же, прыгая на ухабах, уверенно подводил мотоцикл к дороге.
– Где Яворовка – знаешь?
– Да. Вон за тем лесом. Тут, неподалеку, есть лесная дорога. Километра три можно пройти по ней.
– Божественно. К лесу – и на эту дорогу.
49
До позднего вечера Штубер работал над первой главой своей будущей книги «Методы психологической обработки населения на освобожденных от коммунистов территориях». Заглавие пока что было условным. Возможно, впоследствии он назовет ее эффектнее. Главное заключалось в смысле. Он пытался создать книгу, состоящую из цикла исследовательских зарисовок о том, как нужно работать с аборигенами освобожденных территорий, привлекая их к сотрудничеству с новой администрацией. В отличие от многих других эсэсовских офицеров, которых он знал, Штубер не считал, что, покоряя народы, особенно славянские, можно слишком многого добиться, прибегая только к жестокости, запугиванию, истреблению непокорных.
Наблюдая за тем, как разворачивают свою работу администрации во многих оккупированных районах Франции, Бельгии, Польши, а сейчас – и Украины, Штубер пришел к выводу, что в большинстве своем они не столько умиротворяют и покоряют население, сколько плодят вокруг себя врагов. Конечно, комиссары, большевики, активисты, цыгане и евреи – не в счет. Их, не колеблясь, нужно истреблять, и двух мнений в этом вопросе быть не может. Что же касается остальных, то среди них нужно искать людей, которые со временем стали бы верными рабами нового режима. При этом иногда нужно прибегать и к жестокости, но лишь такой, которая сама по себе поучительна, ибо заставляет человека совершенно по-иному взглянуть на себя, на жизнь, на человечество, на сущность войны.
Взять хотя бы Готванюка… Фельдфебелю так и не понять, почему он возится с ним. А ведь путь Готванюка – колхозный передовик, активист, лучший мастер в округе, красноармеец, окруженец, трус, предавший товарищей, преступник, нарушивший оккупационный режим, человек, жестоко наказанный за это оккупационной властью, и, наконец, староста большого села, один из самых верноподданных служак! Это же целое научное исследование.
Когда сегодня утром Штуберу доложили, что Готванюк окончательно согласился стать старостой, он понял, что это еще одна глава его книги. И большая статья для журнала, интересующегося вопросами психологии (цикл таких статей был заказан ему еще в Берлине).
Но все это только начало. Куда интереснее может развиваться сюжет истории с загадочным Беркутом. Дот, спасение, народный герой-мститель… Что дальше?.. Дальше он хотел бы видеть этого русского офицера среди людей, наиболее преданных и рейху, и… ему лично. Да, статьи в научном журнале, книга, которая, по существу, должна стать диссертацией… Это только один путь.
Другой замысел, над воплощением которого он начинает работать уже сейчас, – создать собственную неафишируемую организацию, способную объединять несколько десятков талантливых разведчиков, диверсантов, террористов, просто незаурядных личностей. С этими людьми он мог бы выполнять любые задания, работать в любой стране. С этими хорошо подготовленными парнями, круг которых будет все расширяться и расширяться, он в конце концов подступится и к вершине власти в Германии, Европе…
Впрочем, о власти он подумает потом, всему свое время. Пока что нужно обрастать надежными людьми.
Полевой телефон ожил совершенно неожиданно. Штубер посмотрел на часы. В это время он просил не тревожить. Только в исключительных случаях.
– Говорят из штаба 135-го полка. Только что получено сообщение от начальника Ивичского гарнизона. Два часа назад в селе Липковом убиты солдат вермахта и старший полицай. Староста села, Готванюк, и другой полицай, Литвак, исчезли. Предполагают, что их похитил диверсант, действовавший в форме капитана вермахта и владеющий немецким.
– Похитил? Он действовал один?
– По имеющимся сведениям, один. Привлекая к операции немецких солдат и полицаев.
– Вы сообщили в гестапо?
– Нет. Посоветовали позвонить вам. Говорят, вы были в этом селе и занимались старостой.
– Удивительно точные сведения.
– К тому же охотитесь за этим диверсантом.
– Спасибо за информацию, – только большим усилием воли Штубер сдержался, чтобы тут же не выругаться в трубку. – Доложите об этом случае в районный отдел гестапо. Они знают, что делать. Я, конечно, тоже займусь этим.
Штубер положил трубку, схватил исписанные листки и, потрепав их, швырнул в угол. Он вдруг понял, что все ему уже надоело. Все, даже его собственные фантазии. Он зря убивает время в этой дыре! Его просто сослали сюда, как Наполеона на остров Святой Елены. А сослали потому, что в Берлине сидят олухи, не способные оценить его заслуги перед рейхом. Интеллектуальные игры с Беркутом и другими русскими кончатся тем, что его разжалуют до фельдфебеля. Именно до фельдфебеля. Ввиду абсолютной бездарности. В то время, когда другие будут зарабатывать чины, награды и нашивки за пустяковые ранения, накапливая в своих послужных списках названия столиц советских республик и крупных битв.
Несколько минут он сидел, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Начинался очередной приступ апатии – единственного проявления слабости и бесхарактерности, от которого он никак не мог избавиться.
– Ганс, – позвал он денщика, который в то же время был и водителем его машины. – Твой катафалк готов?
– Как всегда. Далеко? Может, поднять отряд?
– Далековато. Один мотоцикл. И двух солдат в машину.
– Ночь, господин оберштурмфюрер. На дорогах диверсии. Партизаны.
– Именно поэтому мы вообще поедем без охраны, эсэс-ман[2] Крюгер! Мотоциклисты не нужны. Двух солдат в машину. Через десять минут выезжаем.
– Позвольте заметить, господин оберштурмфюрер, что это равносильно самоубийству. В лучшем случае мы попадем в плен к партизанам.
«А что, может, все это как раз и стоит закончить в партизанском плену? Ах да, такого понятия как плен у них попросту не существует…»
– Ганс!
– Да, господин оберштурмфюрер, – откликнулся тот уже с улицы.
– Отставить машину! Выезжаем утром! – И уже про себя добавил: «Кто здесь способен оценить твое рыцарство? “Выкраден и казнен партизанами!” Да отец просто-напросто не выдержит такого позора».
50
Мотоцикл они оставили километрах в двух от пригородного поселка и к Залевскому пробирались уже в полночь.
Старик принял их радушно, словно все эти дни с нетерпением ждал возвращения. И первый вопрос его был: «Ну что, нашел ты гада, который выдал Крамарчука?»
Громов заметил, как, услышав это, Готванюк попятился к двери.
– Конечно. Он свое получил. А это мои хлопцы, познакомься. Они держали оборону по Днестру рядом с дотом. Романюк, – представил Готванюка. – А этот юноша безусый – Литвак. Храбрейший парень, – добавил лейтенант с непонятной Залевскому иронией. – Еще бы с десяток таких, и фашистам пришлось б расквартировывать возле этого поселка целую дивизию.
– А Казимир?..
– Где Янек? – перебил его Громов.
– Отправил к Владиславу, у него спокойнее.
– Позови его. Я хочу, чтобы он услышал это от меня самого, от единственного свидетеля гибели.
– Гибели? – отшатнулся капитан.
– Он погиб в бою. Как и подобает офицеру. Это был мужественный человек.
– Я в этом не сомневался, – еле выдавил из себя Залевский.
– Майор Анджей Поморский, честь и слава ему, просил о том, чтобы я рассказал сыну о его гибели.
Оказалось, что с Владиславом у старика тоже была звонковая связь. И через двадцать минут оба – Владислав и Янек – стояли перед капитаном Залевским. Все-таки майор Поморский приучил их к дисциплине.
Рассказывая о том, что произошло, Громов все время следил за Янеком. Нет, вряд ли тот догадывался, что Казимир был его отцом. Однако чувствовалось: смерть этого человека поразила парнишку. Он привык к нему, его вниманию и, наверное, связывал с ним свое будущее.
– Почему же вы оставили его одного? – недоуменно спросил Янек, когда Громов закончил свой рассказ. – Почему не попытались спасти? Вы не имели права оставлять его одного.
– Он сам решил свою судьбу. Поняв, что обречен, майор остался прикрывать мой отход.
– Но вы же должны были спасти майора.
– Ты ничего не понял, парень. Спасти его уже было невозможно.
– Если бы вы взяли меня… я бы остался. У машины, вместе с Казимиром.
– А вот это уже было бы глупо. Но можешь поверить: если бы его пуля досталась мне, я точно так же потребовал бы от него уйти и точно так же постарался бы подарить ему несколько минут для спасения. Таков закон войны.
Какое-то время они сидели молча, потом помянули майора Анджея Поморского за рюмочкой сохранившегося у хозяина польского коньяку, и Владислав с Янеком – оба мрачные, с заплаканными глазами – пошли к себе. Громов так ни словом и не выдал, что он знает, кто отец Янека. Если Залевский считал необходимым держать это в тайне от парнишки – это его дело. Пусть разбираются по-родственному.
– Товарищ лейтенант, – прошептал Литвак, когда Громов уже засыпал. Койки Федору не хватило, и Залевский постелил ему в той же комнате на полу. – А знаете, если мне когда-нибудь придется, как этому майору Поморскому… я тоже прикрою вас. Это полицаем страшно умирать. На виселице. От своих.
– Вот видишь, кое-какой жизненный опыт у тебя уже появился, – съязвил Громов. – А теперь все: спать!
51
Кто-то из группы старшего лейтенанта, с которой Громов хотел встретиться, уже был в доме. Осторожно подкравшись садом, Андрей заметил часового. Тот притаился между стенкой сарая и стожком соломы или сена. Место часовой выбрал удачное, однако огонек сигареты сразу же выдал его. К тому же время от времени солдат покашливал.
«А ведь снять его – раз плюнуть», – с досадой подумал Андрей, высматривая, нет ли возле дома еще одного такого же стража.
Вроде бы не видно. Громов отошел в глубину сада и, неслышно ступая вдоль наполовину обвалившегося забора, подкрался к сараю.
Часовой убаюкивающе мурлыкал себе под нос.
Громов метнулся к нему и, правой рукой захватив за ствол винтовку, левой вцепился в плечо.
– Тихо, свои, – пробасил ему на ухо. Хотя от неожиданности солдат даже не сумел вскрикнуть. – Я пришел на встречу. Тебя предупредили?
– Д-да, – запинаясь прошептал горе-часовой.
– Как же ты службу несешь, разгильдяй? Ведь для немца снять тебя – одно удовольствие.
Только эти слова да еще командирский тон Громова окончательно успокоили часового.
– Виноват, товарищ командир.
– Сколько ваших пришло?
– В доме – трое. Я четвертый. А вы – лейтенант Беркут?
– Что, уже слышал о Беркуте?
– Да пацан тут у нас за связного. От полицаев наслышался. Перепугали вы их. Только и разговоров: «Какой-то диверсант Беркут объявился. Специально засланный, чтобы старост и полицаев казнить».
– Ясно. А почему вас только четверо? Где остальные?
– Беда у нас. Старший лейтенант и еще двое – погибли.
– Когда он погиб, этот старший лейтенант?
– Да сегодня утром. В соседнее село пробирался, дивчина у него там. И нарвался на засаду. Заметил ее, но поздно. А с ним двое бойцов было. Парнишка, связной наш, сосед той дивчины, слышал, как немцы кричали: «Беркут, сдавайся!» Думаю, по вашу душу пришли, засаду устроили, товарищ лейтенант.
– Видно, по мою. Ничего не попишешь. Пусть уж ваш старший лейтенант простит меня. Слушай, а фамилия его… не Рашковский, часом? Какой он из себя?
– Нет, Зотов. Чернявый такой, роста невысокого. Кажется, Зотов, так он представился. Мы-то его по званию величали – старший лейтенант. Ну а я с ним вообще редко…
– Лейтенант, а, лейтенант?! – послышался из темноты приглушенный голос Федора. – Где вы?
– Здесь я, Литвак.
– Слава Богу. Мы уже заволновались.
– Перебеги через двор, заляг в кустах, на пригорке, за дорогой. А ты, Готванюк, останешься здесь. Давай, гвардеец, веди в дом. Заждались там.
52
В просторной комнате было светло и чисто. Ее освещали почему-то сразу три лампы: одна на столе, две – на стенах, что само по себе показалось Громову праздничной роскошью; а солдаты не курили – сидели за столом притихшие, присмиревшие, словно дети, ожидающие, когда появится мать и поставит перед ними пирог.
– Крамарчук?! – вдруг изумился лейтенант. – Сержант?! Ты?!
– Ну?! – медленно, словно загипнотизированный, поднимался из-за стола Крамарчук. – Да ну?! Комендант! Дорогой ты мой! Во спасение души! Я уж думал, никогда больше не свидимся!
– Да что я, Крамарчук? Ты откуда взялся? Там, в доте… записка эта.
– И записка была, все было… Схватили меня в этой бетонной коробке. Раненого. Ив больницу, под нож. А я очухался немного и рванул оттуда, как с того света.
Ростом Николай был чуть пониже Громова, в плечах поуже, в движениях – резче и суетливее. Но все же сходство их сразу же бросилось в глаза, и повскакивавшие бойцы удивленно завертели головами, поглядывая то на одного, то на другого.
– А я думаю, чего это старик, тот, что к деду Вишняку приходил, ни с того ни с сего оскалился на меня: мол, не признаешься… И уже тогда понадеялся: «А вдруг он меня с лейтенантом нашим лицами поменял?» – Крамарчук уже освободил Громова от объятий, но все еще пританцовывал вокруг него, возбужденно выкрикивая каждое слово с неподдельным ребячьим восторгом.
– Лучше скажи, как твои раны?
– Что раны?! Осколки хирург сразу же выудил. Ну а так на мне все заживает как на собаке. Зализываю.
– Братцы, так это же лейтенант Беркут! – только теперь подал голос часовой, скромно остановившийся у двери. Снова уходить на пост ему не хотелось.
– Что, правда?! – оживились бойцы. – Неужто объявился? Так о вас же полицаи легенды сочиняют!
– О легендах потом. У нас мало времени, – успокоил их Громов. – Сразу же объясню: фамилия у меня другая. Но, пока будем в окружении, для вас и для всех остальных я – лейтенант Беркут. Только так. Представьте своих людей, сержант Крамарчук, – совершенно неожиданно для такой встречи вдруг перешел он на официальный тон.
– Понял, комендант. Вот они все, гайдуки мои. Этот, часовой который, – лучший красноармеец во всей действующей армии, Вантюшин. А вот этот Илья Муромец, – тронул за локоть приземистого колченогого мужичка, которому, как показалось Громову, уже перевалило за пятьдесят, – Гайдулиев. Чем-то Абдулаева нашего напоминает. Помнишь его, комендант?
– Помню, Крамарчук, помню, – тяжело вздохнул Андрей. – Всех помню. Каждого.
– Это – Гурилов. Из Тамбова. Единственный танкист в нашем походном таборе.
– Божественно. Двое моих бойцов сейчас в охранении. Кстати, сержант, среди них и Готванюк. Тот самый…
– Что-что? Готванюк?! Он-то откуда вынырнул, чмыр болотный?!
– Только так, о прошлом с ним ни слова, понял? Ни сейчас, ни потом. Свою вину он уже осознал и еще искупит. Судьба и так уже наказала его.
– Его? Судьба? Да не судьба! Это я сам его… сейчас же.
– Все, Николай, все!
– Неужели простил? Это же он тогда…
– Знаю.
– Ну, смотри…
– Всем остальным: поступаете в мое подчинение. Дисциплина строжайшая. Только в дисциплине спасение каждого из вас и всей нашей группы. Мать, – обратился он к старухе, которая лишь изредка выглядывала из соседней комнаты. – Ты нас чаем угостишь? Если можешь, конечно.
– Таких женишков и супом угощу. Давно у меня столько хлопцев не гостило, – заулыбалась хозяйка. Улыбка была доброй и на удивление молодой. Кому и когда пришло в голову посчитать ее сумасшедшей?
– Мы принесли с собой консервы. Три банки ради встречи пожертвуем. На ужин и отдых у нас два часа. Выступаем в половине второго.
– Что, прямо сейчас, отсюда? – удивился Крамарчук.
– Помнишь, как погиб старший лейтенант Зотов? Кругом засады. К утру нам нужно вырваться из этого района. А сделать это можно только марш-броском километров на двадцать. Ночью. О том, что мы в окружении, – забыть. Считаем себя группой, заброшенной в тыл врага для выполнения особого задания. Нападать будем на обозы, колонны автомашин, сельские гарнизоны, избегая при этом любых открытых боев, а значит, и серьезных потерь.
– Забросить-то нас забросили, вот только подготовить для таких маневров забыли, – проворчал Вантюшин, тридцатилетний крепыш с багрово-красным, будто обожженным, лицом. – И тебе, командир, надо об этом помнить. Мы про твои лихачества наслышаны. Однако ты – кадровый. И действительно подготовленный…
– Готовить, красноармеец Вантюшин, будем сами себя. Война устроила нам ускоренные курсы, – мрачновато улыбнулся Громов. Он знал: рано или поздно кто-то напомнит ему, что от них, обычных красноармейцев, нельзя требовать чего-то необычного в этом рейде. – И давайте договоримся: если кто-то чувствует, что не сможет действовать так, как я предлагаю, лучше скажите сразу. Пробивайтесь в одиночку, неволить не буду. Но вольница эта – до половины второго ночи. С половины второго вы – бойцы группы, и поступать я буду по законам военного времени.
– Круто, – вырвалось у кого-то.
– Зато надежно. Хочу, чтобы вы поверили в себя. Чтобы поняли: не мы должны дрожать здесь, в тылу врага, наоборот, это враг должен ежеминутно вздрагивать, зная, что мы у него за спиной и что даже Богу неизвестно, где мы окажемся через час, по какому объекту или колонне нанесем удар. И в этом наше преимущество. Вот так. Все, готовиться!
53
Громов вышел из хаты, постоял у двери, прислушался. Метрах в двадцати от ворот, в кустах, должен был сидеть Литвак. Но что-то его не слышно. «Там ли он? – вдруг усомнился лейтенант. – А вдруг дал деру? Да ну, что ты? Брось…»
Пригнувшись, Громов проскочил к воротам, прислушался.
– Литвак!
– Здесь я, – негромко отозвался Федор из кустов. – Все нормально.
– Через полчаса тебя сменят.
Он обошел дом и чуть было не столкнулся с Готванюком. Тот сидел за углом хаты, между кустиком и стеной, положив автомат на колени.
– Все тихо, Готванюк?
– Да вот, смотрю. И чем больше смотрю, тем больше мерещится всякое.
– Главное, не усни.
– Не способен спать. После того, как расстреляли моих, еще ни разу не уснул. – Они говорили тихо, почти шепотом, при этом оба зорко осматривали едва освещенный сонным месяцем реденький садик, огород, сарай, стожок…
– Что, вообще не спал?
– Кажется, нет. Не могу. Разучился, что ли?
– И даже не хочется?
– Стараюсь. Глаза закрываю. Но тогда еще хуже. Тогда я опять вижу все то, что произошло тогда… Боюсь, что не выдержу, сойду с ума.
– Ничего, вот пойдем к фронту… Другие места, другие люди. Бои, стычки… Легче будет. Самое страшное для тебя, Готванюк, уже позади. Так и скажи себе.
– Ты так думаешь, лейтенант? Но я тебя очень прошу: если почувствуешь, что я действительно свихнулся, пристрели меня. Или пошли на такое задание, чтобы на верную смерть. Это я тебя по-человечески прошу.
– Странные у вас просьбы, красноармеец Готванюк, – перешел на официальный тон Громов. – Будьте внимательны. Через полчаса вас сменят.
– Не надо, лучше тут побуду, – отрешенно ответил тот.
«Хорошо, что я не погубил этих людей, – облегченно как-то подумал лейтенант, возвращаясь к расшатанному, полуобвалившемуся крыльцу дома. – Но будет еще лучше, совсем прекрасно, если удастся провести их живыми к фронту. Нужно оставаться человечным. С каждым днем оккупации все больше будет появляться людей изверившихся, оступившихся, затравленных страхом и безысходностью своего положения.
Это слабовольные люди, но коль уж не смогли воспитать их настоящими мужчинами, – думал он, оглядывая с крыльца местность и машинально прикидывая, как лучше было бы держать оборону, если бы немцы действительно выследили их – значит, не имеем права отрекаться, презирать их, затаптывать в землю. Кто-то же должен попытаться спасти хотя бы небольшую часть этих окруженцев, дать им последний шанс остаться людьми, верными присяге солдатами, патриотами…»
54
И село, и лес казались на удивление тихими, умиротворенными. Ярче возгоралась луна, четче начала проявляться между фиолетовыми разводами туч россыпь Млечного Пути; где-то в ближайшем болоте или в пруду изощрялся на все голоса лягушачий хор. И даже зарево, охватившее всю западную часть неба, не вызывало никакого ощущения тревоги. Оно казалось отблеском раннего восхода или позднего заката.
Откуда-то справа вдруг послышался топот копыт. Громов выхватил пистолет и, придерживаясь рукой за перила, присел на крыльце. Кусты напротив тоже зашевелились. Видно, всполошился Федор Литвак.
Конь был без всадника. На шее у него мотался хомут, сбоку змеились постромки. У кустов он тихонько заржал, но, почуяв дух человека, испуганно захрапел и, изгибаясь всем телом, видно, пытаясь избавиться от сбруи, понесся дальше. Откуда он сбежал, что случилось с его хозяином и сколько дней он носится так – этого уже не узнает никто.
Громов поднялся, сунул пистолет в кобуру и прислушался к тому, что происходило в хате.
– Может, и хорошо, что поведет этот лейтенант, – услышал он голос то ли Вантюшина, то ли Гурилова – еще плохо различал их. – Старший лейтенант наш сам растерялся. То говорил: «Все, выступаем!», – то откладывал еще на день, а то дня на два исчезал.
– Этот камандыр – сэрьезный, – басом пропел Гайдулиев, лейтенант узнал его по произношению. – У него характер есть. У Зотов характер не был. Зотов хороший парень, но слабый камандыр, да…
– Зато при старшем спокойно было. А с этим сорвиголовой вы еще хлебнете лиха.
– С этим сорвиголовой мы, наконец, снова почувствуем себя солдатами, – резко ответил Крамарчук. – Особенно ты, Гурилов. Это многое значит: кто ведет тебя в бой, с кем ты рискуешь и с кем умираешь.
«А что, Крамарчук прав, – подумал Громов, как будто сказанное сержантом к нему лично не относилось. – Это всегда важно: с кем идти в бой, кто рядом с тобой в окопе или доте и, может быть, даже – с кем тебя ведут на расстрел. Просто мы об этом редко задумываемся. Но чувствуем, понимаем…»
Ему приятно было слышать доносившиеся из дома хрипловатые голоса, приятно было осознавать, что снова рядом бойцы, а значит, предстоит еще много пройти и многое изведать, познать радость маленьких солдатских побед и горечь огромных человеческих страданий.
Книга вторая Последний из группы Беркута
1
Оставив машину у ворот крепости, подполковник Ранке направился к башне, в которой, как доложил часовой, находился в эти минуты гауптштурмфюрер СС Штубер. Проходя крепостной двор, Ранке придирчиво разглядывал старинные, местами разрушенные стены, позеленевшие от времени, но еще довольно крепкие башни, полуобвалившийся купол церквушки…
Ну что ж, этот любимчик Скорцени избрал неплохой способ вживаться в местные условия. Отсиживаясь за такими стенами, можно выдвигать какие угодно концепции покорения Востока. А Штубер, если его верно информировали, очень любит пофилософствовать на эту тему.
Сопровождавший Ранке солдат услужливо открыл перекосившуюся дверь и остался у входа. Поднявшись пыльной лестницей наверх, подполковник отодвинул серое солдатское одеяло, закрывающее дверной проем, и вошел в небольшое квадратное помещение.
Аккуратно застеленные таким же, как и на дверном проеме, серым одеялом нары, высокий грубо сколоченный стол, на котором стояли полевой телефон и несколько бутылок коньяку и лежали два небольших пистолета… Сбоку, у двери, – пирамидка со шмайсером и двумя советскими трехлинейками. «Ну что ж, по-армейски, по-армейски. Без аристократической романтики».
Сам хозяин пристанища стоял возле узкой бойницы, словно последний защитник этой башни. Услышав шаги, он лишь слегка повернул голову. Зато рука сразу же легла на кобуру с пистолетом.
«Отработанный жест… – одобрительно отметил про себя Ранке. – Неужели успел бы выхватить?»
– Вы неплохо устроились, гауптштурмфюрер. Простите, что не заглянул к вам раньше. Дела.
Этим извинением подполковник явно желал подчеркнуть неофициальность своего визита. Хотя специальным указанием из Берлина возглавляемый Штубером отряд особого назначения формально был подчинен ему (во всяком случае, все приказы Штубер должен был получать теперь через местное отделение абвера, которым руководил он, Ранке), однако подполковник хорошо представлял себе, с кем имеет дело. По поводу обычных зондеркоманд специальных директив из Берлина не поступает. Кроме того, его люди успели выяснить немало интересного о командире отряда (сам Штубер предпочитал называть его группой), на который возлагались особые функции в зоне возможной дислокации фронтовой ставки фюрера, и его берлинских связях.
Прежде чем ответить, Штубер оценивающе оглядел Ранке, как будто прикидывал, стоит ли вообще с ним разговаривать.
– Чудесный ландшафт, господин подполковник.
– Рад, что вам пришлись по душе эти края.
– Они пришлись мне по душе еще в июле сорок первого.
– Вот как? Вы здесь воевали? – и, так и не дождавшись ответа, продолжил: – Правда, зимой здесь все кажется более угрюмым. Но теперь, в конце мая… Кстати, почему вы решили разместиться в крепости, далеко за городом? Мои люди присмотрели для вас неплохой особняк. Там намного уютнее.
– Я побывал почти во всех европейских крепостях. Что поделаешь, меня привлекают только те пейзажи, которые открываются из бойниц. Прошу садиться, господин подполковник.
Ранке кивнул, но вместо того чтобы сесть на пододвинутый ему Штубером стул, подошел к бойнице. Пейзаж действительно мог очаровать кого угодно: изгиб реки, затопленный весенним половодьем луг, невысокие холмы, меловые вершины которых под лучами утреннего солнца казались гигантскими свечами. А в просветах между ними – лес. Таинственный, колдовской… Недаром его называют здесь Черным. Подполковник знал, к выполнению каких задач готовилась группа «Рыцари Черного леса» под командованием гауптштурмфюрера СС, поэтому не сомневался, что Штубер часами смотрит на этот лес, как пророк на вещие знаки. В общем-то, ничего удивительного: в конце концов, каждый стремится предвидеть свою судьбу. Тем более – на войне. Вот только удавалось ли кому-нибудь?
– Прекрасный французский коньяк. Прошу…
* * *
Ранке не хотелось садиться за этот неаккуратно сбитый стол, поэтому выпили стоя. И лишь поставив рюмку, подполковник обратил внимание на одежду Штубера. Заправленные в егерские ботинки желтые, свободного покроя брюки, такая же желтая рубашка с погончиками и синий берет со значком в виде дубового листка. В этом наряде, удачно подчеркивающем его атлетическую фигуру, Штубер больше походил на испанского солдата-республиканца, чем на офицера СС. Подполковнику, всегда ревностно следившему за соблюдением подчиненными установленной формы одежды, это было неприятно. Но ничего не поделаешь: «Рыцарям Черного леса» было предоставлено право самим выбирать себе форму одежды, вид оружия и методы борьбы. Операции они также разрабатывали сами. На местные отделения абвера и гестапо возлагалась лишь обязанность всемерно содействовать им в выполнении любого особого задания.
– Господин подполковник, меня по-прежнему интересует, есть ли новые сведения о Беркуте?
– Есть, – подполковник отвел взгляд и нервно забарабанил пальцами по столу. Он понимал, что для гауптштурмфюрера важны сейчас любые данные о группе Беркута. Тем не менее воспринял это напоминание как намек. Грубый намек.
– Что нового он предложил на этот раз? – закурил гауптштурмфюрер, забыв спросить разрешения у подполковника. Штубер вообще вел себя так, словно перед ним стоял не шеф отделения абвера, а вызванный им для доклада подчиненный. И все же Ранке не хотелось портить отношения с этим человеком. В конце концов, именно с его помощью он намеревался захватить разведчиков или кто они там на самом деле, действующих в группе Беркута. Подполковник был уверен, что эта диверсионная группа состояла не из окруженцев, как считали в гестапо и сам Штубер, а из опытных профессионалов. Которые умышленно оказались в их тылу. Другое дело, что, выдавая себя за обычных фронтовиков, они сколачивают специальный отряд, занимаясь по ходу событий его подготовкой. Но это не должно успокаивать. Уничтожить эту группу будет куда сложнее, чем обычную стаю очумевших от страха мужичков-окопников.
– Могу сказать только то, что Беркут ведет себя все более дерзко. Даже беглый анализ донесений о проведенных им операциях позволяет заметить интересную особенность этого человека: он лично участвует в операциях, на которые мог бы посылать любого из рядовых.
– Но согласитесь, что это наиболее рискованные операции, – насмешливо сощурился Штубер. В смуглом полноватом лице его не было и намека на арийские черты, поэтому можно лишь догадываться, каким образом этот человек оказался в войсках СС, причем с первых дней их существования, да к тому же сумел стать офицером.
Однако Ранке точно известно, что начинал Штубер со специальных поручений в Испании в период гражданской войны. А затем оказался в Австрии. Таким образом, еще до лета сорок первого он успел провести несколько полубезумных, как называли их в управлении абвера в Берлине, операций. А вот о том, что Штубер воевал в этих местах в июле сорок первого, Ранке почему-то слышал впервые.
– Да, наиболее рискованные. Будем справедливыми по отношению к этому человеку, – согласился подполковник. – Но какова основная цель? Я имею в виду не отдельные операции, а деятельность группы в целом. Беркутов такого полета на мелкую добычу – обозников и полицейских – не бросают. И почему он в лесу, а не попытался укорениться в абвере, гестапо или хотя бы в полиции? Он ведь довольно хорошо владеет немецким.
– Какой же оказалась его добыча на этот раз? – поинтересовался Штубер, не желая вдаваться в рассуждения.
– Два кретина из местной полиции, патрулировавшие у села Залещики. Они видели, как Беркут вышел из придорожного кустарника. Старший из полицейских сразу же потребовал документы. «Зачем вам мои документы? – ухмыльнулся диверсант. – Я – Беркут. Неужели до сих пор не узнаете?» Услышав это, полицейские на какой-то миг оторопели. Этого оказалось достаточно, чтобы Беркут двумя ударами сбил их обоих с ног. Представляете, двумя ударами? Ну а дальше…
– Простите, какими именно? – прервал его Штубер. – Это очень важно.
Подполковник недовольно поморщился, но все же вкратце описал приемы. Он предвидел этот вопрос. Штубера всегда интересовало, какими приемами пользуется Беркут. Он и сам уже, видимо, свихнулся на всяких там дзюдо и джиу-джитсу.
– Что и говорить, след по себе он оставляет кровавый, – покачал головой Штубер. – Тем не менее брать его нужно живым.
– Разве что, учитывая особенность зоны, в которой приходится заниматься обеспечением безопасности… – нехотя согласился Ранке. – Будь моя воля – я приказал бы стрелять в него из пушек.
– Можно подумать, что у нас уже была возможность пристрелить его, – скептически хмыкнул Штубер. Это «у нас» было данью вежливости. Он-то имел в виду абвер и лично его, Ранке. – Абвер вместе с гестапо, СД, контрразведкой и местной полицией… Хотелось бы знать, чем они здесь занимаются. И замечу, трупы не вызывают у меня никаких эмоций. Война интересует меня лишь как борьба интеллектов и характеров, ловкости и выдержки, риска и рыцарской чести. Все остальное – окопы, истерзанные тела и сожженные села – гнусные издержки, которые, впрочем, не производят на меня никакого впечатления.
– Но согласитесь: ваша группа оказалась в этой крепости лишь благодаря тем, кто прошел через окопы и сожженные села. И только благодаря тому, что они, растерзанные тела многих тысяч солдат вермахта, устлали эту землю кровавым ковром триумфа будущих победителей.
– Несомненно, господин подполковник, несомненно… Хотя могла бы оказаться здесь и без них. И сделать больше, чем все подразделения вермахта, прошедшие через Подолию почти за два года войны. Эту страну с ее гигантскими лесами можно было полностью деморализовать действиями одних только групп хорошо подготовленных диверсантов. Парализовать экономику, устроить межнациональную резню. А затем уже прийти. И захватить за три-четыре месяца. А что касается триумфальных ковров из тел – оставим эти патетические банальности ученикам Геббельса. Это их хлеб.
– Вы прекрасно знаете, что сюда забрасывали сотни всяческих групп. Интересно только, где они теперь?
– Вопрос в том, кого именно забрасывали? Трусливых неучей? С примитивными рациями, к давно перевербованным резидентам?.. Кстати, как чувствует себя тот старикашка, в доме которого, говорят, всю зиму отогревался Беркут?
– Завтра же передам его гестапо.
– Неужели так и не заговорил?
– А он и не пытался отмалчиваться.
– Странно. И что он поведал нам?
– Что раньше Беркут бывал у него довольно часто. В его доме, собственно, и перезимовал.
– Один наведывался, один зимовал?
– Иногда ночевали еще два-три человека. И, как правило, с Беркутом был его ординарец.
– Что, действительно ординарец? – насторожился Штубер.
– Так говорит старик. Он – бывший солдат. И еще одна особенность: старик утверждает, что ординарец и Беркут немного похожи друг на друга. Правда, Беркут более коренаст и, видимо, физически покрепче, но все же деталь довольно любопытная.
– Значит, вместе с ним все еще действует сержант Крамарчук. Старый знакомый. Удивительно живуч. Он описал внешность Беркута?
– Описал. Совпадает с описанием, которое дал один из двух полицейских (врачи чудом спасли его): высокого роста, широкоплечий, могучая грудь, полнолицый, широкий раздвоенный подбородок. Нос по-орлиному загнут, кончик слегка приплюснут.
– Полицейский успел заметить даже такое?
– Нет, это уже со слов старика. Кстати, оба описания совпадают с имеющимся в гестапо. Оно составлено на основании донесений различных лиц, поступавших еще с прошлой осени.
– Гестапо может гордиться. Интересно, зачем Беркуту понадобилось уничтожать патруль? Так рисковать…
– Захватил оружие, патроны, документы… Боюсь, что все это очень скоро ему пригодится.
– Прикажите, пожалуйста, доставить этого отставного солдата ко мне. Не в гестапо, а сюда, в крепость. Со штурмбаннфюрером Роттенбергом я договорюсь сам. Кстати, гестапо получило те же указания относительно моей группы, что и ваш абвер. – «Ваш абвер» Штубер произнес таким тоном, словно речь шла о чем-то не стоящем внимания. – Надеюсь, у них есть кого вешать и без этого древнего старца?
– Планируете какую-то операцию против Беркута? – осторожно поинтересовался подполковник.
– Планирую. Старик может пригодиться.
Подполковник молча кивнул. По тону ответа он понял, что подробностей пока не узнает. Ну что же, он не настаивает.
– Да, с чего это ваш пленник вдруг оказался таким разговорчивым? – спросил Штубер, когда Ранке уже ступил на лестницу. – Меня интересуют мотивы.
– Знаю только, что ни одно из представленных им сведений использовать против Беркута мы не сможем. В доме у старика тот не появляется с марта. Мы следили. А ждать, когда из него начнут выжимать ответы, старику нет смысла.
– Логично, – согласился Штубер. – Хотя логичность в таких делах всегда настораживает.
2
Войдя в башню, старик остановился у входа в темное смрадное подземелье, но конвоир подтолкнул его к ступеням, ведущим на второй этаж. Лесич изумленно посмотрел на него, потом на ступени, которыми ему теперь нелегко будет подниматься, и перекрестился. Может, обрадовался, что не в подземелье, а может, из страха перед тем, что ждет его наверху. Он знал, что идет на смерть. Но знал и то, что люди придумали тысячи смертных мук. И неизвестно еще, какую именно уготовили ему.
Сквозь бойницу ударил в лицо луч предзакатного солнца. От неожиданности старик зажмурил глаза, а когда открыл – слева от нее увидел стройного, плотно скроенного немецкого офицера, который, держа руки на пряжке ремня, смотрел на него невозмутимо и почти сочувственно.
Лесич отвел взгляд, вздохнул и, не дожидаясь разрешения, устало опустился на стоявший рядом стул.
– Ты действительно был солдатом?
– Что? – настороженно поднял глаза Лесич.
– Я спрашиваю: был ли ты солдатом, старик? – не резко, но достаточно твердо переспросил Штубер.
– А, солдатом… – задумчиво повторил Лесич. – Мне семьдесят пять лет. Но когда-то служил. В царской. В Первую мировую.
– Все офицеры царской, естественно, были негодяями?.. Надеюсь, большевики сумели убедить тебя в этом?
– Там были разные офицеры, – пожал плечами старик. – Уж где-где, а на фронте повидал.
«А держится он в свои семьдесят пять неплохо, – подумал Штубер, наблюдая за выражением его морщинистого лица, – волевой и, пожалуй, довольно неглупый человек. Такого следует использовать».
– Тогда ты, наверное, согласишься, что и в нашей армии тоже есть разные офицеры? Как и во всех армиях мира. Стало быть, есть офицеры, на слово которых можно положиться.
– Оно-то так. Да только пули у всех у вас одинаковые. Свинцовые.
– Пули… – холодно усмехнулся Штубер. – Что ты знаешь о пулях, старик? Не пригласи я тебя сюда, быть бы тебе сейчас в гестапо. Атам пулю выпрашивают, как милость Божью. Потому что к ней нужно пройти через ад. Но я не требую благодарности. Я пригласил тебя как старого солдата. Но хочу, чтобы ты тоже не забывал, что перед тобой офицер. Ты хорошо знаком с Беркутом?
– Да, – мрачно ответил старик. – Но где он сейчас – этого я не знаю.
– Допустим… Не бойся, я не стану требовать, чтобы ты вел нас на его базу. Хотя в гестапо ты заговорил бы и о ней. Как думаешь: Беркут из кадровых?
– Он никогда не рассказывал о себе.
– Но ведь ты же опытный солдат. Неужели не сумел различить в нем кадрового офицера? Не поверю в это.
– Знаю только, что это настоящий фронтовой офицер.
– Фамилии своей отцовской он не называл?
– Нет.
– И правильно делал. А не говорил ли тебе когда-нибудь Беркут о том, что в 41-м он был комендантом одного из дотов?
Старик удивленно посмотрел на Штубера и покачал головой.
«Врет, – понял Штубер. – О доте вспоминал. Значит, это тот самый… Громов. Неужели он? – Сначала Штубер считал, что это кто-то из окруженцев, узнав о подвиге Громова – Беркута, присвоил себе его кличку. Чтобы воспользоваться славой. Но внешность, внешность… Описания полностью совпадают. Неужели он так долго продержался?»
– Слушай меня внимательно. Возьми этот конверт. Он не запечатан. Письмо написано по-русски. – Штубер пододвинул один из двух конвертов к краю стола. – Передашь его Беркуту. Сейчас солдат отвезет тебя домой и оставит там. Как и с помощью кого ты будешь искать Беркута – это твое дело. Уничтожить его и всю группу мы можем и без твоей помощи. Но я хочу поговорить с ним. Не допросить, а всего лишь поговорить. Так и скажи ему. В письме я изложил условия, при которых Беркуту будет гарантирована безопасность. Но все же прошу передать устно: слово офицера, что в день нашей встречи ни один волос с его головы не упадет. Если Беркут захочет выдвинуть свои условия, пусть изложит их в записке. Ты вручишь ее часовому у ворот. Впрочем, это может сделать и кто-либо из людей Беркута. Часовые будут предупреждены. Когда поручение будет выполнено, ты должен исчезнуть из этих мест. Если вернешься домой – безопасность не гарантирую.
– Вы на самом деле отпустите меня?
В устах седовласого человека вопрос этот показался Штуберу до смешного наивным. Впрочем, состояние старика можно понять: кто на его месте поверил бы в такое милосердие?
– Бери письмо и иди. У ворот ждет машина. Солдат проводит тебя и выдаст соответствующий документ. В течение десяти суток эта бумажка будет пропуском через любые заслоны. В течение десяти. Все. Ты свободен, старик. Помолись за человека, который подарил тебе по крайней мере десять дней жизни. Иногда на это не способен даже Господь Бог.
Лесич шагнул к выходу, но гауптштурмфюрер остановил его.
– На допросах ты утверждал, будто у Беркута есть ординарец? И они даже немного похожи. Так, может быть, в большинстве операций участвует не Беркут, а тот, другой?
– Нет, Беркут, только Беркут, – уверенно ответил старик. – Храбрый он солдат, вот что я тебе по-солдатски скажу. У меня два Георгиевских креста, и я знаю, о чем говорю. Тот, другой, он помельче, поосторожнее. Ему прикажи – он выполнит. А чтобы самому… чтобы задумать что-нибудь такое…
– Я понял тебя. Узнал немного, но, очевидно, больше ты и не знаешь.
* * *
Когда старик ушел, Штубер снял китель, прилег на топчан и попытался еще раз прокрутить весь план операции.
Успех зависел от того, поверит ли Беркут его слову. Штубер внимательно ознакомился со всеми донесениями, имевшими отношение к деятельности группы Беркута, начиная с осени прошлого года. А также со всем, что касается личности самого Беркута. Спецслужбы рейха многое теряют оттого, что не привлекают таких людей на свою сторону. Особенно выходцев из славянских стран. Вот и получается, что используют в основном тех, кто изменил воинской присяге не из идейных соображений, а, как правило, из трусости. Отсюда и результат.
Конечно же, он не уверен, что на этот раз Беркута сразу же удастся завербовать. Ведь не удалось же сделать это в июле сорок первого. Но попытаться все же необходимо. Прошло время. Война затянулась… У Беркута было время подумать. Да, он будет подбирать для работы на Украине только таких агентов. Как это делает Отто Скорцени. Тем более что именно Скорцени рекомендовал высокому начальству еще раз направить Штубера сюда, за Днестр, в район, где намечалась временная фронтовая ставка Гитлера. По замыслу Отто, Вилли Штубер должен был воссоздать свой специальный отряд по борьбе с партизанами и агентурой русских непосредственно в лесах. Бороться с партизанами партизанскими методами – вот в чем была идея создания отряда, который практически никому не подчинялся на этой оккупированной территории, пользуясь в то же время полнейшей поддержкой абвера, гестапо, сигуранцы, полевой жандармерии, полиции и местных военных комендатур.
Кроме того, Скорцени считал, что именно здесь, на востоке, его люди – Штубер, Зебольд и Лансберг – еще раз смогут получить истинную закалку, которая в будущем им очень и очень пригодится. Ему, Скорцени, естественно, тоже. Еще не обладая никакой реальной властью в рейхе, Отто тем не менее старался повсюду внедрять своих людей. Проталкивал их, пристраивал, до поры до времени «консервировал»… Он ждал своего часа.
Да, Беркут нужен был Штуберу только живым. Нет уверенности, что тот согласится служить в его отряде. Но шанс… Шанс появился. Штубер усматривал его в бесшабашности самой натуры лейтенанта. По опыту знал, что для людей с таким характером, как у Беркута, главное – самоутверждаться в бою, познавать цену риска, испытывать судьбу. Однако что выгоднее – рисковать и выкладываться на операциях, не извлекая из этого никакой выгоды, или делать то же самое, получая награды, повышения в чине и все остальные радости жизни? Короткой жизни. У таких людей, как они, долгой она не бывает. Миг. Вспышка. Но зато какая вспышка!..
Штубер твердо верил, что каждая нация рождает людей, призвание которых – риск, игра со смертью, отчаяннейшие попытки испытать свои настоящие возможности. Таких людей немного. Но они существуют. И им необходимо каким-то образом объединяться. Или, по крайней мере, поддерживать контакты, постепенно формируя свой, особый, кодекс чести, свой образ существования, свои взгляды на него…
Гауптштурмфюрер был убежден, что будущее не за какой-либо отдельной нацией, как это считал Гитлер. Объявить высшей одну нацию – значит настроить против себя весь остальной мир. Что, собственно, и произошло. Грядущее же – за межнациональной элитой преданных идее национал-социализма, особо – физически и морально – подготовленных людей. Которых он даже не стал бы называть сверхчеловеками. Просто особо, специально подготовленные люди. Именно таких людей собирал вокруг себя и готовил Скорцени. Правда, он делал это из преданности фюреру. Во всяком случае, пока… Штубер же такой преданности Гитлеру не ощущал. Он признавал лишь сверх-идею.
3
Утром в лагерь Беркута, находившийся в урочище Марищи, вернулся из разведки Иван Колар. Завидев его, Беркут (он как раз учил бойцов снимать часовых – это была одна из ежедневных тренировок группы) жестом приказал Николаю Крамарчуку продолжать занятия без него.
– Докладывай. Только не торопясь, основательно, – попросил Колара, отводя его в сторону.
– Удалось побеседовать с женой брата Лесича. Мальчишка сказал правду. Все подтвердилось. Старика взяли, и, говорят, сейчас он в Подольске, в гестапо. Я следил за его домом до полуночи. В соседней хате – через дорогу – засада. Три полицая. Ждут, когда ты решишься навестить старика.
– А в самой хате Лесича?
– Да вроде никого. На дверях замок. Во дворе тихо.
– Ну что ж, если ждут – придется навестить. Так, говоришь, их там всего трое? – задумчиво переспросил Беркут, разглядывая мокрую, измазанную глиной одежду разведчика.
– Не огорчайся: после первого же выстрела поднимут по тревоге полицейскую управу в селе. Да и от местечка всего-то километра два. Не зря шоссе возле села всю ночь патрулировали полицаи и полевые жандармы на мотоциклах.
– И что ты предлагаешь?
– Лесич не выдержит. Слишком стар. А ему известно, что лагерь наш здесь, в Марищах. Нужно поскорее менять базу.
– Божественная мысль. А куда уходить? Ты же знаешь эти места лучше всех нас.
– Надо подумать. Наверное, подальше отсюда. Лучше всего – в Градчанский лес.
Беркут положил руку ему на плечо, потряс, словно призывал к более дельной фантазии.
– В Градчанском действует отряд Иванюка. Большой отряд. Там и без нас тесно. Словом, действительно надо хорошо подумать. А пока свободен. Поешь и отдыхай.
«Стало быть, фашисты каким-то образом пронюхали, кто выручал тебя этой зимой… – Беркут устало потер пальцами виски, подошел к ручейку, лег и окунул лицо в прохладную воду, пахнущую сосновой хвоей и прелой прошлогодней листвой. – Он выручал тебя, а теперь сам ждет смерти. Из-за тебя. Несправедливо… Старый солдат, георгиевский кавалер… Интересно, как он держится? Снилось ли ему, что в семьдесят пять придется умирать по-солдатски?»
Еще тогда, зимой, Беркут несколько раз предупреждал старика, чтобы он знал, чем рискует, если о его связях с партизанами станет известно фашистам. Поначалу Лесич все отшучивался. Но однажды не выдержал: «Знаешь, почему меня считали самым храбрым разведчиком в полку? – негромко спросил он. – Потому что я очень боялся смерти. Настолько боялся ее, что умудрялся возвращаться даже из тех вылазок, во время которых все, кто был со мной, гибли».
Мудро говорил старик. Мудрее не скажешь. Он, Андрей Громов, тоже боится смерти. До такой степени боится, что Крамарчук уже давно считает его человеком без нервов. Хотя Николай сам способен поразить своим мужеством кого угодно. Впрочем, речь сейчас не об этом. Он старался быть честным в отношении георгиевского кавалера. Откровенно говорил о смертельном риске. От этого Лесичу, ясное дело, не легче. Но все же Громову хотелось, чтобы старик помнил об этом и не так проклинал его, ожидая своего смертного часа.
Ну а что касается Крамарчука… В последнее время Громов стал замечать, что сержант копирует его: в жестах, манере говорить, приказывать, даже в улыбке. Неужели таким образом пытается постичь секрет его бесстрашия? Хотя какое тут, к черту, бесстрашие? Так уж сложилась судьба, что он привык к риску, к опасности, научился сдерживать свои чувства. А возможно, это у него в крови. Наследственное, что ли.
Дед его вполне серьезно утверждал, что один из древнего казацкого рода Громовых даже участвовал в основании Запорожской Сечи. Кстати, фамилия прадеда Андрея еще звучала на украинский лад – Грим. Это уже дед, ставший офицером царской армии, был записан Громовым. При присвоении ему за особую храбрость чина прапорщика. И что обладал этот их запорожский предок необыкновенной силой и был удивительно мудр и везуч. Не зря легенды о нем передавались из поколения в поколение. А другой, более близкий предок, полковник Северин Грим, привел свой казачий полк на маньчжурскую границу уже после упразднения Сечи – охранять берега Российской империи. Рассказывали, что рубился он двумя саблями, стоя в стременах и затиснув поводья в зубах, и что правой рассекал до седла, а левой – до пояса. Легенда, пожалуй… Но не слишком ли много легенд для одного рода?
Вот только до обидного нелегендарной получилась гибель полковника Грома во время одной стычки на границе. Мелкой, бессмысленной стычки, в которую полковник мог бы и не ввязываться. Впрочем, редко кто из мужчин рода Громовых умирал своей смертью. В основном все погибали в боях и схватках. Тем не менее деду его повезло – все-таки дожил до старости. Правда, сам он не очень-то радовался своему нечаянному долгожительству. Однако это уже другое дело. Ему, Андрею, этого деда сам Бог послал. Мать умерла, когда Андрею было всего семь лет, и отец, командир Красной Армии, проведший всю свою молодость по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири, отдал его на попечение деду. Но поскольку сам дед тоже жил в своем домике на окраине Хабаровска жизнью одинокого отставного офицера, воспитанием Андрея, в сущности, занимались соседи – чета немцев-интернационалистов.
Иногда Андрею казалось, что именно эти двое очень красивых, любящих друг друга людей и были его настоящими родителями. От них он перенял многое: немецкий язык, ставший для него почти родным, сдержанность, суровость характера, истинно прусскую аккуратность и требовательность к себе.
В Гражданскую эти двое, тогда еще жених и невеста, тайком пробрались в Россию, чтобы защищать мировую революцию. Но оказалось, что мировая революция не очень-то нуждается в их яростном энтузиазме. Плохо зная русский язык, а еще хуже – нравы и обычаи пролетарской России, юные интернационалисты попадали из одного кошмарного переплета в другой. И закончилось их «участие в революции» тем, чем, очевидно, и должно было закончиться. Один из горячеголовых командиров красного партизанского отряда предал их скорому и неправедному революционному суду, который сам и вершил. Не мудрствуя лукаво он приговорил бывших студентов «как гидру мировой контры» к «пролетарской мести». Как потом популярно объяснил охранявший их в сарае сочувствующий коновод, сам побывавший когда-то в немецком плену, это означало самый обычный расстрел на рассвете.
Однако ночью село захватили белогвардейцы. И утром уже самого командира, на коленях умолявшего подарить ему жизнь, расстреляли «как гидру мирового большевизма», а супругов Штиммеров, которые честно сознались, каким образом они попали в отряд, спас юный подпоручик, отпрыск немецких баронов. Он приказал высечь своих земляков плетками и отправить ближайшим поездом «в сторону Сибири», посоветовав при этом начинать свою пролетарскую революцию с Чукотки, ибо тамошнему населению эта «классовая дикость» будет куда понятнее, чем европейцам.
Вот эти люди, преподававшие немецкий язык в школе, где учился Андрей Громов, и взялись за его «классическое немецкое образование», втайне надеясь, что старик скоро умрет, отец погибнет и они, бездетные, усыновят мальчика. Но, как назло, старик умирать не спешил, а к «классическому» образованию внука относился довольно скептически. На летние каникулы он специально отправлял Андрея в соседнюю таежную деревню к своему давнему другу, охотнику и врачевателю китайцу Дзяню, чтобы тот выбивал из него «гимназическую смуть» и «воспитывал, как и подобает воспитывать будущего офицера».
У Дзяня Андрею жилось нелегко. Хотя тот никогда и не наказывал его, однако по натуре своей был человеком крайне жестким, не признающим ни слабостей человеческих, ни снисхождения к ним. Строго придерживаясь аскетического образа жизни, он упорно требовал того же от юного Громова.
Когда Андрею исполнилось двенадцать, Дзянь впервые на целый месяц взял его с собой в тайгу, приучая к невзгодам охотничьей жизни. Охотничье житье-бытье совершенно не привлекало Андрея. Хотя и дало ему, как он сейчас понимает, немало. Куда больше интересовали его приемы японской борьбы, которой Дзянь фанатично увлекался с раннего детства. Своим фанатизмом он сумел заразить и Андрея. Каждый день в любую погоду они с Дзянем отрабатывали эти приемы в тайге на берегу речки. Два часа утром и два – в закатную пору.
Дзянь даже как-то сказал деду, что его поражает способность парнишки постигать великую истину приема и что со временем Андрей сможет встречаться с известными японскими мастерами дзюдо и джиу-джитсу. Вот только подготовить его к этому не успел. Случилось так, что однажды Дзянь не вернулся с охоты. При встрече с уссурийским тигром-людоедом, которого Дзяня попросили убить, у него отказало ружье. Невольным свидетелем его гибели стал один беглый заключенный. Потом, на допросе, он рассказывал, что, уклонившись во время первого прыжка, охотник еще яростно отбивался прикладом ружья и всяческими приемами. Беглец был безоружным и наблюдал за этим странным поединком, спрятавшись в каменных россыпях.
Потосковав несколько дней, Андрей наведался к младшему брату Дзяня и попросил: «Возьмите меня к себе учеником». Линь, конечно, уступал своему брату по технике исполнения приемов. Зато он сумел создать для Андрея настоящую самурайскую программу, отобрав приемы, наиболее важные для солдата…
– Так что, командир, будем готовить новую операцию? – задумавшись, Беркут не заметил, что, перепрыгнув ручей, Крамарчук уже стоял в двух шагах от него.
– Непременно. Причем готовить очень тщательно.
– Неужели пойдем освобождать Лесича? Так ведь не освободим. К нему и с сотней не пробиться. Это же гестапо.
– Вот именно, гестапо… – процедил Беркут сквозь зубы. – Слишком испуганно ты говоришь о нем.
– Разве что сумеешь придумать что-нибудь такое… – передернул плечами Крамарчук. – По правде говоря, до сих пор нам везло.
– Нужно выяснить, что с Лесичем. Где он и что с ним. А гестаповцы должны понять, что в засаде следует оставлять не троих, а по крайней мере три десятка. И не вонючих полицаев, а эсэсовцев. Предупреди Костенко, Готванюка, Корнева, Мазовецкого и Колара, что после обеда выступаем. Мазовецкий должен быть в мундире вермахтовского унтера. Остальные – в форме полиции.
– Но ведь пойдет нас только семеро. Да и группа наша… Давно могли бы собрать большой отряд. Почему мы всех отсылаем к Иванюку? Был бы свой отряд – ударили бы не то что по засаде, а даже по гарнизону Подольска.
– Так ты ничего и не понял, – покачал головой Беркут… – Наше преимущество именно в том и заключается, что нас маловато для того, чтобы вызывать на себя большие карательные экспедиции. А бьем фашистов не хуже, чем отряд Иванюка.
4
Под вечер в один из дворов на окраине Залещиков вошел оберштурмфюрер СС.
– Осмотреть, – приказал по-немецки унтер-офицеру и сопровождавшим его полицейским.
Те бросились в хату и через несколько минут вытолкали на крыльцо троих основательно подвыпивших полицаев. Уже без оружия и ремней.
– Что за войско? – властно спросил офицер по-русски, но с явным немецким акцентом, окидывая полицаев презрительным взглядом.
– Приказано вести наблюдение за соседним домом, господин офицер, – вытянулся старший среди них, одергивая измятый френч. – Хозяин водился с партизанским главарем. Его арестовали, а мы ждем, когда из леса заявится сам этот бандюга.
– И кто же его арестовал? – кивнул эсэсовец в сторону усадьбы Лесича.
– Гестапо, господин офицер.
– А почему решили, что он связан с партизанами? Насколько известно нам, службе безопасности, он поставлял ценные сведения о большевистском подполье в этом селе и в Подольске.
– Так ведь есть донесение агента гестапо, господин офицер.
– Агента? Фамилия? И почему об этом донесении известно вам, полицейскому?
– Так агент же из наших, местных, – пожал плечами старший. – Кравчук его фамилия. До войны в Подольске работал. На железной дороге. Хата его – у левад, около сгоревшей мельницы. Только, господин офицер… – замялся полицай. – Обо всем этом намного лучше знает староста. А я… я так, случайно… Слышал, как разговаривали господа из гестапо. Немного понимаю немецкий.
– Черт знает, что здесь творится, – проворчал оберштурмфюрер, обращаясь к унтер-офицеру. – Лесич – наш агент. Ион нам срочно нужен. Слушайте, вы… – вновь презрительно оглядел полицаев. – Если окажется, что Лесича арестовало не гестапо, а уничтожили вы, переодетые партизаны, мне придется повесить всех вас за ноги. Кстати, где хозяин этой хаты?
Двое полицейских из сопровождения оберштурмфюрера услужливо вытолкали на крыльцо пожилого человека на деревяшке. Беркут знал его: Иван Княжнюк. Не раз видел этого старика на подворье, когда ночевал у Лесича.
– Хозяина связать, – приказал. – Этих троих – в сарай. До выяснения личностей. Когда вас должны сменить? – спросил у старшего.
– После захода солнца.
– Вот тогда и освободим.
Полицаи не могли понять, в какой переплет они попали из-за ошибки гестаповцев, и покорно зашли в сарай. Их сопровождал лишь унтер-офицер. А через несколько минут оттуда донеслись три негромких пистолетных выстрела и крики гибнущих людей. Когда все затихло, унтер-офицер вернулся к эсэсовцу.
– Хозяина тоже туда, – приказал оберштурмфюрер по-немецки. Старик все еще не узнавал его. – Общество не из приятных, но стерпит. Терпение – ворота в рай.
Лицо Княжнюка посерело от страха, и он уже не мог сам дойти до сарая. Мазовецкому и Крамарчуку пришлось чуть ли не вносить его туда.
Но перед самой дверью старик все-таки сумел разглядеть лицо Крамарчука.
– Ведь ты же Беркут, – прошептал он побелевшими губами. – Я узнал тебя. Ты – из леса. Партизан. Беркут.
– Точно, дед, я действительно Беркут, – не растерялся Николай. – Однако лучше не узнавай меня. Во спасение души. Здесь был эсэсовец, который приказал расстрелять полицаев, приняв их за переодетых партизан, – вот все, что ты знаешь. Руки пусть пока будут связаны. Дождись кого-нибудь из немцев или полицаев. Тебе понадобится надежный свидетель.
Когда Крамарчук вернулся, Беркут приказал ему и Корневу немедленно навестить Кравчука.
– Пойдете лесом. В селе видеть вас не должны. И судите его тихо, но беспощадно. Ты все понял? – спросил у сержанта, зная, что любую, даже самую незначительную операцию тот всегда готов «слегка приукрасить». Удивительное дело – этот человек отговаривает его от каждой рискованной операции, а потом, выполняя ее, начинает вытворять черт знает что. – Тем временем ты, Колар, проберешься к хате Лесича и осторожненько выведаешь, что там происходит. Если в хате никто не пьянствует, спрячься где-нибудь во дворе. На всякий случай. А господин унтер-офицер остается на месте, – шутливо обратился к Мазовецкому, – любуется пейзажем и не забывает поглядывать на шоссе. Ты, Костенко, побудь за сараем. Готванюк – со мной в хату. Если подойдет смена, – обратился к Владиславу, – пропустишь. Скажешь, что полицаи, мол, пьют с господином эсэсовским офицером.
Поляк одобрительно кивнул и улыбнулся. Он единственный в группе, кроме Беркута, кто хорошо знал немецкий, потому что рос в селе, где жили немецкие колонисты, а кроме того, интенсивно изучал его, когда готовился к профессии разведчика. Мазовецкий был польским офицером. После оккупации Польши фашистами он, вместе с несколькими другими офицерами, сумел пробраться через Скандинавские страны в Англию. А прошлой весной, после соответствующей подготовки, его и еще двоих парашютистов англичане забросили на территорию Польши, вблизи от границы с Советским Союзом. Кто знает, как сложилась бы судьба Мазовецкого, если бы хозяин квартиры, где парашютисты должны были некоторое время скрываться, не оказался предателем. Двоих товарищей Владислава гестапо расстреляло, а его привезли во Львов и там попытались завербовать, чтобы потом заслать в отряд польских партизан.
Вербовка абверу «удалась». Поручик Мазовецкий дал согласие и был направлен в специальный учебный лагерь в Карпатах, но при первой же возможности бежал оттуда. Побег оказался трудным: Владислав несколько раз попадал в облавы и только чудом, уже раненый, сумел добраться до Подольска, где жила его дальняя родственница. Она-то и помогла несостоявшемуся разведчику связаться сначала с Лесичем, а потом, через него, с партизанами-беркутовцами.
Беркут тогда не сразу поверил ему. При первой же встрече с поручиком он рассказал о встрече с майором Поморским и его группой и был очень удивлен, что Мазовецкий ничего не слышал ни о Казимире, ни о Залевском. Хотя Владислав с товарищами должен был совершить рейд от польской границы до Подольска, так сказать, по «старым польским землям». Ему казалось невероятным, что группе Мазовецкого не дали пароль для встречи с Поморским или Залевским.
Владислав прислонился к плетню, закурил и стал наблюдать за улицей и частью проходившей невдалеке дороги. Пока там было подозрительно спокойно. Лишь однажды нервно протарахтела одинокая повозка, а через несколько минут прогромыхала машина, после которой еще долго не улеглось облако пыли.
Тем временем Беркут и Готванюк вошли в хату. На столе стояла недопитая бутылка самогона и лежали две банки немецких консервов. Готванюк взялся было за бутылку, но Беркут остановил его:
– Не время. Ничего не трогать. Стань у окна, чтобы мог видеть дорогу.
Сам уселся на скамье у печи, обвел взглядом изрядно запущенную хату Княжнюка, уже несколько месяцев не знавшую женских рук (Беркут слышал от Лесича, что хозяйка умерла под самый Новый год), и устало закрыл глаза. Раньше чем через час смена полицаям не заявится – значит, можно чуток вздремнуть.
Прошло минут пятнадцать. Лучи предзакатного солнца окрасили багрянцем окна. В комнате воцарился полумрак. Готванюк сидел у окна, упершись локтями в подоконник и, раскачиваясь из стороны в сторону, то ли бессловесно тужил, то ли что-то напевал про себя.
Прислонившись к стене, Беркут задремал. Но очень скоро его разбудил крик Готванюка:
– Командир, швабы!
– Давно пора, – с сонным спокойствием отозвался Беркут. – Сколько их?
– Откуда ж я знаю?! Машина у них крытая. Вон, точно, сюда едет!
– Всего лишь одна машина? – удивленно уточнил Беркут, не спеша поднимаясь. – Рискованно. Ну ладно. Во двор. Держись свободнее. Стрелять только в крайнем случае.
Мазовецкий услышал рокот мотора еще раньше их и, поудобнее пристроив на плетне перед собой шмайсер, приготовил гранату. Затем краем глаза проследил, как, выскочив из-за сарая, залег за поленницей, поближе к воротам, Костенко.
А вот и «оберштурмфюрер». Подошел к калитке, расстегнул кобуру и, вынув из кармана пачку немецких сигарет, принялся угощать его, «унтер-офицера». Эту сцену и увидел из кабины немецкий ефрейтор, когда его машина остановилась возле усадьбы Лесича. Еще через мгновение из кузова выпрыгнул рядовой вермахтовец, а за ним и сам хозяин усадьбы.
Беркут и Мазовецкий недоуменно переглянулись. Появление здесь Лесича было или подарком судьбы, или черной вестью о хорошо продуманной немцами операции. Случайность казалась невероятной. Как истинный служака, ефрейтор вышел из кабины и, став по стойке смирно, отдал им честь.
– Возьмешь солдата, – вполголоса бросил Беркут Готванюку. – А ты, унтер, – водителя. Живым.
5
Крамарчук и Корнев добрались до усадьбы Кравчука примерно за полчаса. К хате скрытно подходили по пологому подковообразному склону возвышенности, щедро поросшей травой и мелким кустарником. Весь этот уголок села был необычайно красив, и Николаю даже стало досадно, что такому негодяю выпало жить среди такой удивительно живописной природы.
– Ты мне одно скажи: как, живя в этом раю, можно было продавать людские души? – словно бы угадал его мысли Корнев.
– В раю их в основном и продают, – проворчал Николай. – Главное, чтобы больше он этим раем не любовался. Беспощадно, но справедливо, как любит говорить Беркут.
Они залегли за кустами малины и несколько минут наблюдали за подворьем, на котором хозяйничала не в меру располневшая женщина лет сорока – сорока пяти.
– Только бы эта лахудра шума не подняла, – вздохнул Корнев. – Иначе придется…
– Не придется, – резко оборвал его Крамарчук. – Не трогать. И так Богом обижена.
Выждав еще минутку, он вышел из-за кустов и, так ничего и не объяснив товарищу, не спеша, как бы прогуливаясь, направился по тропинке во двор. Еще не уловив его замысла, Корнев тем не менее тоже, не колеблясь, поднялся и пошел следом.
Увидев их, женщина на какое-то мгновение застыла с миской в руках, из которой кормила кур. По мере того как эти двое приближались к ней, женщина все больше съеживалась, делалась мельче и неприметнее, словно надеялась остаться незамеченной.
– Бог в помощь, хозяюшка, – почти приветливо поздоровался Николай. – Господин Кравчук здесь проживает?
– Здесь, – испуганно пролепетала она. – Ефим, к тебе! – пролепетала неожиданно тонким голоском.
– Кто? – сразу же появился на пороге хозяин. Он был в штатском, но из-за пояса брюк выглядывала рукоятка пистолета, которую он небрежно прикрывал ладонью.
– Почет и уважение, господин Кравчук. Из Подольска мы, из полиции. Срочное дело, – не сводя глаз с пистолета, уверенно шел на него Крамарчук. – Есть приказ шефа гестапо…
– Кого, кого?! – недоверчиво переспросил Кравчук, ступая ему навстречу. Это был приземистый мужичок лет пятидесяти, с обвисшими плечами и землистым лицом. Под вышитой, посеревшей от пыли и пота рубахой, словно ворованная тыква, несуразно выпирал живот.
– Шефа гестапо, – уже более сухо повторил Крамарчук, ощущая в слишком пристальном взгляде агента воинственное недоверие. – Мы от него. Однако хотелось бы поговорить без хозяйки, – взглянул на женщину. – В доме что, гости?
– Нет там никого, – ответил Кравчук и так же пристально посмотрел на Корнева, который уже стоял чуть позади Николая. – Вас тоже не ждали. Но коль уже во дворе… то прошу, прошу… – заулыбался Кравчук и вдруг, не переставая улыбаться, схватился за пистолет. Выстрелить он все же сумел, однако Николай успел отбить руку и, выхватив из-за пояса нож, ударил Кравчука в грудь.
– Беркут! Беркут!.. – прорычал Кравчук. – Япочув…
Следующий удар ножом заставил его умолкнуть навсегда. Однако сразу же ойкнула и запричитала женщина. Запричитала на удивление тихо, будто не желала, чтобы кто-либо из соседей узнал о том, что здесь происходит.
Стараясь не обращать на нее внимания, Крамарчук подобрал с земли пистолет и только теперь вдруг заметил, что Корнев почему-то медленно оседает на траву. Тихо, без стона, зажав невидимую на груди рану.
Николай бросился к нему. Успел подхватить под мышки. Нащупал пальцами большое вязкое пятно крови. Но помочь уже ничем не мог.
– Как же это? – растерянно бормотал он. – Как же… это получилось? Ведь все шло так хорошо…
Осторожно положил голову убитого на землю, растерянно оглянулся, как будто надеялся найти кого-то, кто сумел бы объяснить ему происшедшее, и… оцепенел. В двух шагах от него, с занесенным над головой топором стояла Кравчучка, о которой в эти несколько минут он совершенно забыл. Что удержало ее? Какой доли секунды, какой капли решительности не хватило этой отчаявшейся женщине, чтобы ступить еще шаг и зарубить его – этого он уже не поймет никогда. Но не хватило.
Николай оглянулся, взгляды их скрестились, и женщина на мгновение замерла. Она смогла, решилась бы ударить сзади, неожиданно, пока не встретилась взглядом со своей жертвой. Однако момент был упущен, и теперь, когда Крамарчук заметил ее…
Все еще не сумев прийти в себя, Николай в каком-то немыслимом прыжке отпрянул в сторону и в следующее мгновение резко ударил женщину ребром ладони по плечу. Зазвенел на камнях топор. Кравчучка вскрикнула от боли, схватилась за плечо и присела. В зеленой кофте и зеленом платке она была похожа на огромную затаившуюся жабу.
Лихорадочно оглядевшись, Николай подхватил сначала свой карабин, потом карабин Корнева. Поблизости никого. Но надо спешить. Если выстрел услышали в селе, то с минуты на минуту здесь могли появиться полицаи.
– А твоего мы казнили, потому что заслужил! – бросил он Кравчучке, спеша к левадам, за которыми начинался лес. – Сама знаешь, что продался гестапо, и знаешь, сколько крови на его совести. – И, словно оправдываясь перед самим собой за случившееся, добавил: – Вот такая она… суровая действительность.
Это «суровая действительность» он позаимствовал у Беркута, но никогда не решался произнести в его присутствии. Да и теперь оно вырвалось само собой.
С вершины холма Николай еще раз оглянулся на усадьбу Кравчука. Там было тихо. Какая-то удивительная тишина воцарилась вокруг. Будто здесь ничего и не произошло, будто не было ни выстрела, ни криков, ни двоих убитых. И не оставался там, во дворе, его товарищ Семен Корнев, вместе с которым воевал и с которым столько раз познавал и страх, и голод, и отчаяние. Оставался теперь уже навечно.
«Да, но почему она не причитает? – вспомнил вдруг о Кравчучке. – Нет, действительно, почему она молчит? Почему не проклинает меня? Так не должно быть. Каждое убийство должно быть проклято».
6
Как только Лесич ушел, в башне Штубера, служившей одновременно и его жилищем, и штабом отряда, сразу же появился фельдфебель Зебольд.
– Господин гауптштурмфюрер, пленные доставлены. Двенадцать человек. Старались отбирать самых крепких. Из тех, что были под рукой, разумеется.
– И они в состоянии будут выдержать хотя бы полчаса интенсивной тренировки?
– Похоже, что в лагерях для военнопленных кормят несколько хуже, чем в силезских ресторанах, – мрачно заметил Зебольд. – Но парни пока еще свеженькие, большинство должно продержаться.
– Не завидую тому, который достанется вам, – Штубер смерил взглядом огромную гориллоподобную фигуру фельдфебеля и нервно передернул плечами.
– Сегодня в гладиаторских боях я не участвую. Отдыхаю. С вашего позволения, конечно, – спохватился фельдфебель.
– Струсили? Ладно-ладно, этот отдых вы заслужили.
Больше всего Штубера поражали необыкновенной ширины кости этого человекоподобного существа. Казалось, сокрушить их не способна была никакая сила. В последнее время для тренировок он все чаще брал в партнеры именно этого мужлана, и хорошо знал, каких адских усилий стоило порой блокировать его удар или провести прием самому. Что же касается силезских ресторанов, то Зебольд вспомнил о них не случайно. Он происходил из силезских немцев и вплоть до тридцать восьмого года жил в Польше. Именно там его и завербовали для работы в абвере, предвидя в нем великолепного исполнителя диверсионных акций. Выбор был точным. Это был прирожденный террорист. А точнее, просто громила. Не зря, кроме действий против врага, время от времени ему поручали еще одну довольно деликатную миссию, о которой в группе знал только Штубер. В его обязанности входила ликвидация агентов, по каким-либо причинам потерявших доверие руководства немецкой разведки, в частности если возникало устойчивое подозрение, что агент перевербован, проявил слабодушие или просто созрел для явки с повинной.
Однако знал Штубер и о том, что эти деликатные операции требовали необыкновенно аккуратной, «ювелирной» работы, и поручали их профессионалам самой высокой квалификации. А Зебольд к тому же исполнял еще и функции своего рода инспектора. То есть, довольно часто судьба агента зависела исключительно от впечатления, которое он произвел на этого невпечатлительного верзилу.
За несколько месяцев до нападения на Польшу Зебольд, проходивший в секретных донесениях абвера как агент Витовт, оказался в Германии. Здесь он прошел ускоренную подготовку и вскоре был заброшен в Силезию, уже как командир группы парашютистов. За две ночи до начала войны эта группа, как и десятки других, ей подобных, словно смерч прошлась по приграничной полосе, взрывая полотно железной дороги и административные здания, уничтожая все, что попадалось на пути. Именно после этой операции своеобразного польского варианта «хрустальной ночи» его и заметили сначала в абвере, а затем и в отделе диверсий СД Главного управления имперской безопасности.
– Поднимайте рыцарей, фельдфебель, – приказал Штубер. – Тренировку проводить в углу двора, между башней и стеной. Я буду наблюдать за ее ходом из бойницы.
– Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер.
– Возле места тренировки поставьте трех солдат с автоматами. На всякий случай.
– Я прослежу. Случаев не будет, – ответил Витовт с угрюмым спокойствием. Когда он говорил в такой манере, мало кому приходило в голову усомниться в его исполнительности, правдивости его слов или верности обещанию. Не говоря уже об осуществлении его угроз.
Зебольд вышел, а Штубер еще с минуту стоял у двери, напряженно прислушиваясь к его шагам. Гауптштурмфюрер понимал, что он, Вилли Штубер, тоже наводит ужас на многих людей, которые оказываются зависимыми от него. Но разве он позволил бы себе признаться кому бы то ни было, что и сам испытывает неизъяснимую волну беспокойства при каждом появлении Витовта? Он и в группу этого фельдфебеля зачислял неохотно, только потому, что не нашел веских причин отказаться от его услуг. Штубер прекрасно понимал, что если в большой игре высоких чинов сам он тоже вдруг окажется лишним, Зебольд немедленно ликвидирует и его. Лучшего палача им просто не найти. И хотя в такой финал своей карьеры Штуберу верить не хотелось, какое-то подсознательное опасение в нем все же прорастало.
Убедившись, что к тренировкам уже все готово, Штубер решил тоже спуститься вниз. Пленные уныло стояли у стены (Зебольд, видимо, специально поставил их так, словно собирался расстреливать, – он любил такие эффекты) и настороженно следили за «рыцарями», которые с автоматами наготове перекрывали выход из крепостного закоулка.
Ни о чем не спрашивая, не делая никаких замечаний, сохраняя абсолютную невозмутимость, гауптштурмфюрер приблизился к отошедшему чуть в сторону от других пленному – коренастому русоголовому парню лет двадцати – и изо всей силы ударил его кулаком в грудь. Тот качнулся, уперся плечами в стену и глухо застонал. Возможно, не столько от боли, сколько от ярости. Но все же сдержался. Выждав несколько секунд, Штубер сделал вид, будто уходит, но, неожиданно развернувшись, так же молча ударил его еще раз. Теперь уже в лицо. Этот удар пленный попытался блокировать, однако не успел.
«Слишком замедленная реакция, – разочарованно отметил про себя Штубер, – первый признак того, что перед тобой ненатренированный, плохо обученный даже обычному солдатскому ремеслу окопник». И, не спуская глаз с избранной жертвы, отошел поближе к часовым. Парень недоуменно смотрел на своих товарищей. Несмело, бочком, приближался к ним, словно опасался, что после всего, что произошло, они просто-напросто не примут его в свое, пусть униженное, но все же товарищество. Должно быть, он усмотрел свой проступок в том, что отважился держаться в стороне от остальных.
– Пленные, – обратился к ним Штубер по-русски, – сегодня мы расстреливать вас не будем. Но тогда возникает вопрос: зачем же вас привезли сюда? Согласитесь, что таким молодым людям, как вы, время от времени нужны какие-то развлечения, не правда ли? Так вот, сегодня я даю вам возможность поразвлечься. Сейчас мои парни будут проверять на вас свою физическую подготовку. При этом вы имеете право защищаться всеми возможными способами. Из истории вы знаете о поединках гладиаторов в Древнем Риме. Так вот, считайте себя гладиаторами. Сражайтесь мужественно и смело. И запомните: кто струсит или не продержится хотя бы час – останется у этой стены навсегда.
Гауптштурмфюрер многозначительно посмотрел на Витовта. Тот молча кивнул и приказал солдатам выбирать себе напарников.
– Этого, – показал Штубер на русоголового здоровяка, – использовать не более пятнадцати минут. Он нужен мне свежим.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер.
«А что, неплохо звучит – гладиаторы! – думал он, поднимаясь на башню. – В конце концов, все мы здесь гладиаторы. Только вряд ли среди высокородной публики, наблюдающей за нашими боями, найдется хотя бы один человек, который бы жестом холеной руки решился отвести от моего горла меч победителя. На этой арене каждый принимает смерть как заслуженную награду».
Пока денщик, Ганс Крюгер, не принес ужин, Штубер стоял у бойницы, откуда виден был закоулок с «ареной», и наблюдал за тренировкой. Группа его «рыцарей» состояла сейчас в основном из русских и украинских эмигрантов времен Гражданской войны, которые уже по нескольку лет были агентами абвера или гестапо. Только шестерых он навербовал среди полицаев и тех, что добровольно сдались в плен. Однако этим людям Штубер пока что не очень-то доверял. Поэтому особенно внимательно приглядывался именно к ним.
Со здоровяком, реакцию которого он только что проверял, сражался сейчас агент по кличке Звонарь. Штубер знал, что он отлично владеет пистолетом и всеми видами холодного оружия. А вот в рукопашной был плох – это стало очевидным сразу. Небольшого роста, худощавый, Звонарь вообще мало походил на человека, уже десяток лет числившегося разведчиком абвера. Тем не менее в штабе Ранке его ценили: хладнокровен, владеет немецким, русским и украинским, легко маскируется под местных крестьян. В то же время в операциях отличается особой жестокостью. Доподлинно известно, что иногда он уничтожал даже женщин, с которыми случалось провести ночь, маниакально не желая оставлять после себя каких-либо свидетелей. В любом деле.
Тем временем Звонарь, используя различные приемы, пытался сбить своего противника с ног, но разозлившийся пленный прижался к стене и упрямо защищался, стараясь достать увертливого агента своими гигантскими кулачищами. Неудивительно, что через две-три минуты их схватка, как и большинство других, уже напоминала драку в пивнушке.
– Фельдфебель! – гаркнул Штубер, у которого, наконец, лопнуло терпение. – Прекратите этот пьянчужный мордобой! Следите за техникой проведения боевых приемов! Если после занятий хоть один из пленных способен будет стоять на ногах, то в дальнейшем технику всех приемов будем отрабатывать лично на вас!
7
– Что за визит? Кого это вы привезли? – шагнул Беркут к ефрейтору. Краем глаза он следил, как Готванюк медленно, чертовски медленно, приближается к стоящим у заднего борта Лесичу и солдату. Старик узнал его. И даже не скрывал этого. Но им обоим повезло: в эти минуты солдат не видел лица арестованного.
– Приказано доставить сюда этого старика, – ответил ефрейтор. – Это его дом, господин оберштурмфюрер СС.
– Кто именно приказал? Теперь гестапо уже само развозит арестованных по домам?
– Приказал гауптштурмфюрер СС Штубер.
– Кто-кто?! – почти изумленно переспросил Громов. – Как вы назвали его фамилию?
– Именно так: Штубер.
– Штубер?! – но, спохватившись, тотчас же пробормотал: – Ах, да-да. Знаю, знаю такого гауптштурмфюрера. Приходилось встречаться.
Тем временем Готванюк уже оказался возле Лесича.
– Что, старик, доигрался? – злорадно усмехнулся он, заглядывая в кузов. Свой карабин Готванюк держал на плече, как дубину. Солдат, конвоировавший старика, что-то буркнул в ответ и нетерпеливо посмотрел на ефрейтора, ожидая приказаний. Этого было достаточно, чтобы Готванюк успел ударить его прикладом по голове. В тот же миг сильнейшим ударом в сонную артерию Беркут сбил с ног ефрейтора и бросился в кабину к водителю.
– Спокойно. Не двигаться! Жить хочешь?
– Да, господин… – водитель хотел оторвать руки от руля, на который прилег отдохнуть, но не смог.
Чуть запоздав, рванул дверцу и Мазовецкий.
– Присмотри за этим! – бросил ему Беркут, оставляя кабину.
Второй удар прикладом солдат, конвоировавший Лесича, получил уже лежа на земле, когда пытался подняться. К тому же Костенко штыком добил ефрейтора и вместе с Коларом тоже подбежал к машине.
– Что произошло? Зачем вас сюда привезли? – взволнованно спросил Беркут у Лесича.
– Куда же еще? Домой ведь.
– Да? Домой? За какие услуги?
Лесич недоумевающе взглянул на Беркута и молча достал из-за пазухи конверт с письмом Штубера.
– Не понял.
– Письмо. От их офицера, – кивнул на ефрейтора, еще дергавшегося в конвульсиях у подножки машины. – Для тебя писано.
– Для меня?! – Беркут повертел конверт в руках, однако вынимать письмо не стал. Для чтения у него просто не было сейчас времени. – Собрать оружие – и в машину, – приказал бойцам. – Вы, отец, тоже с нами.
– Куда с вами? Наездился. Хватит.
– В машину, – не резко, но достаточно твердо приказал Беркут. – Потом поговорим. Все немедленно в машину! Трупы с собой.
Немного потоптавшись, Лесич с тоской взглянул на свой дом, на порог которого так и не ступил, и молча повиновался.
Беркут проследил, чтобы старику помогли забраться в кузов, и сел рядом с водителем.
– Разворачивайся. И помни наш уговор: будешь умным останешься жив.
– Это правда?
Беркут искоса взглянул на него и поиграл на весу пистолетом.
– Вы ведь немец? Разве не так? – с надеждой в голосе спросил солдат. Он был еще совсем юным, вероятно из последнего призыва. Глядя на него, Громов вспомнил водителя той первой вражеской машины, которую он захватил в начале войны. Того он тоже помиловал. И никогда не жалел об этом. Интересно, как сложилась его судьба?
– Да, немец. Разворачивайся. – А когда шофер завел мотор и развернулся, добавил: – Ты что ж, подумал, что оберштурмфюрер СС может оказаться партизаном? Это ваш гауптштурмфюрер Штубер – предатель. Он освободил старика, потому что сам давно снюхался с партизанами. Я – из службы безопасности и получил приказ перехватить вашу машину, а Штубера арестовать. Ефрейтор и солдат, очевидно, тоже предатели.
– Господи, неужели они тоже?
– Это выяснит гестапо. Выезжай на шоссе и двигайся в направлении Подольска.
– Яволь, господин оберштурмфюрер. Я не знаком с господином Штубером. Меня лишь недавно прикомандировали к гарнизону крепости.
– Гарнизону крепости? Какой… крепости?
– Разве вы не знаете? Штубер и весь его отряд располагаются в Подольской крепости. Они там уже несколько недель.
– Да? Ну да, да, конечно, – понял свою ошибку Беркут. – Вижу, ты хороший солдат и лишь поэтому признаюсь тебе: я только что из Берлина. И пока еще не успел толком ознакомиться со здешней обстановкой.
Доехав по шоссе до первого проселка, он приказал водителю свернуть к лесу.
Тот испуганно взглянул на оберштурмфюрера. Успокоенность, появившаяся после обстоятельных объяснений офицера, сразу сменилась подозрением и страхом. Он еще мог как-то объяснить для себя, почему оберштурмфюрер так свободно владеет русским языком – в отряде Штубера тоже было несколько немцев, хорошо говоривших по-русски. Но этот приказ свернуть в лес…
– Не поедем же мы в город с трупами, – снова нетерпеливо объяснил Беркут. – Операция совершенно секретная. Тела придется оставить в лесу. Потом ты повезешь нас в крепость. Там мы арестуем Штубера – и в гестапо. Не исключено, что за эту операцию ты получишь отпуск.
Беркуту хотелось, чтобы водитель вел себя смирно и не мешал ему сосредоточиться. Трупы же в самом деле следовало завезти подальше в лес, присоединив к ним и труп водителя. Таков закон войны.
* * *
Проехав километра два по лесной дороге, Беркут решил остановиться у стоявшего чуть в стороне старого колодца с обвалившимся срубом. Неподалеку отсюда, на склоне балки, его группа заложила в прошлом году свой первый лагерь. Правда, пробыли они там всего месяц, так как вскоре пришлось уходить в глубь леса. Тем не менее он считал эти места чуть ли не родными. Что ни говори, из этих мест они выходили на свои первые операции и сюда же счастливо возвращались… Вот только возвращались, правда, не все.
– Сверни к колодцу, – приказал водителю.
– Яволь, господин оберштурмфюрер, – покорно ответил тот. А когда партизаны спрыгнули с машины, старался держаться поближе к нему. Сейчас он не доверял ни людям в форме полицаев, ни даже унтер-офицеру…
– Колар, отвечаешь за водителя, – приказал Беркут, отходя к срубу. – Мазовецкий, Готванюк и Костенко, похороните убитых. А мы, Клим Васильевич, – обратился к Лесичу, – пока что присядем здесь, на сруб, и прочтем послание твоего добродетеля-эсэсовца. Не так уж часто приходят к нам в лес письма. Особенно из гестапо…
– Да я хоть и не читал, а знаю, о чем там, – проговорил Лесич. – Этот шваб велел передать, что допрашивать тебя не будет, пытать – тоже, просто хочет поговорить. Обещает, что в день переговоров тебя никто не тронет.
– Благородный человек, – иронически ухмыльнулся Беркут, вынимая из кармана письмо.
– Не знаю, какой он там в благородстве своем, но что хитрее всех тех офицеров, которые допрашивали до него, – это ясно. Хитрее, стервец, это я сразу почувствовал.
Послание гауптштурмфюрера Вилли Штубера поразило Андрея. Командир отряда специального назначения «Рыцари Черного леса» (и не побоялся же написать, что такой отряд существует!) приглашает его, Беркута, а также его ординарца в течение ближайших десяти дней посетить крепость для дружеской беседы за рюмкой коньяку! Всего-навсего! Словно бы не было ни войны, ни оккупации, ни партизан. Неприкосновенность личности ему гарантируют словом чести офицера СС. А прибыть господин Беркут «может в любое время. Даже ночью. Часовые будут предупреждены. Паролем будут служить слова: “Я – Беркут”. Пропуском – настоящее письмо».
«Штубер, опять Штубер?! Откуда он взялся?» Неужели водоворотом войны к этому берегу снова прибило того самого Штубера, с которым ему пришлось сразиться возле 120-го дота? А может, это гестапо использует фамилию оберштурмфюрера, чтобы показать, что им обо мне все известно?
– Я тоже не пойму, чего они добиваются, – вздохнул старик. – Да и стоит ли мозги сушить? Порви эту писанину и возвращайся в лагерь.
– Возвратиться мы всегда успеем.
– А ведь, похоже, они о тебе действительно все знают, – развел руками старик, проникнувшись его сомнениями. – И что у меня прятался, и про Крамарчука. И что вы с сержантом похожи между собой. Но только ты мне вот что скажи: как они узнали обо всем этом? Кто вас выследил, кто выдал?
– Кто выследил – это уже не тайна. Кравчук. Тот самый. Из вашего села. Давнишний агент гестапо. Я уже послал ребят, чтобы «отблагодарили» его за услуги фашистам.
– Да ну брось – Кравчук?! Он мне родственником приходится.
– Значит, отныне одним родственником у вас будет меньше. Только сейчас меня интересует не Кравчук, а Штубер. Почему вдруг он решил написать? На что рассчитывает?
– Западня это – вот что я тебе скажу. Схватят и замучают.
– Но ведь почему-то же Штубер уверен, что я могу вот так вот взять и заявиться в крепость… Кстати, много их там, этих самых «Рыцарей Черного леса»?
– Разве сосчитаешь? Видел с десяток. Но всех наверняка с полсотни. Меня привезли из гестапо. Думал, что там, под крепостной стеной, и расстреляют. Даже как-то душевно успокоился. Знаешь, смерть под крепостной стеной – это все же по-солдатски. А то ведь могли и повесить. Как паршивого конокрада.
– Смерть тоже должна быть человеческой, – согласился Беркут. – Кстати, какой из себя этот Штубер?
Лесич, как мог, описал ему внешность эсэсовца. И хотя описание это оказалось довольно скудным, лейтенант сразу же признал в нем того офицера, с которым судьба уже не раз сводила его в прошлом.
* * *
Несколько минут Андрей нервно прохаживался взад-вперед по лесной тропинке, размышляя над предложением Штубера. Он понимал, что эсэсовец опять попытается завербовать его. Только надежда на то, что удастся завербовать Беркута, могла заставить гауптштурмфюрера написать это письмо и освободить старика. Так что здесь все вроде бы прояснилось. Но Беркуту этого уже было недостаточно. Он хотел, наконец, понять, что за человек сам Штубер. Понять его взгляды, характер. И еще… Это какие же надо иметь полномочия, чтобы для такой незначительной операции, как передача письма, освободить из когтей гестапо человека, помогавшего партизанскому командиру! Может, действительно встретиться с ним и попытаться убедить, что воевать за бредовые идеи Гитлера уже не имеет никакого смысла? Или там же, во время встречи, пристрелить. Слишком уж затянулось это их знакомство. Слишком затянулось.
– Все. Похоронили, – подошел к нему Мазовецкий. – Водителя здесь или?..
– Пока не трогать, – перебил его Беркут.
– А что пишут нам офицеры СС? Приглашают на офицерскую вечеринку? Или сразу же предлагают должности в абвере?
– Ближе к офицерской вечеринке.
– Тогда тебе придется сменить мундир. На парадный.
– Тебе тоже. Мне милостиво разрешают взять с собой ординарца, роль которого мог бы исполнять хотя бы ты. Так что есть реальная возможность наведаться в расположение «Рыцарей Черного леса» – отряда особого назначения.
– Очередная зондеркоманда по борьбе с партизанами, – кивнул Мазовецкий. – Обожают громкие названия: «Викинг», «Мертвая голова»… Постой-постой, ты что?.. Ты отважишься на этот визит?
– Почему бы и не отважиться? – резко спросил Беркут. – Почему гауптштурмфюрер, написавший это письмо, допускает такую возможность, а ты нет?
– Потому что гауптштурмфюрер рассчитывает на склонность господина Беркута к всевозможным военным авантюрам… – и, немного помолчав, добавил: – Однако учти, что рассчитывает он на это как на приманку. В данном случае твоя храбрость может оказаться слабостью, которая неминуемо погубит тебя.
– Ну и черт со мной. Поехали.
– Не сходи с ума.
– Трусишь? Не принуждаю.
Завидев Беркута, водитель, стоявший у передка машины, робко отступил к дверце и подобострастно согнулся в полупоклоне. Он понимал, что его жизнь зависит сейчас только от воли оберштурмфюрера.
– Теперь – к крепости. Условия те же: жизнь – за выдержку и мудрость. – Лейтенант уже был уверен, что водитель догадывается, с кем имеет дело. Правда, не может взять в толк, как среди партизан оказался немец, оберштурмфюрер СС, но это не так уж и важно для него. – Садитесь, – приказал своим бойцам.
– Мне тоже? – негромко спросил Лесич.
– Не стоит. Берите карабин и отправляйтесь в лагерь. В Марищи, – добавил уже шепотом. – Возле каменных столбов, над ручьем. Дорогу найдете. Пока стемнеет – будете на месте.
– Неужели поедешь к ним? Не делай этого, сынок. И сам пропадешь, и ребят…
– И ребят… – вздохнул Беркут. – Тоже верно. Вот что: Готванюк и Костенко, проведете Клима Васильевича к лагерю. А вы, Колар и Мазовецкий, – в машину.
Мазовецкий недоверчиво посмотрел на Беркута, сокрушенно покачал головой и пробормотал что-то по-польски.
– Нет, если не хочешь… – начал было Беркут.
– Я – строевой офицер, – с достоинством ответил Мазовецкий. – И не терплю авантюр. Но я перестал бы считать себя офицером, если бы не попытался помочь тебе. Кроме того, я привык исполнять приказы.
– Не авантюра это, Мазовецкий. Просто я не хочу, чтобы этот фашист и его паршивые «рыцари» считали Беркута трусом. Дело тут не во мне, а в легенде о Беркуте и его группе. Легенду нужно уважать. Она – наш союзник.
8
На «арене» между башней и стеной все еще продолжались «бои». Наблюдая за ними, гауптштурмфюрер Штубер открыл для себя, что его «гладиаторы» подготовлены к подобным схваткам намного хуже, чем он предполагал. Очень плохо подготовлены. А в работе, которой им предстоит заниматься, это чревато самыми неприятными последствиями. Вот пленные – те держатся неплохо. Во всяком случае, пока… Хотя с первого взгляда видно, что ни один из них не имеет специальной подготовки. И в лагере для пленных, как верно заметил Зебольд, кормят несколько хуже, чем в силезских ресторанах.
Он специально устраивал эти «гладиаторские бои» с наиболее сильными и выносливыми пленными. Особенно важны они были для немцев. Его солдаты должны почувствовать, осознать, с кем, какими людьми, какими характерами им придется иметь дело. По существу, эти схватки задуманы не столько как физическая тренировка, сколько попытка преодолеть психологический барьер.
Неожиданно ожил телефон. Еще раз взглянув на сцепившихся Звонаря и русоволосого пленного, Штубер подошел к столу и поднял трубку.
– Говорит подполковник Ранке. Как вам живется на лоне природы, господин гауптштурмфюрер? Какие перспективы открываются перед вами из бойниц средневековых башен? Не хотите ли вы?..
– Радужные, господин подполковник, радужные, – раздраженно перебил его Штубер. Он недолюбливал Ранке и не намеревался ни скрывать этого, ни распространяться о пейзажах и своем настроении.
– Вы оптимист, Штубер. А вот в резиденции гауляйтера все еще не могут толком понять, чем мы с вами, собственно, занимаемся, если партизаны окончательно обнаглели и совершенно потеряли чувство страха? И это в районе, где базируется отборный отряд «Рыцарей Черного леса».
Штубер не знал, какого именно мнения о нем в ставке гауляйтера. И не был уверен, что там вообще помнят о существовании такой группы. Однако в том, что Ранке откровенно завидует ему и стремится поскорее выжить из крепости, он не сомневался.
– Мой отряд еще только формируется. Пока что мы ведем специальные тренировки, – напомнил он шефу местного отделения абвера. – Вам отлично известно, что…
– И все же, я думаю, пора ощетиниваться. Вы знаете о том, что в Медоборском лесу появился партизанский отряд «Мститель»? Так вот, за последнее время он практически парализовал весь участок железной дороги от Роставы до Копыля. Отряд пока небольшой, но хорошо наладил связи с подпольными группами окрестных сел.
– Да, это очевидно.
– По нашим данным, отряд создан недавно, всего лишь в феврале – марте. И сейчас активно пополняется. Как и ваша команда, – язвительно уточнил Ранке. – А это, как вы понимаете, благоприятный для нас период. Нужен надежный человек, способный внедриться в подпольную сеть, связанную с отрядом. Это позволит одним ударом…
– Понял, господин подполковник.
– Вот и прекрасно. Только решать нужно срочно. Вы можете назвать такого человека?
Штубер задумался. Кто знает, повезет ли его группе в дальнейшем, а пока что о состоянии ее подготовки будут судить по результатам операции в «Мстителе». «Но кого предложить? Должен быть кто-то из русских… Ворон? Сотник? Ангел?.. – лихорадочно припоминал своих агентов. – Не то, все не то! Разве что Звонарь?.. А что, это кандидатура. Тем более что после сегодняшних “развлечений” он преспокойно сможет выдавать себя за человека, бежавшего из лагеря военнопленных, из полиции, гестапо – да хоть из ада… Об этом позаботимся».
– Желаете встретиться с ним лично? – спросил Штубер у подполковника, еще не называя кандидата.
– Завтра же, в десять утра. Кто он? Кличка?
– Звонарь.
– Звонарь? Кличка в общем-то знакомая. Сейчас мои люди заглянут в соответствующее досье. Надеюсь, он именно тот человек?
– Полагаю, именно тот. Однако не следует думать, господин подполковник, что я собрал под свои знамена весь цвет немецкой разведки и диверсионных служб.
– Я далек от этой мысли.
– Поэтому остановимся на формуле: даю лучшее из того, что мне досталось. – Штубер специально подчеркнул это, чтобы, в случае провала Звонаря, иметь моральное право не нести слишком суровой ответственности за агента, о котором и сам был невысокого мнения и на которого не слишком полагался. Он ведь и рекомендует этого Звонаря только потому, что под рукой нет никого более стоящего.
9
Отдохнув несколько минут в рощице за селом, Крамарчук быстро проскочил широкую, прорезанную ручьем долину и, осторожно оглядевшись, вошел в лес.
Розовато-седое солнце осталось где-то за холмом, здесь же, на равнине, в лесу, уже царил вечерний сумрак, каждый куст обретал какие-то причудливые, отпугивающие очертания. И небо, бесцветное и холодное, растворялось в хмурых вершинах елей.
Избегая тропинок, он шел напрямик, через заросли и крутые овраги, в которых можно было бы укрыться в случае опасности. Смерть Корнева потрясла сержанта. Федор принял его пулю. Это он должен был погибнуть, он!.. «Что кричал этот предатель? «Беркут»? Почему? Догадался, что мы из группы Беркута? Но ведь все было предусмотрено: и карабины, и полицейские повязки на рукавах…
И тут он вспомнил Княжнюка, в хате которого была полицейская засада. Там, возле сарая, старик тоже назвал его Беркутом. Точно, он так прямо и сказал: «Ведь ты – Беркут?!» Тогда он решил, что Княжнюк не знает Беркута в лицо, никогда не видел его и лишь случайно догадался, что перед ним партизан. Однако теперь Крамарчук допускал, что всему этому можно найти иное объяснение. Хоть издали, но Княжнюк все же видел Беркута во дворе у Лесича. И, если бы на Беркуте была эсэсовская форма, он сказал бы эти слова ему самому.
Да, к сожалению, командир не учел того обстоятельства, что его, Крамарчука, может подвести внешнее сходство с ним. Впрочем, сам он тоже обязан был предусмотреть такой поворот событий. А коль так – в отряде не должны знать об ошибке Беркута. Пусть для всех остальных останется загадкой, почему Кравчук схватился за оружие.
Неизвестно, замечал ли это Беркут, но он, Крамарчук, как только мог, поддерживал его авторитет в группе. Это там, в доте, он иногда мог сделать вид, что приказ новоиспеченного лейтенантика для него ничего не значит. А здесь все было искренне. Потому что он искренне удивлялся бесстрашию Беркута, его необъяснимой выдержке, умению рисковать.
Странное дело, иногда ему казалось, что страх перед гибелью, который заставлял содрогаться сейчас миллионы людей, Андрею Громову вообще неведом. Во всяком случае, внешне Беркут никак не проявлял его.
Их встреча тогда, в сорок первом, после гибели Зотова, была недолгой. Выступив ночью в поход к линии фронта, они уже на рассвете нарвались на засаду, встряли в бой и, отходя, потеряли друг друга из виду. При этом Крамарчук был убежден, что Громов погиб вместе с остальными ребятами. Но не прошло и недели, как состоялась его новая встреча с лейтенантом.
Крамарчук и сейчас до мельчайших подробностей помнит тот жестокий бой, когда их, семерых окруженцев (Николай случайно наткнулся на эту группу в лесу), пробивавшихся к своим, обнаружил отряд карателей. Фашисты сразу же вытеснили их из леса и окружили в полуразрушенном доме на окраине хуторка. Сколько они еще смогли бы продержаться тогда? Наверное, считанные минуты. Трое уже погибли. Корнев, Костенко и Бужич хотя и продолжали отстреливаться, но были ранены. Да и оставалось у них всего-то по обойме на винтовку.
Перед последней атакой вермахтовцы дали себе и им небольшую передышку. Заправившись шнапсом, они с издевкой приглашали к себе в гости. «Рус Ваня, сдавайся за стакан водка! – решил доконать их какой-то ротный полиглот. – Убьешь комиссар – два стакан!» А потом, нахохотавшись, пошли в полный рост. Красноармейцы подпускали их поближе, кольцо сужалось… спасения ждать было неоткуда, и вдруг произошло невероятное: буквально за секунду до того, как Николай скомандовал своей группе «Огонь!», – из густых зарослей оврага ударил длинной прицельной очередью ручной пулемет. Он вклинился в эту военную драму настолько неожиданно, что немцы на какое-то мгновение оцепенели. Этого было достаточно, чтобы пятеро или шестеро из них так и остались лежать возле руин. Остальные залегли и, отстреливаясь, начали отползать к хутору. Но пулеметчик сумел перебежать извилистым оврагом им в тыл и снова открыл огонь, на сей раз пристроив свой пулемет на развилке ветвей старого дуба. И тогда, решив, что их окружают, гитлеровцы не выдержали и врассыпную бросились к лесу.
Воспользовавшись неожиданным прикрытием, Крамарчук и его товарищи тоже отползли за развалины сарая и уже оттуда перебежали в лесок по другую сторону оврага. Через несколько минут их и разыскал там пулеметчик. Только был он уже без пулемета. Через плечо у него висел немецкий автомат, а под мышкой чернел сверток с немецкой формой. К величайшему удивлению Крамарчука, это был его командир.
– Это еще зачем? – поинтересовался Николай, кивнув на сверток. Поинтересовался уже после того, как обнял его, хотя знал, что Громов терпеть не мог сантиментов.
– Тебе бы пора привыкнуть, что мы в тылу врага. И действовать придется, исходя из обстановки, не брезгуя при этом ни формой, ни оружием противника, – суховато, в своей привычной манере, ответил Громов. – А что, из тех твоих ребят?.. – помрачнел он, оглядывая бойцов группы.
– Нет их уже, лейтенант. Такие хлопцы были, такие хлопцы! А кто с вами остался?
– Со мной отошли Готванюк и Литвак.
– Ну?! И оба живы?
– Дожидаются меня в деревне. Надеюсь, дождутся.
Через несколько минут Беркут уже был в форме немецкого унтер-офицера. И хотя мундир оказался несколько тесноватым, все как-то сразу признали в нем «настоящего немца». Есть у него дар перевоплощения, есть.
– Лесок этот небольшой, – чеканил Громов сухим командирским тоном. – Через полчаса фашисты, которых мы отогнали, вернутся с подкреплением и сразу же окружат и прочешут его. Я тут неподалеку говорил с одним стариком. Он сообщил, что километрах в двух отсюда начинается Черный лес. Правда, добираться до него придется через поле, шоссе и железную дорогу. Но выбора у нас нет. Десять минут вам на то, чтобы перевязать друг друга и приготовиться к маршу. Винтовки пока спрячем здесь…
– Что значит «спрячем»? – подозрительно покосился на него худощавый, по-мальчишески вспыльчивый ефрейтор Костенко, которому вся эта история с появлением и исчезновением лейтенанта (вкратце пересказанная Крамарчуком, пока Громов переодевался) жутко не понравилась. – Может, ты прикажешь нам еще и руки поднять?
– Именно это я собираюсь приказать, – твердо, с полным спокойствием ответил Громов. – Вы превратитесь в пленных, которых я буду вести на сборный пункт, в тыл, чтобы сдать. Не волнуйтесь, проведу чисто. Слава Богу, не раз видел, как это делают немцы.
Корнев, Костенко и Бужич растерянно переглянулись. Но и доверия к нему не прибавилось. Что же касается Крамарчука, то, глядя на спокойное, волевое лицо Громова, он впервые за эти четыре недели блужданий по тылам противника почувствовал себя более-менее уверенно. Он понимал, что выходить вот так, без оружия, да еще среди бела дня – огромный риск. Однако только он один знал Громова и поэтому, ни минуты не колеблясь, поддержал командира.
Позже фашисты, сплошным потоком двигавшиеся по шоссе, видели, как рослый, уверенный в себе унтер с засученными рукавами вел четверых пленных красноармейцев. Один – четверых! У кого были фотоаппараты, спешили запечатлеть этот эпизод войны как свидетельство настоящего арийского духа.
Унтер-офицер вел пленных обочиной, на запад, в тыл, чтобы сдать на сборный пункт. Ни в его действиях, ни в поведении испуганных, покорных судьбе русских не было ничего такого, что вызывало бы сомнение.
Подталкивая дулом автомата то одного, то другого «пленника», Беркут просил прикурить у мотоциклистов, охотно отвечал на вопросы какого-то офицера в черном мундире… И Николая поражало, с каким удивительным спокойствием он держался при этом. Что же касается остальных бойцов, то им просто не верилось, что среди измученных, растерянных окруженцев, мечущихся по вражеским тылам в надежде вырваться из этого ада, вдруг может оказаться человек, который хладнокровно общается с врагами, в совершенстве владеет их языком и вообще чувствует себя так, словно воюет в тылу врага по крайней мере два-три года.
* * *
Приметив на другой стороне шоссе разрушенное село, Беркут перегнал своих «пленных» через дорогу и повел к руинам, за которыми, метрах в пятистах, млел под полуденным солнцем спасительный лес. Казалось – все. Теперь уже ничто не сможет помешать им скрыться в чащобе. Однако пройдя еще немного, они увидели в низине за селом подбитый немецкий танк, возле которого копошились двое гитлеровцев.
Вермахтовцы тоже обратили внимание на странную процессию, двигавшуюся почему-то… в сторону леса. Один из танкистов, правда, не придал этому особого значения и скрылся в башне. Зато второй, офицер, не в меру придирчиво оглядел унтера и пленных и, не задав ни единого вопроса, неожиданно выхватил пистолет.
Крамарчук и его товарищи уже готовы были кинуться врассыпную, полагаясь каждый на свое счастье. Не растерялся лишь Громов. Он гаркнул на них ломаным русским: «Стоять на месте, свиньи!» – подбежал к офицеру и, отдав честь, начал докладывать, что, по приказанию своего командира, ведет расстреливать пленных комиссаров. Подальше от дороги.
Офицер внимательно выслушал его, вроде бы успокоился, но все-таки велел предъявить документы. Громов подал ему какие-то бумаги, однако рассмотреть их офицер не успел. Стоило ему опустить глаза, как Андрей молниеносными ударами в висок и гортань свалил его на землю, мигом обезоружил, вскочил на броню танка и выстрелил во второго фашиста, голова которого как раз показалась над люком. Быстрота, с которой действовал Беркут, казалась сверхъестественной. И когда, собрав последние силы, раненые «пленные» перебежали под прикрытием Беркута и Крамарчука к лесу, даже Костенко, который, как он потом признался, все еще подозревал, что Беркут завербован и подослан фашистами для какой-то хитромудрой провокации, наконец-то поверил ему. Поверил именно лейтенанту, но не в правдоподобность того, что с ним только что произошло. И через несколько часов к ним уже присоединились Литвак и Готванюк.
Так вот и зарождался их небольшой отряд, который и в селах, и в соседних отрядах уже давно называли группой Беркута.
– Тебе бы у него поучиться… У лейтенанта, – посоветовал как-то Крамарчуку Орест Костенко. Он сказал это как бы между прочим, но сержант понял, что Орест и сам старается подражать Громову, да только удается ему это слишком плохо. – Вы-то ведь и похожи друг на друга внешне, словно близнецы. Но только внешне. Характером бы поравняться – другое дело. Характер – это, брат, и есть судьба: тут тебе и сила воли, и доброта или жестокость, и удача.
Эти слова Костенко и стали первым толчком к тому внутреннему самосовершенствованию, которое заставляло теперь Николая внимательно присматриваться ко всему, что делает Беркут, и стараться быть похожим на него. Существовала какая-то неведомая сила, вечно притягивавшая его к Громову, вынуждавшая преклоняться перед ним, учиться у лейтенанта и даже беззастенчиво подражать. Да и Беркут сдружился с ним намного крепче, чем с остальными бойцами.
Это позволяло Николаю время от времени подсаживаться к Громову и, начиная разговор с воспоминаний о днях, проведенных в доте, постепенно расспрашивать, откуда он родом, кто родители, как попал в дот, как научился немецкому языку и приемам борьбы. Так что вскоре он уже знал и о братьях-китайцах, давших Андрею Громову первую охотничью закалку, и о семействе немцев-интернационалистов…
Интересовало все это Крамарчука еще и по той причине, что сам он понятия не имел о том, откуда родом и кто его родители. Подкидыш, детдомовец, человек без роду-племени… Из детдома сбежал после шестого класса. Ездил по городам, перебивался случайными заработками. В Кировограде, на вокзале, судьба свела его с молодым цыганом. Поскольку Николаю было совершенно безразлично, к какому народу причислять себя, он придумал легенду об отце-цыгане, который ушел со своим табором, не зная, что в одном из сел молодая женщина родила ему сына. Родила, подкинула незнакомым людям, а сама бросилась искать своего любимого. Легенда сработала, и молодой цыган привел его в табор.
Там Николая поначалу приняли хорошо. Черноволосый, смуглый, коренастый, он и впрямь мало чем отличался от любого из молодых цыган. Коль уж он не знает – не ведает, кто отец, то почему бы не предположить, что грех этот действительно лежит на одном из ловеласов из их кочующего племени?
Однако вскоре стало ясно, что обычаям цыганским Крамарчук следует крайне неохотно и довольно скоро нажил себе в таборе несколько лютых врагов. К тому же с одним из них пришлось подраться, и кончилось все тем, что как-то на рассвете его разбудил вожак табора, бывший конокрад Вайда. Он вывел Николая за табор и сказал: «Помяни мое слово: не знаю, кто тебя произвел на свет, но настоящим цыганом ты никогда не был и не будешь, потому что душа у тебя хоть и божеская, но не цыганская. И мой тебе совет: исчезни еще до утра. Последнее время в таборе и так беда за бедой. Не хочу, чтобы не сегодня завтра здесь произошло еще и убийство. Бери моего коня и скачи в то село, где тебе приглянулась молодая вдова. Я это приметил. Не бойся, бери в жены. Поверь старому цыгану: не пожалеешь».
«А как же конь? Неужели?..»
«Да что конь?! Не о коне сейчас разговор, отпустишь – и все тут. Дорогу к табору он сам найдет. Верю, что отпустишь. Зачем он тебе?»
Совет был жестоким, как приговор всей его цыганской вольницы, но житейски мудрым. Не пытаясь ослушаться его, Крамарчук вскочил на коня и поскакал в степь. А еще через неделю он женился на той самой приглянувшейся ему вдове, на Оляне. Детей у них, правда, не было, однако жили мирно, по-доброму – и до службы Николая в армии, и уже после того, когда он вернулся в село сержантом. Казалось ему тогда, что все в его бытии окончательно сложилось, оформилось и устоялось. Но вот в окрестностях местечка вновь появился табор Вайды, и все устоявшееся в его жизни и взглядах вдруг вскрылось, словно лед на весенней реке. В этот раз в таборе как-то сразу признали его. Были костры, банкеты и пляски. Были советы, гадания и лукавые взгляды молодой цыганки, жених которой погиб от вил хозяина, у которого хотел увести телку – запастись мясом для свадьбы. Но все это продолжалось очень и очень недолго. До тех пор, пока Николай не понял, что мир создал только одну женщину, которая нужна ему. И эта женщина ждала в селе, в построенной им самим хате.
Теперь уже Вайда не хотел отпускать его. В таборе оставалось слишком мало мужчин: одни погибли в драках, другие оказались в тюрьме, третьи умерли от хворей. Крамарчуку даже пригрозили, что не жить ему, если вздумает сбежать. Но звездной июньской ночью, когда табор устроил себе очередное веселье, Николай сумел незаметно увести коня барона, самого быстрого из цыганского табуна, и поскакал в степь, к ближайшему селу. Там, в степи, он и услышал гул первых самолетов, бомбивших железнодорожный мост через реку. Было это на рассвете 22 июня 1941 года. А дома, вместо того чтобы укорять его, Оляна молча протянула повестку из военкомата.
Так стоит ли удивляться, что он, человек без роду без племени, старался подражать Беркуту? Иногда ему действительно казалось, что Громов – это… он сам. Только уже тот, каким стал бы, если бы судьба его сложилась намного счастливее. А разве он не имеет права на такую судьбу?
* * *
До лагеря Крамарчук успел добраться почти одновременно с Готванюком, Костенко и Лесичем. Но, узнав, куда отправился Беркут, понял, что сегодня ему не повезло вдвойне. Сейчас он должен был вместе с Андреем находиться в крепости, охранять его, рисковать вместе с ним…
Попасть в цитадель он уже, конечно, не сможет – Николай это понимал. Но все же, бегло рассказав Федору Литваку, оставшемуся старшим в лагере, как погиб Корнев, снова отправился к шоссе, чтобы где-то там дождаться Беркута. «Кто знает, – рассуждал он, – вдруг немцы будут преследовать группу, и тогда мое появление на ночном шоссе окажется таким же спасительным, как когда-то появление пулеметчика Беркута на околице разрушенного опустевшего хутора?» Где-то в душе ему хотелось, чтобы так оно все и произошло. Чтобы лейтенант тоже почувствовал себя спасенным, а значит, и должником.
10
К крепости лейтенант решил добираться проселочной дорогой, через окраины. Путь этот был намного длиннее, зато казался менее рискованным. Но, как назло, едва партизаны приблизились к пригородному поселку, их остановил патруль полевой жандармерии.
Беркут сразу же вышел из машины. В таких ситуациях он всегда чувствовал себя в кабине слишком неуютно, как в ловушке.
Обойдя передок, Андрей остановился возле жандармского офицера, который уже успел открыть дверцу и приказал водителю предъявить пропуск. Увидев перед собой офицера СС, тот вежливо приветствовал его.
– Служба, господин оберштурмфюрер.
– Все правильно, лейтенант. Делайте свое дело. – Главное, что сейчас волновало его, чтобы водитель не успел сказать чего-нибудь лишнего начальнику патруля. На всякий случай Беркут даже занял такую позицию, чтобы видеть одновременно и водителя, и офицера, и тех двух жандармов, которые уже заглядывали в кузов, требуя документы у Мазовецкого и Колара. Он знал, что бумаги у них надежные – помогли ребята из отряда Иванюка, но все равно нужно быть готовым к любой неожиданности.
– Куда направляетесь, господин оберштурмфюрер? – спросил лейтенант, довольно быстро вернув документы водителю.
– В крепость. В расположение отряда «Рыцарей Черного леса».
– А что, такой отряд существует? – удивился жандарм. – Впервые слышу. Это из солдат СС?
– Да, – сдержанно ответил Беркут. – Кстати, им командует гауптштурмфюрер Штубер. У меня к нему срочное дело. Вы его, конечно, знаете?
– Не знаю, – отрубил жандарм.
– Нужны мои документы?
– Нет необходимости, господин оберштурмфюрер. Да, я вспомнил, в крепости, в цитадели, действительно расположился какой-то отряд. Правда, не слышал, чтобы у него было такое воинственное рыцарское название.
– Похоже, что рыцарство снова входит в моду. Говорят, что и сам Штубер будто бы ведет свой род еще от знатных тевтонских рыцарей.
– Извините, господин оберштурмфюрер, – откозырял лейтенант, давая понять, что проверка закончена. – К родословным я отношусь скептически. Кто может с уверенностью сказать, кем были его предки в каком-то там двенадцатом или четырнадцатом столетии? Все это аристократические бредни. Аристократы выдумывают их, чтобы хоть как-то возвыситься над остальными. Фюрер – не аристократ, а весь мир уже, по существу, стоит перед ним на коленях.
– Фюрера трудно заподозрить в аристократизме, – охотно согласился Беркут.
– Вы не так поняли меня. Я не в том смысле. Он не аристократ по своей родословной. Его аристократизм – это аристократизм духа.
– Вот как?!
– Ничего подозрительного, – доложили жандармы своему офицеру.
– Счастливого пути, господин оберштурмфюрер, – еще раз отдал честь лейтенант. – Не советую выезжать из крепости после захода солнца. Эта дорога небезопасна даже днем.
– Я привык к опасностям, лейтенант, – сухо ответил Беркут, захлопывая дверцу кабины.
Прежде чем тронуться с места, водитель тоскливо посмотрел на жандармов, спокойно отходивших к обочине. Беркут понимал, что в душе этот немец сейчас проклинает его, и только страх, удушающий страх перед смертью, не позволяет ему выскочить из кабины и броситься под защиту патруля.
Метрах в тридцати от мостика, ведущего к крепостным воротам, Беркут приказал водителю остановиться и развернуть машину.
– Ждать будешь здесь. Когда мы с унтер-офицером вернемся, отвезешь к тому месту, где похоронили убитых. Там мы тебя отпустим. Можешь в этом не сомневаться.
Мазовецкий и Колар уже стояли возле кабины. Они еще не совсем ясно представляли себе, что задумал их командир, и теперь ждали приказа.
– Останешься с водителем в кабине, – сказал Беркут Колару. – Будете ждать меня и «господина унтер-офицера». Из кабины не выходить. При малейшей попытке водителя бежать – стреляй без предупреждения, – последние слова он повторил по-немецки, чтобы понял и водитель. – Кстати, ты, кажется, говорил, что умеешь водить машину.
– Отец был шофером на полуторке… Но прав у меня нет.
– Не волнуйся. Права нам выдаст гестапо. Пока я наношу визит вежливости гауптштурмфюреру, разберись, как управлять этой машиной. Только не забывай о водителе.
– Хорошо, командир.
– Если через полчаса не вернемся или не появимся через пять минут после начала стрельбы в крепости – заставишь водителя гнать машину подальше отсюда. Еще лучше – сам садись за руль. Только уже без пассажира.
– Глупости. Возвращаться в лагерь мы будем вместе, – твердо ответил Колар.
11
Едва Штубер успел поужинать, как вошел Зебольд.
– Пленных расстрелять здесь или вывести из крепости?
– Почему обязательно расстреливать? – нахмурился Штубер. – Я что, отдавал такой приказ?
– Нет, такого приказа вы не отдавали. Но ведь…
– Это самые выносливые из пленных. Медицинская комиссия специально отбирала их для работы в Германии. В соответствующих документах они уже числятся в качестве надежной рабочей силы рейха. Кроме того, я обещал коменданту лагеря, что возвращу их. А пока что – тренироваться до полной темноты и полного изнеможения. Я видел, как дерутся наши люди, фельдфебель. Наблюдал это, сгорая от стыда.
– Что вы хотите, господин гауптштурмфюрер? Большинство из них не побывало ни в одном настоящем деле. Жаль, нет ребят, с которыми мы начинали здесь в сорок первом. Не говоря уже о тех, с которыми я развлекался в ночь перед нападением наших войск на Польшу. Но пленных я все-таки советовал бы ликвидировать. Они ведь знают теперь наших людей в лицо. Нам это совсем ни к чему.
– Через два дня они будут в эшелонах, – махнул рукой Штубер. – Я не могу нарушать обещание. Да и риск минимальный.
– Думаю, что отвозить их сейчас в лагерь тоже небезопасно.
– Ах, вот что вас беспокоит! – жестко улыбнулся Штубер. – Их не нужно никуда отвозить, мой фельдфебель. Загоните в подземелье. Заприте. Выставьте надежную охрану. А на рассвете доставите в лагерь. И учтите: я обещал вернуть всех. Если нам понадобятся смертники, комендант немедленно обеспечит ими.
В эту минуту резко зазвонил телефон.
Чтобы не мешать разговору, Зебольд поспешно вышел.
– Господин гауптштурмфюрер, – послышался голос унтер-офицера, старшего поста у крепостных ворот, – к вам хочет пройти господин оберштурмфюрер СС Ольбрехт.
– Ольбрехт? – недоуменно переспросил Штубер. – Никогда не слышал такой фамилии. Откуда он? Как оказался у крепости?
– Сейчас – от шефа местного абвера. А вообще – из ставки гауляйтера. У него к вам важное дело. Документы мы проверили.
– Извинитесь и пропустите.
– Его сопровождает унтер-офицер, – запоздало добавил старший поста.
– Пропустить обоих.
12
До того как на пороге появился нежданный гость, Штубер успел открыть бутылку коньяку и приготовить рюмки. Он лихорадочно пытался понять причину и цель этого неожиданного визита. Почему Ранке не предупредил его? Разве что Ольбрехт сам просил подполковника не предупреждать? Если он приехал с инспекторской проверкой, такое вполне возможно…
Оберштурмфюрер вошел один, без сопровождающего. Резко откинув одеяло, он остановился на пороге и холодно смерил Штубера острым пронизывающим взглядом.
– Хайль Гитлер! – первым приветствовал его хозяин башни, хотя был старшим по чину. – Рад видеть вас в расположении отряда специального назначения, господин Ольбрехт.
– Я тоже… Рад… Очень.
– Прошу садиться, господин оберштурмфюрер. Разрешите по рюмке коньяку?
– Благодарю, – ответил нежданный гость. – По рюмке в такой чудесный вечер не помешает.
Пока Штубер наполнял рюмки, Беркут оценивающе разглядывал его. Спортивная фигура, сильные жилистые руки, выразительное волевое лицо… Да, несомненно, это был тот самый офицер, которого он когда-то взял в плен во время боя за мост. Как давно это было! «Странно, что он не узнал меня. Сбил с толку мундир? Впрочем, при свете этой керосинки… Я-то в более выгодном положении – я знал, кого увижу здесь. А ему доложили об Ольбрехте».
– В ставке гауляйтера интересуются, когда вы намереваетесь развернуть активные действия, господин Штубер, – взял он свою рюмку. – И поймите: это не праздное любопытство…
– Ровно два часа назад я говорил об этом с шефом местного отделения абвера подполковником Ранке. Дело в том, что мне нужен еще хотя бы месяц. Завтра, например, намечено впервые выехать в лес, установить там палатки и переночевать. Кому-нибудь это может показаться смешным, но большинство моих людей никогда в жизни и часа не провели в ночном лесу. Кроме того, накапливаем сведения о партизанских отрядах, действующих в радиусе ста километров.
– Сколько же их?
– Активных выявлено три: «Мститель», которым руководит некий Роднин из офицеров-окруженцев; отряд Иванюка – почти полностью состоящий из местного населения. И отряд Кожуха. Этот, последний, базируется вдали от Подольска, и сведений о нем немного.
– Итак, три отряда?.. – уточнил гость.
– Существует еще небольшая группа Беркута, весьма нагло действующая чуть ли не на окраинах Подольска. Характер ее полностью пока не выяснен. По данным гестапо, это разведывательно-диверсионная группа, ядро которой составляют профессионалы. Операции они проводят уверенно, идут на любой риск. И хотя значительного ущерба не наносят, однако на настроение местного населения влияют весьма отрицательно.
Беркут вдруг заметил, что эсэсовец смотрит на него несколько высокомерно и даже насмешливо.
«Неужели узнал? Он узнал меня и этот отчет – всего лишь игра? Но зачем она нужна?»
– Благодарю, гауптштурмфюрер. Подполковник Ранке уже дал мне кое-какие сведения о группе Беркута. Кажется, вы не согласны с версией гестапо и абвера относительно ее происхождения, не правда ли? – оберштурмфюрер наконец осушил свою рюмку и поставил ее на стол, но не садился. Оба продолжали стоять.
– Не согласен. Полагаю, имеем дело с непрофессионалами. А гестапо не согласно с этим. Вероятнее всего, в ядре этой группы – два-три отчаянных смельчака, владеющих немецким. Допускаю даже, что их руководитель – подлинный немец. Из местных колонистов, завербованных большевиками. Впервые я столкнулся с ним еще в сорок первом. Тогда он был комендантом одного из дотов Подольского укрепрайона.
– О, значит, вы лично знакомы с Беркутом? Почему же тогда гестапо не верит, что он всего лишь бывший комендант дота?
– Почему же, верит. Но прошло много времени. Там считают, что его успели подготовить в разведшколе и опять забросить сюда. Но я в этом сомневаюсь. Замечу, что фигура весьма неординарная, кем бы он ни оказался на самом деле. Анализируя его операции, действительно легко поверить, что имеешь дело с грамотным, хитрым и хорошо подготовленным диверсантом. Отлично подготовленным. С большой практикой. И очень своеобразным почерком.
– Тем не менее вас это не убеждает, – иронично заключил Беркут. – Почему?
– Потому что по натуре своей он остается обычным партизаном. Ну, еще, как их здесь называют, народным мстителем. История Украины знает много таких народных вождей. Тем не менее я ценю его талант и мужество.
– В гестапо даже утверждают, что вы слишком увлекаетесь подвигами Беркута. Вместо того, чтобы обнаружить базу группы и уничтожить ее.
– Ах, это гестапо… Подозрение – их первая заповедь. Что же касается группы, то операция, собственно, уже началась. Любопытный вариант. Я написал Беркуту письмо и пригласил его сюда.
Ольбрехт в недоумении покачал головой. Он ждал разъяснений.
– Письмо должен передать один из местных крестьян. Бывший связной Беркута.
– Связной согласился сотрудничать с нами?
– Нет. Все несколько сложнее. Старик передаст Беркуту письмо. Только и всего. Передача письма – за свободу. В обычной ситуации такой ход мог бы показаться лишенным смысла. Но в данном случае речь идет не о простом главаре лесной банды. К тому же я хочу предложить условия, на которых Беркут может согласиться работать с нами.
Гость скептически улыбнулся, и Штубер заметил эту улыбку.
– Я готов сотрудничать с этим человеком на любых условиях. И сдержу свое слово. Чтобы избежать провала, Беркут как агент не будет зафиксирован ни в одном из досье абвера, гестапо, жандармерии или службы безопасности. Пока что, разумеется. Зато, имея такого союзника, мы за два-три месяца сумеем проникнуть во все окрестные партизанские отряды и подпольные группы и ликвидировать их. А затем перебросить свои силы в другой регион.
– Размах… – согласился оберштурмфюрер. – Стало быть, рассчитываете, что он отзовется на письмо, положившись на ваше честное слово? Не могу понять, на чем построен ваш расчет.
– Кроме всего прочего, на особенностях характера Беркута, его взглядах на войну и собственное участие в ней. Наконец, на его самолюбии.
– Что ж, вы неплохой психолог, – спокойно произнес Ольбрехт. И только теперь Штубер обратил внимание на то, что кобура его расстегнута и рука лежит на пистолете. – Все рассчитано верно. Позвольте представиться: я и есть тот самый Беркут, – выхватил он оружие. – Спокойно! Снять ремень и бросить в угол.
В то же мгновение закрывавшее вход одеяло приподнялось и на пороге, с пистолетом в руке, вырос высокий русоволосый унтер-офицер.
Руки Штубера легли на пояс у пряжки. Однако трудно было предугадать, как он поступит в следующий момент: расстегнет ее или схватится за оружие.
– К чему все эти предосторожности, господин Беркут? – Громов сразу же обратил внимание, что сказано это было довольно спокойно. Даже несколько небрежно, с вызовом. – Да, вы действительно прибыли в крепость, но, согласитесь, по моему приглашению. Так цените мою элементарную вежливость. Неужели вы полагаете, что я не узнал вас, не понял, с кем имею дело?
– Не поняли и не пытайтесь разубеждать меня в этом, гауптштурмфюрер.
– В таком случае я разочарован, Беркут. По-моему, вы просто не готовы к… новым взаимоотношениям, – помрачнел Штубер. – Вообще не готовы, в силу своего мировоззрения, и в этом ваш недостаток.
– Но есть и некоторые достоинства.
– Есть, конечно, – Штубер медленно снял ремень, отбросил его в угол и тут же выхватил откуда-то из-под полы френча маленький, почти миниатюрный пистолетик; каким-то неуловимым движением выхватил его… – Яне буду стрелять! – предупредил не столько Беркута, сколько стоящего за порогом. – Но учтите: любой выстрел, ваш или мой, – и из крепости вам уже не вырваться. Да и не затем я приглашал вас сюда, Беркут, чтобы устраивать дуэли на швейцарских пистолетиках.
– Вот и отложите его в сторону, – пожал плечами Беркут, демонстративно вкладывая свое оружие в кобуру. – Мой ординарец спустится вниз и подождет там, а мы сумеем спокойно поговорить. Время у меня еще есть.
– Рад, наконец-то мы нашли общий язык, – воинственно ухмыльнулся Штубер.
«А у него это неплохо отработано: пистолетик из-под полы… – подумал Беркут. – И действительно великолепная реакция. Я даже не успел зафиксировать движение его руки».
Чтобы окончательно успокоить Штубера, он придвинул стул поближе к столу и сел. Гауптштурмфюрер недоверчиво покосился в сторону Мазовецкого, вернее, в сторону руки с пистолетом, потому что сам Мазовецкий уже стоял за порогом, втиснувшись в небольшую нишу.
– Подожди меня внизу, – не оборачиваясь, приказал Беркут по-немецки.
* * *
На минуту воцарилась тишина. Видимо, Мазовецкий раздумывал: спускаться или все же подождать у входа. А когда вновь послышались его шаги, Штубер воинственно улыбнулся, положил пистолетик на стол и указательным пальцем отодвинул его подальше. Затем медленно встал, поднял с пола свой ремень и тоже положил на стол.
«Неужто и впрямь сразу догадался, с кем имеет дело? – напряженно всматривался в его лицо Громов, словно хотел прочесть на нем ответ. – Нет, если бы догадывался, то и встретил, и говорил бы со мной иначе».
– Итак, жестами вежливости мы обменялись, – первым заговорил Беркут, когда Штубер опять сел на свое место и потянулся к бутылке с коньяком. – А теперь к делу. Хотя я пока что не спешу, времени у нас все равно маловато, поэтому слушаю вас, гауптштурмфюрер, слушаю. Я здесь по вашей инициативе.
– Каким образом старик сумел передать вам письмо?
– У нас отлично налажена почтовая связь.
– И все-таки? – гауптштурмфюрер налил в рюмки коньяку и одну из них пододвинул к Беркуту. Из своей сразу же отпил. Он, как мог, демонстрировал полное доверие.
– Мы ведь встретились не для того, чтобы выведывать друг у друга военные тайны?
– Ну, в любом случае вы уже кое-что выведали, – заметил Штубер. – Однако не будем об этом. Господин Беркут, я самым тщательным образом проанализировал сведения о вас, имеющиеся в досье различных служб. Еще прошлой осенью в окрестных селах, да и здесь, в Подольске, распространился слух, будто бы в наши леса заброшена особая команда парашютистов-диверсантов, то есть группа Беркута. И будто бы в ее составе прекрасно подготовленные разведчики, минеры и вообще ребята-сорвиголовы… Такова легенда. Но это – легенда. А изучив донесения, касающиеся ваших диверсий, я, как вы уже знаете, пришел к выводу, что группа возникла стихийно и состоит из окруженцев и гражданских лиц, не желающих контактировать с новой властью, одним словом, непрофессионалов.
– Из этого следует, что вы считаете себя профессионалом?
– Я не стыжусь этого, господин Беркут. Как не стыдится своего ремесла любой другой профессионал. Мало того, в известной мере я принадлежу к профессионалам международного класса – пусть это не покажется проявлением моей нескромности. Просто в данном случае следует называть вещи своими именами. В этом смысл нашей встречи.
– Несомненно.
– Однако вернемся к моей версии. Группа Беркута возникла стихийно. Но во главе ее – обычный окруженец, бывший комендант одного из дотов «Сталинской линии». Вопреки сложившемуся мнению, его – то есть вас, лейтенант Беркут, – никто не готовил, никто не засылал сюда и никто не уполномочивал создавать такую группу. Тем не менее вы оказались способным организатором. К тому же свободно владеете немецким, хладнокровны, умеете подавлять в себе чувство страха, не задумываясь идете на риск. Даже тогда, когда в этом нет необходимости.
– Но какое это имеет значение: профессионал я или нет? Война, как вы убедились, затягивается и продлится, вероятно, еще года два. За это время все мы, уцелевшие, станем профессионалами. Вот только одни будут по-прежнему называться оккупантами и убийцами, а другие – народными мстителями. Что, согласитесь, не одно и то же.
– Я думаю, что разделимся мы в основном на мертвых и… профессионалов. Однако вернемся к вашему вопросу. Могу понять кадровых разведчиков и диверсантов, которых засылают сюда, в тыл, после соответствующей подготовки. Они работают в течение определенного времени, зная, что в штабах и центрах помнят о них, прикалывают к их парадным кителям ордена, повышают в звании. Словом, они знают, за что рискуют. Будем говорить откровенно: вы исключительно способный диверсант. Но что заставляет вас работать вот так, по собственной инициативе? Почему вы не ушли за линию фронта, не попытались окончить диверсионную школу?
– Я должен объяснять? – поиграл желваками Громов.
– Не обязательно, – согласился Штубер, выдержав длинную, выжидательную паузу. – Мне и так ясно, что для вас борьба здесь, в тылу, – идеальный способ самовыражения, проявления своих способностей. Если вы отбросите свои помпезные политические толкования и спросите себя об этом откровенно, то согласитесь со мной. Впрочем, не будем дискутировать.
– Это все, что вы хотели мне сказать?
– Я хотел предложить то же, что уже предлагал, когда вы были в доте смертников, то есть сотрудничество. Обратите внимание: сотрудничество не с гитлеровской Германией, не с доблестными войсками фюрера, а со мной и такими людьми, как я, как мы с вами, профессионалами войны. Поверьте, как бы ни менялись обстоятельства и политические ситуации, такие люди не теряют своей ценности и ореола славы. Ими будут восхищаться и через много лет после войны. Восхищаться и подражать.
– Божественно. Теперь я начинаю понимать вас. Стало быть, сотрудничество двух профессионалов. И на каких же условиях?
– Об условиях я уже говорил. Но появился один нюанс. Да не волнуйтесь вы, Беркут, – неожиданно рассмеялся гауптштурмфюрер, чувствуя, что замысел его близок к осуществлению. – Права рисковать жизнью мы вас не лишим, прекрасно зная, что без этого жизнь теряет для вас всякий смысл. Но вы понимаете, что партизанщина – явление временное. Рано или поздно все, кто находится сейчас в лесах, будут перебиты, вымрут от эпидемий или попросту выйдут и сложат оружие.
– Ну, положим, исход партизанского движения видится мне иначе.
– Сложат, сложат, лейтенант: кто оружие, кто головы… Но даже те, кто сдастся, уже не будут иметь надежды на будущее. Независимо от того, какими подвигами они прославились перед местным населением – кучкой старых женщин и стариков из окрестных сел. Правда, кое-кто попытается перейти линию фронта. Но поверьте, как только вы перейдете ее, вас сразу же посадят в концлагерь и будут долго выяснять, почему сразу же не вышли из окружения и не вернулись в часть и, вообще, чем все это время занимались. А потом в лучшем случае – штрафная рота. Так зачем вам ввязываться в эту историю? Я предлагаю сотрудничество на рыцарских условиях. При которых не пострадает ваше достоинство.
– Каких же?
– Группа остается в лесу. Но действуют в ней лишь те, кто примет наши условия. Полагаю, Беркут достаточно авторитетен, чтобы к его мнению прислушались. Ну а тех, кто не прислушается…
– Понятно.
– Итак, вы будете руководителем группы. В свою очередь, мы всеми возможными способами пропаганды будем поддерживать легенду о бесстрашном Беркуте, приписывая ему даже те подвиги, которых он никогда не совершал. Конкретнее – диверсии, проводимые другими партизанскими отрядами и группами.
– Это уже интересно.
– Прослышав о вашей славе, в группу будут стекаться все, кто сочувствует большевикам. Ну а мы, естественно, будем вовремя нейтрализовывать их, отводя при этом от вас малейшие подозрения.
«Ишь как: “нейтрализовывать”! – возмутился про себя Громов. – Изобрел-таки термин! Чтобы не шокировать ранимого лейтенанта Беркута».
– Что же касается будущего, то давайте пофантазируем. Почему бы не допустить, что вы станете здесь, у себя на Украине, национальным героем, как, например, Хмельницкий, Кармелюк, Наливайко… Или кто там еще? Вы знаете их имена лучше меня. Героем, который сразу же после поражения Москвы, во избежание бессмысленного кровопролития, с достоинством капитулирует перед победителем. А потом, по воле правительства рейха, отдающего должное его мужеству, будет назначен на какой-нибудь высокий государственный пост.
– Простите, гауптштурмфюрер, какого государства?
– Украинского. В составе рейха. Впрочем, не следует принимать меня за чиновника, раздающего посты и кресла.
– А в случае поражения Германии?
– Поражения? – удивленно переспросил Штубер, несколько замявшись. Такой вопрос Беркута явно не был предусмотрен в его подробно разработанном плане встречи с мятежным лейтенантом… – В случае поражения вы или останетесь на Украине и будете продолжать борьбу с большевиками, или же присоединитесь к нам, к группе Скорцени, и станете разведчиком и диверсантом международного класса. Отто обещал, что я пробуду здесь в крайнем случае до осени. А когда в Подольске миссия моя будет закончена, влиятельные друзья предложат место с более подходящим климатом, например, Италию, Францию или Испанию.
– Скорцени? Мне это имя ни о чем не говорит. Кто-то из итальянских фашистов?
– Вот видите, как все просто! Будь вы профессионалом, это имя, конечно же, было бы вам известно. Он – немец, но сомневаюсь, чтобы он был ревностным национал-социалистом, демократом или еще кем-нибудь. Он верит в Гитлера лишь как в личность, равную себе. Подчеркиваю: как равную. Я убежден в этом. Впрочем, вскоре вы узнаете о Скорцени значительно больше. Со временем его будут почитать и на Украине.
– До сих пор нам вполне хватало своих национальных героев, – поднялся Беркут, считая, что разговор окончен. – Скажите, ваша группа подобрана из таких же профессионалов, как этот Скорцени?
– Разумеется. И вы сможете убедиться в этом, – в свою очередь поднялся Штубер. Фраза прозвучала несколько двусмысленно. – Если вы согласны, связь будем поддерживать через особо проверенных людей. Кстати, как вы отнесетесь к такому варианту: несколько моих сорвиголов вливается в вашу группу и действует там под вашим командованием? Мне же отводится скромная роль комиссара. Гауптштурмфюрер – комиссар СС! Как вам такой чин?! Зря мои и ваши фюрер-социалисты развязали эту войну, зря! – рассмеялся Штубер. – Если я стану комиссаром, тогда уж возможность разоблачения будет совершенно исключена. Не так ли?
– Интересное предложение. Над ним стоит подумать.
– Тем временем о вас узнают в Берлине и, в частности, в управлении абвера – это военная разведка, а также в управлении СД. Через три-четыре месяца, если сотрудничество наше окажется плодотворным, вы, лейтенант Громов, станете офицером СС. С повышением, конечно. А еще через пару месяцев мы с вами, уверен, будем беседовать в башнях куда более древних крепостей, чем эта. Такого человека, как вы, наши общие друзья в здешнем болоте держать не станут.
– Это уж точно. Я должен принять решение сегодня же? – продолжил игру Беркут. Он не жалел, что эта встреча состоялась. Теперь об отряде «Рыцарей Черного леса» у него было намного больше сведений, чем смогли бы дать допросы десятка пленных.
– На это я и не рассчитывал. Но трех дней, полагаю, будет достаточно? По условиям, изложенным в письме, у вас есть даже десять суток. Они остаются в силе. Мои люди пока не будут знать правды о личности, посетившей меня сегодня. Так что чувствуйте себя не связанным никакими обстоятельствами.
– Божественно. Выведите нас за ворота крепости. Только пистолетик свой оставьте на столе.
– Странно, – проворчал Штубер, надевая ремень. – Мне казалось, что между нами уже достигнуто полное взаимопонимание и доверие.
– Спишите это на недостатки моего характера. Не люблю неприятных неожиданностей.
13
Они уже собирались выходить, когда послышались шаги и на пороге появился коренастый фельдфебель с багровым, как у мясника, лицом.
– Хайль Гитлер! Господин гауптштурмфюрер, – обратился он к Штуберу, – тренировка закончена. Пленные – в подземелье. И наши курсанты, и русские измотаны до предела.
Штубер исподлобья посмотрел на фельдфебеля, потом на Беркута. Доклад показался ему явно не ко времени: Беркут не должен был знать о пленных. Однако изменить он уже ничего не мог.
– Вы свободны, фельдфебель. И запомните: утром пленных должно быть столько же, сколько сейчас.
– Если прикажете, могут даже появиться лишние.
– Не умничайте, фельдфебель! Обычная тренировка, оберштурмфюрер, – обратился к Беркуту, как только Зебольд исчез.
– Я так и понял, – кивнул лейтенант.
Выждав, пока шаги Зебольда на лестнице стихнут, пошел за ним и Штубер. Он спустился первым.
– Приехали сюда машиной? – спросил уже у выхода.
– Да.
– Нашей машиной?
– Вашей.
– На которой мои люди отвозили старого бравого солдата времен Первой мировой?
– Разумеется…
– Значит, ефрейтор и конвоир?.. – растерянно спросил Штубер.
– Водитель жив. Мы отпустим его.
– Не надейтесь, не похвалю, – проворчал эсэсовец. – Операция не столь уж сложная. Кстати, я давно отдаю предпочтение партизанско-диверсионным методам ведения войны. Совершенно убежден, что будущая мировая, если она возникнет, будет вестись не дивизиями и армиями, а небольшими диверсионно-террористическими группами хорошо подготовленных агентов. Несколько таких групп способны за неделю – две деморализовать и обескровить любую средней величины европейскую державу. Железные дороги, аэропорты и вокзалы, склады, кинотеатры, стадионы, правительственные учреждения и пункты связи… Уничтожение их повлечет за собой колоссальные моральные и материальные потери и полнейшую политико-экономическую дестабилизацию.
– Было бы лучше, если бы человечество обошлось без этой самой третьей мировой. А что касается прелестей партизанской жизни и партизанских методов войны… еще в этой, Второй мировой, то я не думаю, чтобы после этой бойни человечество снова решилось взяться за оружие.
– Возьмется, лейтенант, возьмется. Еще вспыхнут сотни больших и малых войн – никуда нам от своей сущности не уйти. Да, забыл спросить: как вам удалось вырваться из дота? Для меня это непостижимо. Вы что, сумели уйти оттуда еще до того, как мы его замуровали?
– Сумели, – ответил Громов, ни секунды не колеблясь. Он не хотел, чтобы Штубер узнал правду о его спасении.
– Не верю. Это было невозможно. Вы что-то скрываете. В доте был запасной выход, о котором знали только вы, то есть комендант. Разве не так? Какой смысл делать из этого тайну сейчас?
– Там все было не так. Но обойдемся без подробностей. Главное, что мы выбрались оттуда.
– Ладно, выбрались так выбрались, – согласился Штубер, не скрывая своего разочарования. – Жаль, что не согласились тогда с моими предложениями и не перешли на сторону Германии. Сколько времени потеряно!
14
Во дворе крепости Беркут огляделся. Солнце уже скрылось за стеной, и двор заполнили холодные тени – призраки башен. Он обвел взглядом двор, крепостные стены, ведущие на них полуразвалившиеся лестницы. Нет, то, что происходит за этими древними стенами сейчас, никак не вписывается в романтическую, полную тайн историю цитадели. Хотя, несомненно, станет еще одной главой этой истории. Еще одной легендой.
Мазовецкий ждал его у входа в подземелье. Он беседовал с фельдфебелем, который только что докладывал Штуберу о пленных. Сразу бросилось в глаза, что они уже успели найти общий язык: Мазовецкий о чем-то рассказывал фельдфебелю, а тот хохотал и хлопал поляка по плечу. Чуть поодаль виднелись шесть больших серых палаток, возле которых толпились солдаты. Там же стояла полевая кухня. В углу, между башней, в которой помещался штаб, и стеной, несколько солдат отрабатывали приемы рукопашного боя, переговариваясь при этом по-русски…
«А их немало, тех, кто принял предложение Штубера… – с досадой подумалось Громову. – Тренируются, готовятся выжить, чтобы попасть в группу Скорцени, а, возможно, и дождаться третьей мировой».
– Вот так и живем… – обвел Штубер крепость жестом хозяина. – Уверен, что вам здесь понравится. Впрочем, советую наведываться почаще, господин оберштурм-фюрер. Охрана будет пропускать только вас и вашего… Кстати, кто этот унтер? Чертами лица он несколько напоминает поляка.
– Он и в самом деле поляк. Это мой ординарец.
– Любопытно… До сих пор роль ординарца исполнял другой человек. Разве не так?
– Так.
– Но похоже, что этот тоже знает службу. На него можно положиться.
Они остановились посреди двора.
– Так что наведывайтесь… – продолжал Штубер. – Разумеется, при этом я рассчитываю на вашу лояльность. Постепенно познакомитесь с моими людьми. Покажете им некоторые из своих излюбленных приемов рукопашной… Честно говоря, сам я тоже иногда не прочь поразмяться. Но, думаю, у вас это получается лучше. Впрочем… Минуточку… Фельдфебель! – внезапно крикнул он. – Ко мне!
– Слушаю, господин гауптштурмфюрер! – подбежал к ним Зебольд.
– Оберштурмфюрер желает, чтобы вы продемонстрировали приемы рукопашного боя. Он согласен быть партнером.
Беркут настороженно взглянул на Штубера, пытаясь понять, что тот затевает. Услышав слова гауптштурмфюрера, Мазовецкий тотчас же отошел за пристройку, откуда брал начало ход в подземелье, и перехватил автомат так, чтобы в любой момент можно было открыть огонь.
Фельдфебель недоверчиво посмотрел сначала на своего командира, затем на Беркута – не так уж часто ему приходилось бросаться с кулаками на оберштурмфюреров, – ступил шаг вперед и попытался нанести удар ногой в живот. Но Беркут резко блокировал этот удар и сразу же отбил кулак фельдфебеля, нацеленный ему в голову.
– Стоп! – крикнул Штубер. – Благодарю, фельдфебель, достаточно. Не стоит увлекаться. Полагаю, господин оберштурмфюрер по достоинству оценил ваши способности. А теперь – свободны.
Зебольд повернулся и, так ничего и не поняв, вразвалочку поплелся к унтер-офицеру. Конечно, он привык к странностям своего командира. Но сегодняшний его «вывих» – это уже слишком.
– Что за фокусы, Штубер? – рука Беркута вновь лежала на рукоятке вальтера.
– Извините, господин оберштурмфюрер. Небольшой эксперимент. Вы утверждаете, что этот парень, – кивнул в сторону Мазовецкого, – ваш ординарец. Однако мне известно, что ординарец, настоящий ваш ординарец, с которым вы часто наведывались к Лесичу, удивительно похож на вас. По существу, это ваш двойник.
– Впервые слышу о каком-либо двойнике. Вас интересует мой ординарец? Он перед вами.
– Сомневаюсь в этом.
– Мы не в церкви, гауптштурмфюрер. К тому же партизанские командиры не имеют штатных ординарцев. Кому-кому, а вам следовало бы знать это.
– Еще раз простите, господин оберштурмфюрер, – спокойно усмехнулся Штубер. Здесь, во дворе, где было до полусотни его солдат, он чувствовал себя увереннее. – Есть еще одно обстоятельство, которое заставило меня прибегнуть к этому эксперименту. Поскольку ваш ординарец, или кто он там на самом деле, чрезвычайно похож на вас, интересно было выяснить, кто именно находится сейчас передо мной: Беркут или его двойник. Согласитесь, я должен знать это. Профессиональное любопытство.
– Думаете, мой ординарец не сумел бы блокировать удар этого неуклюжего болвана-фельдфебеля?
– Вы его недооцениваете, – примирительно проговорил Штубер. – Явно недооцениваете. Поверьте, этот человек много раз доказывал, что он гораздо изворотливее, чем кажется на первый взгляд. Да и удары были неплохие. Неожиданные, резкие. Как и ваша реакция, господин оберштурмфюрер. Согласитесь, что по отношению к Зебольду вы несправедливы. Так, интереса ради… Случалось вам посылать вместо себя ординарца? Так, для иллюзии вездесущности. Хотя бы на какую-нибудь незначительную операцию?
– До сих пор не приходилось. Но можете считать, что подали идею. Непременно воспользуюсь. Проводите-ка за ворота.
* * *
Убедившись, что встреча завершилась миролюбиво, уладилась мирно, Мазовецкий сказал на прощанье своему новому знакомому что-то шутливое и пошел за Беркутом и Штубером. У ворот он обогнал их и остановился за мостиком.
Машина ждала там, где ее оставили. Мимо нее как раз проходили солдаты Штубера, возвращающиеся из увольнения в город. На машину и ее водителя они не обратили никакого внимания, зато чинно козыряли беседующим неподалеку офицерам. Все четверо были навеселе, и Беркут заметил, с какой холодной яростью Штубер смотрел на них, когда те отдавали честь.
– Кстати, где мои люди? – Штубер протянул пачку папирос, но Беркут поблагодарил и отказался. – Те, что отвозили Лесича. Что с ними? Только честно. Может, они еще живы, в плену? Нужно ведь как-то объяснять наши потери и оправдывать их…
– Водитель – в машине. Отвезет нас в город и вернется, – больше ничего Беркут говорить не стал, и гауптштурмфюрер понял, что на двоих вояк его отряд все же уменьшился.
– Хорошо вам живется, – буркнул Штубер, доставая из кармана зажигалку. – У вас нет начальства и не перед кем отчитываться за каждого убитого и раненого. Люди приходят, погибают или разбегаются… Как там у вас говорят: «Бог дал – Бог взял»? И никакой дьявол вас не разжалует.
– Вот-вот, поплачьтесь партизану…
– Поверьте, это легче и приятнее, чем каяться в гестапо. Поэтому впредь прошу быть осмотрительнее. Во всяком случае, водитель и машина должны вернуться в крепость. Надеюсь, вы учтете и то, что мне несложно было поднять весь гарнизон, и сейчас разговор между нами носил бы более оживленный характер. О, нет, я не угрожаю. Просто констатирую факт.
– К этому времени мы уже навсегда замолчали бы.
– Вот именно… – пожал плечами гауптштурмфюрер. – Мы не должны забывать о безопасности и взаимных гарантиях. Как ни мудри – все сводится к одному: лучше вместе жить, чем вместе гнить. Когда собираетесь осчастливить нас очередным визитом?
– Через четыре дня.
– Это уже разговор… – кивнул Штубер. – Но условие: за эти дни вы не должны совершить ни одного нападения. Я и так веду себя с вами, словно заговорщик, неизвестно, кто кого здесь вербует…
– Не волнуйтесь, мы как раз собирались передохнуть.
– Вы немец? Немец, конечно.
– Мои предки – украинцы.
– Жаль, воюете вы, как настоящий тевтонец. Украинец, говорите… Что ж, великая славянская нация… Шевченко, Хмельницкий, Франко… Как видите, я немного знаком с вашей историей. И все-таки кто-то из ваших родителей наверняка происходит от немцев.
– Никто, насколько мне известно.
– Убедите себя, что происходит. Тогда легче согласиться с моим предложением. Голос крови. И ни малейшего намека на предательство. Кстати, сейчас вы уже говорите по-немецки почти без акцента.
– Пытаюсь избавляться от него. Богатая языковая практика. До встречи, гауптштурмфюрер.
– Темнеет! – крикнул вслед ему Штубер. – Остерегайтесь партизан!
И рассмеялся злым нервным смехом человека, оставшегося недовольным и собой, и результатами встречи.
Мазовецкий подождал, пока Беркут приблизится, и пропустил его вперед. Прикрывая командира, он несколько раз оглянулся. Ему все еще не верилось, что удалось вырваться из этого каменного мешка. Даже теперь, когда Штубер стоял один и спокойно глядел им вслед, нервы Владислава были напряжены до предела.
– Что, поручик, огорчены, что все кончилось так неэффектно? – спросил Беркут, не оглядываясь. – Согласитесь, готовя вас к заброске, ваши прежние шефы таких операций не планировали?
– Не хотел бы я, чтобы среди тех, бывших моих шефов, оказался ты. Такое напланировал бы! Ничего себе визит! То, что мы вырвались из этого склепа, – просто чудо. На что, собственно, ты рассчитывал?
– Сам не знаю, – ответил Беркут. – Очевидно, на удачу. Когда еще побываешь во вражеском гарнизоне и поговоришь с гауптштурмфюрером СС, да еще вот так, запросто? Интересно знать, с кем имеешь дело, что они за люди.
Водитель и Колар сидели в кабине. Карабин солдата лежал у Колара на коленях.
– Едем? – негромко спросил Иван, выходя из машины.
– Едем. Садись в кузов. – Беркут увидел посеревшее лицо Колара, но ничего не сказал. Он понимал, что сидеть в форме полицая, плечом к плечу с врагом, на дороге, по которой разгуливают фашисты, куда труднее, чем распивать коньяк с гауптштурмфюрером.
* * *
Уже совсем стемнело, когда они снова оказались у колодца. Остановив машину, водитель умоляюще взглянул на оберштурмфюрера. Он весь обмяк, раскис и уже не в состоянии был сдерживать дрожь. Беркут с досадой осмотрел редколесье, в которое упиралась дорога. Неплохо бы проехать еще с километр, однако за колодцем начиналось сплошное болото.
– Вы обещали, господин оберштурмфюрер…
– Не нужно напоминать мне об обещаниях! – резко перебил его Беркут.
Мазовецкий и Колар спрыгнули с машины и подошли к кабине. Водитель открыл свою дверцу, но, увидев унтер-офицера и полицая, инстинктивно придвинулся к Беркуту. Тот невесело ухмыльнулся, вышел сам и приказал выйти ему.
Водитель с большим трудом выбрался из кабины. Ноги не слушались его. Все еще улыбаясь, Беркут обошел машину и остановился рядом с Мазовецким и Коларом. Поляк снял с плеча автомат.
– Как тебя зовут? – спросил Беркут водителя.
– Йозеф, господин оберштурмфюрер.
– Если хоть словом обмолвишься в разговоре с кем-нибудь о своих сегодняшних приключениях, тебя пристрелит сам гауптштурмфюрер Штубер. Или удавит ваш верзила-фельдфебель. На шоссе тебя может остановить патруль и спросить, откуда едешь. Отвечай, что выполнял приказ коменданта крепости гауптштурмфюрера Штубера и не имеешь права разглашать суть задания.
– Так и скажу. Можете не сомневаться.
– А чтобы ты не мучился в догадках… Мы действительно русские. Однако служим рейху, как и ты. Знай это. На случай, если уж кто-нибудь очень станет допытываться. Но лучше всего – молчи.
– Яволь, господин оберштурмфюрер.
– Все, возвращайся в крепость, – Беркут почувствовал, что водитель не верит ему, но это уже не имело никакого значения. – И передай гауптштурмфюреру, если он, конечно, заинтересуется подробностями, что я тоже умею держать слово. Он знает, о чем идет речь…
– Неужто отпустишь?! – изумился Колар. И хоть сказал он это по-украински, водитель, конечно же, догадался, что именно так изумило «полицая». Не теряя времени, он поблагодарил «господина оберштурмфюрера», вскочил в кабину, резко, задним ходом, развернулся и медленно, очень медленно, показывая, что не убегает, повел машину к шоссе.
Партизаны какое-то время смотрели вслед грузовику. Затем повернулись и тоже неспешно направились к колодцу.
– Все-таки нужно было пристрелить его, – стоял на своем Колар. – Одним фашистом стало бы меньше. А машину сожгли бы.
– Не вмешивайся, – тронул его за плечо Мазовецкий. – Командиру виднее. На войне не только стреляют. Здесь еще разрабатывают стратегические планы и хитромудрые операции…
– Убивать их надо – и все операции. Что же это за война такая: того пожалел, этого отпустил?! Уже и письмами стали обмениваться.
Он не успел договорить. Ни один из них не обратил внимания на то, что, когда машина достигла изгиба дороги, шум мотора несколько притих. И сразу же прозвучал выстрел. Один-единственный. Беркут зло выругался. Все оглянулись. Машина сорвалась с места и исчезла за деревьями. Мазовецкий успел послать ей вдогонку длинную автоматную очередь, но, очевидно, не попал.
– Вот сволочь! – возмутился он. – Кто бы мог подумать, что это пугало умеет стрелять! Хорошо еще, что никого не задел.
– Ну, командир, что я говорил? – даже обрадовался этому происшествию Колар. – Нужно было отправить его на тот свет – и все дела.
– Успокойся. Он свое получит, – сдержанно ответил Беркут.
Подошли к колодцу. Беркут присел на сруб, взглянул на Мазовецкого, затем на Колара, виновато как-то улыбнулся и покачал головой.
– Он правильно поступил. Это я сглупил, как новобранец. И даже не потому, что не догадался разрядить его карабин. А потому, что забыл святой закон войны: никогда не щади врага, который пришел, чтобы сжечь твой дом. Пусть это будет мне уроком. А теперь кто из вас хочет поупражняться в медицине? Как ни странно, этот идиот попал мне в ногу.
При этих словах Мазовецкий и Колар замерли в таких позах, словно в землю перед ними ударила молния.
– Ничего страшного, – как можно спокойнее произнес Беркут, – пуля в икре. Рана легкая. Пакет у меня есть. До базы как-нибудь доберемся. Оказывается, война тоже иногда преподносит сюрпризы.
15
Примерно в полукилометре от шоссе серела невысокая меловая гора, которую Николай Крамарчук приметил еще прошлой осенью. Сейчас он забрался на ее плоскую, поросшую ельником вершину и там, на небольшом выступе, под козырьком каменной глыбы, устроил себе гнездо из прошлогодних листьев, из которого хорошо были видны зубчатые башни крепости и часть дороги, где должна была остановиться машина с переодетыми партизанами. Если все будет по плану и возвращаться будут на машине, то выйти из нее Беркут, Мазовецкий и Колар должны именно здесь. Отсюда к лагерю ближе, чем откуда бы то ни было.
Он лежал в сухих и теплых листьях и задумчиво смотрел то на башни, то на дорогу, по которой время от времени проходили небольшие колонны, и пытался представить себе, что происходит сейчас там, за стеной. Досадно, что он не смог участвовать в этой операции. Крамарчук вообще был уверен, что сумел бы показать себя в боях намного лучше, чем это у него получалось до сих пор. Именно поэтому Николай уже несколько раз то просился в разведку, то предлагал командиру отобрать надежных ребят и неожиданно, ночью ворваться в крепость… Все же бурлило в нем нечто такое, наполеоновское, чего он никак пока что не мог реализовать, и это вызывало у него чувство какого-то мальчишеского огорчения: упустить такую возможность прославиться или хотя бы проявить себя! И хорошо было бы дослужиться до офицера. «…До офицера – это было бы прекрасно».
Конечно, никто не в состоянии был предсказать, как сложится его судьба после войны. Однако пофантазировать можно и о тех несбыточно далеких временах. Многого от своего будущего Крамарчук не ждал. Но если останется жив, хотел войти в эту новую послевоенную жизнь человеком, который храбро воевал и теперь серьезно думает о том, как бы помудрее устроить мирное бытие. В этом он усматривал самую важную часть своего перерождения из странствующего романтика-полуцыгана – в человека, как он говорил себе, с именем и лицом. Как только Красная Армия освободит эти места, он снова станет солдатом. А потом, после войны, обязательно закончит среднюю школу – ну, вечернюю, там, или заочную – и поступит в институт. Как Беркут…
Замечтавшись, Крамарчук поднялся во весь рост, совершенно забыв о том, что его могут заметить с дороги. Именно в это время на участке шоссе, за которым он наблюдал, показались две крытые машины. Возможно, сержант и не обратил бы на них особого внимания, но из задней машины вдруг выпрыгнул какой-то человек. Он соскочил на полном ходу, упал, скатился с довольно высокой насыпи и, петляя между кустами, бросился в лес. Должно быть, это произошло настолько неожиданно для конвоиров, что те не успели среагировать. Машина прошла еще по меньшей мере метров сто, прежде чем один из конвоиров сумел открыть огонь. А когда она остановилась, два конвоира сразу же соскочили на дорогу, но преследовать беглеца не стали, а всего лишь неспешно прошлись длинными автоматными очередями по зарослям на опушке леса.
Спохватился и старший колонны, очевидно, офицер. Николай видел, как, открыв дверцу кабины, он произвел несколько выстрелов прямо с подножки. Беглеца Крамарчук уже потерял из виду, зато за немцами следил очень внимательно.
Весь этот спектакль длился несколько минут. Вдоволь настрелявшись, конвоиры закурили, сели в машину и уехали.
«Значит, кому-то повезло… – думал Крамарчук, быстро спускаясь пологим склоном горы. – Но кому?.. Вдруг это был Беркут?! А что, немцы вполне могли схватить всех троих и пытались перевезти куда-нибудь из Подольска…»
По едва заметной тропинке он побежал к шоссе, все время осматриваясь по сторонам, чтобы не упустить беглеца. Но, к своему удивлению, так нигде и не обнаружил его. «Неужто убили?!»
Уже на опушке Николай осторожно приблизился к тому месту, где это могло произойти. Обнаружил срезанный пулями ствол молодой ели, следы солдатских сапог в заболоченной ложбине… Вот только сам беглец словно бы растворился в голубоватой лесной дымке.
«Может, это действительно был Беркут? – теперь уже с облегчением подумал Крамарчук. – Нет, так убежать мог только он! Возможно, что прямо там, в машине, даже убил одного из конвоиров…»
Подбодренный этим предположением, Николай не стал прятаться в заросли, когда услышал шум моторов. Наоборот, приблизился еще на несколько шагов к дороге и притаился за широким стволом дуба. Через минуту-другую из-за деревьев показались открытый грузовик с солдатами, потом «опель» и снова – набитый солдатами грузовик…
«Конечно, с такой охраной и на тот свет не стыдно…» – подумал он, сцепив зубы. Но в последний момент передумал стрелять по легковой и длинной очередью прошелся по солдатам на второй машине. Над самым бортом, для верности…
Он успел дать еще две очереди, прежде чем и первая машина, и лимузин остановились, а выскочившие из них фашисты залегли прямо на дороге и тоже открыли огонь. Но Крамарчук уже скрылся в овраге, который уводил его все дальше и дальше, в глубь леса. Именно там, в овраге, сержант вдруг задумался над тем, что не насторожило его раньше: а почему, собственно, ни один из конвоиров даже не попытался догнать беглеца? Почему не бросился за ним в лес?
16
Штубер подождал, пока машина с Беркутом и его людьми тронулась с места, и пошел к воротам.
«Если этот партизан может с такой легкостью проникать сюда под чужим именем, то рано или поздно его люди повесят меня на одном из зубцов крепостной стены, – с досадой подумал он, бросив презрительный взгляд на солдат, стоявших навытяжку по обе стороны ворот. – Нужно позаботиться о более надежной охране. Все-таки мы на окраине города, а рядом – огромный лес».
Но ни эти тягостные мысли, ни осознание того, что несколько минут назад он, как последний болван, разболтался перед «оберштурмфюрером Ольбрехтом» о партизанских отрядах и готовящихся против них акциях, – уже не могли испортить ему настроения. В конечном итоге все удалось. Главное, что Беркут был здесь и что он, Штубер, не разочаровался в нем. Даже то, как этот варвар проник в его башню, свидетельствует, что в принципе это способный и хладнокровный диверсант, с которым есть смысл продолжать игру. Кстати, почему бы не заслать в его группу одного из своих «рыцарей»? Так было бы куда надежнее…
Подумав еще немного, Штубер окликнул фельдфебеля, стоявшего у палатки и, подобно верному псу, ожидавшего, когда о нем вспомнят. Здесь же, во дворе крепости, они согласовали все детали блиц-операции, которой должен был руководить лично Зебольд.
– Господин гауптштурмфюрер! – выбежал из башни ординарец. – Только что звонили из канцелярии подполковника Ранке. Вас немедленно просят прибыть в резиденцию абвера.
– Что там у них стряслось? Мне хотят сообщить, что наши доблестные войска взяли Москву?
– Не знаю. Адъютант господина Ранке передал, что машина за вами уже послана.
– Божественно, как говорит один наш общий любимец.
Штубер поднялся к себе, взял уже дважды спасавший ему жизнь швейцарский пистолетик, выпил рюмку коньяку и, постояв минут пять у бойницы, спустился вниз. Машина ждала его у ворот крепости. «Хорошо, хоть самого Ранке не принесло сюда во время посещения Беркута. Испортил бы всю обедню».
– Мне приказано сопровождать вас, – вышел из «опеля» унтер-фельдфебель.
– Садитесь рядом с водителем, – проворчал Штубер и открыл заднюю дверцу. Когда ему приходилось ездить в легковых машинах, он всегда садился на заднее сиденье. Это было его неизменным правилом.
Проезжая узенькими извилистыми улочками города, он бездумно не замечал ничего происходящего на них. Как не думал и о предстоящем разговоре. О чем бы там ни шла речь – это уже несущественно, сейчас его волновало другое: как осуществить хотя бы одну громкую операцию? Он, конечно, сразу же позаботился бы, чтобы о его успехах узнал Скорцени. Возможно, это стало бы началом возвращения в лоно рейха. Все-таки неразумно бросать людей с его опытом чуть ли не на передовую, в эти подольские леса, в глухие дебри дикой Славянии…
Правда, Скорцени тоже бывал здесь. В свое время он даже наступал на Москву в составе эсэсовской дивизии «Дас рейх». Но знал Штубер и то, что его кумир воевал на Восточном фронте лишь до тех пор, пока надеялся одним из первых войти в столицу русских. Когда же эти надежды развеялись, унтерштурмфюрер отборной дивизии оказался в самом глубоком тылу, в Германии. По крайней мере так информировал Штубера один из его давних знакомых.
Впрочем, Штубер не осуждал Отто. Наоборот, считал, что тот поступил разумно. Кому нужен бессмысленный риск? Ну а политический капитал Скорцени все же сумел приобрести: теперь никто не решится упрекнуть его, что он отсиживался в тылу, не решаясь повоевать на Восточном фронте. А для карьеры это важно.
Машина остановилась возле небольшого двухэтажного особняка. Унтер-фельдфебель выскочил из нее первым и осмотрел небольшую площадь перед зданием. Заметив гауптштурмфюрера, часовой у входа отдал честь, однако слонявшиеся по площади два типа в гражданском (но с отличной унтерской выправкой) сразу же остановились и подозрительно осмотрели все вокруг.
– Теперь я понимаю, почему вы завидуете мне, – произнес Штубер, входя в кабинет Ранке, который разместился на втором этаже. – Потому что даже здесь, в центре города, не чувствуете себя в безопасности. Несмотря на то что на первом этаже находится отделение гестапо.
– Именно об этой нашей совместной безопасности я и хочу поговорить с вами, гауптштурмфюрер, – процедил подполковник, жестом приглашая его садиться. – Только что я говорил с шефом гестапо. Обстановка, сложившаяся в нашем регионе, не может не волновать. Впрочем, для начала позвольте узнать, как чувствует себя наш общий знакомый – лейтенант Беркут?
– Общий любимец.
– Что? – не понял Ранке.
– Да это я так, назвал его нашим общим любимцем.
– Еще бы! Кажется, вы даже собирались пригласить его на чашку кофе?
– Господин подполковник, я не обязан докладывать вам о подробностях задуманных нами операций, которые к тому же полностью засекречены.
– Амбиции, гауптштурмфюрер, амбиции. А ведь я и не требую подробностей. Разумеется, вы подчинены соответствующему отделу Управления службы безопасности в ставке гауляйтера и Управлению службы безопасности в Берлине. Но все мы здесь служим рейху. Да и формально ваш отряд все-таки…
– Помню, господин подполковник. Однако согласитесь: нет уверенности, что через неизвестные нам каналы моя информация не попадет в сводки, которые передаются в Москву. Что же касается Беркута, то операция развивается успешно.
– Уж не хотите ли сказать, что успели встретиться с ним?
– Именно об этом и хочу вас уведомить.
– Простите?
– Я вступил с ним в прямой контакт.
– Интересно, как это вам удалось, гауптштурмфюрер? И когда? Ведь только сегодня…
– За час до моего приезда сюда Беркут побывал в крепости.
– Ивы… упустили его?! – Ранке оперся обеими руками о стол и всем своим массивным туловищем подался к Штуберу. Лицо его побагровело. Он едва сдерживался, чтобы не раскричаться.
– Разумеется, – садистски улыбнулся Штубер. – Если бы мы не торопились вешать и расстреливать всех, кто попадается нам под руки, то давно имели бы в этих краях и мощную агентуру, и массу лояльного населения.
Слушая это, Ранке смотрел на него с едва скрываемой ненавистью.
– Я знаю, что, – наконец опустился он в свое кресло, – младшие чины СС порой позволяют себе разговаривать так со старшими офицерами вермахта. Тем не менее я просил бы вас…
– Мои извинения, господин подполковник, – произнес Штубер откровенно издевательским тоном.
– Но даже если забыть о наших взаимоотношениях… – все еще задыхался подполковник, – о виселицах все же уместнее говорить этажом ниже, в гестапо. Там вас лучше поймут. Если только… поймут.
– Поверьте, там я говорю то же самое. Жаль, что они не прислушиваются к моим советам.
Вслед за этими словами наступила неловкая, тягостная пауза, из которой – Штубер понимал это – им обоим нужно было как можно скорее выбираться.
– Как же он оказался у вас? – первым нашелся Ранке.
– Самым неожиданным образом. Пришел в крепость, поднялся ко мне в башню. Кстати, по документам он – оберштурмфюрер СС Ольбрехт. Советую выяснить, существовал ли такой на самом деле. Не хочется верить, что партизаны научились так искусно изготавливать фальшивые документы.
– Это мы проверим.
– Вместе с Беркутом приходил какой-то поляк в мундире вермахта. Только унтер-офицера.
– И Беркут уже знал о вашем письме? – теперь уже ехидно улыбнулся Ранке. Он почему-то усомнился в правдивости слов этого берлинского выскочки.
– Можете себе представить.
– А Лесич?..
– Очевидно, сейчас он находится в партизанском лагере.
Ранке опять хотел сказать что-то едкое, но в это время зазвонил телефон. Поначалу Штубер не вслушивался в разговор, но резкие вопросы, которые подполковник стал задавать своему собеседнику, заставили его насторожиться.
– Так где именно вы задержали этого идиота? Сколько их было? Отвез в лес и вернулся? Это что-то новое! Арестовать! Запросите его личное дело… Да, я сам допрошу. И постарайтесь, чтобы он заговорил даже о том, о чем никогда не знал.
Положив трубку, подполковник надолго замолчал, стараясь не встречаться взглядом с гауптштурмфюрером.
– Что-то случилось? Неприятные новости? – как можно безразличнее поинтересовался Штубер.
– Наоборот, самые желанные. Только что патруль полевой жандармерии задержал на шоссе при выезде из леса вашего водителя. Тот сразу же сознался, что отвозил в лес переодетых советских парашютистов. Один из них был в форме оберштурмфюрера, другой – унтер-офицера вермахта, третий – местного полицая. Все трое побывали в крепости. Если я правильно понял, тот, что в мундире оберштурмфюрера, и есть Беркут?
– Разумеется.
– И вы любезно предоставили в их распоряжение машину?
– Они «любезно» захватили ее в Залещиках. Этой машиной двое моих солдат отвозили Лесича. Беркут и его люди убили их, а водителя принудили везти их в крепость. Шофер должен был рассказать и об этом. Возле крепости они удерживали его как заложника. К сожалению, подробности я узнал только после встречи с Беркутом.
– Еще бы!.. – хмыкнул подполковник. – Там, в башне, вам было не до этого. Там вы спасали свою собственную жизнь!
– На войне это тоже иногда необходимо. Жаль, что я не знал, сколько их в машине.
– Операция в Залещиках – это все, что вам известно о действиях партизан Беркута в течение сегодняшнего дня?
– Пока все, – пожал плечами Штубер.
– А нам, уважаемый гауптштурмфюрер, известно, что прежде чем напасть на вашу машину, беркутовцы уничтожили троих полицаев, находившихся в засаде у соседей Лесича.
– Вероятно, эти полицаи напились до скотского состояния.
– Теперь это не имеет значения. Особенно если учесть, что сегодня же партизаны успели уничтожить агента гестапо и, кстати, давнего, еще довоенного агента нашей разведки – Кравчука. Причем уничтожили на пороге его собственного дома. И произошло это, заметьте, все в тех же Залещиках.
Штубер попросил разрешения закурить. Ранке молча пододвинул к нему пачку сигарет.
– У меня не было информации об этих акциях Беркута. К тому же он совершил их до нашей встречи и вне зависимости от ее последствий. – Когда Штубер прикуривал, рука, в которой он подносил спичку, мелко дрожала. Ранке заметил это. «Ничего, я заставлю тебя дрожать по-настоящему, – смерил его презрительным взглядом. – Не сейчас, конечно, со временем, я обязательно выберу нужный момент». А вслух сказал:
– Согласен: в лице такого человека лучше иметь союзника, чем врага. Тем не менее в крепости вы без особого труда могли захватить их. Сначала мы выведали бы у них все, что нам нужно, а потом повесили. На городской площади. Объявив всей округе, что с Беркутом покончено и что такая участь ждет каждого.
– Это не так просто было сделать, как вам представляется, – мрачно заметил Штубер.
– Но и не так сложно, как бы хотелось представить вам.
– Значит, истина где-то посредине, – демонстративно растянул губы в ироничной ухмылке Штубер.
– Ну хорошо, – развел руками подполковник, немного подумав. – Кого потеряли, того потеряли… Будем выкручиваться вместе. Вернемся к нашей операции. Какие у вас основания считать, что она развивается успешно?
– В принципе Беркут дал согласие на сотрудничество. Формально это еще никак не зафиксировано. Наоборот, он просил три дня на размышление. Однако уверен: ответ будет именно таким, какого мы ожидаем.
– А где гарантии, что он не поведет двойную игру?
– Исключено. Его группа возникла стихийно. Он – не профессионал. Я в этом убедился. И не имеет никакой связи с Москвой.
– Черти б их побрали, этих славян-фанатиков! – ударил Ранке ладонью по столу. – Откуда в них это?! Простите, кажется, перебил вас. Как считаете, есть у него связь с Москвой?
– Нет и не предвидится.
– Тем не менее это не мешает ему вести себя так, будто на него работает вся военная разведка русских. Что еще?
– Вам известно, что я брал для тренировки группу пленных. Вскоре вам доложат, что один из них бежал. Но пусть это вас не беспокоит. «Бежал» из машины мой человек. Агент по кличке Звонарь.
– Звонарь?! Но ведь именно его вы обещали заслать в отряд «Мститель».
– Ситуация изменилась. Дело в том, что Беркут и тот партизан, который был с ним, случайно, из разговора, узнали о пленных, на которых мы отрабатываем в крепости приемы рукопашного боя. Вот тогда я и подумал: «А почему бы одному из пленных не бежать? Немедленно, сегодня же» Пленные, само собой, заперты в подземелье.
– Любопытный ход.
– Сейчас, именно в эти минуты, – он взглянул на часы, – от крепости отъезжают две машины. Спектакль разработан до мельчайших деталей. Дальнейшие инструкции Звонарь получит позднее. Руководит операцией Зебольд. У него есть опыт в таких делах.
– Согласен, Витовт – не новичок. И все же не нравятся мне ваши экспромты, Штубер. Агент подготовлен к операции крайне плохо. Как ему там вести себя, через кого поддерживать связь?..
– Ничего, все образуется. Это один из самых опытных наших агентов. А не воспользоваться удачно сложившейся ситуацией было бы грешно.
– Пленного, под именем которого засылаете Звонаря, надеюсь, ликвидировали?
– Ликвидируем. На рассвете.
– А легенда? Звонарь знает его биографию?
– Рассчитываю на то, что в партизанском лагере биографии этого пленного тоже не знают. Поэтому велел Звонарю воспользоваться своей старой легендой. Она надежна.
Подполковник задумался. Как бы ни убеждал его сейчас гауптштурмфюрер, все равно он не мог одобрить такой поспешности. Впрочем, командир группы «Рыцарей Черного леса» и не нуждался в его одобрении. Операция разворачивается. И теперь все зависит только от находчивости и мужества этого самого Звонаря.
– В отряд «Мститель» пойдет другой агент, – успокоил его Штубер. Он почему-то решил, что подполковника волнует сейчас именно это. – Но сразу предупреждаю: «Мстителем» нам придется пожертвовать. Ради закрепления Звонаря.
– Конкретнее…
– Есть еще один неоригинальный, но хорошо проверенный ход…
* * *
Выслушав гауптштурмфюрера, Ранке вновь на какое-то время умолк. Но Штубер уже отметил про себя, что в целом его предложение понравилось.
– Хорошо, – произнес наконец подполковник. – Если эта операция удастся, мы, возможно, сумеем уничтожить все основные партизанские группировки. Ради этого не жаль пожертвовать и десятком агентов.
– Однако уничтожим лишь после того, как выявим всю их агентуру и всю подпольную сеть в окрестных селах и местечках. А уж потом устроим Варфоломеевскую ночь. Так что можете доложить своему начальству, что мы не сидим сложа руки.
– Отчего бы и не доложить? – поднялся Ранке. – Тем более что в рапорте будут фигурировать отряд особого назначения и ваша фамилия.
– Благодарю. У меня к вам еще одна просьба, господин подполковник. Сугубо личная.
– Слушаю.
– Не смогли бы вы по своим каналам выяснить, где находится сейчас Отто Скорцени?
– Скорцени? – вскинул брови Ранке. – Тот самый? Вы с ним знакомы?
– Да. Еще по Югославии.
– Вот оно что?! Неплохое знакомство. Его называют человеком с большим будущим. Сам фюрер знает о нем и, говорят, неоднократно упоминал его имя на различных совещаниях. Прошел слух, что зимой он уже прославился в нескольких блестящих операциях за рубежами рейха.
– Это похоже на Скорцени. Я мог бы, конечно, попросить об этой любезности своего отца, однако не хочется беспокоить старика по пустякам. Да и письма…
– Письма идут слишком долго, – понимающе улыбнулся подполковник. – Я попрошу своих знакомых в Берлине, чтобы они деликатно поинтересовались местопребыванием этого человека. Если только оно не является сейчас одной из государственных тайн.
17
Фельдшер, который пришел утром из отряда Иванюка, долго сидел на корточках возле Беркута, рассматривал рану и задумчиво тер подбородок.
– Что заставило вас задуматься, доктор? – поинтересовался Андрей.
– Так ведь есть над чем, – наконец поднялся старик. – Нужна операция.
– Понятно, что нужна. Я не собираюсь всю жизнь носить в себе свинец, которым меня нашпигуют за годы войны, – в эту ночь Беркут так и не смог уснуть и теперь лежал усталый, бледный. Тем не менее вел себя довольно спокойно.
– Но у нас нет хирурга. Да и вообще врача. В отряде «Мститель», говорят, есть люди, поддерживающие связь с городской больницей. Так ведь сначала нужно разыскать этот отряд, потом послать людей в город и каким-то образом доставить сюда хирурга. Поэтому еще дня три придется потерпеть. Это в лучшем случае.
– В лучшем – да, – кивнул Беркут. – Но я всегда рассчитываю на худший. А потому слушайте меня внимательно, фельдшер. Скальпель у вас с собой?
– Нет. Я собирался всего лишь промыть рану и перевязать вас. Операций я никогда в жизни не делал. – Фельдшеру было лет под шестьдесят – приземистый, худой, донельзя сутулый, словно согнулся под тяжкой ношей. – Меня ведь только называют фельдшером. На самом деле я работал в больнице санитаром. Перевязать – это я еще умею. Укол сделать тоже могу. Словом, кой-чего насмотрелся. Но чтобы за скальпель браться… Да и в отряде совсем недавно.
– Все понятно, отец. Я все же буду считать вас фельдшером. Крамарчук!
Николай сидел на пеньке у землянки и поэтому вошел сразу же.
– Собери у ребят все ножи, какие есть. И тащи их сюда.
Когда через несколько минут сержант выложил перед фельдшером десяток ножей различной величины, старик удивленно посмотрел сначала на него, затем на Беркута, словно все еще не понимал, что они задумали.
– Ну вот, видите, за скальпелем дело не станет, – едва заметно улыбнулся Андрей. – Выберите поострее, с самым узким лезвием, подержите его над огнем, протрите спиртом и начинайте.
– Начать нетрудно… – замялся фельдшер. – Только выдержите ли? У меня нет ничего обезболивающего. Даже самый паршивенький укол сделать нечем.
– И не нужно. Не обращайте на меня никакого внимания. Крамарчук нагреет воды и будет помогать вам.
Фельдшер орудовал ножом так, что, глядя на его работу, Николаю хотелось вырвать это страшное орудие из рук старика, а самого его вышвырнуть вон. Сдерживало только терпение лейтенанта: глаза закрыты, зубы сцеплены, скулы выпячены так, что, казалось, кожа вот-вот лопнет. Тем не менее ни разу не дернулся, не вскрикнул, лишь однажды застонал. Да и то Крамарчук потом сомневался: стон ли это был или просто мученический вздох.
Но когда, пораженный его терпением, фельдшер негромко спросил: «Неужто не чувствуешь боли, командир?», – Беркут не сдержался и сквозь зубы прохрипел: «Не трать времени, отец, делай свое дело. К черту сочувствия».
– Во спасение души, старик, – вдруг простонал вместо него Крамарчук, как только фельдшер снова взялся за свое страшное орудие пытки. – Ты же не тушу разделываешь! Под ножом у тебя – живой человек.
– Вот именно: все еще живой, – неопределенно как-то ответил «тушеразделыватель».
Наконец фельдшер извлек пулю, промыл рану и туго забинтовал ногу. Дождавшись конца этой хирургической экзекуции, Николай вздохнул с таким облегчением, словно пулю вынули из его тела. И когда, открыв глаза, Беркут, пересилив боль, подмигнул ему, сержанту показалось, что все тревоги его были напрасными, потому что этот непостижимый человек знает средство, которое помогло бы ему перенести и не такую операцию. Нет, Крамарчук действительно поверил, что лейтенант способен выдержать любую боль, любую пытку. Что его христоголгофское терпение не знает предела.
– Как думаешь, сколько придется отлежать? – спросил Крамарчук фельдшера, от души поблагодарив его за помощь. Теперь он смотрел на бывшего санитара, как на академика от медицины.
– Недели две – не вставая. Потом еще столько же придется похромать на костылях.
– Ну что ж, – пробормотал Андрей, слышавший их разговор. – Похромать так похромать. Если этот чертов фриц попадется мне еще раз, ему будет суждено лежать намного дольше. Кстати, к вашему отряду беглец из пленных не прибивался?
– Было такое. Сегодня ночью. На пост наш вышел. Говорит, что из машины удрал, когда его везли из крепости.
– Удрал он вчера?
– Вчера под вечер.
Беркут вопросительно посмотрел на Крамарчука. Вчера Николай рассказал ему об этом беглеце, но Андрей решил, что он блуждает где-то неподалеку и, предупредив о нем ребят, которые охраняли лагерь, успокоился. А зря, как видно, поспешил успокоиться.
– Как держится этот бывший пленный? – снова спросил он фельдшера.
– Как все, кому удается бежать из плена. Радуется. Говорит, что в крепости их заставляли драться врукопашную с какими-то агентами, которых, видимо, готовят к засылке в партизанские отряды. Ему там здорово досталось. Я сам обрабатывал йодом его лицо. Однако хватит об этом. Сейчас вам нельзя ни волноваться, ни разговаривать.
– Как его зовут?
– Феликс Романцов. Родом вроде бы из-под Курска. Да, о вас вспоминал.
– Обо мне? – насторожился Беркут.
– Как только его привели в лагерь, спросил, где можно увидеть Беркута. Думал, что попал в ваш отряд. Объясняет тем, что слышал о вас в лагере военнопленных, да и в крепости при нем тоже несколько раз упоминали группу Беркута. Он немного знает немецкий и понимал, о чем фашисты говорят между собой.
– Стало быть, он стремился попасть к нам? – подытожил Беркут. – Вот за это сообщение еще раз спасибо.
Как только фельдшер ушел, в землянку сразу же втиснулась половина группы. Увидев, что Беркут внешне совершенно спокоен и ничем не выдает своего состояния, бойцы удивленно переглянулись.
– Мазовецкий, проверь охрану лагеря. И пошли кого-нибудь из ребят в отряд Иванюка. Пусть отправляется туда вместе с фельдшером.
– Да хоть и я мог бы пойти, – сразу же вызвался Федор Готванюк. – Если доверите.
– Хорошо, пойдешь, – согласился Беркут, немного поколебавшись. – Предупреди фельдшера, чтобы задержался и минут через десять зашел ко мне. А вы, ребята, отройте вокруг лагеря еще несколько окопов. На всякий случай.
Нужно подготовиться к круговой обороне. Кажется, «рыцарям» уже не сидится за крепостными стенами, решили подышать лесным воздухом.
А еще через несколько минут, когда все вышли, Беркут, превозмогая боль, наставлял Готванюка:
– Как только придешь, сразу встретишься с командиром. Предупреди его, что Феликс Романцов не должен знать о твоем появлении. И еще: попроси держать этого беглеца подальше от штаба и никуда не отпускать из лагеря. Никаких доказательств у нас пока нет – так Иванюку и скажи, но считаю, что через пару дней мы их получим. И еще… Если этот Феликс Романцов из-под Курска станет проситься в наш отряд, пусть пока не переправляют.
18
Готванюк вернулся к следующему полудню. Отряд Иванюка перебазировался в глубь урочища, и до него было не менее трех часов пути. Федор вышел на рассвете, и за это время настолько устал, что едва держался на ногах.
– Иванюк не поверил мне, – доложил он Беркуту. – Вообще не поверил.
– Что значит: «не поверил»? Что ты от меня? Что выполняешь мой приказ?
– Нет, просто он стал требовать доказательств. Которых у меня не было. А без доказательств, мол, подозревать человека он не может. Иванюк несколько раз говорил с Романцовым. Тот подробно описывает село, в котором родился, называет фамилии председателя колхоза и бригадиров. И брат у него служит на Северном флоте. В плен попал уже за Днепром. Сначала был во временном лагере где-то под Киевом. А недавно его перевезли сюда. Находился в бараке, куда согнали самых крепких для отправки в Германию, на работы. Словом, зацепиться не за что. Поэтому Иванюк и не верит.
– Ну, то, что не верит, может, и правильно делает… Но ведь мы не требуем судить Романцова. Речь идет об осторожности. Фактов у нас пока что нет, это так. Но и то, что ему рассказал о себе Романцов, тоже не убеждает. Чем завершилась ваша встреча?
– Иванюк пообещал, что некоторое время будут присматриваться к Романцову.
– И все?
– Спрашивал, отчего это Беркут не увеличивает отряд? Предлагал присоединить нашу группу к его войску.
– А ты?
– Ответил, что мы делаем свое дело честно. Нападаем на противника почаще, чем они. И не убегаем в леса, а держимся под боком у Подольска. Действовать так в составе большого отряда мы бы не смогли.
– Да ты – стратег! Только, знаешь, я тоже подумывал: а не объединиться ли? По крайней мере, большие операции нам уже пора проводить совместно с отрядом Иванюка и согласовывать их с другими отрядами. Связи с Москвой у него все еще нет?
– Кажется, нет.
– «Кажется»!.. – хмыкнул Беркут. – Об этом нужно было узнать точнее. Если до осени у него не появится рация, придется посылать кого-нибудь через линию фронта. Давно пора.
– А что будет с Романцовым? Если окажется, что подозревать его не в чем, тогда?..
– Тогда облегченно вздохнем. И извинимся. Ты хотел еще что-то сказать?
– Да так, ничего… Когда прощались, Иванюк вдруг стал расспрашивать о тебе. Он ведь видел тебя всего один раз. Да и то мельком. Интересовался, правда ли, что хорошо владеешь немецким и свободно разгуливаешь по Подольску в форме эсэсовского офицера.
– Куда как свободно! – усмехнулся Беркут, осторожно поворачиваясь на бок, чтобы не потревожить раненую ногу. – Бываю на всех балах местного офицерства.
– Ничего не поделаешь: где бы хлопцы Иванюка не появлялись, везде слышат о Беркуте. Говорят, будто ты даже разъезжал на лимузине в форме фашистского генерала.
– Раз говорят – надо попробовать.
– Знаешь, о чем я думал, пока шел? Может, стоит привести этого Романцова к нам? Ведь интересуется же человек.
– В том-то и дело, что очень уж напористо он интересуется.
* * *
Оставшись один, Беркут еще раз попытался проанализировать обстоятельства, при которых пленный оказался в лагере Иванюка. Теперь, имея представление о планах гестапо относительно «Рыцарей Черного леса», он не верил, что Штубер мог допустить побег Романцова. Пленных привезли в крепость, чтобы отрабатывать на них приемы рукопашного боя, как на манекенах. Фельдфебель сам сказал об этом Мазовецкому во время их дружеской беседы. А докладывая Штуберу, что тренировка закончена, этот же фельдфебель заявил, что пленные в подземелье. Стало быть, фашисты не собирались отвозить их вечером в лагерь. Опасались нападения партизан. Как же в таком случае машины с пленными оказались на шоссе? И почему этому Романцову так легко дали бежать? Даже не преследовали его? С другой стороны, невозможно, чтобы спектакль с докладом фельдфебеля был разыгран специально для него. Штубер не мог предвидеть появления Беркута в крепости именно в это время.
Фельдшер сказал, что лежать придется еще недели две. А тем временем Штубер будет действовать. Судя по всему, он задумал большую операцию. И толчком к ней наверняка послужил его, Громова, визит в крепость. Штубер понял, что наговорил «оберштурмфюреру Ольбрехту» много лишнего, но потом, видимо, решил: почему бы не извлечь выгоду из собственной болтовни. Теперь, когда Беркут знает, что в крепости находятся пленные, он легко поверит «беглецу». Тем более, что Романцов сможет сообщить несколько совершенно правдивых деталей о событиях и обстановке в крепости.
Словом, похоже, что Романцова подключили к неожиданной, не спланированной заранее операции, на которую Штубер пошел без соответствующей подготовки. В конце концов, не так уж и велика трагедия, если провалится еще один агент из аборигенов. Ну а то, что Крамарчук стал свидетелем «побега»… Так ведь кто мог предвидеть такое?
Уходя из крепости, Беркут твердо решил, что появится там еще раз – ровно через три дня. Ему казалось, что игру со Штубером стоит продолжать. В конечном итоге, если не его самого, то хотя бы нескольких «рыцарей» можно было бы заманить в лес и здесь основательно допросить. Но теперь все срывается. Впрочем, уже и сейчас у него есть основания предупредить партизанские отряды о возможной засылке к ним «рыцарей». Именно на это намекал гауптштурмфюрер. Так что польза от распития коньяка в башне Штубера очевидна.
Вошел Мазовецкий. В землянке было душно, и Владислав помог командиру выйти на воздух. На поляне за лагерем они сразу же разделись до пояса – самое время позагорать.
– Странная тишина, – задумчиво произнес поляк, растирая свое крепкое мускулистое тело. – С некоторых пор я больше всего опасаюсь именно тишины. И вообще, может, война уже давно закончилась и мы зря сидим здесь?
– Если вот так, тихо, посидим еще неделю, немцы наверняка всполошатся: куда девались партизаны?
– Ага, – кивнул Мазовецкий, – так всполошатся, что бросят на розыски несколько полков под прикрытием самолетов. Но особенно встревожится наш друг Штубер.
– Меня сейчас больше интересует этот загадочный беглец Романцов. Одно из двух: либо это действительно пленный, но завербованный фашистами, либо профессиональный провокатор. В обоих случаях его следует ликвидировать.
– У Иванюка есть кое-какие связи, правда, не очень надежные, с лагерем военнопленных. Нужно использовать этот канал. Должны же там хоть что-нибудь знать о побеге и сбежавшем.
– Это ничего не даст. Если Романцов – провокатор, значит, настоящего Романцова среди живых уже нет. Так что в лучшем случае из лагеря могут подтвердить: да, бежал пленный под номером таким-то. Ну и что? Мы ведь не можем привести в лес, на очную ставку, целый барак.
– Почему так безнадежно? Давно предлагаю напасть на лагерь, перебить охрану и освободить пленных.
– Я уже говорил об этом с комиссаром «Чапаевца», ты же знаешь, он базируется севернее нашего лагеря. Люди из этого отряда тоже наладили связь с пленными и даже с кем-то из охранников. Однако никаких серьезных операций командование пока не планирует. Ждет, когда в лагере сформируется подпольная группа, которая поддержала бы партизан во время нападения. Иначе будет слишком много жертв и среди партизан, и среди пленных. Что же касается Романцова… Самое верное – устроить неподалеку от крепости засаду и захватить в плен одного из «рыцарей» Штубера. Если Романцов – их агент, пленный наверняка выдаст его.
– Осталось захватить этого самого «рыцаря», – вознес руки к небу Владислав. – Это так просто. В засаду идти сегодня?
– Я и не говорю, что просто. Но это реальный выход. Не будем спешить. Захватить кого-либо из «рыцарей» без открытого боя вряд ли удастся. Штубер наверняка учитывает возможность такого захвата и принял меры. Пошлем на разведку Клима Вознюка. Парень местный, окрестности знает. Пусть хотя бы денек понаблюдает за крепостью.
– А потом?
– Есть одна идея. Жаль, что погибла группа твоего земляка капитана Залевского.
– Патриотов великой Польши, о которых ты рассказывал?
– Нам бы сейчас очень пригодилось их подземелье, – объяснил Беркут, – и их связи.
– Не впервые жалею, что опоздал со знакомством с ними.
– Тогда я мог бы потерять лучшего из своих бойцов. Зов крови и обет землячества оказались бы сильнее.
– Как провидец ты уже ничем не рискуешь.
…А ведь тогда Громов так и не смог выяснить, почему группа Залевского провалилась. Просто однажды, придя к усадьбе капитана, он увидел, что дом взорван. Подземелье, как ему объяснили, тоже. А еще через несколько дней узнал, что капитан Залевский покончил с собой в камере гестапо, а Янек и Владислав повешены. До сих пор Беркут не терял надежды установить, кто именно предал группу, и отомстить за нее. Да, было время, когда он со своими бойцами неделями отсиживался у Залевских, пока фашисты прочесывали лес и томили солдат в засадах. Надежно укрывало их подземелье Залевских и в суровые зимние месяцы. Да что там… они и продержались так долго в тылу врага во многом благодаря существованию этой удивительно надежной базы.
«Странно: польская разведка позаботилась о создании таких баз, а наша почему-то нет, – подумал Андрей. – Насколько они облегчили бы участь подпольщиков и партизанского движения!»
19
Прошла неделя с тех пор, как Беркут побывал в крепости. Теперь Штубер уже понимал, что рассчитывать на дальнейшие контакты с ним не приходится. И если прежде потери своего отряда и посещение Беркута он мог оправдывать конечной целью – вербовкой командира партизанской группы, то сейчас вся эта затея уже казалась ему слишком наивной.
Сегодня он снова вызвал к себе водителя Йозефа Каммлера. Тот явился сразу же. Лихо отдал честь. Страх перед тем, что его может арестовать гестапо, уже прошел, и теперь Каммлер чувствовал себя чуть ли не героем. Как-никак, он сумел перехитрить партизан, вырваться из когтей самого Беркута и даже стрелял в него.
– Еще раз расскажите, как все это происходило. Только не торопитесь. Со всеми подробностями. И не привирая. Сами знаете, чего мне стоило вырвать вас из рук гестапо. А ведь там на вас смотрели как на изменника, выполнявшего все приказы бандитов ради сохранения собственной шкуры. Впрочем, так оно на самом деле и было. Ведь ради спасения?.. – Штубер насмешливо взглянул на Каммлера. Ему приятно было видеть, как с лица солдата сползает маска самодовольства, а вместо нее появляется серая тень страха.
– Не совсем, господин гауптштурмфюрер. Там возникла такая ситуация, что…
– Я вызвал вас не затем, чтобы выслушивать оправдания. Они меня не интересуют. Еще раз обо всем этом происшествии… Я весь внимание.
Водитель снова со всеми подробностями рассказал, как он оказался в плену у Беркута и что происходило потом, вплоть до его возвращения в крепость.
– Вы действительно стреляли? – недоверчиво переспросил Штубер, как только солдат дошел до того момента, когда Беркут отпустил его.
– Могу поклясться на Библии, господин гауптштурмфюрер.
Штубер поморщился. Всякое упоминание о церкви или Святом Писании вызывало в нем какое-то необъяснимое раздражение. Он очень редко задумывался над тем, существует ли Бог на самом деле. Но и никогда не мог понять, что заставляет мужчину становиться на колени перед иконой. Поэтому любые клятвы «на Библии» воспринимал, как неумную шутку.
– И уверены, что попали в кого-либо?
– Не уверен. Я стрелял в бандита, который был в форме оберштурмфюрера… Думаю, что не промахнулся. Но он не упал. Почему-то… Не могу сказать точно. Я сразу умчался оттуда. Вы же понимаете: замешкайся я хоть на мгновение…
– И этот партизан просил передать мне, что он умеет сдерживать свое слово?
– Именно об этом он и просил. Двое других настаивали на моей смерти. Но оберштурмфюрер был против. Решительно против, – чеканил Каммлер.
«Жаль, что Беркут не прислушался к их совету, – подумал Штубер. Он встал из-за стола и подошел к бойнице. – Если б не этот идиот, подробности визита Беркута оставались бы моей личной тайной. – А теперь о них знает все отделение гестапо. Не говоря уже об абвере».
– Итак, оберштурмфюрер спас вам жизнь, а в благодарность за это вы сразу же выстрелили в него? – вопрос вырвался у Штубера непроизвольно. Лишь потому, что его раздражал болван-водитель, на котором военная форма висела, как на полигонном чучеле.
– Но ведь, господин гауптштурмфюрер… Это же явный враг…
– Конечно, конечно, – спохватился Штубер. Меньше всего ему хотелось, чтобы солдат заподозрил его в жалости к врагу, который он, Штубер, никогда не испытывал. – Вы свободны. Единственное, что я вам советую и приказываю: поменьше болтать о своих «подвигах». Вы поняли меня?
«А ведь если операция против партизан не удастся и кретинам из гестапо придет в голову найти виновного, этот олух будет для них неоценимым свидетелем», – подумал Штубер, когда шофер вышел. Несколько минут он нервно вышагивал по своей каморке, затем дернул за бечевку, на конце которой там, внизу, у денщика висел колокольчик.
Ганс Крюгер явился немедленно. Это был деревенский парень, лицу которого, казалось, не были присущи какие-либо проявления чувств и сквозь невозмутимость которого отчетливо просматривалась умственная неполноценность. Именно это и определило его судьбу. Потому что Штуберу нужен был именно такой денщик: по-крестьянски старательный, трудолюбивый и несколько туповатый, которому и в голову не придет размышлять над словами и поступками своего командира.
– Вызови шарфюрера Лансберга. А когда он выйдет отсюда, пригласи фельдфебеля Зебольда.
Ганс кивнул. Этот кивок напоминал неуклюжий поклон состарившегося швейцара. Отвечать, как подобает военному, Штубер так и не приучил его.
* * *
Карл Лансберг вошел сразу же, словно в ожидании вызова стоял за дверью. В отличие от Ганса, этот крепкий двадцативосьмилетний парень напоминал старых прусских интеллигентов. Если бы Штубер не знал, что перед ним сын уголовного преступника-рецидивиста и что на счету Карла как минимум двенадцать крупных террористических акций, две из которых получили международную огласку, то считал бы, что имеет дело с холеным профессорским сынком. Эта внешность, эти изысканные манеры… Штубер никак не мог понять, откуда они у Лансберга. Но они исправно служили Карлу той маской, благодаря которой его принимали как своего в любом порядочном обществе. К тому же он с уверенностью дилетанта умел свободно поддерживать разговор на любую тему, чем особенно нравился старшему поколению интеллигентов и женщинам.
Служба безопасности учла это: Карл Лансберг, он же агент по кличке Магистр, специализировался на убийствах интеллектуалов, «склонных, – как это деликатно формулировалось, – к явному покраснению».
В среде офицеров службы безопасности даже бытовал мрачный полуанекдот о том, что, перед тем как уничтожить свою жертву, Лансберг читает ей популярную лекцию о путях развития европейской философской мысли сороковых годов двадцатого столетия. Затем вручает свою визитную карточку и только потом стреляет. Но таким образом, чтобы кровь залила визитку, которую он приобщает к своей коллекции.
– Как тебе здешний климат, Магистр? – спросил Штубер, выслушав его приветствие и разливая в рюмки коньяк.
– По ночам видится Франция, – настороженно усмехнулся Карл.
– Мне тоже. Или Испания. В зависимости от расположения планет. Так что самое время выпить, – подал ему рюмку, – за скорейшее возвращение на средиземноморское побережье. Никто не заставит нас поверить, что там уже не осталось работы для истинных профессионалов.
– Видит Бог – никто, господин гауптштурмфюрер. – Магистр резким движением опорожнил рюмку, подошел к столу, поставил ее и отступил на три шага назад. – Разрешите уточнить: существует ли в действительности хоть какая-нибудь надежда?
– Просто так надежды в природе не существует. Ее вызывают, как духов. Сейчас мои люди налаживают контакты со Скорцени, который, будем молиться, еще не забыл, что где-то там, в России, сражается Вилли Штубер. Точно так же, как я не забыл боевого друга Карла Лансберга.
– Вы слишком добры ко мне, – приложил Лансберг руку к сердцу.
«Хотя бы здесь не устраивал свои крокодильи спектакли!» – поиграл желваками Штубер. Но вслух сказал:
– Впрочем, многое зависит от успеха нашей миссии здесь, в черных лесах Подолии.
– Бывали и посложнее, – скромно опустил взгляд шарфюрер.
– Разумеется. Полагаю, что до осени управимся. Нужно только уцелеть, сохранив себя для теплого солнца и ласковых женщин. Вот, собственно, и все. Я и пригласил тебя только для того, чтобы немного подбодрить. Не так уж много у меня здесь друзей, на которых по-настоящему можно положиться.
Магистр сердечно поблагодарил, но с места не тронулся. Он не верил в существование начальства, которое вызывает подчиненных только для того, чтобы подбодрить и поблагодарить за преданность. В этот раз чутье тоже не подвело его.
– Этот водитель… Йозеф Каммлер, который не устает расписывать свои подвиги в борьбе с партизанами… Что он собой представляет?
– Трепло, господин гауптштурмфюрер. Никогда не уважал людей, которые, впутавшись в историю, о которой им знать не положено, не умеют молчать.
– Правильно, Карл. Я ждал от тебя именно этих слов. Я так понимаю, что партизаны его просто-напросто помиловали… И теперь, радуясь жизни, парень даже не догадывается, что испортил нам интереснейшую игру с противником. И продолжает портить ее. Не говоря уже о странной откровенности Каммлера при общении с полевыми жандармами. Неужели о таких случаях следует рассказывать каждому патрульному, тем более что ты еще не успел доложить о них своему командиру?
– Это глупо, – глухо пробубнил Магистр с таким видом, словно речь шла о его собственных просчетах.
– Рад, что наши мнения совпадают, Карл, – хищно сощурился Штубер. – А почему, собственно, я советуюсь с тобой? Да потому, что была мысль привлечь к нашим делам и этого парня. Но ты же сам видишь: такого болтуна следует держать подальше.
– Ясное дело, господин гауптштурмфюрер, – подольше.
– Мы не можем допустить, чтобы о каждой, даже небольшой нашей операции становилось известно всему вермахту. Что тогда подумают о нас в Главном управлении имперской безопасности, где предпочитают иметь дело только с агентами с безупречной репутацией? Исключительно безупречной!
– Я понял вас, господин гауптштурмфюрер, – щелкнул каблуками шарфюрер. – Разрешите идти?
– Пожалуйста, Карл, пожалуйста… Полагаю, что нам и впредь следует время от времени встречаться за рюмкой коньяку или чашкой кофе.
Через несколько минут перед Штубером уже стоял Зебольд.
– Витовт! – резко проговорил Штубер. С Зебольдом ему незачем было разводить дипломатию. – Беркут исчез. Наши условия он не принял. Тем хуже для него. Как там поживает Звонарь?
– В условленном месте постоянно дежурят два наших агента. К сожалению, до сих пор Звонарь на связь не выходил.
– Это еще не провал. Возможно, его пока что держат при штабе, присматриваются. Беркут не так наивен, чтобы сразу довериться первому встречному, который к нему прибьется.
– Но ведь Звонарь – опытный агент, – проворчал фельдфебель. Штубер знал, каких сил стоило ему это признание. Зебольд терпеть не мог Звонаря.
– А как дела у Совы?
– Только что звонили из гестапо. Вышел на связь. Судя по информации, внедряется успешно.
– Ну и прекрасно. А теперь приступим к операции под кодовым названием «Тевтонский меч». Пополнение из полицейских прибыло?
– Прибудет через час. Двадцать человек.
– Отлично. Отберите десять наших «рыцарей» и десять олухов-полицейских и завтра же выступайте в Днестрянский лес. Он невелик. Партизанских отрядов или хотя бы групп там нет. О том, как действовать отряду, мы уже вкратце говорили. Главное, побольше рейдов в окрестные села. С населением до поры обращайтесь более-менее корректно. Ваша задача: выявить возможно большее количество нелояльных личностей, склонных к партизанским действиям, а также родных и близких коммунистов и офицеров Красной Армии. Охотно принимайте любого, кто попросится к вам. Обрастайте людьми, формируйте большой партизанский отряд. Вступайте в контакты с другими партизанскими отрядами, выявляйте их базы, тайные склады оружия и продовольствия, каналы связи с населением, явочные квартиры. Особое внимание уделяйте партизанской агентуре и агентуре советской разведки в местной полиции, городской управе, уездной больнице и других учреждениях.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер… Но… – замялся Витовт.
– Что означает ваше загадочное «но», Зебольд?
– Я вспомнил, что по крайней мере два партизана знают меня в лицо.
– С одним вы даже подружились, мой фельдфебель, – оскалился Штубер. – Был такой грех, был.
– А тот поляк, адъютант Беркута…
– Я учел это обстоятельство. Лично вы в лесу пробудете недолго. Формально командиром вашего «партизанского отряда» будет Савченко. Он украинец, знает местный говор, а значит, к нему – больше доверия.
– Агент Лютый… – кивнул Зебольд, явно одобряя выбор Штубера.
– Вот именно – Лютый. Пусть это станет и его партизанской кличкой. Сегодня вечером я проинструктирую Савченко подробнее. Вы же будете заместителем командира отряда. Выдавайте себя за прибалтийца. Кажется, вы немного владеете литовским?
– Наш детский приют находился недалеко от границы с Литвой. Могу изображать литовца, основательно подзабывшего свой язык. Тем более что проверять здесь некому. Кроме Беркута.
– Пока он поймет, что к чему, вы уже будете в крепости.
– Значит, с населением мы пока должны обращаться деликатно? – на всякий случай уточнил Витовт, давая понять, что с его порочным знакомством покончено. Это был единственный пункт, который смущал опытного террориста, сковывал фантазию.
– Понимаю, вы привыкли к эффектной работе. Но две-три недели придется потерпеть. И еще одно. Об этом будете знать только вы: через три дня здесь, неподалеку от крепости, появится еще одна группа. Выдающая себя за группу Беркута. Возглавит ее Магистр. Задача группы – полная дискредитация в глазах населения беркутовцев и всего партизанского движения. Они будут откровенно грабить население и казнить при малейшем подозрении в сочувствии оккупантам. Вот у них все методы хороши. Часть недовольных действиями Беркута, конечно же, придет к вам. За помощью. Как говорят русские, из огня да в полымя. Охотно принимайте их.
– Нетрудно представить себе судьбу этих несчастных. Уж мы-то «поможем».
– И последнее: у вас будет трое постоянных связных. В разных местах. О них мы еще поговорим. Но ни один из ваших людей не имеет права появляться в крепости до тех пор, пока не завершится операция.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер.
Зебольд вышел. Удовлетворенный беседой, Штубер приблизился к бойнице, еще раз взглянул на полоску леса меж двух холмов и вновь зловеще оскалился. В последнее время он истосковался по настоящей работе, и радовался, что наконец-то может начать важную операцию, к которой так долго и тщательно готовился. Не разглашая при этом замысла.
20
Когда фельдшер из отряда Иванюка снова наведался в лагерь Беркута, он нашел командира на небольшой поляне, окруженной со всех сторон молодыми соснами. Сегодня утром Николай Крамарчук смастерил для него нечто напоминающее костыли, на которых Громов упорно пытался расхаживать раненую ногу. Теперь, наблюдая, как он неуклюже переставляет тяжелые несуразные деревяшки, Крамарчук благодушно посмеивался, выводя тем самым Беркута из себя.
Неизвестно, чем бы, в конце концов, закончилось это испытание командирских нервов, но в любом случае Крамарчука спасло то, что, заметив на тропинке фельдшера, лейтенант отбросил костыли и уселся в траву посреди поляны.
– Спасибо, что пришли, доктор. Не то бы этот варвар, – кивнул он на Крамарчука, – окончательно замучил меня. Осмотрите рану. Что-то мне не нравится, как она заживает.
– То-то и оно… Чтобы ранить, много ума не надо, – приговаривал фельдшер, разматывая бинт. – Зато сколько нужно приложить его, чтобы помочь потом человеку вылечиться. А ну, принеси-ка, парень, воды… – попросил он Николая.
Тем временем к ним подошел седобородый партизан, который, как выяснилось, сопровождал фельдшера, но чуть-чуть поотстал.
– Знакомьтесь: наш начальник разведки Василий Григорьевич Отаманчук, – отрекомендовал его старик. – В прошлом – сельский учитель. Был оставлен райкомом партии для организации подполья, которое и по сей день существует в Квасном и Дмитровке. Вот только самого Василия Григорьевича выдал провокатор, пришлось срочно уходить в лес. От ареста спасся чудом.
Беркут поздоровался с Отаманчуком за руку. Начальнику разведки было уже под пятьдесят, но из-под лохматых, осветленных сединой бровей его поблескивали на удивление молодые, сияющие голубизной глаза доверчивого человека, которого только война могла заставить заниматься разведкой, всегда связанной со всевозможными ухищрениями, подозрениями и проверками.
– Я немного задержался, осматривал ваш лагерь, – сказал Отаманчук, присаживаясь на траву рядом с Беркутом так, чтобы не видеть его раны.
– Ну и какое впечатление?
– Хорошо устроились. И местность хорошая. В случае чего можно отойти вон за те холмы, а оттуда еще дальше, в Медоборы, где множество огромных пещер, в которых отряд пересидит любую карательную экспедицию.
– Да? О Медоборах – это вы верно. Надо послать ребят, чтобы получше разведали эти места, осмотрели хотя бы одну-две пещеры. Они действительно могут пригодиться. Я слышал, будто Иванюк мечтает объединить наши отряды, – сразу же сменил тему разговора Громов.
– Было такое: мечтал. Но делать это сейчас уже, вероятно, не стоит. Отряд и так слишком разросся, свыше двухсот бойцов. Если перевалит за триста да обрастет обозом, надо будет уходить еще дальше в леса – маневрировать таким большим отрядом трудно. Тем более что неподалеку действует еще два отряда. «Мститель» тоже ведь перебазировался к нам, в Градчанский лес.
– Странно. И когда это произошло?
– Да вот только сегодня прибыл. Вчера на него напали каратели. Целый день вел бой, а ночью едва вырвался из окружения. Вырваться-то вырвался, но фашисты захватили лазарет с десятью ранеными и двумя медсестрами и небольшой склад оружия. И что самое страшное – каратели шли прямо на базу отряда. Поэтому Роднин подозревает, что в отряде прижился провокатор.
– Вот как? И кого конкретно он подозревает?
– Да есть там один, Петраков его фамилия. Только недавно прибился к отряду. После его появления уже провалились две явочные квартиры в селах. На одну из них, вместе с двумя другими партизанами, ходил сам Петраков, о второй он слышал от ребят. Проговорились.
– Его арестовали?
– Пока нет. Подозрение – еще не доказательство. А по документам он как-никак офицер, капитан Красной Армии, бывший командир стрелкового батальона. В плен попал раненым. Уверяет, будто дважды бежал. Почти неделю прятался у надежных людей.
– Известно, у кого именно?
– Известно. Проверяли. Действительно, скрывался там. Хозяйка подтверждает. Было это месяц назад. Ничего определенного сказать о нем не может. Разве что часто куда-то исчезал. И раза три появлялся навеселе.
– Интересная ситуация… Вам известно о существовании отряда особого назначения, который базируется в крепости?
– Да в общем-то слышали… Но толком ничего о нем пока не знаем, – заметно оживился Отаманчук.
Беркут показал глазами на фельдшера. Отаманчук жестом успокоил его, что, мол, человек надежный. Тогда Андрей вкратце пересказал ему все, что удалось узнать об отряде Штубера, а также о своем посещении крепости.
– Неужто решился на такое?! – искренне поразился Отаманчук.
– Вы бы не отвлекали пациента, Василий Григорьевич, – проворчал фельдшер, накладывая свежую повязку. Увлеченный разговором, Беркут забыл и о нем, и о ране.
– Меня вот что заинтересовало в этой истории… – продолжал Беркут. – Конечно, можно предположить, что Штубер заслал к вам своего человека. Он сам утверждал, что начнет с «Мстителя». Но если он говорил тогда правду, то почему вдруг такая неосторожность? Почему сразу провалы конспиративных квартир, карательная экспедиция? К чему спешка? Ведь ясно, что в подобных случаях подозрение сразу же падает на новичка.
– Ясно-то оно вроде бы ясно… Но ведь они, наверно, рассчитывают на его биографию. Что ни говори – капитан Красной Армии. А сам Роднин – всего лишь лейтенант. Так что этот Петраков может еще и претендовать на командование отрядом.
– Ну, у нас тут свои звания и ранги, – невозмутимо заметил Беркут. – А если он действительно агент… Сомневаюсь, чтобы немцы делали серьезную ставку на агента, которого заставляют безбожно разоблачать себя такими действиями.
– Так вот, возникла идея. Иванюк просит вас организовать небольшой спектакль, которым мы все вместе помогли бы «Мстителю» – он стоит в двух километрах от нас. Могли бы вы откомандировать к нам своего поляка, того, что знает немецкий… Мы бы переодели нескольких ребят в полицаев. А он – вроде как бы немецкий офицер. И направили бы Петракова в разведку, в село. Без оружия. А там он попал бы в засаду… Ребята устроили бы ему хороший допрос и пригрозили повесить. Вот тогда, думаю, он вынужден был бы открыться «немецкому офицеру».
Беркут лег в траву, положив ногу на пенек, чтобы старику удобнее было делать перевязку, и задумался.
– Идея неплохая, – проговорил наконец. – Только сомневаюсь, что этот ваш капитан… клюнет на нее. Не думаю, чтобы к вам подослали новичка. А если окажется, что Петраков из отряда Штубера, то он знает о Мазовецком. Возможно, даже видел его.
– Что же делать?
– Заживает нормально, – наконец кончил возиться с перевязкой фельдшер. – Жаловаться вам не на что. И грех.
– Спасибо, отец. Через недельку я уже начну ходить. Нам бы в группу такого фельдшера.
– Не такого, не такого, – развел руками старик. – Настоящего бы.
– Кстати, вы о медсестре, Марии Кристич, никогда не слышали?
– Нет, не слыхал, – не задумываясь ответил фельдшер. – В отряде такая не объявлялась. И в больнице нашей я всех знал.
– Николай, – попросил Беркут. – Сведи доктора на кухню. Угости чаем. Да, как поживает ваш Романцов? – спросил Отаманчука, когда фельдшер и Крамарчук скрылись за соснами.
– Парень вроде бы ничего. Уже ходил на задание, участвовал в стычке с полицаями. Стрелял вместе со всеми.
– Обо мне, о нашей группе больше не вспоминает?
– Почему же? Интересовался… Говорит, что много слышал о Беркуте. Так это естественно: мы тоже слышали. Вы присылали к нам своего парня… Что, действительно подозреваете Романцова?..
– Теперь, когда вам известно об отряде Штубера, вы сами должны понять, почему я подозреваю его. Это вынужденное подозрение.
– Но как проверить? Мы своей контрразведкой не обзавелись. Опыта в таких делах у меня тоже нет.
– Поэтому у меня конкретное предложение: пришлите его ко мне. Вроде бы связным. Передайте с ним что-нибудь. Например, записку. Как будто шифровка. Я поговорю с ним. Возможно, даже оставлю у себя. На какое-то время, конечно.
– Ане боитесь, что…
– Вы же слышали легенды о Беркуте… Но это еще не все. Романцова пришлите ко мне завтра. А послезавтра пусть Роднин пришлет с вашим проводником этого самого капитана Петракова. Договорились?
– Договориться договорились. Но только не могу понять, что из этого выйдет.
– Пока секрет. Главное, чтобы Романцов обязательно прибыл завтра, а Петраков – послезавтра, ровно в два часа дня. Постарайтесь убедить Иванюка и Роднина. В конце концов это в их интересах.
– Если, конечно, мне удастся убедить их в этом.
– Ничего. Я помогу вам.
Когда Отаманчук и фельдшер ушли, Беркут вызвал к себе Крамарчука, Мазовецкого и Вознюка.
Крамарчук вошел первым. Еще не зная, что предстоит, он уже нетерпеливо потирал руки: в лагере ему явно не сиделось.
– Вот что, – начал Андрей, когда подошли Мазовецкий и Вознюк. – Нужно во что бы то ни стало захватить одного из «рыцарей» Штубера. Повторяю: во что бы то ни стало. Пойдете двумя группами. Вы, Мазовецкий, вместе с Крамарчуком, попытаетесь захватить на шоссе машину или, еще лучше, мотоцикл. Задача: патрулировать неподалеку от крепости, со стороны города. Возможно, в конце концов удастся подвезти кого-нибудь из этих вояк. Ты, Вознюк, берешь двоих ребят, переодеваетесь в полицейскую форму и тоже отправляетесь в засаду у крепости. Но уже со стороны леса. Задача та же. Сориентируетесь на месте. Действуйте в зависимости от обстановки. Только не вздумайте брать штурмом крепость, – добавил он шутя.
– А почему бы не попытаться? – сразу ожил Крамарчук. – Если двоим-троим пробраться в крепость и засесть в башне, а охрану у ворот уничтожить…
– Остановись, сержант, – тряхнул его за плечо Мазовецкий. – Если завтра мы возьмем штурмом эту крепость, через месяц ты уговоришь нас штурмовать канцелярию рейхсфюрера СС в Берлине.
– Как хотите, – пожал плечами Николай. – Лично я уже давно настроился на штурм.
– Пока что хватит с тебя и пленного «рыцаря», – остудил его пыл Беркут. – И запомните: от успеха этой операции зависит судьба, может, даже нескольких отрядов, многих партизан.
* * *
Крамарчук и Мазовецкий вышли из лагеря первыми. Был тихий теплый полдень. Лучи июньского солнца пробивались сквозь кроны деревьев и стекали на поляны, образуя зеленовато-голубые озерца.
Николай остановился у запоздало распустившейся вишни-дички, сорвал несколько лепестков и взял в рот. Они пахли лесным диким медом. Еще несколько дней назад он проходил мимо этого деревца, не замечая его, а сейчас просто не мог оторвать взгляда.
– Эй, господин эсэсман, очнитесь! – не выдержал Мазовецкий. – Вы забыли, что идете не на свидание.
– Надо же, июнь на дворе, а я только сейчас почувствовал… что уже весна.
– Вы слишком впечатлительны, эсэсман. Это плохо кончится. Таких, замечтавшихся, пуля чаще всего и находит. Такова прихоть войны. Учитесь у Беркута. У него многому нужно учиться.
– Почему обязательно у Беркута? Можно подумать, что я воюю хуже него. Кстати, сам он тоже не дурак помечтать.
Дальше они какое-то время продвигались молча.
«Внимание!» – вдруг жестом предупредил Мазовецкий, оказавшийся шагах в десяти от сержанта.
Осторожно обходя сухие ветки, Крамарчук приблизился к присевшему за высоким густым кустом поляку. На дороге напротив них остановилась машина. Водитель копался в моторе. Десятка два солдат прогуливались по обочине. Один сидел в кузове с автоматом наготове и внимательно наблюдал за опушкой леса. К счастью, он их не заметил.
– Все-таки боятся леса, – прошептал Мазовецкий, кивнув на дорогу. – От машины не отходят.
– Жаль, что нельзя ввязываться в перестрелку.
– Что, привык ходить с Беркутом на свободную охоту?
– По крайней мере с ним интересно, – ответил Николай, преподнося это, как месть Мазовецкому за его совет учиться у Беркута. – Он умеет рисковать.
Мазовецкий промолчал. Ему и самому хотелось бы пощекотать фашистам нервы, но ввязываться в бой действительно не стоило. Сейчас на шоссе должно царить спокойствие. Чем спокойнее – тем лучше.
Около получаса они терпеливо наблюдали за тем, что происходило на дороге. Завести мотор водителю так и не удалось. В конце концов офицер остановил попутную машину, и она взяла их на буксир. Еще через несколько минут прошел в сопровождении четырех мотоциклистов черный «мерседес». Но и эта добыча была не для них.
Воспользовавшись затишьем на дороге, Мазовецкий и Крамарчук наконец решились выйти на опушку, но сразу же метрах в пятистах правее себя увидели небольшую группу крестьян, которых полицейские пригнали на заготовку леса.
– Вдоль шоссе валят, – проворчал Мазовецкий. – Двойная выгода: и лес получат, и шоссе обезопасят. Отменить приказ немцев, что ли?
– Давай попробуем. Сколько можно терпеть все это?!
– Кончится тем, что нас тоже завербуют на лесозаготовки.
– Ты же младший лейтенант СС! – возмутился Крамарчук. – Не посмеют.
– И все же у нас задание. Пусть крестьяне пока потрудятся. Расплачиваться мы заставим немцев чуть позже.
Они снова углубились в лес и прошли несколько километров по направлению к крепости. Когда окраина города была уже близко, партизаны облюбовали себе местечко у изгиба шоссе и засели в расщелине между двумя каменными глыбами.
Однако сегодня им не везло. Более двух часов Мазовецкий прохаживался по шоссе, безуспешно пытаясь остановить подходящий транспорт. Но мотоциклистов, как назло, не было. В кузовах большинства проходящих машин сидело по нескольку солдат, а в кабинах – офицеры. Несмотря на все попытки «унтерштурмфюрера» привлечь к себе внимание, ни один из водителей даже не притормозил. Очевидно, срабатывал строгий приказ: за пределами города не останавливаться.
Тем временем солнце клонилось к закату. Машины стали появляться все реже и реже. Из крепости вообще никто не выезжал и не выходил. Словно там все вымерли.
– А к вечеру на окраины выходят усиленные жандармские патрули, – напомнил Николай, которому такая охота за языком начала надоедать. Он считал, что неудача постигла их потому, что нет Беркута. Тот обязательно что-нибудь придумал бы. Да и на шоссе он вел бы себя активнее, чем Мазовецкий.
Подежурив еще некоторое время, они решили возвратиться на базу. Шли молча. Злые. День потеряли, приказ не выполнили. А ведь понимали, как нужен сейчас этот «рыцарь»…
– Будем надеяться, что ребятам Вознюка повезет больше, – нарушил молчание Мазовецкий, когда они миновали колодец и, пройдя небольшую поляну, начали спускаться в поросшую ельником долину.
– Возможно, сейчас они тоже топают к лагерю и надеются, что задание удалось выполнить Мазовецкому и Крамарчуку.
– Не отчаивайся. Отдохнем и на рассвете снова придем сюда. Что-нибудь да…
Договорить Мазовецкий не успел. Крамарчук вцепился ему в плечо и заставил присесть. Тропинкой, змеившейся склоном холма, брел, сгибаясь под тяжестью ящика с патронами, какой-то человек в вылинявшей красноармейской форме. Вокруг никого. Куда и откуда он шел, оставалось пока загадкой. Оба понимали, что незнакомец не мог быть бойцом ни одного из известных им партизанских отрядов, поскольку в этой части леса они не базировались.
– Окликни его по-немецки, – шепнул Николай. И выждав, когда человек пройдет мимо них, пригнулся и неслышно вышел на тропинку.
– Стой! Руки вверх! – негромко приказал по-немецки Мазовецкий, выходя из-за кустов. Человек испуганно оглянулся и от неожиданности чуть не уронил свою ношу. Крамарчук успел подбежать, одной рукой поддержал ящик, а другой ухватился за болтавшийся у того за плечами шмайсер.
– Партизан? Быстро ко мне! – снова приказал Владислав по-немецки. А «эсэсман» Крамарчук бесцеремонно подтолкнул незнакомца к оврагу.
– Не стреляйте, господин лейтенант, – тоже по-немецки заговорил «красноармеец», сообразив, наконец, что перед ним свои. – Я не партизан. Я из группы шарфюрера Лансберга. – Он все еще держал ящик на спине. По-немецки говорил довольно скверно.
– Это что еще за группа? Откуда она? Кто ее направил сюда? – резко задавал вопросы «унтерштурмфюрер». Но, по-видимому, он говорил слишком быстро, и «красноармеец» плохо понимал его.
– Я – полицай. Из Романищ. В этой группе только третий день, – объяснял он.
– Ты – полицай?! – с недоверием, но уже по-русски переспросил Мазовецкий. – Что-то не похоже. – Он и так говорил по-русски с сильным акцентом, а тут еще намеренно калечил язык. – Отвечай, что это за группа Лансберга? Откуда она здесь появилась?
«Партизан» хотел что-то ответить. Но в это время на тропинке послышались голоса. Мазовецкий мгновенно приставил пистолет к виску полицая.
– Одно движение, одно слово – смерть. Эсэсман, помоги положить ящик на землю. А ты ложись лицом вниз.
Полицай молча подчинился, Мазовецкий и Крамарчук присели возле него. Поляк приготовил к бою автомат полицая. Двое, тоже в красноармейской форме и тоже с ящиками, прошли, не заметив их. Когда голоса стихли, Мазовецкий приказал полицаю снова взвалить ящик на плечи и следовать за ним. Втроем они быстро поднялись на равнину и направились прямиком к лагерю. Когда полицай вконец обессилел, ящик взял Крамарчук. Они уже знали, что в нем несколько цинковых коробок с патронами для шмайсера. Именно то, что им сейчас очень нужно.
– Группа Лансберга пришла в лес из крепости? – на ходу расспрашивал Владислав полицая.
– Оттуда.
– Из отряда, которым командует гауптштурмфюрер Штубер?
– Да, от Штубера! – обрадовался полицай. – Вот видите, вы же знаете его! Так куда же вы меня ведете?
– Штубера я знаю, это мой приятель. А вот кто ты – это еще нужно уточнить. Документы имеются?
– Где ж их взять?! Отобрали. Еще в крепости. Мы должны выдавать себя за партизан.
– Врешь ты все, – проворчал «унтерштурмфюрер» по-польски. А потом, уже по-русски, пояснил: – Пойдешь в штаб карательного отряда. Там все выяснят. Если окажется, что ты действительно из отряда «Рыцарей Черного леса», – спокойно вернешься на свою базу. Если же выдаешь себя за него…
– Ангелы всесвятые! – взмолился пленный. – Сколько ж можно выдавать себя за кого-то. Уже давно не могу понять, кто я на самом деле.
21
Шеф местного отделения гестапо штурмбаннфюрер СС Фридрих Роттенберг не воспринимал всерьез никакие мелкие акции против партизан, и каждое сообщение о подготовке операции отрядом «Рыцарей Черного леса» встречал такой злорадной ухмылкой, словно ловил своего подчиненного на очередной попытке нагло обмануть командование. Так было и в этот раз, когда начальник отдела по борьбе с партизанами гауптштурмфюрер Мантейль доложил ему, что первая группа, под командованием шарфюрера Лансберга, заложила «партизанский» лагерь в Градчанском лесу.
– А вы, гауптштурмфюрер, не опасаетесь, что «рыцари» Штубера могут настолько увлечься, что и впрямь станут нападать на немецкие обозы?
– Ими командует агент Магистр, – не воспринял шутки гауптштурмфюрер. – Исключительно надежный парень. Проверен во множестве операций.
– Ну и что? – цинично прищурился Роттенберг. – Может, где-нибудь он и взорвал пару мостов на проселочной дороге. Но чего стоят все эти заслуги здесь? И вообще, пригласите-ка этого великого психолога Штубера. Что-то он давно не заглядывал в наше благословенное заведение.
– Несколько дней назад он появлялся у Ранке.
– Ранке все еще кажется, что он командует Штубером и его группой? – Роттенберг с трудом оторвал от кресла свое стокилограммовое тело и, тяжело посапывая, прошелся по кабинету. – Скажите Штуберу, что я хочу обсудить с ним детали взаимодействия наших людей и его банды.
– Так и сказать? – доверчиво поинтересовался Мантейль. Было время, когда он пытался улыбнуться по поводу любой, самой примитивной шутки шефа, но довольно скоро понял, что тот признает только собственную улыбку. На устах у другого она всегда кажется ему подозрительной. К тому же Мантейлю редко случалось угадывать мысли Роттенберга. А еще реже – постигать суть его взаимоотношений с людьми, которые не работали в штате отделения гестапо.
Ему не раз приходилось видеть, как штурмбаннфюрер ласково похлопывал по плечу человека, которого полчаса назад грозился отправить на виселицу. Поначалу это удивляло гауптштурмфюрера, но коллеги объяснили ему, причем в весьма популярной форме, что Роттенберг слишком стар, чтобы позволить себе наживать врагов. А стариков в высоких сферах гестапо не любили, считали, что все они в свое время в чем-нибудь да провинились перед национал-социалистами.
– Неужели необходимо разжевывать такие элементарные вещи?! – побагровел Роттенберг. – Мы не вызываем его, а приглашаем. Я не перестаю удивляться вам, гауптштурмфюрер. А ведь ни для кого не секрет, что вы готовитесь со временем занять мое кресло. Нет, я не против этого, всему свое время. Но, черт бы вас побрал, учитесь же чему-нибудь!.. Как принимать людей. Как находить с ними общий язык…
– Я учусь, господин штурмбаннфюрер, – тихо ответил Мантейль. – Терпеливо учусь, – добавил он, нажимая на слово «терпеливо», отчего в восприятии Роттенберга оно сразу же приобрело некий двусмысленный оттенок. – Штубера сейчас найдут. И настоятельно пригласят.
Приблизительно через час Штубер и в самом деле появился. Роттенберг встретил его на пороге. Улыбнулся.
Пожал руку. По-отцовски придерживая за плечо, довел до кресла.
– Мне доложили, что ваши парни уже действуют, дорогой гауптштурмфюрер, – произнес он, усаживаясь на свое место за огромным письменным столом и не переставая улыбаться.
– Да, в леса отправлены две группы. Одна в Днестрянский, под командованием фельдфебеля Зебольда, кличка Витовт, вторая – в Градчанский, в так называемую Коржевскую долину. Ею руководит шарфюрер Карл Лансберг, кличка Магистр.
– Знаю, знаю. Хорошие, надежные люди. Но, позвольте спросить вас, дорогой Вилли, к чему все это? Зачем так усложнять операции? Не проще ли присоединить ваш отряд к отряду полицейских и полевых жандармов, да наскрести еще пару взводов тыловиков, и бросить их на эти лесные банды?
– Уже бросали. Объединенный отряд полиции, жандармерии и охранной роты провел операцию против отряда «Мститель». А результат? Потеряли около четверти личного состава убитыми и ранеными. И вернулись, по существу, ни с чем.
– Потому что стоит только вывести наших полицейских на опушку леса, как они начинают дрожать и паникуют, – нахмурился Роттенберг. – А партизанские банды следует громить сильным и безжалостным кулаком. Я вам вот что скажу: сюда бы пару батальонов фронтовиков, и мы бы…
– Но фронтовики нужны фронту, – вежливо напомнил Штубер. Он знал: Роттенберг считает себя сильной личностью, поэтому подобные разговоры сводит в основном к тому, что все они здесь, на оккупированной территории, сверх меры терпеливы и гуманны.
– Именно на это и ссылаются каждый раз там, наверху, когда требуют усилить борьбу с партизанами и подпольщиками. Однако не забывают напомнить, что в нашем распоряжении отряд специального назначения!.. А коль так, объяснять активизацию в нашем регионе партизанского движения становится все труднее.
– Я понимаю вас, господин штурмбаннфюрер.
– Активнее, Штубер, активнее, – уже почти по-отечески посоветовал Роттенберг. – Выявляйте и уничтожайте. Уничтожайте и выявляйте новых! Командиров и связных передавайте нам. Подпольщиков и большевиков, оставленных для организации партизанского движения, – тоже нам. Всех остальных – на ваше усмотрение.
– Господин Ранке уже, надеюсь, сообщал вам, что задуманная нами операция не ограничивается лишь разгромом партизан. Это большая политическая акция, предусматривающая дискредитацию партизанского движения в глазах местного населения…
– Разве оно еще нуждается в дискредитации? Или, может быть, надеетесь, что эти варвары знают, что такое дискредитация? Наивно, Штубер, наивно. Они боятся только пуль и виселиц.
– Которых, кстати, тоже перестали бояться, – неожиданно заметил Штубер, закидывая ногу на ногу и вынимая пачку сигарет. – Угощайтесь, господин штурмбаннфюрер, – французские. Из парижских запасов.
Роттенберг взял сигарету, осмотрел ее, обнюхал и, положив в ящик стола, не извинившись, не спросив разрешения, потянулся еще за одной.
– Возможно, во Франции или в любой другой цивилизованной стране все ваши игры в «рыцарей» и сногсшибательные акции имели бы определенный резонанс. Я знаю, вы знакомы со Скорцени. Он вам даже покровительствует. Но, при всем уважении к вам и вашим друзьям, я буду принимать самые решительные меры, если повторится нечто подобное затее с Беркутом, который, как оказалось, довольно легко обвел вас вокруг пальца.
«Сволочь Зебольд!.. – подумал Штубер, стараясь сохранять спокойствие. – Наверняка доносит не только Ранке, но и гестапо. Причем со всеми подробностями…»
– Я воспринимаю этот случай несколько иначе, – заметил он. – Получилась довольно-таки интересная операция. По крайней мере теперь я хорошо знаю, что представляет собой эта группа Беркута. И особенно – ее руководитель.
– Они должны представлять собой гору трупов! – прохрипел Роттенберг, всей тяжестью своего тела наваливаясь на стол и выбрасывая вперед (словно пытался вцепиться в Штубера) огромные волосатые кулачищи. – Вы же… Ради того, чтобы полюбоваться рожей Беркута, вы отправили на гибель нескольких своих людей и освободили партизанского связного. Кому нужны такие бессмысленные жертвы, Штубер?! За одного только старика Лесича вас уже следовало бы предать суду. А ведь на вашей совести лучший наш агент Кравчук. И трое полицейских… Поймите меня правильно, Штубер: я не хочу портить с вами отношения. Как старый юрист, я вообще-то привык к компромиссам. Но только с коллегами. А не с врагами. До сих пор я никому не докладывал о том, что у вас здесь происходит. Но если смерть этих людей не будет искуплена жизнями сотен партизан, я просто откажусь понимать вас. А что такое гестапо, вам, надеюсь, объяснять не нужно.
– Не стоит пугать меня, господин штурмбаннфюрер, – холодно улыбнулся Штубер. Он не предполагал, что эта мирная беседа закончится такой примитивной угрозой, да еще со стороны «старого юриста», но все же пытался сохранить самообладание. – Я не подчинен вам, я выполняю специальную директиву. Что же касается потерь, то было бы странно, если бы они не появились. Кстати, вынужден просить вас, чтобы вы предупредили свою агентуру относительно действий моих групп. Вы знаете моих парней: если их обидеть, они могут выпотрошить всю вашу сеть.
И прошу учесть, что Скорцени не только покровитель нашего отряда, но и учитель многих из нас.
– Ну хватит, хватит, гауптштурмфюрер, – нервно повел рукой Роттенберг. – Я знаю, кого вы там у себя собрали. Не хватало еще, чтобы, на радость Беркуту, мы начали истреблять друг друга. Да, относительно моего предупреждения… Я вынужден был сделать его. И не отступлюсь от своих слов.
– Ясное дело, господин штурмбаннфюрер. Это ваш долг.
Какое-то время оба молчали, но именно молчание должно было символизировать их полное примирение.
– Как бы там ни было, Лесича вы, конечно, не имели права отпускать. Но раз уж так случилось, попытайтесь схватить его еще раз. Или хотя бы составьте рапорт о том, что он ликвидирован во время карательной операции, – поднялся Роттенберг, давая понять, что разговор закончен.
– Я подумаю, – тотчас же поднялся и Штубер. – Мы проследим за его домом. Но если схватить все же не удастся, воспользуюсь вашим мудрым советом.
– Господин Штубер, прощаясь, я хочу задать вопрос, который уже задавал вам. Только откровенно… Вы говорите, что видели Беркута и даже беседовали с ним. Почему не попытались ликвидировать?
– У меня свои методы работы. Мне нужна вся его группа. И еще три партизанских отряда. И дискредитация партизанского движения. Только после этого население действительно станет относиться к нам лояльно. Кроме того, появилась возможность завербовать Беркута. И он был готов к этому. К сожалению, переговоры приостановились. Причина не установлена. Есть предположение, что он ранен. Если Беркут перейдет на нашу сторону, это принесет рейху больше пользы, чем десять карательных операций, подобных той, которую мы провели против отряда «Мститель». Наши службы в Берлине сейчас не жалеют денег для вербовки и подкупа различных национальных и религиозных лидеров во всем мире.
Установить господство над ним, не привлекая на свою сторону влиятельных личностей и не создавая мощной оппозиции недружественным режимам, теперь уже невозможно.
– Ну-ну, не преувеличивайте… Это я по поводу экспедиции, – проворчал Роттенберг, понимая, что для Штубера не является тайной то, кто был инициатором этой экспедиции. Не случайно гауптштурмфюрер уже во второй раз отозвался о ней в таком духе. А кто знает, какие у этого Штубера связи в ставке гауляйтера и в Берлине – все-таки сын генерала. – Что касается моих агентов, то можете быть спокойны. Они уже получили необходимые указания. Их дома, а также дома наиболее доверенных сельских старост можете использовать для связи и отдыха. Ни один солдат вермахта или полицейский в зоне расположения ваших групп не появится. И еще, относительно лидеров… Я больше полагаюсь на авторитет нашего оружия, чем на обещания подкупленных нами заговорщиков. Между прочим, я прочел – правда, с небольшим опозданием, но все же… – ваши статьи в армейском журнале. В которых вы делитесь опытом психологического воздействия на войска противника и население освобожденных территорий. Честно говоря, ничего подобного я до сих пор не встречал.
– Благодарю за внимание к моим скромным изысканиям, господин штурмбаннфюрер. И очень рассчитываю на вашу поддержку. В случае успеха я о ней не забуду.
Это уже было окончательное примирение. Да и к чему им конфликтовать, сидя в этом Подольске, под дулами партизанских трехлинеек?
22
Возле командирской землянки Мазовецкий чуть было не столкнулся с Вознюком, который только что доложил командиру о ходе операции. Впрочем, докладывать было не о чем: захватить кого-либо из «рыцарей» им не удалось.
– По-моему, мы оказались более удачливыми, – кивнул Владислав в сторону полицая, который стоял, понуро опустив голову. Это был коренастый, плечистый детина лет сорока с заплывшим невыразительным лицом, в жировых складках которого моментально гибли любые эмоции.
– По ордену полагается, – кисло отмахнулся от него Вознюк. – Пойди получи.
– Пойду.
Как только поляк доложил Беркуту о языке, тот сразу оживился.
– Я уж думал, что тоже, как Вознюк, начнешь расписывать свои героические усилия по захвату языка, которого нет. Успел уже что-нибудь выведать у этого «красноармейца»?
– Кое-что успел. До сих пор полицай отвечал охотно, так как принимал меня за немецкого офицера, от которого не обязательно скрывать тайну отряда Лансберга.
– Лансберг?.. – задумался Беркут. – Не тот ли это фельдфебель?
– Который обкуривал меня? Фамилия того фельдфебеля – Зебольд.
– О, я совсем забыл, что вы успели познакомиться и даже подружиться. Ну да Бог с ним. Значит, Штубер начал действовать? Одна из групп его отряда уже в лесу. Вот только одна ли? Впрочем, давай сюда своего недоношенного «рыцаря», посмотрим, что за зверь. Ты тоже останься, послушай.
Через минуту полицай уже стоял посреди довольно просторной землянки. Беркут молчал, изучающе глядя на него. «Крепкий мужик, – с досадой подумал он. – В селе, наверно, уважали за силу. Отчего изменил? Почему продался? Тоже хотел уцелеть?.. А ведь если бы не война, жил бы себе человек…»
– Догадываешься, перед кем стоишь?
– Да уж догадываюсь, – ответил полицай, не поднимая головы. – Беркут, наверное?..
– Он самый.
Полицай поднял голову и внимательно, с интересом осмотрел его.
– Когда-то стрелял в тебя. В Романцах. Помнишь? Ты тогда на полицейский участок напал. Мотоциклом подъехал. В офицерской форме. Один – на участок. Примчался, снял часового… Ворвался… Мы еще подумали: «Не иначе как сумасшедший».
– Неудачное было нападение, – согласился Беркут, поудобнее устраиваясь за столом. – Шинель в трех местах продырявили. Одна дыра, стало быть, на твоей совести?
– На моей.
– Ну что ж, смелый ты человек, если вот так, сразу признаешься.
– Чего уж тут… Лагерей для пленных у партизан все равно нет.
– Вы лагерей для пленных партизан тоже не строите. В основном на виселицы налегаете.
– Вот я и говорю… – переступил полицай с ноги на ногу. – Позволь уж сесть, а то находился сегодня, в голове гудит.
– Садись, если находился. Смерть мужественно примешь или будешь ползать на коленях, просить? – спросил Беркут, подождав, пока полицай сядет.
– Привык, чтобы перед тобой ползали?
– Твои же коллеги, полицаи, приучили к этому. Да и фашисты тоже не лучше держатся. Как зовут? Фамилия? Только настоящая.
– Дмитрием зовут. А фамилия… Зачем она тебе? Спрашивай, о чем хочешь спросить, и… Плевал я на их тайны.
– Уже на «их»?! – повысил голос Беркут. – А еще полчаса назад служил им, в своих стрелял.
– Ну, стрелял. Надоело мне все это: и вы, и они. И ваша дурацкая война.
– Ага, «наша, дурацкая»… Ты здесь ни при чем. Твой дом не сгорел. Сестру в Германию не угнали. Давно в отряде Штубера?
– Двое суток. Нас только позавчера привезли в крепость.
– Что представляет собой этот ваш Лансберг?
– Черт его знает. Шарфюрер какой-то. Калач, по всему видно, тертый. По-русски кумекает. Мы его Воробьевым должны были называть.
– Воробьевым? Интересно… – взглянул на Мазовецкого: мол, запоминай, пригодится. – Сколько человек в его группе?
– Сорок. Кажется, сорок. Я не считал.
– Кого-нибудь из тех, кто остался в крепости, знаешь? Звания, фамилии, клички…
– Никого. Помаялись несколько часов за крепостными стенами – и в лес.
– Что должны были делать?
– Думаю, тебя ловить. Все время называли твою фамилию. Но конкретную задачу поставят позже. Так сказал Лансберг. Рановато вы меня взяли, вот что. Потерпели бы немного – мог бы больше рассказать.
– Он еще и шутит, пся крев! – не сдержался Мазовецкий. – Когда брали – перетрусил. А сейчас осмелел!
– Дед мой тоже шутя помирал, – мрачно ответил Дмитрий.
– Откуда нес патроны? – снова спросил Беркут.
– Привезли телегой. Переносили в лагерь.
– И что, хорошо вооружены?
– Четыре ручных пулемета, автоматы. Возле лагеря – линия окопов. С двумя дзотами. А вы здесь открыто живете, без опаски.
– Без опаски – это ты верно заметил, – согласился Беркут. – Потому что редко беспокоите. Всего две карательные операции пережили. Да и те в другом лагере.
Все замолчали. Мазовецкий нервно елозил кулаком по столу, словно хотел протереть доску. Он понимал, что операция закончилась неудачей. Похоже, что этот полицай говорил правду. А если так, то ни Петракова, ни Романцова он знать не мог. Значит, нужен еще один язык. Беркут, конечно, тоже понимает это. И странно, что разговаривает с полицаем вот так, спокойно. Будто сидят себе на завалинке и дымят самокрутками. Впрочем, точно так же Беркут вел себя и во время других допросов. Это всегда удивляло Мазовецкого, и привыкнуть к такой манере допроса он не мог.
– Кто же ты все-таки? Как стал полицаем? Почему? – снова заговорил Беркут. Неторопливо, спокойно.
– Ты ведь не папа римский, чтобы я перед тобой на Библии… Я знаю, как ты воюешь – храбро. Лезешь в самое пекло. Но не зверствуешь. Раненых не добиваешь. Нескольких из тех, что поддерживают связь с нами, ты допрашивал. Видно, догадывался, что работают на нас, но доказательств твердых не имел и не тронул. Даже не бил. Перед таким стоять на коленях и просить пощады – стыдно. Враг ты нам был, но тебя мы уважали. Другие командиры партизанских отрядов какие-то безликие, а ты…
– Ладно, – резко прервал его Беркут. – Спасибо за информацию. Тех, кого заслали к нам, знаешь?
– Нет. Слышал, что есть такие.
– Не щедро ты нас одарил, не щедро, – раздосадованно проворчал Беркут, глядя ему прямо в глаза. Тот взгляд выдержал, но Андрей заметил слезы. Значит, все же понимал, что уходят последние минуты жизни.
– Есть какая-нибудь просьба?
– Хотел просить, чтобы ты сам меня расстрелял.
– Это еще зачем?
– Не знаю. Кажется, что от твоей пули легче было бы умирать. Но вижу – ранен. Отводить к яме не станешь. Потому и не прошу.
– Уведи, – приказал Беркут Крамарчуку. Полицай медленно поднялся, в последний раз взглянул на Беркута, затем на Мазовецкого и, оттолкнув Николая плечом, вышел.
– Посади его в землянку для задержанных, – сказал Беркут вслед Крамарчуку. – Выставь охрану.
– На кой черт? – возмутился Николай, остановившись на пороге. – Ничего путного он все равно не знает. Расстрелять его, и…
– Подарим ему эту ночь. За смелость. И запомни, сержант: никогда не спеши с приговором.
– Ладно, – вздохнул Николай. – Подарим так подарим.
23
Не успел Штубер после возвращения от шефа гестапо допить чашку кофе, как на пороге вырос Карл Лансберг.
– Неприятная новость, господин гауптштурмфюрер.
– Гонцам, приносившим дурные вести, в старину отсекали головы.
– По-моему, так поступали азиаты.
– Не только.
– Полчаса назад на берегу реки найден убитым рядовой Йозеф Каммлер. Вы ведь знаете: он очень любил купаться. Даже в такой холодной воде, как в этой лесной речушке.
– Кто же этого не знал?! – пожал плечами Штубер, пристально вглядываясь в Лансберга. – Главное, что найден. Было бы куда хуже, если бы он просто исчез. Поди выясни – вдруг переметнулся к партизанам. Немедленно организуйте расследование.
– Уже все выяснено. Убит русским штыком. В спину. Врач сказал, что в момент убийства Каммлер был пьян. Очень пьян. Вероятно, задремал на теплом пригорке после купания, а тут…
– Может, и задремал. Но согласитесь, фельдфебель: это ужасно. Партизаны окончательно обнаглели. Действуют у нас под носом!
– Да, с этим пора кончать, – смиренно согласился Лансберг. И на какой-то миг взгляды их снова встретились. Нет, конечно, в этих взглядах не было и тени огорчения в связи с гибелью неудачника-водителя, имевшего неосторожность предпочесть выпивку и купание – образцовому выполнению своих служебных обязанностей.
– Кстати, кто обнаружил труп?
– Обер-ефрейтор Хафель.
– Подготовьте соответствующий рапорт с его показаниями. Надеюсь, сам Хафель вне подозрений?
– Разумеется. Хотя они и не были задушевными друзьями.
– А как сам Хафель оказался на берегу речки?
– Случайно. Я посоветовал ему старательно вымыть мотоцикл.
– Вы всегда следите за тем, чтобы наши машины были в порядке, – это мне тоже известно.
На лице Штубера мелькнула едва заметная улыбка, которую Лансберг не должен был заметить.
– Но есть еще одна неприятная новость. Из моего отряда исчез один из полицейских. И это очень похоже на дезертирство.
– А если предположить, что его захватили партизаны?
– Исключено. Он исчез во время разгрузки боеприпасов. Просто-напросто удрал.
– Этого и следовало ожидать. Они подсунули нам подонков в полицейской форме. Придется мило пообщаться с начальником полиции. Немедленно смените место базирования. Перебросьте отряд вот сюда, – ткнул он пальцем в лежащую на столе карту. – К селу Заречному. И пусть оно станет первым пунктом, население которого испытает на себе вольницу обнаглевших беркутовцев.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер. Каммлера предать земле?
– Разумеется. Только проследите, чтобы врач составил необходимую бумагу. И хороните со всеми надлежащими почестями. Как героя, погибшего в борьбе с партизанами. Что же касается вас, господин Лансберг, то мне кажется, что вы уже давно заслужили звание обершарфюрера. Об этом я непременно позабочусь.
«Ну что ж, когда речь идет о необходимости убрать кого-либо, Магистру не нужно дважды объяснять его роль, – с мрачным удовлетворением отметил Штубер. – В этой дьявольской стране такие люди очень нужны. По крайней мере, до определенной поры».
24
Как и было условлено, на следующий день Отаманчук пришел на базу Беркута с Феликсом Романцовым. Невысокий, худощавый, Романцов скорее походил на хитроватого деревенского мужичка, чем на бывалого солдата, а поношенная красноармейская форма только усиливала это впечатление, подсказывая Беркуту, что досталась она Романцову с чужого плеча.
– Наконец-то я вижу вас, товарищ Беркут! – приветливо улыбнулся Романцов, войдя вместе с начальником разведки в командирскую землянку. – Знаете, там, в лагере, о вас ходят ошеломляющие слухи! Да и в крепости тоже пришлось кое-что услышать.
– О слухах поговорим потом, – сдержанно ответил Беркут. – Мне сказали, что вы владеете немецким.
– Да так, самую малость.
– Но все же в крепости вы понимали, о чем говорят между собой немцы?
– Кое-что да, понимал.
– Божественно. Нам очень нужны бойцы, хотя бы немного знающие немецкий. Наверно, слышали, что мы любим операции «с маскарадом»?
– Говорят, вы частенько разгуливаете в форме эсэсовского офицера по Подольску и другим городам.
– Я тоже слышал эти байки. Люди преувеличивают, – добродушно заметил Беркут, стараясь не настораживать Романцова. – Хотели бы перейти к нам в отряд?
Романцов пожал плечами и взглянул на Отаманчука, который все еще молча сидел у края стола, возле окошка-бойницы. Однако Беркут заметил, что рука начальника разведки будто невзначай легла на цевье прислоненного к скамейке карабина Романцова.
– Вообще-то мне и в отряде Иванюка неплохо живется. Приняли нормально. Харч есть. Повоевать тоже представится возможность.
– Ну смотрите, дело ваше… Но не скрою: нам такие люди нужны. Если вы боитесь оказаться неблагодарным за гостеприимство Иванюка, могу поговорить с ним. Словом, не буду торопить вас с ответом. Идите, осмотрите лагерь, познакомьтесь с бойцами. А мы тут с товарищем Отаманчуком пока посудачим о наших делах.
Романцов снова вопросительно взглянул на Отаманчука, несмело потянулся к карабину, явно опасаясь, что командиры прикажут оставить его, и, подхватив свое оружие, как-то крадучись, вышел.
– Что ты думаешь по этому поводу, командир? – поинтересовался Отаманчук, когда Романцов скрылся за дверью.
– То же, что и думал. Однако прямых улик все еще нет. Подождем Петракова.
– Я послал за ним одного из моих разведчиков. Должны прибыть сюда, как договорились. Вот только удастся ли что-нибудь выяснить?
– Удастся. Вчера мы захватили полицая. Из отряда особого назначения, который в крепости. Он там недавно, о Романцове и Петракове ничего знать не может. Но сведения дал ценные. Они пригодятся и вашей разведке. Речь идет о группе, маскирующейся под партизанскую. Готовится крупная провокация, которая должна очернить в глазах населения все местное партизанское движение…
– Раньше они до такой подлости не доходили, – изумленно покачал головой начальник разведки. – По крайней мере здесь, в наших краях.
– Да, тактика меняется. Полагаю, для начала немцы послали в лес лишь небольшую группу, которая подготовит лагерь. А со временем к ней должны присоединиться еще с полсотни головорезов. И тогда поди объясни населению, что за партизаны появились в этих краях и каким из них верить, а каким – нет.
– Вот-вот. Тут все продумано.
– Полагаю, что и эти двое – Петраков и Романцов – были засланы в наши отряды. Когда придет время, они начнут стрелять нам в спины.
Отаманчук молча курил.
– А этот, Феликс, не догадывается, не сбежит?.. – наконец заговорил он, почувствовав, что Беркут сказал все, что мог.
– Ребята предупреждены, глаз с него не спустят. Ну а завтра, перед приходом Петракова, я поговорю с ним по-иному. Кстати, завтра же направлю своих парней к лагерю Лансберга. На разведку. А потом попрошу у вас помощи. Разгромить этот лагерь своими силами будет нелегко.
– В таком деле охотно поможем. Тем более что скоро понадобится и твоя помощь. Задумали мы где-то через полмесяца ударить по лагерю военнопленных. Вот и вчера, после разговора с тобой, опять совещались с командирами взводов. Нужно спасать ребят. Учти: операция будет сложной. Без твоих вермахтовских и эсэсовских мундиров там не обойтись.
25
Штубер положил телефонную трубку, и, словно оцепенев, несколько минут стоял возле аппарата. То, что он сейчас услышал, казалось невероятным. Один из секретных агентов сообщал, что связной Беркута, Лесич, вернулся домой и спокойно разгуливает по двору. Как это могло произойти? Чем должен был руководствоваться человек, чудом избежавший петли, чтобы решиться на такой шаг? Ведь он, Штубер, предупреждал его. По логике, Лесич должен был исчезнуть, раствориться…
Вызвав роттенфюрера[3] Андриана Вергера, Штубер приказал немедленно подогнать к воротам крепости две машины.
– Поднять всех по тревоге. Посадить на машины. Через десять минут выезжаем.
Вергер, в свое время работавший в паре со Звонарем, специализировался преимущественно на крупных железнодорожных диверсиях и уже успел побывать в Дании и Голландии. Получая приказ, он никогда не задавал лишних вопросов и этим очень нравился Штуберу.
Тем временем гауптштурмфюрер пытался проанализировать ситуацию. Что же все-таки заставило старика вот так, средь бела дня, появиться на своей усадьбе? Неосмотрительность? Расчет на то, что за домом перестали следить? Или, может, это вызов? А если за всем этим «явлением Христа народу» стоит Беркут? И старик лишь приманка, на которую должны клюнуть еще несколько агентов гестапо?..
К тому времени, когда Вергер доложил, что люди посажены на машины и ждут приказаний, Штубер решил для себя, что старик все-таки возвратился не случайно. За его спиной, конечно же, стоит Беркут.
– Роттенфюрер, у нас на складе есть огнемет? Прихватите его.
А в это время Лесич откопал в саду, за сараем, кавалерийский карабин и три обоймы патронов, спрятанные еще в 1941-м, когда возле села шли бои, и отнес их на чердак. Там он выбил прикладом окошко, положил возле него карабин и патроны и невольно загляделся на долину, в которой раскинулось село, на развалины мельницы, где проходили вечера его молодости. Как давно это было! Так давно, что уже и не верилось, что действительно было. В последнее время Лесич почему-то все чаще ловил себя на мысли, что всю жизнь он так стариком и прожил, – слишком уж долгой, невыносимо долгой казалась ему собственная старость.
В лагере Беркута он провел всего одну ночь. А на рассвете встал, умылся над ручьем и, никому ничего не сказав, ушел в Заречное, где жил его дальний родственник. Оставаться в лагере он не мог. Не для его костей была сырость землянок и холод лесных рассветов, не для его… Вот только родственник принял его, как непрошеного гостя. Вроде бы и не прогонял, но и не обрадовался ему. А хозяйка – та целыми днями только и ворчала: «Нам только его рта не хватало… Приплелся, будто пес бездомный».
Возможно, Лесич еще стерпел бы несколько дней. Но вчера он вдруг почувствовал… свой смертный час. Не то чтобы ослаб или заболел, как это бывало прежде, а просто ощутил, что это уже все! Устал он от жизни, а жизнь – от него. А значит, пора…
Попросил у хозяйки немного хлеба на дорогу и отправился через лес в свои Залещики. Домой. Он почему-то решил, что жить осталось не более двух-трех дней. И хотел умереть в своей хате. Умереть у себя дома – это единственное, к чему он теперь стремился. Поэтому и вернулся в село.
…О карабине же Лесич вспомнил только тогда, когда заметил возле дома какого-то незнакомого человека и понял, что его здесь подстерегают. Да, оружие понадобилось ему лишь для того, чтобы отстоять свое право на смерть – обыкновенную, человеческую, в собственной хате…
Все, что мог сделать для Беркута, он сделал. И если теперь, напоследок, сумеет отправить на тот свет еще хотя бы одного фашиста, люди будут признательны ему и за это.
Постояв еще немного у окна, старик придвинул поближе к дверце ящик со всяким хламом и небольшую колоду (когда-то давно втащил ее сюда, чтобы высохла за лето, да так и осталась) и спустился по лестнице в сени.
Взглянув во двор, он прежде всего заметил, что в предвечернем небе появилась первая далекая и пока еще еле видимая звезда. И подумал, что, наверно, это и есть та самая звезда, которая должна будет догореть вместе с последними минутами его жизни. Когда будет падать – будет видно во всей округе. Хотя, конечно, никто не догадается, что это сошла с неба, упала в холодную вечность звезда Лесича.
26
Машины Штубер приказал оставить у дома старосты, а расквартированный в Залещиках полицейский взвод сразу же подчинил себе. Еще не доходя до дома Лесича, он выставил две засады возле шоссе и, поделив свое воинство на три группы, приказал прочесать соседние с Лесичевой усадьбы.
– К каждому дому подходить по всем правилам уличного боя, – наставлял своих «рыцарей». – Всех мужчин задерживать и доставлять сюда, – указал на сарай, чудом уцелевший возле сожженной хаты. – При малейшем сопротивлении – уничтожать. Но по возможности без выстрелов.
Лишь когда все это было в точности исполнено, они окружили хату Лесича.
Старик сразу же обнаружил облаву, снова поднялся на чердак, втянул туда же лестницу и, зарядив карабин, присел у дверцы.
Тем временем несколько полицаев, которых «рыцари» погнали первыми, подбежали к хате, выбили окна и забрались внутрь.
– Господин офицер, здесь никого! – крикнул один из них, неосторожно выскочив в сени, и, сраженный Лесичем, тотчас же упал.
– Ну вот, одним грехом больше, – вслух произнес старик, наскоро баррикадируя двери. – А дальше – как Бог даст…
Несколько длинных очередей прошили крышу. Открыли огонь и те, что засели в хате. Спасаясь от их пуль, старик подполз к дубовой балке и залег. Он понимал, что долго не продержится и что на сей раз никакое чудо его уже не спасет. Но, как старый солдат, решил держаться до последнего патрона.
– Не стрелять! Прекратить стрельбу!.. – Лесич узнал этот властный голос. Кричал тот самый офицер, который вручал ему письмо для Беркута.
Стрельба сразу же стихла. Воспользовавшись этим, старик осторожно подошел к одной из дыр в крыше и послал несколько пуль в немцев, притаившихся за сараем и за стожком сена.
– Старик, не стреляй! – снова услышал он голос Штубера. Тот кричал откуда-то из усадьбы Княжнюка. – Подойти к окошку! Хочу говорить с тобой! Никто не будет стрелять, слово офицера!
Лесич так же осторожно приблизился к окошку и, лежа, выбил прикладом доску, чтобы видеть Штубера.
– Слушаю тебя!
Да, офицер действительно стоял возле усадьбы Княжнюка, за стволом старого клена.
– Я – тот самый офицер, который посылал тебя с письмом к Беркуту! Ты помнишь меня?
Лесич не ответил. Впрочем, Штубер и не ждал ответа.
– Он был у меня в крепости, мы встречались! Но я хочу знать, где он сейчас?
– Скоро сам узнаешь! – ответил старик.
– Почему он не пришел еще раз?!
– Придет! Дождетесь!..
Штубер выругался. Разговор со стариком явно не получался.
– Спускайся! Все равно уже ничто не спасет тебя! – закричал он, еле сдерживая раздражение.
В ответ Лесич выстрелил. Пуля вырвала большой кусок коры над головой Штубера, и тот несколько запоздало присел.
– Прекрати стрельбу! Только из человечности дарю тебе десять минут, чтобы ты спустился и после суда принял смерть, как подобает солдату. Если не спустишься, мы зажарим тебя живьем.
– Нет, умру я только в своей хате… – твердо ответил старик. Но уже никто не мог услышать его слов.
Ровно через десять минут Штубер крикнул что-то по-немецки. Огнеметчик, прятавшийся до этого за сараем, выбежал и плеснул двумя огненными струями на соломенное покрытие Лесичевой хаты. Сухая почерневшая солома сразу же вспыхнула, превратив крышу в пылающий шатер.
Так и не дождавшись, когда старик спустится, полицаи сыпанули из хаты кто куда. Лесич уже успел послать им вслед несколько пуль, однако попасть не сумел. А когда пылала уже вся хата, где-то в глубине ее прогремел еще один выстрел, последний…
– Ну что же, умер с оружием в руках, – процедил сквозь зубы Штубер, глядя на этот судный костер. – Как и подобает солдату.
– Что делать с задержанными во время облавы? – подбежал к нему роттенфюрер Вергер.
– Расстрелять, роттенфюрер, расстрелять.
– Всех троих? Без допроса?
– Не узнаю вас, роттенфюрер.
– Первый вопрос за весь день… – нерешительно напомнил Вергер, вытягиваясь так, словно стоял перед рейхсфюрером[4].
27
С утра партизаны группы Беркута, как обычно, отрабатывали приемы рукопашного боя, ходили в атаку двумя валами и снимали часовых. Руководил занятиями Мазовецкий. Беркут сидел на пеньке под старым ветвистым дубом, наблюдал за баталиями на поляне и старался не вмешиваться.
– И что, у вас тут каждый день такие вот Бородинские маневры? – удивленно спросил Отаманчук.
– Почти каждый. Иногда по нескольку часов подряд, – ответил Беркут, внимательно поглядывая на Романцова, который стоял возле Отаманчука и тоже наблюдал за тренировкой. Был момент, когда, увлеченный зрелищем, Романцов не сдержался и, раздосадованный неловкостью одного из бойцов, который пытался сбить противника с ног, делая заднюю подсечку, автоматически, без партнера, имитировал этот прием. Потом спохватился, взглянул на Беркута. Но тот вовремя успел отвести взгляд. Теперь лейтенант уже не сомневался, что перед ним хорошо, до автоматизма натренированный человек. Тот, кто никогда не тренировался, не станет так профессионально реагировать на ошибку борющихся.
После тренировки все позавтракали, и Беркут пригласил Отаманчука и Романцова к себе. Вслед за ними, как и было условлено, в землянку вошел Крамарчук. Беркут заметил, что Романцов несколько раз переводил взгляд с него на Николая, однако сходство совершенно не удивляло его. Создавалось впечатление, что он уже знал о существовании двойника Беркута.
– Слушайте меня внимательно, Романцов, – первым заговорил Андрей. – Как вы уже, наверно, догадались, пригласили вас сюда, в лагерь, не случайно. Нам необходимо очень серьезно и обстоятельно поговорить. Вам много раз приходилось бывать в крепости?
– Только один раз.
– Что вы там делали?
– Я уже говорил: фашисты использовали нас для тренировок. Нужны были живые чучела.
– Сколько длилась тренировка?
– Кажется, часа три. А какое это имеет значение?
– Таким образом, у вас была возможность запомнить многих агентов, которых там готовили. И пленных – тоже. Кстати, сколько пленных привезли вместе с вами?
– Человек двенадцать.
– Вы всех их знаете? В лицо, пофамильно?
Романцов затравленно взглянул на Беркута, потом незаметно покосился на Отаманчука. Только теперь он по-настоящему понял, что его проверяют. Причем довольно основательно.
– Ни одного. Нас собрали из разных бараков. Сначала отбирали для работы в Германии, а потом вдруг…
– С виду вы не силач. Но вас тоже отобрали…
– Силач не силач, а на здоровье не жалуюсь. В Германию, как вы понимаете, не просился. Отбирали врачи.
– Итак, вас было двенадцать… Если бы сейчас кто-нибудь из этих пленных оказался здесь, в этой землянке, вы бы узнали его?
– Это что, допрос? – спросил Романцов, обращаясь уже не к Беркуту, а к Отаманчуку. И сразу же оглянулся на Крамарчука. Тот сидел у двери, как раз у него за спиной, и это заставляло Романцова нервничать.
– Отвечайте на вопросы командира отряда, офицера Красной Армии, – сдержанно ответил Отаманчук. – Для этого вас и пригласили сюда.
Несколько минут длилось напряженное молчание. Романцова оно тяготило, пожалуй, больше, чем допрос.
– А что, собственно, произошло? – вопрос он задал довольно спокойно. Очевидно, поверил в то, что никаких ненужных ему свидетелей у Беркута нет.
– Вы очень кстати задали этот вопрос, – сразу оживился Беркут. – Дело в том, что нам понадобилась ваша помощь.
– Кто-то выдает себя за пленного из нашей группы?
– Совершенно верно. К отряду «Мститель» прибился один человек. Который также утверждает, что он из пленных, правда, не из вашей группы. Фамилия его – Петраков. Есть подозрение, что он из отряда «Рыцарей Черного леса», того самого, что базируется в цитадели.
– Не может быть! – возразил Романцов. – Немцы ведь знают, что я бежал. Если бы этот человек в самом деле был их агентом и тренировался в крепости, его бы сразу отозвали.
– Логично. Вы сообразительный человек, – улыбнулся Беркут. – Но ведь ваш побег не планировался. А отозвать агента из партизанского отряда не так-то просто. Словом, к чему гадать? Пока вы здесь, у нас есть возможность проверить его. Надеюсь, вы понимаете, какую услугу окажете всему партизанскому движению, если сумеете опознать агента.
– При чем тут услуга?! – облегченно вздохнул Романцов. – Это мой долг. Где этот партизан? Покажите его. Знаете, я было подумал, что вы снова начали проверять меня, поэтому возмутился: «Сколько можно?!» Я ведь уже ходил с партизанами на операцию и стрелял вместе со всеми… Словом, хочу, чтобы и впредь меня проверяли в бою. А вы тут создали целую контрразведку.
– Ничего не поделаешь, – вмешался Отаманчук. – Против нас вон какие службы действуют: абвер, гестапо, СД, сигуранца, полиция, полевая жандармерия… Одни названия чего стоят!
– Конечно, конечно, – сразу же согласился Романцов. – Понимаю, действуем в тылу врага. Здесь нужна бдительность.
– Именно потому, что действуем в тылу, вы сдадите сейчас свое оружие и подождете в одной из землянок, – вновь улыбнулся Беркут, на этот раз совершенно доброжелательно. – Сержант, проводите партизана Романцова.
– Но оружие зачем сдавать?
– Так решено.
Романцов и Крамарчук вышли. Оставшись вдвоем, Беркут и Отаманчук какое-то время молчали, думая каждый о своем.
– Ну, как он тебе? – спросил, наконец, Отаманчук.
– По меньшей мере одну ошибку он уже допустил. Однако подождем часик-другой, пока появится Петраков.
– Я послал за ним железного парня. Тот доставит вовремя.
28
Вернувшись в крепость, Штубер прежде всего позвонил шефу гестапо. Тот еще был у себя и, казалось, даже обрадовался, услышав голос командира отряда особого назначения.
– Только что мне сообщили, что в Залещиках…
– Да, господин штурмбаннфюрер, – перебил его Штубер, воспользовавшись небольшой паузой. – Это моя акция. Ею мы начали большую операцию под кодовым названием «Тевтонский меч».
– Довольно воинственно, – живо отреагировал Роттенберг. – Что же это была за акция?
– Обезвредили Лесича…
– Связного Беркута? Зачем?!
– Пытались взять живым. Но старик предпочел самоубийство. К сожалению, мои люди не смогли ему помешать – сгорел вместе со своим домом. Кроме того, было расстреляно нескольких лиц, активно сотрудничавших с партизанами.
– Ну вот, наконец, и вы по-настоящему взялись за дело, гауптштурмфюрер.
– После беседы с вами, – Роттенберг не уловил в его словах иронии. – Кстати, всю эту большую операцию, а, стало быть, и отдельные ее акции мой отряд проводит совместно с гестапо. Я верно понял смысл нашего недавнего разговора?
– Именно так, гауптштурмфюрер. Можете рассчитывать на полное содействие моих сотрудников. А уж мы поднимем на ноги и абвер, и полевую жандармерию… Да, кстати, потери у вас есть?
– В перестрелке с Лесичем погиб один полицейский. У меня такое впечатление, что эти болваны из местной полиции представления не имеют, как вести себя в бою. Самое большое удовольствие для них – подставить лоб под первую же партизанскую пулю.
– Один убитый полицейский – это не потери. Тем более что он не входил в состав вашего отряда.
– Естественно. Примерно через неделю можно будет провести большую карательную экспедицию против группы Беркута и отряда Иванюка. А завтра утром мои люди начнут серию более мелких акций в лесных селах.
– Чудесно. С какого села предполагаете начать?
– С Заречного.
– С вами приятно иметь дело, гауптштурмфюрер. По-моему, начала проявляться школа Скорцени.
– Благодарю, господин штурмбаннфюрер. Поражает оперативность, с которой вам сообщили о наших действиях в Залещиках. В этом тоже ощущается определенная школа.
– Это необходимая оперативность. Пусть она вас не смущает. Кроме того, учтите, что отныне во всех наших рапортах будет фигурировать и отряд «рыцарей». Надеюсь, вы не собираетесь сжечь это село дотла и уничтожить всех его жителей.
– Нет.
– Осмотрительно. Хотя местные варвары и заслуживают поголовного истребления, но все же на такую масштабную акцию следует получить соответствующее разрешение начальства. Война – это еще и политика.
– В Заречном я преследую иную цель. Там будут действовать «партизаны Беркута». Которые, конечно же, не станут уничтожать все село. Но и не удержатся от того, чтобы показать крестьянам, кто истинный хозяин в этих краях.
– Неплохо задумано, – согласился Роттенберг, внимательно выслушав его.
Уверенный в успехе акции, Штубер тоже остался доволен этим разговором. Шеф местного отделения гестапо оставался единственным нужным человеком, с которым он до сих пор не наладил дружеских отношений. Теперь и это достигнуто. Правда, неопределенными оставались взаимоотношения с Ранке. Но не лучше ли позаботиться об их улучшении самому подполковнику вермахта, имеющему дело с офицером СС? В конце концов, это уже вопрос престижа.
Операцию против партизан Штубер действительно планировал начать уже через неделю-другую. Но пока что ситуация складывалась не в его пользу. Отряд терял людей, еще не начав активных действий. Чего стоит одна только история с Беркутом!..
Ничего, скоро он пройдет по этой земле, как смерч. И те, кто сегодня считает его заурядным армейским тыловиком, завтра содрогнутся от его жестокости. Правда, он все еще не терял надежды завербовать Беркута, он вообще редко отказывался от своих намерений. Однако либеральничать не собирался. В Германию он должен вернуться, добыв такую же славу, как Скорцени в Австрии. Только такую.
И сама судьба дарит ему эту возможность. Кого ему жалеть, на кого оглядываться? Подольск должен стать ступенью его карьеры, а не мазком позора.
Что же касается Беркута, то он сделает все, чтобы захватить этого лейтенанта в плен. Тогда уж разговор с ним будет несколько «деликатнее»… Для этого он и направил в лес Звонаря. Конечно, можно пойти по обычному пути уничтожения группы. Но это не его манера. Работать нужно с выдумкой, чтобы виден был почерк мастера. Оригинальный почерк. О его операциях здесь должны слагать легенды. Лишь тогда он может рассчитывать на то, что сумеет вырваться отсюда и стать резидентом где-нибудь в Англии, Штатах или Швейцарии.
29
Петраков оказался довольно пожилым человеком с плоским полуопухшим лицом, на котором резко выделялись лишь большие фиолетовые мешки под глазами. Именно они придавали облику Петракова нечто совиное.
Он сидел напротив Беркута на том же месте, где недавно маялся Романцов. Кроме них в землянке были еще Отаманчук и Крамарчук.
Когда партизан из отряда Иванюка привел Петракова в лагерь, Николай устроил так, чтобы они дважды прошли мимо полуоткрытых дверей землянки-гауптвахты, в которой содержался Романцов. И тот уже смог увидеть его.
– Знаете, зачем вас пригласили сюда?
– Сказали, что буду связным между группой Беркута и отрядом «Мститель».
– Вас такая перспектива не устраивает?
– Расстояния большие. Могли бы найти кого-нибудь помоложе.
– Конечно, могли бы, – согласился Беркут. – Но так решил ваш командир. Кстати, вам, товарищ Отаманчук, также следовало бы учесть это. Связной, которого вы нам направляли, тоже не из молодых.
– Все еще можно исправить, – развел руками Отаманчук, уловив, что Беркут готовится разыграть какой-то спектакль по одному ему известной пьесе.
– Так, для знакомства, несколько слов о себе, – снова обратился Громов к Петракову. – Откуда родом, где служили, как оказались в плену?
Петраков рассказал, что родился в Забайкалье, рано осиротел, родственников не имеет. В тридцать пятом добровольно пошел в армию. Был младшим командиром, потом постепенно повышался по службе. Когда началась война, назначили командиром роты. В плен попал уже за Днепром. Побывал в нескольких лагерях. Месяц назад бежал. Долго блуждал лесами, стремился в эти места, потому что здесь, в соседнем районе, жила семья знакомого офицера. К сожалению, оказалось, что семья эта эвакуировалась еще в начале войны.
– Бежали вы из лагеря, что под Дубеничами? – уточнил Беркут.
– Нет, в этот лагерь я не попадал.
– Стало быть, в крепости, в составе группы пленных, вам тоже побывать не пришлось?
– Даже не догадываюсь, о какой группе пленных идет речь, – удивленно посмотрел на него Петраков. – А что?
– Жаль. Есть сведения, что фашисты пригнали в крепость какую-то группу пленных, чтобы тренировать на них своих «Рыцарей Черного леса». Хорошо бы встретиться хоть с одним из этих пленных.
– Конечно. Если «рыцарей» готовят для засылки в партизанские отряды, то он мог бы кое в чем помочь. Но сначала его нужно освободить из плена.
– Честно говоря, мы рассчитывали на вас.
– Сожалею, – учтиво развел руками Петраков. – Асами вы где служили, в какой дивизии?..
– У меня скромная биография. Вам это будет неинтересно. Да, забыл спросить: не приходилось ли вам во время побега попадать в лапы гестапо, абвера?
– Нет. Допрашивали, правда, эсэсовцы. Но прямо там, в лагере. Я беспартийный, и, должно быть, это спасло меня от расстрела. Многих командиров расстреливали сразу же. Особенно раненых.
– С повадками фашистов мы немного знакомы, – кивнул Беркут. – Значит, бывать в гестапо вам не приходилось? Не вербовали вас, не предлагали стать провокатором?
– Не знаю вашего звания, товарищ Беркут, – медленно поднялся Петраков, – но с меня достаточно допросов и проверок в штабе отряда. Я – капитан Красной Армии и не позволю, чтобы каждый, кто собрал здесь несколько окруженцев, подозревал меня черт знает в чем!
– Почему бы и не подозревать? – спокойно ответил Беркут, жестом предлагая ему сесть. – Все мы здесь – окруженцы. Все – на территории, захваченной врагом. И вынуждены заботиться о своей безопасности. Тем более что речь идет о связном между отрядами. Крамарчук, где это загулял связной отряда «Чапаевец»? Почему его до сих пор не пригласили?
– Так отсыпается, наверно, – ответил Николай, как было условлено. – Три часа бродил по лагерю. Ребята шнапсом угостили…
– Немедленно привести его сюда.
Петраков не сводил глаз с вошедшего Романцова до тех пор, пока тот не уселся за стол. Однако Романцов не обращал на него никакого внимания.
«Если оба они агенты Штубера, то похоже, что Петраков ничего не знает о том, что заслали еще и Романцова, – внимательно следил за ним лейтенант. – Или же они решили поиграть мне на нервах».
– Вам приходилось встречаться? – вежливо поинтересовался Беркут у Петракова.
– Нет. Но думаю, у нас еще будет время познакомиться.
– Само собой.
Беркут в нескольких словах изложил принципы поддержания связи между отрядами, сообщил, что, в свою очередь, он выделит одного связного, который будет встречаться с Петраковым и Романцовым в условленном месте, у сгоревшей лесной сторожки, километрах в трех от лагеря. Таким образом, расстояние, которое придется преодолевать каждому из них, значительно сократится. И, наконец, завершая это небольшое совещание, заявил, что хотел бы с каждым из них договориться о паролях и явочных квартирах в селах, и потому попросил Петракова на несколько минут выйти.
Крамарчук вышел следом за ним.
– Романцов, – негромко, но властно проговорил Беркут. – Я хочу услышать от вас правду: где и когда вы встречались с человеком, который только что сидел здесь. Только не вздумайте лгать.
– А зачем мне лгать? Мне это уже ни к чему. Ваш Петраков – или как его там – из отряда Штубера.
Отаманчук в изумлении перегнулся через стол, чтобы лучше разглядеть Романцова.
– Вы уверены в этом? – запинаясь, спросил он.
– Абсолютно. Я узнал его, еще когда увидел из землянки. Он был среди тех, с кем нам приходилось драться на «арене» у башни.
– Вы согласны повторить сказанное вами уже в присутствии Петракова?
Романцов слегка заколебался.
– Какой смысл?.. – произнес он нерешительно. – Когда я припру его к стене, Петраков скажет, что я сам из этого же отряда, а все, что говорю о нем, – клевета.
– Он, конечно, может сказать все, что угодно. Но верить ему или нет – это решаем мы. Я прав, Василий Григорьевич?
– Разумеется, – кивнул Отаманчук. – Вы, Романцов, не ошибаетесь? Поймите, у нас нет специального штата следователей. От ваших показаний зависит жизнь человека. Грех на душу возьмете, если казним невиновного.
– Он тренировался с пленными из нашего барака. Один из «рыцарей» назвал его Совой. А может, просто дразнил. Точно не знаю. Но он запомнился мне.
– Как-как – Совой? – переспросил Беркут. – А что, он и впрямь похож на сову, а, Василий Григорьевич?
– Как школьная кличка, – пожал плечами бывший учитель. – В классе такое немедленно подмечают.
– То-то же. Так что думаю, капитан, – обратился к Романцову, – вы не ошиблись.
– Почему же они вас, всю группу, не расстреляли, если собирались заслать в «Мститель» провокатора? – вмешался в разговор Отаманчук.
– Так ведь хотели отправить в Германию. На работы. Рабочие им теперь нужны позарез. Да я уже рассказывал об этом. А подробности вам лучше выяснить у самого Штубера или как вы его там называете. И еще предупреждаю: если этот Петраков упрется и станет утверждать, что я вру – никаких других доказательств правдивости своих слов у меня нет. Так что казнить или миловать – решайте сами.
– Мы верим вам, верим, – спокойно произнес Беркут. – Зря волнуетесь. Очень благодарны за то, что помогли разоблачить предателя. Можете считать, что проверку вы уже прошли. Еще с полчаса вам придется подождать в той землянке, где вы уже были. Потом вернетесь с товарищем Отаманчуком в свой отряд. Проводите его, Василий Григорьевич. И позовите сюда Сову и Крамарчука.
– Вы не будете устраивать нам очную ставку? – удивился Романцов.
– Не торопитесь. Мы вам все скажем. Или очень уж хочется посидеть рядом с предателем?
– Вы правы, Беркут. Мне легче убить его.
* * *
Когда через несколько минут Николай ввел Петракова, Беркут с минуту молча смотрел на него.
– Как ваша рана? – не выдержал Петраков.
– Разве это рана? – улыбнулся Беркут. – Так, царапина. Давно забыл бы о ней, если бы время от времени кто-нибудь не напоминал. Однако вернемся к делу. Вопрос у меня несложный. Но отвечать на него нужно честно. Раньше, до встречи здесь, в этой землянке, вы были знакомы с Романцовым, связным из отряда «Чапаевец»?
– Я уже говорил: впервые вижу его.
– В таком случае вы несерьезный человек. С вами просто неприятно иметь дело. – Беркут вынул из кобуры пистолет и положил перед собой. – Крамарчук, обыскать!
Николай подошел сзади к покорно поднявшемуся Петракову и быстро ощупал его.
– Садитесь оба, – сунул пистолет в кобуру, но руку продолжал держать на рукоятке. – Слушайте меня внимательно, Петраков. Вы продолжаете утверждать, что не знакомы с человеком, который называет себя Романцовым. Так? А вот он заявил, что знает вас. Вы – из отряда «Рыцарей Черного леса». Давний агент абвера. Кличка Сова. Направлены в отряд «Мститель» гауптштурмфюрером Штубером, вашим непосредственным командиром. Ваше задание… Мне продолжать? Или, может, сами соизволите раскаяться?
– Можете продолжать. Не знаю, что вам говорил Романцов, но то, что слышу от вас, – какая-то нелепость.
– Возможно. Тем не менее Романцов утверждает, что видел вас в крепости. И готов подтвердить это в вашем присутствии. Вы не знаете, почему он так настойчив в своих обвинениях? Ведь мы не заставляли его давать сведения о вас.
Сова умоляюще поднял глаза на Беркута. Он понял, что проиграл. Проиграл именно тогда, когда поверил, что все опасности позади. Его предали. Подло предали!
– Я не знаю этого сволочного человека, – покачал он головой.
– Даю вам десять минут. Если за это время вы не расскажете все, что знаете о Романцове, мы применим к вам те же методы дознания, которые вы, фашистские холуи, применяете к пленным партизанам.
– Ты имеешь дело с Беркутом, – добавил Крамарчук. – Молчать не советую.
– Если все честно расскажете и захотите хоть чем-нибудь помочь Родине, которой так преступно изменили, мы не только не казним вас, но и сможем поговорить о сотрудничестве, – уже менее жестко добавил Беркут.
Прошло десять минут. Сова молчал. Несколько раз он поднимал голову, порывался что-то сказать, но так и не сумел выдавить из себя ни слова.
– Ну что ж, приговор вы себе уже подписали, – произнес Беркут, пряча в карман трофейные швейцарские часы. – Однако прежде чем вас расстреляют, хочу рассказать об одной забавной операции, задуманной гауптштурмфюрером СС Штубером. Думаю, она развеет ваши тяжкие предчувствия.
– Да уж, развеет… – вяло ухмыльнулся.
– На какое-то время, естественно. Так вот, этому Штуберу, вашему шефу, очень хочется завербовать Беркута, то есть меня. Очевидно, крайне необходим такой агент. С этой целью он уже приглашал меня к себе. В башню крепости. И я побывал там. Правда, появился несколько неожиданно для него. В форме оберштурмфюрера. Да вы, наверняка, видели меня в крепости, когда мы беседовали со Штубером. Поняв, наконец, что Беркут не продается, Штубер решил заслать ко мне в отряд своего агента. Того, который назвался Романцовым. Воспользовавшись тем, что в цитадели оказались пленные, привезенные для тренировок, он организовал «побег» одного из «пленных». То есть «побег» своего агента. Инсценировка получилась, правда, неудачной. Романцову не повезло. Он вышел не на нашу группу, а на отряд «Чапаевец». А теперь рвется сюда, к нам. Однако Штубер учел, что Романцова могут подозревать и проверять. И знаете, каким образом Романцов должен был окончательно убедить нас, что действительно является бежавшим пленным? Он должен был разоблачить перед партизанским командованием агента Сову. То есть вас.
– Как ему это удалось бы?
– Заявил бы, будто видел вас на тренировках. Ведь вы же тренировались на пленных, правда? Что именно будет рассказывать о своем задании Романцов – ответить пока трудно. Ведь мы его еще не допрашивали. Но уже сейчас ясно: Штубер, этот недоученный психолог, рассчитывал на ваше молчание. Пока вы будете молчать, у вас остается хоть какой-то шанс. Если ж вы разоблачите агента Романцова – то погибаете с ним вместе. Я доходчиво изложил вам суть операции?
– Да, – кивнул Сова. И замолчал. Лейтенант ожидал иной реакции. Однако, выждав немного и поняв, что Петраков не собирается что-либо отрицать или уточнять в его рассказе, продолжил:
– Штубер не учел лишь одного. Что мы организуем вам эту встречу. Наверно, планировалось, что он сам выдаст вас или сразу же убьет, заявив, что убил предателя. И еще он не учел, что мы можем подарить вам жизнь, если вы, конечно, чистосердечно во всем признаетесь и согласитесь помогать нам, помогать своему народу. Итак, повторяю: вами пожертвовали для того, чтобы внедрить другого агента. Пожертвовали, как последней бездарью, которая уже ни на что не годится. А теперь отвечайте. Только быстро. Кличка Романцова?
– Звонарь. Вы что, в самом деле?..
– Понятно, звонарь, – прервал его вопрос Беркут. – Настоящая фамилия?
– Полонский. Из белогвардейцев он. Профессиональный шпион. И, говорят, очень жестокий во время расправ.
– Вы знали, что его должны заслать сюда?
– Нет. Это они от меня скрыли. Я хочу спросить: вы в самом деле сохраните мне жизнь и я смогу?..
– Не будем торговаться. Как ваша настоящая фамилия?
– Гуртовенко. Никифор Семенович.
– Сколько человек в отряде Штубера?
– Было пятьдесят семь. Но должны были набрать еще столько же. Из полицаев.
– Сколько среди них специально подготовленных агентов, имеющих опыт агентурной работы?
– Человек двадцать. Самые опытные там – фельдфебель Зебольд, клички не знаю, и Карл Лансберг – кличка Магистр. Есть еще Ангел, Волк… Их фамилий не знаю. В основном мы называли друг друга по кличкам.
– Что вам известно о группах, которые Штубер направил в леса и которые должны выдавать себя за партизанские?
– Почти ничего. Говорили, что таких групп должно быть две. Какое они получали задание и где будут базироваться – об этом мне не докладывали.
– Стало быть, серьезных секретов вам не доверяли?
– Теперь мне кажется, что Штубер, этот зверь, вообще не доверял мне. Я же не из их кодла. Я ведь на самом деле был красноармейцем. Попал в плен. Еще в начале войны. Узнали, что местный, – поставили перед выбором: или расстрел, или идти в полицаи. Ну я и смалодушничал. А недавно меня зачислили в отряд Штубера.
– Понятно. Кто командует группами, засланными в лес?
– Не знаю. Думаю, назначат Зебольда и Лансберга. Они – немцы. Больше всего Штубер рассчитывает именно на них.
– Хорошо. Подробности потом. Крамарчук, отведи его. И возвращайся со Звонарем. Интересно, в какие колокола он станет бить теперь?
30
Утром на окраине села Заречного, – той, что подступала к самому лесу, – остановилась машина с немецкими солдатами. Немцы сразу же разбрелись по дворам. Каждый из них немного владел русским или украинским. Офицер раздавал детям и женщинам плитки шоколада. Солдаты вежливо просили молока и расплачивались оккупационными марками. В одном из дворов мальчику подарили губную гармошку, в другом – одарили новым галифе старика. Люди брали подарки неохотно. С недоверием косились на немцев и старались поскорее скрыться в доме или в сарае. Неизвестно, чем бы закончилась эта «идиллия», если бы из лесу не донеслось несколько выстрелов. Затем над самой машиной воздух прошила автоматная очередь.
Раздалась команда офицера. Солдаты быстро сели в машину. Некоторые вскакивали уже на ходу. Машина понеслась к шоссе.
Не успела машина скрыться за ближайшим холмом, как в село ворвалось десятка два партизан.
– Что, фашистам продались?! – орал один из них, видимо, командир. – Поите молоком?! А своим, партизанам, куска хлеба жалеете?!
– Э, да вы, дед, уже и подарки от фашистов принимаете?! – слышалось в другом дворе.
– Кто их принимает? – пытался оправдываться старик. – Я сидел тутычки вот, на крылечке. А он бросил галифе на колени и побежал к машине.
– Бросил?! – оскалился «партизан». – С каких это пор фашисты начали вас по-родственному обмундировывать?! Ты о Беркуте слышал?! Так вот, приказ Беркута: таких, как ты, вешать на сухих ветках. Без всякого суда.
Расправа была скорой и жестокой. Почти в каждом дворе этой окраины «партизаны» обнаружили шоколад и консервы. Все это было немедленно конфисковано, будто бы по приказу самого Беркута. Руководствуясь этим же приказом, они тащили из хат все, что попадалось на глаза. Старика, которому офицер «подарил» галифе, повесили прямо во дворе, на яблоне. Женщину и подростка, пытавшихся защитить свое добро, пристрелили. Нескольких человек избили. Даже тяжелобольной, прикованной к постели старухе досталось от какого-то верзилы в разорванном ватнике, таскавшем с собой ручной пулемет.
Все было проделано за каких-нибудь двадцать минут. Затем раздался свист командира группы, и «партизаны» исчезли, словно растворились в лесу. Но о них все еще напоминали плач, стоны, проклятия и горящая хата.
Эту картину и застали немцы, снова появившиеся на этой окраине, но уже на двух машинах. На одной из них были те же солдаты, которые раздавали подарки.
Немцы бросились в погоню за партизанами, подняв при этом яростную стрельбу, хотя она уже была бессмысленной. Вернувшись в село, офицер и солдаты опять оставляли на лавках у хат (крестьяне отказывались их брать) плитки шоколада. Потом вынули из петли старика и, проклиная банду Беркута, за которой давно охотятся, понесли его в хату.
Подойдя к казненному, рослый смуглолицый офицер, тот самый, который был здесь и во время первого приезда немцев, отдал ему честь как мученику-герою.
– Прикажете собрать людей, господин гауптштурмфюрер? – по-немецки спросил роттенфюрер Вергер, когда все солдаты возвратились к машинам.
– Зачем?
– Думаю, стоит произнести небольшую речь. Ведь, по сути дела, мы спасали местное население от лесных бандитов.
– Речью можно испортить всю операцию. Все, что можно было сказать этим людям, мы уже сказали. Где гроб для старика? Где сельские полицейские?
– Они предупреждены.
– Полагаю, вы объяснили старшему полицаю, что гроб нужно везти не сейчас, а после того, как он узнает, что здесь произошло? Узнает от самих односельчан.
– Уверен, что он и сам сообразит, – пожал плечами Вергер.
– В таком случае немедленно едем к нему. Нельзя полагаться на этого идиота. Больше всего мы рискуем именно тогда, когда полагаемся на таких, как он. Где журналист?
– Вон в том, крайнем дворе. Разговаривает через переводчика с женщиной. Партизаны застрелили ее сына-подростка.
– Негодяи, – нервно повертел головой Штубер. И роттенфюрер с удивлением отметил, что произнес он это совершенно искренне. Словно эти «беркутовцы» действительно были партизанами, а не людьми Магистра. – Журналиста ко мне не подпускайте. Я не хочу ничего комментировать. Меня все это не касается.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер. Кое-что я объясню ему сам.
– Старайтесь объяснять как можно меньше. Пусть смотрит и делает выводы. Подробности мы с ним обсудим, как только вернемся в город.
31
Когда ввели Звонаря, в штабной землянке уже были Отаманчук, Мазовецкий и партизан, который пришел с Совой. Полонский понял, что собрались они неспроста, и оглянулся на Крамарчука, снова усевшегося на маленькой скамейке у двери. Должно быть, сейчас Звонарь очень сожалел, что не попытался бежать, покуда допрашивали Сову.
– Ну что, Звонарь, пришло время говорить правду, – произнес Беркут, глядя ему прямо в глаза. – Я понимаю: имея такую школу да еще после столь сложных заданий, которые вам приходилось выполнять, обидно погибать в каком-то партизанском лагере, где к тому же нет ни одного профессионального контрразведчика. Но ничего не поделаешь.
– Беркут, я ведь предупреждал тебя, что первое, на что пойдет Сова…
– Не раздражайте меня, Полонский, – перебил его Громов.
Услышав свою фамилию, Звонарь съежился и какое-то время изумленно смотрел на Беркута.
– Это клевета, товарищи. Я честно разоблачил предателя, провокатора, который мог бы…
– Мы знаем, что мог натворить агент гестапо Сова. Он сам рассказал об этом. Но рассказал и об агенте Звонаре, гауптштурмфюрере Штубере, фельдфебеле Зебольде, некоем Лансберге, по кличке Магистр, и многих других из отряда «Рыцарей Черного леса». Но это еще не все. Он полностью раскаялся в измене Родине и изъявил желание сотрудничать с нами. За это ему подарена жизнь. Мы не безумные убийцы и понимаем, что бывает грех, но бывает и раскаяние. Почему вы молчите? Отвечайте: каким образом вы должны были разоблачить Сову, чтобы укрепить свое положение в партизанском отряде? Уверен, что задумано не так бездарно, как вы сделали это сегодня.
Не успел Беркут закончить, как вдруг, уловив какое-то едва заметное движение Полонского, Крамарчук бросился к нему и мгновенно обыскал. Сбоку, из-за поясного ремня, он извлек небольшую финку с узким лезвием-пикой, передал ее Мазовецкому и, ничего не сказав, сел на свое место.
– Ты слышал вопрос? – воткнул финку в стол перед собой Мазовецкий. А потом, после нескольких минут общего молчания, вдруг придирчиво оглядел Звонаря, выдернул финку из стола и, подойдя к нему, приказал подняться. Тот встал.
Мазовецкий ощупал ворот его гимнастерки, клапаны нагрудных карманов, рукава, низ гимнастерки и снова ворот. Под ним, на изгибе, он все же нащупал небольшой комочек. Еще через мгновение, распоров ворот, вынул из этого комочка миниатюрную ампулку с ядом.
– Извините, господин Полонский, мою бесцеремонность, но так уж случилось, что в свое время мне посчастливилось проходить подготовку в немецкой школе диверсантов. Поэтому имеется некоторый опыт.
– Вижу, что имеется, – побледнел Звонарь и, ударив Мазовецкого головой в грудь, рванулся к двери. Крамарчук вскочил, чтобы задержать его, но, получив удар ногой в живот, упал.
Схватили Звонаря уже на поляне. Ожидавшие окончания допроса Федор Литвак и Клим Вознюк сбили его с ног и с помощью Крамарчука снова ввели в землянку.
– Ну вот, теперь нам объясняться значительно проще, – продолжал Беркут, когда все расселись по своим местам. – Повторяю вопрос: каким образом вы должны были разоблачить Сову? Это не имеет принципиального значения. Просто так, любопытствуем.
– При встрече должен был убить его этой финкой. Ударом в горло. Мотивация: Сова узнал во мне пленного и пытался убить.
– Это если представится такой случай?
– Было проработано несколько вариантов, – пробубнил Звонарь. – Подробности ни к чему. – А еще через мгновение, внимательно посмотрев на Беркута, спросил по-немецки: – Кроме вас, здесь кто-нибудь владеет немецким?
– Нет. Но вы будете говорить по-русски.
– Тогда нам нужно остаться вдвоем.
– Говорите при всех.
– Этот знает немецкий, – кивнул Звонарь в сторону Мазовецкого. – Он был с тобой в крепости. В форме унтер-офицера. Я запомнил его. Скажите, пусть выйдет.
Мазовецкий все слышал. Он кивнул Беркуту в знак согласия, поднялся и молча вышел.
– Как видишь, я знаю о твоем посещении крепости. И о твоей договоренности со Штубером. Ты согласился работать с нами.
– И что дальше?
– Гауптштурмфюрер все еще ожидает твоего появления в крепости. Он согласен продолжать переговоры, потому что очень ценит тебя. И, пожалуй, не ошибается.
– Это его дело. С каким заданием направили вас ко мне в группу?
– Я должен был прижиться. И содействовать тому, чтобы ты и наиболее надежные люди из твоей группы перешли на нашу сторону.
– Каким образом вы должны были сделать это?
– Не я один, – напомнил Звонарь. – Пока что я должен был просто прижиться. А в дальнейшем получил бы необходимые инструкции.
– Через кого?
– Я не назову этот адрес. Кстати, в крайнем случае я должен был захватить тебя в плен. Или помочь захватить. Где-нибудь в Залещиках или в Подольске. Штубер все время повторял, что ты нужен ему живым. Слово чести, гауптштурмфюрер хочет, чтобы ты стал его агентом.
– Только не надо о чести… Однако продолжим. Если бы захватить меня в плен не удалось и на контакт со Штубером я не пошел бы?..
– Тогда я должен был уничтожить тебя. Даже если погибну при этом.
– И вы хотели сделать это сейчас? Ножом?
Звонарь отвел взгляд и отрицательно покачал головой.
– Сейчас я всего лишь хотел бежать.
Беркут с минуту молча всматривался в его лицо. Но понять, врет он или говорит правду, так и не смог.
– Должен сказать тебе еще вот что: Штубер не исключал возможности моего провала. В этом случае он приказал вступить с тобой в прямые переговоры. И говорить от его имени. Несмотря на то что ты нарушил условия, о которых вы договорились, он прощает тебя. Условия остаются прежними. Сейчас Штубер связывается с Отто Скорцени и будет добиваться, чтобы его перевели куда-нибудь в Западную Европу. Говорит, что нескольких из нас обязательно возьмет с собой. В первую очередь – тебя. А если ты откажешься от его предложения, Штубер просто-напросто распустит слух, что ты уже давно завербован. И работаешь на нас. Уже сам тот факт, что ты побывал в крепости…
– Не нужно подробностей, – остановил его Беркут. – Я умею выслушивать любые предложения. И любые угрозы.
– Это крайняя мера… – развел руками Звонарь. – Ни Штуберу, ни мне не хотелось бы прибегать к ней. Мы ведь профессионалы. Просто приходится готовить возможные варианты. Так что пусть это не пугает тебя. А теперь слушаю.
В ответ Беркут лишь улыбнулся холодной презрительной улыбкой, которая заставила Звонаря вздрогнуть.
– Даже если ты не пойдешь на условия Штубера – спаси меня. Спаси, Беркут!.. И, может, придет время, когда я спасу тебя. Что пользы от того, что прикажешь расстрелять меня?
– Мне – никакой. Но земле этой легче станет. Принимая своих солдат, она стонет от жалости и боли. А тебя примет с радостью. Хотя и будет ощущать при этом омерзение.
– Да неразумно это, пойми, неразумно! – моляще простонал Полонский. – Зачем нам убивать друг друга? Помоги мне! Спаси! Ведь там, в крепости…
– Нет, – перебил его Беркут. – Понимаю, ты наслушался проповедей Штубера. Но вы не учли, что, в отличие от вас, я не ищу славы на чужой земле. А взялся за оружие только потому, что на мою землю напали враги. И все мы находимся в лесу только потому, что кому-то нужно защищать ее.
Звонаря увели. Какое-то время все оставшиеся в землянке молчали.
– Хорошо, что удалось разоблачить этих провокаторов, – первым заговорил Отаманчук. – Страшно подумать, что они могли бы натворить в наших отрядах.
– Это только начало, – задумчиво заметил Беркут. – Нужно проверять каждого, кто появится в лесу. Каждого! Мы слишком доверчивы.
32
После возвращения из Заречного Штубер пригласил журналиста в единственный в Подольске приличный ресторан, одиноко высившийся почти на самом берегу реки, посреди почерневших, захламленных руин. Только лишь за этот дичайший беспорядок бургомистра следовало бы вздернуть здесь же, у ресторана, на виду у всего города. Штуберу показалось, что, глядя на руины, журналист подумал о том же. Но оба промолчали. Были дела поважнее.
Ресторан только что открылся, и они оказались первыми посетителями. Штубера это вполне устраивало: появлялась возможность поговорить с журналистом спокойно и основательно.
Этот газетчик из Берлина – сюрприз Ранке. Подполковник позвонил ему вчера вечером и сообщил, что беседовал с каким-то заезжим репортером, командированным на Восточный фронт. Однако до фронта он не доехал, потому что неожиданно заболел. Да и, судя по всему, его не очень привлекают окопы на передовой. В то же время нужен материал о серьезных боевых действиях, нужен герой в арийском духе.
Ранке сразу сообразил, что есть возможность попасть на страницы газеты и что упускать такую возможность не следует. Старинная крепость, «Рыцари Черного леса», усиленная подготовка отряда особого назначения под командованием ученика самого Отто Скорцени… Все это импонировало журналисту. Правда, нужна была еще солидная акция. Причем немедленно. Этой акцией стала сегодняшняя операция против «партизан» в Заречном.
– Вижу, ваши люди не зря называют себя «рыцарями», – заметил журналист после первой рюмки коньяку. – Отличная операция! Знаете, она заслуживает того, чтобы о ней знали и в Германии. Мы довольно ярко расписываем наши победы на фронтах. Но почти ничего не пишем о таких вот отрядах истинных рыцарей, спасающих население от зверств большевистских банд и в то же время обеспечивающих действие на освобожденных территориях приказов новой администрации, нового порядка.
– Насколько мне известно, наш отряд – единственный на Восточном фронте. Пока функционируют лишь карательные команды. Но ведь вы понимаете, что их нельзя сравнивать с «Рыцарями Черного леса».
– Разумеется, разумеется, – вскинул брови Эрнст Денхоф, как звали этого репортера в мешковатом и одновременно кургузом френче с погонами лейтенанта. – Между прочим, читателям интересно будет узнать, почему ваш отряд разместился именно там, в старинной средневековой крепости. Надеюсь, принимая такое решение, вы руководствовались не только соображениями безопасности?
– Эта крепость напоминает мне рыцарские замки Пруссии. А Штуберы – древний рыцарский род, ведущий свою историю еще от крестоносца Олгафта Штубера, одного из инициаторов Крестового похода в Палестину. Кроме того, крепость – удобное место для специальной подготовки моих «рыцарей». Там они проводят ежедневные тренировки. Мои люди владеют едва ли не всеми приемами рукопашного боя. И всеми видами оружия: от лука и дубины – до пушки. К тому же каждый из них способен действовать самостоятельно в самой сложной боевой обстановке. По существу, эти люди – образцы солдат будущего. Жаль, что у нас мало времени. Во всяком случае, стремлюсь превратить их в таковых.
– Это не может остаться незамеченным, гауптштурмфюрер.
– Ровно через неделю мы планируем нападение на очередной партизанский лагерь. На этот раз – лагерь известного в этих местах партизанского предводителя Беркута.
– Как-как его фамилия? – переспросил Денхоф, вынимая ручку. Блокнот его все время лежал на столе.
– Скорее кличка. Беркут. То есть горный орел. Это его банда совершила сегодня нападение на Заречное. А наш рейд будет рейдом мести. Вот там, думаю, мои люди по-настоящему продемонстрируют свое искусство.
– Весьма сожалею, что не смогу задержаться в вашем городке позднее, чем до завтрашнего дня, – потер отвисающий подбородок репортер. Ему было уже под пятьдесят. Болезненное, синюшное лицо, неприметная фигура, изъеденные паршой реденькие седые волосики едва прикрывали приплюснутую, мертвенно синюю голову. Весь его вид вызывал у Штубера отвращение. Жаль, что он не имел права хотя бы в чем-либо проявить его.
– Вам действительно есть о чем сожалеть, – многозначительно произнес Вилли, галантно благодаря официантку, принесшую им тушеную говядину. Говоря так, он знал, что, даже если бы этому пентюху строго-настрого приказали отправляться с ними в лес, он нашел бы тысячу причин, чтобы избежать этого похода. – Но лишь как солдату. Ибо как журналист вы ничего не потеряете. Это уже не первая наша операция. В общих чертах я хоть сейчас могу описать вам, что и как будет происходить там.
– Буду бесконечно признателен.
– Методика отработана до мелочей. На рассвете сосредотачиваемся несколькими группами вблизи партизанской базы. И пока специально подготовленные пластуны без единого звука снимают партизанские посты, мы, так же беззвучно, подкрадываемся все ближе и ближе к землянкам. Затем штурмовая группа врывается в землянки и действует, вначале используя исключительно ножи и боевые приемы рукопашного боя. Но так продолжается недолго. Часть партизан все же проснулась и пытается оказать сопротивление. И вот тогда вступают в бой основные силы отряда. В ход идет все, вплоть до топоров с партизанской кухни. Мы не признаем классических атак, в результате которых всегда бывают большие потери. Каждый «рыцарь» действует самостоятельно, полагаясь на свою ловкость, волю, выдержку. И выручают его молниеносная реакция и предельная натренированность. Быть может, это не для печати, но пленных, как правило, не берем. Кроме, разве что, командиров и комиссаров.
– Чтобы допросить их, – понимающе дополнил журналист рассказ гауптштурмфюрера.
– Вот именно.
– Сколько у вас людей?
– В операциях обычно принимают участие не более полусотни. Но они вполне заменят два-три батальона, которые нужны были бы для карательной экспедиции против такого отряда, как отряд Беркута. И в этом нет ничего удивительного: пока армейские батальоны подойдут к лагерю, партизаны уже готовы к бою. Кроме того, в лесу эти бандиты чувствуют себя очень уверенно.
– Своих людей вы приучаете именно к лесным боям?
– Естественно. У нас два собственных лесных лагеря, в которых они обучаются ориентированию, психологически настраиваются на ночные рейды и всячески привыкают к лесу, к условиям боя в чащобах.
Штубер еще долго рассказывал об операциях своего отряда, которых никогда не было и которым едва ли суждено осуществиться. Но делал это вдохновенно. Денхоф был в восторге. Мог получиться блестящий репортаж из украинских лесов, главным героем которого станет фигура, способная увлечь не только мальчишек из гитлерюгенда, но и любого толстокожего бюргера, который все еще ворчит, недовольный налогами военного времени.
– Какую же, в таком случае, школу должны были пройти вы сами? – осторожно поинтересовался лейтенант от журналистики, торопливо записывая что-то в свой потрепанный блокнот.
– Вам, вероятно, приходилось слышать такое имя – Отто Скорцени?
– Скорцени? Тот, из Вены? Герой аншлюса? Мне даже посчастливилось побывать вместе с ним в одной берлинской компании. Помню, меня тогда неприятно поразили шрамы на его лице. Кажется, на левой щеке.
– Да, на левой. Два шрама, похожих на змеиное жало. Символично.
– Честно признаюсь, я почти не общался с ним. Человек он довольно замкнутый.
– Умеющий молчать – так будет точнее.
– И что, он действительно такой?.. Ну, каким его пытаются изображать сторонники аншлюса в Австрии? Да и вообще, говорят, Скорцени – какая-то особенная личность. Один из тех немногих, кого уже сейчас действительно можно считать сверхчеловеком.
– Святая правда. К сожалению, мы пока еще недооцениваем заслуги таких людей. Но уверен: пока что недооцениваем. Придет время – и о них заговорят во весь голос. Появятся книги, фильмы…
– Вот как? Может быть, стоит упомянуть его имя в материале о вашем отряде?
– Даже советую сделать это. Тем более что ни он, ни я не забываем таких услуг. А когда мы – Скорцени и я – прочно осядем в Германии, то, несомненно, найдем возможность отблагодарить вас. Вы понимаете, что я имею в виду.
– Мне бы это не помешало, господин Штубер. Так же, как и блестящий репортаж с фронта. Вы ведь догадываетесь, что сюда, на фронт, посылают не только любимчиков редактора. Скорее, наоборот.
– Давайте-ка лучше уделим внимание коньяку и говядине. И дай Бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в родовом имении Штуберов, куда я обязательно приглашу вас при первом же удобном случае. А материал, когда он появится в газете, перешлите Скорцени. Или вручите ему лично. Обязательно постарайтесь найти его. Поверьте: это в ваших интересах.
– О да, конечно…
– Кстати, вы еще будете видеться с подполковником Ранке?
– Не уверен, – замялся Денхоф. – Кажется, мы уже обо всем поговорили.
– Я тоже так считаю, – кивнул Штубер, подливая коньяку в его рюмку. – И небольшая просьба. Вы понимаете, что к подполковнику Ранке я отношусь с особым уважением. Но в репортаже о моем отряде… Подумайте, стоит ли называть его имя просто так, по случаю… Такой человек заслуживает, чтобы о нем писали отдельные статьи. Беглое упоминание может лишь обидеть его. Не так ли?
– Совершенно согласен с вами, господин гауптштурмфюрер.
33
На поиски лагеря лжепартизан под командованием Магистра Мазовецкий повел десять бойцов. Все они были одеты в форму солдат вермахта или полицаев. Мазовецкий, конечно, понимал, что этот маскарад вряд ли собьет с толку самого Лансберга. Но дозорные, которых он выставит, все-таки подумают, прежде чем откроют огонь без предупреждения. А это может подарить его бойцам несколько секунд. Хотя бы для того, чтобы залечь.
Добравшись до места, где Мазовецкий и Крамарчук захватили полицая, группа передохнула и дальше уже продвигалась с огромной осторожностью. Впереди шли трое бойцов в черной эсэсовской форме. Остальные пробирались поросшими кустарником склонами оврага. Сам Мазовецкий возглавлял первую тройку. В это чудесное июльское утро, теплое и торжественное, как солнечные праздники детства, ему не хотелось думать об опасности, о предстоящей операции и вообще верить, что этот нарядный лес тоже охвачен войной, а едва заметная тропинка, которой он вел своих людей, может оказаться последней в их жизни.
Минувшая зима припоминалась ему сейчас, как кошмарный сон. Десантирование, плен, расстрел товарищей, наконец немецкая шпионская школа… Владиславу и сейчас еще не верилось, что он прошел через все это, вырвался из сетей гестапо, преодолел столько километров вражеского тыла, сумел уцелеть в бесчисленных облавах и в конце концов обрел свободу.
Да, он был доволен своей удачливостью, а группа Беркута, где ему верили и где его уважали, казалась ему сейчас наисвятейшим человеческим братством, о котором можно лишь мечтать. Только это чувство братства и заставляло поручика Мазовецкого все еще оставаться здесь, в Украине, хотя до родной Польши было так близко. Во всяком случае, значительно ближе, чем до Англии.
Но все же в последнее время Владиславу часто виделся лес за его родным селом на Жешувщине, родовая усадьба под Соколиной горой, речка, усеянная кремневыми, похожими на изрубленные старинные шлемы, валунами… А всматриваясь в эти видения, он все чаще думал о том, что пора возвращаться в Польшу. Подобрать людей, организовать партизанский отряд, поднимать на борьбу все новые и новые села, налаживая при этом связи с городским подпольем… Много ли найдется сейчас в Польше людей, подготовленных к партизанской борьбе так, как он?
Раздумья прервала негромкая соловьиная трель одного из шедших впереди партизан. Внимательно присматриваясь к зарослям кустарника, через который пробивалась тропинка, Мазовецкий приблизился к бойцам.
– Вон, пожалуйста, – торжествующе показал один из них, Готванюк, на небрежно замаскированные в низине землянки. – Наверняка это и есть лагерь Лансберга.
– Был лагерем, – уточнил Федор Литвак. – Да только позабыт-позаброшен.
– Придется проверить, – вмешался Мазовецкий. – Нука, Степан, – обратился он к Колодницкому, молодому парню из местных подпольщиков, специально оставленных для борьбы в тылу врага, – разведай. Осторожненько так… Ты в форме, сразу стрелять не станут. А в случае чего – прикроем.
Четыре тщательно замаскированные землянки были отрыты в небольшой чашеобразной ложбине между каменными глыбами. По краям этой чаши рыжели на солнце бурые каменистые холмы, на которых очень удобно было бы держать оборону. Да и обнаружить лагерь можно, только взойдя на этот вал.
Перебегая от дерева к дереву, Колодницкий добрался до первой землянки. Тем временем Крамарчук, Литвак, Бондарь и другие бойцы залегли за валом и следили за каждым шагом разведчика.
– А ведь знали, какое место выбрать для лагеря, – заметил Николай, поудобнее устраиваясь рядом с Мазовецким. – Здесь можно дать хороший бой…
– Но и западня тоже – отличная, – ответил поручик. – Попробуй отступить из такого лагеря, если его окружают. В ливень также несладко пришлось бы. Затопит. Для настоящего партизанского лагеря, в котором пришлось бы жить долгие месяцы, такую местность не выбирают.
– Нет здесь никого, ребята! – крикнул Колодницкий, заглянув в последнюю, четвертую землянку. – Ни одной живой души! Брошен этот лагерь! Правда, недавно.
– Странно, – проворчал поляк, подымаясь первым. – Почему немцы не разрушили его? Следов боя не видно, а такое впечатление, будто оставляли его в панике.
– Да, что-то вынудило их спешно менять базу, – согласился Крамарчук. – Может, они где-то рядом.
– Может быть и такое, – неуверенно ответил Мазовецкий. – Если только это не фальшивый лагерь. Возведенный как приманка. Всем оставаться на местах, я сейчас…
Договорить поручик не успел. Сильный взрыв заставил его и Крамарчука броситься на землю. Мгновенно залегли и все остальные. Прошла минута, прежде чем самые отчаянные решили подняться. А поднявшись, с изумлением увидели, что на месте одной из землянок, в которую перед самым взрывом вошел Степан Колодницкий, дымилась большая лиловая воронка.
– К землянкам не подходить! – первым опомнился Мазовецкий. – Всем отойти на склон!
Укрывшись за валом, партизаны несколько минут совещались. Теперь всем стало ясно, почему фашисты оставили лагерь нетронутым. Но это уже было горькое прозрение.
– Виновен в этом я, – хмурясь, проговорил Мазовецкий, снимая фуражку. – Кадровый офицер… и не разгадать такую банальную военную хитрость! Не могли они бросить землянки просто так. У немцев это исключено.
Бойцы подавленно посмотрели на поручика и снова перевели взгляд на место взрыва.
– Не стану успокаивать: обязан был, – ответил за всех Иван Колар. – Но Колодницкого больше нет. А враг наверняка где-то поблизости. И, услышав взрыв…
– Нет, – покачал головой Мазовецкий. – Теперь они уже далеко. Нужно идти дальше. Нужно искать.
– Ну а лагерь что, так и оставим заминированным? – удивился Крамарчук.
– Придется пока что оставить. Мины могут быть не только в землянках, но и возле них. А разминировать не сумеем, в группе ни одного сапера. Можно, конечно, забросать гранатами. Но они нам еще понадобятся.
– Разминировать Беркут заставит самих «рыцарей», – добавил Литвак. – Он заставит, вспомните мои слова.
В тот день партизаны еще часа три бродили по лесу, осматривая все овраги и заросли. Однако ни лагеря, ни даже следов пребывания немецкого отряда больше не обнаружили. Мазовецкий допускал, что гитлеровцы сменили базу сразу же, как только выяснили, что исчез один из полицаев. Но не исключал и того, что «рыцари» могли вернуться обратно в крепость. По приказу. И тогда поиски их – пустая трата времени.
Когда, вернувшись в отряд, Владислав поделился этим предположением с Беркутом, тот лишь скептически улыбнулся.
– Будем искать, поручик, будем искать. Лагерь должен находиться где-то неподалеку от Заречного. Пошли туда двоих ребят, пусть поговорят с людьми. Кто-нибудь из заречан наверняка знает или догадывается, в какой чащобе могут базироваться эти новоявленные партизаны.
34
Через несколько дней после того, как фашисты провели свою акцию в Заречном, в лагерь Беркута прибыли командир отряда «Чапаевец» Петр Иванюк и командир «Мстителя» Леонид Роднин. С ними был и Отаманчук. Для Беркута их посещение оказалось полной неожиданностью. Иванюк – плотный, двухметрового роста, первым протиснулся в слишком низкие для него двери землянки и, еще не отдышавшись и даже не поздоровавшись, сурово спросил:
– Беркут, на прошлой неделе твои парни были в Заречном?
Громов только что проснулся. Увидев гостей, он приподнялся на локте и приветливо поздоровался со всеми.
– На протяжении двух последних недель ни один из моих бойцов в этом селе не был, – спокойно ответил он. – Пожалуйста, присаживайтесь к столу. Жаль, нечем угостить.
– У нас имеются другие сведения, – возразил Роднин, садясь за стол. Это был худощавый, среднего роста мужчина лет сорока пяти. Он и сейчас носил военную форму. Офицерская выправка чувствовалась даже в том, как Роднин сидел за столом – словно на генеральском совете. – …О том, что ваши люди, товарищ Беркут, были в этом селе и натворили там такое… За что их следует судить партизанским трибуналом.
– Ну, за трибуналом дело не станет, – с серьезным видом проговорил Беркут, подсаживаясь к столу. – Тем более что он уже здесь. В полном составе. – Отаманчук, на которого Андрей выразительно посмотрел при этом, лишь пожал плечами. По этому жесту Беркут понял, что начальник разведки «Чапаевца» не разделяет мнения командиров, а следовательно, остается его союзником. – Но на всякий случай подтверждаю еще раз: на прошлой неделе ни один из моих бойцов в этом селе не побывал. Поэтому сначала расскажите мне, что там произошло, а тогда уж поговорим.
– Давай ты, Петр Степанович, – нервно передернул плечами Роднин. Эта его нервозность никак не вязалась с отменной офицерской выправкой. Должно быть, неумение сдерживать себя было не лучшей командирской чертой этого человека. – У меня здоровья не хватает пересказывать все, что там произошло.
– Я так я. У меня нервы крепкие.
Когда Иванюк в общих чертах изложил все то, что ему сообщили партизаны, ходившие в Заречное за продуктами, Беркут обхватил голову руками и надолго задумался.
– Так все-таки, это твои люди так славно поработали? – первым нарушил молчание Роднин.
– Если бы мои – все было бы значительно проще… – поднял голову Беркут. – Отаманчук докладывал вам о расследовании, которое мы провели относительно агентов Штубера? – обратился он к Иванюку.
– Докладывал. За то, что разоблачили эту сволочь, – искренняя благодарность вам от обоих отрядов. Кстати, позавчера мы объединились. Теперь это партизанское соединение. Вот командир, – кивнул на Роднина. – Я – заместитель.
– Если о Сове и Звонаре вы уже все знаете, тогда легче будет разобраться и с провокацией в Заречном. Фашисты создали специальную группу – а может быть, и не одну, – которая должна действовать в лесах, выдавая себя за партизанскую. Причем действовать такими методами, чтобы очернить саму идею партизанского движения. Это не столько военная, сколько политическая провокация. И первый удар, как вы уже поняли, фашисты нанесли моему отряду. Если в ближайшее время мы не сумеем уничтожить эту подсадную группу, то вскоре и другие села познают зверства агентов, которые будут выдавать себя уже за партизан из «Чапаевца» или «Мстителя».
– То же самое и я говорю, – поддержал его Отаманчук. – Штубер обязательно организует еще несколько таких операций и попытается заслать к нам в отряды новых агентов. А затем нашлет на нас большую карательную экспедицию.
Несколько минут Иванюк и Роднин угрюмо молчали. Постепенно молчание затягивалось и становилось все более тягостным.
– Значит, утверждаешь, что ни один партизан из твоей группы в Заречном не был? – наконец отважился Иванюк. На слова Отаманчука он не реагировал, из чего Беркут заключил, что, прежде чем идти сюда, они уже успели поцапаться. Не исключено, что Отаманчук вообще был против этого посещения.
– Думаю, что сейчас нам нужно говорить о другом, – заметил Беркут. – Вы сказали, что «Мститель» и «Чапаевец» объединились?
– В общем-то мы продолжаем базироваться двумя лагерями. Но все важные вопросы решаем на командирском совете. Вместе с комиссарами.
– А почему окончательно не объединились?
– Хотим сделать это осенью. Когда нужно будет уходить подальше в леса, – терпеливо объяснил Роднин. – Там можно маневрировать и большим соединением. Да и выжить вместе будет легче. Что, тоже решил присоединиться?
– Об этом я и хотел поговорить. Думаю, есть смысл объединить нашу группу с разведывательными взводами Отаманчука и создать активную разведывательно-диверсионную роту, которая бы действовала по особо важным заданиям объединенного командования. Определенный опыт у нас уже имеется. Это и будет первым шагом к общему объединению. Рано или поздно фашисты бросят против нас большие силы, при этом попытаются разбомбить нас авиацией в оголенном осеннем лесу, истребить ударами с земли и воздуха. Во время таких операций ни один из наших отрядов самостоятельно выстоять не сможет.
– Дельно, дельно, – согласился Иванюк.
– Я тоже думал над этим, – снова заговорил Отаманчук. – Хоть сегодня готов присоединиться к группе Беркута. Все разведданные немедленно будем направлять в штаб объединенного отряда. А, чтобы было удобнее, со временем перебазируемся поближе к отрядам.
– И это принимается, – поддержал Роднин. – Могу дать еще троих ребят. Это все, что осталось от моего разведвзвода. И пусть ваша группа занимается пока что исключительно отрядом Штубера. Сейчас главное – нейтрализовать и уничтожить «рыцарей». При необходимости – поможем силами всего соединения. Мы в это время будем проводить операции на шоссе и железной дороге. Республиканский штаб партизанского движения объявил фашистам «рельсовую войну».
– А поближе к осени соберемся еще раз и подумаем, как жить дальше, – кивнул Иванюк, вставая. К событиям в Заречном он уже не возвращался. И вообще, все четверо делали вид, что никакого разговора по этому поводу не было. И, лишь прощаясь, Беркут все же сказал Иванюку и Роднину:
– Мои ребята, конечно, не ангелы. Но хочу, чтобы вы знали: каждого, кто обидит кого-нибудь из жителей окрестных сел, мы будем наказывать так же сурово, как наказываете вы своих. А сказав это, я требую доверия. Иначе мы просто не сможем участвовать в совместных операциях. Не представляю себе, как можно идти в бой, поглядывая на мою группу, словно на банду мародеров.
– Все верно, – проговорил Иванюк, отводя взгляд: – Но вопрос: «Кто зверствовал, прикрываясь именем Беркута?» – по-прежнему остается.
Потом они еще вкратце обсудили подробности операции, которую Беркут разработал, основываясь на сведениях, полученных от Гуртовенко. Оба командира обещали помочь и просили держать их в курсе дела. Кроме того, Иванюк разрешил Отаманчуку остаться и пообещал направить несколько бойцов, чтобы они выбрали место для нового лагеря группы Беркута. А когда прощались, неожиданно заявил, что хочет взглянуть на Сову.
– В самом деле, покажи его, – присоединился к этой просьбе и Роднин.
– Сделать это нетрудно. Да только просил бы вас отказаться от встречи.
– Отказаться?! Почему?! – изумился Роднин. – Боишься, что кто-нибудь из нас съездит ему по морде? Или схватится за пистолет?
– Именно этого и боюсь. Как это ни странно. Минут через десять у нас состоится серьезный разговор. Хочу послать Гуртовенко обратно в крепость. Пусть теперь поработает на нас, пусть искупает свои грехи. Уверен: он согласится. И второй раз не изменит. А встреча с вами может сломать его. Особенно с вами, Роднин. Смотреть в глаза командиру, от которого еще несколько дней назад скрывал свое настоящее имя…
– А ты, вижу, того… психолог… – неопределенно как-то отреагировал на его слова Роднин. – Ну да ладно, нет так нет… Тебе виднее. Признаюсь, что ты интересуешь меня все больше и больше. Почти заинтриговал. Но с этой сволочью, Совой или как там его, все же будь поосторожнее. По мне, так лучше расстрелять его, как последнего гада. Чтобы землю не поганил.
35
Еще три дня назад Полонский был осужден партизанским судом и казнен. А Никифор Гуртовенко все еще сидел в партизанской землянке, ожидая своей участи. Опекал его в эти дни Крамарчук. Время от времени он выводил Гуртовенко на прогулку. Иногда даже сам заходил к нему в землянку, и тогда у них велись долгие разговоры о войне, о немцах, о довоенном житье-бытье.
Беркут, естественно, знал об этих встречах. Но не препятствовал им. Как и Крамарчук, он надеялся, что в конце концов Гуртовенко окажется искренним в своем раскаянии и что беседы с сержантом помогут ему в этом. Потому и позвал сегодня Николая к себе в землянку.
– Ну и что ты можешь сказать о своем пленнике? – спросил он, зажигая керосинку, – в землянке уже становилось сумеречно.
– А что можно сказать? Был красноармейцем. Потом полицаем. Потом…
– Все это я знаю, – сдержанно напомнил ему Беркут. – Как он ведет себя? Чем оправдывает предательство? И вообще…
– Предательства не оправдывает. Но жить хочет.
– Божественно. Жаль только, что страстное желание жить на войне редко принимается во внимание.
– Но он просится в отряд. Клянется, что искупит вину, что все понял. Говорит, что, если бы ему доверили, пошел бы на задание и добыл себе оружие в бою. С ножом пошел бы.
– Это уже нечто более конкретное.
– Почему ты ни разу не вызвал его к себе? Мог бы сам поговорить. Ведь тебе же решать. Ты командир.
– Спасибо, напомнил. Я его специально не вызывал. Пусть человек подумает, покается наедине. Проклянет себя за предательство. А кроме того, как следует подрожит за свою шкуру. Ему это не повредит.
– Выдерживаешь, значит? До полного брожения ума и селезенки? Ну-ну…
– Уже выдержал. Давай его сюда. Самое время поговорить.
Через несколько минут Гуртовенко стоял перед Беркутом. Он уже знал, какая участь постигла Звонаря, и был уверен, что после этого допроса его тоже казнят. Но все же смотрел на Беркута с надеждой.
– Приговор вам известен, – начал Громов без всякого вступления. – Иным он и быть не может.
– Понятное дело, – едва прошевелил губами Сова, уставившись на носки своих разбитых сапог.
– Но мне хочется спасти вас. Не из чувства жалости.
– Да? Действительно можете спасти меня? – несколько оживился Гуртовенко. – Это еще возможно?
– Еще возможно. Я, конечно, мог бы прибегнуть к известному вам приему вербовки. Сказать, что возвращаться на службу к немцам вам уже нет резона… Ибо, спасая свою жизнь, разоблачили одного из лучших агентов абвера.
– Я все понял, Беркут, – перебил его Гуртовенко. – Вы могли расстрелять меня. Или повесить. Я этого вполне заслужил. Командир любого другого партизанского отряда давно подписал бы мне этот самый приговор. И то, что вы отнеслись ко мне вот так, по-человечески… Я не забуду этого. А теперь дайте мне возможность искупить вину. Это в вашей воле. Я ведь и требую не многого – права умереть, как подобает солдату, а не как вонючий полицай.
– Слишком быстро от немцев и полицаев открещиваетесь.
– Так ведь начал не сейчас. Насмотрелся на них. Знаю, что там за сволочь подобралась в полиции ихней. Но пути назад не было. Не было – такая вот заколдобинка. Спасал шкуру?! Да, спасал, как мог. Оставь меня в отряде, Беркут, – вдруг перешел на «ты». – Спас мое тело – спаси и душу…
– Полагаете, что и душу тоже смогу?
– Я знаю, что ты не Иисус Христос…
– Тогда поговорим о деле. Вам придется вернуться в крепость, – Беркут специально выдержал паузу, хотел, чтобы Гуртовенко осмыслил это предложение. – Повторяю, вернуться в крепость, в отряд Штубера.
– Ты же знаешь, что это невозможно.
– У меня нет никаких гарантий, что вы не предадите еще раз. Но я поверил вам и иду на риск…
– Уже сказал, Беркут. Второй раз не изменю. Но зачем посылать меня на бессмысленную гибель? Оставаясь в отряде, я, по крайней мере, убил бы нескольких гитлеровцев. А так… Ты уверен, что в «Мстителе» не действует еще один агент? Если не самого Штубера, то гестапо или абвера? Уверен, что завтра-послезавтра там не появится изменник, который захочет спасти свою шкуру, продав мою, грешную?..
– Уверенности нет, – сухо ответил Беркут, садясь за стол и жестом приглашая садиться Сову. – Но партизан, который привел вас сюда, передал в отряд, что вы остались в нашей группе. Просто Беркут решил увеличить свое войско и охотнее всего принимает бывших красноармейцев. Поскольку сам из офицеров. А значит, в отряде никому не известно, что вы – агент Сова. Теперь дальше… От меня вы бежали потому, что видели, как неожиданно провалился агент Звонарь. И потому, что почувствовали: вас тоже подозревают. Понимаю, риск есть. Все неожиданности предвидеть невозможно. Допрашивать вас могут основательно. И все же такое объяснение будет вполне естественным. Конечно, Штубер попытается обвинить вас в трусости. Но, по-моему, он и прежде был о вас невысокого мнения. Я не прав?
– Что да, то да, – устало произнес доселе молчавший Отаманчук.
Гуртовенко удрученно развел руками. Сейчас он готов был соглашаться со всем, что услышит от этого человека.
– Так что своим объяснением провала операции вы всего лишь укрепите его в этом мнении.
* * *
Несколько минут Сова молчал. Беркут понимал, что возвращаться в крепость ему не хочется. Но бывший агент Штубера хорошо знал и то, что отказаться он тоже не имеет права.
– Что я должен буду делать там? – спросил он наконец.
С ответом Громов не спешил. Он как бы испытывал решение Совы на искренность. В его молчание ввинтился приглушенный, вкрадчивый гул мотора пролетающего неподалеку самолета. По звуку лейтенант определил: «рама». Она появляется над лесом уже четвертый день подряд, и Громов начинал думать, что самолет-разведчик немцы посылают не для того, чтобы определить базы партизан, а чтобы постоянно держать их в напряжении и страхе.
– В Градчанском лесу появился какой-то небольшой партизанский отряд, который приглашает к себе кого угодно – от стариков до подростков. Ведет он себя пока что сдержанно. Даже, пожалуй, слишком сдержанно. Активных действий против немцев не предпринимает. Немцы его тоже не трогают. Люди в этом отряде вроде бы не из местных. К тому же неизвестно, откуда он вообще взялся здесь. Поэтому есть подозрение, что это еще один подсадной отряд, сформированный Штубером.
– Вполне возможно.
– Так вот, попроситесь туда. Но сделаете это деликатно. Мы не заставим вас надолго задерживаться в нем. Хотя все зависит от того, как скоро вы справитесь с заданием. Уже через два-три дня постарайтесь передать сведения о его численности и командирах, о его назначении. А также выясните, когда и где он формировался. Как именно будете поддерживать связь с нами – это вам объяснит начальник разведки отряда «Чапаевец» Отаманчук. Прошу, Василий Григорьевич.
– Вблизи того района, где, по нашим предположениям, базируется подсадной отряд, есть село Квасное. На околице его живет старик – Роденюк. Всю жизнь он проработал портным. У немцев вне подозрений. Словом, наш человек, надежный. Правда, до сих пор мы ни разу серьезно не использовали его. Но это даже к лучшему. Просто зайдете к нему. Скажете, что от учителя Отаманчука. И оставите записку. Отыскать Роденюка несложно. Риска никакого, старик не выдаст. Связь с ним наладим. Как только получим ваше сообщение, передадим через него дальнейшие инструкции.
– Было бы хорошо, – добавил Беркут, – чтобы в ночь нападения на этот лагерь вы оказались в карауле, ликвидировали своего напарника и забросали землянки гранатами. Мы еще напомним вам об этом. Но говорю заранее, чтобы с первого дня готовились к такой операции и, по возможности, запаслись гранатами. Выполнив это задание, останетесь в нашем партизанском отряде. Прошлое будет забыто. Вина искуплена. Если вы согласны, обсудим всю эту операцию более подробно. Есть вопросы?
– Какие ж тут вопросы? – поднялся Гуртовенко. – Раз нужно – значит нужно… Доверяете – и на том спасибо.
– Тогда готовьтесь к «побегу». Лучше всего сделать это сегодня вечером.
Гуртовенко вышел. Беркут и Отаманчук вопросительно посмотрели друг на друга.
– По-моему, вы не верите, что в этот раз он не предаст? – сказал Беркут.
– И верю, и не верю. А главное, боюсь, что можем погубить Роденюка, старого безвинного человека. Да и кто знает, что это за отряд в Градчанском лесу? Вдруг окажется, что это не «рыцари». И мы только зря потеряем время? Может, лучше было бы направить его сюда, к Лансбергу?
– Не стоит. Здесь все ясно: банду Магистра надо немедленно уничтожить. А те, из Градчанского, для нас пока еще загадка.
36
Выслушав рассказ Совы, Штубер несколько минут молча курил, подозрительно присматриваясь к своему агенту. Сова тоже молчал и, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждал. Он понимал, что гауптштурмфюрер недоволен его неожиданным возвращением, но еще больше он недоволен провалом одного из своих лучших агентов – Звонаря. Однако волновало Сову не это. Единственное, чего он сейчас по-настоящему опасался – что Штубер догадается, почему он оказался перед ним.
– Там, в лагере Беркута, Звонарь видел тебя?
– Нет. – Гуртовенко был готов к этому вопросу и старался отвечать как можно увереннее и правдивее. – По-моему, нет. Это один партизан сказал мне, что задержали фашистского шпиона по кличке Звонарь. А потом меня вдруг вызвал Беркут и устроил настоящий допрос. Хотя и назвал его предварительным знакомством. Из его вопросов я понял, что в отряде меня тоже подозревают. И, может быть, именно для того и прислали к Беркуту, чтобы помог раскрыть меня.
– Хочешь сказать, что он у них – вроде начальника контрразведки? – поиграл желваками Штубер.
– Похоже, что так, господин гауптштурмфюрер.
– О Звонаре Беркут упоминал?
– Сказал, что, мол, до тебя один тут уже выдавал себя за пленного, бежавшего при перевозке из крепости в лагерь. Но его очень скоро раскусили. И что если бы он не свалял дурака, а во всем сознался и согласился бы работать на партизан…
– Значит, не имея конкретных доказательств, он уже, по сути, вербовал тебя?
– Это меня и насторожило.
– Испугало, – оскалился Штубер.
– Пусть так, господин гауптштурмфюрер, – вытянулся в струнку Сова.
– И ты, трус, решил, конечно же, не повторять ошибки Звонаря. Во всем сознался, прошел инструктаж и вернулся ко мне уже как агент Беркута.
– Неправда, господин гауптштурмфюрер! Избави Бог! Для них я предатель. Таких не щадят, даже если они сознаются в том, чего никогда не совершали. Я не трус. Просто оставаться дальше в отряде было бы безумием. Однако теперь я точно знаю, где находится лагерь Беркута. И могу показать.
– Даже так? – насмешливо переспросил Штубер, покачиваясь на носках. – Теперь ты уверенно можешь провести нас к брошенным землянкам и засыпанным прошлогодними листьями кострищам? После чего мы, конечно же, окончательно поверим тебе. Так вот, бывший полицай Гуртовенко, я тоже не стану оригинальничать и предлагаю искренне рассказать о том, как Беркут завербовал тебя и с каким заданием направил сюда. Слово офицера, что в гестапо никогда не узнают об этом признании. А ты еще какое-то время будешь оставаться у меня в группе и вести двойную игру. Впрочем, очевидно, уже тройную? А, Сова?
– Видит Бог…
– Хватит вмешивать сюда Бога! – презрительно процедил Штубер. – Свидетельские показания этой особы не были восприняты всерьез ни одним судом мира.
– Воля ваша.
– Поработав на меня в группе, ты снова вернешься в партизанский лагерь. Уже как свой, честный советский партизан. И останешься в нем. Но это еще не все. Когда ты вернешься, я просто-напросто забуду о тебе. Ты понимаешь, о чем речь?
– Понимаю: вы исчезнете.
– Ага, слава Богу, это ты запомнил. Так вот, отбыв здесь какое-то время и выполнив свою задачу, я вместе со своим отрядом исчезну, никому не сообщив о нашем разговоре. Таким образом, при желании ты сможешь дождаться возвращения Красной Армии в партизанском отряде и этим окончательно реабилитировать себя.
Сова изумленно взглянул на эсэсовца. Ему просто не верилось, что этот гауптштурмфюрер мог произнести такое: «дождаться возвращения Красной Армии в партизанском отряде».
– Если, разумеется, она сумеет вернуться, – спохватившись, добавил Штубер. – Мы, военные, должны предвидеть все возможные варианты. Тебе не кажется, что я слишком долго говорю, а ты слишком долго молчишь?
– Но, господин гауптштурмфюрер, ни Беркут, ни кто бы то ни был другой меня не вербовали. Я не изменял рейху. Если вам нравится такая игра, значит, и нужно было засылать меня с заданием сознаться там во всем, раскаяться и внедриться в отряд.
– Довольно, Сова, довольно! – побагровел Штубер. – Нечего меня поучать.
В сердцах он взмахнул рукой перед лицом Гуртовенко, и тот в испуге отшатнулся.
– Не бойся. Не в моих правилах избивать таких, как ты. Заниматься тобой будут другие и в другом месте. Эй, эсэсман! – позвал часового, который привел Сову и теперь ожидал дальнейших приказаний, стоя на лестнице. – В подвал его. И советую подумать, Сова. У тебя не настолько крепкое здоровье, чтобы пытаться портить нервы парням из гестапо.
* * *
В подвале, куда свет проникал лишь сквозь узенькое зарешеченное оконце-бойницу, находившееся под самым потолком, Гуртовенко сразу же опустился на нары и, понемногу привыкая к полумраку, огляделся. Он оказался здесь впервые. И теперь лично мог убедиться, что мрачные слухи об этом каменном мешке – правдивы, а вырваться отсюда невозможно.
Его почему-то не обыскали. Очевидно, охранники решили, что его уже обыскали люди Штубера. Редкостная для немцев промашка. Но именно она подарила ему в виде последнего перла судьбы небольшой складной ножик. Оружие не бог весть какое. Но все же… Обнаружив его во время поисков хоть какого-нибудь завалявшегося окурка, Гуртовенко несколько приободрился. Если и впрямь передадут в гестапо, можно будет попытаться сбежать по дороге, и тогда нож пригодится. Хотя шансы, конечно, ничтожны. Здесь не должно возникать никакой надежды – он это понимал. А ведь как все удачно складывалось, как удачно!
В плен он сдался неподалеку от Подольска. Не потому, что желал служить гитлеровцам. Служить он с самого начала войны не хотел никому: ни фашистам, ни коммунистам. Просто у него и его товарища по окопу – их осталось к тому страшному часу только двое от всей роты – кончились патроны. А немцы уже в каких-нибудь трех-четырех шагах. И взяли их голыми руками, словно обессилевших после зимы перепелов.
Били потом смертным боем, но почему-то – одному Богу известно, почему, – не добили. По дороге к лагерю тоже почему-то не пристрелили, хотя они едва плелись в конце колонны, и много таких, как он, избитых, обессилевших, так и осталось на той страшной, судной дороге.
Когда их пригнали в лагерь и действительно появилась хоть какая-то надежда выжить, Гуртовенко впервые всерьез поверил в существование судьбы. В ее предначертание. Прежде-то он, учитель начальных классов сельской школы, считал, что у таких червей земляных, как он, судьбы вообще не бывает. И быть не может. Они живут, как трава: прорастают, зеленеют, наполняются соком и, увядая, умирают, не оставив после себя никакого следа. А хранит она лишь людей мудрых и знаменитых – артистов, например, или генералов. Но теперь поверил. И чувство обреченности, преследовавшее его с первых дней войны, вдруг сменилось верой в эту самую судьбу, в его собственную… А вслед за верой появилось сначала неудержимое желание выжить. Любой ценой, но выжить. А потом и уверенность: а ведь все равно выживу!
Вот почему, как только их начали вербовать в полицаи, сразу же согласился. Даже колебания особого не ощущал: это же сам Бог указывает ему путь к спасению. Да, сам Бог. Товарищ, с которым вместе попал в плен, категорически отказался идти в полицаи и на следующий же день был застрелен якобы за невыполнение приказа лагерного начальства. Это ли не кара Господняя за то, что презрел путь, указанный Всевышним. Гуртовенко и сам не заметил тогда, что вместе с верой в спасение в нем оживала вера в Спасителя. Вера, которой он доселе атеистически гнушался.
Он и теперь считает, что однополчанин повел себя в то время неразумно. Погибнуть в плену – это слишком просто. А вот пройти сквозь этот ад… Пережить все, перетерпеть и вырваться… Нет, он обязан был уцелеть. Даже ценой предательства. Впрочем, шел он в полицаи, надеясь, что обязательно как-нибудь выкрутится. Причем очень скоро. Сбежит и будет прятаться по селам до прихода наших. По-всякому прикидывал. А когда заслали к партизанам, признаться уже не решился: не время, под горячую руку могли расстрелять. Да и после, когда уже, казалось, нет выхода, впереди только смерть – снова повезло, его вдруг спас Беркут. Так неужто теперь – все? Наверно, это конец. Сколько раз ему может везти? Сколько таких вот «полусмертей» отпущено ему на веку?
* * *
Сова не знал, что в это время Штубер звонил по телефону шефу уездного отделения гестапо.
– Господин штурмбаннфюрер, – загадочно улыбнулся он в трубку. – Хайль Гитлер! Вас беспокоит гауптштурмфюрер Штубер. У меня к вам просьба весьма деликатного свойства.
– Что, вы всыпали партизанам такого перца, что они осадили вас в крепости?
– Не радуйтесь, господин Роттенберг, до этого дело дойдет нескоро. Я о другом. Вернулся из партизанского отряда один мой агент. Неплохой был агент…
– Но, по традиции, бытующей в вашем блиц-корпусе, сразу же продался красным, – промямлил Роттенберг. Он даже приказы отдавал таким голосом, словно причмокивал во сне.
– Нет. Просто струсил и удрал оттуда, безответственно отнесясь к выполнению задания. Нужно, чтобы ваши парни подъехали сюда и забрали его на одну ночь.
– С удовольствием. Прикажу – они и вас прихватят, – в трубке послышалось хриплое журчание, которое Штубер должен был воспринимать как нормальный человеческий смех, хотя убедить себя в этом не мог. – Ну шучу, шучу. Хотите, чтоб ему развязали язык?
– Хочу, чтобы хорошенько «помассажировали» его. А утром вернули. Живым, разумеется. Он мне еще нужен. И пусть это будет уроком для других.
– Речь идет о вашем знаменитом Звонаре?
– Нет. Кличка этого агента – Сова. Звонарь, увы, погиб.
– Вот как?! Надеюсь, смертью героя?
– Партизаны раскрыли его и казнили. У нас нет оснований считать, что при этом он пытался спасти себе жизнь, предав во второй раз.
– Не старайтесь, гауптштурмфюрер. В любом случае я не стану представлять его к Рыцарскому кресту.
– Я так и понял.
– Снова Беркут? Его работа?
– Его, конечно, – покаянно вздохнул Штубер.
Помолчали. Оснований для наград становилось все меньше. И касалось это не только слабоподготовленных агентов из русских.
– А вы не допускаете, что этот Сова купил себе помилование, выдав партизанам Звонаря?
– Исключено. Они были в разных отрядах. К тому же Сова был заслан раньше и не мог знать об операции со Звонарем. Даже догадываться не мог. Да и, помиловав, партизаны вряд ли решились бы отпустить его так сразу, не испытывая в боях, не убедившись в его лояльности. Ведь Сова тоже заслан недавно, каких-нибудь две недели назад.
– Ненадолго же их хватает, ваших хваленых агентов – «Рыцарей Черного леса». Ничего. Из этого красавчика мы выжмем все, что нам нужно. Через полчаса машина будет у крепости.
Вскоре машина и в самом деле прибыла. Жестом приказав двоим эсэсовцам обождать, Штубер один вошел в подвал.
– Жаль, – проговорил он, освещая Гуртовенко лучом фонарика. – Ты был неплохим агентом. Во всяком случае, мне так казалось. Однако твое бегство из партизанского отряда… Сам понимаешь, гестапо такого не прощает. И, как правило, долго доискивается истины. Очень долго и придирчиво.
– Нет, господин оберштурмфюрер, я не изменял рейху. И обязательно докажу это.
– Верю, Сова, верю. Я, конечно, вынужден был доложить о том, что случилось с тобой и Звонарем. При этом старался убедить гестапо, что тебя не стоит пытать. Но ты сам знаешь, что это за учреждение… Словом, с этой минуты ты у власти гестапо. Вырвать оттуда тебя не сможет даже Бог. Но иногда Он хранит мужественных праведников.
– Я – не мужественный праведник, – обреченно признался Гуртовенко.
Едва Гуртовенко ступил за порог, здоровенный эсэсовец, стоявший ближе к двери, оглушил его ударом кулака по голове. После этого ему еще добавили ногами и, подхватив под мышки, потащили через весь крепостной двор к машине.
Потом его били в машине. В кабинете следователя гестапо. В подвале, где содержались узники. Снова в кабинете. И снова в подвале. За сутки беспрерывных истязаний ему не задали ни одного вопроса. И не отвечали, когда спрашивал или пытался что-либо объяснить он. В конце концов обалдевшему от побоев Гуртовенко начало казаться, что до него здесь вообще никому нет дела. И бьют его все, кто пожелает. Просто так, по инерции. Может быть, у них такая же тренировка, как те, что практикует Штубер на «арене» возле башни?
Он пытался объяснить своим палачам, что ни в чем не повинен, что предан рейху, что служил в полиции и готов служить впредь. Но эсэсовцы лишь удивленно поглядывали на него, потому что ни один не понимал по-украински или по-русски, и продолжали молча делать свое дело.
37
На рассвете Гуртовенко затащили в кабинет Роттенберга, усадили на стул. Штурмбаннфюрер молча махнул рукой и солдаты исчезли.
– Мы одни, – произнес шеф гестапо, внимательно изучая работу своих подчиненных. – Ты прекрасно понимаешь, что уже не выберешься отсюда. И пытки могут продолжаться месяц, два, год… Нам некуда спешить. Но даже из такой ситуации есть выход. Свобода – это для тебя, разумеется, слишком… Но согласись, концлагерь – это тоже шанс на спасение. Если, конечно, услышим от тебя что-либо интересующее нас.
– До сих пор меня ни о чем не спрашивали, – произнес Гуртовенко, едва выговаривая слова. – Только били. И ни о чем… Били и ни о чем… Я отвечу…
– Неужели никто не вел допрос?! – изумился Роттенберг. – Это им так не пройдет. Хотя, если по правде, мы ведь специально подбираем сюда молчаливых парней. Ничего не поделаешь: такая работа. С какой целью тебя засылали в партизанский отряд?
– А разве вы не знаете?
– В общих чертах. Меня интересует, какое конкретно задание дал тебе лично Штубер.
– Я должен был прижиться в лагере. И ждать указаний.
– Со временем ты должен был перейти в отряд Беркута?
– Нет. Возможно, такое задание имел Звонарь. Я точно не знаю, я так думаю…
– Беркут встречался с вами? Разговаривал?
– Да.
– Что его интересовало?
– Я должен был осуществлять связь между его группой и отрядом «Мститель». Он спрашивал, кто я, откуда. Хотел убедиться, что я действительно бывший пленный, а не ваш агент.
– Но ты считаешь, что он подозревал тебя?
– Кажется, подозревал. Ведь только что раскрыли Звонаря.
– Как это произошло?
– Не знаю. Он должен был выдавать себя за пленного, побывавшего в крепости. В отряде Беркута, должно быть, кое-что знали об этой особой группе пленных.
– И на каких условиях ты согласился на предложение Беркута?
– Я не согласился бы ни на какие. Да Беркут и не предлагал бы.
– Почему не предлагал бы? Почему, Сова, он не предлагал бы! Ведь он бывал в крепости. Встречался со Штубером. Выдвигал свои условия. Только не вертись, как лиса в капкане, говори правду! Как он раскрыл тебя?! Звонарь опознал?! Да говори же, говори!!
– Господин офицер, вы не знаете этого ирода Беркута. Если бы они раскрыли меня – сразу бы и повесили. На одном суку со Звонарем. Можете замучить меня, если вам так нужно. Но только я говорю правду.
Какое-то время они молча глядели друг другу в глаза. Роттенберг – сдерживая в себе желание наброситься на узника, Гуртовенко – с решимостью обреченного, сделавшего все для своего спасения и теперь полагающегося лишь на волю случая, на собственную судьбу. И, быть может, только эта решимость удержала эсэсовца, убедив его в бессмысленности дальнейшего допроса.
– Скажу откровенно: ты не убедил меня, что не завербован Беркутом. Но в конце концов какое это имеет значение? Все равно ведь повесим. А можем и помиловать. Правда, существует еще один вариант. Отпустить к партизанам. Но при этом настолько скомпрометировать, чтобы они сразу же повесили тебя как предателя. У наших людей есть опыт в таких делах, можешь мне поверить. Какой из этих трех вариантов тебя больше устраивает?
– Я хочу служить рейху. Так же преданно, как и служил.
– Значит, хочется жить? – зло усмехнулся Роттенберг. – Неоригинально. Слушай меня внимательно, Сова. Я дарю тебе то, за что ты так цепляешься, и ты вернешься в отряд Штубера. Но отныне обязан информировать меня, лично меня, обо всем, что там делается. Разговоры, настроение, любые чрезвычайные события. Меня будет интересовать все, абсолютно все. Но особенно – игра Штубера с Беркутом. Ты понял меня?
– Что же тут непонятного?
– Может случиться так, что Штубер еще раз уговорит Беркута встретиться с ним. Твоя задача – сообщить, когда и где состоится эта встреча. Или хотя бы что она состоится. Но если обмолвишься о нашем разговоре хоть одним словом…
– Не обмолвлюсь, господин офицер. Это исключено. Век не забуду вашей доброты.
Едва успели увести Гуртовенко, как позвонил Штубер.
– Мы уже можем получить вашего пациента, господин штурмбаннфюрер?
– Хоть сию минуту.
– Он так ничего и не сказал?
– Бывают случаи, когда признаваться не в чем. Но все равно часы, проведенные у нас, запомнятся ему надолго. А вообще советую присмотреться к этому Сове. Человек с характером. Такого агента можно использовать рациональнее, чем вы это делали до сих пор.
«Вот как? – подумал Штубер. – “Использовать рациональнее…” Ясно. Просто до сих пор вы, господин штурмбаннфюрер, не имели в моем отряде своего агента…»
– Воспользуюсь вашим советом, господин штурмбаннфюрер. Не каждому из моих рыцарей удается получить такую рекомендацию.
Роттенберг понял, что Штубер разгадал его ход, однако это не слишком огорчило его. Может, оно и к лучшему. По крайней мере есть гарантия, что не решится убрать этого Сову. Побоится вызвать еще большее подозрение гестапо.
– Его привезут в крепость. У нас слишком мало места, чтобы вы могли устраивать здесь курорт для своих недоумков.
Когда через некоторое время Сова вновь предстал перед Штубером, тот лишь окинул его презрительным взглядом и, обращаясь к сопровождавшему Гуртовенко эсэсовцу, процедил:
– В отряд Зебольда. А затем – к партизанам.
38
Когда однажды, поздно ночью, в отряд неожиданно вернулся Гуртовенко, лейтенанта это поразило. Гуртовенко не имел права появляться в отряде без особого распоряжения. Вот так просто взять и вернуться в лес – значило раскрыть себя перед гестапо. То есть теперь Гуртовенко как партизанский агент уже не существует.
– Что случилось, Сова? – довольно холодно встретил его Беркут, когда этого пилигрима привели к нему в землянку. Лейтенант умышленно назвал его по кличке, присвоенной Гуртовенко фашистами. У него было основание подозревать, что вернулся этот человек не без подсказки Штубера.
– Я понимаю, что мне не стоило появляться здесь. Но вы должны выслушать меня.
– Да уж никуда не денемся – выслушаем. Присядьте, Сова, и не торопитесь. Говорите вдумчиво.
Гуртовенко не сел, а буквально свалился на скамейку и, поскольку целую минуту, как целую вечность, он просидел молча, Беркуту показалось, что так, сидя за столом, этот человек и уснет. Лицо его было исцарапано ветками, одежда и руки – в грязи, волосы, словно пеплом, усыпаны сероватой хвоей…
«Ну что ж, – сказал себе Андрей, внимательно присматриваясь к Сове, – независимо от того, что привело его сюда в столь поздний час, путь в отряд оказался для него нелегким». Однако с расспросами не торопился.
– Я не буду пересказывать, как меня встретил Штубер, – заговорил Гуртовенко лишь после того, как приведший его Отаманчук поднес флягу с трофейным шнапсом. – Это долгий разговор.
– Рассказать все равно нужно будет, – заметил Беркут. – Но, конечно, не сейчас.
Ему почему-то показалось, что Сове просто-напросто не хочется воспроизводить свои беседы со Штубером, в гестапо или где там еще допрашивали его.
– Командиры «Чапаевца» и «Мстителя» далеко отсюда. Лучше бы сразу послать за ними.
– Сейчас они будут здесь, – спокойно ответил Беркут и едва заметно кивнул Отаманчуку. Тот сразу же вышел из землянки.
– Немцы готовят большую карательную операцию. К вашему лесу стянуты все окрестные гарнизоны немцев, румын и полицаев. Но это еще не все. С эшелона, идущего на фронт, немцы сняли целый пехотный батальон. Плюс два батальона румын прибыло из-за Днестра. Я узнал об этом совершенно случайно. Подслушал разговор немецких офицеров. Поначалу они меня попросту не заметили, а заметив, не пристрелили только потому, что, очевидно, решили: все равно этот полицай ни черта по-немецки не смыслит.
– Понял, Гуртовенко. Спасибо за сведения. Когда следует ждать все это войско?
– Об этом они не говорили. Но думаю, уже сегодня на рассвете. Если батальон сняли с эшелона, тянуть с операцией не станут. Тем более что у них все готово. Лес оцепили так плотно, что, если бы не форма полицая, мне бы сюда не пробраться.
Громов задумчиво взглянул на снова появившегося в дверях Отаманчука, который был теперь комиссаром их небольшого разведывательно-диверсионного партизанского отряда.
Тот кивнул: мол, гонцы посланы, – однако на бессловесный рапорт его лейтенант никак не отреагировал. В достоверности того, что рассказал Гуртовенко, Андрей не сомневался. Разведчики уже докладывали, что лес блокирован десятками постов и засад. И что в окрестных селах и хуторах появилось много полицаев, переброшенных из соседнего района.
– Я пришел с оружием, – вновь заговорил Гуртовенко. – Бой приму вместе с вами.
– Божественный порыв. Но дело в том, что бой у нас есть кому принимать. Лучше скажите, существует ли реальная возможность вернуться к немцам, чтобы продолжить игру?
На какое-то мгновение взгляды их встретились, и Громов понял, что этого вопроса Гуртовенко и ждал, и боялся.
– Если честно, мизерный шанс выкрутиться из этой ситуации, конечно, есть. В конце концов, можно придумать что-нибудь такое, чтобы объяснить свое отсутствие. Только не могу я больше. Нет сил моих, лейтенант. Боюсь. Да и кто мне потом поверит? Вдруг с тобой что-то случится, кто потом подтвердит, что я работал на партизан? Нет, Беркут, можешь судить меня, но… Как видишь, я был там не зря. Пригодился, помог. Но сколько же можно… по лезвию? Все! Хочу быть вместе со всеми.
Беркут вопросительно взглянул на Отаманчука. Тот пожал плечами и задумчиво крякнул. Очевидно, тоже почувствовал: требовать от Гуртовенко, чтобы он вернулся к фашистам, уже не имеет смысла.
– Хорошо. Но только помните: трусов у меня в группе нет.
– Оттрусил я свое, командир. Ты уж извини…
39
Через час в землянке Беркута собрались Иванюк, Роднин, Отаманчук. Еще через несколько минут появился начальник штаба «Чапаевца» Долват, который только что вернулся с разведгруппой, выяснявшей обстановку на южных окраинах их лесного массива. Этот худощавый, почти мальчишеского телосложения адыгеец был непревзойденным наездником, проделывавшим на своем Мурате почти цирковые номера джигитовки. Тем не менее к его идее создать кавалерийский эскадрон Громов относился с той иронической благодушностью, с какой обычно относятся к бессмысленной, но совершенно безобидной прихоти.
И хотя своего отношения к этой затее Беркут не скрывал, все надежды на создание эскадрона Долват почему-то связывал именно с ним, с его группой, считая, что никто не сможет справиться с захватом румынской конюшни лучше, чем она. Вот и сейчас, войдя в землянку, он успел шепнуть Андрею:
– Имеем на примета конюшня, лейтенант. Конь настаящий, кавказский. Я к адному подкрадывался, по-адыгейски говорил – все панимает! Кавказский конь, точна говорю.
– Брось, Долват, не до циркачества сейчас, – вклинился в их «сговор» командир «Чапаевца». – Сам видишь: такое заваривается, что твой кавказец сгодится разве что на мясо.
– Я лучше свое мясо есть буду! Фашиста есть буду! Коня не трону! Понял?! – вскипел Долват. – Зачем так говоришь: кавказца – на мясо?!
Совещание затянулось. Сообщения Совы и Долвата вызывали тревогу.
– После боя с подсадным фашистским отрядом у меня девять убитых и семнадцать раненых, – нарушил тягостное молчание Роднин. – А всего раненых – двадцать семь. При том, что боеспособных – шестьдесят два бойца. Это уже не отряд, а полевой лазарет. Попробуй с таким обозом и таким прикрытием прорвать кольцо и добраться до соседнего леса.
– У меня тоже не лучше, – дымил самокруткой Иванюк. – Эти два отряда твоего друга Штубера обошлись нам слишком дорого.
– Подарили бы нам каратели еще один день. Можно было бы прорываться отдельными группами. Раненых вывели бы ночью, пристроили по селам.
– Но каратели не собираются дарить его нам, – заметил Беркут. – Они начнут в шесть утра. Чтобы дотемна закончить всю операцию. А сейчас уже половина первого.
– Возле Криничного мои ребята засекли четыре гаубицы, – добавил Долват. – Если фашисты еще вызовут этот свой «небесный глаз»…
– Раму, – подсказал Отаманчук.
– И он зависнет над нами…
– Хорошо, – хлопнул ладонью по столу Иванюк, – исходим из того, что нам отпущено пять часов. Значит, выход один: собрать все силы в кулак и потихоньку подкрадываться к краю леса, к Дроздовой долине. Если подойдем скрытно и на рассвете ударим все вместе – прорвемся малой кровью…
– А потом пять километров по каменистой долине… – мрачно развил его план Роднин. – С ранеными, с обозом. За это время немцы сто раз обойдут нас поверху и перестреляют. А кто уцелеет – встретят у леса. У них ведь рации, мотоциклы, машины…
– А здесь, в лесу, у них рации не будет? Испортится? Кроме раненых, у меня в отряде еще трое стариков, женщины, двое детей. Не было бы их, можно было бы разбиться на мелкие группы, помните, как прошлой осенью…
– Очевидно, придется оставить лагеря, забиться в Чертовы камни и держать круговую оборону. С двух сторон к ним подступает болото, а на самих камнях – скалы, валуны, пещеры, каменистые овраги. Покрутятся там фашисты дня два и уйдут. Цепью там не попрешь. Пушки близко не подтянешь. Раненых можно занести на болото, на остров, а тропу, которая ведет через болото к Чертовым камням, перекроем. Знаю удобное место.
– Таким войском они задушат нас и на камнях, – упрямо помотал головой Иванюк. – Подтянут пару минометов, отрежут от болота… Чтобы эти Чертовы камни удержать хотя бы сутки, нужен полк. Площадь их вон какая. А если мы впустим их в камни, там уже не сдержим.
Все молча посмотрели на Беркута. Хотя Иванюк и возражал против такой тактики, однако и он, и Долват с Отаманчуком понимали: ничего лучшего они сейчас не придумают.
– Ну что ж, – решился Андрей, осознавая, что пора кончать споры, нужно принимать решение. – По крайней мере, в Чертовых камнях можно дать бой. Хороший бой. Но, окружив там, фашисты нас уже не выпустят.
– Так что? – нетерпеливо перебил его Иванюк. – Твое решение?
– По данным разведки можно предположить, что фашисты попрут на нас со всех сторон. И кольцо сожмется где-то недалеко от вашего лагеря, Роднин. А значит, к болоту, к той неприметной тропе, которая ведет на остров, они подойдут раньше, чем те, с юга, к Чертовым камням. Это немного облегчает нашу задачу. Поступим так: вы оставляете в лагерях по десять бойцов. Их задача: открыть огонь еще на подступах к лагерям и, сдерживая фашистов, отступать к камням. Все остальные ваши люди, вместе с ранеными, стариками и женщинами, маскируются на тропе и на острове. Чтобы ни шороха, ни звука.
– А пятеро наших коней? – перебил его Долват.
– Да погоди ты, – остудил его Роднин. – Дай с людьми разобраться. – Допустим, так мы и поступим. Что нам это даст? Думаешь, фашисты нас не обнаружат?
– Прежде всего они обнаружат наш отряд. Мы с комиссаром, – тронул он за плечо Отаманчука, – выступим уже через час и, разбившись на группы, займем позиции по северному склону Волчьего оврага. Причем три группы Отаманчука, которые будут на правом фланге, первыми встретят фашистов и первыми начнут отступать, уводя их вдоль болота к Чертовым камням. А мы, три группы левого фланга, будем держаться более стойко и отойдем лишь тогда, когда группы Отаманчука будут у нас в тылу. Там, в камнях, мы соединимся и с бойцами, отходящими из лагерей. Причем бой завяжем сразу же, на рассвете, когда, судя по всему, еще не развеется утренний туман. Вы же, как только фашистские цепи пройдут мимо брода, выходите по тропе, пробираетесь к Волчьему оврагу и уходите по нему к Лебяжьим хуторам. Между ними, вы знаете, сады, перелески, овраги. Попытайтесь проскочить ими к Медоборскому лесу.
– А вы? – сразу же спросил Иванюк. – Как вы потом?..
– Это уже детали, – спокойно ответил Беркут. – У нас наиболее подготовленные люди. До вечера продержимся, а там – исходя из ситуации.
Иванюк и Роднин переглянулись и сразу же посмотрели на ручные часы.
– Думаешь, этот ганнибальский маневр удастся? – нерешительно спросил Роднин, однако Беркут понял: командир отряда задал этот вопрос только потому, что чувствовал себя неловко.
– Должен. Ведь другого пока не придумали.
– Ты, конечно, жертвуешь и собой, и группой, а ребята у тебя действительно подобрались что надо. Но жертвуешь, надо признать, мудро, расчетливо, по-партизански, так что…
– Зря теряем время, – остановил его Беркут, поднимаясь и давая понять, что пора расходиться. – Немедленно выводите людей на болото. Мы же займемся подготовкой своих групп.
* * *
– Крамарчук еще не вернулся? – первое, что спросил Беркут у Отаманчука, когда командиры отрядов и Долват ушли.
– Пока нет. Очевидно, не могут прорваться в лес.
– Скорее всего они не вернулись, потому что не сумели выполнить задание. Пока не сумели. Но, наверно, понимают: если лес оцеплен и готовится большая операция, Штубер с остатками своего войска тоже сунется сюда. Он в отчаянии. Уничтожив два подсадных отряда, мы уже списали его группу со счетов командования. А гауптштурмфюрер – человек самолюбивый, поэтому сам полезет в пекло. Только бы Крамарчуку и Мазовецкому не прозевать его.
– Они постараются. Как ваша нога, лейтенант?
– При чем здесь моя нога?
– С таким ранением трудно будет вести бой, а еще труднее – отходить к Чертовым камням. Думаю, вам следует остаться на болоте. Вместе с Родниным, Иванюком, с остальными ранеными.
Громов удивленно посмотрел на Отаманчука и, поиграв желваками, тихо, но властно приказал:
– Поднимайте людей, комиссар. Готовьте их к выступлению. Сколько у нас в строю, без группы Крамарчука?
– Восемьдесят семь.
– Разбейте на шесть групп. И постройте. Только очень быстро. Да, костры не гасить. Наоборот, получше разожгите. Если появится их самолет, пусть пилот считает, что мы в лагере.
* * *
…А ведь он мечтал навестить Марию. Фельдшер заверил Громова, что дней через семь рана окончательно заживет, и тогда… Где эта Гайдуковка? Очевидно, недалеко от Лазаревки, в которой Крамарчук и Мазовецкий оставили Кристич. Во время последней встречи (очень короткой, когда он ночью тайком пробрался в Квасное) они с Марией договорились, что, если она заметит опасность, сразу же уходит в Гайдуковку, к своей дальней родственнице.
Андрей понятия не имел, где находится это село, но расспрашивать у Марии уже не было времени. В отряде о нем тоже почему-то никто ничего толком не знал. Одни говорили, километров за сорок, другие – за шестьдесят. Впрочем, где бы эта Гайдуковка ни находилась, он найдет ее.
Почти год Мария прожила в соседней области, и Громов ничего не знал о ней. Но весной, раздобыв у местного старосты справку, удостоверявшую, что владелица ее – благонадежная сельская учительница Ольга Подолянская, Мария переехала в Квасное. Работать в школу она, однако, не пошла, сразу же устроилась санитаркой в больнице. Находиться в этих краях для нее было очень рискованно. Тем не менее Кристич решилась на это.
С той поры она не раз передавала через Роденюка в отряд бинты и медикаменты, но Беркут сумел повидаться с ней только четырежды. Четыре вечера – вот все, что было отпущено им судьбой. Увидеться с ней в пятый раз помешало ранение. А ведь за день до этого идиотского случая он договорился с Долватом (в лагере все знали, что Долват взялся обучать Беркута верховой езде, но никто не догадывался, что обучение это уже дважды проходило в ночных скачках к Квасному) провести еще одни «кавалерийские маневры».
В Квасном, как и во всем районе, администрация была румынской, не признававшая немецкую строгость оккупационного режима; может быть, поэтому ни у старосты, ни у местных полицаев само появление Ольги Подолянской и тем более – документы ее особых вопросов поначалу не вызвали. Однако не прошло и трех месяцев, как Мария поняла, что ее в чем-то подозревают и что началась слежка. Она сразу же передала через старика-связного записку, в которой попросилась в лес, но Громов снова, уже в который раз, решил не связывать ее судьбу с отрядом.
Все время Андрей жил в предчувствии беды, предчувствии последнего боя, и ему казалось, что, позволив Марии прийти в отряд, он снова заставит ее смертельно рисковать. Лейтенант все еще не мог простить себе, что вовремя не вывел Марию из дота. Но теперь он твердо сказал себе, что, если не погибнет в завтрашнем бою, обязательно разыщет ее и приведет в лес. А что, если это и есть тот единственный способ спасти Кристич, сберечь ее, помочь ей дождаться прихода наших войск?
– Товарищ командир, отряд построен, – почти по-армейски доложил Отаманчук.
Громов с сожалением посмотрел на исписанный лист бумаги. Как много он хотел сказать в этом письме Марии! А какими скупыми получились написанные им строчки… Но даже этими скупыми заскорузлыми фразами закончить письмо он все же не успел.
– Понял, командир, – попятился к выходу комиссар. – Минут десять у нас еще найдется. Я сам поговорю с бойцами.
40
Когда дежуривший у телефона роттенфюрер вышел из башни, он увидел, что Штубер сидит на камне лицом к стене и, обхватив голову руками, бездумно всматривается в почерневшие камни.
– Господин гауптштурмфюрер!..
– Пшел вон!
– Вас просит к телефону господин Ранке, – все же решился доложить роттенфюрер.
«Ранке?! – сразу же насторожился Штубер. – Если Ранке, это уже любопытно…»
После того как две недели назад партизаны наполовину уничтожили, наполовину развеяли по лесу второй подсадной отряд, Ранке ни разу не позвонил ему. И вообще о Штубере словно забыли. Казалось, он уже никому не нужен был ни в абвере, ни в гестапо, ни даже в сигуранце.
Вот уже две недели, подчиняясь неизвестно кем организованному заговору молчания, никто не передавал в крепость сводок чрезвычайных происшествий в районе, никто не обращался к нему за помощью. Он просто-напросто перестал кого-либо интересовать. Точно так же, как самого Штубера перестали интересовать чудом уцелевшие пятнадцать «рыцарей», которые еще числились в составе его группы. Предоставленные самим себе, они слонялись по крепости, не решаясь без крайней нужды выходить за ее ворота и не подчиняясь даже ускользнувшему от партизан фельдфебелю Зебольду, которого еще недавно побаивались пуще самого Штубера.
Подходить к телефону ему не хотелось. Однако времена, когда он мог послать подполковника к черту, видимо, прошли.
– Поступил приказ из Берлина, – начал Ранке без какого-либо вступления. – Вам предписано отбыть в Краков. Очевидно, для объяснений.
– Там указано, что именно для объяснений?
– Или для вручения Железного креста. За особые заслуги в борьбе с партизанами. Я обстоятельно ответил на ваш вопрос, гауптштурмфюрер?
«Паскуда! – выругался про себя Штубер. – Как он смеет?! Впрочем… Неужели действительно… для объяснений?»
– Что в таком случае будет с группой, господин подполковник?
– А что, разве она еще существует?
– Пока существует хотя бы один ее солдат.
– Теоретически – да.
– Но приказа о ее ликвидации не было. Мы пополнимся людьми, подучим их… – уже по-настоящему занервничал Штубер. Он понимал, что в ситуации, которая сложилась вокруг его группы, многое будет зависеть от мнения о ней шефов местного абвера и гестапо. – Иначе вам придется остаться наедине с партизанами, имея под рукой только продажных полицаев да случайно подвернувшихся тыловиков.
– А меня не покидает ощущение, что именно полицаями да тыловиками мы все это время и обладали – судя по эффективности подавления партизанского движения. Впрочем, если на то будет воля командования…
Эту последнюю фразу о воле командования Штубер сразу же воспринял как своеобразный жест примирения. Обострять отношения с подполковником как раз сейчас, когда похвастать ему действительно нечем, Штуберу не хотелось. Не время.
И гауптштурмфюрер оказался прав: паузу Ранке использовал для того, чтобы разрядить обстановку и сменить тон. Несмотря на неудачи Штубера, у него все еще были основания опасаться этого человека. Особенно теперь, когда командира группы «Рыцари Черного леса» вызывали в столицу. Как-никак, отец Вилли принадлежал к когорте старого великопрусского генералитета.
– Но есть выход, – неожиданно проговорил он.
– Что вы имеете в виду?
– Лишь уважая ваше мужество, гауптштурмфюрер, даю вам последний шанс для того, чтобы хоть как-то поднять свой авторитет. – Штубер раздраженно посопел в трубку, однако возразить ему было нечего. – Только что меня уведомили, что в лесу, в районе скалистого плато Чертовы камни, окружена группа партизан. Командир батальона передал по рации, что полицаи узнали среди них вашего давнего знакомого – Беркута. Конечно, теперь с ним вполне могут справиться и без вас. Но с моей стороны было бы неблагородно не дать вам возможности пленить главаря партизан и доставить его в гестапо. Лично… доставить в гестапо.
– Действительно благородно, – оскорбленно признал Штубер.
– Что бы потом ни говорили о ваших способностях как командира группы особого назначения, никто уже не посмеет не считаться с этим фактом.
Ранке вновь красноречиво помолчал, давая Штуберу возможность оценить степень его рыцарства. И Штубер скрепя сердце оценил его. В конце концов, Ранке мог и сам выехать в лес, живым или мертвым доставить Беркута в город. И предстать героем.
– Пять минут вам, гауптштурмфюрер, на то, чтобы вы собрали жалкие остатки своего воинства и отбыли в лес. Я приказал командиру батальона не торопиться. Но учтите: брать Беркута придется живым. Можете считать, что я загорелся той же страстью общения с бывшими командирами-комиссарами, что и вы, – раздался в трубке туберкулезный смешок начальника отделения абвера. – Надеюсь, потом, когда все грозы над вашей головой отшумят, вы вспомните и о том, что где-то в Подольске прозябает ваш спаситель подполковник Ранке, – вдруг совершенно иным, рассудительным голосом закончил подполковник, и, не прощаясь, повесил трубку.
Никогда еще в своей жизни Штубер не испытывал большего унижения, чем при разговоре с этим паршивым абверовцем. У него вдруг появилось дикое желание выхватить пистолет и разрядить его прямо в телефонный аппарат. Штубер даже инстинктивно потянулся к кобуре, но вместо этого холодно приказал:
– Роттенфюрер, поднять группу! Обе машины – к воротам! В крепости остается один часовой. Остальные – в машины!
Живым он им Беркута, конечно, не привезет. Там же, в лесу, прикажет снять с него шкуру. И приказ будет выполнен. Уезжая отсюда, он увезет скальп этого варвара и повесит его на воротах своего родового замка.
– Вас не гложет предчувствие, мой фельдфебель? – спросил он, подходя к кабине своей фюрер-пропаганд-машинен.
– Они уже давно перестали посещать меня, господин гауптштурмфюрер, – мрачно ответил Зебольд, готовясь втиснуться в кабину грузовика. – Последнее предчувствие появилось у меня в тот день, когда вы представили меня к присвоению офицерского звания.
Это была дешевая месть. Зебольд понимал: не гауптштурмфюрер виновен в том, что это его представление затерялось где-то в лабиринтах военного ведомства.
– Не пытайтесь испортить мне настроение, мой фельдфебель.
– Через час партизаны испортят его нам обоим.
Однако последнее предчувствие у Штубера появилось намного раньше – как только он заметил в перелеске спешащих куда-то немецкого офицера и двух полицаев. А сомнение в правдивости этого предчувствия навсегда развеял взрыв гранаты.
41
Прямо перед крепостной стеной гряды, за которой залегли Андрей Громов и четверо его бойцов, горел столетний исполинский дуб. Он стоял в низине, и его могучая крона с ветвями, похожими на оленьи рога, возвышалась над грядой, вбирая в себя осколки мин и гранат и прикрывая позиции партизан дымовой завесой. Так уж получилось, что дереву пришлось вместе с ними сражаться и вместе с ними погибать. Вот почему лейтенант время от времени поглядывал на него с благодарностью человека, которому вовремя пришли на помощь.
«Ничего, может, и в этот раз нам повезет, – молвил он про себя, пытаясь успокоить неожиданно выстреливший пучком пламени и искр дуб. – Во всяком случае мы еще дадим им бой. А значит, по-солдатски…»
– Колар! – негромко позвал Андрей бойца, который лежал крайним, за уступом скалы-«башни». – Почему затихли те трое, что остались у ручья? Они живы?
– Немцы забросали их гранатами, – ответил Колар после небольшой паузы. – Больше я не слышал оттуда ни одного выстрела.
– Нужно отходить, командир, – почти прошептал залегший рядом с Беркутом Вознюк. Он был ранен в левое плечо, но продолжал отбивать атаки вместе со всеми. – Позади нас пещера. Отойти бы туда, пока фашисты не пронюхали о ней.
– Еще светло. По скале не пройдем – снимут. Вон, снова зашевелились. Отобьем атаку, тогда уж…
Между тем Беркут отлично понимал, что в пещере они тоже долго не усидят, любая пещера – это ловушка. А здесь, на каменистом взгорье, все же есть хоть какой-то шанс вырваться из кольца – только бы поскорее стемнело. Вот почему он все оттягивал и оттягивал время отхода.
Пламя на дубе то угасало, то разгоралось с новой силой. Те, что залегли внизу, за камнями, тоже наблюдали за его «самосожжением» и почему-то не спешили с атакой, даже прекратили стрельбу. Возможно, решили, что в сумерках выбить этих, последних, партизан будет значительно легче.
Беркут прислушался. Еще час назад со стороны болота доносилась жиденькая стрельба – очевидно, там держал оборону небольшой партизанский заслон или просто осталось несколько раненых, не пожелавших обременять своих товарищей. Но теперь и там все затихло. Эта тишина в какой-то степени успокаивала Андрея: значит, замысел его удался, оба отряда вышли за кольцо карателей. Фашисты спохватились слишком поздно. Он видел, как немецкие офицеры лихорадочно отводили своих солдат в сторону болота, пытаясь догнать основные силы партизан, а группу Беркута милостиво оставляли на попечение взвода румын и двух десятков полицаев. Но, оставшись без присмотра немцев, которые пять раз гоняли их в атаку в первых рядах, румыны и полицаи сразу сбавили прыть и провели всего одну атаку, да и то вялую, предпочитая постреливать из-за камней.
– Эй, Беркут, сдавайся! Ты свое отвоевал!
– Дай винтовку, – попросил Андрей Вознюка, откладывая свой автомат.
Этого прятавшегося за камнем рослого рыжеволосого полицая он пытался достать уже трижды. Заметил его Громов еще во время второй атаки. Рыжий вырвался тогда вперед, приближался перебежками, смело, расчетливо, и Громов стрелял по нему, как в кошмарном сне: когда стреляешь-стреляешь, а неуязвимый враг все ближе и ближе. Теперь полицай лежит метрах в двадцати от стены, улавливая каждое неосторожное движение партизан, и, подначивая их, время от времени предлагает сдаваться. Однако к Беркуту он обращался впервые. Неужели узнал его? Неужели понял, что командир отряда здесь, среди оставшихся? Может быть, потому они так и осторожничают, что хотят вернуться с ценным трофеем. А возможно, поджидают и давнего знакомого, Штубера.
«Да, похоже, что в этот раз от судьбы не уйти, – тоскливо заныло под сердцем. – Ну что ж, война есть война».
Он выстрелил дважды, и дважды пуля, взвизгнув, отскакивала от мощного валуна, запутываясь где-то в кроне росшей неподалеку сосны.
– Успокоился?! – послышался насмешливый голос рыжего. – Или еще постреляешь?! Выходи, подобру говорят!
«Ачто, эта сволочь – с характером! – помотал головой Громов, отдавая винтовку Вознюку. – Придется подождать, когда попрет напропалую. Уж тогда я тебя, красавец, вниманием не обойду».
– Не стрелять! – негромко приказал он, подтягивая к себе ручной пулемет, в котором уже не осталось и половины ленты. – Беречь патроны. Гранаты еще есть?
– Есть. Одна, – ответил Колар.
– И у меня одна, – отозвался седобородый старик, единственный пробившийся к ним из тех, кого командир соседнего отряда Роднин оставил прикрывать свой лагерь. Во тремя первой атаки этот старик залег у края стены, на каменной тропе, и почти не высовывался. Но теперь осмелел. Громов сам видел, как он снайперски снял двух немцев, когда те отходили к зарослям ольховника.
– Береги ее, отец, – посоветовал ему Андрей. – Патроны тоже. Стреляй только наверняка.
– Еще ты меня поучи, как воевать, – проворчал в ответ седобородый. – Довоевались вон – плюнуть по-человечески не дают, не говоря уже о всякой другой надобности.
Громов ухмыльнулся, перевернулся на спину, и в ту же минуту пуля счесала выступ камня, порезав его щеку острой зернистой крошкой.
Сдерживая боль, Громов, не поворачиваясь, скосил глаза на то место, где она прошла. Два-три сантиметра от виска!
«Впрочем, какая разница, – отрешенно подумал он. – Минутой раньше, минутой позже. Видно, я действительно отвоевал свое – чего уж там…»
– Федор, – позвал Литвака. Тот не лежал под стеной, как остальные, а почему-то втиснулся в расщелину хребта по другую сторону тропинки. – Ты смог бы подняться по этой вмятине на гряду?
– Смог бы, – не задумываясь ответил тот. – Уже прикинул.
– Что же не поднялся? – перебежал к нему Громов.
– Приказа не было.
– Приказа! – удивленно хмыкнул Громов, внимательно оглядывая путь, по которому Литваку предстояло взбираться. А ведь этим змеиным лазом действительно можно вскарабкаться на перевал, пока полицаи не попытались еще раз оседлать его. Двое немцев уже сумели взобраться на него с другой стороны, но Колар скосил их автоматной очередью. Теперь шмайсер одного из них завис на кустике как раз над этим лазом.
– Так ведь решили бы, что струсил. Струсил и бросил вас. Помните, как мы встретились?
– И мысли не допускаю, что ты мог бы бросить меня в бою. А то, что произошло там, в лесу, в сорок первом… Так зачем старое ворошить?
– А все же вспомнилось, – еще глубже втиснулся между камнями Литвак. – Но мне кажется, что и на этот раз вы что-нибудь да придумаете. Вы – везучий, это все знают. Только бы не погибнуть в перестрелке… Особенно вам. Я за вас очень…
– Прекратить! «За вас, за нас…». Идет бой, думай о бое.
– И все-таки спасибо, что вы меня, полицая, тогда… по-человечески. Мало мне приходилось видеть за войну, чтобы по-человечески… Все больше на жестокости, озлобленности. Сильного понимают все. А ты сумей понять слабого. Слабого-то понять трудно. А простить еще труднее.
– Так ведь и сама война – не для слабых.
– Она – ни для кого.
42
Прошло около часа. Румыны и полицаи еще раз попытались атаковать партизан, но снова откатились со склона, оставив пять-шесть человек убитыми. Тем временем густой фиолетово-серый туман постепенно сливался с лиловочерными лесными сумерками, все надежнее укрывая партизан в их случайной крепости, и Беркут понимал, что медлить больше нельзя.
Первым пошел наверх Литвак. Ветер повернул дым от догорающего дерева на расщелину, заслонив ее от глаз осаждающих. Однако подняться по ней оказалось не так-то просто. Литвак дважды взбирался до самого карниза, за которым начиналась вершина, и дважды срывался, сползая по осыпи вниз.
В третий раз, приказав Вознюку и Колару прикрыть их, Беркут начал подниматься вслед за Федором. И только упершись уже у карниза в плечи Беркута, Литвак сумел наконец выбраться на вершину и залечь там.
– Что наблюдаешь? – сразу же поинтересовался Андрей.
– Небольшая площадка, убитый немец… Другой внизу, в ущелье.
– Хорошо. Сбрось автомат и патроны.
– Зачем? Поднимайтесь сюда, я помогу. Поднимайтесь, лейтенант.
– Потом, Литвак, потом. Сбрасывай автомат. Колар! – негромко позвал он. – Слышишь, Колар?
– Колар убит, – ответил Вознюк.
– Как убит?! О, черт! Ну что ж… Тогда ты, Вознюк. Наверх. Быстро!
Однако осаждавшие уже поняли, что происходит, и открыли огонь. Чтобы не оказаться под градом пуль, Беркут немедленно спустился, буквально свалился вниз.
Но как только вновь поднялся на ноги, прогремел выстрел, и подбежавший к нему Вознюк, цепляясь руками за каменную стену, начал оседать на тропу. Еще не понимая, откуда стреляли, Беркут затравленно осмотрелся и в ту же минуту услышал испуганный голос Литвака:
– Ложись!
И снова выстрел.
Только теперь Андрей заметил в трех шагах от себя, в распадке между камнями, плотную фигуру в короткой шинели.
«Рыжий! – скорее догадался, чем рассмотрел его Беркут. – Дополз-таки!»
Как оказалось, вторым выстрелом Литвак ранил полицая в руку. Тот выронил карабин, схватился за рану и все же разъяренно ринулся на Громова, пытаясь таранить его ударом головы.
Уже понимая, что к автомату ему не успеть, Андрей кулаком левой дотянулся до головы полицая, но рыжий сумел устоять и, не разгибаясь, выхватить из-за голенища нож. Лейтенант едва уклонился от удара, зато, проскальзывая под раненой рукой рыжего, успел сильно толкнуть его плечом в бок.
– Партизаны из болота ушли? – спросил он очумевшего полицая, уже навалившись на него. – Я спрашиваю: партизаны ушли?!
– Ушли, ушли! – понял наконец рыжий, чего от него хотят. – Но только недалеко! Все равно вам хана! Всем!
Просвистев прямо над головой, прошила занавес тумана еще одна пуля. Беркут резко оглянулся и увидел, что в метре от него оседает на землю другой полицай.
В то же мгновение, воспользовавшись тем, что лейтенант отвлекся, рыжий с силой оттолкнулся ногой от каменного выступа и сбросил его с себя. Однако подняться с земли ему не дал все тот же седобородый партизан, который только что успокоил подкравшегося сзади полицая. С силой опущенный приклад карабина буквально размозжил ему голову.
– Спасибо, старик, спасибо, родной, – пробормотал Беркут, подхватывая свой автомат. – Это вовремя. Что-то устал я в последние дни.
– Какой я тебе старик? – беззубо прошамкал седобородый, толкая его впереди себя в расщелину. – Мне всего-то сорок четыре года.
– Ну?! – изумленно уставился на него Андрей.
Несколько полицаев перебежками отошли за дальние валуны. Ни Беркут, ни сорокачетырехлетний старик не сделали им вслед ни единого выстрела.
– Вот так, браток, – продолжил старик, когда полицаи успокоились. – Расстреляли меня фашисты этой весной.
– Расстреляли?
Оба прислушались. Нет, кажется, несколько минут отдыха им все же подарят. Осаждавшие так и не поняли, что партизан осталось только трое, и все еще не решались штурмовать их горную крепость.
– …Вместе с двадцатью другими расстреляли. Ты никогда не видел мертвеца, выползшего из могилы? – вдруг улыбнулся он, приближая свое лицо к лицу лейтенанта и обнажая беззубые изувеченные десны. – Можешь полюбоваться. А заодно спроси, почему я не сошел с ума.
Справа и слева от них одна за другой разорвались гранаты. Осколки зловещим градом осыпали края расщелины, посекли прикрывавший их валун и вызвали целый камнепад по обе стороны пристанища.
– Сейчас они снова полезут, – еле сдерживал все время душивший его кашель седобородый. – И тогда – все.
– Поднимайся наверх. Я прикрою. Станешь мне на плечи.
– Что, даришь жизнь? – снова беззубо осклабился седобородый. – Не откажусь. Однажды побывавший в могиле больше туда не попросится.
– Брось свои дурацкие пророчества. Литвак! – негромко позвал он, всматриваясь в вершину перевала. – Ты слышишь меня?! Литвак!
Ответа не было.
– Неужели ушел? – удивленно посмотрел Громов на седобородого.
– Мог и драпануть, дело такое.
– Не мог он драпануть. Этот не мог. Литвак!
Оттуда, сверху, сначала послышался какой-то странный вскрик, а потом донеслось едва слышимое:
– Здесь. Ранен я.
– Как же тебя, Литвак? Когда? – занервничал Беркут. – А ну быстро наверх! – приказал он седобородому. – Перевяжешь его. Пошел! Я – за тобой.
Но седобородый оказался слишком слабым для такого подъема. Дважды он взбирался на плечи Беркуту, дважды, сдерживая лютую боль в раненой ноге, Андрей, упираясь в каменные выступы расщелины, поднимался вместе с ним во весь рост. Однако преодолеть выступ, на который сумел взобраться Литвак, седобородый так и не смог. А когда, зарычав от ярости, Андрей принял его на плечи в третий раз, протатакала очередь из автомата и, жалобно вскрикнув, старик полетел вниз, увлекая за собой и Андрея.
43
Придя в себя, Беркут затравленно оглянулся. Странно: рядом – никого. Судьба дарила ему еще несколько минут для того, чтобы приготовиться к бою. Попытался встать, но, едва приподнявшись, тотчас же осел.
«Рана открылась, – понял он, ощутив на икре ноги теплую струйку крови. – А может, еще раз ранили? Надо бы перевязать, но нечем. Да и стоит ли тратить на это время?..»
Однако сколько бы ни осталось ему жить, драться он должен до конца. Это Андрей понимал. И понимал, что лучшего места для последнего боя, чем то, где лежит Колар – за выступом, под скалой, – ему не найти. Когда окончательно стемнеет, по склону этой скалы можно будет взобраться на гряду. Если, конечно, он еще окажется в состоянии сделать это.
Андрей осознавал, что жить ему осталось недолго. Тем не менее инстинкт бойца заставлял его готовиться к этому бою, исходя из всего приобретенного им за годы войны опыта: позиция, оружие, боеприпасы, путь к отступлению… И что из того, что он остался один? Наука воевать – это наука воевать. Пусть даже в одиночку.
Беркут нашел между камнями свой автомат и быстро проверил его. Порядок. Рядом обнаружил карабин седобородого, потом еще один, очевидно, принадлежавший Вознюку. Так, собирая оружие и патроны, он и подполз к тому месту, где ему надлежало занять свою последнюю позицию.
– Эй, партизаны, сдавайтесь! – кричали снизу, стреляя залпами и в одиночку. Но лейтенант старался не обращать на это внимания.
Не поднимаясь, чтобы не попасть под случайную пулю, он еще раз вернулся к тому месту, где лежал седобородый, подобрал сброшенный Литваком автомат фашиста, достал из карманов старика две запасные обоймы и гранату. Говорил ему о гранате и Колар, однако теперь уже Андрей не мог вспомнить, метнул он ее или не успел.
Перенеся к скале пулемет, он оттащил тело Колара, а то место, где оно только что лежало, завалил камнями, перегородив тропинку небольшой баррикадой. А потом еще долго собирал камни и старательно выкладывал из них некое подобие бойниц. Особой нужды в них не было. Просто он должен был чем-то отвлекать себя от леденящего ожидания смерти. Как он ни храбрился, оставаться одному против полуроты врагов было жутковато. Это уже не война, а нечто похожее на охоту с гончими, когда трофей загнан в западню.
Интересно, где сейчас Крамарчук со своими ребятами? Неужели все погибли? Если бы Николай был в лесу, он, конечно же, разыскал бы его. А как было бы здорово, если бы сержант с ребятами вдруг появился здесь, ударил с тыла! Бред, конечно. Откуда ему взяться? Впрочем, пусть будет где угодно, только бы не погиб. Последний боец его дота! Последний. Сержант Крамарчук. Младший сержант Газарян, Абдулаев, Каравайный, Петрунь… Сколько раз он вспоминал их, ребят из дота «Беркут»! Какие это были хлопцы! Не уберег. Не у-бе-рег… Да и возможно ли было уберечь их? Остался лишь Крамарчук. Да еще Мария… Конечно, и Мария. Почему он не считает ее бойцом?
Полицаи и румыны все еще не поняли, что он один, и не заметили, где залег, поэтому какое-то время обстреливали всю террасу. Однако в самый разгар стрельба неожиданно прекратилась. Андрей открыл глаза, насторожился, прислушался. Неужели действительно Крамарчук?! Там, внизу, какая-то суета, голоса… Но это не похоже на появление в тылу врага партизан.
Он подполз к каменному барьеру и, приподнявшись на руках, осторожно заглянул вниз. Немцы! Громов услышал тарахтенье мотоциклов, отрывистые слова команд, а еще через несколько минут увидел выходившую из леса едва различимую цепь. «Странно, – подумал он, – обычно к вечеру немцы вообще старались убраться из леса. Почему вдруг так осмелели? Если снова появились немцы – дело дрянь. С полицаями еще можно было немного повоевать. Те под пули не спешат».
Беркут проверил пулемет, поправил ленту, выложил на камни рядом с собой две гранаты, три автомата, винтовку, запасные обоймы, воткнул в каменистую сыпь финку рыжего. Еще вспомнил о пистолете. Достал из кобуры. Всего два патрона. Зато свой, родной, комвзводовский. Хранил. Хотелось предстать перед своими с личным, не брошенным в бою… Поцеловал влажную сталь. Засунул за ремень. Оттуда выхватывать легче, чем из кобуры. Если уж суждено – пусть последний патрон тоже достанется ему из своего.
…Проклятая рана. Он чувствовал, как все еще сочится из нее и остывает кровь, как угрожающе немеет нога. Беркут лег на спину, уложил ногу на валун и, отрезав от сорочки кусок ткани, кое-как перевязал рану. Теперь бы несколько минут абсолютного покоя.
Прийти ему на помощь Крамарчук уже не сможет. Отряды Роднина и Иванюка тоже далеко, и вернуться сюда этой ночью они не решатся. Значит, ничто уже не спасет его сейчас – раненого, обессилевшего, беспомощного… Какой уж тут к черту покой?!
– Литвак! – негромко позвал он, вспомнив, что где-то там, на вершине, все еще лежит его раненый боец. – Литвак!
Наверное, нужно было крикнуть погромче, однако он боялся выдать себя. Да и Литвак, если бы он еще был жив, очевидно, дал бы знать о себе. Хотя бы выстрелом.
Громов положил автомат на колени и привалился спиной к влажному камню, с которого начиналась тропинка, ведущая наверх. Он вдруг почувствовал себя жалким и ничтожным. Никогда еще так явственно и так остро не ощущал он страха перед смертью. Жалость к себе… Слезы на щеках. Все это и есть страх. Мерзкий, постыдный и в то же время обычный, человеческий… Сколько раз он морально готовился к тому, чтобы достойно встретить свой смертный час! Сколько раз призывал к этому других! Но, оказалось, к стоическому, спартанскому восприятию смерти так и не готов.
– Рус, Беркут, сдавайся!
«Нет, это не его голос, не Штубера, – первое, что подумал Громов, услышав крик немецкого офицера. – Не появился. Не снизошел».
– Мы даваль тебе десять минут на размышлений! Потом страшный смерть!
– Эй, гнида партизанская! Все равно тебе капут!
– Что вы разорались, сволочи? – зло проворчал Громов, чувствуя, как на смену страху постепенно приходит холодная, рассудительная злость солдата, которому еще предстоит дать бой, пусть даже последний, и который еще способен на это. – Что вы… как воронье над могилой? Я нужен вам живым? Так идите… Вот я. Весь тут, перед вами…
В ложбине, чуть правее его укрытия, скопилось человек двенадцать. Именно оттуда кричал и немецкий офицер.
Беркут прикинул расстояние, выдернул чеку, отсчитал ровно столько, чтобы при броске граната взорвалась в воздухе (тогда поражаемость осколками увеличивается вдвое – это он помнил), и, опершись левой рукой о камень, метнул ее.
«А дальше бой покажет», – сказал он себе, переждав взрыв и берясь за пулемет. «Во спасение души, – вспомнилась любимая присказка Крамарчука. – Во спасение души, сержант, и все вы, остающиеся… Довоюйте за меня, кому это суждено…»
44
Отбив последней пулеметной лентой атаку немцев и расшвыряв гранатой прорвавшихся к уступу полицаев, Громов устремился по неглубокой расщелине наверх – к скалистой гряде лесного подольского плато, с которого начинались Медоборы[5].
Прорваться! Во что бы то ни стало прорваться к гребню, за которым должна быть долина с пещерой!.. За которым должно быть спасение… Тем более что карателей, оказавшихся на гряде в начале боя, они смели. Другое дело, что, возможно, немцы уже оцепили все плато. Тогда действительно придется туго. Однако на кряже они больше не показывались, а значит, все еще есть надежда…
Впрочем, иного пути у него все равно нет. Только к вершине этой странной, похожей на развалины крепости, гряды, только к вершине…
Все способствовало ему сейчас: сгущающиеся, замешанные на голубом лесном тумане сумерки, дым догорающего дуба, клубы которого проплывали как раз над расщелиной… А главное – там, наверху, неожиданно ожил автомат. Всего три короткие очереди по два-три патрона. Но они отстучали именно тогда, когда рассеянные по каменистой ложбине полицаи и немцы снова попытались подняться в атаку, и заставили врага замешкаться в попытке выяснить, кто стреляет, откуда взялось это неожиданное подкрепление? Неужели Беркут сам успел оказаться на вершине? Но каким образом? Единственную петляющую по уступу звериную тропу они видят и контролируют.
– Литвак, слышь, Литвак? Продержись еще несколько минут. – Автомат умолк так же неожиданно, как и заговорил, но, взбираясь наверх, Громов еще долго звал и подбадривал своего бойца. – Продержись, Федор. Я сейчас, продержись…
Он уже был на полпути к вершине, когда с гребня вдруг донесся крик-стон раненого человека, а вслед за ним – выстрел.
…И крики, теперь уже оттуда, снизу, на русском и немецком…
«Неужели немцы?! Нашли тропу, взошли на вершину и добили Литвака? Раненого?..»
Чем выше он вскарабкивался, тем легче становился подъем, потому что расщелина постепенно переходила в пологую ложбинку, и лишь у самого гребня ему еще придется преодолеть небольшой, едва выделяющийся карниз. Но он его преодолеет. Он возьмет этот дьявольский выступ, если только кто-нибудь из полицаев не снимет его винтовочным выстрелом. Ибо там, у этого проклятого карниза, он на какое-то время откроется им. Непременно откроется. Ах да… Что это за выстрелы? Там, наверху?
Громов хорошо запомнил, что крик прозвучал чуть раньше выстрела. Сначала резкий, отчаянный крик человека, увидевшего перед собой собственную смерть, а уж потом – винтовочный выстрел. Но горное эхо свело их вместе и, многократно усилив, понесло над горным плато, над Медоборами, над вершинами сосен.
Первым желанием Громова было броситься вперед, под защиту карниза, но он чуточку замешкался и выиграл именно ту минуту, которая понадобилась стрелявшему полицаю, чтобы ступить на боковую площадку, куда выходила тропинка. Видимо, полицай был уверен, что оттуда он сможет взять Беркута на прицел, отрезав ему последний путь к отступлению. Но просчитался. А еще эта минута позволила Андрею уловить присутствие на вершине другого человека. Поэтому, скосив очередью того, что появился на площадке, лейтенант сразу же бросился к карнизу, залег под ним, замер.
На какое-то время замер и тот, на вершине. Но потом начал осторожно подползать к кромке перевала. Ближе, ближе… Сорвался камешек… Струйка песка… Наконец прямо над головой лейтенанта осторожно выдвинулся ствол винтовки. Громов выждал еще несколько секунд, а как только ствол начал опускаться вниз, захватил его левой рукой, рванул на себя и, подпрыгнув, вцепился правой в волосы на затылке полицая.
Какое-то время полицай еще упирался, еще удерживался на вершине, но, отпустив ствол, Громов освободившейся левой вцепился ему в плечо и еще раз рванул с такой силой, что полицай обрушился на него и, больно ударив сапогами в грудь, слетел на выступ, находившийся чуть ниже того места, где стоял Андрей. Однако закрепиться там Громов ему не дал. Стоило полицаю чуть приподнять голову, как он коротким резким ударом ноги в горло сбил его оттуда в овраг.
Помня, что на гребне свои, каратели прекратили огонь, а увидев падающего человека, не сразу поняли, что там, у вершины, произошло. Этой заминкой они и подарили Громову еще несколько минут. Взобравшись на гребень, он прежде всего подполз к Литваку. Тот лежал на спине. Руки его были прижаты к груди, и лейтенант сразу обратил внимание, что правая ладонь его прострелена. Очевидно, в последнее мгновение он прикрылся ею от пули.
«И умер по-детски, – почему-то подумал Громов, подбирая автомат Федора. – Однажды я спас его от смерти, к которой сам же и приговорил его. Тогда это было в моих силах. Второй раз спасти не сумел. Не хватило нескольких минут. Жаль парня».
Громов понимал, что он тоже сейчас на волоске от смерти. Но старался не нервничать, не суетиться. В критические минуты боя он умел как бы замедлить ход своих рассуждений, добиваясь той четкости и логичности, на которые способен только очень опытный хладнокровный фронтовой офицер.
* * *
Тропинка обрывалась на крутом уступе. Дальше серела размытая ливнями осыпь, ведущая в замкнутую, увенчанную каменистыми холмами долину. Спустившись в нее, Громов увидел слева от себя поросший кустарником овраг, в конце которого открывалось болото, а справа, в тупике между двумя скалами, чернела пещера – очевидно, та самая, о которой ему говорил партизан-проводник из отряда Иванюка.
Немного поколебавшись, Андрей в конце концов не решился свернуть ни к одному из этих спасительных прибежищ, хорошо понимая, что пещеру немцы и полицаи сразу же блокируют, а болото прочешут. Да и неизвестно, далеко ли по нему уйдешь.
Забросив оба автомата – свой и Литвака – за спину, Громов по крутому, но помеченному многими уступами-шипами склону взобрался на седловину недалеко от пещеры, пробежал ее, однако на гребне вынужден был залечь. Там, в долине, уже были немцы. Громов попытался пересчитать их: около двадцати. Растянувшись цепочкой, они осматривали ущелье – выискивали путь, по которому можно было преодолеть крутой, местами почти отвесный, склон возникшей перед ними каменной чаши. Понимая, что здесь не прорваться, лейтенант отполз назад, к стене, по которой только что взобрался, но по ту сторону чаши, на седловине, тоже увидел фигуры преследователей.
«А ведь пещера давала хоть какой-то шанс, – со щемящей тоской подумал он, понимая, что через несколько минут снова придется принимать бой. – Призрачный, но шанс… На мучительную смерть от голода и жажды?» – скептически добавил он, пробираясь по каменистой ложбине в сторону болота.
Пробуя спуститься по нависшему над болотом склону, лейтенант сполз на несколько метров вниз и вдруг увидел, что дальше – отвесная скала, под которой в сумерках уже едва различалась испещренная болотными островками речушка.
«С такой высоты?.. Да это же верная смерть!»
Еще раз с тоской осмотрев ложе речушки, Громов начал медленно, осторожно вскарабкиваться назад и неожиданно чуть правее себя, под гребнем, увидел нагромождение огромных камней.
«Туда? – спросил он себя. – А что ты теряешь?»
Сорваться он уже не боялся. Смерть ждала его везде, она подкрадывалась к нему со всех сторон. Вот почему он рвался к этим камням с отчаянием обреченного. Да и заползти на скрытую от постороннего глаза полочку, образовавшуюся под огромным валуном и зависшую над карстовой пропастью-воронкой, тоже мог решиться только обреченный.
Громов слышал, как фашисты громко переговаривались в долине, как расстреливали кусты на склонах и как офицер заставлял солдат осматривать пещеру. Услышал он и отборный мат полицаев, рыскавших в ложбине, через которую только что пробирался к своему убежищу. Но когда двое преследователей оказались на склоне почти рядом с ним, лейтенант вдруг понял, что не может даже снять один из автоматов, ибо при малейшем неосторожном движении свалится в пропасть.
45
Лежать на каменном выступе в одной и той же позе было холодно, сыро и невыносимо трудно. Однако больше всего он боялся хоть на минутку уснуть. Одно неосторожное движение, и сон его закончился бы так, как не заканчивалось ни одно кошмарное видение. Впрочем, все, что ему пришлось пережить этой ночью, только с кошмарным сном и можно было сравнить.
Когда наконец наступил рассвет, немцы и полицаи снова осмотрели все плато. Громов слышал команды, слышал, как гитлеровцы окликали друг друга и как офицер загонял полицаев в пещеру, чтобы еще раз проверили, не засел ли где-то там партизан.
Вконец продрогший, в отсыревшей, прилипшей к телу гимнастерке, Громов уже даже не помышлял о том, чтобы согреться. Единственное, чего он сейчас хотел – так это достать один из заброшенных за спину автоматов. Полицаи были рядом. Какой-то колченогий детина даже спустился до той крутизны, у которой остановился вчера сам Андрей. И не заметил он Громова только потому, что, уже забравшись на эту полку, Андрей вымостил из каменного крошева небольшой вал, как бы замуровав себя со стороны спуска. Однако слева и снизу он оставался открытым, и с болота его довольно легко могли заметить.
Осторожно высунувшись из-за вала, Громов видел, что полицай внимательно присматривается к скале, и понял: он заметил выступ. Несколько минут полицай даже рассматривал его баррикаду, и все это время Громову казалось, что тот обнаружил его, но не решается ни подойти, ни выстрелить.
Ни один из автоматов снять лейтенанту так и не удалось. Они зацепились друг за друга и уперлись стволами в валун. К тому же Громов боялся насторожить полицая шумом или сорвавшимся из-под выступа камешком, даже вздохом он боялся выдать себя сейчас. Продержаться всю ночь, чтобы так глупо попасться в те минуты, когда каратели уже собрались уходить!
Как только полицейский убрался со склона, Громов, уже будучи не в состоянии больше выдерживать эту пытку, выполз из-под валуна и осторожно перебрался на его место. То ли полицай услышал, как он пробирался, то ли все еще не давали ему покоя валун и выступ под ним, но когда Андрей выглянул из своего укрытия, то с изумлением увидел, что каратель – приземистый мужик лет пятидесяти – стоит в десяти шагах от гребня в полуобороте к нему и смотрит прямо на него.
Теперь полицай уже не мог не заметить Громова. Они встретились взглядами. Глаза в глаза. И по мере того как, выдвигаясь из-за гребня, Громов приподнимался, полицай постепенно съеживался, однако не отходил, а как-то странно оседал, словно врастал в каменистую россыпь ложбины. Громову уже не раз приходилось видеть, как ведут себя несмелые перепуганные люди, когда на них вот так, медленно и неотвратимо, надвигается опасность. Но это был какой-то особый случай.
Винтовку полицай держал стволом вниз и вскинуть ее уже не успел бы. Да и не пытался. В эти минуты он просто забыл об оружии. Он забыл о нем, этот никогда толком не умевший обращаться с винтовкой сельский мужик, которого только страшная прихоть войны заставила взяться за оружие, чтобы потом, вооруженного и обмундированного, швырнуть в свои жернова. Да еще в такой жуткой ипостаси – полицая-предателя.
– Панащук! – донеслось до них с той стороны склона, где находилась пещера. – Эй, Панащук!
– Здесь я! – негромко откликнулся вместо оцепеневшего полицая Громов, уже поднявшись на гребень и целясь полицаю прямо в лицо. – Молчать, – прохрипел ему. – Понял меня? Молчать!
– Да я… – пробормотал полицай. – Я что?..
– Брось винтовку, – негромко приказал Андрей. – Разожми руку, идиот, брось винтовку.
И, так и не дождавшись, пока полицай сообразит, что ему делать, носком сапога несильно выбил ее из руки.
– Ваши уходят? Совсем уходят?
– Ага, совсем, – спустился на корточки полицай, испуганно закрывая лицо руками. Он тоже сделал это совсем по-детски. Точно так же, как принял смерть последний боец его группы Федор Литвак. Вот только одна ладонь Литвака уже была прострелена.
– А там их больше нет? – кивнул он влево, туда, где увидел вчера с десяток немцев, искавших тропинку.
– Тоже ушли. Н-не стреляй ты, ради Христа. Они ж тогда и тебя тоже…
– Ну да, обо мне позаботился! – ухмыльнулся Громов. – О Беркуте слышал?
– Слышал, – почти прошептал тот, усиленно тряся головой. И Громов вдруг уловил, что страх постепенно сменяется у него любопытством и удивлением. – Тебя же и ловят… Но я ж ничего. Я ж тебя не видел, и все тут…
– Эгей, Панащук, ты что, Беркута поймал?!
Громов кивнул.
– Поймал! Вот он!
– Тогда держи его покрепче! – расхохотался тот, звавший его. И все, кто спускался сейчас вместе с ним, тоже рассмеялись.
В это время Громов еле сдержался, чтобы не раскроить автоматом череп Панащука. Он даже мысленно проделал этот страшный удар. И точно так же, почти закрыв глаза, большим усилием воли сдержался, чтобы не нанести ему удар сапогом в висок – сколько раз он прибегал к этому приему в рукопашных, когда приходилось успокаивать таких вот несмелых, оробевших убийц! А сейчас почему-то…
– Закурить хочешь?
– Что? – прошептал Панащук, не веря тому, что услышал.
Левой рукой Громов достал из кармана гимнастерки измятую пачку немецких сигарет и ткнул их Панащуку.
– Воевал? В армии был? В Красной Армии?
– Один день… воевал. Утром призвали, а к вечеру немцы танками окружили. Посреди поля.
– А я офицер. И мы держались на Днестре, в дотах, сколько могли. Вот такая штука. Нам бы вместе с тобой немцев бить, а мы, на радость им, убиваем друг друга.
– Так ведь что ж теперь?..
– Вот именно. Иди, служи им дальше. Иди-иди, убивать не стану. Мог бы сделать это без выстрела.
– Знаю.
– Возле лагеря нашего побывал?
– Да, – ответил Панащук, уже поднявшись. Но поворачиваться спиной к Беркуту все еще не решался. – Никого там больше нет. И лагеря тоже. Только не моя в том вина.
– Не твоя, конечно. Ты – святой. – Лейтенант разрядил винтовку и отдал ее полицаю. – Ну да ладно… Неволить не стану. Но если захочешь, приходи через два дня к скале возле Залещиков. На вершине которой каменный крест. Знаешь, где. С оружием приходи. И снова станешь солдатом своей армии, а не побегушкой в этой вонючей полиции. Если, конечно, захочешь, если поймешь… А теперь топай. – Он уже ступил несколько шагов, когда Громов вдруг бросил ему вслед: – Эй, сигареты спрячь.
– Что? – Панащук остановился и медленно-медленно оглянулся на Громова.
– Сигареты спрячь. Не держи в руке.
– Дай тебе Бог, Беркут… Дай тебе Бог… Что не лютый, что по-человечески. А то ведь… – он встряхнул головой, и Громов понял: слезы. Если бы он увидел их чуть раньше, когда Панащук выпрашивал жизнь, он бы им не поверил. Наоборот, они бы его ожесточили. Полицейские слезы уже его не трогали. Но сейчас… Сейчас это были мужские слезы отчаявшегося человека. По крайней мере, так ему казалось.
Уже начав спускаться по склону, Панащук еще раз оглянулся на Беркута. Тот стоял, опустив автомат, и смотрел ему вслед. И даже когда полицай скрылся, Андрей не стал подстраховываться – уходить, прятаться, а устало присел на камень. Нет, это не безразличие к судьбе. Просто он хотел верить этому человеку до конца. Он хотел ему поверить.
Андрей присел на камень, взглянул на восходящее, но еще не согревшееся в собственных оранжево-синих лучах солнце и, обхватив голову руками, упершись локтями в колени, почти моментально уснул. Да, потом Громов сам не верил, что это могло произойти. Что такое вообще возможно. Однако он действительно уснул.
46
Третьи сутки Крамарчук блуждал по лесу, который казался ему погибельно бесконечным. Николаю просто не верилось, что где-то там, за этим напоенным влагой мрачным лесом, может и впрямь существовать село Гайдуковка и что в конце концов он добредет до него.
Уже дважды ему открывались долины, по склонам которых были разбросаны какие-то строения. Но каждый раз оказывалось, что это заброшенные хутора, частью дотла сожженные, частью разрушенные.
Рана на ноге была нетяжелой, однако боль становилась все нестерпимее, к тому же он смертельно устал, изголодался. А еще давала знать о себе бессонная ночь, которую он, заблудившись, провел, сидя под вербой на кочке посреди болота. Бессонная, изнурительная ночь… Он продрог до костей и, должно быть, окончательно простудился, потому что теперь его непрерывно знобило, хотя солнце пригревало так, что в пору было снимать гимнастерку.
Лес все еще оставался безлюдным. Последней, кого он встретил вчера утром, была старушка, собиравшая хворост. Крамарчук еле упросил выслушать его и постараться помочь. До этого Николаю трижды попадались в лесу какие-то невооруженные люди, но, завидев его, заросшего щетиной, со шмайсером в руке, в изодранной гимнастерке, перехваченной немецким офицерским ремнем с двумя пистолетными кобурами, они сразу же растворялись в лесной чаще. И всякий раз Крамарчук сперва звал их, потом, осознавая, что беглецов уже не вернуть, слал им вдогонку проклятия и даже стрелял в воздух, хотя отлично понимал, что поступают они вполне благоразумно. Старухе – той просто не хватило сил избежать встречи с ним.
Николай спросил, далеко ли Гайдуковка, и она сказала, что до нее километров двенадцать. Идти нужно лесом, полем, затем снова лесом. А чтобы не сбиться с пути, посоветовала километра два держаться вдоль ручья, а потом отыскать лесную дорогу. Крамарчуку захотелось хоть как-то отблагодарить женщину. Он сказал: «Спасибо, мамаша!» – порылся в карманах, надеясь найти оккупационные марки, но пришлось развести руками – ничего, кроме запасных обойм, у него там не было.
– Э, что ты шаришь по своим дырявым, – махнула рукой старуха. – Теперь, если человек не убил тебя и даже не угрожает убить, почитай его как святого. А ты по-хорошему спросил. Отвела бы к себе, в Куманевку. Так ведь там полно германцев. Да и свои, полицаи которые, тоже не помилуют.
Сейчас Николай вспоминал эту старушку, досадуя на себя, что и ручей давно потерял, и дороги не смог отыскать.
Вчера вечером он еще цеплялся за какую-то едва приметную тропинку, а теперь брел наугад, предчувствуя, что двенадцать километров, о которых говорила старуха, уже растянулись для него во все двадцать пять. Впрочем, когда-нибудь этот проклятый лес все же кончится. Должно же на его пути встретиться село, ну хоть хуторок какой-нибудь захудалый, хоть какая-то живая душа, пусть даже вражья…
Время от времени он останавливался и приваливался плечом к стволу дерева или повисал на низкой ветке, чтобы передохнуть. Сесть уже не решался – боялся, что не хватит сил подняться.
«Выбраться из стольких передряг, чтобы достаться на ужин отощавшему волку! Нет, это несправедливо! Вся война – сплошная несправедливость. Но это уже последняя грань…»
В одной из лесных долин Крамарчук набрел на небольшой ручеек, который сочился из родника, надежно спрятавшегося под плоской, позеленевшей от мха каменной глыбой. Утолил жажду и почувствовал, что дальше идти он уже не в состоянии: нужно хоть немного поспать. Забравшись в густой ельник, Николай устроил себе постель из еловых веток и лег на спину, положив рядом пистолет и прижав к груди пахнущий смазкой автомат. Сырые ветки приятно холодили пышащее жаром тело, а солнечные лучи, проникавшие сквозь крону молодой ели, теперь уже не обжигали его лицо, а казались теплыми и ласковыми. И птицы… Птицы пели сейчас только ему одному.
Давно пора было уснуть, но взбудораженная память услужливо возрождала эпизоды последнего боя.
* * *
Тогда их, разведчиков, еще было шестеро. И возвращались они в лагерь в радостном возбуждении: наконец-то засада, уже третья в течение недели, удалась. Они забросали гранатами выехавшие из крепости машины и потом несколько минут обстреливали покореженный транспорт из автоматов, пока на помощь троим уцелевшим немцам не подоспела охрана появившейся вблизи автоколонны. Судя по всему, двенадцать-тринадцать солдат, которые ехали в машине вслед за «фюрер-пропаганд-машинен» Штубера – это все, что оставалось от его группы. Так что теперь они могли спокойно доложить Беркуту, что спецкоманды «Рыцарей Черного леса» больше не существует.
За те трое суток, которые разведчики провели вне отряда, ночуя у одного из сельских подпольщиков, они узнали, что окрестные леса наводнены карателями, слышали, что оттуда днем и ночью доносилась стрельба, и даже видели, как в деревню въезжали машины с ранеными во время карательной экспедиции немцами и полицаями. Очевидно, и Штубер со своими головорезами направлялся на помощь карателям.
Да, все это они – Крамарчук, Мазовецкий и четверо других бойцов – знали. Однако знали и то, что это была не первая карательная экспедиция. И каждый раз всем трем партизанским отрядам удавалось прорваться из окружения или продержаться, пока потрепанные каратели не уберутся из леса восвояси.
Поэтому впервые по-настоящему встревожились лишь тогда, когда километрах в пяти от лагеря случайно наткнулись на умирающего Готванюка. Возможно, фашисты решили, что он погиб, как те двое бойцов, чьи тела так и остались лежать чуть дальше, на склоне оврага, а может, просто не заметили его в ложбинке под кроной поваленной буреломом ели… Партизаны услышали угасающий стон Готванюка, напоили водой и, когда он на несколько минут пришел в себя, успели спросить, что с отрядом.
– Мы прикрывали… – еле слышно пробормотал Готванюк. – Беркут отвлек… Стянул к себе… Чтобы «Мститель» и «Чапаевец»… ушли…
– А командир? Где командир?
– Погиб. Все погибли. В лагере… засада.
– Ты сам видел, как погиб Беркут? – допрашивался Крамарчук. – Скажи: ты это видел?!
– Где он погиб? Скажи, где он погиб? – принялся тормошить его и Мазовецкий, но не смог добиться больше ни слова. Так, на руках Мазовецкого, Готванюк и умер.
Помня о предостережении Федора, к лагерю они не пошли. Всех троих похоронили в братской могиле и до позднего вечера бродили по лесу, пытаясь найти хоть какие-то следы партизан. Но вместо них дважды натыкались на полицейские засады, и двое из группы уже были легко ранены. Ночь они провели в каком-то глубоком влажном овраге, не разводя огня, а на рассвете снова напоролись на фашистов и полицаев.
Отстреливаясь, группа начала отходить к каменистой гряде. Но фашистов оказалось около полусотни. Они озверело наседали. Чем выше, перебегая от валуна к валуну, от сосны к сосне, поднимались бойцы на гряду, тем гуще становился туман. В этом тумане Крамарчук и терял одного за другим своих товарищей – может быть, кто-то даже попал в руки фашистов… Самого Николая спасло только то, что, отстреливаясь последними патронами, он оступился и съехал по поросшему мхом и мелким кустарником склону в глубокий мрачный овраг. Единственное, на что хватило Крамарчука, когда он услышал высоко над собой голоса врагов, – заползти под видневшийся рядом каменный козырек. Он-то и скрыл сержанта от глаз полицая, который трусливо осматривал каньон, спустившись, насколько это можно было, по его склону.
Крамарчук пролежал там до ночи, пока не прекратили кровоточить ушибы и рана на голове. Потом он еще несколько дней бродил по лесу и вблизи окрестных сел, пытаясь найти партизан. Однако в одном селе ему говорили, что партизаны ушли вниз по Днестру, в другом – что они подались лесами в сторону Тернополя. В то же время оставаться вблизи Подольска ему уже нельзя было. Почти в каждом селе появились листовки с описанием примет Беркута и призывами к населению сообщить, за крупное вознаграждение, о его местопребывании. И что самое странное, эти листовки не исчезли даже после того, как фашистами было заявлено, что Беркут и «его банда» уничтожены. Возможно, потому и не исчезли, что один из полицаев узнал Беркута в нем, Крамарчуке, и кричал во время стычки: «Не стреляйте! Это Беркут!»
В лагере он все же побывал. Вместо землянок так были руины, вся территория изрыта воронками от мин, лес вокруг него выжжен. Однако ни останков своих друзей, ни могил не нашел. Очевидно, фашисты не желали, чтобы люди, пришедшие на смену беркутовцам, могли поклоняться их могилам, и все тела партизан увезли вместе с телами своих солдат.
За два часа до того, как отправить Крамарчука к крепости, Громов отвел его в сторону от лагеря и там, под одним из динозавроподобных валунов, показал ему свой тайник.
– Если погибну, в этом тайнике ты найдешь небольшой пакет с кое-какими захваченными у немцев документами и письмо для Марии. Сделай все возможное, чтобы пакет попал к ней. Сейчас она пока что прячется в Гайдуковке. Но даже если ее там не окажется, разыщи. Хоть после войны – все равно разыщи.
– Почему ты так? – удивился тогда Николай. – Ты что это вдруг надумал, комендант?
– «Комендант», – благодарно похлопал его по плечу Громов. – Только ты и можешь еще называть меня так. – Вздохнул. Помолчал. Отвел взгляд. – Считай это моей последней просьбой. Кроме тебя, об этом тайнике не будет знать никто.
Добравшись до лагеря, Крамарчук сразу же отыскал тайник. В конверте-пакете с грифом какого-то немецкого учреждения оказалось несколько офицерских удостоверений вермахта, карты, списки, приказы и письмо, адресованное Марии Кристич. Вскрывать конверт с письмом Николай, конечно, не стал. Хотя очень хотелось прочесть его. Зато нашел в тайнике кое-что и для себя. Будто предвидя, в каком трудном положении окажется Крамарчук, лейтенант оставил для него немецкую портупею с двумя парабеллумами в кобурах, шесть обойм патронов, три гранаты и золоченый трофейный портсигар.
«Закури, сержант, вспомни гарнизон 120-го дота… – было написано в записке, лежавшей на сигаретах. – И продолжай борьбу. Не забудь выполнить мою просьбу. Будь мужественным. Прощай. Беркут».
«Нет, он жив, – сказал себе Крамарчук, пряча эту записку в карман. – Ничто не заставит меня поверить, что Беркут погиб. Такие люди не гибнут. Но просьбу я все же выполню».
В тот же день он познакомился с двумя семнадцатилетними парнями из Калиновки, которые работали на лесозаготовке. Один из них признался Николаю, что запомнил его еще с той поры, когда он приходил к ним в село за продуктами. Сам Крамарчук вспомнить парня не смог, но это не помешало им быть откровенными. Ребята сказали, что в селе уже есть группа из семи человек, которая решила уйти к партизанам. Крамарчука это обрадовало. Он подумал, что эти семеро ребят и могли бы стать основой нового партизанского отряда, или даже возрожденной группой Беркута. Пусть без самого Беркута, но с теми же традициями.
Они договорились встретиться через три недели возле пещеры у Звонаревой горы. Эти три недели нужны были Николаю, чтобы разыскать Марию, передать пакет и отлежаться у кого-нибудь из добрых людей.
Незаживающая рана в плече, мытарство и давно не проходящая простуда измотали его до основания. Но главное – разыскать Кристич. Николай попытался бы найти ее, даже если бы этого конверта не существовало. Догадывался ли Андрей, что он, Крамарчук, тоже влюбился в Марию? Наверняка догадывался, заметил. «Но, может, поэтому именно меня он и попросил разыскать Марию?! – вдруг осенило Николая. – Конечно, поэтому! А ведь Мария-то… его ждет, Андрея. Как же мне идти к ней с этим посмертным посланием? И что потом? Ждать, когда, по-вдовьи оплакав своего лейтенанта, Мария в конце концов вспомнит, что рядом находится человек, который тоже любит ее?»
Да, гибель Андрея Громова приближала Крамарчука к мечте, которая еще несколько дней назад казалась несбыточной. Но это нечеловечно! Почему его счастье должно достаться ему только такой жестокой, кровавой ценой?!
…Силы оставляли Крамарчука, однако еще несколько километров он брел, почти не осознавая своего пути, переходя от дерева к дереву, переползая от валуна к валуну.
– Но это еще не смерть… – прошептал он, оседая на склон поросшего ельником холма и погружаясь то ли в сон, то ли в бредовое состояние. – Просто я устал… Смертельно устал.
47
Проснулся Николай, когда солнце желтело высоко над лесом. «Сколько же я проспал? И когда уснул – вечером, утром?» В ельнике, куда не проникал ветерок, было не по-осеннему душновато и приятно пахло разогретой хвоей. Вытерев вспотевшее лицо, Крамарчук выбрался из своего убежища, попил из ручейка и побрел по редколесью. Метров двести он прошел, обшаривая взглядом полянки и кустарники, а когда поднял глаза, то увидел, что лес кончился и внизу перед ним открывается каменистая долина, посреди которой чернеют соломенные крыши трех облепленных всевозможными пристройками домов.
«Неужто лесной хутор?! – обрадовался он, осторожно выходя на опушку. – Может, там и фашистов нет?!
Но вскоре ему открылось еще несколько усадеб, и Крамарчук понял, что перед ним – небольшое село, за которым снова начинается густой лес. «А вдруг это и есть Гайдуковка?!» – вновь появилась слабая надежда.
Пройдя еще немного по склону, Николай неожиданно заметил сидящего на камне старика. Рядом, на опушке, паслись козы.
Скрываясь за деревьями, сержант осторожно приблизился к пастуху.
– Отец, слышь, отец? – негромко позвал из-за ствола растрощенного молнией клена.
Старик испуганно оглянулся и медленно, тяжело разгибаясь, словно поднимал огромную ношу, попытался встать.
– Да не бойся ты! Ничего плохого не сделаю.
Старик наконец разогнул спину, отступил на несколько шагов и схватился за веревку, которой обе козы были привязаны к одному колышку.
– Не пугайся, говорю. Не трону я твоих коз. Как называется это село?
– Село? Называется? – пролепетал старик. – Да Лесное, как же ему еще называться?
– Лесное, говоришь? – прохрипел Крамарчук. – А где Гайдуковка? Гайдуковка где, я спрашиваю?! – разъяренно выкрикивал сержант, словно это старик был виноват в том, что он заблудился.
– Гайдуковка чуть дальше, за лесом, – показал старик на лес по ту сторону долины. – До нее еще далеко. А ты, гляжу, нездешний?
– Ну и что, что нездешний? – Николай прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. – Сколько километров до Гайдуковки?
– Шесть. А может, семь. Кто их считал?
«Шесть, семь!.. Как же я пройду столько?! Где взять силы, чтобы пройти еще столько?!»
– Немцы в селе есть?
– Нету их. Позавчера снялись и уехали к аллилуйям. Боятся они оставаться здесь, посреди леса. Наезжают только, отбирают, что могут. Коз я, вот, в лесу прячу. В землянке.
Старику было под семьдесят. Истощенный, с землистым лицом… Не седые, а тоже какие-то землистые, словно присыпанные пеплом, свисающие до плеч волосы. Серая рубаха. Весь серый! А может, это у него в глазах все сереет?
– Ты кто же такой будешь?
– Уже никто, отец. А когда-то был солдатом. Ранен я. Иду вот. Каким-то чудом еще иду. Хотя мог бы уже лежать где-нибудь… Партизаны в ваших краях водятся?
– В этом лесу нет. Не слышно. А туда дальше, за Гайдуковкой, иногда появляются. Видели их.
– Мне нужно полежать. Отлежаться. Хотя бы несколько дней, – Крамарчук оттолкнулся от дерева, сделал несколько шагов и почувствовал, что теряет сознание. – Я ранен. Да еще и приболел. Мне бы хоть сутки. Чтобы не на ногах…
– Ну вижу, вижу… Да только сам я тоже… старый и больной. Бабы нет. Тебе же уход нужен, – мрачно проговорил-проворчал старик. – А если тебя найдут – меня тоже… к аллилуйям. – И, выдернув колышек, потащил своих коз к селу.
– Куда же ты?! – попытался удержать его Крамарчук. – Помоги же мне! Во спасение души, отец! Ну не ты, так, может, кто другой отважится. Не оставляй же меня!
– А кто другой? – оглянулся старик. – Кто?! Кругом немцы-полицаи. Да еще, как и в каждом божьем селе, свой сельский иуда на петле гадает. У них это быстро. И село сожгут.
– Ох и сволота же ты, дед! – потянулся Николай к кобуре.
Но пистолет, однако, не выхватил. В кого стрелять? В старика, который испугался петли? Который боится, что из-за приблудного партизана фашисты могут сжечь его село?!
– Эй ты!.. – все же отчаянно хрипел он вслед старику. – Что ж ты, коз спасаешь, а человека… Человека оставляешь на погибель! Помоги же, старик! Во спасение души, помоги!..
Еще какое-то время Крамарчук в бессильной ярости смотрел, как медленно удаляется вместе со своими козами старик, и, совершенно обессилев, начал опускаться на траву.
Вдруг старик внезапно исчез, а вместо него на склоне долины появилась… Оляна.
– Прости, – прошептал Крамарчук, опускаясь перед ожившей женой на колени. – Не мог я этого выдержать. И ты тоже… Никто не смог бы… Я ведь спасал тебя. Я ведь тебя спасал… Ну что ж ты?! Ну хоть слово…
И… снова припал к пулемету.
Так ни слова и не произнеся, Оляна растворилась в голубой пелене вечности, а на склоне долины вдруг появился вороной конь. Крамарчук узнал его сразу же: на этом коне в июне 1941-го он убегал из цыганского табора. Тогда ему казалось, что конь уносит его в степь, возвращает домой. А на самом деле они мчались навстречу долгой, мучительной войне, навстречу своим страданиям.
Почему он снова появился, этот конь? Зачем явился ему? Куда понесет его на сей раз?
48
Опасаясь засад, Беркут несколько дней бродил по лесу далеко от разоренного лагеря, питаясь консервами, припрятанными в одном из тайников группы. Этот тайник он соорудил в небольшой пещерке после удачной операции на дороге в те немногие дни, когда у них в отряде наконец-то можно было поесть досыта. Они захватили тогда три машины с продуктами, и пятьдесят банок консервов Громов спрятал в эту, похожую на лисью нору, пещеру у ручья, вместе с пистолетом и двумя рожками патронов к шмайсеру. Это был их НЗ, на тот самый крайний случай, предвидеть который, как правило, невозможно.
Отыскав тайник, лейтенант умышленно не отходил от него далеко еще и потому, что о нем знали Мазовецкий и Крамарчук. И Андрей втайне надеялся, что кто-то из них обязательно наведается сюда. Однако в течение четырех дней, которые Громов провел неподалеку, соорудив себе в густом ельнике небольшую землянку, он не встретил ни одного человека – ни из группы, ни из соседних отрядов.
Только однажды вблизи его пристанища прошли двое мужичков с кошелками, но Андрей даже не решился окликнуть их – слишком ухоженными и бодрыми показались они ему. Можно было не сомневаться, что они из тех мужичков-предателей, которые в мгновение ока могут извлечь из кошелок шмайсеры.
В эти осенние дни держалась теплая тихая погода. Настоянный на сосновой живице лесной воздух дарил ему крепкий сон и понемножку исцелял. И вообще эти несколько дней могли бы показаться Громову райскими, если бы не постоянное ощущение своего бессилия и своей бесполезности; не тоска по солдатскому братству, по ребятам, с которыми свыкся за эти два года и которых навсегда потерял. В его положении куда логичнее было бы пройтись сейчас по соседним лесам и попытаться отыскать отряд Иванюка. Но Громов понимал, что эти поиски отнимут еще немало дней, превратив их в дни блуждания. К тому же очень хотелось встретить кого-либо из бойцов своей группы. Он не верил, просто не мог поверить в то, что все они погибли. Хоть кто-нибудь, хоть один – обязательно жив. И бродит где-нибудь поблизости. Но, как и он, Громов, к лагерю подходить боится. Понимает, что на какое-то время немцы обязательно окружат его засадами-патрулями.
Вероятность того, что полицай, которого он отпустил с плато восвояси, придет в условленное место возле Залещиков, тоже была ничтожна. Да к тому же лейтенант понимал, что и ему не стоит идти туда. Панащук очень даже просто мог предать, и тогда не миновать засады. Но все же, поразмыслив, Громов решил, что не наведаться туда будет нечестно. Вдруг этот человек действительно решится уйти в лес, а придя к условленному месту, не встретит его. В их потомственно-офицерском роду «слово чести» и «слово офицера» были понятиями, на высоком смысле которых его воспитывали так же настойчиво, как в семьях верующих – на азах Ветхого Завета. Именно слово офицера и повело его в этот дальний рейд к Залещикам, хотя появление вблизи его землянки «грибников» говорило о том, что, разгромив партизанские базы, фашисты решили какое-то время полностью контролировать все подходы к Подольску. И пока что это им удавалось.
49
Андрей тронулся в путь ранним утром и со всеми возможными предосторожностями начал пробираться к шоссе в обход лагеря, замирая каждый раз, когда до него долетал треск ветки или появлялась фигура человека. Дважды ему в самом деле удавалось обнаруживать полицейские патрули, притаившиеся по обе стороны разбитой лесной дороги. Взяв под наблюдение просеку, гитлеровцы как бы расчленили весь лесной массив на две зоны. А ему во что бы то ни стало нужно было попасть в ту, другую зону.
Проследив путь очередного, на этот раз конного, патруля, Громов подполз к изгибу дороги, незаметно преодолел ее и потом еще долго полз, подбираясь к небольшой каменистой впадине, в которой мог бы чувствовать себя в безопасности. Но как только он поднялся, чтобы, пробравшись через каменный завал, вскочить в нее, откуда-то с вышины до него вдруг донеслось:
– Эй! Эй, слышь?!
Лейтенант упал за ствол сосны, навел автомат на крону ближайшего дерева, приготовившись к стрельбе, и только тогда увидел прямо перед собой мальчишку лет тринадцати-четырнадцати.
– Партизан? Ты кто, партизан? – без особого страха поинтересовался этот лесной абориген.
– Допустим. А ты кто? Чего на дереве? – мальчишка сидел на развилке двух толстых веток дуба, словно в седле, и держал в руке длинный немецкий тесак. – Чего забрался туда, спрашиваю? – негромко допытывался Громов, угрожающе поведя стволом автомата.
– Тебя выслеживаю.
– Что?!
– Ну, тебя жду, партизана, – ничуть не испугался его автомата мальчишка. – Кукушка я.
– Что значит: кукушка? Ну-ка слезай!
– Если слезу – можешь убить. А тут не достанешь. Стрелять тебе нельзя. Рядом полицаи.
– Я не собираюсь тебя убивать, – сказал Громов, поднявшись с земли и быстро оглядываясь по сторонам. – Тебя что, действительно?.. Чтобы следил?
– Говорю же: кукушка, – все лицо мальчишки было покрыто какой-то красновато-коричневой сыпью, а кисть руки, в которой держал тесак, опоясана грубым ожоговым шрамом. – Нас таких одиннадцать. По всему лесу. Приказано: увидите кого – сразу кричите. Убегайте и кричите. Что угодно, лишь бы орать. И вся служба.
– Уже даже приказано? – зло сплюнул Громов сгусток слюны. – И вы что – всю ночь просидели на деревьях, высматривая нас?
– Только днем. Вот сейчас, утром, залез сюда. Завтра тоже придется. Дня три, наверно. По мне – хоть неделю. За паек ведь.
– За паек, говоришь? – кивнул Андрей. – И сразу нашлось столько добровольцев?
– Почти все – дети полицаев. Из двух сел. Отчим мой тоже в полиции. Да только пропивает он все, в доме голодно.
– Понял. Кукушки из детей полицаев – это что-то новенькое. Оккупационные власти начали приспосабливаться к партизанской войне.
– Повезло тебе, другой бы сразу закричал.
– Благодарности требуешь? – поиграл желваками Громов. – Ну-ну… Потом разберемся. Там дальше есть еще какие-нибудь немцы-полицаи?
– У скалы. Скалу обходи. Тропинки тоже, – рассудительно советовал парнишка. – Тебе что – в село нужно?
– Да вроде.
– Только ты меня тоже не выдавай, если попадешься. А то ведь повесят. Или забьют. Сам отчим прибьет. Лютый он на меня… почему-то.
– Значит, тебе тоже несладко, – смягчил тон Андрей. – Ясно. Что в селе говорят про партизан? Отчим что?..
– Да разбили вроде вас всех. А те, что не погибли, ушли в другие леса. А еще говорят-байкуют, что где-то недалеко, в долине, за лесом, нашли два парашюта. Вроде как десантники наши.
– Что-что там нашли?!
– Я сам слышал. Десантники. Вроде к партизанам пробиваются. Они-то думают, что партизаны еще здесь, в этом лесу.
– Слушай, про парашюты – это что, точно?
– Ну.
– Сколько ж их было, парашютистов? Всего двое? Что люди говорят?
– Может, двое, а может, больше, просто эти двое от своих отбились. Отчим говорит-байкует, что за парашютистами немцы будут гоняться до тех пор, пока не выловят. Это партизан они еще терпят, относительно парашютистов приказ другой. Брать-ликвидировать – и все тут.
– Понятно. И на этом спасибо. Кукуй дальше. Если еще кого увидишь, тоже не выдавай. И на вот, возьми, – достал из подсумка банку консервов.
– Нельзя мне, – растерянно оглянулся мальчишка. – Спросят, кто дал.
– В лесу нашел. Вот здесь, в этом распадке. О Беркуте что-нибудь слышал?
– Ну. За главного у них был. Беркут и еще Иванюк. Отчим говорил. Он когда выпьет – байкует, байкует… Мать просит, чтобы молчал, слушать – и то ведь страшно, а он все-все… И кого убили, и кого повесили, и как вешали… И как в участке бьют…
– И что говорят о Беркуте? Где он сейчас?
– Убили. На Змеиной гряде. И зарыли тайком, в чащобе, чтобы партизаны не нашли его могилы.
– Вот как? Уже и зарыли? Лихо это у них получается. Держи!
Мальчишка поймал банку и быстро засунул себе за пазуху.
– Что в ней? – спросил. – Мясо? Рыба?
– Тушенка. Бельгийская.
– Мясо! – радостно похлопал мальчишка рукой по банке на животе. – Хорошо! Завтра тоже попрошусь на это дерево. Будешь возвращаться – иди смело.
– Об этом и хотел тебя просить. И поинтересуйся у отчима о парашютистах. Тяни из него все, что знает. Завтра расскажешь.
«Десантники! Неужели действительно высадили, как обещал Украинский штаб партизанского движения? – размышлял Громов, уже беспечнее направляясь к Залещикам. Места здесь были знакомые, и ему не стоило особого труда пробраться к селу, минуя тропинки и лесные дороги. Тем более что он старался избегать их даже в те времена, когда немцы боялись сунуться в этот лес. – Конечно, германцы могли и выдумать этот десант, чтобы получить право стянуть сюда все имеющиеся военные силы. Мол, большой десант, поэтому и партизаны будут сражаться особенно упорно. К тому же самолеты сбросили им большую партию оружия. Что ж, неплохое оправдание перед командованием. Ну а если парашюты действительно обнаружены?..»
Громов знал, что в последнее время Иванюк несколько раз связывался с Большой землей по рации, имеющейся в небольшом отряде Корчака, базирующемся в соседнем районе, и тоже просил прислать в свой отряд радиста. Кстати, после одного из таких сеансов он под большим секретом сообщил, что в штабе партизанского движения очень интересуются им, Беркутом. Там, оказывается, уже слышали о таком «партизанском лейтенанте» от Корчака, имели сведения о нескольких его операциях, поэтому просили немедленно выяснить, откуда он взялся, настоящую фамилию, действительно ли в совершенстве владеет немецким, сколько людей в группе…
Тогда Громов не придал этому запросу особого значения. Он понимал: группа появилась неожиданно, командир владеет немецким… Это не могло не насторожить людей из Украинского штаба партизанского движения, да и контрразведку тоже. Понимал он также, что Центр, как называл этот штаб Иванюк, очевидно, просил его подробно охарактеризовать Беркута. Хотя Иванюк и скрыл это. Вспомнив обо всем этом, Громов подумал, что, возможно, один из парашютов принадлежал именно тому радисту, которого Центр, наконец, решил направить в отряд Иванюка. А может, и в его группу. Почему бы и не в его? И оружие, взрывчатки пытались подбросить, да только опоздали. Впрочем, операция немцев началась неожиданно… Предупредить Центр было невозможно.
Пришел бы этот чертов Панащук! Вдруг он хоть что-нибудь сообщит о десантниках. Хотя нет, он не сможет прийти. Зная, что в лесах столько немцев и полицаев… Не рискнет. Конечно, не рискнет – и правильно сделает. Разумнее переждать.
50
У скалы Панащука не оказалось. Взобравшись на вершину ее, где когда-то любил устраивать свой наблюдательный пункт Крамарчук, Андрей несколько часов провел там в ожидании полицая, внимательно осматривая при этом дорогу и прицениваясь к оцеплению, которое немцы предусмотрительно выставили не по кромке леса, а по ту сторону дороги, чтобы партизанам труднее было прорываться. Не появился Панащук и после обеда, и Громов понял, что дальше ждать бесполезно. Однако возвращаться к своей землянке ему тоже не хотелось. Он решил дождаться здесь ночи, прорваться на окраину Залещиков и уже оттуда пробираться полями к соседнему лесу.
Полицаи из оцепления вели себя довольно тихо, до Андрея лишь несколько раз долетали отдельные голоса. Лес тоже глушил в своих чащобах всякие звуки, кроме беззаботно-ангельских птичьих голосов. Убаюканный этой обманчивой тишиной, Громов неожиданно для себя уснул, словно провалился в небытие. А проснулся оттого, что еще во сне явственно услышал немецкую речь.
– Ганс! – донесся до его сознания громкий басистый голос. – Ходят слухи, что ты был первоклассным альпинистом. Не хочешь ли прогуляться на этот Эверест?
Громов открыл глаза, лихорадочно нащупал лежавший рядом автомат и, придвинув его к себе, замер, уткнувшись носом в густой, порыжевший под палящими лучами солнца мох.
– Ты бы сам взобрался. Пора сгонять жиры, нагулянные по пражским пивным.
– Отставить лишние разговоры, – вмешался властный голос, принадлежавший, очевидно, офицеру. – И помните: у лесной дороги – заставы полиции. Не перестреляйте их. Все полицаи в форме. Пароль – «Лесной пожар». На немецком. Надеюсь, русские выучили его. Всех, кто не в форме или в форме, но не знает пароля, – задерживать! Рядовой Штиммерман, возьмите катушку и поднимитесь на этот холмик. Вот мой бинокль. Обзор оттуда, думаю, километра на два. Обо всем замеченном немедленно докладывать. Я буду в машине, у шоссе. Бегом за катушкой. Всем остальным – максимум внимания. Идти, не открывая стрельбы и не разговаривая. Обращайте внимание на следы ног, погасшие костры, свежесрубленные ветки, на все подозрительные места. Помните, что на ветках могут зависать остатки парашютных строп.
«Обстоятельный инструктаж, – скептически ухмыльнулся Громов, стараясь не терять самообладания. – Я тоже хорош: нашел убежище!»
Но теперь придется действовать, исходя из обстоятельств, – он это понимал и лихорадочно пытался проанализировать ситуацию.
«Немец, конечно, будет взбираться по самому доступному склону. Где именно? Ага, слева от меня. Если там, внизу, никого не будет… если офицер уйдет… его наблюдателя можно сбить уже здесь, у вершины, и быстро спуститься. Если же офицер останется у подножия – попытаюсь спуститься со стороны дороги. Круто, высоко… Могут заметить с машины».
– Быстрее, рядовой, быстрее!
Цепь ушла, но офицер все еще здесь. Один? Неужели будет торчать, пока этот Штиммерман не вскарабкается на вершину? Какой смысл? В машине у него пункт связи. Он должен быть там. Снять бы. Но сейчас его можно только пристрелить. А это – бой, из которого ему, Громову, не выйти.
Да, если офицер останется здесь, выход один: сбить рядового, открыть огонь по офицеру – и уходить… не к дороге, а в лес. Вслед за цепью карателей.
Чуть приподняв голову, Громов увидел, что на ближайшей поляне тускло блеснула каска. А ведь оттуда немцы могут заметить его. Осторожно, стараясь не выдать себя даже шорохом, Андрей подполз к той зубчатой части склона, по которой он взобрался сюда и по которой, конечно же, будет взбираться немец-наблюдатель.
– Ну что, Штиммерман, готов?
– Так точно, господин капитан! Катушку проверил, связь есть.
«И службу знает», – безо всякой злобы подумал Громов. Хорошо знающий службу солдат вызывал в нем как в офицере уважение даже в том случае, когда это был солдат армии противника.
– Пошевеливайтесь, рядовой, пошевеливайтесь! Что вы взбираетесь на эту горку, словно старый козел на вишню?! Придется устроить всем вам такой урок скалолазания, чтобы у вас и на затылках мозоли повыскакивали! Я – в машине. Жду сообщений!
«Неужели ушел?! Кажется, да… Тогда другое дело. Уже легче…»
51
Скалолазом немец действительно оказался неважным. Сидя у выступа и приготовив кинжал, Громов мучительно долго выслушивал его кряхтение и бормотание, ощущая, как с каждой минутой волнение его нарастает, как взмокает от предательского пота рубашка на спине и на груди. Мысленно он уже несколько раз отрепетировал захват этого немца, но тот явно боялся высоты. Он все пыхтел, ворчал, проклинал капитана и Курта, который, как понял Андрей, подал идею взобраться на эту гору, и Громова так и подмывало выглянуть и спросить: «Эй, приятель, тебе помочь?» Возможно, оцепенения гитлеровца вполне хватило бы, чтобы смять его. Но все же это было слишком рискованно. Достаточно вскрика этого альпиниста, чтобы оказаться в окружении.
«Что ты разнервничался? – грубовато одернул себя лейтенант. – Там, в доте, ты уже отволновался и отбоялся за всю войну. К тому же тебя уже похоронили. А мертвецу бояться смерти – только сатану смешить…»
Осторожно выглянув, он увидел на последнем выступе не спину немца, а лишь полевой телефонный аппарат, а под ним катушку. Лезет все-таки! Страх перед капитаном сильнее, чем перед «Эверестом» – это понятно. И знакомо. Еще по курсантской роте.
Сначала показались его дрожащие от напряжения руки. Немец вцепился пальцами за выступ и на какое-то время замер, чтобы передохнуть. Потом снова бормотание, шуршание каменистого склона под непослушными ногами… И лишь когда он налег грудью на край площадки, с ужасом увидел прямо перед собой, на уровне глаз, кинжал.
– Быстро наверх! – как можно спокойнее скомандовал Громов. – И ни звука.
Все еще лежа грудью на краю замшелой площадки, немец очумело смотрел на лезвие кинжала и не шевелился. Поняв, что в любую секунду он может опомниться и крикнуть или рухнуть вниз, лейтенант схватил его левой рукой за ремень, и, выпустив кинжал, ребром ладони правой руки изо всей силы врубился в затылок чуть ниже скулы.
Громов уже заканчивал переодеваться в вермахтовскую форму, как вдруг услышал позади себя какое-то движение. Немец, которого он посчитал мертвым, пришел в себя и медленно тянулся к автомату. Лейтенант успел подхватить его на какую-то секунду раньше и, упав на немца, ударил стволом автомата ему в горло, придавил к камню…
Еще не завершив переодевания, Громов подключил проводки к телефонному аппарату и сразу же услышал зуммер.
– Алло, алло! – послышалось в трубке. – Почему не отвечаешь?
– Только что подключил, – едва слышно пробормотал Громов по-немецки. – Подожди пять минут, я сейчас…
«Теперь еще по крайней мере пять минут телефонист будет сдерживать любопытство офицера тем, что у наблюдателя что-то неладное с аппаратом. А потом сюда пришлют солдата выяснить, что произошло. Но ему нужно будет взобраться наверх, чтобы убедиться, что наблюдатель не спит…», – вычислял отведенное ему время Громов, подхватывая автомат немца и спускаясь вниз. Автомат, с которым он пришел сюда, – уже загрязненный, с пятнами ржавчины – лейтенант спрятал в песке под скалой (когда-нибудь он еще мог пригодиться) и, придерживая одной рукой шмайсер, другой – катушку, побежал по опушке леса параллельно дороге, стараясь как можно дальше отойти от того места, где стояла машина капитана.
52
Полицаи, маявшиеся у шоссейного моста, с удивлением наблюдали за немцем, тянувшим из леса телефонный кабель. Один из них предположил, что, очевидно, немцы хотят подсоединить кабель к проходящей рядом воздушной линии, но другой тотчас же возразил, что немец вовсе не телефонист. Очевидно, вермахтовцы минируют подходы к лесу и хотят где-то за дорогой, в балке, посадить своего минера с адской машиной.
Наверное, полицаи так, безучастно, и наблюдали бы за немцем, но вдруг, у самой дороги, он поманил одного из них пальцем. Тот подбежал. Немец ткнул ему в руки катушку и, показывая на овраг под небольшим мостиком, по которому едва пробивался заиленный ручеек, приказал: «Бистро! Шнель! Пошел!»
Полицай умоляюще посмотрел на оставшегося на мосту старшего полицая, но тот лишь растерянно развел руками: ничего, мол, не поделаешь, немец есть немец.
– Да, попробуй не подчинись, – согласился с ним полицай, поглядывая то на болото, то на свои до блеска начищенные немецкие сапоги. – Тут же и пристрелит.
– Вас?! – рявкнул почти двухметрового роста немец-связист, на котором форма еле сходилась, да и автомат он держал в руке, как детскую игрушку.
– Да иду, иду! Что разваскался, хрен твоему деду?!
Сам немец обошел мост по дороге, а спустившись по ту сторону его, вовсе не спешил отбирать катушку – наоборот, начал подталкивать полицая.
– Туда, туда, русише полицай! Шнель!
– Да он что, до села меня заставит тащить?! – крикнул полицай, оглядываясь на своих. – Ты же старший, Охримюк! Скажи ему!
– А ты ему сам скажи! – придурковато рассмеялся Охримюк. – Дотяни вон до леска! Там и катушка кончится!
– Да, леська, леська… Туда… – подтвердил и тем самым успокоил полицая немец. – Там ест этот… пост, наблюдатель.
– Какой пост? Какой наблюдатель? – снова начал возмущаться полицай, когда на опушке леса немец не остановился, а продолжал поторапливать: «Шнель, шнель!..»
– А теперь стой, – неожиданно приказал Громов по-русски, как только, размотав почти всю катушку, полицай уперся в густую стену кустарника, подковой схватывающего подножие холма. И сразу же сорвал с его плеча винтовку.
– Ты чего? – не понял полицай, не сразу отреагировав на то, что немец вдруг заговорил на чистом русском.
– Пришли. Будем знакомиться. Беркут я. Слышал, наверное?
– Ты?! Беркут?! Так ты?..
– Я спрашиваю: имя такое – Беркут – слышал? – незло и негромко спросил Громов, толкая его, уже обезоруженного, к ближайшему дереву.
– Ах ты ж гад! – вскипел полицай, худощавый парень лет двадцати восьми со смуглым, почти по-девичьи смазливым лицом. Громов только сейчас присмотрелся к нему. – Как же ты, паскуда, снова ушел от них?! Ведь они этот лес вдоль и поперек прошли-прочесали!
– Тебя не было, – жестко улыбнулся Беркут. – Был бы ты, я бы, конечно, попался. Смерть примешь по-солдатски или, как паршивый полицай… у ног валяясь?..
– Да когда ж тебя, гада, уже пришьют? Сколько ж ты крови людской выпустил?!
– Вражеской, пан полицай-предатель, вражеской. Так будет точнее. Но, видно, мало выпустил, если вас еще вон сколько! Непонятно даже, откуда столько набралось. На землю! Руки за спину! Лежать!
– Ну, сволота! Ну, гад! – рычал тот, уже лежа в траве, заложив руки за шею. – Почему ж я тебя еще там, у моста?.. Ведь почуял же неладное. Почуял же! А подчинился. Знал же, что ты в немецком появляешься, по-немецки кудахтаешь… Под офицера подделываешься.
– Я и есть офицер. Лейтенант, – спокойно объяснил Громов, отсекая тесаком на пеньке большой кусок провода. – Неужели не слышал? Только своей армии и своей страны, которую ты предал. Это тебе на петлю, – бросил провод на спину полицаю. – Стрелять нельзя. Поэтому придется тебе самому. Во искупление… Вставай. Вон над тобой ветка. Влезай, привязывай. Быстро! Парашютистов нашли? Хотя бы одного? – спросил он, когда, скрипя зубами от ярости, полицай взобрался на дерево.
– Всех схватили, всех! – прорычал тот, обвязывая одним концом провода толстую ветку. – И тебя, гада, повесят. Но сначала жилы вытянут. И кости переломают. В гестапо.
– Какой будет моя смерть – я знаю. Так все-таки – что слышно о парашютистах? Где они?
– Ничего я тебе не скажу. Ничего, понял?! Я вас, таких, как ты, десятки уложил. Я вас, гадов, там, под Подольском, стольких в землю позагонял, что она, земля эта, три дня ходуном ходила! Могила трескалась от недобитых, но уже присыпанных!
– О, так это и ты там поработал? Слышал, а как же… Даже видел этот противотанковый ров. Ну, тогда мне и грех отмаливать за тебя не придется. Слезай. Вон пень. Делай петлю. Как дальше – ты знаешь.
Какое-то время полицай озверело смотрел на Громова, решая, как повести себя, потом медленно обвязал шею проводом, затянул его на узел и вдруг, резко повернувшись к Громову лицом, метнул в него нож. Лейтенант даже не успел отреагировать на этот бросок, но, к счастью, нож прошел над плечом и впился в землю в трех шагах позади него.
«Что же ты голенища его не проверил?! – выругал себя Громов. – Сколько же тебя, дурака, жизнь учила!»
– Везучий же ты, Беркут! – вдруг удивительно спокойно проговорил полицай. – Мне бы твое везение. Не побывал бы я ни в тюрьме, ни в этой вшивой полиции, а сидел бы сейчас где-нибудь за кордоном и загребал деньгу. А вся твоя болтовня: «Родина, предатель»… Наплевать мне и на ихнего Гитлера, и на вашего Сталина, и на всех вас. Меня еще по суду должны были расстрелять, да помиловали. Но, видно…
Громов повернулся и молча пошел вон. Он думал, что полицай так и останется на ветке. Что он еще попытается переждать, попытается испытать судьбу: вдруг Беркут не вернется и не выстрелит в него. Но, к своему удивлению, услышал позади себя сдавленное рычание, похожее на рычание зажатого между жерновами пса, и… оглушительный треск ветки…
«Бросился-таки! – подумал Громов, не оглядываясь. – Его бы лють – да на путь праведный!..»
53
Очнулся Николай Крамарчук лишь через сутки. В глазах все еще мутилось, но, стиснув зубы, сержант внимательно разглядывал комнату крестьянского дома: полотенце на спинке кровати, темные занавески, сквозь которые едва-едва пробивались красноватые отблески предвечернего солнца, задымленная печь, от которой веяло мягким домашним теплом, совершенно не похожим на чадный жар костров.
– Что, семя иродово, ожил? – появилась на пороге сгорбленная, но все еще довольно высокая женщина – должно быть, хозяйка. – А говорили, что не стоило тебя и в дом заносить.
– Злые языки, – покачал головой Крамарчук и попытался улыбнуться. – Кто вам сказал обо мне? Кто притащил сюда?
– Да кто же? Тот самый козопас, Федор Рогачук. Сперва, ирод, бросил тебя в лесу, а потом, ишь, спохватился. Идем, говорит, Ульяна, поглядим: там у леса партизан раненый. Переночевать просится. Ну, мы и пошли вдвоем. Пришли, видим: ты уже «ночуешь»… Считай, вечным покоем, – ворчала она, помешивая что-то в закопченном котелке.
– Выходит, он все же святой, божий человек. Зря я за пистолет хватался.
– За пистолет – на это у вас, семя иродово, ума хватает. Хата моя – крайняя: хорошо, если никто не видел, как мы несли тебя.
– Что, есть доносчики? Помню, старик говорил…
– Всякие есть. В селе как в селе. Рану я тебе промыла. Если еще где болит – покажи. Я тут и за ведьму, и за знахарку.
– Фельдшера у вас, конечно, нет?
– Какой еще фельдшер, иродова твоя душа?! – проворчала старуха, грохнув крышкой котелка. – Его и до войны сюда черти не заносили. Кто не хотел помирать, у ведьмы Ульяны лечился. Ну а кто к раю потянулся…
– Я как раз из тех, что не хочет, – попытался улыбнуться сержант. – Фашистов в селе на самом деле нет?
– Староста есть. Но он наш, сельский. Если что и знает, молчит. Все в лесу живем. И все одинаково, по-волчьи, боимся. Наше село еще Бог миловал: только два дома и сожгли. Да и то без людей. Те сожгли, из которых мужчины в партизанах. В других селах пострашнее.
В это время дверь отворилась, и вошел тот самый старик, с которым Крамарчук встретился вчера на опушке. Николай сразу же узнал его.
– Спасибо, отец, – приподнялся он, чтобы получше разглядеть старика.
– На черта мне твое спасибанье? – недовольно проворчал Рогачук, поставив на стол кувшин. – Носит вас лесами… Не спасал я тебя, не приносил сюда. Не видывал и не слыхивал, понял? А ты, ведьма старая, коптилку зажги, а то темно, как в преисподней.
– Лучше бы керосина принес, моложавый.
– Не спасал я тебя, – снова заговорил старик, обращаясь к сержанту уже с порога. – Все вы герои, пока по лесам шастаете. А как поймают, возьмут за одно место: «Кто привел? Кто спасал? Кто молоко приносил?» Сразу раскукарекаетесь.
– Не боись, отец, я молчаливый.
– Вот семя иродово, такое старое, что и могила его не принимает, а гляди ж ты, и оно смерти боится! – искренне удивилась Ульяна, когда двери за Рогачуком закрылись. – Хотя что правда, то правда: за партизан немцы не милуют. Староста бумагу читал: будете помогать партизанам – немцы сожгут село. Близко они тут. Вон, в Гайдуковке, полно их. И полицаев.
– В Гайдуковке?.. – снова приподнялся на локте Крамарчук. – Вы часто бываете там?
– Так я же сама родом оттуда, – старуха налила из кувшина в кружку молока и протянула Крамарчуку. – Козье. Я его на дух не переношу, козлятиной воняет. Но ты пей. У нас не сытно. Потом еще покормлю картошкой, а на ночь напою настоем из трав. Атам уже сам выползай. Захочешь жить – будешь жить, а нет такой воли – Бог простит. Я тебя и подбирать-то не хотела. По мне что фашисты, что коммунисты… И те, и те – нелюди.
– Веселый у нас разговор, – нахмурился Николай. – Всех одним кадилом обвеяла. Скажи лучше, ты Кристичей из Гайдуковки знаешь?
– Каких Кристичей? – удивленно посмотрела на него старуха, останавливаясь посреди комнаты. – Там их полсела, этих Кристичей – иродово семя цыганское.
– Мне нужна Мария Кристич. Молодая такая, красивая девка.
– Да уж понимаю, что не старухой интересуешься. Не та, не докторша, часом?
– Вот-вот, медсестра! – снова поднялся на локтях Крамарчук. Ему с трудом верилось, что в этом селе кто-то мог знать их санинструктора.
– Там она. У родственников. Сама, правда, не гайдучанка. Из другого села. Километров за двадцать отсюда. Началась война, ее вроде бы тоже в войско взяли. А недавно тут объявилась. Где была до этого, так никто толком и не поймет. Вроде бы где-то учительствовала.
– Это правда, она была учительницей.
– Ну, правда не правда – без меня разберутся, кому надо.
– Работает она в больнице?
– Прячется она в селе. Чего-то боится.
– Мне очень нужно повидать ее. Завтра же. Как ее найти?
– Ага, я тебе, семя иродово, еще и девок водить буду.
– А ты и вправду ведьма, – незло признал Николай.
– Я с того дня ведьмой стала, когда такие, как ты… Э, да что тебе говорить, – снова загрохотала чугунками Ульяна. – Племянника пошлю за твоей. Передаст, чтобы пришла, семя иродово.
Крамарчук хрипло рассмеялся. Эта странная старуха уже начинала нравиться ему.
– А он разыскать сможет?
– Скажу – разыщет, – по-мужски пробасила старуха. – Не первый раз.
Накормив Николая, она куда-то ушла, но вскоре появилась вместе с невысоким худощавым подростком лет четырнадцати. Когда паренек дошел до кровати, сержант увидел, что лицо у него исхудавшее, болезненно-желтое, с первыми проталинами морщин.
– Вот этот пойдет, – резко огласила старуха, словно стояла посреди городской площади. И только сейчас Крамарчук отметил про себя, что голос у нее еще довольно моложавый. – Он уже знает.
– И что – сможешь найти ее? – спросил Николай.
– Тяжело, что ли?
– Скажешь, что здесь ее ждет один человек. От Беркута. Запомнишь? От Беркута.
– Тяжело, что ли?
– Разговорчивый ты мужик! Скажешь Марии, что я буду ждать ее три дня. Три, не больше. Если меня не окажется в этом доме, тетка Ульяна будет знать, где я. Сам я идти в Гайдуковку не могу. Ранен и без документов… Понял?
– Тяжело, что ли?
– Да что ты его учишь? – вмешалась хозяйка, провожая парнишку. – В войну они, иродово семя, рано взрослеют.
– Я это знаю, – вздохнул Николай.
54
Под вечер Штубер осматривал пополнение своей группы. Два агента абвера из местных, один осведомитель гестапо – каким-то образом забившийся в эти края венгр; пятеро навербованных в лагерях военнопленных, единственной гарантией надежности которых было то, что вчера Ранке заставил их принять участие в казни перед строем двух групп своих товарищей по лагерю. Поступило еще восемь солдат-немцев, в основном из полковых разведрот – все после госпиталей, после ранений. У этих, из разведрот, был хоть какой-то опыт боевых действий да опыт рукопашных. У остальных же…
Однако Штубер понимал, что лучшего «материала» ему сейчас не набрать. Он и так должен быть признателен Ранке. Эта восьмерка – все, что можно было выудить здесь, в тылу, вдали от Германии и фронта. Да, было еще четверо полицаев, присланных из соседних областей. Эти вызвались добровольно, за хорошую плату. Двое из них отсидели в тюрьме за бандитизм. Обычно Штубер старался не прибегать к услугам уголовников, но сейчас именно на них он и возлагал определенные надежды, тем более что эти двое казались ему прожженными, видавшими виды парнями. Уж ножами-то они, по крайней мере, орудовать умеют. А это уже кое-что.
– Вот такие дела, мой фельдфебель, – мрачно произнес Штубер после того, как особенно внимательно осмотрел каждого из бойцов своей старой гвардии, оставшихся от прежней группы «Рыцарей Черного леса». – Шестеро суток вам с Лансбергом на то, чтобы привести новичков в чувство, обучить их основам ближнего боя, владению всеми видами оружия. Тренировки самые интенсивные. До изнеможения.
– До изнеможения они и будут.
– Задействовать всех опытных «рыцарей». Завтра из лагеря военнопленных привезут группу «манекенов», на которых вы можете испытывать любые приемы, вплоть до вспарывания животов. На японский манер, мой фельдфебель, на японский манер… – похлопал он Зебольда по плечу, хотя почувствовал, что уточнение, касающееся вспарывания животов, никакого впечатления на Зебольда не произвело. Возможно, он даже воспринял это разрешение в буквальном смысле. – Пришлют человек тридцать. Содержать в подвале. На неделю должно хватить. Возвращать их в лагерь не обязательно.
– Щадящие условия, – кротко заметил Зебольд. – Мне не понравилось, что ту, прошлую, партию нужно было беречь для отправки в Германию, на работу. «Манекены» – они и есть «манекены»…
– Да, следите, чтобы в процессе обучения русские запоминали команды на немецком.
– Господин гауптштурмфюрер, – появился у входа в башню денщик Штубера. Отправляясь в ту погибельную поездку в лес, гауптштурмфюрер предусмотрительно оставил его охранять крепость. Это и спасло ему преданного ефрейтора Ганса Крюгера. – Вас к телефону. Оберштурмбаннфюрер[6] Роттенберг.
Направляясь к башне, Штубер еще раз прошелся вдоль строя, внимательно, с ног до головы, осматривая каждого стоящего перед ним. Рослые, сильные и не очень молодые… Ранке все правильно понял: его люди подбирали именно тех, кого требовалось. Штубер старался не брать к себе молодых. Тридцать лет, считал он, – именно тот возраст, когда человек уже способен избегать сантиментов, не мучаясь при этом угрызениями совести и романтическими идеалами. Под тридцать из этих предрасположенных к авантюризму людей можно готовить настоящих диверсантов. Жаль только, что в этом строю нет Беркута. Уж он-то вписался бы! Однако что понадобилось в столь поздний час шефу местного отделения гестапо?
– Что слышно в Берлине, господин Штубер?! – Роттенберг всегда старался говорить с ним таким тоном, словно они перекрикивались, стоя по разные стороны широкой горной долины. И этот неизменный обывательский смешок лавочника, потешающегося над неудачами аристократа.
– Что вы имеете в виду, господин оберштурмбаннфюрер? – сдержанно поинтересовался Штубер, садясь в не совсем удобное кресло, вытесанное его денщиком из кленовой колоды. Штуберу оно почему-то импонировало.
– Речь идет о вашем разговоре с Берлином. С генералом Штубером. Не так часто нам приходится звонить в Берлин и разговаривать с генералами, служащими в штабах…
– Это была сугубо личная беседа.
– Оно и понятно: генерал Штубер – ваш отец… – нисколько не смутился Роттенберг.
Штубер деликатно промолчал. Он не задавался вопросом, откуда шеф гестапо узнал о его разговоре с Берлином. Было бы странно, если бы он не знал об этом. Но тогда оберштурмбаннфюрер должен был знать и о поздравлении, переданном ему Отто Скорцени. А также – о благосклонном отзыве ведомства, в котором он проанализировал различные методы психологического воздействия на население оккупированных территорий и использование сугубо психологических приемов обработки в борьбе с партизанами и подпольем. Отец сказал, что общая оценка такова: «Это необычно». Пожалуй, он выбрал самую точную из всех возможных в этой ситуации формулировок. Именно к этому он, Вилли Штубер, и стремился – чтобы было необычно.
– У меня к вам дело, господин гауптштурмфюрер, – уже несколько иным, более официальным тоном обратился к нему Роттенберг. – Вы давно знакомы со Скорцени?
– Еще с тех времен, когда его знали только в очень узком кругу берлинских профессионалов.
– Друзья, приобретенные в годы неизвестности, – самые надежные. Старая истина. Впрочем, вам, военному психологу, лучше знать. Но дело не в этом. Вчера мои люди схватили партизана-связника. Из отряда Иванюка. Того самого, которого удалось выкурить из пригородного леса.
– Я знаю этот отряд…
– Ему сумели развязать язык, и среди массы всяких подробностей он сообщил о группе парашютистов.
– Я слышал, что был найден парашют. Парашютисты уже в отряде?
– Если верить этому партизану – еще нет.
– Если верить… – подчеркнул Штубер.
– Еще одна деталь. Думаю, она вас заинтересует. Оказывается, они заброшены для того, чтобы соединиться с группой Беркута. Усилить ее, сделать действия группы более целенаправленными, более диверсионными. А может, и диверсионно-разведывательными.
– Все это сказал партизан, который сам не видел ни одного живого парашютиста?
– Это уже и мои предположения, господин гауптштурмфюрер, – у Роттенберга явно сдавали нервы. Беседы со Штубером, с этим берлинским выскочкой, всегда давались ему нелегко. Впрочем, как и Ранке. И шеф абвера не скрывал этого в разговоре с Роттенбергом. – К тому же одного из десантников связник все же видел. Он вывихнул ногу при приземлении и оторвался от группы. Партизан видел его в сарае на окраине села Залещики. Партизана привела туда старуха-пастушка.
– Ваши люди его там уже, конечно, не обнаружили.
– Что, по вашим данным, гауптштурмфюрер, происходит сейчас с группой Беркута? Где она?
– На том свете. Вам, господин оберштурмбаннфюрер, известно это не хуже меня.
– А сам Беркут?
– Уверяют, что он погиб. Однако трупа его так никто и не видел.
– Жаль. Я бы посоветовал вывесить его череп на воротах крепости. Но пока что я склонен думать, что Беркут спасся. И с ним еще несколько его людей. А значит, группа может возродиться. Вместе с заброшенными из Москвы парашютистами она станет крайне опасной. А главное, парашютистов ни в ставке гауляйтера, ни в Берлине нам не простят. Вы знаете, каким требовательным становится управление гестапо, когда речь заходит о парашютистах.
– Извините, но… Ничего посоветовать не могу, господин оберштурмбаннфюрер, – жестко заметил Штубер. – Впрочем, я согласен помочь вам действиями своей группы. Которая тоже, к сожалению, только-только возрождается.
– Тем не менее помощь ваших людей понадобится уже завтра. Сегодня произошло несколько пренеприятнейших событий. На окраине леса, у шоссе, убит немецкий солдат-связист. Его формой воспользовался некий хорошо владеющий немецким языком партизан, который под видом связиста преодолел шоссе на десятом километре в районе моста мимо поста, состоящего из трех полицейских. На одного из этих олухов-полицейских он навесил катушку и заставил тянуть провод в лес. Там, в лесу, в петле из телефонного провода, этого полицая вскоре и нашли. Не кажется ли вам, что это снова заявил о своем воскрешении Беркут? Об очередном воскрешении, гауптштурмфюрер, – теперь уже и в голосе Роттенберга появились стальные нотки.
– Это еще не доказательство.
– А по-моему, вполне достаточное. Конечно, мы сколько угодно можем называть полицаев идиотами, язвить по поводу их боеспособности и даже наказывать их… Но стоим ли чего-нибудь и мы с вами, если этот диверсант до сих пор разгуливает по окрестностям Подольска в форме офицера вермахта или, еще хуже, в форме офицера СС? Где он скрывается? Где базируется? Каким образом поддерживает связь с Москвой?
– Еще раз извините, господин оберштурмбаннфюрер, но с таким же успехом я мог бы задать эти вопросы любому офицеру вашей службы. Которая, собственно, и призвана… Я ведь просил не спешить с карательной экспедицией. К тому времени мы уже знали, где находится база Беркута, начали прослеживать его связи. В наших руках оказался хозяин одной из явочных квартир.
– От которого ничего конкретного вы так и не добились, – вставил Роттенберг. – И которого пытались отпустить с миром.
– Чтобы установить контакт с самим Беркутом. Подробности этой операции вам хорошо известны.
* * *
То ли Роттенберг понял, что разговор зашел в тупик, то ли решил, что, накаляя страсти в отношениях со Штубером, только вредит делу, но он вдруг умолк. Какое-то время в трубке слышалось лишь его примирительное кряхтение, знакомое Штуберу по подобным телефонным, а также нетелефонным беседам в кабинете у Роттенберга. Воспользовавшись этой паузой, Штубер отодвинул грубую войлочную занавеску на бойнице и выглянул. На небольшом дворике между двумя башнями цитадели и внешней стеной, на которой обычно тренировались рыцари его старой гвардии, фельдфебель Зебольд уже репетировал, гладиаторские бои, новобранцев.
– Имеется один сюжет. Думаю, вам, как психологу войны, он понравится, – нарушил молчание Роттенберг. – Исходим из того, что человек, вырвавшийся из Медоборского леса, действительно ваш знакомый – Беркут. И что он знает о высадке десанта. Следовательно, сейчас он разыскивает десантников, а десантники – его…
– В том случае, если у них не определено место встречи на одной из подпольных явок.
– А если допустить, что наш неожиданный рейд против партизан (который вы так яростно не приемлете) спутал все планы русского командования? Да, место встречи у них было определено. Только в лесу ли? Во всяком случае давайте исходить из той логической посылки, что не в лесу. Насколько мне помнится, один из ваших только что вернувшихся из госпиталя старых рыцарей, агент Толкунов, каким-то образом был связан с авиацией.
– В течение трех месяцев он был стрелком на тяжелом бомбардировщике.
– Вот видите: он – русский, бомбардировщик тоже был русским. И кличка его, если мне не изменяет память, Стрелок-Инквизитор?
– Считаете, что он должен предстать перед Беркутом в виде парашютиста?
– На заключительном этапе. Для начала – более скромное задание: пройтись ночами по деревням под видом русского парашютиста, отставшего от своих. Вполне естественно, что в его положении человек одинаково интересуется и своими друзьями-десантниками, и партизанами, и даже подпольщиками. Конечно же, попутно ведет большевистскую пропаганду среди населения. А, господин Штубер? Почему бы нам не подыграть русским, коль уж они решились на такой отчаянный десант в районе Подольска, в непосредственной близости от фронтовой ставки фюрера? Они ведь знали, на что идут. И знали, куда посылать этот десант. Заполучив себе Беркута с остатками его группы, они, пожалуй, смогут планировать серьезные акции. Кстати, как самочувствие самого Стрелка-Инквизитора?
– В норме.
– Думаю, что даже ранение может сыграть на его легенду. Он недавно из госпиталя. После ранения, полученного где-то далеко отсюда, допустим, в Белоруссии, в районе Беловежской пущи. Которой русские, по вполне известным вам причинам, тоже усиленно интересуются.
– Нужно обдумать детали, господин оберштурмбаннфюрер.
– Даже не отметив заманчивость моей идеи? – нервно рассмеялся Роттенберг.
– Нужны детали, нужна легенда. С замыслом я в принципе согласен, однако…
– Ясно. Обсудим это завтра, в девять утра. Но к подготовке Стрелка-Инквизитора приступайте немедленно. В любом случае она пойдет ему на пользу. Через час у вас появится мой унтерштурмфюрер Генфрид. Большой специалист по части всевозможных декораций. К тому же дважды побывавший в тылу у русских.
– Декоратора встретим. В девять утра я – в вашем кабинете, господин оберштурмбаннфюрер.
– Мне бы очень хотелось, чтобы эта операция нам по-настоящему удалась, – доверительно завершил разговор Роттенберг. – Слишком много у нас с вами потерь. Некоторые из них не способен будет объяснить, а тем более оправдать даже ваш большой друг Отто Скорцени.
55
– Ты, Андрей? – Крамарчук услышал шаги Марии, открыл глаза, однако ни отозваться, ни приподняться не успел – Мария уже стояла у постели. – Ты, лейтенант?
В комнате было сумрачно, и Николай нисколько не удивился, что девушка приняла его за Андрея. Их сходство с Громовым было поразительным. А ревновать ее к Андрею он уже не мог. Слишком дороги были ему оба эти человека – командир и медсестра, последние из гарнизона «Беркута».
– Мария… Пришла! – радостно прошептал Крамарчук, забыв, что прежде всего должен разочаровать медсестру, сообщив ей, что он не лейтенант Громов. Ему приятно было ощущать на своем лбу ее теплую, чуть влажноватую ладонь. И хотелось снова и снова слышать это, пусть чужое, но так нежно произнесенное имя.
– Как же ты так?.. Откуда ты?!
Николай хотел ответить ей, объяснить ее ошибку, но, увидев сзади, почти за спиной Марии, старуху хозяйку, осекся. Кристич тоже оглянулась, прошептала: «Извините», – но Ульяна продолжала стоять с большим ножом-секачом в руке, с которым, видно, собиралась выйти на кухню, да почему-то не уходила.
– Крамарчук я, Мария… – прошептал Николай, когда хозяйка наконец ушла, растворилась в сумраке коридора. – Сержант Крамарчук. Тот самый, из дота, ни любви ему, ни передышки…
– Да? – как-то совсем неудивленно переспросила Мария. В длинном мешковатом ватнике, по-деревенски повязанная платком, она сейчас мало чем напоминала ту бойкую степенную красавицу медсестру, которую Николай ожидал увидеть здесь после двух лет неизвестности. – Значит, это ты, сержант, – облегченно присела она на корточки. – Боже мой!.. Ты-то откуда? Я уж думала: больше никого… Последняя из всего гарнизона.
– Не причитай, доктор Мария, не причитай, – ворчливо прошептал он. – Ну что ты? Держись. Все-таки нас еще двое. Отвернись, я поднимусь. Не ожидал так рано.
– Двое? А… лейтенант? – несмело, настороженно спросила Мария, отворачиваясь.
– Самому хотелось бы знать, что с ним, Мария. Бой был. У лагеря. Сатанинский бой. Мы с Мазовецким – помнишь, тот поляк, что спасал тебя?
– «За Елисейскими полями, мадам»… – пыталась улыбнуться Мария, но так и не смогла.
– …Так вот, я, он и еще несколько ребят были на задании. А вернулись, – вокруг трупы, разрушенные землянки… К счастью, наткнулись на одного нашего раненого… Да что пересказывать?!
– Ну а лейтенант… Громов? О нем этот раненый что сказал?
– Откуда ему знать, что с лейтенантом? – вдруг раздраженно спросил Крамарчук. – Он в дозоре был. Получил свою пулю и лежал. О ком ни спроси – «все погибли, все погибли!..» Будто он сам, лично хоронил их.
– Но отряд ваш?.. Он что, действительно погиб?
– Отряд? Отряд, конечно, погиб. Что тут скажешь? Но кто сказал, что и Беркута тоже нет? Кто его хоронил? Где могила?
– Ох, Андрей, Андрей!.. – прошептала Мария, тяжело вздохнув. – Что ж ты так?..
– Ну, что случилось?! – довольно резко спросил Крамарчук, снова увидев в комнате старуху хозяйку.
– Уходить тебе надо. И тебе, и ей. Через окно. Быстро – через окно. И к лесу…
– Что?! – подхватился Крамарчук, представая перед женщинами в нижнем белье. – Немцы?! Что ж ты тогда, мать Ульяна, мнешься?!
– Потому что сама и выдала вас, – непокаянно объяснила старуха. – Того же хлопца, который тебя, девка, позвал – к полицаям послала.
– Ты?! К полицаям?! – ужаснулся Крамарчук, хватаясь за гимнастерку и ремень с двумя парабеллумами.
Но Мария уже все поняла. Бросилась к окну, оттянула верхние и нижние шпингалеты, расстегнула его настежь…
– Сам идти сможешь? – спросила она, уже стоя одной ногой на подоконнике.
– Смогу. Ты же меня, мать Ульяна, христопродавка, лечила!.. – возмущался Николай, поспешно одеваясь. – Сволочь же ты!!
– А ночью хотела зарубить, – холодно прервала его старуха. – Да удержал Господь Бог от греха. – Она стояла посреди комнаты, ничуть не пугаясь ярости партизана, ни на шаг не собираясь отступать. – Может, они и догонят вас. Но пусть не в моей хате… Пусть в лесу. Или в поле.
– Но почему ты так, почему?! – рассвирепел Крамарчук.
– Вы-то, иродово семя, моих в тридцать седьмом, небось, не жалели. И мужа, и сына – обоих! А я, вот, и после этого не озверела… Да ты убей, убей, если уж настолько лют на старуху. Вы до войны вон сколько люду настреляли, большевики-чекисты проклятые! Теперь вам – что кровь, что вода…
– Да кто же их расстреливал – я, что ли! Или, может, она, медсестра?! Что ж ты, христопродавка?.. – все еще изливал душу Крамарчук, отлично понимая, что все его доводы уже не имеют смысла. – Мария, вот тебе пистолет! К оврагу, в лес!.. – крикнул он, выбираясь через окно вслед за медсестрой. – К оврагу – и в лес! Я прикрою. Давно мы с ними, голубками, не виделись. Ну где там они?! Помолись и ты за меня, старуха. Не ты первая предаешь… А я – вот он! На всякого Иуду – по Крамарчуку.
Он так и отходил к лесу, не поворачиваясь спиной к дому, где его предали, зажав в одной руке парабеллум, а в другой – шмайсер.
– Беги, Крамарчук, беги! Они уже у дома! – негромко крикнула Мария, скрываясь за кустарником предлесья.
– И я – вот он. И утро нежаркое. В самый раз. И для боя, и для смерти.
«А ведь когда я спросил старуху о лесе, который виднелся из окна комнаты, – вдруг вспомнил Николай, – она ответила, что это лишь маленький, гектаров на двадцать лесочек, к которому со всех сторон подступают поля». Поэтому, увидев, что вслед за приближающимися к лесу шестью полицаями из села выезжают три мотоцикла с немцами, понял: пробиваться через него – только время терять. В поле их все равно настигнут.
– Ну, что остановился? – вернулась к нему Мария. – Бежим!
Крамарчук стоял за толстым стволом старой сосны, на пригорке, с которого хорошо видны были и поле, и бегущие полицаи, и мотоциклы. Его неспешность выводила Марию из себя.
– Смотри: эти сволочи идут по нашим следам. Земля влажная, вот они и… Сейчас возьмем влево, вон по той каменистой тропке. Чтоб без следов. И пропустим их. Слева, у леса, – кустарник. Пропустим их и заползем туда.
– Но оттуда же отходить некуда. Лейтенант наш никогда бы…
– Лейтенантов здесь нет! – резко прервал ее Крамарчук. – Делай, что велят!
Полицай, шедший в цепи крайним, неуклюже протопал метрах в двадцати от беглецов. Каратели громко переговаривались и пьяно, безбожно матерились, негодуя по поводу того, что в такую рань приходится шастать по росной траве, по лесу… Они были уверены, что партизаны прячутся где-то в глубине леса или вырвались в поле.
Подъехав к опушке, немцы тоже выскочили из машины и растянулись в цепь. Чуть позади них, старательно вынюхивая предлесье стволами пулеметов, по-лягушачьи прыгали мотоциклы.
Каменистым ложем высохшего ручейка Крамарчук и Мария добрались до кустарника и залегли за ним со стороны поля, так что с одной стороны их прикрывали кусты, с другой – похожий на бруствер каменистый холмик. Вот только подняться в этом окопчике было невозможно.
– Это я виноват, Мария. Дернул меня черт вызывать тебя. Возвращаться в село тебе больше нельзя. – Солнце восходило из-за каменистого холма, и вся простиравшаяся влево от них долина казалась Крамарчуку каменистой пустыней. Однако пустыня эта не пугала его, не отталкивала; наоборот, хотелось встать и идти, бесконечно долго идти этой долиной, ориентируясь только по солнцу, которое и само сейчас представало перед ним далеким пустынным миражом. – Что тебе дальше делать, я не знаю.
– Исповедуйся, исповедуйся… – миролюбиво, но почти требовательно проговорила Мария, провожая взглядом исчезающих в лесу немцев и полицаев. – Это облегчает. Но сначала объясни, как ты здесь оказался? Андрей послал? Только правду. Однажды, когда вы с поляком Мазовецким вырывали меня из рук полицаев, ты уже врал. А все свелось к тому, что Громов не хотел, чтобы я попала в отряд.
56
Держа наготове оружие, они лежали голова к голове, прижавшись плечами к тому, более мелкому, откосу, что прикрывал их со стороны кустарника. Рядом с Марией Крамарчук почему-то чувствовал себя спокойнее и надежнее, чем чувствовал бы себя рядом с опытным, закаленным в боях солдатом. Наверное, потому, что Мария была с ними там, в доте «Беркут», на левом берегу Днестра в июле сорок первого. Она выдержала всю осаду их подземной крепости и вырвалась из этого подземелья вместе с ним и лейтенантом Громовым, когда, так и не сумев выбить их из упрятанных под семиметровые скалистые своды орудийных и пулеметных точек, гитлеровцы заживо замуровали их в доте.
Это чудо, что судьба снова свела его с Марией. Но, может, именно это чудо и называется судьбой? Даже если она свела их не для совместной жизни, а для совместной смерти.
– Все намного сложнее, Мария, – тихо ответил Крамарчук, прислушиваясь после каждого слова. – Я рассказал правду: отряд погиб, лагерь фашисты снесли. Тот раненый, которого мы встретили, утверждал, что Беркут погиб. Это было последнее, что он в состоянии был сказать. Больше расспрашивать было некого. Ребят, с которыми ходил на операцию, я тоже растерял. Одни погибли, другие, возможно, где-то бродят по лесу…
На чахлом клене, черневшем рядом с кустом, расстрекоталась сорока. Каждый, кому знакомы были голоса леса, понимал: так она стрекочет лишь тогда, когда рядом опасность, чаще всего – когда видит вблизи человека. Не раз там, в лесу, Крамарчука заставляло настораживаться именно такое стрекотание, и каждый раз оказывалось, что где-то вблизи засада полицаев, партизанский пост или кто-то скрывающийся от фашистов.
– Пальнуть бы ее, болтуху лесную, – пробормотал он. – Так ведь не пальнешь.
– Попробуй камнем, – посоветовала Мария. – Вон и ястреб тут как тут. Проверяет, по какому поводу шум.
– Кружит, как над добычей. Собственно, так оно и есть – добыча. Только не твоя, соколик, не твоя.
– И не немцев, Крамарчук, – полушепотом отозвалась Мария. Она продолжала обращаться к нему так, как привыкла в доте: по фамилии, по званию. – Если что… Не отдавай меня им, слышишь? Я-то сама себя, наверное, не смогу… воли не хватит. Но ты не отдавай.
– Еще одна расстрекоталась, – поерзал Крамарчук, потирая о камни залежалую спину. А потом, ухватив горсть мелких камней, швырнул их в крону клена. Он не видел, взлетела ли сорока, но крика ее больше не слышал. Немного покружив над ними, исчез куда-то и ястреб. А еще минут через десять они снова услышали рокотание мотоциклов и где-то совсем рядом, буквально в нескольких метрах, – немецкую речь.
– Слишком близко мы друг возле друга, – прошептала Мария то, о чем подумал сейчас и Крамарчук. – Одной очередью скосят.
– Прижмись спиной к стенке. На бок… к стенке, – прошептал в ответ сержант и сам тоже, осторожно, стараясь не шуршать камнями, вдавил свое тело под нависший над ними пласт дерна.
Немцев, очевидно, было двое. По крайней мере ударили они по кустарнику из двух автоматов. Одна очередь прошила каменистый холм по ту сторону оврага, осыпав сержанта и Марию градом щебня и роем срикошетивших пуль. В какое-то мгновение Крамарчуку даже показалось, что гитлеровцы остановились на пласте дерна, как раз над ним. Ужаснувшись, Николай закрыл глаза и, не из слепого страха, а из страстного желания выжить, творил молитву Богу, чуду, судьбе: «Пронеси! Спаси! Не выдай!..»
57
– Ефрейтор, – позвал Штубер сидящего внизу, на первом этаже башни, денщика, который был у него и рассыльным, и ординарцем, и одновременно часовым. – Стрелка-Инквизитора ко мне.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер. Зебольда тоже?
– Стрелка, мой ефрейтор, Стрелка. – Это уже не первый случай, когда, получая приказ вызвать кого-нибудь из «рыцарей», Крюгер уточняет, нужно ли при этом приглашать и Зебольда. Очевидно, привык, что при принятии любых важных решений непременно присутствует и любимец командира – фельдфебель. А переспрашивает, чтобы не делать лишнюю работу. Судя по всему, в этой войне Крюгер боялся только двух вещей: как бы не оказаться инвалидом (о смерти он никогда не упоминал, будто для него лично смерти не существовало) и не перетрудиться. – Впрочем, Зебольда тоже! – крикнул Штубер уже в бойницу, так что фельдфебель смог получить приглашение и без посредничества Крюгера.
Они так и появились вместе: Стрелок-Инквизитор, а за его спиной – фельдфебель. Если его вызывали с кем-то и не обращались к нему первому, Зебольд всегда становился за спиной приглашенного, независимо от того, был это пленный русский или свой, немецкий солдат, один из «рыцарей». Каждый, с кем говорил в таких случаях Штубер, обязательно ощущал у себя за спиной зловещее присутствие «мясника Витовта». Эффект этого присутствия Штубер уже не раз проверял на допросах партизан и пленных.
– Не стану утверждать, что госпиталь пошел вам на пользу, Толкунов, – оценивающе измерил его взглядом Штубер. Он стоял напротив Стрелка-Инквизитора, вцепившись руками в ремень и слегка покачиваясь на носках. Никому из подчиненных, если им предстоял серьезный разговор, садиться он обычно не предлагал. В группе это знали.
– Как и ранение, господин гауптштурмфюрер, – ответил Толкунов на ломаном немецком, и Штубер сразу же отметил, что языковая практика в немецком госпитале не прошла для него бесследно.
– О ранах в моем присутствии следует говорить с гордостью, Толкунов. Это раны солдата. Или, может, я что-то не так понимаю, мой фельдфебель?
– Именно в этом смысле Стрелок-Инквизитор и напомнил о своем ранении, – вступился за агента фельдфебель. Ах, это особое умение Зебольда подыгрывать! Как часто оно приходилось Штуберу очень кстати. Способности и услуги фельдфебеля в этом были просто неоценимы. – Но, насколько я понял, говорить ему сейчас следует больше на русском. Чтобы случайно не вставить в разговоре немецкое слово.
– Вы поняли, Стрелок-Инквизитор?
– Кажется, да.
«А ведь фельдфебель не мог знать, с какой стати я пригласил его сюда. Или мог? – спросил Штубер уже самого себя. – Неужели, прежде чем позвонить мне, Роттенберг или кто-то из его людей успел проконсультироваться с Зебольдом? Но когда, каким образом? Может, и само имя Стрелка-Инквизитора всплыло по рекомендации нашего любимчика фельдфебеля? Невероятные вещи происходят в этой древней обители рыцарей!»
– Я так редко приглашаю вас, Стрелок-Инквизитор, и так нечасто утруждаю приказами и заданиями, что фельдфебель Зебольд сразу воспринял ваше приглашение как начало серьезной работы.
– Мне бы еще пару недель. После ранения…
– Успокойтесь: речь идет не о заброске в тыл русских…
– А, ну тогда… Тогда что ж…
Ему было под сорок. Удлиненное, чем-то смахивающее на индейскую маску, лицо, розоватые навыкате глаза, дряблые морщинистые щеки, узкие сутулые плечи…
Все в этом невзрачном человеке было отталкивающеубогим, никому и в голову не пришло бы подозревать его не то что в работе на одну из могущественнейших в Европе организаций – гестапо, но даже в обычной человеческой неискренности, настолько он казался смиренно-жалким и доверчиво-услужливым. Но точно так же мало кому пришло бы в голову, что этот агент – один из самых жестоких исполнителей приговоров. Штубер не раз видел его в деле и всегда задавался вопросом: «Неужели этому человеку действительно не знакомы ни чувство сострадания, ни жалость, ни отвращение?!»
В жестокости своей в группе с ним мог сравниться только Карл Лансберг – Магистр. Но тот по крайней мере ощущал «оргазм» своего садизма, он наслаждался пыткой, смакуя человеческие страдания. Этот же, казалось, вообще не проявлял никаких чувств. И расстреливал, и добивал, и затаскивал человека в костер с каким-то непостижимым безразличием. Впрочем, пристрастие к огню у него все же ощущалось. Наверное, оно исходило из опыта, приобретенного за время двухмесячного пребывания в лагерной команде крематория. Именно там и приметил Толкунова один из знакомых Штубера – начальник охраны концлагеря. Это он предложил гауптштурмфюреру завербовать пленного, предчувствуя, что этот непостижимо черствый, бездушный человек еще может пригодиться ему. Похоже, что начальник охраны оказался провидцем.
А следующее открытие сделал сам Штубер, уже здесь, в группе. Как оказалось, в этом узкоплечем сутулом человеке бродила какая-то поразительная, внешне ничем не выдаваемая сила. Во время одного из «гладиаторских боев» Стрелок-Инквизитор захватил за пояс двух своих противников, подтащил к себе и, слегка присев, приподнял их так, что ремни оказались выше его плеч. А ведь каждый из противников весил под восемьдесят килограммов. Увидев это, Штубер просто опешил и, не поверив своим глазам, попросил проделать этот цирковой номер еще раз.
Однако настоящее признание его как «рыцаря Черного леса» и агента гестапо пришло к Стрелку-Инквизитору несколько позже, в ночь его испытания. Нет, Штубер никогда особенно не изощрялся в выборе испытаний. Наоборот, в этом он был примитивно однообразен: просто-напросто новичку поручалось уничтожить очередной «ликвидационный материал», поставщиком которого очень часто был именно Роттенберг.
Когда настало время испытывать Стрелка (тогда у него еще была такая кличка, вторая часть ее – Инквизитор – появилась после испытания), в подвале здания гестапо в украинском городке на границе с Польшей, где тогда временно базировался Штубер со своим отрядом, оказалось трое старых цыган. На них и пал выбор. Выезжая на лесные маневры, Штубер прихватил их с собой и поручил Толкунову следить за ними. Первое, что тот сделал, – связал всех троих вместе и, привязав к двум деревьям, усадил на огромный муравейник. Там они промучились до вечера. А вечером, подготовившись к ночлегу в палатках, Штубер разрешил Стрелку пустить их в расход, предложив самому избрать способ казни.
Штубер до сих пор с ужасом и отвращением вспоминает то, что произошло потом. Стрелок отвел обреченных за километр от лагеря, к трем росшим на краю каменистого обрыва деревьям, привязал их, потом сходил за канистрой керосина и облил нижние части деревьев и ноги обреченных. Все это время Штубер и Зебольд следили за ним, скрываясь в кустарнике, и слышали, как, поджигая одного цыгана, Стрелок приказывал двум другим: «Смотрите и войте, как волки! Вас ждет то же самое!» После этого уселся на камень и молча смотрел и слушал, как в страшных муках погибает первая жертва. При этом его возмущало, что оба цыгана время от времени теряли сознание. Ленясь подходить к жертвам, палач бросал в них камнями и кричал: «Я сказал: войте! Войте так, чтобы на волках шерсть искрилась!»
Почему-то ему очень не хватало именно их вытья, от которого так и не замеченные Стрелком Штубер и Зебольд содрогались, словно их самих вот-вот должны были поджечь.
Когда первый цыган сгорел, этот новоявленный инквизитор невозмутимо поджег второго и снова около получаса просидел, глядя, как в обнимку друг с другом погибают человек и дерево, и был страшно огорчен, увидев, что третий цыган уже мертв. Он просто не выдержал пытки этим зрелищем.
– Неплохая работа, – похвалил его Зебольд, выйдя из своего укрытия (Штубер решил не раскрывать себя). Теперь можешь зарыть их в землю или сбрось в обрыв.
– Так ведь до утра еще есть время, – деловито ответил Стрелок-Инквизитор. – Еще вон того, околевшего, подогрею, и потом уже всех троих… То есть все то, что там от них останется…
Зебольда, никогда не страдавшего излишней чувствительностью, неожиданно затошнило, и он поспешно отошел. Подоспевшие к тому времени другие русские, навербованные из бывших пленных, – те вообще не смогли приблизиться к месту казни, а Толкунов снова спокойно уселся на свой камень и, глядя на третий факел, просидел до самого рассвета. Кто знает, возможно, при этом он представлял себе, что, как и прежде, сидит у печи крематория и смотрит в окошечко. Ведь там, в лагере, он был единственным из команды, кто любил наблюдать это зрелище. По крайней мере, именно за этим занятием трижды заставал его начальник охраны лагеря. После этого и решил, что такого человека надо сохранить для Штубера.
– Нет, это не в тыл к русским, Стрелок-Инквизитор, – окончательно развеял сомнения Толкунова Штубер. – Это чуть поближе. Правда, что войну вы начинали стрелком-радистом бомбардировщика?
– Сначала я служил в аэродромной прислуге, потом посадили вместо убитого стрелка. В рации я немного смыслил. На девятом вылете подбили. Выбросился с парашютом. Остальные погибли вместе с самолетом, направив его на шоссе. Все это я уже рассказывал вам.
– Никогда нелишне вспомнить прошлое, – заметил Штубер, подходя к бойнице и поворачиваясь к Стрелку-Инквизитору и Зебольду спиной. Он любил говорить, стоя спиной к собеседнику, и многие считали, что подражает фюреру. Однако сам он не стремился к этому. Его отец, рафинированный, голубых кровей аристократ генерал Штубер, всегда говорил так с людьми, которые по каким-либо причинам раздражали его или же были недостойны того, чтобы оказаться по-дружески принятыми и понятыми. Так что эту манеру Вилли перенял от отца еще в детстве, когда о Гитлере он и не слышал.
– Хотите определить меня в авиацию?
– В общих чертах вы знаете устройство самолета, владеете летной терминологией; летная форма тоже привычна для вас, – вслух рассуждал гауптштурмфюрер.
– Неужели вновь придется?..
– Не летать, нет. Это исключено.
– Что же тогда?
– Попав в самолет, вы обязательно подожжете его и будете спокойно наблюдать, как он пылает вместе с вами, пока не грохнетесь об землю. Нас такой исход не устраивает. – Штубер никогда не обращал внимания на то, как подопечные реагируют на его не всегда деликатные шутки. В то же время эти шутки позволяли ему откровенно высказывать все, что он думает о них. В иносказательной форме, конечно. – Вы станете стрелком-радистом самолета, который доставил сюда, в наши леса, небольшой разведывательный десант. Парашютисты высадились, вы легли на обратный курс, однако невдалеке отсюда самолет подбили. Остальные члены экипажа, естественно, погибли. Все, как в жизни, правда, Стрелок-Инквизитор? За исключением нескольких деталей. В плен вы не сдавались. Ни добровольно, но по обстоятельствам. Зная, что где-то здесь бродят ваши десантники, вы прошли более пятидесяти километров, вернулись на место их десантирования и теперь разыскиваете то ли десантников, то ли группу Беркута, с которой они должны соединиться. Хотя в общем-то вас устраивает любой партизанский отряд, и вы будете признательны каждому, что-либо знающему о партизанах, подпольщиках, бывших активистах… Как видите, операция для новичка. Я прав, мой фельдфебель? – снова повернулся лицом к подчиненным Штубер.
– Но все же справится с ней не каждый, – уточнил Зебольд. – Поэтому лучшей кандидатуры, чем наш Стрелок-Инквизитор, не найти. – Как ни странно, Толкунов так ни разу не запротестовал против этой клички – Инквизитор. Сразу же принял ее как должное. – Только он способен выдержать любую проверку здесь, в тылу у фашистских оккупантов, – осклабился фельдфебель. – Даже если ее будет вести профессиональный летчик. Если, конечно, мы подскажем Стрелку-Инквизитору, из какого аэродрома поднялся его самолет, каким курсом шел, сколько было десантников, их задание.
– Задание я не мог знать, – заметил Толкунов. – Их посадили на борт и приказали нам лететь. Но кто летит, куда, с какой целью, с кем потом выходит на связь – все это держится в тайне.
– Поняли, Зебольд? Я всегда говорил, что в любом деле нужен профессионал. А мы с вами в делах авиаторов дилетанты. – Штубер посмотрел на часы. – Через пять минут должен прибыть человек из ведомства Роттенберга.
С обмундированием и амуницией. Сейчас вы его встретите и останетесь втроем в самой большой палатке. Никто в лагере не должен знать, к чему вы, Зебольд, готовите нашего агента.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер.
– Да, и еще… Сначала вы очень трогательно его проинструктируете. Потом проведете беседу с пристрастием в «крестьянской избе». Ну а затем, если окажется, что ваш подопечный хорошо усвоил свою легенду, – основательный допрос в «штабе партизанского отряда». Сценарий вам всем троим знаком. Роли расписаны. Спектакль должен пройти при несмолкаемой овации публики. – Штубер пожевал нижнюю губу, поиграл желваками и вдруг, никак не связывая это со всем тем, о чем здесь только что говорилось, сказал: – Мне надоела эта крепость. И эта дурацкая башня, Зебольд. На окраине Подольска я приметил обнесенный каменным забором особняк. Не пора ли нам перебраться туда?
– Это не тот, где мы зимовали, господин гауптштурмфюрер?
– Именно тот. Но по-настоящему я приметил его только летом.
Фельдфебель понял, что разговор окончен и, молча кивнув Штуберу, похлопал Толкунова по плечу:
– Во всем остальном мы разберемся сами, Стрелок-Инквизитор.
58
Когда утром Штубер подъехал на своей восстановленной фюрер-пропаганд-машинен к отделению гестапо, Роттенберг уже ждал его в стоявшем посреди двора «оппель-адмирале».
– Чтобы упредить ваши вопросы, сразу же объясняю: мы вместе выезжаем в лес, будем руководить операцией против отрядов Иванюка и Роднина, – объяснил оберштурмбаннфюрер, поздоровавшись и пригласив Штубера сесть на заднее сиденье своей машины. – Разгромить это соединение сейчас вряд ли удастся. Не хватит сил. Они будут маневрировать, разобьются на мелкие группы и начнут просачиваться в соседние леса. Поэтому назовем эту акцию операцией оттеснения.
– Цель – не дать им соединиться с десантниками, – продолжил его мысль Штубер.
– Ради этого для нас не пожалели даже двух бомбардировщиков. Правда, они совершат всего по два вылета в течение дня, но все же. Бомбардировщики, которые так нужны сейчас фронту… В моей практике это впервые. Если к этому добавить три средних танка, две танкетки и две самоходки… Это уже почти дивизия.
– Рейд против партизан может облегчить нам операцию «Стрелок». Но лишь в том случае, если будет уничтожена рация. Иначе партизаны немедленно свяжутся с Москвой и выяснят, был ли сбит Стрелком самолет, на котором служил рядовой Толкунов или кем он там будет согласно нашим документам.
– Тем более если речь пойдет именно о самолете, выбросившем десант. Установить это проще простого. Поэтому такая спешка, гауптштурмфюрер, только поэтому…
– Меня смущает еще одно обстоятельство. Существует ли уверенность, что никто из десантников действительно не сумел разыскать партизан? Правда, десантники могут и не знать в лицо стрелка транспортного самолета, который их выбрасывал…
– Вы правы, – согласился Роттенберг после некоторого раздумья. – Слишком большой риск. Это должен быть другой самолет. Просто спасшийся стрелок случайно узнал от местного крестьянина, что где-то здесь, по слухам, выбросился то ли десант, то ли экипаж подбитого самолета. Тогда все становится более-менее правдоподобным. А главное – остается маневр для игры в том случае, если партизаны отнесутся к Стрелку-Инквизитору с недоверием.
– Думаю, лучше будет, если он не попадет на допрос в штаб Иванюка или Роднина. Его дело – искать следы десантников. И конечно же – Беркута. Кстати, я хотел бы поговорить с уцелевшими полицейскими, которые несли службу у моста на двадцатом километре. Они ведь должны запомнить «немца-связиста», казнившего третьего охранника.
– Они у меня в гестапо. Подозревать их в чем-либо трудно. Но еще раз допросить надо. Мы только проследим за началом санитарной очистки нескольких прилегающих к лесу поселений… Полицаи и жандармерия обыщут каждый дом, установят личность каждого человека. Для этого привлекли батальон румынских вояк, роту румынской жандармерии, ну и местная полиция, мои люди… Ваших сегодня решили не трогать.
Штуберу не хотелось ни принимать участие в этой операции, ни быть ее свидетелем, но, уже решив в самой корректной форме сообщить об этом Роттенбергу, он вдруг подумал, что ведь участие в ней зачтется. А это никогда не помешает. Особенно если она окажется успешной.
Он помедлил с выражением своих чувств ровно столько, чтобы успел появиться где-то отсутствовавший водитель, и машина выехала с окруженного высоким каменным забором двора гестапо. Ну а потом выражение их уже не имело смысла.
После почти недели пасмурных холодных дней наконец-то выглянуло солнце. Отсыревший, продрогший город постепенно начинал оттаивать и высыхать. Деревья тоже, кажется, заново возрождались, оживляя не успевшие опасть листья.
Впрочем, впечатление от этого теплого утра очень скоро поблекло. Они въезжали на окраину городка той же дорогой, которой Штубер выходил из Подольска в июле сорок первого, после побега из плена. Он и сейчас во всех подробностях мог припомнить, как вместе с двумя своими агентами шел в составе переодетого в красноармейскую форму батальона полка «Бранденбург». Перестрелку у моста, уже на левом, «русском», берегу. Кровавую рукопашную, в которой из-за этого проклятого красноармейского обмундирования трудно было разобрать, где свой, где чужой. Неожиданную стычку с невесть откуда появившимся на его пути лейтенантом, стычку, происшедшую уже тогда, когда он, Штубер, по существу, прорвался через все круги рукопашной свалки и вот-вот должен был скрыться в прилегающих к реке, забитых отходящими войсками улочках.
Да, тогда он оказался в плену. Но уже во время рукопашной и потом, на первом допросе, прямо в окопе, Штубер понял, что война свела его с по-настоящему сильным, волевым человеком. Таких людей, как Громов, он ценил, даже если они были его врагами… И еще он вспомнил свой побег. Его конвоировали в комендатуру. Налет авиации, уличная неразбериха… Какой-то мальчишка развязал ему руки, искренне считая, что помогает красноармейцу, бежавшему от немцев. Потом он оказался в погребе, где пересиживали налет красноармейский лейтенант из резервистов и его боец. В форме этого лейтенанта, пристав к колонне, он и выходил из города. Вот по этой дороге. Да…
Разве мог он предположить тогда, что судьба еще не раз будет возвращать его на эти пригородные улочки, эту дорогу? Что взявший его в плен лейтенант окажется комендантом дота «Беркут»? А гарнизон этого дота – двадцать девять солдат, офицер и медсестра – будет сражаться с таким упорством, что его придется замуровать живым. Да, замуровать… Но Громов, он же лейтенант Беркут, все же спасется. Вот это и оказалось самой большой неожиданностью, которая подстерегала его в Подольске и которая во многом определила его дальнейшее фронтовое бытие.
– Кто бы мог подумать, что и в сорок третьем мы все еще будем топтаться на русских полях сражений? – словно подхватил его воспоминания Роттенберг. – И конца этой войне пока не видно.
– Или мы просто-напросто не хотим его видеть.
– Смелое предположение, – заметил оберштурмбаннфюрер, внимательно посмотрев на Штубера. – Впрочем, предположений сейчас хватает. Одно из них – война может завершиться перемирием. Где-нибудь на Днепре. Огромная славянская река. Хорошая граница. Большая часть Украины, самая хлебная, остается в наших руках. Ну и Белоруссия, Прибалтика, Западная Европа…
– В Берлине такие настроения назвали бы пораженческими.
– Думаю, что в Берлине – в штабах, имперской канцелярии, управлении СД, в разведке – возникают и более смелые проекты. Ими не всегда делятся с подчиненными – это другое дело. Но мы с вами, как офицеры СС, должны до конца выполнить волю фюрера. Каковой бы она ни была.
Штубер поморщился. Он всегда с легким раздражением выслушивал любые заверения в верности фюреру. Для себя он давно решил, что война перешла в ту фазу, когда каждый участвующий в ней уже должен решать свои собственные проблемы и думать о собственном будущем. Которое, конечно, во многом зависит и от будущего рейха. Но не только от него. Вот и он, Штубер, делает свою военную и научную карьеру. И будет делать ее, независимо от того, кто там, в Берлине, придет к власти. Тем более что он никогда не считал возвышение Гитлера единственно верным выбором немецкого народа. Почему бы не предположить, что этот великий народ достоин лучшего фюрера? Да и мир, который он собирается покорить, – тоже? К тому же кумиром Штубера был не фюрер, а Скорцени, Роммель… – вот настоящие романтики войны. Как, наверное, и Беркут. Если, конечно, избавить его от некоторого налета красного фанатизма. Или, по крайней мере, направить этот фанатизм в более разумное русло.
– Скажите откровенно, – нарушил молчание Роттенберг, – вы верите в успех операции «Стрелок»? Она действительно может дать нам нечто реальное в этой игре?
– Приходится верить. Иного решения в создавшейся ситуации я не вижу. Главное – сделать первый ход. Игра есть игра.
– Как бы вы поступили, если бы Беркут попал в наши руки? Просто любопытно.
– Вы спросили об этом в какой-то неопределенной форме, господин оберштурмбаннфюрер. Словно не верите, что он может попасться нам.
– И все же?
– Прежде всего постарался бы поскорее вырвать его из подвала гестапо, господин оберштурмбаннфюрер.
– Резонно. Я подарю его вам. Зная ваше увлечение подобными типами. Я ведь читаю ваши статьи. Прочел все три. Ранке позаботился о том, чтобы они ложились ко мне на стол. Он ревниво следит за вашей карьерой.
– Как всякий мудрый начальник, он заботится о профессиональном росте подчиненных. А что касается Беркута… Вырвав его из ваших рук, я прежде всего попытался б сделать из него вашего же агента. Возможно, даже добился бы того, чтобы его направили в лучшую разведывательно-диверсионную школу.
– У вас такое влияние в Берлине?
– Думаю, что степень моего скромного влияния вам известна, господин оберштурмбаннфюрер.
– Ну да… Отец – генерал. Старые аристократические связи, которые мы, простолюдины из гестапо, всегда воспринимаем с долей легкого неодобрения, ну и, наконец, Кальтенбруннер. Кстати, вчера поздно вечером вашей персоной вдруг поинтересовались из ставки гауляйтера. Сославшись на то, что интерес исходит из Берлина, из высоких сфер. Похоже, что Кальтенбруннер начинает формировать свою собственную команду. Точнее, усиливать ее. Говорят, будто ему даны огромные, почти неограниченные, права в подборе людей и в действиях, направленных на безопасность рейха. Это авторитетное мнение, господин Штубер.
– Надеюсь, характеризуя меня, вы не вспоминали мелкие недоразумения? Впрочем, я бы не обиделся, если бы и вспомнили.
– Я сказал, что, находясь здесь, вы делаете все возможное, что только позволяют обстоятельства и ваше положение.
– Спасибо, – вежливо поблагодарил Штубер. – Там, за линией фронта, русские, наконец, тоже поняли, что Беркут – это личность, – сразу же откорректировал он тему разговора. – И хотят прибрать эту стихию к рукам. Это действительно стихия. Он ведь обычный армейский офицер. Без специальной подготовки.
– Да, я знаю: вы встречались с ним и мирно беседовали. Правда, со мной на эту тему говорили довольно неохотно.
– Тогда у меня создалось впечатление, что он колеблется, – постарался не заметить упрека Штубер. – Наверное, понимает: положение его неопределенное. Время для возвращения за линию фронта после выхода из окружения он упустил, карьеру свел на нет… К тому же он наверняка знает, что Сталин не признает наличия у нас советских военнопленных, считая их предателями. Как и тех, кто вовремя не сумел вырваться из окружения и непонятно чем занимался в тылу врага.
– Он-то пленным, насколько я понимаю, не был. А действие группы можно проследить.
– Ему придется очень долго доказывать это. А 1937-й советский год этому лейтенанту уже хорошо помнится. Хотя, честно говоря, мне не хотелось бы шантажировать этого человека.
– Допустим, он окончательно заупрямится. Что тогда?
– Дам ему пистолет с одним патроном. На сутки. Вполне достойная смерть. Рыцарства на этой войне пока что никто не отменял.
– Ох-кхо-кхо! – расхохотался-раскашлялся Роттенберг, откинувшись на сиденье, так что чуть не уперся багровым затылком в подбородок Штубера. – Бросьте, гауптштурмфюрер! На этой войне – и говорить о рыцарстве! Да и к чему оно? Нужна победа. Решительная, потрясающая своей неоспоримостью. И тогда все, что мы здесь наделали, что натворили и чего достигли, – само собой обретет сияющий ореол романтизма. А каждый из нас, офицеров СС, истинных воинов, «Рыцарей Черного леса», предстанет перед потомками блистательнее Айвенго.
– Познать истинный смысл войны – значит признать, что смерть, и только смерть, способна представать перед нами в качестве ее высшей истины, – философски заметил Штубер.
Могилев-Подольский – Берлин – ОдессаСноски
1
Унтер-фельдфебель войск СС.
(обратно)2
Рядовой войск СС.
(обратно)3
Обер-ефрейтор войск СС.
(обратно)4
Высший воинский чин в войсках СС. Обладателем его был только Гиммлер.
(обратно)5
Горный лесной массив на Подолии – исторической области Украины.
(обратно)6
Подполковник войск СС.
(обратно)


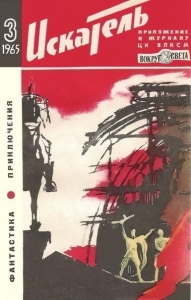
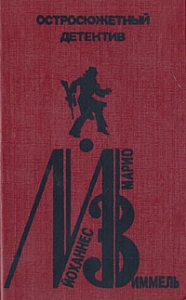

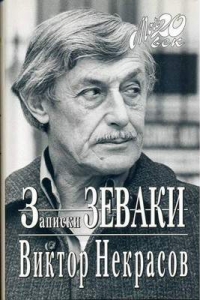
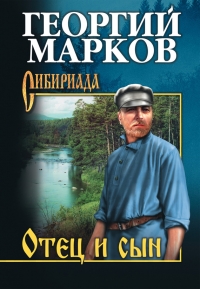
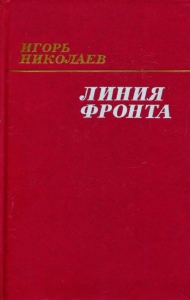
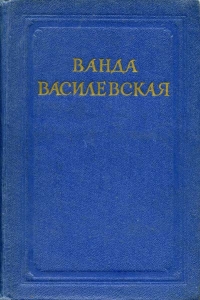
Комментарии к книге «Живым приказано сражаться», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев