Север Гансовский Двадцать минут
1941 год…
23 ноября, холодное, жестокое, бесприютное, катило с востока на запад. Над Сибирью занимался серый рассвет, с военных заводов и шахт выходила измученная, натруженная ночная смена, встречаясь с идущей на работу утренней. В спецовках и ватниках люди останавливались возле репродукторов послушать сообщение «От Советского информбюро». В военной сводке не было ничего обнадеживающего: «Тяжелые бои на Центральном фронте. Враг рвется к Москве».
Люди молча смотрели в глаза друг другу — что же будет?
А над Европой еще стояла тьма. Спали в городах, воинских частях, концлагерях и маленьких сельских домиках. В Чернинском дворце в оккупированной Праге начиналось важное заседание под председательством Рейнгарда Гейдриха, недавно назначенного имперским протектором Чехии и Моравии. В зал заседаний входили генералы и высокие чины фашистской партии. Каждому на подпись давался протокол о чрезвычайной, строжайшей секретности того, что будет здесь сказано, — вторую подпись все должны были оставить на этом листе, когда заседание окончится. Сам Гейдрих, подтянутый, с острым взглядом, прохаживался в соседнем кабинете, готовясь к докладу.
Несмотря на поздний час «трудились» и в варшавском гестапо. Днем им удалось обнаружить подпольную кондитерскую. Случай был серьезным — под страхом смертной казни полякам запрещалось изготовлять, продавать и есть белый хлеб. К следователю на допрос ввели одного из преступников — худого, бледного шестнадцатилетнего юношу по имени Юзеф Зелинский.
Яркий свет горел во всех отсеках линкора «Тирпиц», стоявшего у причала в Вильгельмсхафене. Неделю назад в главном штабе было решено, что корабль выйдет в норвежские воды, чтобы отвлечь британский большой флот из Атлантики и Средиземного моря. «Тирпиц» готовили к плаванью в полярных условиях. Вахтенный офицер обходил судно. Восемь пятнадцатидюймовых орудий, двенадцать девятидюймовых, противовоздушное вооружение в восемьдесят стволов. Все здесь было законченных, отработанных форм, и все — от сложнейших приборов управления огнем до простого блока на лебедке — было сделано по-немецки аккуратно, взаимодействовало с предельной точностью.
Офицер поднялся на мостик и посмотрел на звезды. Он понимал, что вся Германия сейчас — такой же стальной гигант, изготовившийся поразить врага.
В Бухенвальде к тем же звездам поднял голову и заключенный № 1548, серой, почти бесплотной тенью выбравшийся в своей полосатой робе из третьего барака. Перед ним простирался тщательно выметенный плац для перекличек, с виселицей и «козлом» для порки в дальнем краю. Чуть дымилась труба крематория, пулеметные вышки заливали лагерь светом прожекторов. Тяжким запахом несло со стороны отстойника нечистот; из собачьего питомника едва слышно донесся лай сторожевых овчарок. Порядок и чистота господствовали кругом, но то была грязная чистота, пахнущая трупами и формалином, как в морге. Вечером комендант через микрофон у главных ворот объявил, что победоносный вермахт окружил и уничтожил последние крупные силы русских на подступах к большевистской столице. № 1548 смотрел в небо, ему не хотелось быть на земле.
К «волчьему окопу», затерянному в Восточной Пруссии в глуши Мазурских болот, приближался «юнкерс-52», вылетевший из Малоярославца. Внизу было темно, как над обычным лесом, но штурман знал, что мрак обманчив, что тысяча зенитных орудий, полмиллиона мин, колючая проволока, пулеметы и отборные войска охраняют руководящий центр империи. Гудели моторы, стрелки трепетали на светящихся циферблатах, а внизу в это время тот, кто ждал единственного пассажира «юнкерса», Адольф Гитлер, встал из-за стола в рабочем кабинете. Было 0.01 ночи, только что ушло 22 ноября, заполненное трудами. Титаническую тяжесть ощущал на своих плечах человек в глубоком, со стенами восьмиметровой толщины бункере. В «гениальных озарениях», постоянно навещающих его (как, например, решение захватить Норвегию или нанести удар Франции через Арденны), он видел голос самой Истории, Судьбы. Но даже ближайшим его сподвижникам не дано этого постигнуть. Они не сознавали, что он, фюрер, никогда не ошибается, что задержка в русской кампании вызвана не ожесточенным сопротивлением красных, а тем, что от фельдмаршала и до последнего подносчика снарядов не все прониклись его, фюрера, волей к победе… «Шипы для гусениц!» Он пожал плечами, вспомнив, как Гудериан, ссылаясь на гололед, настаивал на оборудовании танков шипами. Разве в этом было дело?.. Еще в октябре, когда он принял решение наступать на Москву, штаб пытался убедить его не распылять силы, отказаться от наступления на юге СССР. Он настоял на своем, и вот только что Клейст вошел в Ростов, открыв путь к Кавказу. А под русской столицей сосредоточена величайшая бронированная армада, какую видел мир: 4-я танковая армия Гопнера, 3-я — Гота, 2-я панцирная группа Гудериана, наступающая через Тулу, войска фельдмаршала Клюге. И разведка доносит, что у противника нет ни боеспособных частей, ни резервов… Гитлер подошел к карте — в ее масштабе эти 30–40 километров, отделяющие линию фронта от пригородов Москвы, были ничем. Он подумал, что не ошибся, сказав 29 сентября своему народу, что Россия пала и никогда не поднимется. Пришло время отдохнуть, но он намеревался еще принять вылетевшего к нему офицера связи от командующего московской операцией и лично убедиться в готовности войск завтра достигнуть цели. Посмотрел на часы — оставалось восемь минут до назначенной аудиенции, — открыл дверь кабинета, повернулся к дежурившему в приемной адъютанту, чтоб тот накинул на него плащ, пошел узким извилистым коридором, облицованным стальными плитами, где за каждым поворотом была ниша, а в ней — неподвижный, как статуя, страж. Наверху дул ветер, синий свет едва обрисовывал во мраке контур бетонных бункеров, блиндажи с пулеметными прорезями и наружных, застывших, тоже напоминающих изваяние, часовых. Ближний отрывистым жестом, как механизм, поднял руку и опустил ее.
Рокот моторов послышался сверху. «Юнкерс», сопровождаемый двумя истребителями, шел на посадку. Офицеру, прибывшему от фельдмаршала Клюге, оставалось как раз семь минут, чтоб по аллее из колючей проволоки дойти до бункера № 1 и спуститься вниз к приемной. Гитлер повернулся к востоку и представил себе того советского солдата, который еще отделяет фашистское государство от окончательной победы. Если бы можно было ударить во врага не пулей, не корпусом танка, а тем, что сильнее, — его, фюрера, энергией! Он жестоко всматривался в темноту, посылая туда через тысячи километров над черными лесами, замерзшими равнинами, над реками и холмами, импульс своей беспощадной воли. Разве выдержит ее тот — невидимый?..
Со вчерашнего утра вьюжило, много прибавило снегу, но днем метель кончилась, стал постепенно забирать мороз и к ночи вошел в полную силу. Миша Андреев, стоявший с винтовкой у полуразрушенного здания почты, не замечал холода. Он был тут один на часах, лейтенант и весь взвод ушли в покинутый жителями городок — посмотреть, нет ли здесь еще какой-нибудь воинской части. Уже ясно было, правда, что нет.
Рядом дымился, догорая, деревянный дом. Пламя освещало снег, кое-где покрытый пеплом, и разбросанные черные головешки. Это место было единственно светлым, а кругом лежали тьма и неизвестность — незнакомые темные рощи и поля впереди, незнакомый городок сзади. Еще недавно Андрееву беззащитно и жутко было бы в такой обстановке одному, но за последние недели, пока они выбирались из окружения, он ко всему привык. Хотелось есть, но нечего было. Днем, когда проходили через деревню, затерянную в лесу, Миша забежал в дом, еще не остывший, хранящий тепло, на столе увидел кувшин молока, только час или два назад может быть сдоенного. Уже присел, чтоб выпить, но стало стыдно, как будто пользуешься чужой бедой.
Впрочем, мысли о еде лишь на миг всплывали и тотчас забывались. Андреев напряженно думал, но не о Гитлере — он и представления не имел о главной ставке фюрера под Растенбургом и вообще забыл, кто у них там главный, даже не о конкретном противнике — о немцах, которые заняли Березовку здесь рядом, а о самом себе. Ему было обидно и мучительно, что он не может соединить в одно две жизни — свою довоенную московскую и сегодняшнюю военную жизнь. Там в прошлом остались университетские аудитории напротив Кремля, где он был не последним, улица Арбат вся в знакомых магазинных витринах, комната в коммунальной квартире — мать у зеленого абажура проверяет школьные тетрадки учеников, а он сам на диване разбирает интегралы Лебега. Поздно вечером приходил друг, Федя Головин из соседнего подъезда, вдвоем они шли на кухню и, усевшись за стол соседки, беседовали часами напролет о Есенине, о великих математиках, о Рембрандте, об Испании — все говорили, говорили… А здесь было так, что ничего не успеешь обдумать, не осознаешь. Все происходило очень быстро. Начинался бой — только станешь прикидывать, что делать и как победить, вдруг выяснялось, что обошли и танки рычат уже сзади. И все в спешке. Иногда ему казалось, что, если б война остановилась ненадолго, он бы во всем разобрался и приспособился. Но война не останавливалась, и Андреев двигался в ней, как в полусне. Он помнил, когда началось это состояние, когда жизнь как бы разрубилась пополам Еще они были не на самой передовой, но торопились к холмам, откуда доносились выстрелы. Быстро шли дорогой среди неубранных полей и увидели лежащего у ржи человека. Он не повернулся к ним, не поднял головы, ничего не сказал, не двинулся. И вдруг кто-то сказал: «Убитый». Мишу как громом ударило. Человек, которого лишили жизни, который перестал существовать, сделался неподвижной большой куклой, хотя еще только что был чьим-то отцом, братом, знакомым… Это огромное и страшное надо было понять, продумать до конца. Но как раз некогда было — тут же они вступили в свой первый бой. И так оно пошло. Внешне-то Миша был, как все, но внутри росла и росла груда неразобранного. Он чувствовал себя ущербным. Ему казалось, что вся его прошлая жизнь со многим радостным и светлым была неправильной — ведь она не подготовила его к трудному часу, и ничего из довоенного не годилось сейчас. Вместе с тем Миша с завистью убеждался, что многие бойцы взвода не мучились раздвоенностью, принимали все, как оно шло. Для комсорга Коли Зайцева, для лейтенанта Леши — он тоже был москвич, с Арбата, и в особенности для рослого, ловкого солдата Ефремова жизнь не делилась на «раньше» и «теперь». Но Колю Зайцева убило, с Лешей не получалось поговорить, а Ефремов был Мише неприятен какой-то своей самоуверенностью. Ефремов приблудился ко взводу в лесу после боя под Ершовкой. Постоянно у него за плечами висел тяжеленный вещмешок, а на лице всегда сохранялось такое выражение, будто он давно уже знал, что все вот так получится, как получилось.
Сейчас Миша был даже доволен, что один здесь среди ночи. Страшно важно было соединить две половины своей жизни. Ему казалось, что растерянность и сумятица в его душе как-то влияют на общее положение дел, что если ему удастся все понять и расставить по местам, то и на фронте все пойдет лучше.
Он так задумался, что не сразу заметил появившуюся невдалеке со стороны поля темную фигуру. Вскинул винтовку и отступил за дом.
— Стой! Кто идет?
Но это был Николай, парень из их взвода, которого лейтенант поставил на развилке дорог. Он подошел поеживаясь.
— Ну как тут, спокойно?
— Да, я туда дальше ходил, смотрел.
— Лейтенант сюда придет с ребятами? — Николай, маленький, щуплый, замерзший, говорил тихо, как будто немцы были здесь в двух шагах и могли подслушать.
— Ага. У почты здесь приказал собираться. Тут в подвале печка. Я досок собрал, затопим.
Николай, притопывая, передернул плечами.
— Мороз как жмет… Ничего у вас нового?
Он три часа провел в поле один и надеялся, что за это время произошло что-нибудь хорошее. Например, удалось найти своих. Или — еще лучше — советские войска перешли в наступление и гонят фашистов. Но Миша его разочаровал:
— Так, ничего… Двое еще присоединились, из окружения вышли. Из Двести десятой дивизии, с разных полков. Один спит прямо на ходу. И мальчишка сюда пришел, гражданский, местный. — Он вспомнил, как этот мальчишка робко окликал его издали. — Из Березовки. Там немцы.
Николай вскинул на него глаза:
— Ну и что?
— Ничего. Послал к лейтенанту.
— А про немцев он говорил что-нибудь?
— Я не спрашивал. Послал к лейтенанту. — Миша отвечал нарочито равнодушно. Ему жалко было, что Николай прервал его мысли, и, кроме того, он хотел показать, что не боится, что неинтересно ему даже узнать, как эти немцы выглядят. Он и в самом деле не боялся. Дело было не в фашистах. Его гораздо больше угнетала своя растерянность.
Помолчали. Слышался треск стихающего пожара. Ночь и неизвестность окружали их, и все-таки там, за темным полем, действительно были фашистские войска, которые все приближались и приближались к Москве.
Николай спросил совсем тихо:
— Слушай, Миша, а тебе страшно?
— Нет. Но знаешь, — он начал было объяснять, но потом запнулся, сомневаясь, поймет ли Николай. — Но знаешь, такое ощущение, как будто все это нереально. Что вот война, что немцы до Москвы дошли. Я как-то не совсем верю. Все кажется, что это сон или книгу читаю.
Но Николай понял.
— У меня то же самое. Как будто все не со мной происходит, а с кем-то другим. И я смотрю со стороны.
Им обоим теплее стало от этого общего чувства, и Миша переступил ближе к Николаю.
— Слушай, а какое сегодня число?
— Двадцать первое… Или, скорее, двадцать второе. Я знаю, почему ты спросил.
— Почему?
— Ну, Ефремов утром говорил, помнишь? Немцы листовки кидают, что двадцать третьего в Москву войдут. Завтра то есть или уже сегодня.
Миша покачал головой. Значит, Ефремов подбирает фашистские листовки. Он и сам поднял было одну перед боем у Воскресенского. Просто из любопытства. Но Коля Зайцев, комсорг, сказал: «Неужели будешь читать эту гадость?» А Ефремов, выходит, читает и даже другим рассказывает.
Помолчали. Николаю не хотелось уходить, он начал новое.
— А Нина здорово держится. Молодец девчонка, да?.. — Потом он обернулся. — Вроде идет кто-то… Ефремов.
Ефремов приближался со стороны городка. Его узкие, прищуренные глаза скользнули по лицам Миши и Николая. Он со свистом втянул воздух сквозь зубы.
— Мороз дает. Нам же, между прочим, минус — танки у немца вязнуть, не будут… Черт, холодрыга какой! Сала, что ли, съесть, погреться? — Он вынул из кармана кусок сала прямо с табачными крошками, осмотрел, обдул и откусил. — Лейтенант меня не спрашивал? Ну что, студенты, поняли, какая она — война? Лейтенант меня не спрашивал?
Это он обращался к Мише, а тому не хотелось отвечать. Он спрашивал себя, почему другие не замечают, насколько все оскорбительно в Ефремове. Каждый жест, каждое слово. Николай не студент, но Ефремов назвал его так за худобу и щуплость. Насчет войны спрашивает так, будто он им еще годы назад говорил, какая она будет, а они не верили и только теперь, наконец, убедились. Подошел, сам ест, а другим не предлагает.
Ефремов как будто прочел его мысли:
— Сала хочешь? Замерз небось?
— Нет, — буркнул Миша. Это тоже было гнусно — ему предлагать, а Николаю нет. Почему-то другие не замечали таких вещей. Смеялись глупым шуткам Ефремова, кивали и равнодушно соглашались, когда он говорил что-нибудь свое, самоуверенное
— А то возьми кусочек. Потом не дам.
Николай отвернулся и пошел прочь.
— Не надо, — сказал Миша. — Не хочу, спасибо.
Ефремов вдруг обозлился.
— «Спасибо», — повторил он с неожиданной ненавистью. — «Спасибо», «пожалста», — интеллигенция. Уже пол-России отдали, а все «пожалста».
— Не бойся, не отдали, — сказал Миша.
— А куда дальше-то? Вот ты с чем воюешь? — Он показал на Мишину винтовку. — С палкой. А у немца автомат.
— Знаешь что! — Мише хотелось выругаться, но он сразу почувствовал, что получится как-то неумело и жалко. Сжав зубы, он отвернулся и пошел догонять Николая.
Ефремов посмотрел ему вслед.
— Черт! Вот где у меня звонари эти сидят, — Ефремов ударил себя в грудь. — Студентики и лейтенант ихний.
Душа болела у Ефремова. Им уже был придуман простой план выхода из создавшегося положения, но он чувствовал, что такие, как Миша и лейтенант, не поддержат его. И, несмотря на то, что он не собирался раскрывать им своих планов, его злило, что они смогут потом посчитать его трусом или предателем. Ему важно было всегда чувствовать себя правым, непогрешимым, и все последнее время он, сам того не замечая и даже теряя порой осторожность, старался оправдать перед другими то, что совершит в ближайшем будущем. Ефремов считал, что Красная Армия разбита и что раз так, то нечего махать кулаками. Он был местный, из этих краев призывался в армию. Здесь, неподалеку от городка, в поселке Синюхино, у него жили родственники; и он решил запастись гражданской одеждой, затаиться, переждать, пока пройдет фронт и кончится война, а там начинать жить по-новому. Но уходить лучше было, как раз когда фронт проходит через знакомую деревню, чтоб не шататься одному на советской стороне, где могли схватить как дезертира, и не попасть в плен на немецкой. Обстановка была сейчас подходящей, но в последний момент Ефремову страшновато сделалось пускаться на такое дело одному. Он искал себе кого-нибудь в компанию, решился было заговорить с санинструктором Ниной, потом стал сомневаться. Трудно было ее понять. С одной стороны, Нина вроде к «студентам» липла, но с другой — была вполне практичная девушка. Практичность же Ефремов ценил больше всего на свете.
А взвод между тем шел от центра городка к окраине, к почте. Не совсем взвод, а просто то, что осталось от роты, да еще присоединившиеся. Лейтенант впереди, остальные за ним. Днем, когда брели оврагами, а немцы обстреливали вслепую, «по площадям», маленький осколок мины попал ему в щиколотку. Нина, санинструктор, перевязала, и было хорошо, но часа два назад от ходьбы опять пошла кровь, и нога деревенела постепенно. Правда, вот уже минут пятнадцать он ощущал, что в сапоге не тепло — значит, прекратилось кровотечение.
Заметив, что лейтенант все тише идет, Нина нагнала его.
— Давай… Давайте, я еще перевяжу. Затекло, наверное. Больно?
Но он отказался. Беречь надо было индивидуальные перевязочные пакеты.
Пока шагали между темными, зияющими чернотой окон домами, короткие разговоры вспыхивали и обрывались.
Сибиряк Разуваев, стараясь попасть в ногу с Ниной, чтобы не просто молча идти, не наедине со своими мыслями, удивлялся:
— Снегу поднавалило. А я думал, под Москвой и снегу совсем не бывает.
Санинструктор обернулась.
— Ну да, не бывает. Еще как! В ноябре на демонстрацию на Красную площадь мы ходим, в это время там всегда уже снег.
И снова тишина, только поскрипывало под сапогами. Сержант Клепиков, усердный, простая душа, свернув в сторону, окликнул лейтенанта:
— Лопату взять, а? Пригодится, может, окапываться?
Лейтенант остановился.
— Нет, не надо. Если снегу накидать для маскировки, мы и так справимся, саперной.
Опять пошли. Метель улеглась, как не было. Морозная, ущербная луна склонялась к горизонту. Лейтенант посматривал по сторонам. Ясно было, что стояла тут какая-то воинская часть, но передислоцировалась. И жители все ушли. Это, впрочем, было правильно — что им тут делать?.. Потом ему пришло в голову, что если б не война, они нашли бы что делать — ведь они жили здесь.
Клепиков опять остановился.
— Провода телефонного, может, взять? Жечь будем.
— Возьми, Клепиков. Ножом отрежь, нам много не надо.
— Есть, товарищ лейтенант.
В самые трудные времена Клепиков так и сыпал ежеминутно своими: «Товарищ лейтенант… Товарищ лейтенант», показывал, что, мол, у них есть командир, все понимающий, во всем разбирающийся, и беспокоиться остальным не о чем. Но лейтенанту от этого было не легче. Не очень привык к тому, что он лейтенант. Всю ведь жизнь, до последних двух месяцев, был просто Лешкой, Лешей Федоровым или в лучшем случае «курсантом Федоровым». Он окончил училище с жаждой точно выполнять приказы начальников, быть беззаветно смелым, преданным, как учили, не щадить своей жизни. И действительно, не щадил. Под огонь так под огонь, в контратаку так в контратаку. Большего не было счастья, как отчеканить «Слушаю!» и с бодрой готовностью кидаться выполнять. Насчет самостоятельных действий думалось пока лишь применительно к будущему, когда будет больше опыта. А потом подошел один страшный момент. Они шли лесом, несли комроты. Утром жидко прозвучал винтовочный залп, стайка пуль унеслась в низкое, затянутое тучами ноябрьское небо. Бойцы смотрели на свеженасыпанный холмик, а потом подняли глаза на него, на Лешу Федорова. Низкий ельник стлался по сторонам, где-то на западе грохотали немецкие танки. Он сказал: «Ну все, пошли». И выделился среди других, стал командиром, ответственным за всех. С той поры у него половина сил уходила на то, чтоб скрыть свое состояние. Он учился-то в артиллерийском училище, а не в пехотном, и только последний месяц их спешно переквалифицировали. Изучали разделы «Рота в наступлении» и «Взвод в обороне». Но в наступление не пришлось ходить пока, а оборона была совсем не такая, как в уставе. Немцы, вместо того чтобы честно под пулеметным огнем обороняющихся короткими перебежками, падая и поднимаясь, вести дело к штыковому бою, который все и решит, высылали сначала самолет-разведчик. Покачав крыльями, он улетал, а за ним появлялись «юнкерсы» и начинали утюжить окопы бомбами. Потом невдалеке поднимался аэростат, часто-часто шлепались мины, и только после этого, поливая все автоматным огнем, так что воздух пел от пуль, двигалась пехота, да еще при поддержке танков.
Под Воскресенском остатки роты набрели на батарею противотанковых орудий, где лежали убитые бойцы расчета. С пушками лейтенант чувствовал себя увереннее — все-таки был артиллерист — и решил дать бой. Но немецкие минометчики методично одно за другим вывели из строя все три орудия, а мотоциклисты и танки отсекли половину людей, с которыми потом не пришлось и встретиться. Для Леши Федорова то была едва ли не катастрофа. Зачеркивалось его прошлое потому что всю жизнь он мечтал быть именно профессиональным военным и готовился к этому. В семье был культ отца, погибшего в конце гражданской, отцовская шашка висела в комнате на стене, постоянно напоминая, и часто-часто мальчишеские пальцы охватывали эфес. С детства книги читались почти только о битвах и великих полководцах, игры во дворе на Арбате игрались только военные. В училище Алексей подал заявление не случайно, а будучи убежден, что Родину надо умело защищать и что здесь его призвание. И вдруг оказался несостоятельным — он не знал, что очутился со своей группой на острие одного из клиньев величайшей бронированной армады, какую пока еще знал мир. А надо было командовать, действовать. Он повел остаток роты на соединение со своими. Командирское дело сосредоточил на том, чтобы винтовки были вычищены до блеска, чтобы бойцы не распускались, были аккуратны. Похудевший, суровый, не допускающий улыбки на сжатые губы, всегда официально-подтянутый, он всем видом показывал, что не знает сомнений. Но час от часу они росли. Конечно, надо было пробиваться к своим, отступая. Но сколько можно? Уже до Москвы оставалось пятьдесят или даже меньше километров. Может быть, правильнее дать бой и погибнуть? Сам он, не задумываясь, так бы и поступил. Ну, а другие девятнадцать жизней? — он ведь и за них отвечал. И что нужнее сейчас: стать намертво против все равно какой силы или вывести, сохранить бойцов? А время не ждало, фашистская армия подходила к столице. Много легче было б лейтенанту, знай он, что десятки командиров — и меньших и больших, — выбираясь из «клещей», пересекая «клинья», решали тот же вопрос.
Они вышли к почте и все вместе, уже с Ефремовым, Мишей Андреевым, спустились в подвал, где еще вечером решено было переночевать. Клепиков спичкой — специально для этого берег, а закуривал только от кресала — зажег кусок провода.
Нина радостно огляделась:
— Уютно даже, смотрите. Наверное, они тут все устроили себе обстрел пережидать.
В подвале по полу была навалена солома, стояли стол, длинная скамья, и труба печки-«буржуйки» выходила в окошко
Ефремов, подвигая доски к печке, сказал:
— Затопим сейчас. Будет порядок.
У него так получилось, будто он здесь приготовил дров, прибрал, а не Миша.
Лейтенант неторопливо откашлялся.
— Так… Останавливаемся здесь, отдыхаем пока. Печку можно затопить, только винтовки к огню не ставить. Борисенко!.. Пойдешь на развилку вместо Самарина. — Он подошел к столу, над которым Клепиков уже пристраивал другой кусок провода. Вынул из планшета карту, расстелил. — Где мальчик-то?.. Иди сюда.
Мальчик, в шапке-ушанке и валенках, белобрысенький, подошел к столу.
— Как тебя звать?
— Ваня.
— Так, значит, Ваня, говоришь, немцы заняли Березовку?
Ефремов положил кусок сала на стол рядом с рукой лейтенанта.
— Товарищ лейтенант, вот сала съешьте, раздобыл.
— Что?.. Сало?.. Хорошо. — Он взял сало и сразу откусил кусок. — Когда они заняли деревню?
— Утром, — ответил мальчик.
— А какая часть вошла? Пехота? Или танки тоже?
Он вынул карандаш и, продолжая жевать сало, нарисовал на карте значок.
— А сколько танков?
— Много, — сказал мальчик. — Я не считал… И вот еще что, товарищ командир. Возле деревни много наших убитых лежит. У кузницы, над рекой. Там бомбежка сильная была, И ружья валяются. Два длинных таких, вроде противотанковые… Может, вернуться, принести?
Лейтенант покачал головой.
— Не выйдет. Раз они деревню заняли, значит боевое охранение выставили. Не подойдешь. — Он вдруг осознал, что ест сало. — А что это за сало у меня? Кто принес?
Ефремов бодро отозвался:
— Я принес, товарищ лейтенант. В доме брошенном на столе лежало.
— А почему не на всех? Возьми!
— Как — не на всех? — Ефремов уже склонился над своим мешком, загораживая его широкой спиной, пряча от посторонних глаз. — Вот сейчас буду делить. — Он положил большой кусок на стол, извлек из кармана складной нож, быстрым взглядом окинул всех в подвале и, почти не примериваясь, сразу развалил сало на двадцать ровных, как свешенных, частей. — Налетай, ребята!
— Для Борисенко оставь, — сказал лейтенант.
Для Борисенко было уже оставлено. Каждый подходил и брал быстро, чтоб другим не показалось, что выбирает побольше. Последним протянул руку к столу Тищенко, самый старый из всех. Ему было тридцать семь, и во время этих скитаний он не испытывал такого волчьего постоянного голода, как молодые, двадцатилетние. Несколько минут молча жевали. Сделалось теплее, уютнее.
Потом Тищенко спросил:
— Слушай, мальчик. Значит, ты сам видел немцев? Рядом?
— Ага. Рядом.
— А какие они? Как себя ведут?
Сразу стало тихо. Все прислушивались затаив дыхание, потому что это был вопрос вопросов. Война шла на дистанции, какая-то не личная, не человеческая, противник действовал издали, огнем, но надвигался неуклонно, и поэтому болезненно любопытно было узнать, какие же там, в его рядах, люди — такие ли, как мы.
Мальчик пожал плечами.
— Не знаю… В деревню вошли, шапки всех заставили снимать.
— Зачем? — Нина оскорбленно вскинула голову. — Чтоб кланялись им?
— Не. Смотрели, кто остриженный наголо. Красноармейцев то есть искали. Одного взяли и сразу увели.
— И что с ним потом? — бросил Ефремов.
— Не знаю. Я ведь убежал… Вот к вам пришел.
Помолчали. Евсеев, рассеивая наваждение, сказал:
— Ох, спать охота! Намаялся. — Опытный солдат из тех двоих, что присоединились сегодня, он толкнул ворох соломы к стеночке — по крайней мере, не наступят, — сунул под голову жиденький вещмешок и повернулся к Клепикову, досказывая начатое еще снаружи: — Так вот я тебе говорю на своем собственном факте. В снаряде бронебойную головку заменяли на осколочную и стреляли по пехоте.
Клепиков сомневался:
— А полезет осколочная в снаряд?
— Нажали — и полезла. Дульный шомпол наставляли и били по нему. — Он закрыл глаза и через мгновенье заснул, как засыпал последние сутки везде, где останавливался хоть на минуту.
И после этого все заговорили, задвигались, устраиваясь на отдых. Только лейтенант остался у стола.
Мальчик сказал Клепикову, который представлялся ему самым добрым и простым:
— А немцы злые. Холодно им. Прыгают.
Клепиков потянул его за руку к себе.
— Жалко, между прочим, противотанковые ружья. У меня вот четыре патрона есть… Да ты садись, чего стоишь — как тебя звать, Ваня, да? Отдыхай, теперь уж будешь с нами.
Ефремов, крупный, тяжелый, двигаясь проворно, как кошка, разжигал печку. С одного удара зажег отсыревшую спичку, с одной спички запалил наколотые лучинки Все у него получалось ладно и ловко — чувствовалось, нигде не пропадет.
Санинструктор Нина опустилась на пол напротив печки, дернула Мишу за полу шинели, чтоб сел рядом. Он стоял, сняв шапку, опять задумавшись, погрузившись в одно из тех своих состояний, когда происходящее вокруг казалось нереальным. На самом ли деле это все — война, не снится ли?
— Миша…
— А? Что?
— Садись. — Она говорила шепотом. — Ты почему сало не ел?
— Не хочу.
— Я твою долю взяла. На.
И Нина тоже заставляла Мишу Андреева размышлять и размышлять. В университете к нему, задумчивому, высокому, черноволосому, с молодым пушком на верхней губе, уже присматривались девушки. Он замечал их многозначительные взгляды, чересчур оживленный смех в своем присутствии, но робел, стеснялся заговаривать. И вдруг теперь появилась Нина, которая его притягивала и отталкивала. Уж очень много в ней намешалось. Когда была серьезной и молчаливой, он смотрел искоса на розовую щеку, на карий глаз, опушенный длинными ресницами, и казалось, что все б на свете отдал, чтоб только можно было взять ее шершавую руку, подержать в своей, погладить. Но у нее все мгновенно менялось. Вдруг привязывалась к Ефремову, вызывала его на рискованные шуточки. В такие минуты Андреев ее ненавидел.
Сейчас она сказала:
— Я тебе говорю, съешь сало. Надо есть.
— Отстань.
— Приказываешь отстать?
— Нет, не приказываю.
— Просишь?
Он заговорил серьезно:
— Опять ты начинаешь. И не приказываю и не прошу. Какая ты странная! Неужели не понимаешь, что можно и не приказывать, и не просить? А просто так.
Она всплеснула руками.
— Ой, какая ж я странная? Это вы, студенты, все гордые такие, недотроги. — Она придвинулась ближе и вдруг обняла его. — Слушай, а у тебя девушка осталась в Москве?
Миша почувствовал плечом ее грудь, его в жар бросило, и он резко оттолкнул ее:
— Ну что ты! Зачем?
Она, наклонившись, смотрела снизу ему в глаза.
— Тебе неприятно? А по-моему, я тебе нравлюсь.
— Неправда.
— Врешь. — Это было сказано шепотом.
Врать Миша считал постыдным, он угрюмо отвернулся.
— Вру. Но при чем тут это? Ты что — не понимаешь, какое положение. Нашла время.
Что-то странное появилось в ее взгляде — почти упрек, почти презренье. Она вздохнула.
— А оно у нас еще будет — время?.. Эх, Миша, Мишенька!
Тищенко, сидя неподалеку, слушал этот разговор и думал, что вот война, а молодые все равно рассуждают о любви. Ему было физически труднее, чем всем другим здесь. Он был колхозным агрономом, призванным из запаса. Учился в голодное, тяжелое время, потерял много здоровья, и только стало все налаживаться, женился, завел семью — ударила война. Он чувствовал, что долго ему не выдержать. А очень хотелось выдержать, потому что недавно его осенила интересная мысль о том, как по-новому, совсем иначе, чем было принято, опрыскивать сады.
Разуваев вынул из кармана несколько фотографий, разложил их на коленях, рассматривая. На всех была изображена одна и та же девушка. Один снимок изображал ее в лыжном костюме, другой — в светлом платье на школьном вечере среди подруг, с третьего она смотрела, щурясь от солнца в саду.
Разуваев последние дни часто рассматривал эти фотографии, теперь он стал показывать их Клепикову, и тот кивал зевая.
— Ничего… Подходящая.
Печка тем временем загудела туго, весело. Ефремов распахнул дверцу, оттуда пахнуло жаром. Он присел рядом с Ниной, уже сбросившей шинель, и как бы ненароком положил ей руку на колено.
— Ну давай, санинструктор, двигайся ближе.
Она резко дернулась.
— Руки не распускай! — Поднялась и, обойдя Мишу, села с другой стороны. Сняла сапоги. Ноги ее в коричневых толстых чулках были очень стройные. Она повертела одной, подставляя ее к теплу, потом другой. — Чулочки у меня розовые дома остались — загляденье. Миша, одобряешь ты розовые чулки на девушках?
Все смотрели на ее ноги, и Мише было стыдно за нее. Он громко сказал:
— Слушай, а чего ты всегда свои ноги выставляешь?
Нина удивилась:
— Ноги?.. Потому что они у меня есть.
— Ну и что? У меня тоже есть ноги.
Она посмотрела на его разбитые, не по размеру попавшие большие кирзовые сапоги и фыркнула:
— Сравнил! — Потом встала и прошлась. — А пол холодный. Эй, Ефремов, нравятся тебе мои ноги? Вставай, спляшем что-нибудь: полечку или падекатр.
Ефремов уже знал, что всякая игра с Ниной кончается не в его пользу, но не удержался и подхватил вызов.
— Сплясал бы я с тобой по-другому.
— А по какому? — В голосе у нее была сама наивность.
Но Ефремов чувствовал, что дальше нельзя. Что-то в ней было такое, что не позволяло. Он встал, пытаясь как бы в шутку обнять ее.
— Иди сюда, погрею.
Сразу вдруг помрачнев, Нина ударила его по руке.
— Не торопись. Согреешься утром сам, когда танки пойдут.
И Ефремов, опомнившись, помрачнел тоже. Верно, что не время баловаться. Он постоял чуть, потом пошел к столу.
Лейтенант все сидел над картой. Это было его правилом — каждый вечер развертывать ее, стершуюся на сгибах, кое-где порванную. Не очень-то большой содержался в этом смысл, но бойцы должны были знать, что командир контролирует положение, что взвод движется через леса и горящие деревни, выполняя определенную военную задачу, а не просто так. И это его бдение над картой строго охранялось всеми.
На этот раз Ефремов нарушил. Он чуть подался вперед, нависая над столом и сидящим командиром.
— Товарищ лейтенант…
Федоров не поднимал глаз.
— Слышь, товарищ лейтенант… Может, пойдем уже, а? Особенно рассиживаться некогда — отрежут. Раз немцы в Березовке, точно, что утром пойдут танки. Пора уже на Синюхино двигать. Тут ночевать нельзя.
И, так же не поднимая взгляда, лейтенант сказал:
— Отступать не будем. Москва уже близко, и где-то рядом наши части должны быть. Позиция хорошая… Здесь примем бой.
В Варшаве, на улице Длугой, мать Юзефа Зелинского, арестованного днем в подпольной кондитерской, посмотрела на часы. Стрелки показывали два ночи. Двое сыновей ее были расстреляны гитлеровцами, теперь она поняла, что третий тоже погиб. В соседней комнате на постели умирал туберкулезный муж. Для того чтоб его поддержать, Юзик и пошел на опасную работу. Пани Зелинская, маленькая, седая, повторяла, тупо глядя перед собой: «Ну разве так можно?.. Ну разве так можно?..» Послышался стон; не совсем сознавая, что она делает, женщина вышла в другую комнату и наклонилась над умирающим. Зелинский-старший что-то пытался объяснить, поднимая правую руку. Он хотел ей сказать, чтоб она сейчас сняла обручальное кольцо с его пальца, потому что после смерти рука распухнет. Маленький кусочек золота был единственным, что он мог отдать жене, что стало бы между ней и беспощадным миром…
Гейдрих в Чернинском дворце оглядел свою аудиторию в зеленых, черных и коричневых мундирах.
— Господа! Сейчас под руководством фюрера мы заняли многие территории в Европе. Надо сказать со всей ясностью, что мы останемся на этих территориях навсегда…
…Гитлер в личных апартаментах «волчьего окопа» отходил ко сну. Офицер, посланный фельдмаршалом, заверил его, что Клюге не сомневается в успехе. Великое решение фюрера, реализованное главным командованием вермахта в виде плана «Тайфун», оказывалось правильным.
…Негромко сказал лейтенант, что здесь будет принят бой, но прозвучало веско. Прорезало разговоры, шевеленья засыпающих, треск углей в печурке. И у всех екнуло сердце.
Но только не у Ефремова, потому что он сначала не поверил, не ощутил серьезности тона. Подумал, что лейтенант шутит или просто не понимает.
— Какой же бой? — он недоуменно оглянулся, ища поддержки. — У них же сила, танки… Слыхал — «не будем отступать»?
Бойцы молчали; он в растерянности отошел от стола и сел рядом с Клепиковым.
Нина, как будто ничего не случилось, мечтательно начала:
— А над Москвой сейчас звезды… Раньше как-то не видно было. Не замечали, потому что светло на улицах. Девчата с нашего двора вечером после работы в Большой театр, наверное, пошли спрашивать лишний билетик.
Разуваев с большей заинтересованностью, чем на самом деле чувствовал, спросил:
— Работает разве театр?
— Большой?.. Конечно, работает. Силы, знаешь, какие — Лемешев, Козловский. Мы до армии с подругой каждый вечер бегали, всю осень. Или в Большой, или на танцы. — Санинструктор повернулась к Мише. — Миша, а ты умеешь танцевать?
— Танцевать?.. Нет, не умею.
— А ты где учился? В математическом институте?
— В университете. На первом курсе.
— Разве у вас танцев не было?
— Нет… То есть были. Вечера. — Он никак не мог понять, почему она прицепилась к этим танцам, и не мог сосредоточиться на этом вопросе. — Но я не умел танцевать.
— Почему ты говоришь — не умел? — не отставала Нина. — Разве ты сейчас выучился?
Он удивленно посмотрел на нее:
— Откуда?
— А я часто-часто ходила, — прищурилась Нина, вспоминая. — В Парк культуры Горького, на веранду. Платье лимонное наденешь вот с таким поясом, туфли-лодочки лакированные. Выйдешь, глазки сделаешь «в угол, на нос, на предмет», мальчишки так и падают кругом.
— Что это значит — в угол, на нос?
— Эх, студент, — она усмехнулась, — даже этого не знаешь! Вот Ефремов-то, наверное, понял. Правда, Ефремов?.. Ну, глазки же так делают. В угол посмотришь, на нос, потом на предмет — на мальчика то есть, от которого ждешь приглашенья…Слушай, а ты где в Москве жил?
— В Центре, — сказал Миша. Он повернулся к ней. — Вот мне даже интересно: ты на самом деле такая или представляешься? Скажи, что бы ты от жизни хотела?
— Я? — Нина закинула руки за голову. Она видела, что Ефремов пробудился от своих дум и жадно смотрит на нее. — Платье из панбархата черное — это раз. И чтобы все мальчишки были в меня влюблены — два… Так ты где жил, на какой улице?
— А ну тебя, — Миша отвернулся.
Но Нину невозможно было обидеть, если она сама не собиралась обижаться.
— А я на Серпуховке. И работала там в универмаге… У нас хорошая улица. Все-все есть. Кино в клубе имени Ильича, магазины все. — Она увидела, что лейтенант торопливо пишет что-то за столом и подтолкнула Мишу локтем. — Ручаюсь, что девушке. Как ты считаешь, а?
— Значит, ты из Москвы, Нина, да? — спросил Разуваев.
— А то откуда?! — Нина вскинула голову с гордостью настоящей коренной москвички. Как будто такая, как есть, она не согласилась бы родиться в другом месте.
Разуваев вздохнул. Хорошие были девчонки в Москве, но он чувствовал, что такие не для него. Вспомнилось, как они с отцом побывали в столице проездом. До поезда было три часа, вошли в метро у Ярославского вокзала. Было шумно, все бежали, толкались. Они с отцом тоже побежали и только потом, опомнившись, спросили себя: нам-то куда торопиться?
Он опять вынул из кармана фотографии и протянул Нине:
— Ты не видела фото у меня. Вот тут она на лыжах… Я все время о ней думаю. Ждет, наверное.
Нина снисходительно взяла фотографии. Девушка была действительно красивая, но как-то не в пару Разуваеву. Слишком тонкой, нежной выглядела рядом с верзилой сибиряком.
— Ничего девчонка… На, держи.
Агроном Тищенко кончил что-то записывать в книжечку огрызком карандаша и откашлялся.
— Товарищи… Вот тут одно важное дело. Как бы изобретение небольшое. Я понял, что сады правильнее опрыскивать ночью, а не днем. Осенью мне пришло в голову — у костра сидишь, а мошкара летит. Но это очень важно, понимаете… Бой будет, так чтобы не пропало… Яблоки, груши, вишню, нужно освещать автомобильной фарой и опрыскивать тогда. Я все продумал. Во-первых, уязвимость вредителей больше. Днем они прячутся под корой, и…
А до Ефремова тем временем постепенно доходило, что действительно будет бой, в котором совершенно запросто и без всякой пользы для кого-нибудь помрешь. Сначала он надеялся, что взвод будет протестовать, образумит лейтенанта, но бойцы не только не протестовали, а своими разговорами о постороннем как бы подтверждали, что такой кучке людей с винтовками выступить против танкового соединения самое нормальное дело.
Слова агронома окончательно вывели Ефремова из себя, он вскочил.
— Нет, вот я смотрю на вас, — вы все тронутые. Лемешев, фотокарточки, садочки-цветочки… Вы что — с ума посходили? Утром немцы танками всех… Яблоки, груши! «Бей фашистского гада штыком и прикладом!» Вот-вот: ты его прикладом, а он тебя самолетом. — Ефремов прошелся взглядом по лицам, ища понимающего, разумного, практичного человека, и остановился на Клепикове.
— Ну скажи, Иван, неправда?
Клепиков не стал отрицать. Кивнул.
— Насчет самолета точно. Вот меня взять. На нас «юнкерсы» летели под Оршей, мы давай из винтовок палить. Я выстрелил, гляжу, вроде он падает, и из него щепки сыплются. А это он пикировал и мелкие бомбы десятками бросал.
— Ну факт же, — согласился Ефремов. — А я что говорю?
Но Клепиков еще не кончил.
— Правда, потом мы им дали. Я сам под Оршей два танка подбил.
Ефремов спросил с издевкой:
— Из винтовки?
— Почему из винтовки? Я в артиллерии был. Наша батарея в одном бою четыреста снарядов израсходовала. Я сперва никак. Пристрелочный даю впереди танка, а его же взрывом и пылью прикрывает. Потом приспособился и два подбил.
— Ну и что такое — два? — Ефремов был уже в бешенстве. Кроме всего прочего, ускользала возможность попасть в Синюхино, даже если сумеет живым остаться. — Два! А у него тысяча осталась. Миллион! Что ж нам делать — ждать, пока всех подавят?
Резко стукнул отодвигаемый стол. Все посмотрели на лейтенанта. Он встал, дописывая письмо, аккуратно сложил его, сунул в карман гимнастерки.
— Товарищи, внимание! — Голос его звучал спокойно, уверенно. Он поправил шинель, ремень. — Разъясняю обстановку. Вот здесь, на карте, все ясно. (На самом деле ничего не было ясно на этой карте.) Значит, так. Положение такое. Связи с батальоном нет. Где штаб полка, тоже неизвестно. От роты осталось двадцать человек. Но отступать дальше мы не имеем права, до Москвы пятьдесят километров. — Голос его стал еще тверже. — Ни шагу назад нам нельзя отходить. Поэтому я принял решение занять позицию здесь и стоять до конца. Ясно? Одним словом, это будет битва за Москву.
Так резко это прозвучало, что спящий Евсеев, не открывая глаз, схватился за винтовку.
— Разделимся на два отделения, — так же уверенно продолжал лейтенант. — Первое займет оборону здесь, второе — у гаража. Первым командую я, во втором старшим будет Клепиков. По пехоте будем вести прицельный огонь, винтовочный. От танков отбиваться гранатами. Пространство между обоими точками простреливается. Задача ясна? Всем приступить к чистке оружия. Боец Андреев, ко мне!
Шагая, как на параде, он вышел из подвала, и Миша последовал за ним. Ночь еще стояла в полной силе, безбрежно во тьму уходили снега.
— Миша, — вдруг сказал лейтенант. Он по имени не обращался к другу с той поры, как убило комроты. — Но ты понял, что иначе нельзя, ведь верно? — Его голос звучал горячо-горячо, обжигая. — Неправильно мы воюем — вот что! Ну, первый бой — батальон с фланга отошел, поэтому они нас разбили. А второй раз — я сейчас понял — я виноват. Конечно, у них силы превосходящие и танки. А мы что сделали? Три орудия выставили, окопались и даже землю выброшенную не замаскировали. Прямо желтый песок на черном. И бойцов я распределил по всему фронту обороны — один другого не видит. Ясно, что человек испугался, раз он в одиночку и не знает, что с другими делается. Но ведь я по уставу действовал, понимаешь. А сейчас решил, иначе надо… Ты о чем думаешь? Слушаешь меня? — Он хотел излить другу все, что накопилось за тяжкие дни одинокой командирской высоты.
— Слушаю, Лешка. Ты продолжай.
— Нет, ты скажи, о чем думал. Правильно я решил или нет?
— Я не об этом думал. Вообще, как это все так получилось: война и то, что люди такие разные? Ефремов, например.
— А что Ефремов?
— Так… Ну ты говори… Что ты еще хотел сказать?
Многое хотел сказать Леша Федоров, но уже остывал. И кроме того, почувствовал, что перед боем нельзя распускаться. Он вздохнул и огляделся.
— Ладно. Бой, в общем, покажет. — Он вынул из кармана сложенный листок. — Если… если меня убьют — одним словом, отдашь это письмо маме. Матери… Квартиру не забыл?
Но Миша отодвинул руку.
— А почему ты считаешь, что меня не убьют? Думаешь, я себя буду спасать?.. Тебе так кажется, потому что я в артиллерийское тогда с вами не подал?
Давняя это была обида — с тех дней, как два года тому назад чуть ли не полкласса подали в военные училища, а Мишу классный преподаватель уговорил, что место его в университете и что физики-теоретики не меньше будут нужны стране, чем артиллеристы. Долго Миша считал себя трусом, и долго совестно было ему смотреть на бравых курсантов — вчерашних одноклассников, лихо вальсирующих на школьных вечерах.
Но лейтенант не оценил глубины Мишиных страданий.
— Ты?.. Вот тоже скажешь! При чем тут это? Мы же все понимали, что раз у тебя способности такие… — Он вынул еще один сложенный листок. — Я ведь тоже к твоей маме зайду, к Валентине Сергеевне, если наоборот… А вот эту Вере занесешь, в третий подъезд в вашем доме. Если жив останешься.
— Верке Самсоновой? — Он помнил эту Верку еще с детского сада.
— Нет, — покачал головой Леша, — теперь уже не Самсоновой… а Федоровой.
Миша отступил с крайним удивлением. И сразу ему представилась другая Вера — высокая, с развитой фигурой, в модном жакетике, та, что в последнее время перед войной уж очень официально и независимо отвечала на его небрежные «Здорово, Верк».
— Понимаешь, — сказал лейтенант, — когда у нас переформировка была в Москве, мы с ней встретились и решили… Еще даже никто не знает — ни мать, ни ее родители. Последнее письмо от нее получил в конце сентября. Пишет, что на завод устроилась, мать ее в свою бригаду взяла. Так-то ведь они знакомы…
А Миша думал о том, как обогнал его друг, который всего на полгода был старше его, восемнадцатилетнего. Он прошептал:
— Значит, мы уже совсем-совсем взрослые?
Леша кивнул.
— Ну ладно. Проверь свою винтовку.
Он открыл дверь в подвал. Все занимались делом, только Ефремов стоял, мрачно уставившись в пол.
— Почему не чистите оружия, Ефремов?
Тот поднял на лейтенанта злые глаза.
— А чего ее чистить? Палка — она палка и есть. Отступать надо. Через два часа немцы танками всех перемелют, кровавая каша от нас останется. Надо идти на Синюхино.
— Повторяю, приказа отступать не будет. Понятно? — Лейтенант не повысил голоса.
— У немцев дивизия, а тут взвод. — Ефремов уже сорвался и почти кричал. — Что мы одни-то можем сделать?
Еще спокойнее лейтенант сказал:
— Я спрашиваю: приказ понятен?
В четыре ночи на Восточном фронте немецкий полковник, расположившийся в крестьянском деревянном доме, из которого были выгнаны хозяева (он даже не видел их в лицо), вызвал к себе командиров рот. Полковник поговорил с командирами недолго, они разошлись, а через десять минут ожила вся длинная деревенская улица, сплошь забитая техникой. Танкисты ломали заборы, сараи, пилили доски и бревна, разжигали костры под днищами своих машин, чтобы прогреть моторы. Слышались натянутые шутки, водители и стрелки подбадривали друг друга — то была нервная разрядка перед решающим походом в неожиданно затянувшейся, неожиданно жестокой и трудной войне в России. Некоторые рисовали себе в мыслях, что еще сегодня вечером пройдутся, посмеиваясь, по московским улицам, ловя испуганные взгляды жителей — женщин, девушек. Сам полковник через знакомого при штабе Клюге знал, что фюрер решил Москву разрушить. Войска должны были войти и выйти, окружив большевистскую столицу кольцом огня, никого не выпуская в течение нескольких месяцев, дожидаясь, пока от голода и болезней огромный город вымрет до единого человека.
Всю ночь майор Токарев из 210-й дивизии с ординарцем рыскали по деревням в направлении к шоссе на Москву. Надо было определить, где свои и до какого рубежа продвинулись немецкие танковые клинья. Двести десятая была измотана тяжелыми боями и тем, что приходилось гнаться за противником, обтекавшим ее с флангов, приходилось снова и снова с ходу подставлять себя под танковые удары, не давая врагу прорываться к востоку, задерживая его, сбивая общий стратегический план фашистского командования. Сейчас немцы опять обошли, оторвались, только весь день над обескровленными, поредевшими частями висели бомбардировщики. Майору опять предстояло разведать обстановку, собрать поблизости все боеспособное, найти позицию, где снова завязать сражение и преградить немцам путь.
Почти на исходе сил двое вышли к окраине городка. Ординарец показал на трубу, высунувшуюся из подвального окошка в кирпичном здании, откуда шел легкий дымок. И тут же они услышали оклик:
— Кто идет?
Они спустились к подвальной двери, открыли ее. Внутри горел телефонный провод и было человек двадцать бойцов с молоденьким лейтенантом. Казалось, будто здесь ведется какое-то обсуждение. Однако наметанный, опытный глаз майора сразу отметил, что это не та группа, что, отбившись от своих, бесцельно бродит. Народ был подтянутый, аккуратный. Ни обгорелых, сожженных у костра шинелей, ни опущенных на уши пилоток, ни грязных, заросших лиц. И все с оружием.
Мальчишка лейтенант глянул на майорские погоны, лицо его просветлело, он скомандовал:
— Встать! Смир-рно!
Майор, тяжело дыша, сдерживая себя, чтоб не прислониться к косяку, спросил хрипло:
— Что за часть?
— Вторая рота Сто шестидесятого отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, товарищ майор. Докладывает лейтенант Федоров.
— Сколько боеспособных?
— Двадцать человек. Оружие: винтовки, пулемет, но без лент, гранат РГД тридцать пять штук, противотанковых пятнадцать.
Хорошо он отвечал. Четко, красиво чеканил, как на плацу в военном училище или в летних лагерях. Эта манера ответа на миг вернула майора к мирному времени, к приятным, легким с сегодняшней точки зрения заботам — воспитывать, учить сотни таких дюжих парней, сдерживая, направляя рвущуюся из них энергию и силу.
— Как здесь оказались?
Голос лейтенанта стал глуше:
— Противник нас выбил из Воскресенского, товарищ майор. Связь со своими потеряли. Решили занять позицию здесь.
— Так, — сказал майор. — Подчиняю вас себе. Четвертому полку Двести десятой дивизии. Вольно!.. Дайте карту, показывайте, где противник, где вы.
Быстро, четкими привычными движениями лейтенант выхватил из полевой сумки карту, расстелил на столе. И она тоже была в порядке, с должными нарисованными стрелочками и извилистыми линиями. Все больше нравился лейтенант майору и все больше напоминал ему сына, который на Южном фронте тоже вот так, быть может, отчитывался сейчас перед другим старшим начальником.
— Я разделил бойцов на две группы, товарищ майор, — докладывал лейтенант. — То есть разделяю. Вот здесь и здесь. Обе точки могут держаться самостоятельно. Противника ожидаем отсюда — его танковая часть заняла Березовку. Окопы и противотанковые щели мы нашли уже оборудованными.
— Связь между группами?
— Зрительная, товарищ майор.
Лейтенант отступил, снова стал в стойку «смирно», тревожно глядя на майора: одобрит или нет?
А майор, удивляясь, говорил себе, что парень-то стратег. В голову мальчишке пришло как раз то, о чем на опыте десятков боев и схваток этого тяжкого лета и еще более тяжкой осени размышляли командиры всех рангов — не распылять бойцов, держать компактными группами, не бояться оголить кусок обороны, если местность по фронту все равно простреливается, даже пропускать танки через свой порядок, отсекая их от пехоты и поражая машины врага с тыла. Майор смотрел на лейтенанта — юноша станет настоящим, большим военным, если, конечно, останется жив. Майор сглотнул, голос его, сорванный, осипший, которым приходилось перекрикивать и гул бомбовых разрывов, и панические возгласы слабых, и рев танковых двигателей, потеплел и смягчился.
— Хорошо, — сказал он, выпрямляясь. — Одобряю ваше решение. Позиция выбрана правильно… Постройте людей.
Великое облегчение выразилось на лице лейтенанта при слове «правильно», радость сверкнула в его глазах, и с бодрой готовностью он скомандовал:
— Стано-вись!
Майор прошелся перед маленьким строем. Помолчал.
Потрескивали угли в печке. Ординарец уронил было голову на грудь, но, почувствовав взгляд майора, вскинул ее.
— Товарищи бойцы, ставлю задачу. Отсюда ни шагу назад. Четвертый и второй полки будут выходить из леса и оседлывать шоссе на Москву. На танкоопасных направлениях поставлены заслоны, и вы тоже будете нас прикрывать. Надо стоять насмерть и задержать хоть ненадолго танковый удар в наш фланг. Сумеете приостановить врага на полчаса — хорошо. На сорок минут — лучше. Задержите на час — мы подготовим прочную оборону… Я иду к своим, если успею, пришлю вам еще людей. Задача ясна?
— Понятно, товарищ майор, — сказал лейтенант.
— Надеюсь на вас, товарищи. Не пропустим врага на московские улицы. Положение тяжелое, но уже подходят на помощь столице свежие сибирские дивизии. Нам еще немного продержаться… — От неожиданно вспыхнувшего волнения у него вдруг увлажнились глаза. Ведь обязательно пробьет час, когда фронт перейдет в наступление, должен пробить. Майор остановился перед большого роста бойцом, лицо которого смутно казалось ему знакомым. — Ну что, продержимся, солдат? Как твоя фамилия?
— Е-ефремов, — затрудненно и после паузы произнес солдат.
— Будем держать немцев, Ефремов? Что молчите?
Девушка с карими глазами сказала:
— Выстоим, товарищ майор.
Он кивнул:
— Правильно, санинструктор. Надо… Надеюсь на вас, товарищи. — Потом повернулся к лейтенанту. — Там над ручьем разбитая минометная батарея. Есть целый миномет и мины. Выделите бойцов, пусть принесут. Сами пойдете со мной, покажете ваш рубеж обороны.
Майор пошел к выходу. За ним оба отделения во главе с лейтенантом.
Мальчишка — о нем все забыли, хотя он был тут, — решительно натянул шапку на голову, тоже двинулся к двери. Санинструктор Нина старалась поставить пистолет ТТ на боевой взвод. Пистолет достался ей от убитого комсорга Зайцева, она еще не очень в нем разобралась.
Нина подняла глаза на Ефремова, который чего-то ждал, сбычившись и напрягшись.
— Слушай, ты знаешь, как его заряжать? — Что-то щелкнуло у нее в руках, она закусила губу, кивнула. — А, вот так!
Они остались вдвоем в подвале, и только теперь Ефремов с каким-то странным свистом втянул в себя воздух и издал короткий удивленный смешок.
— Пронесло! Мать честная, как пронесло!
Он заметался, бросился было к своему вещмешку, передумал, подбежал к двери посмотреть, все ли ушли. Он понимал, что смерть скользнула мимо него в сантиметре. Майор случайно не узнал его — из-за усталости. Ефремов служил в комендантском взводе второго полка и, когда неделю назад немецкие танки прорвались к штабному блиндажу, вышел из боя и убежал как раз на глазах Токарева, который приказывал ему остаться и даже выстрелил вслед. Убежал, через два дня набрел в лесу на группу Федорова, но не сказал лейтенанту, что полк тут же, недалеко от Воскресенского. Опознал бы майор дезертира, тут сразу все и кончилось бы. Ефремов это понимал, но такой исход представлялся ему страшной глупостью, потому что, с его собственной точки зрения, наказывать его было не за что. Вообще, майор, лейтенант и вот эти бойцы порой казались Ефремову просто сумасшедшими — все продолжают играть в войну, хотя сопротивление такой силе бессмысленно. А остальные из робости и пассивности поддакивают. Про себя же Ефремов мог сказать, что он не робкий и не сумасшедший. Он начал работать в шестнадцать лет в магазине, где его дядя был заведующим, и сейчас, к двадцати четырем годам, считал, что знает жизнь, как никто. В любой компании он был первым, первым, как ему чудилось, стал бы и на фронте, если б дело шло к победе. Но сейчас ему было ясно, что патриотизм уже другое означает — смотреть, как положение меняется, и проспосабливаться. Припасать на будущее, а не то что «Ни шагу назад!».
Он схватил Нину за руку.
— Пошли.
Занятая пистолетом, она не поняла.
— Что?
— В Синюхино сейчас пойдем. Ты ведь тоже не дура здесь оставаться. Они тут все смертники. Майор сказал «стойте», они и уши развесили. Кишка тонка оказалась, поддались на настроение.
Санинструктор смотрела на него непонимающе, и он заторопился, объясняя:
— У меня в Синюхине дядя, спрячет за милую душу. И при немцах можно жить. К дяде придем, переоденемся. Немцы войдут: так, мол, и так, скажем — муж и жена. Они это любят — красноармейца или командира возьмут, а семье ничего не сделают. — Он даже не заметил, как девушку вдруг отодвинуло от него. — Я давно бы ушел, да одному опасно, в пленные заберут.
— Постой, а наши вернутся? — Голос Нины был неожиданно высоким, звенящим.
Но Ефремова уже понесло.
— Куда? В Синюхино вернутся, когда немцы туда войдут? Да ты сама-то веришь?.. Теперь хана уж нашим. Я-то еще подо Ржевом понял, что раз у них такая техника… — Он поднял свой вещмешок. — Давай пошли.
Лицо Нины изменилось, оно сделалось усталым-усталым. Равнодушно она сказала:
— Ну что же, идем. — И сунула пистолет в карман.
Они поднялись наверх. Ефремов зорко осмотрелся. Никого поблизости не было. Свернули за почту и стали спускаться в овраг.
Ефремов встряхнул вещмешок. Он делался все оживленнее, не замечая, что Нина бредет за ним, опустив голову.
— Не бойся, со мной не пропадешь. Я в Москве заведующим продсклада был, другой директор того не имел, что у меня было. И сейчас нам на первое время хватит. Я, думаешь, не вижу, чего тебе надо. Про платье бархатное говорила — у тебя десять будет. — Он взял ее за руку и свернул прямо в снег. — Сейчас сюда. Я тут все места знаю.
Они спустились на дно оврага к замерзшему ручью. Нина сказала, высвобождая руку:
— Ты иди вперед…
Утром в 10.30 у Куйбышева идущий зеленой улицей почти без остановок состав прогрохотал длинным высоко висящим мостом над замерзшей, подернутой туманом Волгой. Мимо рабочих, ремонтирующих путь, пронеслись теплушки, заполненные ладными, крепкими ребятами-сибиряками. Все шли и шли такие составы на запад. Вдыхая запахи мазута, пара и машинного масла, рабочие смотрели на вагоны. Успеют ли?
Звуки трех выстрелов подряд настигли майора с ординарцем уже на противоположной окраине городка.
— Что-то у лейтенанта, — сказал ординарец, останавливаясь.
Поле, окаймленное темными лесами, расстилалось перед ними. В ста метрах впереди дорога поворачивала под прямым углом и там дальше ее сжимали холмы. Луна скрылась за горизонтом, едва заметно побелел край неба.
— Ну ладно, Моисеенко, — сказал Токарев. Он тоже едва держался на ногах — не спал около двух суток. — Иди в полк, скажешь, чтоб Самойлов выводил людей на отметку сто десять, вон к тем холмам. Я эти места знаю. Размечу позиции для батареи. Буду вас встречать, когда выходить начнете. Давай, Моисеенко. Давай.
Он направился к холмам по целине, сразу увяз и подумал, что немецкие танки с их узкими гусеницами тут не пройдут, вынуждены будут жаться к дороге.
Выстрелы у Федорова не обеспокоили майора, он был уверен, что там все будет в порядке.
Лейтенант Федоров с двумя бойцами подбежали к зданию почты, как раз когда Нина поднялась из оврага, волоча за собой по снегу тяжелый, туго набитый вещмешок.
— Что случилось?.. Кто стрелял? Соловьева, ты?
Она безразлично сказала:
— Ефремов застрелился. Струсил и застрелился. — И прошла мимо бойцов в подвал, будто не видя их, белая, без кровинки в лице.
— А черт! — Лейтенант бросился тропинкой вниз.
Нина швырнула вещмешок в угол к стене. Он грохнулся тяжко, со звоном возле Евсеева, и тот, проснувшись, сразу сел, осматриваясь.
— Что — начинается?
Санинструктор, глядя в сторону, ответила равнодушно:
— Спи пока. Не началось еще…
Евсеев кивнул успокоенно и улегся. Опытный солдат, он воевал, начиная от границы, и знал, что, если есть возможность поспать, упускать нельзя, потом не отдадут.
Лейтенант бегом скатился в подвал. Он был ожесточен: чепе — чрезвычайное происшествие! А ведь все как будто начало складываться хорошо: правильно он определил, когда прекратить отход, точно выбрал позицию для обороны, верным было решение разделить бойцов на две группы. И вдруг на тебе — Ефремов оказался ненадежен. Настоящий командир не допустил бы такого.
Он приступил к Нине.
— Слушай, Соловьева, как это получилось? И ты почему с ним была?
Бойцы опять набились в подвал. Клепиков шагнул к вещмешку старшины, проворно развязал затянутый шнурок на горловине.
— Ну-ка, поглядим, чего у него там.
Он вывернул содержимое на пол, в разные стороны покатились, звякая, какие-то часы, кольца, портсигар, кофточки, мех. Действительно, подготовил себе Ефремов кое-что на первое время, но теперь оно уже не могло ему пригодиться.
Кто-то ахнул.
Клепиков машинально, не замечая, обтер ладони о шинель. Ему представилась рука убитого командира, лежащего в окопе, и то, как Ефремов, ловкий, ладный, опасливо озираясь узкими глазами, снимает с мертвого запястья часы.
— Он, выходит, гад, грабил. С убитых снимал и шарил по домам.
Лейтенант, обойдя стопку одежды, шагнул к Нине.
— Не может быть, чтоб он сам застрелился, Соловьева. Не может этого быть.
Она, опустила голову, но промолчала.
Миша Андреев ошеломленно спросил:
— Значит, ты… Значит, ты его убила?
У нее вздрогнули плечи, и вдруг все увидели, что она давно уже плачет. Она старалась сдержаться, но рыдания рвались — в них был страх, который пришлось превозмочь, решимость, которой надо было набраться, чтоб выстрелить в человека. Не издалека ведь, а рядом, не в гитлеровца, а в русского, своего.
Миша осторожно взял ее за плечо:
— Не плачь, не надо.
— Отстань, студент! — Она отбросила его руку. Никто ее тут не понимал, кроме лейтенанта, одобрительный взгляд которого она замечала порой, когда принималась дразнить бойцов и вызывать их на шуточки. Только он, может быть, смутно догадывался, что с ним пополам она взяла на плечи главную тяжесть отступления, что вместе они несли что-то такое, чего-растерять нельзя. А уж Миша-то совсем ничего не в состоянии был почувствовать. Почти как Ефремов верил, что ей, кроме платья из панбархата, ничего не надо. И самое обидное в том состояло, что именно он ей нравился. Она гневно повернулась к нему.
— Тоже, наверное, думаешь, что если девушка веселая, если шутит, так она подлая.
Он твердо ответил:
— Нет, неправда. Я тебя понял теперь. Ты прости… И никто про тебя ничего плохого не думает.
— Факт, конечно, Соловьева, — сказал лейтенант. — Ну ладно. — Он посмотрел на часы. — Рассвет уже скоро… Клепиков, миномет поставили у гаража?
— Поставили и мины принесли, товарищ лейтенант.
— Если танки без пехоты пойдут, стрелять не будем, чтобы себя не открыть… Борисенко надо сменить на развилке. Пошлешь, Клепиков, кого-нибудь из своего отделения. А пока можно еще полчаса отдохнуть.
Нина, вытирая глаза, каким-то детским голосом сказала:
— Холодно. Хоть бы в печку подбросили.
Сразу все засуетились. Огонь вмиг разгорелся. Шурша соломой, бойцы уселись, а лейтенант опять расстелил карту на столе — его уже беспокоило, этой ли дорогой пойдут из Березовки танки противника.
Разуваев достал из кармана фотографии девушки и стал показывать их Тищенко.
— А как ее зовут? — спросил агроном. Ему особенно нравилась фотография, сделанная где-то в саду.
— Кого? — Разуваев не понял.
— Вот эту девушку.
— Эту?
— Ну да, — вмешался Миша. — Эту твою девушку.
— А откуда я знаю?
Тут все посмотрели на Разуваева. Миша пожал плечами:
— Чудак ты, Володька. Как же ты не знаешь?
Разуваев недоуменно обвел бойцов взглядом голубых глаз.
— Так это же я у летчика убитого из кармана вынул. Помните, который «юнкерс» поджег?.. Мы с Колей Зайцевым, с замполитом, вынули. Думали, документы какие-нибудь — родным сообщить. А только фотографии и были, больше ничего. Только вот эта девушка.
— Да-а, — протянул Николай Бирюков. Он хотел взять у Разуваева снимки, но его опередила Нина.
— Дай-ка. — Она нахмурилась и тряхнула головой, со странным чувством рассматривая глядевшую на нее блондинку. Почему-то все в ее облике приобрело другое значение, когда оказалось, что это не Разуваева девушка, а любимая неизвестного летчика. Но уже погибшего. С Володей Разуваевым было просто — он здесь, а подруга ждет его в Сибири. А теперь пачка карточек скрывала тайну и трагедию.
— Красивая девушка, — сказал лейтенант.
Стук шагов вдруг послышался сверху, и часовой крикнул:
— Немец ракету кинул! Наверное, пойдут сейчас.
Лейтенант вскочил, складывая карту.
— Встать!.. Клепиков, веди своих. Займешь окопы у гаража… Противотанковые разбирайте, ребята.
Теснясь на лестнице, все выбрались из подвала.
Уже рассвело. Утро было туманным, но туман редел с каждым мгновением, по-новому, неожиданно открывая заснеженные голые поля и сожженный городок.
Мороз еще усилился с ночи. Снег в щелях был легким, рассыпчатым, утаптывался плохо. Все всматривались туда, где за лесом была Березовка.
На миг стало тихо-тихо.
В штабе фон Клюге в Малоярославце на столы легли карты: канал Москва — Волга, Химкинское водохранилище и уже собственно город, столица большевистской России — Ленинградское шоссе, Белорусский вокзал. Из помещения в помещение спешили генералы. Телефонисты и радисты склонились над аппаратами — бесперебойно работала связь со всеми соединениями. В девять утра перед резиденцией фельдмаршала остановился мотоцикл. Водитель резко затормозил, из коляски выскочил офицер, мимо неподвижного часового взбежал на крыльцо. Перед ним расступались, он вез из-под Растенбурга личное письмо Гитлера командующему. Фельдмаршал вскрыл пакет, встал и кивнул адъютанту.
Во все части пошел приказ: начать наступление.
Было тихо у почты, а затем исподволь, по земле стелясь, донеслась из-за леса первая волна танкового рева.
В окопе переглянулись. Самсонов — тот, что ночью присоединился вместе с Евсеевым, — облизал пересохшие губы.
— Ну держись, солдаты. Танки!
Лейтенант быстро сказал, прислушиваясь:
— Еще далеко. Километра полтора.
Кто-то воскликнул:
— А где мальчишка-то из Березовки?.. Сбежал.
Действительно, мальчишки не было.
Разуваев шагнул к Нине.
— Ну давай фото.
Она помотала головой:
— Сейчас, Володя. Еще взгляну. — Она чувствовала, что судьба связывает ее с незнакомой блондинкой. Ведь у них у обеих возлюбленные на фронте. Нина искоса взглянула на высокого Мишу, стоявшего рядом.
— Слушайте, а ведь она ждет своего летчика в Москве, эта девушка. — Голос Нины дрогнул. — И уже никогда не дождется. — Она сунула карточки Разуваеву и повернулась к Мише. — Знаешь, я еще ни разу в жизни ни с кем не целовалась. У меня мама строгая-строгая. Она меня даже на вечеринки не пускала… Ну скажи, я тоже красивая, а?
Он, глядя на нее, ответил с глубокой искренностью:
— Конечно, Нина. Ты замечательная девушка!
Она подняла к нему лицо:
— Давай поцелуемся.
Разуваев смущенно отступил к лейтенанту. Тот преувеличенно громко сказал, отходя на другой конец окопа, к щелям:
— Закурим, ребята.
Его поддержали, вынимая кисеты. Самсонов заговорил о том, что довелось ему курить и немецкие сигаретки — обертка красивая, но некрепкие и колют в горле.
А Миша, держа винтовку в одной руке, другой обнял Нину, ощущая ладонью грубую, шершавую ткань шинели, и они неумело поцеловались. Их губы были холодны, но только от мороза, и обоих оглушило этим поцелуем, как может оглушать лишь в восемнадцать лет и при первом чувстве.
Потом Миша Андреев огляделся, и странным образом все вдруг стало на свои места. «Здесь и теперь, — сказал он себе. — Я живу здесь и теперь». Он как будто проснулся, две половины бытия — прежняя, мирная и сегодняшняя — соединились наконец. Все, что было там, в Москве, — университет, квартира на Арбате и бесконечные разговоры о Есенине, Рембрандте и Гарибальди — все стройно выпрямилось за его спиной, непосредственно ведя к тому, чтоб он встретил и полюбил прекрасную девушку Нину Соловьеву, а затем вступил в бой с фашистскими танками.
Уверенный в себе и спокойный, он взял Нину под руку. Она прижалась к нему.
— Значит, ты меня любишь?
— Конечно. Я тебя сразу полюбил, как увидел.
Ей хотелось слышать это снова и снова.
— Правда?
— Правда. Я такую, как ты, первый раз встретил.
— И ты хороший. Мы с тобой будем долго-долго вместе.
Снова железный грохот раздался издали, и тут же где-то слева и впереди ударили орудия.
— Наши бьют, — лейтенант подался вперед, прислушиваясь. — Заслон на Синюхинской дороге.
Еще раз донесся орудийный раскат, но с другого направления, справа. Разрывы вспыхивали над лесом, там, где была Березовка
— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — это был захлебывающийся голос Бирюкова сверху. — Выходит пехота, те полки! Отсюда с крыши видно. Выходит на шоссе — там все поле темное.
— Порядок! — Лейтенант выпрямился. — Теперь наша очередь. — Он одернул шинель и машинально поправил ремень, всматриваясь. — Ага, вот они! Идут танки. Без поддержки идут… Раз, два, три…
Все другие тоже смотрели на танки и считали их.
Низкие темные машины выходили из леса гуськом по дороге. Все больше их делалось, и лейтенант бросил считать.
— Двадцать танков, — вздохнул кто-то. — Двадцать!
Они не знали, что это было лишь начало. Что не рота, не батальон, даже не полк, а целая дивизия полного состава сотрясает перед ними поля и перелески.
— А нас восемнадцать, — сказал Тищенко.
Разуваев вдруг протянул руку:
— Эй, глядите! Вон мальчишка с противотанковым ружьем. Вон там.
Но бойцы уже видели мальчишку и не только его. Вдвоем с пожилым мужчиной в расстегнутом ватнике мальчишка тащил со стороны леса ружье на саночках прямо по целине. Клепиков, пригибаясь, побежал им навстречу от гаража.
Евсеев торопливо докурил завертку, огляделся. Много он уже испытал танковых атак, знал, как действовать. Скинул шинель, подошел к Нине, молча вынул из ее руки тяжелую гранату и, не спрашивая приказа, длинной придорожной канавой пополз вперед, к кусточкам, туда, откуда шли танки.
Новые машины все выныривали из леса, а передние уже прошли полпути к городку. Внезапно одна косо пошла в сторону и остановилась, окутываясь дымом.
— Смотрите, ребята, Клепиков поджег! — закричал Самсонов. — Гляди, гляди, завертелся!
— Точно! Наши стреляли. Из ПТР.
— Тихо! — крикнул лейтенант. Им овладел азарт боя, но он сдерживал себя. — Маскировки не терять!
Танки неуклонно приближались, несмотря на потерю одного.
Кто-то вдруг сказал:
— Ребята, если нас убьют, — как мы узнаем, отстояли мы Москву или нет?
— А нас не убьют, — ответила Нина. — Нас никогда не убьют.
Агроном Тищенко локтем нащупал записную книжку в кармане гимнастерки и, усмехнувшись, подумал, что про себя он этого не скажет, что никому уж не передаст своего открытия. Но ему этого было не жаль. Пусть, решил он, это дело просто отложится на время. Придет летний вечер или ночь после войны. Другой агроном будет сидеть у раскрытого окна — яблоневый сад перед ним. Бабочки станут лететь на огонь, и та же мысль придет другому, что осенила его, Тищенко. Даже дочку Галю он не пожалел — знал, что она маленькая, трехлетняя, скоро забудет его. А вот жену ему было жалко и вообще всех женщин. Много он видел мертвых на полях, и понял, что мужчине, в сущности, не так уж трудно. Ну, ранили его, ну, в крайнем случае, убили. И все. А для многих женщин сколько она продлится, война.
Разуваев снова вынул фотографии из кармана, посмотрел на них и поглубже засунул обратно. Он считал себя связанным с девушкой и, хотя охотно показывал всем снимки, тотчас ревниво их отбирал. Ему казалось, что летчик не только передал ему память о своей подруге, но и завещал любить девушку, беречь ее. Разуваев был рад сейчас, что они с Колей Зайцевым тогда не пожалели сил, в твердом суглинке саперной лопаткой отрыли глубокую могилу, где летчику покойно лежать. Он надеялся, что, если его убьют. — хотя он в это совершенно не верил, — кто-нибудь тоже вынет из кармана гимнастерки фотографии девушки, подумает, что то была его, Разуваева, подруга, и возьмет снимки себе со всеми дальнейшими обязательствами.
А лейтенант Федоров был спокоен, как ни разу за последнюю неделю. Ему уже полегчало, когда майор одобрил его действия, потом он стал сомневаться, пойдут ли танки именно сюда — ему хотелось не только выполнить приказ, поступить правильно, но положить свою долю на весы войны. Танки пошли, и теперь оправдалась вся его подготовка к тому, чтоб стать военным. Еще две минуты было в запасе, он мог позволить себе вспомнить о постороннем. Ему вдруг представилось, что вот кончилась война, и он возвращается в Москву. Поезд идет по России, весна, березы вертятся и вертятся за раздернутыми дверями теплушек, а по всем полустанкам, по всем дорогам девчонки стоят и девушки и смотрят на бойцов чистыми своими глазами.
Спокойна была в эту минуту и Нина Соловьева. Отступление кончилось, Миша, первая любовь, рядом. На миг ей стыдно стало, и даже слезы на глаза навернулись, когда она вдруг поняла, как мало думала о матери все это последнее время. Но она тряхнула головой и, поражаясь своей мудрой, взрослой трезвости, сказала себе: «Но ведь дети живут не для родителей. И наверное, мама обрадовалась бы, узнав, что мне хорошо в этот час».
Мороз становился крепче, светом пробило туман, зачернели ближние леса, и открылись синие, дальние.
Все нарастал железный грохот танков, и Двадцать, приготовив оружие, ждали.
Токарев встречал выходящие полки у поросших лесом, окаймленных мелким кустарником холмов, что сжали дорогу, ведущую на Московское шоссе. В течение полутора часов он двигался непрерывно, протаптывая тропинки в снегу, наметил позиции для всех двенадцати орудий, надломил ветки, чтоб не сбиться потом. Он разыскал место, откуда когда-то брали щебенку для дорожного покрытия, и прикинул, что канавы, затянутые мелким ольховником, будут окопами с естественной маскировкой.
Черные фигурки показались у кромки леса как раз, когда первые орудийные выстрелы донеслись от городка. Там началось, а здесь кипела работа. Запыхавшиеся, тяжело дышащие бойцы занимали канавы. Орудийные расчеты определяли секторы обстрела, устанавливали пушки, несли снаряды.
Майор посмотрел на часы. Текли минуты, уже пятнадцать прошло с начала боя там, впереди.
И все не показывались, не показывались танки врага.
Утро 23 ноября 1941 года пришло в Европу. В Варшаве эсэсовцы гнали вереницу истощенных мужчин достраивать стену вокруг гетто. На линкоре «Тирпиц» испытывали поворотное устройство орудий главного калибра. Вышли на поиск подводные лодки, бородатые капитаны с фашистскими значками на свитерах смотрели в перископы. Комендант Бухенвальда рассматривал план расширения концлагеря — надо было приготовиться к приему новых тысяч, а может быть, и сотен тысяч узников. В Праге Гейдрих убрал в сейф секретнейший документ, где речь шла о переселении одних народов, сокращении числа других и полном уничтожении третьих. По всему Европейскому континенту штамповалось на заводах оружие для гитлеровских армий. Заложники ожидали казни, дипломаты в конференц-залах готовили договоры, соглашения, «учитывая интересы великой германской фашистской империи, которой существовать теперь тысячу лет». Военная машина рейха работала всеми колесами, и мир еще не знал, что уже на двадцать минут задержаны под Москвой взводом лейтенанта Федорова фашистские танки.
Много это или мало — двадцать минут?.. По всему полукольцу Московского фронта шли бои. Четверть часа в одном месте, три часа в другом, всего минута там, где раненый боец, поднявшись, швырнул гранату, — ничто не пропадало, все складывалось, чтоб влиться потом в вечное величие Победы.
Годы спешат. Давно уже убил себя трусливый фюрер, давно в Нюрнберге развеян по ветру прах его чванливых ближайших сподвижников.
Двадцать пять лет минуло с тех пор — целая четверть века. Заросли и осыпались противотанковые рвы, сровнялись, сгладились окопы.
Зимой братская могила светит красной звездочкой среди снегов, летом ее маленькая пирамида белеет в гуще зелени. Наверху в ближнем пионерском лагере трубят зорю, вдали пасется колхозное стадо, колосится пшеница. Под землей — темнота переплетенных корней, медленный ход червя, неслышный ток подземных вод. И они лежат там, может быть, кто-то из тех Двадцати, а может быть, и совсем другие. Бойцы спят и не проснутся. Все засыпано, зарыто, и порой кажется, будто страница Истории окончательно перевернута.
Но однажды ранней весной раздается вблизи рокот множества автомобильных моторов, тысячи людей окружают братскую могилу. Стрекочут киноаппараты, серьезны лица корреспондентов газет.
Лезвие лопаты осторожно прорезывает стебли прошлогодней травы, груда земли вырастает рядом с пирамидкой, и теплые руки живых бережно берутся за полуистлевшие кости. Гроб установлен на бронетранспортер, воинская часть берет «на караул», и начинается шествие к столице. А вокруг по тропинкам люди спешат к малым дорогам, по малым — к большим и сходятся у той, самой главной, по которой движется траурный кортеж. Опустели поля, опустели фермы и кабины тракторов. Длинными цепями, в молчанье обнажив головы, люди выстраиваются вдоль шоссе и смотрят.
Все ближе, ближе Москва, вот уже первые голубые высокие дома на заставе, вот уже московские мостовые. Ленинградское шоссе, Белорусский вокзал, улица Горького… Все лица, лица, лица — море людских лиц. Бывшие солдаты, командиры, санитарки и летчицы… Ордена, ордена, медали… Где воевал вот этот с палочкой, а где вот тот, что бережно поддерживает седеющую женщину с открытым, светлым взглядом?.. Трудятся репортеры радио и телевидения, в сложных устройствах ретрансляционных станций электроны мечутся с орбиты на орбиту, высоко несущиеся над планетой спутники передают происходящее на всю страну, на весь мир. Вступает мелодия траурного марша, слезами застлало глаза России; каждая женщина, которую ударила война, говорит себе: «Это он». И это действительно он, дорогая, твой сын, твой муж, твой брат, твой жених, наш боевой товарищ.
Застыли войска, опустились знамена, грохот орудийных залпов сотрясает воздух.
Маршалы поднимают Солдата на свои золоченые плечи, и медленно, предшествуемый Вечным огнем, он движется к кремлевской стене.
1
Документальная повесть.
2
«Первый, второй, третий, четвертый, пятый!.. Выйти вперед, пятый!.. Выйти вперед, пятый!.. Пятый!.. Пятый!..»
3
«Пляшут жернова…»
4
Я подстрелил его, как куропатку, влет.
5
Санитары! Скорей к господину лейтенанту!
6
Командование разрешило одному из ваших товарищей поговорить с вами.
7
Смелей, Адольф. Кстати, среда них девчонка.
8
Они не пройдут! (испан.).
9
Стойте! Это фашисты! (испан.).
10
Свои! Республиканцы! (испан.).
11
Друзья, мне пришла мысль… Превосходная идея! (испан.).
12
Меня поставь сюда (испан.).
13
Товарищи, сюда! Вход здесь! (испан.).
14
Скорее наверх! (испан.).
15
Все… Больше мы держаться не могли… (испан.).
16
Сигнал! Давай сигнал! (испан.).
17
Так что же? Почему?.. Вы сделали свое дело? Сделали? Да или нет? (испан.).
18
Это из-за меня… Я виноват! Я! (испан.).




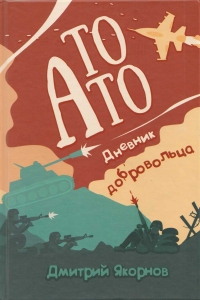
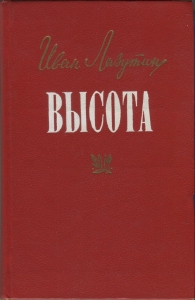



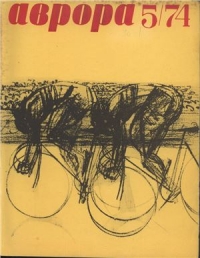
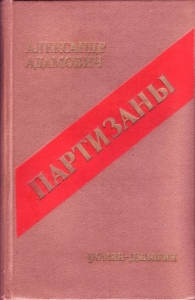
Комментарии к книге «Двадцать минут», Север Феликсович Гансовский
Всего 0 комментариев