Жили мы на войне
ПРАВДА БУДНЕЙ ВОЙНЫ
После окончания военного училища Владимир Малахов ушел на фронт. Юноша окунулся в огонь войны в прямом смысле слова. В боях был ранен в голову, руку, ноги. Через многие годы решился записать свои фронтовые воспоминания. И правильно сделал. Они жили в нем всегда, как самые, может быть, сильные страницы его молодости, впечатляющие, незабываемые.
Я с неотрывным интересом прочитал рассказы-были В. Малахова и увидел живых солдат, ощутил народное восприятие войны — живое, я бы сказал даже, «трудовое», «рабочее», т. е. будни ее, увидел еще раз, как они творились, как себя вел на фронте истинный человек из народа.
На съезде писателей РСФСР Виктор Астафьев говорил о том, что на фронте чаще погибали молодые, неопытные солдаты, а «старички», осторожные, смекалистые, умели перехитрить и смерть, ибо они относились к войне, к бою, как большому сверхъестественному делу, как к работе, а не как к параду, «прогулке», или «кавалерийскому рейду»…
Я вспомнил об этом выступлении знаменитого писателя при чтении рассказов Владимира Малахова. Малахов очень живо рисует и молодых неопытных солдат, и мудрых «стариков», и, действительно, «страшное и смешное рядом» в рассказах его, ибо так было в жизни. Ничто человеческое не исключалось и на войне («Жили мы на войне», — писал М. Луконин), поэтому такими живыми, народными мне кажутся характеры солдат, однополчан Владимира Малахова.
Казалось бы, сколько уже написано о солдатском житье-бытье, о фронте, а тема не иссякает. В. Малахов никого не повторяет. Те смешные и страшные ситуации, в которых оказывались его друзья, однополчане, он сам, не придуманы, а взяты из биографий самого автора и его друзей. И рассказы о них читаются с интересом. Конечно, мы, ветераны, не равнодушны ко всему, что касается фронта, все нас там и волнует, и пронизывает, и, читая рассказы и воспоминания о войне, мы их как бы «умножаем» на собственные воспоминания, на свое пережитое. Но мы и мгновенно чувствуем несоответствие и фальшь в тех или иных рассказах о войне. Рассказы же В. Малахова покоряют своей естественностью и правдивостью, в них присутствует настоящая правда фронтовых будней и правда солдатских народных характеров. Этим они убеждают и покоряют.
Сколько бы мы ни писали о фронте и фронтовиках, сколько бы ни выпускали рассказов, поэм, стихов, воспоминаний — все равно никогда мы не сможем считать, что все сказано, все написано, все вспомнено. Океан этой темы неисчерпаем, и мы рады каждой новой книге, отражающей хоть каплю этого океана. Я горячо рекомендую вниманию читателей эту книгу.
Михаил Львов
Светлой памяти жены и друга,
Н и н ы С т е п а н о в н ы.
ОТ АВТОРА
Вглядываясь в даль времени, я вижу землю, опаленную огнем, обезображенную войной, вижу людей, припавших к этой земле.
Среди тысяч воинов я вижу девятнадцатилетнего офицера в пилотке набекрень и поначалу никак не могу вспомнить: кто он, почему так знакомо его лицо?
Постойте, постойте… Да ведь это же я!
Ну, да. А вот и друзья мои: неторопливый Заря, вездесущий Жорж, курчавый Калман, молчаливый Джанбеков.
Привет вам, ребята!
Простите, если в чем-то подвела память, если что-то подсказала фантазия.
Я помню вас. Сердце не забывает добро.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Для страны война началась двадцать второго июня 1941 года. Но не все, кто стал солдатом или офицером, сразу оказались на фронте. Одни услышали разрывы и свист пуль спустя неделю, другие — через год, а то и два.
Я начал воевать летом 1944 года. Еще только начиналось освобождение Польши, еще предстояло освободить дымящуюся в развалинах Варшаву, совершить бросок до Познани, сражаться за нее, потом форсировать Одер, сломить фашистов на Зееловских высотах, покорить их столицу, выйти к берегам Эльбы.
Еще предстояло прошагать сотни километров фронтовых дорог, теряя на каждом метре близких людей — дорогих товарищей.
Вначале мы, выпускники училища, ехали на автомашинах, потом разбились по группам, затем добирались до своих подразделений в одиночку. У всех было отчаянно-веселое настроение, мы шутили и пели. Но когда издали донеслась грозная канонада, приутихли, присмирели, старались не смотреть друг на друга, боясь выдать тревогу.
И когда впервые в жизни я услышал не учебный — настоящий разрыв снаряда, когда над головой засвистели настоящие пули, которые могли и ранить и убить по-настоящему, я испугался. Противная тошнота подступила к горлу, а сердце сжала тоска. Единственной заботой вдруг стало — укрыться где-нибудь понадежнее, спрятаться, исчезнуть. Я знал, что смешон и жалок, но никак не мог побороть в себе страх. Мне стыдно было солдат, командиров, я готов был плакать и плакал, наверное, от досады. Немного спустя я понял, что в такие минуты надо быть поближе к своим, что именно эта близость поможет избавиться от страха. Я поборол свою трусость и короткими перебежками достиг траншеи. Передо мной были наши люди, занятые делом. Одни отдавали приказы, выслушивали донесения, принимали решения; другие выполняли приказы, вели огонь. И тогда мне стало легче, тогда я тоже попытался принять участие в общем деле, хотя все еще был как в тумане. Вечером в окопчике отыскал меня Жорка — мой связной. В руках у него был дымящийся котелок с супом.
— Едва нашел, — отдышавшись, сказал он. — Целый день гонялся за вами, думал, вас уже и в живых нет.
Прямо скажем, видок у меня был еще тот. Я сидел, сжавшись в комок, растерянный.
— Давайте поедим, — предложил Жорка и, видя, что до меня не доходят его слова, повторил: — Обязательно надо поесть.
Я почувствовал жалость в его словах, и мне стало еще тошнее.
— Смотри, — перешел Жорка на «ты», — сам сварил. Это не то, что в общем котле. Накопал картошки, салом заправил.
— Не хочу, — безучастно ответил я.
Жорка долго смотрел на меня, потом вынул две ложки, нарезал хлеба и стал аккуратно хлебать.
Помаленьку я приходил в себя, и мне тоже захотелось есть. Захотелось сильно, до боли в желудке. Немудрено: за весь день во рту не было и маковой росинки. Я взял ложку и зачерпнул дразнящую, желтоватую жидкость.
— Вкусно? — спросил Жорка.
Я не знал, вкусно или нет, но мотнул головой. Мне стало радостно от того, что день уже позади, стихла канонада, я жив-здоров, что рядом со мной сидит живая душа, догадывающаяся обо всем и вместо презрения проявляющая участие. Только спустя минут пять я вдруг почувствовал, что суп совсем не посолен. Отложил ложку…
— Что? — спросил Жорка и отвел глаза в сторону.
— Он же совсем несоленый.
Жорка подозрительно быстро стал божиться, что соли клал достаточно, даже боялся пересолить.
— Не разошлась, видно, еще, вот чуешь на зубах хрустит. Это соль. Сейчас разойдется. — Жорка помешал ложкой в котелке.
Я снова попробовал суп. В самом деле, на зубах хрустит, а солености не чувствую.
— Видно, у меня вкус пропал, — сказал я, однако стал есть.
— Это бывает, — успокоил Жорка. — Когда я в первый день на фронте был, мне все спать хотелось и, извиняюсь, через каждые пять минут по нужде бегал.
Мы ели, и, когда в котелке осталось совсем на донышке, я зачерпнул, поднес к глазам и увидел пол-ложки самого настоящего песка.
— Это не соль, это песок, — сказал я.
— Песок? — удивился Жорка. — В самом деле песок. Вот черт, когда же я его зачерпнул?
— А соли не было в супе.
— Ты прав, лейтенант, соль не клал я, — охотно согласился Жорка. — Только хотел бросить, как рядом ахнет, я так и влип в землю. Видно, тогда и песок попал в котелок. Извиняй меня, лейтенант.
Мы помолчали.
— Давно воюешь? — спросил я.
Жорка махнул рукой:
— Давно. Уж полгода.
— И что же, все время боишься?
— А как же, — откликнулся Жорка. — Обязательно боюсь. Ты думаешь, другие страха не чувствуют? Как бы не так! Все дрейфят. Только надо сделать так, чтобы этот самый страх верх над тобой не взял, не мешал дело делать. А боятся все. Я думаю, и комбат тоже.
Так Жорка популярно объяснил мне, что такое мужество.
НЕПУТЕВЫЙ
В первые дни, когда я только что попал на фронт, сразу и не понял, о ком идет речь.
Командир роты, когда мы готовились к маршу, предупредил:
— Назначь дежурных — непутевых ловить.
Я долго думал, что это за «непутевые» и почему их надо ловить. Но приказ есть приказ.
Придя во взвод, вызвал командиров отделений и приказал выделить по одному дежурному.
Командиры отделений — опытные сержанты — озадаченно посмотрели на меня, а потом поинтересовались, для каких надобностей. Я ответил:
— Непутевых ловить.
Отделенные заулыбались:
— Товарищ лейтенант, так хватит же двух.
Я сделал таинственное лицо и многозначительно отрезал:
— Так надо.
Командиры помрачнели, и я слышал, как, уходя, они говорили между собой, что, видно, очень тяжелый переход намечен, если приказано назначить для поимки непутевых трех дежурных. Такого они еще не помнили.
Поход был действительно очень трудным. Мы шли под дождем всю ночь, потом день. Отдохнув часа два, шли еще ночь. И опять лил дождь.
Вначале я сам себе нравился. Шел легко, помогал тащить станок пулемета, однажды даже тихо запел. Но вскоре песенка моя была спета.
Как и все, я еле-еле тащился, проклиная дождь и бездорожье, находя в себе силы только для того, чтобы время от времени крикнуть:
— Держись, ребята, скоро придем.
Честно говоря, ни я, ни ротный не знали, когда и куда мы придем. Знали только одно: идти надо, в этом наша боевая задача.
На вторую ночь появился коварный враг. Он не стрелял из автоматов, не ухал из минометов, не скрежетал гусеницами. Тихо и незаметно он подкрадывался к каждому, не разбирая чинов и званий, просто-напросто закрывал нам глаза.
Боже мой, что я только ни делал. Я приседал, старался маршировать, размахивал руками, вступал в разговоры и все-таки чувствовал — не выдержу, это выше моих сил. Мое положение усугублялось еще и тем, что я знал — за мной следят солдаты, я должен был показывать пример. Но мне было не до этого. И вот в минуту отчаяния я услышал голос солдата Зари.
— Слышь-ка, товарищ лейтенант, а ты малость поспи.
— Как поспи? — изумился я.
— А как мы. Ты же без сна не выдюжишь. Мы тебя под руки поддерживать будем, а ты отдохни.
— Что же, понесете вы меня, что ли? — разозлился я.
— Зачем понесем? Сам пойдешь, своими ногами, мы только поддерживать станем. Не хочешь? Зря. А так не дойдешь.
Предложение Зари мне показалось издевкой, и я храбро продолжал маршировать. Вскоре глаза мои слиплись, голова сладко закружилась и я, размахивая руками, как на параде, замаршировал перпендикулярно движению колонны.
Очнулся я только тогда, когда двое дюжих молодцов, подхватив меня под руки, возвратили в колонну.
— Ну, говорил же тебе, — ворчал Заря, — поспи малость. Дите еще, право дите. Мы же всегда так: возьмемся за руки и по переменке на ходу спим. А так не сдюжить.
Тут я глухо, мертвецки уснул. Не знаю, сколько мы шли еще, но проснулся я посвежевшим. Небо уже стало сереть, завиднелись верхушки деревьев. Вскоре марш был окончен, послышалась команда ротного проверить личный состав. Отставших в моем взводе не было. Тут я вспомнил приказ о ловле непутевых и спросил, хорошо ли несли службу дежурные.
— Хорошо, — улыбаясь, сказали отделенные.
— И что, поймали непутевых? — недоверчиво поинтересовался я.
— А как же, поймали. Одного, — еще шире заулыбались сержанты.
— Кто он? — чувствуя неладное, тихо спросил я.
Отделенные попереминались с ноги на ногу. Потом решились:
— Да вы это и были, товарищ лейтенант.
…Потом мы опять шли и шли. Но теперь я стал хитрее. Я не просто перебирал ногами и размахивал руками, я вспоминал. Вспоминались дом, родные, вспоминалось недавнее прошлое — училище. И это не давало заснуть. Вспоминалось и смешное и грустное, добрые и плохие люди, наш знаменитый на все училище старшина роты, старшина Кобылкин.
СТАРШИНА
Вначале мы думали, что начальства выше, чем старшина, в училище нет.
Он принял нас, только что пришедших с «гражданки», худых и бледных, одетых кое-как, и сразу предупредил:
— То, что было там, — он неопределенно махнул рукой, но мы отлично поняли, о чем идет речь, — то, что было там, — забудьте. У нас все по-другому.
И повел в баню. В бане был один вход и один выход. Мы входили, раздевались, стесняясь, проходили туда, где надо было мыться. Нас встречал солдат с огромным помелом в руках. Это помело он вначале окунал в большую бочку с какой-то жидкостью, потом тыкал во все места, где у человека волосы растут. Помывшись, мы проходили в другую комнату. Тут нам выдавали обмундирование, прикинув на глазок размеры.
Брюки мне оказались малы, зато в гимнастерке мог поместиться еще один такой же, как я! Когда я подошел к старшине, растопырив руки и демонстрируя нелепость наряда, он отрезал:
— Разберетесь.
За мной потянулись другие. Но на все просьбы обменять что-либо, у старшины был один ответ:
— Разберетесь.
Мы начали меняться пилотками, гимнастерками, брюками, ботинками. И произошло чудо. Каждый оказался и в брюках своего размера, и в гимнастерке по плечу, и в добротных башмаках. Там, где должны быть голенища сапог, наматывались обмотки. Они представляли собой довольно длинные, крепкие, защитного цвета ленты, свернутые наподобие бинта. Нога, обмотанная такой лентой, выглядела не очень эффектно, но с нее стекала вода. Обмотки хорошо защищали и от снега.
Старшина выстроил нас и критически осмотрел. Сами себе мы, откровенно говоря, нравились, но старшина поморщился, подошел к одному, взялся за пряжку ремня и стал ее крутить, считая:
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Мы недоуменно переглядывались. Но вскоре все стало совершенно ясно.
— Шесть нарядов вне очереди. Полы мыть по ночам. — Старшина перешел к другому. Началась та же процедура. К концу обхода выяснилось, что мы могли бы перемыть все полы города, в котором располагалось училище. Подумав немного, старшина смилостивился:
— На первый раз прощается.
…На следующий день начались занятия. Старшина находился с нами только по утрам, в обед и по вечером, но, поверьте, этого было предостаточно.
Вначале мы его всей ротой возненавидели, потом привыкли. Он заставлял нас, сбросив гимнастерки, бегать на речку и там, разбив хрупкий ледок, мыться до пояса. Водил в лес, приказывал искать сухостой, пилить его, а потом таскать на плечах в казарму. Зато какими посвежевшими, розовыми и веселыми бывали мы после такого умывания, как приятно было по вечерам сидеть на самоподготовке в натопленной казарме.
Перед отбоем старшина выстраивал нас на вечернюю поверку. Мы уставали к концу дня чертовски. Бывало, еле стоишь на ногах. Но это был звездный час старшины.
Вначале он медленно проходил вдоль строя. Молчал, только пристально оглядывал каждого. Если не замечал ничего достойного внимания, начинал рассуждения. Он мог рассуждать на любую тему, по любому поводу. Если Чехов утверждал, что может написать рассказ о чернильнице, наш старшина мог полчаса говорить о крышке этой чернильницы. И лишь когда мы готовы были упасть в изнеможении, он прерывал себя на полуслове и командовал:
— Отбой.
Потом, на фронте, я с благодарностью вспоминал о старшине: за речку, подернутую ледком, потому что это закалило мой организм, за хождение по глубокому снегу, потому что и это пригодилось, за длинные речи — это научило меня часами терпеливо лежать без движения.
Но тогда… О, тогда мы мечтали о мести. Мы жаждали ее, придумывали одну кару за другой. Всем понравился такой план: когда мы получим офицерские погоны, то встанем на пути старшины метров за десять друг от друга и будем ждать его. Мы представляли себе, как он идет мимо первого из нас, слегка сутулясь, виновато улыбаясь. Первый из нас командует:
— Старшина, ко мне!
Он подходит, еще больше улыбаясь. Но мы остаемся непреклонными.
— Старшина, — в голосе звучит металл. — Как приветствуете? Пройдите еще раз.
Старшина, чеканя шаг, проходит.
— Еще раз, — требует офицер.
Дисциплина есть дисциплина, и старшина снова печатает шаг. Потом очередь доходит до следующего. История повторяется. Да, только так, именно так месть наша будет удовлетворена.
Но вот сданы выпускные экзамены, мы ждем приказа наркома о присвоении нам офицерских званий. Вот, наконец, на наших плечах погоны офицеров. Нас ждет фронт.
Мы стоим небольшой группкой у столовой, весело о чем-то болтаем, и вдруг возглас:
— Старшина!
Привычка делает свое дело. Мы не успели и подумать, как очутились в строю. Никто не подавал команды, но ноги привычно зашагали в такт. Головы вскинуты, груди колесом. Сделав «равнение направо», мы сомкнутым строем, блестя офицерскими погонами, проходим мимо старшины.
— Хорошо идете, товарищи офицеры! — весело кричит он.
— Служим Советскому Союзу! — дружно отвечаем мы.
По строю прокатился смех, старшина смешался, а мы окружили его, подхватили на руки, несколько раз подкинули в воздух и осторожно поставили на ноги. Месть не состоялась.
В первые дни я не мог разобрать фамилии старшины: докладывая командиру роты, он всегда комкал ее. Звучало примерно так:
— Старшина роты, старшина Ковыкин.
Когда вывесили график, я прочел: «Старшина роты Кобылкин». Он стеснялся своей фамилии.
Жив ли ты сейчас, здоров ли, старшина роты, старшина Кобылкин?
САПОГИ
Нам выдали сапоги. Хромовые! На кожаной подошве. Мы ликовали. Правда, курсанты из бывалых солдат подозрительно мяли кожу в руках, даже пытались оторвать подошву, но что они понимали? Ведь настоящие же сапоги! Теперь можно, получив увольнительную, гордо пройтись по улицам, с улыбкой поглядывая по сторонам, — как оно там? Производит впечатление?
Перво-наперво мы сбросились и послали гонца на базар за черным сапожным кремом. Двух банок не хватило и на пять пар. Была снаряжена новая экспедиция. Но только после третьего захода спрос на крем был удовлетворен.
Первые два дня мы только и делали что следили, не село ли где пятно, не прилипла ли грязь к сапогам. Обнаружив такую неприятность, немедленно принимали энергичные меры: смочив палец слюной, старательно устраняли дефект. Эта нехитрая операция повторялась до тех пор, пока сапог опять не блестел, как зеркало. Правда, иногда после этого на зубах скрипел песок, но что с того? Не огорчало нас и то, что с выдачей сапог увеличилась строевая подготовка, то есть нас чаще стали строить в колонны и дольше гонять с винтовками наперевес. Видно, ждали большое начальство. Ну и что? Сдюжим и это! Расписание со временем станет прежним, начальство уедет, а сапоги-то останутся!
По воскресеньям, с утра, проходили смотры. Я не любил их. Не потому, что надо было пройти перед трибуной, выдерживая идеальное равнение, топать по плацу, не щадя обуви и ног. Я не любил ждать. А ждать кого-нибудь всегда приходилось, не курсантов, конечно. Бывало, построят с утра на плацу и стоим час, а то и больше. Правда, с приходом нового начальника училища, генерала, ожидания прекратились. Если назначен смотр на десять, значит ровно в десять ноль-ноль на плацу и мы, и генерал. Пройдем строем — и по казармам. Но так стало потом, а пока ждали.
Офицеры соберутся в кучку, балагурят, толкаются потихоньку — греются. А мы, курсанты, должны стоять по команде «вольно». Это значит, что каждый имел полное право ослаблять по очереди то одну, то другую ногу.
У трибуны стоял подполковник, заместитель начальника училища по строевой части. Он только время от времени поглядывал в сторону штаба, готовый в любую минуту подать долгожданную команду: «Равняйсь, смирно! Равнение направо!»
— А ему что, ему хорошо. У него ноги не мерзнут, — однажды заметил кто-то, но тут же умолк, получив в бок тумаки. Все училище знало, что у подполковника не было ног, что он стоял на протезах. И мы уважали его именно за то, что он вместе с нами, не позволяя себе вольностей, терпеливо ждал.
На этот раз смотр начался вовремя. Впереди начальника училища шел незнакомый генерал. На его погонах так ослепительно блестели звезды, что никто сразу не смог сказать, в каком он звании. Ясно, что в большом.
Генерал, а за ним и полковники взошли на трибуну. Раздалась команда, мы повернулись направо, прошли немного, повернули еще раз направо, прошли опять и снова повернули направо.
Наступил самый торжественный момент. Мы не хотели ударить лицом в грязь перед генералом и незнакомыми офицерами. И потом — сапоги! На наших ногах блестели сапоги!
Заиграл оркестр, и мы двинулись вперед. Шли сомкнутым строем, веселые и решительные, легко неся винтовки, каждую минуту готовые по команде клацнуть металлом и взять их наперевес, к бедру. Мы не жалели ног и, как нас учили, четко отбивали шаг. По мере приближения к трибуне, строй наш становился ровнее, шаг еще тверже.
— Трак, трак, трак, трак, — неслось по плацу.
Но тут я стал замечать, что к этому звуку что-то примешивается. Под нашими ногами рождался треск, похожий на тот, когда клоун бьет на арене цирка своего напарника расщепленной на конце бамбуковой палкой.
Я глянул вниз. Если бы у меня были длинные волосы, то и они встали бы дыбом. Я заметил, что у моих товарищей отстали подошвы, и каждый, высоко вскидывая ноги, старался, чтобы подметка вначале шлепнула по головке сапога, а потом вместе с ней опустилась на землю. Некоторые топали совсем без подметок, оставив их позади. У меня, правда, было все в порядке.
Мы ждали, что генерал закричит, рассердится, но он хохотал. Забыв о своем звании, хохотал, раскачиваясь взад и вперед, а начальник училища что-то смущенно ему объяснял. Незнакомый генерал перестал смеяться и звонко крикнул нам:
— Молодцы, ребята!
Мы ответили, как положено, продолжая шлепать разлетающимися в разные стороны подметками: хотели сделать как лучше. Где и как раздобыл старшина эти, видимо, пролежавшие на складах не один десяток лет сапоги, чтобы щегольнуть ими перед начальством, осталось тайной. Вечером сапоги были изъяты, а нам возвращены ботинки с обмотками. Щеголей из нас не получилось.
…А мы шли и шли. И вместе с нами шел дождь…
ДВУЖИЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Было это осенью 1944 года под Варшавой. Стояли мы в обороне на берегу Вислы, готовились к наступлению. Командовал я тогда пулеметным взводом. Шел мне девятнадцатый год, и, надо сказать, внешность у меня была совсем невнушительная. Тощий был страшно, растопыренными пальцами талию мог обхватить. Весил, конечно, тоже немного — с сапогами и пистолетом пуда три, пожалуй, не больше.
И был у нас солдат. Сибиряк. Усач. В плечах — косая сажень. Спокойный, рассудительный, примечателен он был своей фамилией. Хорошая фамилия — Заря.
Частенько подходил он ко мне, говорил:
— Дозволь, лейтенант, пострелять малость. Чего без дела-то сидеть.
— Ну, постреляй, — отвечал я. — Только отойди от пулеметов в сторону, чтобы немцы огневые точки не засекли.
Возьмет он свою видавшую виды винтовку и уйдет снайперским делом заниматься. Обычно — ночью. Солдаты ругаются:
— Спать черт косолапый не дает, дня ему не хватает.
А Заря объясняет:
— Днем нельзя, немца плохо видно, а ночью — милое дело. Старинный способ, а все еще срабатывает. Как зажжет немец спичку, я его засеку, прикурит сам — я в ту сторону ствол направлю, даст напарнику прикурить, тут этого напарника и найдет моя пуля. Ночью сподручней, чего там говорить.
Кстати, от него только я узнал, почему на фронте издавна третьим никто не прикуривал.
Ну, постреляет, вернется, на пост к пулемету встанет. И всю ночь простоит.
Но вот пошел среди солдат слушок — Заря-де на посту спит. Не может человек и днем и ночью не спать. Не двужильный же. Я не поверил:
— Не такой Заря.
— Да ей-богу, лейтенант, вот возьми и проверь.
Решил я проверить и, если подтвердится слух, строго наказать Зарю. Потом-то понял, что глупо поступил, запросто на заринскую пулю мог нарваться. А тогда…
Надо сказать, что берег, по которому занимали мы оборону, был очень крут, почти отвесный до самой воды. И мин в нем было изрядно понатыкано. Договорился я с вечера с саперами, показали они мне проходы. Один в сторонке от наших позиций, другой перед пулеметом Зари. Как только стало темнеть, спустились мы с Жоркой к реке, засели в прибрежном кустарнике, стали ждать полной темноты. Дождались. Пошли по самой кромке берега. Тихо идем. Солдаты, конечно, знали о нашей «операции» и с нетерпением ждали ее окончания.
Идем мы ко второму проходу в минном поле, дошли уже. Молчит наш Заря: не окликнет, не стрельнет. Меня злость берет — правы солдаты, спит Заря. Вот и палочки, которыми проход замечен. Тишина. Осторожно поднимаемся по косогору. И только я решил окликнуть Зарю, разбудить, как вдруг какая-то сила оторвала меня от земли и так швырнула, что полетел я прямо в Вислу. И связной за мною следом. Это Заря так неучтиво расправился с нами.
Что тут поднялось! Немцы услышали всплеск и такую стрельбу подняли — голову не поднимешь. Наши, конечно, тоже в долгу не остались. Артиллерия — и та за работу принялась. Сидим мы в холодной воде, дрожим, на чем свет и себя и Зарю кроем. А Заря с берега оправдывается:
— Так я же не знал, что это ты, лейтенант.
Так и переругивались, пока стрельба мало-помалу не утихла.
Надо возвращаться, а мы с перепугу проклятые колышки найти не можем. Светать начало, когда увидели мы проход и зайцами юркнули в свои окопы.
Заря виновато вокруг нас ходит, помогает одежду, портянки выжать и все свое твердит:
— Я же не знал, что это ты, лейтенант, думал: ребята подшутить задумали. А заметил я вас давно, только по фигурам не разобрал — кто.
Так и уверовал весь наш взвод: Заря — двужильный солдат. Только все гадали — когда он спит? А я за эту «операцию» от начальства отменный нагоняй получил.
БАНЯ
Накануне праздника к нам приехала баня. Ее оборудовали недалеко от траншей, в укромном месте. Было строго определено, кто, когда и за кем моется, сколько времени, когда должен вернуться на передовую.
Собственно, бани, как таковой, не было, просто в большой палатке стояли раскаленные докрасна «буржуйки», нагоняя тепло. Горячая вода выдавалась строго по норме. И все-таки было хорошо. А главное — весело.
Оставив обмундирование в предбаннике, мы проходили в моечное отделение палатки, и тут начинались гогот, плескание, покрякивание, повизгивание. Потом по команде выходили в предбанник, одевались и, помолодевшие, пробирались «домой», то есть к себе в окопы. Так было всегда. Но на этот раз все произошло иначе.
Однако прежде хоть несколько слов надо сказать о солдате по фамилии Живодеров. Это был страдалец. Он страдал из-за своего маленького роста. Когда взвод выстраивался, Живодеров оказывался последним. В походах вся пыль, поднимаемая четырьмя десятками сапог, ложилась на его маленькое остроносое личико. На привалах на него нельзя было смотреть без смеха — до того он был черен.
— Живодеров из Африки соизволили прибыть!
— Ты что, Живодеров, под негра маскируешься?
— Нет, братцы, он от союзников, насчет второго фронта приехал договариваться, — изощрялись взводные остряки.
Однажды, разорвав индивидуальный пакет, он обмотал бинтами нижнюю часть лица, но, как только снял это повязку, взвод лег от хохота. Та часть лба, которая была прикрыта фуражкой, и та, что закрывалась бинтами, оказались белыми, а между ними шла черная полоса.
— Ребята, Живодеров в маске явился!
— Живодеров, ты что, на маскарад прибыл? — неслись возгласы. Как ни урезонивал я ребят, они не унимались.
Живодеров страдал и физически. На марше обычно первые шеренги рослых солдат идут спокойно, а последним то и дело приходится почти бежать. Конечно, он уставал больше других. Мне жалко было бойца, и я старался не загружать его лишними поручениями. Он понимал это, и я не раз ловил на себе его благодарные взгляды. Но солдатские законы суровы. Как и все, он должен был нести и пулеметный станок и «тело», то есть ствол пулемета, дежурить, стоять на часах…
Еще он страдал от своей нелепой фамилии. Это было безобиднейшее существо, и, конечно, контраст характера и фамилии бросался в глаза.
Живодеров, как и все обстрелянные солдаты, был осторожен. Но то, что разрешалось другим, не позволялось ему. Его осторожность сразу же была расценена как трусость. Прошелестит над головами снаряд, все шлепнутся на землю, но тут же кто-то заметит:
— Что, Живодеров, со знакомой раскланиваешься?
— Да нет, ребята. Просто он землянику нашел, — уже слышатся голоса.
Однажды он мне пожаловался:
— Эх, разнесчастная моя доля. И чего они ко мне привязываются? Будто я в чем виноват.
— А ты докажи, что не трус, — посоветовал я.
— Я докажу, вот увидите, — пообещал он. — Пусть только случай подвернется…
В баню, как всегда, пробрались небольшими группками. Разделись, и вскоре загремели ушаты, поднялся привычный гомон.
Вдруг мне показалось, что кто-то уронил несколько тазов. Солдаты примолкли. И тут совсем рядом разорвался снаряд.
— Артналет!
Снаряды стали рваться один за другим, все ближе, ближе. Словно какой-то ураган подхватил всех нас и вышвырнул из бани-палатки. Кубарем вылетели в чем мать родила. Помню, я схватил что-то в предбаннике и все старался затолкнуть в это что-то ноги. Только потом сообразил, что в руках гимнастерка.
А на дворе стоял октябрь. Земля уже подернулась ледяной коркой, ветер пронизывал до костей. Я скатился в окоп, где уже сидели на корточках и дрожали несколько наших.
— Эй, пехота, — смеялись минометчики, у которых мы оказались в «гостях», — никак вы направление перепутали. Сейчас вам в самый раз на немцев идти. Увидев такое войско, они до самого Берлина будут драпать.
Однако смех смехом, а дело принимало серьезный оборот. Минометчики, правда, поделились чем могли, но долго продержаться мы не смогли бы.
— Одна наша надежда — на «кукурузников»[1], — услышал я голос Зари, — полетят они, домоемся.
Честно говоря, ни о какой мойке я уже и не мечтал. Я думал о том, как добраться до предбанника и облечься в свою одежду. И тут услышал ровный, деловитый гул моторов. Это пошли «кукурузники» — наше спасение. Дело в том, что как только ночами эти самолеты пересекали линию фронта, все огневые точки врага враз умолкали, боясь быть обнаруженными. Наши же самолеты оказывались почти неуязвимыми. Летчики выключали моторы и бесшумно планировали, выискивая цели. Обнаружив что-нибудь, достойное внимания, начинали бомбить. Включали моторы, когда нужно было возвращаться домой. Обычно управляли этими самолетами девушки.
— Вот бы глянули девчата на ваше голое войско, — не переставали смеяться минометчики.
А мы разом повеселели. Если бы кто-нибудь засек секундомером наш забег от окопов минометчиков до бани, было бы зафиксировано не одно побитие мировых рекордов. Баня, к счастью, не была повреждена артналетом, и мы обледеневшей оравой ворвались в «моечный зал». И замерли, разинув рты. На скамейке со скучающим видом, разопревший от жары, красный от удовольствия, положив ручку под голову, лежал Живодеров! Увидев нас, он невозмутимо перевернулся на другой бок.
Мы подскочили к чану, где обычно была горячая вода, но увидели на самом донышке какую-то черную жидкость.
— Кусок земли никак в водицу угодил, — злорадно произнес Живодеров и заохал, чертяка: — Ох, хо-хо, как ни хорошо, а всему приходит конец.
Поднялся, выбрал получше полотенце, тщательно обтерся и не спеша начал одеваться.
Так Живодеров и доказал всему взводу, что он не трус.
ТАРАН
В окопах и землянках, в госпиталях — там, где собиралось два-три солдата, начинались бесконечные фронтовые рассказы. О мирной жизни, о боевых делах, о друзьях-товарищах…
Многое время унесло из памяти, но многое живет в ней и по сей день.
Вот лежит на спине, покусывая сухую травинку, старшина Матухин. Глядя в небо, ведет свой неторопливый рассказ:
— Кем мне только за жизнь свою долгую работать не приходилось. Надо — топор в руки могу взять, дом или баню завсегда поставлю, крышу, крылечко подправлю. А заплот в один день свяжу — ни одна свинья в огород не проберется.
Как-то у нас на деревне тяжко заболел Иван Лукич. Что ни день, то хуже старику становится. Деревня заволновалась, потому как Иван Лукич, почитай, всех обувал и одевал. Бывало, такие чесанки скатает или борчатку сообразит, что любо-дорого. В райцентре наших девчат от других сразу отличали.
Ну, вот. Приходит к нему председатель колхоза Иван Иванович, тоже Матухин, здоровьем интересуется. А Лукич — мужик сообразительный — сразу всю дипломатию пресек.
— Интересуетесь, когда я помирать намереваюсь? — спрашивает.
— Дело житейское, — отвечает Иван Иванович, — но надо и о деревне подумать.
— Понимаю и не обижаюсь, — говорит Лукич. — Должно скоро, Иван Иванович. Я уж и сам по этому делу беспокоился. И вот что надумал: давай мне, председатель, молодца понятливого, я его мигом своему делу обучу.
— А успеешь, не подведешь? — беспокоится Иван Иванович.
— Пока замену не представлю — не помру, слово обществу даю, — говорит Лукич.
Посоветовались на правлении и мне, как комсомольцу, поручают — все таинства у старика выведать. А председатель еще дополнительный наказ сформулировал:
— Ты, — говорит, — не очень там торопись с учебой. Про себя свои знания держи, Лукичу вид подавай, что не разбираешься пока. Пусть старик поживет.
Ох, и досталось мне от Лукича. Объяснит он мне что, я мигом соображу, а делаю вид, что не понял. Он и так и эдак надо мной бьется, как-то даже не выдержал, подзатыльник влепил.
— Ты, — говорю, — дед, не дерись очень-то. Я, между прочим, комсомольское поручение выполняю.
А тот руку, об меня зашибленную, потирает и, не моргнув глазом, отвечает:
— Я, — говорит, — как беспартийный большевик тебя уму-разуму учу. Большевик завсегда комсомольцу подзатыльник дать имеет право, если тот заслуживает.
Ну вот так тянул-тянул я, а Лукич злится, но живет. Лет пять жил. Потом, видно, невмоготу стало, помер на покров.
Тогда приставили меня к лошадям. По вечерам да воскресеньям валенки катаю, шубы шью, а остальное время колхозным коням отдаю. Так привык я к ним, а они ко мне, что когда расставались, верите или нет, и меня, и их слеза прошибла. Лошадь, она ведь умная скотина, все понимает.
А покинул я их по такому случаю. Стала в нашу колхозную жизнь техника вторгаться. То там, то здесь затарахтит. Вот и стал я призадумываться. Как ни раскину, все выходит, что будущее не за живностью, а за машинами. Да и девки на нас, скотников, внимание перестали обращать. Им тракториста или комбайнера подавай.
Вот и решил я трактористом заделаться. Выбрал время, подошел как-то к Гришке-трактористу и прошу его прокатить меня на его штуковине. Тот сразу сообразил что к чему.
— Рад, — говорит, — содействовать механизации сельскохозяйственного труда.
Назначил он мне время, пришел я, уселся рядом, завел он машину и круга два дал. Вот тут-то и получился конфуз. Отродясь я такого шума не слыхал и тряски не испытывал. Весь свой слух начисто порастерял, и внутренности вконец перепутались. А Гришка-стервец не останавливается, кружит и кружит на своей тарахтелке, да еще и смеется:
— Привыкай, Андрюха. Терпи, солдат, генералом будешь.
Как в воду глядел. Правда, генерала из меня пока не получилось, но старшинствую помаленьку. Не получился из меня и тракторист: целую неделю ходил по деревне в полной глухоте. Ну ничего не слышал. Только бульканье в животе различал. Хожу, глазами хлопаю и на каждый вопрос согласно головой киваю. Народ удивляться стал.
— Чего это ты, Андрюха, — говорят, — в дело и не в дело головой киваешь?
Тогда я этого вопроса не расслышал, но сам дошел: надо в некоторых случаях и несогласие проявлять. Проявил и влип в историю. Спрашивают меня как-то:
— Ты, Андрюха, коней поил?
Я головой из стороны в сторону.
— Ну, а кормил?
Я тоже, как подсолнух на ветру, головой качаю.
На второй день та же история повторилась. Разозлились мужики и потянули меня на правление. Чуть из колхоза не вышибли. Спасибо Гришке-трактористу, прибежал, все как есть объяснил.
Да, тихие у нас места, голубые, зеленые, все в цветах, — с тоской в голосе продолжает Матухин. — Выйдешь вечерком, и от дома слышно, как речка промеж камней бурчит. А до нее, родимой, не меньше километра. Или вот комар-чертяка. Он еще только укусить тебя задумал, заход над головой делает, а ты уж его чуешь. Ну, а в пике пойдет, уж как «мессер» шумит. Только шум кончился, смело по щеке бей — наверняка комар твой будет. Или вот девчата за околицей песню затянут. Для себя поют, а ребята за две версты уши навострят и к ним торопятся.
Потому и оглох я тогда с непривычки. Теперь вот дивлюсь: ведь это же надо! Такой несусветный грохот выдерживаю — и ничего, ни в ушах глухоты, ни в животе бульканья. Привык.
Метил я и в комбайнеры. Но тут мать взбунтовалась.
— Не должность, — говорит, — это, а одно разорение. Стирать каждый день, подсчитай, сколько мыла да дров понадобится. Да и старая я белье каждый день стирать.
Только я так думаю — одежонку она мою пожалела. Боялась, что от стирки быстро в негодность придет. А может, меня самого: пыль, она ведь враз человека разъесть может. Матери — народ беспокойный. Моя меня даже на киномеханика учиться не пустила. Увидела кино «Чапаев», понаблюдала, как наш Сенька-киномеханик у своего аппарата орудует, перепуталось у нее все в голове, ну и завопила:
— Как войне случиться, тебя первым в пулеметчики возьмут.
Нипочем не согласилась тогда, а жаль, разъезжал бы я сейчас по тылам, на постели настоящей спал, чай котелками уничтожал, а по вечерам в резервном полку или в госпиталях ленту крутил.
Но не об этом речь. Выбрал я себе специальность шофера и на том уперся. На курсы посылали, всем тонкостям обучили. А что? Очень понравилось мне шоферское дело. Первое — не шумно, второе — не пыльно, а третье — завсегда можно по пути бабешек до базара подкинуть, на папиросы набрать. И стал я курить «Беломор». Подойдешь к ребятам, вытащишь из кармана пачку, а оттуда папиросу, разомнешь в руках, дунешь в трубочку для шику и задымишь ароматом. Царская жизнь. Помирай — не надо! Одно плохо: выпить за рулем нельзя. Тут я строго себя держал, всегда помнил: машина — не конь, до ворот не довезет.
Только стала жизнь моя налаживаться, война явилась. Повестку принесли. Жаль мне стало машину и мирную свою житуху до слез. В самый последний час стою у автомобиля, положил руку на крыло, голову опустил. Тут начальство выходит, видит мою печаль и говорит:
— Не горюй, Андрюха. Пойдешь на фронт вместе с машиной. Ничего нам не жаль для армии. Отдаем машину и тебя в придачу для защиты Родины. Тем более, что приказ пришел — автомобили тоже в армию призывают.
Так и приехал в райвоенкомат на машине, да еще деревенских парней в кузове доставил.
Чего только не довелось нам пережить с «маруськой» (я свою полуторку «маруськой» назвал). И под бомбежкой были, и из окружения выходили, не раз ранена она у меня была. Подлатаю, заменю кое-что — и опять колесит исправно и по дорогам и по бездорожью.
Однажды, помню, мы с ней в страшный переплет попали. Было это в наступлении, в Белоруссии. Уже смеркаться стало, а потом и вовсе потемнело. Фары зажечь нельзя, над головой ихняя «рама»[2], как коршун, крутит — враз засечет. И вот то ли задумался я малость, то ли задремал — не знаю. Только, когда очнулся, замечаю — ни впереди ничего не бурчит, ни сзади. Шли мы тремя машинами, а тут я один оказался. Остановился, начал соображать, что к чему и каким манером мне дальше двигаться. Вышел из кабины — что направо посмотреть, что налево — одна темень. Стал ногами дорогу нащупывать. Кругом слякоть, а главное — направление определить не могу. Где запад? Где восток? Где немцы? Где наши? Полная неизвестность. Безвыходное положение.
Решил тогда я переждать, а чуть заря обозначится, дальше действовать. Прикорнул в кабине, но только небо сереть стало, очнулся, вылез и огляделся. Слава богу, теперь хоть ясно стало, где восток и в каком направлении двигаться.
Хотел уж газ дать, но увидел невдалеке какой-то предмет. «Дай, — думаю, — подойду. Вдруг указатель». Тронулся туда. Подошел, гляжу — и впрямь в землю столбик вкопан, а к нему дощечка прибита. Наклонился пониже, однако прочитать, что на той доске написано, не могу. Чиркнул спичку — и обомлел. На дощечке одно слово: «Мины». Я даже присел от неожиданности, и коленки друг о друга постукивать стали. Ну, влип! Постоял минут пяток, малость пришел в себя и тогда решил к машине идти — больше некуда. Иду и все думаю — вот сейчас трахнет. И тут поймал себя на том, что вышагиваю как журавль, для чего-то ноги высоко поднимаю.
Как последние шаги делал — не помню. Знаю только, что перед самой машиной присел, руки назад откинул и такой прыжок совершил, что сам себе удивился. Отдышался, покурил, стал прикидывать, как дальше поступить.
Уже совсем светло стало. Вижу, метрах в пятидесяти беловатая лента обозначается. Сообразил — дорога. Решил на нее выбираться. Однако — как? Не станешь же на минном поле на машине разворачиваться. И вот стиснул я зубы, вцепился в рычаги, глаза зажмурил и задним ходом — куда бог вывезет — газанул.
Очнулся на дороге. По машине почувствовал. И ни минуты не мешкая, дал ходу. Только километров через пять окончательно в себя пришел. Вылез из машины, обошел ее вокруг, попинал скаты, убедился, что все в порядке, и запылил дальше. Однако еще километров через пять выскочил из кустов капитан, встал посреди пути.
— Стой! Стой! — кричит.
Остановился я.
— Ты откуда? — спрашивает капитан.
— Оттуда, — отвечаю и показываю назад.
Капитан больше не разговаривает, прыгнул на подножку и требует:
— А ну, дыхни.
Дыхнул я. Он удивился и требует к себе лейтенанта. Подбежал тот, стали они меня расспрашивать, с картой мои показания сличать, наконец, позвали сержанта.
— Что это за работа, почему по вашим минным полям машины беспрепятственно двигаются? — кричат на сержанта.
Тот спокойно объясняет, что оставили они на том поле один-единственный узкий проход и что вскорости его закроют.
Начальство тон сбавило, а потом ко мне обратилось:
— Видно, ты, парень, в рубашке, а может, даже в костюме родился. Ну, поезжай, да жизни радуйся.
Я и укатил.
Но рассказать-то я вам не об этом хотел, а о том, как я на своей «маруське» самоходку немецкую таранить пытался и вышел из этой истории победителем.
Возили мы ящики с продуктами. Хорошо возили, без приключений и сытно. Притормозишь малость. Ящик об ящик стукнется, и банки с консервами врассыпную по кузову. Одну выудишь, откроешь, позавтракаешь, водичкой запьешь, и так весело на душе становится — хоть пой.
Было там место такое. Ложбина к реке спускается, через нее мост. Хороший, добротный. А берега речки густо тальником поросли.
Вот еду я, ничего такого не думаю. Выскочил на мост и тут вижу из тальника с другой стороны немецкая самоходка вылезла. Остановился я, и самоходка тоже встала.
«Вот тебе и на. Что делать?»
Постояли мы минут пять, вижу: двинулась на меня эта штуковина. Впереди ствол толщиной с телеграфный столб.
«Если, — думаю, — сейчас задний ход дать, он меня из своего телеграфного столба в миг в безобразную массу превратит. Эх, помирать — так с музыкой!»
Рванул я рычаги, на самоходку пошел. Фашисты, видно, подумали, что у меня в кузове взрывчатка и я себя и их в воздух поднять задумал. Остановились. А я лечу! Дали они задний ход. А я еще быстрей лечу!
Занервничали фашисты, заметались, хотели увернуться от моей «маруськи», да не рассчитали, перила моста проломили и бултых в воду вверх тормашками! Один столб из воды торчит.
Тут наши ребята из охраны моста прибежали. Постояли мы, подождали, пока немцы из машины выберутся и на поверхности воды покажутся, а потом всех их мокреньких и взяли.
Когда мимо моей машины проходили, один немец тычет пальцами в кузов:
— Динамит? — спрашивает.
— Динамит, динамит, — посмеялся я, вынул банку гороха со свининой, показал ему и еще раз говорю: — Динамит!
Лейтенант из охраны моста фамилию, имя, отчество, номер машины записал.
— К награде, — говорит, — представлю.
Может, представил, только не всегда найдет в этой кутерьме орден или медаль. А может, и забыл лейтенант о своем обещании. И так бывает…
ГРАНАТА
Всем хорош был солдат Джанбеков. Волосы и глаза, как смоль, лицом смугл, брови вразлет, а про фигуру и говорить нечего: высокий, стройный. Всегда подтянут, характером спокоен, рассудителен. По-восточному мудр, хвастать не любил, хотя, наверное, немало мог бы порассказать. Рядом с другими наградами на его груди красовалась медаль «За оборону Сталинграда». А это, согласитесь, немало: иному ордену ровня.
При всяком удобном случае мы его на глаза начальства выставляли — пусть думают, что у нас все такие.
Но была у Джанбекова слабость. Он мне о ней рассказал потом по секрету перед одной операцией.
Фашисты установили на высотке пулемет и такое место выбрали, что он не давал нам головы поднять. Ну что ты будешь делать — нет житья, и только. Бывало, возьмешь пилотку, наденешь на рукоятку шанцевой лопаты да высунешь из окопа — через две минуты одни клочья останутся и от рукоятки, и от пилотки.
Решили мы тогда расправиться с этим пулеметом, подползти ночью к окопу и забросать его к чертовой бабушке гранатами. Стал я думать, кого послать. Остановил свой выбор на Джанбекове и еще одном солдате. Вызвал обоих, объяснил задачу.
— Ясно? — спрашиваю.
— Ясно, — отвечают.
Солдат повернулся, ушел, а Джанбеков остался. Переминается с ноги на ногу, голову опустил.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Назначь кого-нибудь другого вместо меня, лейтенант, — наконец, выдавил он из себя.
Я посмотрел на него внимательно — не болен ли?
— Не болен, — говорит, — только очень прошу.
— Ну хорошо, — решаю, — пошлю другого, а ты мне объясни, что за причина.
Присели, закурили.
— Понимаешь, лейтенант, боюсь я гранаты. Не умею бросать, и сколько ни бился, научиться не могу. Выдерну чеку, прижму взрыватель пальцем, надо кидать, а я пальцы разжать не могу. Все кажется, что она рядом где-нибудь упадет и разорвет меня в клочья.
— Что же ты за всю войну ни одной гранаты не кинул?
— Не кинул.
Подивился я тогда, посмеялся, Но вскоре совсем не смешной случай произошел. Готовились мы к наступлению. Обстоятельно, солидно готовились. Подобрали у себя в тылу местность, похожую на ту, что лежала перед нашими окопами. Разведка уже выяснила огневые точки врага. Мы обозначили их на нашем полигоне и стали тренироваться. Оказался я как-то рядом в Джанбековым. Ползем. И тут мне пришло в голову задачу поставить. Кричу:
— Прямо перед тобой пулемет. Забросать гранатами.
Не скрою, с умыслом дал команду. Думал: научу Джанбекова гранаты бросать. В таких случаях, на учениях, ребята схватят камень или ком земли — что под руку попадется — и пуляют. А Джанбеков хвать из-за пазухи настоящую боевую гранату, — видно, носил все-таки с собой — размахнулся и выбросил руку вперед.
Первая мысль моя была: а говорил, не умеет гранату бросать. Потом обожгло: что же он делает, ведь так и в своих угодить можно — учение все-таки. Приник к земле, жду. Нет взрыва! Гляжу, а Джанбеков так и застыл с гранатой в распростертой руке. Как на плакате, что обычно у торговых точек военторга висели.
Подполз я к нему поближе, как можно спокойнее спрашиваю:
— Что же ты, куриная голова, и чеку у гранаты выдернул?
Пошлепал побелевшими губами Джанбеков, наконец выговорил:
— Выдернул, лейтенант.
Мне совсем скучно стало. Дело в том, что чеку обратно на место очень трудно вставить.
— Вот, — говорю, — и будешь теперь так до прихода саперов лежать, будто солдат в атаку призываешь.
— Что же делать? — спрашивает Джанбеков.
А я сам ничего путного придумать не могу. Первое, что пришло в голову, — надо людей подальше убрать.
— Встать! — командую солдатам.
Встали ребята, с удивлением глядят на Джанбекова, некоторые поближе подходить стали, обсуждают ситуацию, советы посыпались.
— Кругом! — командую. — Бегом, марш!
Убежали солдаты, остались мы с Джанбековым вдвоем. Он слезно просит:
— Уходи, лейтенант, чего вдвоем погибать. Сам виноват.
Я его успокаиваю, как могу.
— Ты, — говорю, — брось хреновину пороть. Вдвоем придумаем что-нибудь, а один, как пить дать, погибнешь.
Помолчали.
— У меня рука затекла. Не выдержу, — говорит.
— А ты опусти руку, чего как Чапаев на тачанке.
— Боюсь, — отвечает. — Не слушается рука, так подальше от головы и тянется.
— Вот что, — наконец решаюсь я, — бросай гранату к чертовой бабушке, никого из наших впереди нет. Головомойку, конечно, получим, зато живы останемся.
Он с трудом откинул руку назад, сильно замахнулся, а гранату выпустил в последнюю долю секунды. И закрутилась она, милая, совсем рядом, можно сказать, под носом.
До сих пор помню: вертится, как волчок, словно выискивая, куда нас побольнее ужалить. Я прижался к земле, голову обхватил руками, только что маму на помощь не зову. А может, и звал… Только вдруг чувствую: что-то тяжелое навалилось на меня и прижало к земле. И тут — взрыв!
«Все!» — мелькнуло в сознании. Полежал немножко, стал в себя приходить. Замечаю, зеленая трава в ноздрях щекочет, букашка какая-то по пальцу ползет. «Убило, что ли? — размышляю. — Должно убило, раз букашка. По мертвецам обычно разная живность ползает». Прошло еще несколько секунд.
— Джанбеков, — тихо так спрашиваю, не надеясь ответ получить. — Ты жив, Джанбеков?
Он пошевелился, отвечает:
— Кто его знает? Может, жив.
— Жив! — уже кричу я. — Если ты отвечаешь, а я слышу, значит, оба живы!
— Может, ранены? — говорит Джанбеков. Щупаем руки, ноги, головы — нигде не больно и крови нет.
— Ты чего на меня навалился? — сердито говорю я. — Аж дохнуть нельзя было.
— Извини, лейтенант, боялся, что из-за моей глупости погибнешь.
Приподнялись мы, посидели на земле и поплелись к своим.
— И как это не задело нас? — все удивлялся Джанбеков.
Подумал я и объяснил.
— Баллистику надо знать. Вот если бы ты чуть подальше бросил, обязательно хлестнуло бы. А так мы в «мертвой зоне» оказались. Знаешь, что такое «мертвая зона»?
— Откуда? — оправдывался Джанбеков. — У меня пять классов только. — И вздохнул: — Еще не привелось поучиться.
ТРУС
— Я вам вот что скажу, ребята: нет ничего паскуднее на земле, чем эта самая война.
Так начал свой рассказ старшина Матухин, все чаще заглядывавший в последнее время в наш взвод. То ли слушатели ему понравились, то ли дорожка частенько стала вблизи пролегать. Сядет на ящик или просто на бугорке пристроится, вытащит свой знаменитый цветастый кисет, завернет немыслимых размеров козью ножку и начнет неторопливую беседу.
Так было и в этот раз.
— Я не только про убитых говорю, про тех, кто без рук-ног остается. Иногда она, злодейка, такое коленце с человеком выкинет, что хоть стой, хоть падай. Правда, все от самого человека зависит. Есть хилые на вид, а душой крепче железа. Бывает, на вид богатырь, при виде которого все девки враз по ночам спать перестают, а возьмет война в переплет — и окажется он внутри как трухлявый мох между старых бревен. Встречал я такого человека, и оказался им мой земляк, из одной деревни, с одной улицы. Да ладно бы, случись это в первые месяцы войны — куда ни шло. А то мы фашистов уже из Белоруссии гнали. Там, в одном селе, и произошла эта встреча.
К тому времени стал я уже старшиной. Ну, а нам, старшинам, не всегда впереди шагать положено, иной раз и в хвосте плестись приходится. Вот и тогда я замешкался с хозяйством, вдруг вижу: возле повозок паренек лет пятнадцати круги дает. Как карп на крючке перед тем, как на берег его вытащат. Ну, думаю, мальчонок пропитание добывает. Полез я в мешок, достал булку хлеба, банку «второго фронта»[3], сунул ему в руки. Он взял, а не уходит.
— Что, — спрашиваю, — мало? Дал бы больше, да ведь солдаты тоже есть хотят.
Малец обиделся, положил продукты на повозку, даже рукой об руку ударил, словно крошки стряхнул. Гордый, видать, парень.
— Не затем я к вам пришел, — говорит, — товарищ старшина. Не возьму я ваш хлеб, и консервы ваши мне тоже без надобности.
А какое там без надобности! В чем душа держится. Оболочка-то есть, а содержания никакого.
— Ладно, — уговариваю, — не обижайся на пустые слова, не подумавши на свет их пустил. Бери, в хозяйстве пригодится.
— В хозяйстве, — отвечает, — сгодится, тем более что мне еще двух сестренок до конца войны тянуть надо. Только пришел я к вам по делу.
И рассказал, что года два назад, когда наши отступали, появился у них в деревне мужик. Обосновался у бабы, которая мужа перед войной схоронила. Известно ведь, что бабий ум что коромысло: и выпукло, и вогнуто, и на два конца. Видно, раскинула она этим «коромыслом», и вышло, что со всех концов ей выгодно в доме хозяина иметь. Деревенские партизанский отряд сколотили, к ним отставшие от частей красноармейцы примкнули и начали немца тревожить. В деревне думали, что мужик этот здоровый тоже к партизанам подастся, так как по всем признакам в прошлом он военным человеком был. Ан, нет. Проходит месяц, другой, потом и дальше время потянулось, а он живет себе и ни о каких боевых действиях не помышляет. Прислали партизаны к нему гонца. «Так и так, мол, нехорошо получается. Люди воюют, а ты от немцев под бабьей юбкой хоронишься». Выслушал мужик упреки и отвечает: «Вы меня не троньте, я особое задание имею и выполняю его». Подивился народ: «Что за задание такое странное на его долю выпало? Однако у военных всякое бывает», — подумали и оставили в покое, тем более что с немцами он не якшался, стоило только им в деревне появиться, он как сквозь землю проваливался.
— Может, у него в самом деле какое особо секретное задание? — сказал я мальцу.
— И мы так думали, — ответил тот, — но вот в чем закорючка. Когда наши солдаты в деревне появились, у него по всем статьям это задание закончиться должно. Ведь так?
— Ну, так.
— А он, как и при немцах, куда-то нырнул и ни вашим солдатам, ни нашим мужикам не показывается. Тут мы и решили вам рассказать. Вот за этим я и пришел, а вовсе не за хлебом.
Такое вот дело возникло передо мной. Что ж, взял с собой двух солдат, сказал мальцу, чтобы он нам тот дом показал. Подходим. Дом, скажу вам, неплохой — пятистенник. Во дворе — порядок. Скотины, правда, не видно, но на плетне крынки вверх дном торчат. В сенцах — подойник.
В кухне у печки хозяйка ухватом шурует.
— У вас, — говорю, — всю войну человек скрывался. Так?
Зыркнула хозяйка на меня глазами, поставила ухват в угол, руки о передник вытерла.
— Так, — отвечает. — Было такое.
— А что это за человек и куда он подевался? — Спокойно так и культурно разговор веду.
— Что это за человек — не знаю, а ушел он вместе с вашими, — не моргнув глазом, отвечает хозяйка.
— Что же он эти два года у вас делал? — спрашиваю. — И почему к своим не пробирался, и в партизаны не шел?
— А вот это вы у него спросите, — говорит. — Мне он не докладывал.
— Как же так? Два года вместе прожили, ночные разговоры вели, и ничего, выходит, тебе о нем не известно?
— Насчет ночных разговоров — так это вас не касается, — поет она свою песенку. — Что было промеж нас, у нас и останется, а что касается того, зачем он здесь, говорил: особое задание выполняет.
Тут повел я глазами к столу и вижу: на блюдце окурок лежит и дымок от него вверх вьется. Ну, думаю, поймал я тебя, чертова баба.
— Кто курил?
— А малец, — спокойно отвечает.
— Где же он, твой малец? И что же у вас ребятишки с пеленок табаком балуются?
— А у нас парней до самой свадьбы мальцами кличут. Огород копает он.
Приказываю я одному из солдат доставить этого мальца. И вот минут через пять вваливается он в дверь. Ничего себе малец, головой потолок подпирает.
— А ну, — приказываю, — выверни карманы.
Тот вывернул — ни крошки табачной не вывалилось.
— Кисет есть? — спрашиваю.
— Некурящий я, — басит детина.
— С тобой ясно, — говорю. — Иди копай свой огород, хотя тебе в самый раз винтовку в руки брать. — Поворачиваюсь к женщине: — Где постоялец?
— Ищите. Найдете — весь ваш будет, — отвечает хитрющая баба.
Весь дом мы обшарили, одежонку мужскую нашли — и все. Вышли во двор — тоже ничего подозрительного. Что за черт, думаю, не под землю же он, в самом деле, проваливается. Вижу: в углу двора собачья будка. Пес в ней злющий, как волк, ни минуты не молчит, так с цепи и рвется. И что бросилось мне в глаза: пес не велик, а будка большая. Кликнул я хозяйку:
— Уведи своего барбоса от греха подальше.
— А я, — говорит, — сама его боюсь. Он и меня покусать может.
— Застрелю, — предупреждаю.
— Стреляй. Мне что, жалко его, что ли?
Я, конечно, стрелять в собаку не стал. Она свою службу несет, а об остальном не думает. Позвал мальца, он и отвел собаку в сторону. Свернули мы будку, глянули — лаз под ней.
— Что там? — спрашиваю хозяйку.
— Схрон, — отвечает. — При немцах жито ховали.
— Хорошо, — говорю. — А ну, отойдите подальше.
Отошли. Смотрят на меня. Вынул я, не торопясь, гранату, стер с нее пыль, а сам на хозяйку поглядываю. Вижу, стала она белее полотна, но молчит. Откинул я крышку…
— Стойте! — завопила женщина. — Не кидайте свое смертоубийство!
Подбежала к схрону, упала на колени, голову туда сунула и, плача, кричит:
— Андрюшенька, миленький, вылезай, родной. Прикончат они тебя враз, гранату наладили.
Через несколько минут показался из лаза мужик, волосы, как у попа, борода лопатой, а кожей белый. Вылез и бух на колени! Мне аж противно стало.
— Не бейте меня, я тоже русский, — кричит и протягивает мне красноармейскую книжку и капсулу-жетон. Посмотрел я документы и глазам не поверил. Пригляделся к мужику — мать честная, а ведь верно — Андрей Первухин, из нашей деревни.
— Андрей, ты ли это? — спрашиваю.
Он поднял голову, видно, узнал меня, потому что бросился головой оземь, катается по траве, волком воет.
— Пропащая моя голова, Василий! — голосит. — Погиб я, сукин сын, в дезертиры подался!
Через некоторое время утих, всхлипывает только.
— Вставай, — говорю, — Андрей, чего уж тут. Слезами горю не поможешь.
Поднялся он, закурить попросил. Пока цигарку сворачивал, весь табак раструсил, пришлось еще дать. Присели мы.
— Как же ты? — спрашиваю. — Разве так можно? Чего теперь в деревне нашей скажут?
Молчит, голову опустил.
— Струсил я шибко. Одолел страх. А теперь, видно, ответ держать надо, — глухо так проговорил, наконец.
— Видно, так, — отвечаю.
— Испаскудил я свою душу. Как жена, мать переживут — не знаю. Ты уж, будь добр, не отписывай им про меня. Пусть думают: погиб в честном бою, либо без вести пропал.
Отправил я его, куда следует, но пообещал, что домой писать о нем не буду.
В этом году дали мне после ранения отпуск, заглянул к своим старикам и встретил на улице Груньку — жену Андрея.
— Что, Василий, — спрашивает, — не встречал ли ты там, на фронте, моего-то? Третий год ни похоронки, ни письмеца нет.
— Откуда? — отвечаю. — Разве на фронте возможно такое?
— Оно конечно, — вздохнула Груня. — В такой толпе человек — что иголка в стоге сена. Может, объявится еще со временем.
— Может. На войне всякое происходит.
…Старшина долго ковырял носком сапога землю.
— Самое страшное, ребята, в этой войне то, что она у слабого человека может испоганить душу. Вот этого бойтесь.
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ[4]
Чего греха таить, мы все были немножко влюблены в нее. Когда в минуты отдыха кто-то затягивал негромко:
Медсестра, дорогая Анюта, Подползла, прошептала: «Живой», —нам казалось, что это песня о ней, хотя звали ее совсем не Анюта и никогда она не была медсестрой.
Она была связисткой. Одевалась, как все, — шинель или телогрейка, на голове — ушанка. За спиной вечно болталась катушка с проводом. Ни для кого не было секретом наше отношение к связистке. Когда ее хотели найти, непременно звонили нам.
— Любушка у вас? — ревниво вопрошал голос из комбатского узла связи, вкладывая в эти слова двоякий смысл: и то, что нашу девушку звали Любой, и то, что она была нашей любимицей. Начальник связи был бесцеремонен. Он прямо приказывал:
— Шерше ля фам!
Услышав такое в первый раз, наш связист от неожиданности открыл рот, долго думал, потом, прикрыв ладонью трубку, просиял:
— Товарищи, фриц по ошибке в нашу связь врезался. Сейчас все его секреты выведаем.
Такое бывает не часто. Я вырвал трубку и стал слушать, хотя наперед знал, что ничего не пойму. Но трубка молчала, а мне говорить по-русски не хотелось, чтобы не демаскировать себя. Я только сопел от напряжения.
— Какого черта! Пулеметчики, пропали вы, что ли? — вдруг услышал я на чистейшем русском языке.
— Кого вам? — спросил я без всякого энтузиазма.
— Я вам по-русски говорю: шерше ля фам. — Это был голос начальника связи. Он совсем недавно пришел в наш батальон, и мы еще не знали всех его странностей. Одна из них состояла в том, что в целях маскировки всех своих связисток и связистов он звал на французский манер: ля фам. Где он вычитал это, бог знает, только когда ему кто-то из подчиненных был нужен, всегда говорил: шерше ля фам. Не взирая на то, была «ля фам» женщиной или мужиком. Постепенно к таким странностям старшего лейтенанта мы привыкли, тем более что после французской речи следовала отнюдь не изящная нижегородская брань.
Любушка, как всякая женщина, чувствовала наше отношение к себе, и это ей явно нравилось.
— Здравствуйте, мальчики! — кричала она, появляясь на пороге, и замирала на мгновение, давая себя разглядеть. — Ой, как у вас накурено! А разбросано-то, разбросано как! Безобразие! А ну всем наводить порядок!
Привычным движением откинув назад катушку, она первой хваталась за наши солдатские пожитки. Тут уж каждый спасал свое добро, как мог, потому что твердо знал: после такой уборки наверняка понадобится неделя для наведения настоящего, солдатского порядка. Хитрый Заря торопливо подходил в девушке и, по-отцовски обняв, говорил:
— Да успокойся ты, Любушка, посиди, отдохни. Мы на тебя полюбуемся, а порядок… через минуту будет.
Мы заталкивали под нары пожитки, и такая уборка всех устраивала. Посидев минут пятнадцать и выложив новости, она вскакивала и, отбросив катушку за спину, кричала из дверей:
— Я пошла, мальчики. Будьте живы!
И убегала так же внезапно, как и появлялась. Так было и на этот раз.
— Будьте живы! — И убежала в ночь.
Через сутки позвонил начальник связи. На этот раз разговор шел по-русски.
— Любушку не видели? — хмуро спросил он.
— Видели прошлой ночью, — почуяв что-то неладное, с тревогой ответил я.
— Прошлой ночью, — вздохнул связист. — Прошлой ночью я сам ее видел. Куда она пошла — не сказала?
— На правый фланг.
— До того, как это случилось, или после?
— Кажется, после.
— А вы сказали ей, что там произошло?
Мы не сказали по простой причине: сообщение о том, что немцы потеснили наш правый фланг, пришло уже после того, как она ушла.
— Худо, — выдохнул начальник связи, — совсем, братцы, плохо.
Мы молчали. Хуже быть не могло. Люба ушла на нейтралку[5].
— Шерше ля фам, — горько усмехнулся связист и впервые перевел эту фразу на русский язык: — ищите женщину, как говорят французы.
Трубка умолкла. В землянке повисла тяжелая тишина.
— Ну что же, шерше так шерше — делать нечего, — бодрым голосом прервал молчание рядовой Поделкин и, будто это дело решенное, начал торопливо собираться. Я добавил:
— Джанбеков! Тоже пойдешь.
Это была хорошая пара. Спокойный в любых обстоятельствах Джанбеков и горячий бесшабашный Поделкин. Дождавшись, когда станет смеркаться, они уползли. Мы стали ждать.
Под утро, когда все переволновались вконец, стоявший в наряде солдат услышал какие-то непонятные звуки и поднял тревогу. Мы были почти уверены, что возвращаются Поделкин с Джанбековым. Двое солдат мигом перелетели через бруствер и поползли навстречу этим звукам. Через полчаса мы уже принимали на руки незнакомого раненого солдата. Вслед за ним в окоп спрыгнула Люба, потом Поделкин и Джанбеков. Но, боже мой, это была совсем другая Люба! В землянке она пыталась улыбнуться, но улыбка оказалась какой-то жалкой, вымученной. Не крикнула она свое обычное «Здравствуйте, мальчики!», не охнула, увидев обычный беспорядок, не схватилась за первую попавшуюся вещь. Лицо ее почернело, глаза ввалились, волосы прядями спадали на лоб.
— Извините, ребята, — прошептала она потрескавшимися губами. — Я немного посплю.
И приткнулась на нарах. Мы скатали шинель, осторожно подложили ей под голову, другой шинелью накрыли, отставили в дальний угол коптилку и вышли на воздух. Раненого солдата уже увезли в медсанбат.
— Братцы, что я вам скажу, — услышал я голос Поделкина. — Ни за что не поверите. Любушка-то наша так ругаться умеет, как ни мне, никому из вас и во сне не приснится.
Джанбеков недовольно крякнул и проворчал:
— Болтает, болтает, а чего болтает, сам не знает. Не слушайте его, ребята.
Поделкин и ухом не повел.
— Ползали мы на нейтралке полночи — ничего примечательного не заметили. Джанбеков, правда, одного фашиста прихлопнул — зазевался тот и вылез из окопа.
Джанбеков заерзал, плюнул в сердцах и отвернулся.
— А дальше никаких приключений не было. Тоскливо нам стало. Погибла, думаем, наша Любушка. Хотели уж домой возвращаться, но тут где-то в стороне автомат заработал. Прислушались — вроде наш ППШ. Что, думаем, за оказия? Разведчики наши с задания возвращаются, что ли? Решили подсобить. Развернулись на сто восемьдесят градусов и продвигаемся на животах. Джанбеков, как кошка, в темноте словно днем видит. Пригляделся он и толкает меня в бок. «Видишь, — говорит, — из той воронки кто-то огонь ведет». Мать честная, уж не Любушка ли наша? А крикнуть нельзя: немцы вмиг обнаружат и тогда нам несдобровать. Совсем уж близко воронка, и тут вот, ребята, услышали мы, как Люба фашистов кроет. Будто из двух автоматов строчит — из одного пулями, из другого — словами. Нашенскими, солдатскими, ей-богу!
— Зачем врешь, зачем болтаешь? — вскипел Джанбеков. — Врет он, ребята. Кричать кричала, ругаться — нет.
— Так я же и говорю — кричала. Она не в себе была… Ввалились мы в воронку и видим: стоит наша Любаша, в одной руке автомат, в другой — граната, а к чеке ее Любушка зубами тянется. «Вы у меня попляшете, фашисты проклятые!» — кричит. Гляжу — дело серьезное. Поднимет на воздух и себя и нас — потом разбирайся, кто виноват. «Любаша, — кричу, — что ты! Это я, Поделкин, а это Джанбеков! Видишь, как всегда, воды в рот набрал». А Любаша в таком состоянии, что не понимает нас. Тут и Джанбеков в разговор вступил: «Успокойся, — говорит, — девка. Свои мы». Постепенно дошло до сознания Любаши, кто мы. Как она заплачет, как бросится к нам и ну целовать. Посидели мы, покурили в рукава. «Что же ты, Любаша, к своим не пробиралась?» — спрашиваю. Посмотрела она на меня так, что лучше бы я и не спрашивал. «А раненого тут оставить, так, что ли?» — отвечает. Вот какая наша «ля фам»! — с гордостью заключил Поделкин. — Пусть поспит, много ей пришлось пережить, бедняжке.
— Ну, а дальше? Как вам к своим удалось пробиться? — спросил Силкин.
А Поделкин уже входил в свою роль бесшабашного парня.
— Дальше легко пошло, паря, — он стукнул Силкина по плечу. — Джанбеков раненого на спину взвалил, и с криком «ура» и пением наших замечательных песен мы благополучно прибыли в расположение своей родной роты для прохождения дальнейшей службы. Вот так, Силкин!
Поделкин поднялся и зашагал к землянке, бросив на ходу:
— Не забудь к орденам представить, лейтенант. Кончится война, наши героические поступки по орденам считать будут.
Любушку в самом деле вскоре наградили медалью «За отвагу». А через двое суток после этого случая она опять появилась в дверях блиндажа и, как ни в чем не бывало, зазвенел ее веселый голосок:
— Здравствуйте, мальчики! Ой, как накурили, а беспорядок-то какой!..
И все так же звонил время от времени начальник связи и говорил:
— Шерше ля фам.
БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД
— И ничего-то вы о женщинах не знаете, — прервал болтовню молодых солдат старшина, опять заглянувший к нам. — Женское сердце что лес густой: заблудиться немудрено. Вот расскажу я вам об одном случае, а там сами судите, знаете вы девчат, или они для вас так и останутся загадкой.
Было это в госпитале. Ранило меня и пришлось от войны отпуск брать. Валяюсь на койке, дом вспоминаю, а то от нечего делать с ребятами в карты дуюсь. Нам, тяжелораненым, по пятьдесят граммов полагалось. Известно, народ квелый, выпьем этот наперсток — и хорошо! Веселенькие лежим, языки еще больше распускаем. А стали в силу входить — показалось нам этой нормы мало. Кто-то эфира раздобыл. Выйдем все в коридор, а один в палате останется. Нальет, высунет за дверь — тут уж не робей, хватай и, не дыша, ликвидируй немедленно. Иначе очень уж противно. Терпел-терпел я эту гадость, а когда очередь разливать до меня дошла, взял и вылил весь запас к чертовой бабушке, за окошко. Ребята в коридоре стоят, с ноги на ногу переступают, а я лег и почитываю. Однако не выдержали.
— Скоро? — спрашивают. Я их поманежил малость, а потом все как есть и выложил. Они не верят, думают, я один эту гадость выпил, приглядываться ко мне стали, на улицу сбегали, принюхались к земле, потом на меня набросились:
— Вредитель ты. Может, это ценное лекарство, и без него наши герои-бойцы помрут от ран.
Я на такую глупость и отвечать не стал. Вдруг слышим из угла палаты голос, тихий такой.
— Вы, ребята, вот что сделайте, — советует, — вы очередность установите. Вас четверо, вот и заправляйтесь через день. Так оно лучше. Я по госпиталям за свою короткую жизнь повалялся, все тонкости этого житья изучил.
Мы с удивлением посмотрели в угол: перед «эфирной процедурой», верно, к нам пятого положили. Но был он весь в бинтах, замотан, как мумия, и, когда его несли, слова не промолвил. Без сознания человек, решили мы. А вот гляди — совет подает. Подошли мы к нему.
— Кто ты? — спрашиваем.
— Солдат.
— Знаем, что солдат, только как же ты в таком виде оказался?
— А я, — говорит, — невезучий. Сколько раз ранения получал, сейчас и не припомню. То ногу заденет, то руку зацепит, а однажды в такое место попало, что пришлось вместо докторши мужика-врача вызывать. Был случай: уж и бой закончили, поднялись в рост, через развалины пошли — тут на меня кирпич свалился, ключицу поломал. В госпиталь идти стыдно было, а пришлось.
— Ну, на этот раз тебя, парень, кажись, чуть до смерти не убило.
— Поначалу и я так думал, а теперь надежда есть — кажись, вывернусь.
Прибежала медсестра, Танюшка, и разогнала нас по кроватям. Посидела для порядка и умчалась по своим делам.
— Как же это тебя угораздило? — спрашиваю новенького.
— Самоходчик я, ну вот и погорел немножко.
— Тебе же все время больно. Чего не стонешь? — удивился я.
— Надоело. При моей жизни сильно много стонать бы пришлось. При первом ранении — стонал, кричал даже. А потом решил не позориться.
И вот стал этот паренек, Алешей его звали, поправляться. На глазах прямо. Проснется утром, приподнимется чуток и кричит:
— Привет, ребята! Это я, значит.
Прошло время, и стали мы замечать, что Танюшка уж больно часто в нашей палате вертится и все возле Алеши. Сначала думали: так положено, тяжелый он, за ним уход да уход нужен. А потом видим: тут дело не только в этом. Сидят в уголке и воркуют. Мы поначалу прислушивались, а потом стали выходить из палаты. И видим: Алешка после таких бесед веселый становится, шутки разные выбрасывает, анекдоты из него так и посыпались, ну, как горох из дырявого кармана. Хорошие анекдоты, смешные, а не матерные. Я раньше и не знал, что такие бывают.
Стали его мало-помалу разбинтовывать. Вначале руки показались, потом туловище обозначаться стало. И прямо скажу — жуткая картина открывалась. Кругом сплошной ожог, живого места нет. Ну, и заскучал он. Отвернется к стене и молчит, за целый день слова не скажет. А что тут говорить — кожа не нем буграми, в одном месте красная, в другом — желтая, а где и вовсе не поймешь какого цвета.
И вот при таком положении любовь обозначилась. А Алешка, видно, впервые влюбился-то, — как не заскучаешь.
А тут еще в соседней палате лейтенант раненый объявился. Молодой, розовый на лицо, волосы пышные и вьются. И начал он обхаживать Танюшку. Пойдет, бывало, умываться, непременно по пояс разденется. Не столько моется, сколько мускулами поигрывает, да еще и зыркает глазами по сторонам: смотрит на него Танюша или нет. И лип к ней этот лейтенант, как, извиняюсь, банный лист. Подойдет, покачиваясь из стороны в сторону, и начинает:
— Татьяна, не знаю, как вас по батюшке, вы любите танцевать? Я — очень. А какой ваш любимый танец? Мой — вальс. Ах, вальс, что за танец!
И начнет выпендриваться. Терпели мы, терпели, а потом я возьми и скажи:
— Товарищ лейтенант, мы тяжелораненые, нам покой нужен. Идите вы в свою палату или куда подальше еще. Нам отдыхать надо, перед фронтом сил набраться.
Он нехорошо так посмотрел на меня, однако ушел. Ну, думаю, понял человек, теперь отвяжется от Танюшки. Не тут-то было! Снова, как петух, вокруг девчонки ходит, ногой об пол бьет. Решился я тогда на крайнюю меру. Догнал его в коридоре и говорю:
— Мы сейчас одни, нипочем не докажешь, что такой разговор промеж нас был. Так вот: если будешь за Танюшкой увиваться, я тебя так отделаю, что придется в госпитале еще полгода валяться. Понял?
А он ни черта не понял, ей-богу.
— Неужели ты на нее навострился? — спрашивает. — Или за ту головешку хлопочешь?
Это он на Алешку намекнул. Едва я сдержал себя.
— За кого хлопочу — не твое дело. А вот как сказал, так и будет.
— Под трибунал захотел?
— А мне штрафная рота не страшна, — отвечаю. Повернулся и ушел. Ну, поостыл лейтенант после этого, на другую перекинулся.
А вот с Алешей становилось все хуже и хуже. Лежит и молчит. Даже с нами не разговаривает, не то что с Танюшкой. Как-то остались мы вдвоем, он поворачивается, просит:
— Помоги мне, старшина, голову разбинтовать. Хочу на лицо свое посмотреть. Все же интересно с новым обличием познакомиться.
Горько мне стало.
— Ладно, Алеша, знакомься с собой. Тебе еще долго в таком виде по земле топать. — Сказал, и сомнение меня взяло. — А может, — говорю, — не надо? Может, лучше тебе не видеть?
— Не бойся, старшина, — отвечает, — я не барышня, в обморок не брякнусь.
Разбинтовал я ему голову. И открылась, братцы мои, плохая картина. Посидел он на кровати, потом поднялся, к зеркалу подошел и глянул на себя. Долго глядел, но ни слова не сказал. Потом на место вернулся.
И тут вздумал я его, старый дурак, утешить и брякнул невпопад:
— Ничего, Алешенька, до свадьбы заживет.
Слово, как говорят, не птаха. Выпустишь на волю, обратно не загонишь. Опустил мой Алеха голову, крепкую думу думает. Потом вижу: в глазах у него слезинки поблескивают.
— Вот что, — говорит, — товарищ старшина. Просьба у меня к тебе большая. Поговори с Танюшкой, пусть она отступится от меня. Я тут, пока лежал, все передумал. Не будет у нас с ней жизни. Она еще не понимает всего, жалко ей меня, а потом, когда поймет, оба мучиться всю жизнь будем.
Начал я его утешать, только какие слова подойдут к такому положению? Любовь, она и есть любовь.
— Сделай, старшина, такую великую услугу, поговори с Танюшей, — слезно просит Алешка.
Дал я ему слово, только не спешил исполнять его. Разбинтовали Алешку вконец, и Танюша тут как тут. Вся наша палата замерла — что-то будет? А Танюшка долго смотрела на парня, потом радостно говорит:
— А знаешь, Алеша, ведь ничего страшного. Теперь главное — тебе окончательно на ноги подняться. А все остальное чепуха.
И, верите или нет, весь день этот Танюша такая веселая была, как будто гора у нее с плеч свалилась.
И все бы хорошо, только Алешка задурил совсем. Как-то встретился я с Танюшкой в дверях, а она оттолкнула меня и выбежала из палаты вся в слезах. Разыскал ее, усадил, глажу по голове, как дочку свою, а она говорит, всхлипывая:
— Чувствует мое сердце: добрый он человек, ласковый, чистый. Тянет меня к нему. Ничего поделать с собой не могу. Он думает, что ожоги его испугают меня, а мне разве внешность нужна, мне его сердце в сто раз дороже. — Вытерла она слезы и просит меня:
— Поговори, Василий Семенович, с Алешей. Наведи его на путь праведный.
Вот так и замкнулось все на мне. Долго думал я, что делать? И порешил — ничего. Если, думаю, любовь у них настоящая, она, как бронебойный снаряд, в любой стене брешь пробьет. А третий человек в таких делах никогда помощником не будет.
Покатилось время, как вагоны по рельсам. Где тряхнет малость, где вроде бы приостановится, а в общем-то все вперед и вперед. Однако наблюдаю я за ребятами. Недели через две стал замечать, будто повеселели они. Потом, когда Танюшка в ночь дежурила, Алеша наш совсем исчез, только под утро явился. Чуть солнце в окно ударило, он спрыгнул с кровати и весело кричит:
— А вот и я! Здравствуйте, значит.
Ну, думаю, все в порядке. Сработал бронебойный снаряд.
Радость, как и беда, в одиночку не ходит. Случилось через несколько дней в нашей палате большое событие. Открылась дверь, и вошел полковник со звездой Героя Советского Союза на груди, а за ним — все наше госпитальное начальство. Огляделся полковник и направился прямо к Алеше. Подошел, обнял парня, поцеловал.
— Спасибо, — говорит, — солдат Круглов, за твои боевые действия. Позволь орден к твоей груди прикрепить.
Алешка смутился, не знает, куда себя деть, куда полковника усадить. А тот вынул из кармана орден Красной Звезды и прикрепил прямо к нательной Алешиной рубашке.
Сел полковник, вынул из вещмешка бутылку вина, разную вкусную снедь. Мы, конечно, тоже к их табуретке приспособились. Выпили малость, поели, а полковник рассказывает:
— Хочу, чтобы знали вы об Алексее Круглове, о том, какой он молодец… Такая у нас ситуация возникла: впереди — железная дорога с крутой насыпью, никак не можем преодолеть ее. Отыскали один переезд, сунулась самоходка, а фашисты с первого снаряда ее подожгли. Они тоже не дураки, понимали, что только здесь мы можем дорогу перейти. Крадучись, на малой скорости стали подбираться к переезду другие наши самоходки, но и их гитлеровцы в упор расстреливали. Тут вызвался Алексей: «Позвольте мне немцев на арапа взять». — «Давай, Круглов», — отвечаю. Разогнался он и на самой большой скорости влетел на переезд. На секунды немцы растерялись, а он успел в два их орудия по снаряду влепить. Правда, третье его подстрелило. Но тут уж остальные наши самоходки через дорогу перемахнули… Вот такие пироги, друзья.
Посидел полковник еще, обнял на прощание Алеху, строго-настрого наказал после госпиталя в свою часть возвращаться и уехал. А госпитальное начальство по такому случаю нам еще по пятьдесят граммов спиртяги отвалило.
Ну вот, а вы говорите. Ни черта вы о женщинах не знаете. Неразрешимые загадки они. Такими и останутся.
НОВИЧКИ
Огромный сарай, кирпичный, с толстыми стенами, с какими-то отверстиями в фундаменте, стоял между нашими позициями и фашистскими. Идеальное место для огневых точек. Мы захватили его легко, почти без боя. Порадовались удачному ночлегу. Расставили пулеметы, собрались поужинать. Но тут немцы пошли в контратаку. Впереди — три танка.
— Делать им нечего, — проворчал комбат. — Ради сарая горючее жгут.
Я любил бывать в бою рядом с комбатом. Высокий, плотный и, главное, умница. Ему было около тридцати пяти. Увидев его в первый раз, я испугался: на меня смотрело обезображенное лицо.
— Ты, брат, не горюй, не всех война такими красавцами делает. Авось тебя минует такая участь. Она женатых выбирает, а у тебя свадьба впереди, тебя пожалеет, — невесело успокоил он меня.
Было у него любимое словечко — «пигалица». Нам, молодым, старавшимся показать командиру свою храбрость, он частенько говорил:
— Не лезь поперед батьки, пигалица, тебе еще жить надо.
Мы не обижались на него за это. Нам нравились его забота, спокойствие, рассудительность. И казалось невозможным обмануть, подвести его.
Перед этим злополучным боем за сарай в мой взвод пришло пополнение — трое молодых ребят. Было им лет по восемнадцати, не больше. Они испуганно жались друг к другу, с тревогой прислушиваясь к взрывам снарядов. Я сразу понял, что в бою они еще не были.
Дал им пулемет. На разговоры времени не хватило. Немцы при поддержке танков уже лезли на нас.
Объяснив, что их задача заключается в том, чтобы отсечь пехоту от танков и заставить ее залечь, я хотел было идти по своим делам, как вдруг один из новичков робко спросил:
— А танки?
— Что танки? — не понял я.
— Танки же на нас пойдут, а у нас ни гранат, ни противотанкового ружья.
— Танки — не ваша забота, — буркнул я и убежал.
Нам пришлось отступить. Пожалуй, «отступить» — не то слово, просто-напросто пришлось бежать от сарая до прежних своих окопов, потому что противотанковые орудия не успели выдвинуться вперед. Танки прошли над нашими головами, обвалив за шиворот груды песка, но там, в глубине обороны, нарвались на снаряды и замерли неподвижно, распространяя вокруг противный запах горелого масла.
В суматохе я забыл о новичках, но вскоре они сами напомнили о себе. Пришли перепачканные грязью, бледные, испуганные и дрожащими голосами доложили:
— Товарищ лейтенант, мы пулемет забыли.
Они так и сказали — «забыли».
— Как забыли? Где? — не понял я.
— Там, — махнули они в сторону сарая.
— Но там же немцы.
— Наверное, — покорно согласились они. — Как только их солдаты стали наступать, а наши ребята отходить, мы и побежали. А пулемет забыли.
Я похолодел. Если бы они сказали, что немцы захватили пулемет, что они держались до последнего, дрались, но в бою вынуждены были оставить оружие, не видя иного выхода! Но они сказали «забыли», и я вынужден буду при докладе повторить их слова.
— Вас окружали, что ли? — с надеждой спросил я.
— Да нет, — простодушно хлопали они глазами. — Все побежали, и мы тоже, а пулемет там остался.
Я знал, что полагается солдату за такую «забывчивость», и мне было бесконечно жаль этих испуганных ребятишек. Задумался. Идти к комбату, доложить обо всем честно? Но как он посмотрит? Конечно, я знал его доброе сердце, но преступление было налицо.
— Что с нами будет? — оторвали меня от невеселых дум ребята.
— Расстрелять вас надо, вот что! — загремел я.
— Мы готовы, — совсем упавшим голосом отозвались они.
— Готовы, вы на все готовы! — не мог успокоиться я. — Сидеть здесь и никуда не отлучаться.
— Есть не отлучаться, — отозвались они хором.
Я пошел к комбату. Выслушав меня, он долго молчал.
— А ведь это и твоя ошибка, лейтенант, надо было их распределить по расчетам, чтобы каждый мальчишка при старом солдате был.
— Не успел, комбат, — виновато сказал я.
— На войне надо все успевать, — укоризненно произнес он и замолчал. — Ну что же, думай не думай, ничего не придумаешь: надо выручать пулемет. Бери Зарю, еще кого-нибудь покрепче, лезь к немцам, ищи пропажу. А на ребят не кричи, успокой их.
— Они уж к расстрелу приготовились, — улыбнулся я.
— К расстрелу, — сердито повторил он. — Как у вас все легко: раз-два — и расстрел. А о матерях, об отцах их подумали? Ну-ка, пришли этих новичков ко мне. Я им спущу штаны, устрою расстрел.
Когда я сказал ребятам, что их вызывает комбат, они совсем сникли.
Прежде чем отправить новичков к комбату, я вызвал Зарю и мы самым тщательным образом расспросили их, где они были и где могли забыть пулемет.
— А охрана будет? — спросили они.
— Какая охрана? — не понял я. А поняв, рассмеялся: — Не будет у вас караула. Топайте сами.
Ребята ушли. А мы с Зарей уползли к немцам. Никогда мне не забыть эту ночь. Вначале под самым носом врага тщательным образом обыскали нейтральную полосу, потом долго вглядывались в темноту, но нашего пулемета не нашли. Он как в воду канул. Отвергнув несколько нереальных планов, злые и голодные, возвратились к своим. С тяжелым сердцем шли мы к комбату. Спустились в блиндаж и глазам не поверили: сидят наши новички за командирским столом, веселые и довольные, пьют чай.
— Ну вот и вернулись, целые и невредимые, — обрадовался комбат. А потом приказал солдатам: — Докладывайте своему командиру, пусть он решает.
— Товарищ командир, — перебивая друг друга начали свой доклад новички. — Ведь что получилось? Мы пулемет-то не там забыли, а здесь уже.
Что-то горячее стало подступать к сердцу.
— Понимаете, оказывается, мы, когда вместе со всеми бежали от сарая, захватили пулемет, но уж очень расстроились и забыли, что захватили его.
— Что же вы ко мне докладывать о пропаже пулемета приходили? — еще больше побагровел я.
Ребята молчали.
СПЕЦИАЛИСТ
Появился в нашем подразделении младший лейтенант. Мне в штабе туманно пояснили: «Специальное поручение. Он сам расскажет. Если что попросит — помоги». А среди солдат пошли смутные слухи. Одни говорили, будто он опыт наших боевых действий изучает, другие — что скоро нам новый вид оружия дадут и этот лейтенант обучать нас станет, а третьи такую историю придумали, будто затесался среди нас немецкий агент и этот лейтенант имеет задачу разоблачить его.
Однако время идет, а младший лейтенант помалкивает. Я его не расспрашивал, честно говоря, не до него было. Вели мы в то время бои, как говорится, местного значения. А хуже этого нет. То надо во что бы то ни стало безымянную высотку взять, как будто от этой высотки весь дальнейший ход войны зависит, то немцев из дырявого сарая выбить. Солдаты ворчат, потому что для таких дел ни танков, ни тяжелой артиллерии, ни авиации не дают. Если бы мы знали дальнейшие планы командования, может быть, нам стало ясно, что для успеха большого наступления нужны и эта высотка, и этот сарай. Но в планы большого начальства солдат до поры до времени не посвящают.
Однажды поставили перед нами задачу — выбить немцев из небольшого леска. По нашим уральским понятиям никакой это не лес — так, с полсотни захудалых деревьев. Думали его с ходу взять, а застряли на три дня. Только сунулись — такой на нас огненный шквал обрушился, что пришлось залечь, разобраться, что к чему, и начать наступление по всем правилам. Потом оказалось — штаб у них какой-то в этой рощице обосновался.
На третий день выбили немцев из леса и, как водится, стали обживать местность. Видим: блиндажи оборудованы в три наката. Между ними — ходы сообщения. Все замаскировано. Капитальные сооружения, ничего не скажешь. Только собрались мы по-царски расположиться, подбегает ко мне младший лейтенант и просит построить солдат. Ну что же, просьбу надо выполнять, тем более что указание начальства на сей счет было.
Построились ребята. Младший лейтенант вышел вперед и начал:
— Солдаты! Я к вам по серьезному делу послан. Война к концу идет. И мне поручено призвать вас к осторожности. Осторожного, как говорится, бог бережет. Мы провели исследования и выяснили: уж очень много у нас неоправданных потерь.
— Ахнет мина — какая может быть осторожность?
— Когда мина рядом разорвется — тут уж ничего не поделаешь. Хотя смотря в какой обстановке. Если в наступлении — одно дело, если в обороне — другое. Вот, скажем, остановились вы после атаки. Команда «окопаться!» Один солдат добросовестно выполнит ее, в полный рост окоп выроет, другой для вида, чтобы командир не привязывался, ковырнет лопатой раз-другой и заваливается спать. И вот, представьте, между этими солдатами разорвалась мина. Каков результат? Тот, который в полный рост окопался, жив и здоров, домой письма пишет и врага продолжает громить. Тот, который схалтурил, в лучшем случае в медсанбат направляется, а в худшем — так и не проснется никогда. А ведь у него мать, жена молодая да красивая, может, даже дети есть.
Лейтенант помолчал. Гляжу — призадумались мои солдаты. И я подумал: «А ведь верно говорит».
— Или вот вам другой пример. Но сначала вопрос: куда вы пустые консервные банки деваете?
— Что же их, с собой таскать?
— Не надо с собой таскать пустые консервные банки. И выбрасывать не надо. Встали вы в оборону или, как сейчас, на ночь остановились. Свяжите эти банки и развесьте по кустам. Решил фашист взять кого-то из вас в «языки». Тихо подползает, а кругом темень. Ни вам, ни ему ничего не видно. И вот задел он эти самые банки, а они и загрохочут. Вам все ясно. Вы автомат на живот, «хенде хох!» — и не вы у него, а он у вас в «языках» ходит.
Младший лейтенант показал, как фашист в «языках» ходит, и мы не могли удержаться — расхохотались. Все-таки великим мастером перевоплощения был он. (Если не сложил где-нибудь на чужой земле свою красивую голову, наверное, играет где-нибудь на сцене на радость людям.)
— Вот скоро переступим мы границу этой, трижды проклятой, гитлеровской Германии. Войдете вы в немецкий дом. Навстречу вам хозяин или хозяйка. Что они говорят?
— Гитлер капут!
— Ну это само собой. Говорят они: «Битте, господин солдат». У них там все господа. Ни кола, ни двора — все равно господа. Да… Вот, говорят они: «Битте, господин солдат. Пожалуйста, откушать». Что вы делаете?
— Едим, если, извиняюсь, жрать хочется, — послышалось из строя.
— А если еда отравлена? Если этот хозяин — отчаянный фашист и решил вам такую свинью подложить? Что? Молчите? Вот то-то и оно. Вы должны заставить их от каждого блюда у вас на глазах отведать. Ну, а потом смело ешьте. Последний пример. Вот перед вами немецкие блиндажи. Они только что оставлены противником. Некоторые из вас, заметил я, хотели туда нырнуть. Признавайтесь — было такое желание?
— Было! — дружно и весело откликнулся строй.
— Было, — укоризненно повторил младший лейтенант. — А ведь они могут быть заминированы. Немцы знали, что мы их сюда выгоним? Знали! Наверняка. Что им стоило мину подложить и шнурок к двери привязать. Потянул за дверь, мина сработала, и опять нет человека. Ведь вот какое дело, ребята.
Мы уже с уважением поглядывали на младшего лейтенанта. Он помолчал минуту, погруженный в свои мысли, потом встряхнул головой:
— А как надо? Раздобыть веревку, осторожно прикрепить ее к двери, залечь и дернуть. Дверь откроется, взрыва нет, тогда смело входи…
И тут, как назло, в немецкой стороне раздался жуткий скрежет. Как будто кто-то громадными железными щетками скреб по железу. Это заработали немецкие шестиствольные минометы. Мы знали, что эти «посылки» адресованы нам, что через несколько секунд гулко ударят мины в грудь земли, разорвутся с огнем и осколками, поражая все живое. Но этих секунд было достаточно, чтобы мы разбежались в разные стороны, шлепнулись на землю, хоронясь кто за пень, кто за кочку.
Прошли минуты, и наступила тишина. Мы стали подниматься, отряхивая землю, чертыхаясь и смеясь.
Один за другим подходили солдаты. Потерь, к счастью, не было. И тут я спохватился — где же младший лейтенант? Не видно. Неужели… в блиндаже? Да нет, не может так быть.
На всякий случай достали мы веревку, привязали к двери блиндажа, залегли и дернули. Взрыва не было. Я вошел и в дальнем углу увидел человека. Он сидел не шевелясь.
— Младший лейтенант, это ты? — спросил я.
— Я.
Присел рядом.
— Ранен?
— Да нет, — тихо сказал он. Помолчав, вздохнул, пошарил вокруг, отыскал пилотку, стряхнул с нее землю.
— Понимаешь, лейтенант, не могу побороть себя и все, — начал он. — Вот говорю вроде правильно, толково и хорошо. Ведь так?
— Так, — подтвердил я.
— А случится такое, как сейчас, и все правильные мысли и советы, которые даю другим, вылетают. Первый об осторожности забываю. Выйду сейчас, а солдаты надо мной будут смеяться.
— Не будут, — твердо заверил я. — Они все понимают.
— Недавно я из училища. Только прибыл, в штаб определили, а через месяц приходит письмо от однополчан отца. Представляешь — погиб он. Вот так и погиб — полез в блиндаж и на воздух поднялся. Был человек — и не стало. Видно, и мне такая же участь уготована.
— Брось, — сказал я, поднимаясь. — Вставай.
— И вот, подумал я, — словно не слыша моих слов, продолжал младший лейтенант, — сколько же народу на войне вот так, по неосторожности погибает? Пошел к командиру, рассказал ему. Он поддержал мою идею, и теперь вот хожу по батальонам, даю советы солдатам… А сам?
— Это пройдет, а слова твои нужны всем нам. Напоминать всем нам об осторожности — никогда не лишне.
— Честное слово? — схватил он меня за руку.
— Честное.
Мы вышли из землянки. Встречались нам солдаты. Но ни на одном лице я не заметил ухмылки.
«ПРИВЕТ ОТ СВОИХ»
Строили мы на фронте, пожалуй, быстрее и надежнее, чем сейчас. За сутки целую деревню под землей сооружали. Правда, архитектурой похвастаться не могли, но внутри землянок — всегда комфорт: столы сколочены, скамейки, у стен — лежанки. На них хвойных веток набросаем, и запах кругом пойдет, как в парикмахерской. Растянешься на лежанке — благодать. Ну и то, что над головой три наката, немалое удовольствие доставляет.
И в тот раз блиндажи за одну ночь отгрохали. Жорка быстро чаек сообразил. Интересный человек — Жорка. Его вовсе и не Жоркой звали, солдаты ему это имечко присвоили. Бывало, кричат:
— Жорж, макинтош!
Он хвать шинель и ко мне.
— Чего ты? — удивишься.
— Так ведь шинель приказали дать.
А солдаты уже за животы схватились.
Ко всему он относился очень серьезно и юмор начисто отвергал. Сидим мы за столом и чаи гоняем. И всех в сон тянет. Только слышу — артналет начался.
— Жорж, — говорю, — сбегай, посмотри, что там?
Через несколько минут ординарец возвратился.
— Стреляют, товарищ лейтенант.
— Да слышу, что стреляют, а где снаряды ложатся?
— Далеко…
Сам вышел, посмотрел: снаряды в самом деле далеко бухают, а расчеты наши на всякий случай в блиндажах укрылись.
— Ладно, — говорю свободным солдатам, — давайте отдохнем, поспим.
Были у нас разные мечты, у каждого своя. Но две общие. Одна — дожить до победы. Другая — поспать вдоволь. Только мало кто знал, что означало это «вдоволь».
— Жорж, — спросишь иногда, — сколько бы ты проспал, будь твоя воля?
— Да минут шестьсот, товарищ лейтенант.
Об этих шестистах минутах мечтал, пожалуй, каждый.
Расстегнул я ворот, ослабил ремень, лег. И сразу у нас замечательный оркестр образовался: по части храпа наш взвод славился в батальоне, очень дружно получалось, как по команде. Уж не помню, сколько времени прошло, только солдаты один за другим подниматься стали. А мне не хочется. Слышу: котелки гремят, ординарец свет разжигает. Думаю про себя: «Еще минут пять полежу». Но Жорка в таких случаях неумолим. Чувствую, подходит ко мне и ласково, но настойчиво начинает свою песню:
— Товарищ лейтенант, а, товарищ лейтенант…
И подносит свой светильный агрегат, чтоб, значит, отыскивать вещи было, сподручнее.
— Сейчас встану, — говорю я. И уж хотел одним махом покончить со сном, как Жорка смертельно испуганным голосом завопил:
— Не поднимайтесь, товарищ лейтенант!
— Что еще за новости? — недовольно бурчу и хочу рукой опереться.
— Не шевелитесь! Думаю, дело серьезное.
— Что такое? — уже с тревогой спрашиваю.
— Снаряд…
— Где снаряд?
— Да сбоку у вас засел.
— Что за чепуху порешь?
— А вы сами посмотрите.
Осторожно оглядываю себя и вижу: торчит из лежака снаряд. Что за чушь? Слежу глазами: головка между бревен застряла, а сам он, будто прижал меня к лежанке, прямо поперек тела лежит. Вот чертовщина! Что же делать? Подумал немного, хоть, откровенно говоря, мысли и путались, командую уже официально:
— Всему личному составу покинуть помещение.
Жорка отвечает:
— А они, товарищ лейтенант, давно покинули, как только про снаряд услышали.
Начал думать. Я лежу и ничего путного придумать не могу. Только спросил:
— А ты что остался?
Он вопросом на вопрос:
— А вы как? Одному вам никак не выбраться.
— А с тобой выберусь? Что делать-то?
— Не знаю, — отвечает Жорка, — только перво-наперво вам лежать, не шелохнувшись, и не дышать.
— Как не дышать? Я же помру сразу.
— Не знаю, товарищ лейтенант. Только дышать вам сейчас никак невозможно. Бабахнет.
Наконец надумал я:
— Беги за саперами. Не могу же я здесь до морковкина заговенья лежать. Да еще и не дышать.
Жорка осторожно, на цыпочках стал пробираться к двери. Вскоре два сапера появились. Осмотрели снаряд, пошептались о чем-то. Один вышел, другой остался.
— Вытаскивать снаряд будем, лейтенант.
— Так он бабахнет, — подал голос Жорка.
— Посторонним очистить помещение! — скомандовал сапер.
— Я не посторонний, я — связной. Мне нельзя, — заторопился Жорка.
— Взорвется!
— Чему быть, того не миновать.
— Жорка, — говорю, — уйди ради бога. Ну, чего рисковать?
— Служба у меня такая, — вздохнул Жорка. — Может, помощь потребуется.
Подошел сапер ко мне и стал осторожно вытаскивать снаряд. Глянул я — у него все лицо в поту. На себя глянуть не мог, но чувствовал — тоже не сухой был. Вытащил он снаряд, осторожно вынес из землянки. Жорка дверь открыл — все-таки помощь его понадобилась.
Ушли саперы. Я посидел, помотал головой, будто с похмелья, достал из планшетки список личного состава. К стыду своему только тогда и узнал, что Жорка и не Жорка совсем, а Егор Проскуряков, двадцати лет.
Тут саперы вернулись.
— Не взорвался снаряд, — говорит один. — Считай, лейтенант, что ты «привет от своих» получил.
— Что за «привет»? — спрашиваю.
— А мы так снаряды, которые не взрываются, называем. Наши люди на фашистских заводах работают, ну и шлют, когда можно, такие «приветы». Бывай, лейтенант, будешь сто лет жить.
Вышли на воздух и мы с Жоркой. Глянул я на него — кудрявого, голубоглазого да ладного, к горлу у меня что-то подступило. Еле выговорил:
— Спасибо тебе, Егор Проскуряков. Большое спасибо!
— Так ведь служба у меня такая, — ответил он. — Не мог я по-другому. Не положено.
ЧАСТНЫЙ СОБСТВЕННИК
Интересная внешность была у рядового Силкина. Как будто кто-то специально его сделал для того, чтобы солдат смешить. Рост маленький, полы шинели по земле тащатся. Как-то Ведеркин не без умысла крикнул:
— Слышь, Силкин, подержи винтовку.
Отложил Силкин свой автомат в сторону, взял винтовку. Все так и покатились со смеху. Мушка ему как раз до пилотки доставала, а штык, как вершина сосны, где-то в небе покачивался. С тех пор Силкин не плошал, старался подальше от винтовок держаться. Старшина ворчал:
— Как я тебе, Силкин, пилотку подберу? Детей у нас в армию не берут, потому и детские пилотки по специальным заказам шьют. До генерала тебе не дорасти, в ателье, выходит, путь пока закрыт. Пробуй эту. Беда мне с вами — с тобой да Живодеровым.
Нахлобучил Силкин пилотку — один носик торчит. Не выдержал солдат Сидоров, плюнул в сердцах. Пробасил:
— Ты где, Силкин, находишься?
Силкин глазами хлопает.
— Ты в Европе, Силкин, на сегодняшний день. Выполняешь освободительную миссию. Ну, посмотри на себя, какой ты воин-освободитель? Ты карикатура на всех нас, вот кто ты, Силкин. В немецких листовках такими нас изображают. Снимай!
Покопался Сидоров в своем бездонном мешке, долго колдовал над пилоткой, но привел ее в более или менее приличный вид. После этого Силкин стал тянуться к Сидорову, и начали между ними завязываться такие беседы.
— И что ты, Силкин, высматриваешь все у немцев? Что тебе, у них нравится? — спрашивает Сидоров, не глядя на собеседника и потягивая самокрутку.
— Многое нравится, — отвечает Силкин, подсовывая под себя шинель. — Печки, например. Стенки кафелем облеплены, уголь в брикеты спрессован. Чистота и порядок. Бросишь два брикета, прислонишься щекой, а она гладкая и теплая, как баба, ей-ей…
— Ну, ты это брось, — сердится Сидоров. — Лучше русской печки в мире нет.
…Восхищение у Силкина вызывали и заборы. Металлические, высокие, они надежно ограждали, за них можно было попасть только через калитку, которая защелкивалась на английский замок.
— Нет, вы только посмотрите, — чуть ли не кричал Силкин, ударяя ладонью по сетке, которая издавала звонкий металлический звук. — Сюда же ни один ворюга не проникнет. Клади во дворе любую вещь — цела останется.
— Частный собственник проклятый — вот кто ты такой, — сплевывал Сидоров. — Заборы тебе подавай.
Как-то, не знаю уж за какой нуждой, зашли мы в один такой дом. Вдруг слышим: во дворе что-то шлепнулось, взрыв, ну, а потом, как всегда, осколки прозвенели. Нас как ветром сдуло. И так получилось, что последний, кто бежал, и дверь дома, и калитку захлопнул. А замки-то на английский манер запираются — сами, как затвор в автомате. Отбежали, остановились, посмеялись над собой, как водится.
— Все? — спрашиваю.
— Все, — отвечают хором.
— А где Силкин?
— Только что был, — отвечает кто-то не очень уверенно.
— Где в последний раз видели его? — начинаю беспокоиться.
Стали вспоминать — да он во дворе того дома крутился. Пришлось возвращаться. Подходим ближе: дело серьезное. Мины так и шлепаются, весь двор испахали. А тут еще какой-то фашист, видно, на снайпера учившийся, объявился — пули над головами так и повизгивают. Вижу: мечется наш Силкин по двору, будто кто за ним гоняется. Шинель в ногах путается, пилотка на нос сползла. Только в одном углу пристроится, заляжет, голову руками обхватит, а тут рядом мина ухнет. Подхватит он полы и в другой угол мчится. Решил было через калитку прорваться, подбежал к ней, трясет что есть силы — не поддается, добротная работа. Пытался через сетку сигануть, пальцами уцепился, а ноге опоры нет. Совсем обезумел парень. Разбежался и головой вперед на сетку летит, думал: повалится.
— На таран пошел, дурья башка, — злятся ребята.
Ну, а сетке что от этого? Спружинила и отбросила бедолагу назад.
Видим: погибнет человек, как пить дать. Начали совещаться. Думаем, гадаем — ничего путного придумать не можем. А Силкин, как заяц в клетке, мечется. Тут Сидорову в голову мысль пришла.
— Дозволь, — говорит, — лейтенант, за саперными ножницами сбегать.
— Беги!
Ругаясь, побежал Сидоров за ножницами. А Заря свой «телескоп» пристроил, в перестрелку с немецким снайпером вступил. То ли снял его, то ли испугал — не знаю, но умолк вражина. А мины все летят, Не выдержал Силкин, взмолился:
— Ребята! Спасайте, не могу больше! — вопит.
А ребята длинными очередями отборных слов так и сыплют:
— Что, частник проклятый, у себя дома тоже такой забор поставишь?
Прибежал Сидоров с ножницами, к дому двинулся, а немецкий наблюдатель, видно, заметил его, фашисты еще огня прибавили. Так и не поняли мы, чего им этот дом приглянулся? Или, увидев нас, решили, что там штаб разместился, или еще что?
Дополз Сидоров до забора, опрокинулся на спину и стал эту проклятую сетку резать. А она крепкая — с маху не возьмешь. Не знаю уж, сколько времени прошло, мне показалось — вечность, а Сидорову с Силкиным, наверное, еще больше. Наконец дыра проделана, полез в нее Силкин и застрял. Схватил его Сидоров за шиворот и выдернул, как кутенка. К счастью, все кончилось благополучно.
— Что, Силкин, будешь дома такой забор ставить? — смеялись солдаты. — Не забор — красота. Любую вещь клади — никто не утащит.
— Ну его к дьяволу, забор этот. Они тут друг друга боятся — воспитание такое. А у нас в деревне — другое дело. Любую вещь клади — никто не возьмет. Сообща живем…
ВО ДВОРЦЕ
Место было удивительно красивое. Высокие деревья, словно любуясь собой, заглядывали в тихую воду пруда; к огромному белому дому, что стоял в глубине парка, вела широкая аллея, посыпанная белым песком.
Мы шли по этой аллее в серых грязных шинелях, с вещмешками за спиной и автоматами через плечо и стеснялись ступать грубыми солдатскими ботинками по песку, словно это был натертый до блеска паркет.
— А что, хлопцы, — сказал Заря, — неужто в таком домине одна семья жила?
Я глянул на дом-дворец и подумал, что, наверное, очень одиноко и скучно было хозяевам жить в нем.
— Гости к ним приезжали. Балы каждый вечер, — протянул Силкин.
— У них еще и прислуга была, — подсказал Поделкин.
— Ну, прислуга в таких комнатах не жила. Ей подвал или чердак отводили, — возразил Заря. — А комнаты там — прямо залы, хоть в футбол гоняй. И в лапту места хватит.
— В таком дворце детский сад можно устроить, школу или санаторий, — подсказал Жорка.
И мне сразу представилась здесь другая жизнь — шумная, веселая и говорливая.
Мы шли в дом на ночлег. Нам было приказано осмотреть его и заночевать там. Обошли, осмотрели и, никого не найдя, собрались вместе.
— Душно, ребята, и мрачно, — сказал Поделкин и обратился ко мне: — Может, во двор пойдем, лейтенант?
Я согласился, мы вышли и стали устраиваться на ночлег. Откуда-то появилось сено, вскоре захрустел небольшой костерок.
— А расскажу-ка я вам, ребята, про один случай, который произошел в таком же доме, — начал Силкин. — Двигались мы потихоньку, при надобности постреливали, однако больших боев не было. Вышли к большому дворцу. Мне начальство говорит: «Бери сколько хочешь солдат и проверь это здание. Чем черт не шутит — вдруг там кто из немцев остался». Таким образом в одну минуту превратился я в командира.
Силкин развел руки в стороны и повернулся на каблуках. Мы негромко рассмеялись: вид у него был далеко не командирский. Шинель на плечах висит, рукава загнуты, полы подрезаны, пилотка ушита.
— Ну, боевого опыта тогда у меня было маловато, сами понимаете, а командирского — совсем не просматривалось, — продолжал Силкин, устраиваясь поудобнее на соломе. — Однако решил действовать по Уставу. Выстроил всех солдат, прошелся перед ними, осмотрел строго. А ребята попались мне под стать — сосунки, в серьезных делах еще не бывавшие. Определил я каждому маршрут, проинструктировал, рассредоточились мы и двинулись, значит, на штурм этого самого дворца.
Дошли благополучно, собрались у крыльца. «Какие, — спрашивают солдаты, — дальнейшие указания будут?». Почесал я в затылке: какие, в самом деле, указания? Потом сообразил, говорю: «Один лезь в подвал через эту отдушину, я через эту полезу, а двое сторожите. Если что подозрительное услышите, немедленно к нам на помощь».
Я-то в свою отдушину ласточкой пролетел, а помощник мой возьми и застрянь животом. Впереди руками машет, сзади ногами брыкает, а продвинуться ни на сантиметр не может. Выглянул я из своей отдушины, распоряжение часовым даю — за ноги его вперед пихать. А сам за руки ухватил и, что есть сил, тащу. Ну, мало-помалу вытащили. Посидел он, отдышался, на человека стал походить.
«Давай, — говорю, — выполнять боевое задание». — «Какое, — спрашивает, — задание?» — «Как какое? Осмотрим подвал». — «Товарищ командир, — возражает солдат, — никого здесь не может быть. Кто был, тот давно тягу дал. Мы такой шум подняли…»
Хотя и подумал я: «Верно соображает солдат», но решил для порядка все же осмотреть подвал. Разошлись все, а я включил фонарик, рукой отвел его в сторону на случай, если кто стрелять на огонь вздумает, чтобы в грудь мне не попал, и осторожно продвигаюсь вперед. Почти до стены дошел, в пыли весь перепачкался — никаких следов человеческих. Хотел уже назад поворачивать, но тут интересную штуковину углядел. Осветил ее получше — шикарнейшее, братцы, кресло. Прямо царский трон, ей-богу. Золотом так все и облеплено. Правда, потом оказалось, что это дерево так покрашено, но все равно красотища была! Забыть не могу. И так захотелось мне на этом троне посидеть, что никакого спасу нет. «Когда еще такое в жизни встретится?» — подумал я и уселся. Мне бы, дураку, осторожно, на краешек присесть, а я от радости подпрыгнул еще перед тем, как на сидение шлепнуться. И хоть вес мой не велик, но, видно, трон очень древним был: сидение подо мной напрочь вывалилось и оказался я надвое переломленным. Голова, руки и ноги вверху, а то место, на котором сидеть полагается, до самого пола висит. И подняться, принять свой обыкновенный вид никак не могу. Я и так, и эдак — ничего не выходит. Намертво схватило проклятущее кресло.
А солдат, что со мной был, как услышал шум да возню, вместо того, чтобы мне на помощь броситься, через двери наверх сиганул, за подмогой. Барахтаюсь я в таком отчаянном положении и вижу: мчится на меня все мое воинство, с винтовками наперевес. «Хенде хох!» — испуганно кричат. А я это самое «хенде хох» давно уже без их команды сделал.
Выручили они меня, и в довольно помятом виде вышли мы наверх, на воздух. Чувствую, я что-то в свое оправдание солдатам сказать должен. Наконец придумал: «Вот, говорю, ребята, теперь вы убедились, на какие козни враг способен». Они на меня глаза вылупили. «При чем здесь козни?» — спрашивают. «А при том, — отвечаю. — Думаете, случайно это с нами произошло? Нет, братцы, просто так ничего не происходит. Все это буржуйские штучки. Для чего они такие узкие отдушины сделали? Чтобы сподручнее было отстреливаться, оборону держать. Или вот кресло. Зачем они его напоказ выставили? Опять же со значением. Вот попался же я сегодня, как в капкане, полчаса просидел. Они все против нас приготовили. Так что будьте бдительны!» Вгляделся я в своих товарищей, вижу: не верят моим словам, хоть и молодые-зеленые, чертяки. В открытую не смеются, правда, но про себя наверняка хохочут.
Ну, осмотрели мы дворец и молча пошли в свою часть. И тут мне еще одна мысль в голову пришла. «Подождите, — говорю ребятам, — я мигом». Вернулся в подвал, взвалил на плечи то кресло и топаю. А оно тяжелющее. Ребята мне помогли, и вчетвером дотащили мы его до своего взвода. Доложили обо всем честь честью. «А это что такое?» — спрашивает взводный. «А это, — говорю, — товарищ лейтенант, принесли мы из того дворца кресло. Не все же буржуям на таком добре сидеть. Пусть наши солдаты побалуются».
Стою, жду, когда лейтенант благодарить меня начнет. Только вижу: лицо у него злое стало, губы сжал. «Вот что, солдат Силкин, — говорит. — Чтобы эта вещь через полчаса на своем законном месте стояла. Понял?» — «Понял», — отвечаю. «Нет, — говорит лейтенант, — ни черта ты, солдат Силкин, не понял. Знаешь ли ты, что это кресло, может быть, представляет историческую ценность?» — «Не историческая — буржуйская она», — возражаю. «Я уверен, — стоит на своем лейтенант, — что теперь здесь будет народная власть и все вещи будут принадлежать народу. Вот так. А теперь топай обратно». Что ж, пришлось топать.
Силкин помолчал.
— Я теперь такие штуковины стороной обхожу. А вдруг они историческую ценность представляют?..
Мы зашевелились, устраиваясь на ночлег.
— Больше — ни слова. Пора спать, — сказал Заря и начал тушить костер.
РАНЕНИЕ
Были у немцев противопехотные мины — мы их лягушками звали. Не заметишь проволочку, заденешь ее, мина хлопнет, как пробка из бутылки шампанского, подскочит вверх и разорвется на мелкие осколки.
Морозным ноябрьским утром поднялся я в хорошем настроении, побрился, хотя на подбородке росли всего три волоска в шахматном порядке, помылся и только начал завтракать, как слышу голос:
— Лейтенанта к командиру роты.
Захожу в штабную землянку, ротный говорит:
— Знакомься, лейтенант, это разведчики. Вечером проведешь через мины, саперы проходы сделают.
— Хорошо, — отвечаю.
Поговорили еще немного, забрал я ребят и повел к себе.
Целый день отдыхали, а чуть темнеть начало, появились саперы. Договорились с ними обо всем, и уползли они проходы делать. Всю ночь провозились. Надо было вначале свои мины убрать, затем нейтральную полосу проверить, а потом еще и перед немецкими траншеями поискать сюрпризы. В общем, только к утру управились. Разведчики снова завернулись в свои плащ-палатки и еще один день проспали. Мы потише старались себя вести, знали: ребятам, может, несколько суток спать не придется — в тыл к немцам идут.
Фашисты тоже не лыком шиты оказались, видимо, заметили днем работу саперов и ранним вечером снова понатыкали мин. А мы этого не увидели.
Собрались разведчики в кучку, попрыгали, меня попрыгать заставили — проверяли, не забренчит ли что, не выдаст ли. Потом двинулись. Я, как хозяин, впереди.
Ползем. Вот и наше минное поле позади, нейтралка, то есть ничья земля, кончается, до немецких траншей — рукой подать.
— Порядок, прошли, — прошептал я. — Дальше одни пойдете.
Только сказал так, слышу — хлопок, Таким громким он мне показался, что от неожиданности вскочил я на ноги. И тут словно кто-то меня доской по ногам шибанул. Упал, лежу и с перепугу боли не чувствую.
А немцы как услышали взрыв, так и залились стрельбой. Ракеты одну за другой пускают, пулеметы как собаки с цепи рвутся. Правда, нас не видят, стреляют по нашим траншеям, пули высоко над головами звенят. А у меня ноги вначале онемели, потом боль началась, все сильнее и сильнее. То же с рукой, и, чувствую, по лицу что-то горячее и липкое течет.
— Лейтенант, жив? — слышу голос одного из разведчиков.
— Жив.
— Тогда обратно пойдем, ничего нам здесь не отломится.
— Пойдем, — соглашаюсь и, как ребятишки в пруду, начинаю руками двигать, хочу по-пластунски ползти. Только ничего из этого не выходит. Руки-то двигаются, а ноги плетьми лежат. Вижу, разведчики обходить меня стали.
— Лейтенант, ты чего? — окликают.
— А черт его знает. Ноги не слушаются, — отвечаю.
Вернулся один, дождался ракеты, глянул на меня и присвистнул:
— Да ты, парень, ранен, а может, убит даже — в темноте не разберу.
— Не убит я, — разозлился. — Какой же я убитый, если руками шевелю и опять же разговариваю.
— Так бывает, — замечает разведчик. — Вначале говорит человек, руками двигает, а потом глядишь — он мертвый.
Смеется. Вначале, когда он о смерти заговорил, испугался я, а потом понял: шутит. Видно, шуткой подбодрить меня хочет. Взял он меня за руку, да как раз за раненую. Заорал я благим матом. А он говорит:
— Давай другую, может, хоть она целая. Да не ори, хлопец, а то немец всех нас здесь накроет.
Подал я ему здоровую руку, взвалил он меня на спину, кряхтит, но ползет. Боль — адская, но креплюсь, молчу, не хочу перед разведкой в грязь лицом ударить. Даже спрашиваю: не тяжело ли?
— Да какая тяжесть в нас? — отвечает. — Вот интендантов, особенно в больших чинах, тех тягачом таскать сподручнее.
А в траншее ребята уже ждут, волнуются. Не успели в окоп спуститься — по взводу слух: «Лейтенанта ранили». Сбежались все, старшина с фонарем тут как тут, командует.
Принесли меня в землянку, раздели, осмотрели, перевязали, старшина заключение сделал:
— Все в порядке, жить будешь, а может, даже и женишься…
— То есть как это «может, даже»? — забеспокоился я.
— Да все в порядке, — смеется старшина. — Сейчас тебя в медсанроту, оттуда в медсанбат, потом в госпиталь — дорога проторенная.
Вздохнул и отвернулся. Показалось мне, что даже размечтался про себя: «И я бы не возражал, чтобы меня ранило. Отдохнуть хочется, устал». Только тогда я очень отчетливо понял, как тяжело на фронте людям, которым за пятьдесят.
— А кто же меня вытащил-то? — вспомнил я. — Хоть спасибо надо сказать.
— Ушли разведчики, сорвалась у них операция.
Так и не узнал я тогда и, наверное, уже не узнаю, кто он, разведчик, который полкилометра под огнем тащил меня на себе, поддерживая немудреными шутками.
Тут и «карету» подали. «Каретой» назвали мы обыкновенную фронтовую бричку, что боеприпасы подвозила, а при случае раненых или мертвых в тыл доставляла. В ездовых состоял дядя Вася — пожилой солдат, одетый в неизменную выгоревшую до белизны плащ-палатку. Солдаты смеялись:
— Дядя Вася, ты бы плащ-палатку сменил. Демаскирует она тебя.
Дядя Вася на это серьезно отвечал:
— Нечего зубы скалить. Добрая вещь, послужит еще. Не такие мы пока богатые, чтобы палатками разбрасываться.
Положили меня в бричку, и, провожаемые добрыми пожеланиями, двинулись мы в путь. Не больше, пожалуй, как с полкилометра проехали — начался артналет. Смирная вроде кобыла наша понесла. Когда артналет закончился, дяди Васи на передке не оказалось. То ли вытряхнуло на ухабине, то ли сам спрыгнул, в воронке от осколков укрылся — мне было неведомо. Это уж потом узнал, что ранило его. А тогда мучительно соображал: «Что же делать?» И тут прозвенела первая пуля. Точно кто оттянул струну балалайки и вдруг отпустил ее. Пуля пробила борт брички, и щепки больно укололи меня в лицо. Я лежал беспомощный и жалкий, и, пожалуй, только то, что из-за высоких бортов брички меня не было видно, спасло мне жизнь. Пули продолжали посвистывать, ударялись в передок брички. И я вдруг понял, к чему клонит фашистский стрелок. Да, он явно хотел загнать лошадь в расположение своих войск. Понял и обомлел. Еще не хватало к немцам в плен попасть! Начал я уговаривать кобылу, подсказывать ей:
— Вправо, вправо давай. Ну, давай, милая!
А милая услышит, как пуля жикнет, побежит вправо, встанет, будто раздумывая. Еще одна пуля просвистит — она подхватится, да к немцам. Тошно мне стало. Пистолет мой ребята у себя оставили — на память. Стал я здоровой рукой по карманам шарить — может, думаю, где-нибудь гранатишка завалялась — нет ничего. Закрыл я глаза и мотаюсь по полю — то к немцам, то к своим.
Потом наши лошадь увидели, по кличке стали ее звать, а она, чертяка, не идет, чего-то раздумывает. В этот момент недалеко немецкая мина ухнула. Подхватила кобыла — и в галоп. Я от борта к борту болтаюсь, а в голове один вопрос: к немцам или к своим?
Пробежала лошадь еще какое-то расстояние и остановилась. Тишина вокруг. Лежу и гадаю — куда меня нелегкая занесла? Минут через пять появляется надо мной чья-то голова в шапке-ушанке военного образца.
— Братцы, наш лейтенант вернулся!
Набежал тут народ, радуется. Я пить прошу, а они не поймут — им весело. Наконец прибыл комбат, навел порядок, наклонился ко мне.
— Человек пить просит, а вы, там-тарарам, гогочете.
Побежали за котелками, но комбат остановил. Приказал своей воды принести. Я жадно припал к котелку.
Так я впервые в жизни выпил водки.
СЛУЧАЙ С ХИРУРГОМ
По натуре своей я не драчун. И в детстве не дрался, и потом не приходилось. Война, конечно, не в счет. Там другое дело. Там враг, его уничтожить надо, иначе — он тебя. Но однажды ударил я своего. Да кого? Хирурга, который через несколько минут сделал мне операцию! Случилось это так.
После ранения привезли меня в медсанбат и прямо на операционный стол. Стояли мы в то время в обороне, раненых было мало, и в медсанбате царили тишина и покой. И врачей нет: куда-то они отлучились. Одни дежурные медсестры на месте. Вот я лежу, жду. А боль все сильнее. В ту минуту казалось мне, что появится врач, сделает что надо и сразу стану я здоровым и сильным. А его все нет.
— Сестренка, где доктор? — кричу.
— Что ты каждую минуту спрашиваешь? Сказано: сейчас придет.
Разное время у нас с медсестрой было. Мне каждая минута вечностью казалась. Но вот хлопнула дверь, послышались шаги, вошел крупный широкоплечий мужчина. Пошептался о чем-то с медсестрой, бодрой походкой ко мне подошел, откинул простыню, спрашивает:
— Ну, молодой человек, как мы себя чувствуем?
А у меня внутри все кипит.
— По-разному мы с вами себя чувствуем, — отвечаю. — Вы — хорошо, я — плохо.
— Чего ты сердишься? — удивленно приподнял брови врач. — Я же не на гулянке был, генерала нашего перевязывал.
— А вы мне не тыкайте, я — офицер, — распаляюсь я.
— Я тоже офицер. И вдвое тебя постарше. Ну хорошо, буду говорить тебе «вы». А теперь успокойтесь. Все будет в порядке.
Сказал, отошел, руки мыть начинает. «Вот, — думаю, — чистюля какой. Нашел время туалетом заниматься». И еще больше разозлился. Не знал тогда, что хирург операцию должен делать идеально чистыми руками. А тут, как на грех, лампочка под потолком замигала, потухла, потом загорелась, но уже вполнакала. «Сейчас они понатворят со мной. В темноте вместо ног живот разрежут». Только подумал так, вижу: идет на меня какая-то фигура. Вся в белом, лица не видно, руки вверх держит, и пальцы растопырены. Я и взбеленился.
— Не подходи! — кричу. — Где врач? Он только что тут был!
— Я врач, — говорит фигура голосом доктора. — Успокойся.
— Не успокоюсь, — стою на своем. — Вам бы только резать. Где свет? Вы в такой темноте всего меня изрежете…
— Успокойся, парень, — уговаривает меня хирург. — Разрежем где надо.
А сам подходит все ближе да ближе. И тут я учуял запах спирта. И показалось, что от врача он доносится.
— Вы пьяны еще! — взвизгнул я. — Теперь понятно, как вы генерала перевязывали!
Хирург озадаченно посмотрел на медсестру, покачал головой.
— Позовите санитаров, — сказал тихо и чуть в сторону отошел.
Пришли два санитара, поговорили с врачом, а потом… Как говорится, схватка была яростной, но короткой. Уложили они меня на обе лопатки и держат. А раненую руку свободной оставили. И вот когда подошел врач с какой-то вонючей белой тряпкой и стал мне ее к носу приставлять, этой рукой и задел я его. А он словами меня успокаивает и знай сует мне эту тряпку под нос. Вздохнул я несколько раз и полетел в тартарары. Больше ничего не помню.
Очнулся на следующий день. Позвал медсестру, попросил пить. Вспомнил все, что накануне было, и так стыдно мне стало, хоть убегай. Отвернулся к стене, лежу, молчу.
Вскоре врач пришел. Гляжу — вроде другой, не тот, что операцию делал. Спросил о состоянии, осмотрел. Не выдержал я, говорю:
— Товарищ военврач, вчера я себя очень плохо вел. Хирурга ударил, в пьянстве его обвинил, в грубости. Вы уж как-нибудь за меня извинитесь перед ним, спасибо мое за помощь передайте.
Встал врач, снял халат, колпак и увидел я перед собой седого человека с морщинистым усталым лицом. Вгляделся — да это же тот самый, вчерашний. Улыбнулся он, пошарил по карманам и протягивает мне что-то.
— Держи, — говорит, — на память.
Гляжу — в руке у него осколок.
— Спасибо, — говорю.
Пошел он было к выходу, но вернулся.
— А спиртного я, брат, не пью. И тебе не советую. Это мы тебе руку спиртом перед операцией натерли. — Уходя, заметил: — Уж разреши мне тебя на ты называть. Стар я переучиваться.
Я еще больше покраснел.
Так я ни за что ударил человека. А может, и не ударил, может, показалось. Только стыдно мне до сих пор.
ВЫХОД
В госпитальной палате нас трое. Все лежачие: на троих две здоровых ноги. На койке слева от меня — Калман, курчавый, черноглазый лейтенант. Он самый старший из нас — уже стукнуло двадцать пять годков. Однажды он проговорился, что перед войной защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. Я тогда и не знал, что это такое. Больше всего его угнетала неподвижность. Сестренки изрядно помучились с ним, пока он не придумал занятие для всех нас.
— А что же мы, братцы, теряем время? — сказал он однажды. — Три здоровых мужика лежат и бездельничают.
— Танцевать, что ли? — возразил Артем, мой сосед справа.
— Между прочим, танцы — тоже не очень содержательное занятие. Да и не получится пока из нас танцоров. Давайте-ка, буду я вам читать лекции. А что? Очень даже просто. Скажем, по диалектическому материализму. Итак, начнем…
Боже, как он читал! До сих пор его чуть торопливый говорок звенит у меня в ушах. Как будто споря с кем-то, он горячо доказывал, убеждал, приводил десятки примеров.
Позднее, уже в мирное время, я учился в вечернем университете марксизма-ленинизма, закончил партийную школу, но никогда и нигде не слышал больше таких лекций. Однажды меня даже вызвали к ректору и дали нагоняй за пропуски занятий, но, честное слово, я не мог слушать лекции других по диамату! Зато потом удивленные экзаменаторы, определив мои знания пятеркой, ставили в пример другим и качали головами:
— Вот что дает самостоятельная подготовка!
Обладателем второй здоровой ноги был Артем, богатырский парень с Донбасса. Он тяжело переживал ранение в связи с какими-то очень сложными отношениями с невестой. В письмах они то ссорились «навсегда», то мирились и клялись в вечной любви. Если, получив очередное письмо, Артем долго молчал и тяжко вздыхал, мы уже знали в чем дело. Тогда Калман требовал бумагу и мы начинали сочинять ответ: писали незнакомой девушке о ее прекрасных глазах, о волосах, белых, как лен, о ее добром и щедром сердце.
— Не поверит, — крутил головой Артем. — Ей-богу, не поверит.
Шло время, подживали раны. Каждый из нас особенно стремился стать настоящим, как мы говорили, «сухопутным» человеком, отказаться, наконец, от осточертевших и стыдных судна и утки. Первым подал пример Калман. Он долго готовился к выходу в свет, пристраивал костыли, пробовал вставать, а однажды, махнув рукой, ринулся в отчаянное путешествие. Поход его окончился полным провалом. Он был доставлен из интересовавшего его места санитарами. Но через неделю он все-таки достиг цели, а за ним и я. Нашему примеру скоро последовал Артем. Так мы стали «ходячими».
Вскоре мы задумали рискованное предприятие. Но прежде расскажу о начальнике госпиталя. По отзывам раненых и младшего медперсонала, это был зверь. Правда, никто не мог точно сказать, в чем заключались его зверства.
Как-то забежала к нам медсестра и испуганно прошептала:
— Идет!
А через минуту бежит врач и опять одно слово:
— Идет!
Мы примолкли. Вот по коридору раздались торопливые шаги. Распахнулась дверь, показался невысокого роста человек в длинном, чуть не до пят, халате. Зорко осмотрел палату, подошел к каждому, откинув одеяла, полюбовался постельным бельем и коротко бросил:
— Хорошо.
Блеснув очками, скрылся за дверью. За ним поспешил врач. Сестра задержалась немного.
— Спасибо, ребята, вы у нас молодцы.
Я до сих пор не знаю, в чем тогда проявилась наша доблесть. Но вскоре «молодцы» действительно показали свою богатырскую мощь…
Мы лежали в Зеленках, в предместье Варшавы. Тихое, красивое местечко. Первым высказал мысль Калман.
— А что, ребята, не пора ли нам выбраться на простор? Что ни говорите, свобода есть свобода. Рванем?
Мы зачесали затылки. С двумя здоровыми ногами на троих далеко не уйдешь. Но свобода звала, манила. Чего не сделаешь ради нее! Прежде всего надо было достать еще двое костылей. Чего-то наговорив ребятам из соседних палат, мы обменяли костыли на три предстоящие по случаю праздника наркомовские нормы.
Смущал нас наряд. Нет, на то, что на каждом была только нательная рубаха, а там, где положено быть брюкам, болтались кальсоны — на эти мелочи мы не обращали внимания. Главная забота — халаты. Стиранные-перестиранные, самого немыслимого цвета, они даже на нас производили удручающее впечатление. На совете было решено произвести обмен. Вначале попытались сделать это легальным путем. При очередном обходе заявили врачу, что вид халатов отрицательно сказывается на нашем лечении. Врач подозрительно посмотрела на нас и отрезала:
— Ничего, не жениться.
А сестра добавила:
— Вот в прошлый раз такие же, как вы, выпросили новые халаты, а потом их в городе с паненками засекли.
Я сказал, кивнув на Калмана:
— Все-таки кандидат. — И добавил для большего впечатления: — Философии!
Еще подозрительнее оглядела нас врач, еще значительнее предупредила:
— Здесь все равны. — И уже в дверях еще строже сказала: — Ребята, не балуйте. Вы же знаете начальника госпиталя.
— Знаем, — ответили мы, вздохнули и глянули в окно. А там была воля, там была весна.
— Чепуха, — подвел итог Калман. — Обменяем. Халаты я беру на себя.
Проснувшись на следующее утро, мы были поражены. На наших стульях висели новенькие синие халаты — мечта каждого госпитального щеголя.
— Чепуха, — отмахнулся Калман. — Дело сделано!
Но тут в соседних палатах поднялся какой-то шум. Он нарастал. Захлопали двери, зашаркали шлепанцы.
— Братцы! Полундра! Прячь халаты под матрацы. Всем спать. Говорить буду я, — скомандовал кандидат философии.
Открылась дверь, и разъяренные лица соседей показались в ней.
— Вы?
— Что мы? — слабым голосом простонал Калман.
— Халаты стукнули вы?
— Дайте хоть умереть спокойно, — невозмутимо ответил Калман и повернулся к стенке.
Соседи тихо вышли и осторожно прикрыли дверь. Но в коридоре их ярость вновь вскипела, и опять захлопали двери, зашаркали шлепанцы. Мы еще долго слышали грозное:
— Вы? Вы?
— Погромщики проклятые, ходят тут, не дают покоя, — спокойно заключил Калман. — Значит, так. Идем по одному к выходу. В белье. Халаты прячем под рубашки, надеваем на улице.
Заря свободы сияла над нами, и мы, завязав тесемки кальсон, смело двинулись ей навстречу! Но едва миновали первые соседние дома, как я осел на плечи своих друзей. У них все-таки было по одной здоровой ноге, а у меня обе в бинтах.
— Чепуха! — беспечно махнул рукой Калман. — Главное, друзья, свобода. Вперед!
Он восхищался раскрывшимися почками деревьев, зеленью травы, голубизной неба. Я ничего не видел. Голова моя повисла на тонкой шее и болталась из стороны в сторону. Прохожие подозрительно косились на нас. Калман жестикулировал, Артем угрюмо молчал.
Мы прошли уже два квартала, хотя это заняло не меньше двух часов.
— Передохнем, — прохрипел Артем.
Мы присели на крыльцо дома. Дверь тут же открылась.
— Цо панам треба? — спросила молодая девушка.
— Свободы! — воскликнул Калман.
— Воды, — отрезал Артем.
Я не хотел ничего. Вернее, я хотел, я мечтал, я жаждал оказаться в госпитале, в своей палате, на своей кровати. Но сил, чтобы выразить это, у меня не было.
Насладившись свободой, мало-помалу умолк и Калман.
— Н-нда, — выговорил он наконец.
— Хреновина выходит, — вздохнул Артем. — Назад-то мы не доберемся.
Помолчали. Калман стукнул костылем в дверь. Опять показалась девушка.
— Пани, — как можно любезнее спросил Калман, — нельзя ли у вас достать какую-нибудь повозку? Мы заплатим.
— С лошадью, — уточнил Артем.
Но девушка не понимала и твердила свое: «Цо панам треба?»
Калман выбросил вперед обе руки, делая вид, что он держит вожжи, несколько раз встал и присел. Девушка не понимала. Наконец Артему удалось растолковать ей, что нам нужна повозка с лошадью.
— Карета, — обрадовалась девушка.
— Хрен с ней, давай карету, — согласился Артем.
— Вшиско герман забрал, — опечалилась девушка.
Появились другие поляки, о чем-то бурно поговорили, и через полчаса из-за поворота показалась кляча, запряженная в… катафалк. Черный, резной, но без гроба. Наши новые друзья уложили меня на то место, где должен стоять гроб, помогли Калману и Артему усесться рядом, и, поддерживаемые ими, напутствуемые их советами, мы двинулись в обратный путь. В пути лишь жалели об отсутствии гроба: сидя в нем, мы не боялись бы свалиться.
Еще издали мы поняли, что в госпитале переполох. Во дворе суетились врач, сестры, а на крыльце, скрестив на груди руки, стоял начальник. Наша странная процессия приблизилась. Врач и сестра набросились на нас с упреками.
Начальник молчал. Нас уложили на носилки.
Начальник молчал.
Санитары, поблагодарив и раскланявшись, отпустили поляков. И тут начальник заговорил. Господи, как он умел, как великолепно он умел ругаться. Начал тихо, почти шепотом, потом громче, громче, и вот будто заговорила тяжелая артиллерия, обрушила на нас всю свою мощь и, как бывает при артподготовке, внезапно умолкла.
Наступила тишина. Начальник наклонился над нами, удивленно отметил:
— Трезвые.
— Трезвые, трезвые, — подтвердили врач и сестра.
Начальник задумался, а потом, указывая на нас перстом, произнес:
— Какая неукротимая жажда жизни, какое страстное стремление к движению!
— К свободе! — простонал Калман.
— Отобрать халаты, — скомандовал начальник.
Их нам вернули через две недели.
ТАНЦЫ
…Вот я и забыл твои глаза и голос. Время подхватило их и унесло в свою неведомую даль. Но руки твои, как руки матери, мне не забыть никогда.
Твои волосы почти всегда были скрыты косынкой. Твои глаза не часто смотрели мне в лицо. Голос твой я слышал редко. А руки…
Руки твои мне не забыть. Я помню синие жилки на них. Помню белые длинные пальцы. Они ловко снимали повязки, или тревожно касались моего лба, или нежно, но настойчиво заставляли меня успокоиться и опуститься на подушку.
Я помню руки твои, медсестра!
Я помню и тот синий весенний вечер и тревожное чистое небо с большими и яркими звездами. Высоко-высоко в нем ползли фашистские самолеты. Потом вспыхнули прожекторы и ты сказала:
— Красиво-то как!
— Красиво, — ответил я, но мне почему-то стало грустно. Может быть, потому, что вокруг были смерть и кровь, крики ужаса и тихие стоны товарищей и нам не было дано иной красоты, чем вот эта — синее бездонное небо и самолеты врага в мощных лучах прожекторов. Начали стрелять наши зенитки, и ты сказала:
— Зайдем под навес.
Мы спрятались в этом сарае от дождя, но не от того, что весело барабанит прохладными каплями по земле, а от дождя из осколков, которые застучали по бревнам, когда стали рваться зенитные снаряды. Потом все смолкло, прожекторы погасли. В небе остались лишь звезды. И тогда стала слышна музыка. Это в госпитале начинались танцы.
Странное зрелище представляли из себя госпитальные танцы. Раздвигались столы, на самое почетное место усаживался гармонист с ярким, в перламутре и лаке аккордеоном. Вздыхали меха, и рождалась музыка. Пока она скучала и ждала. Так продолжалось долго: никто не хотел выходить первым. Но вот самые отчаянные оказывались в центре внимания, и стоило этой паре сделать два круга, как их примеру следовали все, кто мог хоть немного двигаться. Самыми завидными кавалерами были раненные в руку. Рангом ниже шли выздоравливающие. Танцевать они могли по-настоящему, но это были не постоянные партнеры: завтра-послезавтра им уходить на фронт. Ну, а за ними шли мы — те, кому много двигаться запрещено.
— Что же пойдем? — спросила ты.
— Пойдем, — уныло ответил я.
— Ах, да! — спохватилась ты и успокоила: — Ничего, постоим здесь.
Но я-то знал, как тебе хотелось туда, где музыка и народ, где шутки и смех.
— А знаешь, давай я посмотрю, — предложила ты.
— Посмотри.
Мы вошли в здание, длинным коридором добрались до комнаты, которую очень не любили раненые. На ее двери висела грозная табличка: «Перевязочная».
Мы проскользнули внутрь. Ты зажгла настольную лампу, опустила ее на пол. Я сел на стул, и ты стала привычно разбинтовывать мою ногу. На левой ступне выступила желтая шишка.
— Осколок выходит, — определила ты.
— Болит, чертяка, спасу нет. Вроде уж близко, под кожей, а все нарывает.
— Еще больнее будет, — успокоила ты.
И тут мне в голову пришла гениальная мысль:
— А знаешь, Гутя, давай его вырежем.
— Ты с ума сошел, я же не врач. А если что с тобой будет?
— А что со мной будет? Подумаешь — осколочек со спичечную головку, да и под самой кожей…
Нам было по девятнадцать лет. Там, внизу, в большом освещенном зале, как фалды фраков, разлетались в танце полы госпитальных, стиранных-перестиранных халатов. И мы не могли пойти туда, не могли окунуться в это море веселья из-за какого-то ржавого куска металла, которому именно в это время вздумалось «выходить».
— Режь! — скомандовал я. — Я старше тебя по званию.
— Здесь ты младше, здесь ты раненый, а я сержант.
— Все равно режь, там разберемся.
Видимо, и ты уже прониклась моей уверенностью. Нашла какие-то блестящие инструменты, поставила кипятить. Помазав ногу йодом, взяла скальпель. И вдруг рука твоя опустилась.
— Послушай, нужны же обезболивающие уколы.
— Режь, нечего медлить, потерплю.
— Ну, держись, — скомандовала ты, и резкая боль откинула меня на спинку стула.
Из ступни бил фонтан. Это вместе с осколком выходил гной.
— Жив?
— Жив.
— Тогда пошевели пальцами ноги. Пошевелил.
— Работают. Теперь дело привычное.
Ты начала ловко обрабатывать рану, а я все боялся, что не выдержу, закричу благим матом.
— Ну вот, пожалуй, и все, можно бинтовать.
Моток бинта летал вокруг ступни, боль постепенно утихала. Мне даже легче стало, чем было до операции. Я попытался встать, но ты усадила меня.
— Надо подождать.
А мне хотелось идти. Мне было радостно от того, что ты не струсила и так ловко сделала свою первую операцию, что сейчас нежно, с тревогой смотришь на меня, что и я оказался на высоте, не закричал, не застонал — не выдал нашей общей тайны.
Наконец я поднялся. И ничего не случилось. Я встал и пошел, а ты бежала следом и все спрашивала: «Ну, как? Ну, как?» Я шел на танцы. И мы танцевали. Кружились и баловались, смеялись и смешили других. И никто в этом зале не знал нашей тайны.
На следующий день, когда ногу стали разбинтовывать, врач повернулась ко мне и спросила:
— Ну как ваш осколок, очень болит?
— Какой осколок? — изумленно спросил я. — Анна Сергеевна, вы же вчера его вынули.
Ты низко опустила голову, сделав вид, что внимательно разглядываешь рану. И молчала:
— Молодые люди, — между тем говорила врач, — я никогда ничего не забываю.
Анна Сергеевна долго рассматривала рану, заглянула в историю болезни. Потом сказала:
— Странно, очень странно. Почерк мой, а когда я его вынула — хоть убей, не помню.
— Вы очень куда-то спешили, — соврал я, не моргнув глазом.
— Весьма, весьма странно. Обычно я никогда ничего не забываю, — твердила свое Анна Сергеевна.
…Вот я и забыл твои глаза и голос. Время подхватило их и унесло вдаль. Но руки твои, медсестра, как руки матери, наверное, мне не забыть никогда.
ИЗЛОВЧИЛИСЬ
Как-то позвал меня солдат Кузьмичев и зашептал в самое ухо:
— Пригнись, лейтенант, и смотри внимательно.
Стал я смотреть в сторону немецких траншей, а ничего такого не вижу.
— Не вижу, — говорю, — ничего особенного.
Кузьмичев полез за пазуху, достал оттуда карманные часы с крышкой, нажал на кнопку и поднес циферблат к моим глазам.
— Через пять минут увидишь. Между двух бугорков ложбинку заметил? Так вот, ровно через пять минут в той ложбинке немецкие головы покажутся.
— Ни больше, ни меньше — точно через пять? — недоверчиво усмехнулся я.
— Как в аптеке. Я их уж дня три как заприметил, да убедиться хотел. И убедился.
Я прилег рядом с Кузьмичевым и стал наблюдать.
…Над свежевырытой траншеей воздух тронут ароматом недавно срезанного дерна. В окопах нет еще сырости и холода могилы; на дно, на бруствер упали пряные листья деревьев. А как быстро поселилась в них жизнь! Вот ползет черный до блеска неведомый жучок. Подлез к пальцу руки, недовольно пошевелил усами, круто развернулся и зашлепал в сторону. Вот неподвижно лежит дождевой червяк — хитрит, чертяка, боится привлечь к своей персоне внимание птиц. Тоже выдержка и храбрость нужны. Только нет здесь птиц. Распугали их выстрелы, стоны и крики людей. Улетели залетные, покинули насиженные места и домоседы. Скоро ли вернутся, черноглазые?..
— Смотри, смотри, лейтенант, — толкает меня Кузьмичев. — Идут!
И точно. В ложбине замелькали головы немцев. На миг покажется ряд и скроется за бугром. Потом опять ряд, еще один. Колонной проходят!
— Куда же они, на парад, что ли? — недоумеваю я.
— Почему на парад? Жрать топают. Вот посмотри влево. Видишь над бугром столбиком марево поднимается. Там кухня у них. Через полчаса назад потопают.
Сказал и вопросительно смотрит на меня: понимаешь, мол, замысел?
…Острый ум и глаз имел солдат Кузьмичев. С виду незаметный: роста среднего, лицо оспой тронуто, глаза какого-то непонятного цвета и всегда прищурены. Но при этом так и зыркают по сторонам.
— Ты случайно не в милиции до войны служил? — как-то спросил я его.
— А что?
— Да уж очень ты примечаешь все, и ум у тебя цепкий. Из каждого факта вывод делаешь.
— Нет, до войны я в должности сборщика металлолома числился. А в этом деле без заметок нельзя. Проходишь по улице или по пустырям — все примечаешь. Потом ребятишкам в школе подскажешь — глядь, через час они тебе груду металла несут. Однажды контора какая-то ворота железные сняла — ремонтироваться надумали. А мои ребята их вечерком и уволокли. Те ко мне примчались, шумят, грозятся. А я им говорю: для чего вам железные ворота? Бумагу да скрепки за семью печатями хранить? А у нас они в дело пригодятся. Те до райисполкома дошли, но моя взяла, поддержали меня в исполкоме. Вот такие дела были, — со вздохом закончил рассказ Кузьмичев…
— Понял, лейтенант, мою задумку?
— Снайпера бы сюда, он бы их потихоньку, не торопясь поубавил, — подумал я вслух.
Кузьмичев обиделся. Хмыкнул недовольно, отвернулся, винтовку к себе потянул. И тут я вспомнил, что когда-то сам ему винтовку с оптическим прицелом вручил. Ребята принесли откуда-то, и порешил я Кузьмичева ею вооружить. Серьезный человек, с рассуждением, зря пулю не бросит.
— Пробовал, что ли? — примирительно спросил я.
— Да, пробовал. Только не то здесь требуется. Мелочь это.
— Что же они, позлить нас захотели? — рассуждаю я дальше.
— Зачем позлить? — отвечает Кузьмичев. — Порядок у них такой. Кто-то когда-то установил, может, даже приказ отдал, а изменить то ли забыл, то ли не успел. Может, на повышение выдвинули, может, убили. Когда они тут укреплялись, нас ведь еще не было. Потом мы подошли, обстановка изменилась, а приказ остался. Вот и соблюдают.
— Идиотизм какой-то.
— Может, идиотизм, — охотно согласился Кузьмичев. — Только нам надо этим попользоваться. Слушай, лейтенант, какой у меня план есть…
Выбрали мы местечко поудобнее, с минометчиками договорились, чтобы отход наш прикрыли, и вечером, захватив в помощь ребят, поползли к немцам в гости. Все рассчитал солдат Кузьмичев, каждую мелочь предусмотрел. Лежим в темноте, часы считаем. Скучно.
— Ни тебе покурить, ни матюкнуться, — ворчат ребята шепотом.
— Успеете еще, — пресекает Кузьмичев.
Как-то незаметно все руководство этим делом он прибрал к своим рукам. Я не обижался, знал: худа от этого не будет. Да и понимал: хочется ему самому задуманное исполнить. Начало светать, верхушки деревьев обозначились, фашисты ракеты пускать перестали, из лощины холодком потянуло, на траве капельки сверкнули.
— Теперь скоро, — спокойно сообщает Кузьмичев, а сам, конечно, волнуется. — Готовьтесь, ребята, через пять минут фрицев горячим завтраком угощать будем.
И точно. На немецкой стороне команды, бряканье котелков послышались. Потом — шаги. Прильнули мы к пулеметам, автоматы изготовили. И когда показалась колонна — все это заработало. В упор били, взвода два, не меньше, на месте положили. Тут и минометчики подключились, им тоже работы хватило. Вернулись мы в свои траншеи более или менее благополучно и спать завалились.
Уж не помню, сколько мне подремать удалось, слышу: будит кто-то.
— Что случилось?
— Опять колонной на обед ходили, — шепчет мне Кузьмичев.
— Ты почем знаешь?
— Я же, лейтенант, там оставался.
— Как так «оставался»?
— Ну да, вы отошли, а я замешкался. Там остался, а в обед гляжу — они опять идут, только маршрут изменили, от наших траншей их теперь не видно.
Посмотрел я строго на Кузьмичева:
— Если еще раз «замешкаешься» без приказа, пеняй на себя.
— Виноват, лейтенант, больше не буду, а только надо с артиллеристами потолковать. Я тут вот нарисовал план, все точно.
Я стал собираться на батарею.
Потом Кузьмичев мне объяснил:
— Я почему остался? Не поверил, что они сразу от своего порядка откажутся. Вот в сорок первом они нас здорово потрепали, по нашим же лесам да полям, как зайцев, гоняли. Конечно, и тогда доставалось им от нас, но все-таки дали они нам прикурить. А почему, знаешь? Порядком они нас давили. Ведь это же не просто армия, а, как товарищ Сталин сказал, «военная машина». Точные слова. Бегал я тогда от немцев, а сам думал — нам бы только изловчиться, придумать, как к этой машине сподручнее подобраться. Теперь вот изловчились, подобрали ключик, теперь она вся на металлолом пойдет. Уж это точно.
…Погиб Кузьмичев под Эльбой, майским светлым днем, уже после того, как фашистская Германия капитулировала. Он пошел с донесением и наткнулся на группу эсэсовцев. Отстреливался до последнего. Мы нашли его на следующий день. Солдаты прикрыли тело плащ-палаткой. Я подошел попрощаться, приподнял палатку и тут только понял, какого цвета были глаза у солдата. Они были чисто голубые, как огромное небо, накрывшее и его, и всех нас, и всю землю. Казалось, в глазах его навечно застыла какая-то вина. Он как бы извинялся за то, что на этот раз не изловчился, оплошал, рано поверил фашистам.
Я прикрыл мертвые веки, постоял, вздохнул и пошел писать письмо в Россию, в далекий райцентр, где Кузьмичев состоял в должности сборщика металлолома…
СОЛДАТСКАЯ КОСМЕТИКА
Солдат Ведеркин был ярко-рыжим. Встанет против солнца — голова золотом сверкает. Прозвали его ребята Паленым. Ведеркин посмеивался да беззлобно махал рукой:
— Скучно братве, пусть развлекаются.
За какое бы дело он ни брался, все старался сделать основательно, не торопясь.
— На войне нельзя торопиться, — говаривал. — Это в мирное время поговорка была: «Поспешишь — людей насмешишь». На войне поспешишь, без ума что сделаешь — кровью умоешься.
Получит задание, отойдет в сторону, постоит минуту-другую, подергает свой рыжий чуб и не спеша принимается за дело. Но уж можно не проверять: задание будет выполнено по всей форме, в самом лучшем виде.
Действовал в годы войны БУП — Боевой устав пехоты. Один из его параграфов предусматривал военный прием — кинжальный огонь. Нехитрый прием, но эффективный и очень опасный. Вперед выдвигался пулемет и тщательно маскировался. Когда противник поднимался в атаку и приближался на расстояние считанных метров, пулемет «оживал» и расстреливал врага в упор. Редко когда пулеметчик оставался жив. Его могли закидать гранатами, обойти с флангов, взять в перекрестный огонь несколько пулеметов. По этим причинам на ведение кинжального огня, как правило, вызывался доброволец. Трудно командиру послать на смерть человека.
Мы ждали контратаки фашистов. Когда разрабатывали схему обороны, решили выдвинуть один пулемет на ведение кинжального огня. Сказал я об этом ребятам и отошел в сторону — пусть сами разберутся, кому идти. Потолковали солдаты между собой, отделился от них Ведеркин.
— Я пойду, лейтенант.
— Хорошо, — говорю, а самому боязно в глаза солдату глянуть.
И тут Ведеркин стал меня успокаивать:
— Ты не волнуйся, лейтенант, я что-нибудь соображу, вывернусь как-нибудь.
Понимаете, карусель какая. По все правилам я его должен ободрить, пообещать, что прикроем, мол, не бросим на произвол судьбы. А тут он меня в чувство приводит.
— Только надо мне, — говорит, — к штабистам на минуту заскочить. Я мигом.
Вечером собрали мы Ведеркина, выделил я одного солдата, чтобы помог ему окопаться и замаскировать огневую точку, и ночью они уползли.
Под самое утро возвратился солдат, докладывает, что все в порядке, окопался Ведеркин, замаскировался отменно, просил передать, чтоб не волновались, все будет хорошо.
Не ошиблась разведка, вскоре пошли немцы в контратаку. Вначале перебежками передвигались, потом залегли, к последнему броску стали готовиться.
Мы тоже даром времени не теряли. Вот взвилась ракета, поднялись фашисты, из автоматов свинцом поливают, пулеметчики их поддерживают. Наши ребята отвечают достойно. Два пулемета с немецкими дуэль затеяли.
Я осторожно голову высовываю, слежу за боем. Вижу: совсем близко от Ведеркина немцы, пора бы уж ему в дело вступать, а он молчит. Начал беспокоиться, не случилось ли что. Приказываю усилить огонь. А немцы прут — и все тут, лавиной катятся. Надо этот первый порыв погасить, сбить гонор, уложить ретивых, а остальных прижать к земле.
Все ближе, ближе к окопу Ведеркина немцы. Пора! Только я так подумал, полоснул первой очередью Ведеркин. В упор бьет, должно быть, видит, как из шинелей клочья летят, крики и стоны врага слышит.
Фашисты заметались по полю. Сзади их офицеры подгоняют, спереди Ведеркин своим пулеметом, как траву, косит. Залегли живые рядом с мертвыми. Порядок! Ведеркин дело сделал, не меньше взвода уложил, а главное — к земле прижал.
— Теперь надо ему из этого пекла выбираться, — переговариваются между собой солдаты. — Давай, лейтенант, усилим огонь, в это время он и выскочит.
Скомандовал я, и такую мы пальбу открыли, что небу жарко. Но не возвращается Ведеркин, нигде не мелькает его рыжая голова. Случилось, видно, что-то. А гитлеровцы опять в рост поднимаются, но уж без того энтузиазма, что был, осторожнее продвигаются. Ясно, боятся Ведеркина. А он молчит. И вот, когда и мы и немцы были почти уверены, что Ведеркин погиб, ожил опять пулемет, полоснул, как кинжалом, по врагу. Тут, ясное дело, фашистов злость взяла. Повалили вперед, как пьяные. Еще две очереди вырвались из раскаленного дула, и смолк пулемет.
«Конец, — мелькнуло у меня в голове, — погиб наш Ведеркин».
И в самом деле, немцы уже и окопчик Ведеркина пробежали, дальше рвутся. Один задержался, склонился над окопчиком, потом бросился своих догонять. «Прикончил, подлец, может, еще и жив был Ведеркин», — стучит в голове. Вырвал я винтовку у Кузьмичева. Никогда так тщательно не прицеливался, не помню, как на спусковой крючок нажал, только, когда споткнулся и упал фашист, понял: попал.
Вражескую атаку мы отбили. Больше того, погнались за ними и ворвались в немецкие траншеи. Начали, как обычно, закрепляться. Вызвал я двух солдат:
— Бегите к Ведеркину, принесите тело, хоть похороним по-человечески.
Через некоторое время возвращаются солдаты, докладывают: пуст окопчик, нет Ведеркина. Что за оказия? Немцы с собой труп унесли? Зачем? Да и когда? Не до этого им было. И вдруг слышу: веселый галдеж по траншее разносится. Пошел туда и глазам своим не верю: стоит среди солдат Ведеркин и смеется. А вся голова у него и телогрейка в крови.
— Ведеркин, ты ли это?
— Я, товарищ лейтенант, цел и невредим.
— Невредим? Это называется «невредим»? Ребята срочно санитара вызывайте.
Ведеркин щурится и спокойно говорит:
— Не надо. Здоров я.
— Да какой же здоровый, если из тебя вся кровь повыхлестала. Очумел, что ли?
— Не кровь это, товарищ лейтенант, чернила. Помните, перед боем я в штаб бегал? Выпросил красных чернил, ну и навел косметику. Когда они к окопчику подбежали и стрелять нельзя стало, я и повалился на спину, будто убитый. Руки раскинул, глаза прикрыл. Фашисты через окоп перемахнули, а один задержался. Гляжу, поднимает автомат… «Конец пришел», — думаю. А немец поглядел еще, не стал стрелять и побежал дальше. Вот так, лейтенант. Водички бы мне, умыться.
Принесли воды, скинул Ведеркин телогрейку, гимнастерку, долго умывался, фыркал, а потом, когда выпрямился, застыли мы. Глядим на него, а слова вымолвить не можем.
— Паленый, да ты же сереньким стал, — промолвил кто-то тихо.
В одночасье поседел человек…
ПРОБКА
Он ввалился в землянку шумно и весело. Уже через час казалось, что мы знаем о нем решительно все. И что родом он из Москвы, и что отец его директор крупнейшей кондитерской фабрики, и что по утрам он пил в кровати горячий шоколад.
— Знаете, что такое горячий шоколад? Кто пил — подними руку?
Никто, конечно, не знал. А Поделкин без передышки перешел к фронтовым делам. И с тем-то он встречался, и с этим говорил, тому руку жал, этого от беды спас. Слушали его вначале серьезно, затем недоверчиво, потом с явной ухмылкой, а под конец Сидоров громко и отчетливо заключил:
— Трепло.
И повернулся спиной.
— Что? Кто трепло? Я трепло? Да я тебе за такое оскорбление! Да ты у меня! — задохнулся Поделкин.
— Трепло и есть, — еще раз спокойно сказал Сидоров.
Вот тут-то и рванул ворот телогрейки Поделкин, и все мы увидели на его гимнастерке орден Красного Знамени. В землянке наступило молчание. Такой орден — не шутка. И нам сразу показались более реальными и шоколад в кровати, и встречи с военачальниками.
— Ты документ покажи, — проворчал Сидоров.
Поделкин порылся в кармане и вытащил орденскую книжку, показал ее не Сидорову, а мне:
— Смотри, лейтенант.
— Все в порядке, ребята. Все верно.
После такого знакомства Поделкин и Сидоров не замечали друг друга.
Сидят солдаты, греются на солнышке, нехитрыми новостями делятся, разгадывают планы начальства. Но вот замечают на повозке Поделкина, и заулыбались лица, сдвинуты набекрень пилотки: все предвкушают веселье.
— Эй, Поделкин, — кричат, — соври на ходу.
— Некогда, ребята, — серьезно отвечает Поделкин и торопливо дергает вожжи, — из тыла подарки пришли, старшина сейчас раздавать будет.
Мелькнет колесо брички, и исчезнет Поделкин. А за ним уж гурьба спешит. Подбегут солдаты к старшине.
— Когда подарки раздавать будешь?
— Какие подарки? Вы что, очумели, что ли? Нет у меня никаких подарков.
— А из тыла что пришло?
— Да кто вам наврал?
— Поделкин.
— Так это ж Поделкин…
Засмущаются, засмеются, закрутят головами солдаты, однако не обижаются: сами просили соврать. И только Сидоров словно не замечал Поделкина, ни разу не поддался на его розыгрыши.
Получили мы сложное задание: за три дня до предполагаемого наступления пробраться в тыл фашистов и, когда наши погонят врага, создать панику, не дать спокойно отступить. Надо думать, не одним нам такая боевая задача ставилась, и другие пулеметчики принимали в этом участие, и партизаны, и десантники.
— Тут надо все обдумать, изловчиться, — задумчиво произнес Кузьмичев, когда я рассказал о полученном приказе.
— Ну, братцы, прошли года, жди попа, — вздохнул кто-то в темном углу землянки.
— Ты чего там панику раздуваешь? — взъерепенился Поделкин.
Тут подал голос Сидоров:
— Паника не паника, а вот посмотрим, что ты будешь делать, когда весь фашистский фронт на тебя попрет.
— Не на одних нас попрет, не одни мы в деле будем, — вступил в разговор Заря. — Я так думаю: главное, чтоб боеприпасов вдоволь. А там окопаемся как следует и будем до последнего сражаться. Иного выхода не вижу.
— Не вижу, — передразнил его Поделкин. — До последнего… И будет через десять лет стоять обелиск со звездочкой. А я бы и звездочку тебе пожалел.
— Это почему же?
— А потому. Сам падешь смертью храбрых, а немецко-фашистские захватчики спокойно перешагнут через твой молодой и красивый труп и улизнут от наших. А под Познанью или на Одере по твоей вине так встретят, что люди еще умирать будут. Здесь их брать надо. Умом брать или, как Кузьмичев советует, изловчиться.
— А что, не так? — обиделся Кузьмичев.
Я не мешал разговору, я знал своих солдат, верил в них. Плох тот командир, который думает, что только он один может строить хитроумные планы, а солдаты должны лишь выполнять приказы. Я знал: если солдаты сами задумаются, считай, что полдела уже сделано. Солдатский ум неистощим на выдумку. И в трудную минуту только положись на него.
Я вышел из землянки. На фоне густо-синего неба чернел далекий лес, то и дело с гусиным шипом взлетали ракеты, время от времени вспыхивали, осторожно щупая небо, прожекторы, где-то далеко заливался пулемет. Ударила приблудшая мина. Все спокойно. Укоризненно смотрели вниз на безумствующих людей крупные звезды.
Я вернулся в землянку и остановился удивленный. Друг против друга сидели и спокойно, даже весело, разговаривали Сидоров и Поделкин.
— Ну что, закончили совет в Филях? — спросил я.
— Закончили, — хмыкнул Поделкин.
— Балаболка, а с головой, — улыбнулся Сидоров, и что-то ласковое мелькнуло в его глазах.
Через полчаса я был посвящен во все детали солдатского плана.
…Пробороздив нейтралку животами, удачно прошмыгнув между вражескими траншеями, отлеживаясь днем в ельниках, прибыли мы на третьи сутки в определенный для нас район. Устроили лагерь. Затем втроем — я, Поделкин и Сидоров — поползли к дороге, осторожно осмотрели кюветы, придорожные полосы и возвратились к своим разочарованные.
— Не то нам надо, — заключил Поделкин.
— Не то, — согласился Сидоров.
И стали они каждый день уползать к дороге, искать подходящее место. Возвращались злые, голодные и уставшие. Торопливо ели, валились спать. Потом опять пропадали.
— Ты нас, лейтенант, не торопи, — говорил Поделкин.
— С умом надо сделать, — поддерживал его Сидоров.
Наконец, приползают солдаты довольные, зовут меня:
— Пошли. Посмотри.
«Пошли» мы по-пластунски, выглянули осторожно из придорожных кустов.
— Видишь, лейтенант, дорога как хорошо просматривается. Далеко немца увидим, приготовиться успеем. А здесь мы мины в рядок ставить будем.
— Так они же в обход пойдут.
— В том то и дело, что не пойдут. Видишь высокий осот? Это болото. До самого леса тянется. Конечно, лесом можно пойти, но для этого и сил, и времени немало надо. Тут их накрыть авиацией можно. С другой стороны — тоже болото. Место что надо, лучше не найти.
Вижу: в самом деле место отличное. Обосновались мы на нем основательно, капитально. Стали ждать. Ребята волнуются, ждут сигнала по рации. Дали, наконец, сигнал.
Теперь немцев ждем. Далеко видна дорога, а на ней хоть бы машина, хоть танк какой заблудший. Ничего. Лежим, чертыхаемся. И тут видим: далеко-далеко показалась точка. Заволновались солдаты. Я глянул в бинокль и растерялся — движется повозка. Кляча, еле передвигая ноги, тащит потихоньку ее вперед. На облучке сидит, покачивая головой, какой-то фольксштурмовец в задрипанной шинелишке. Время от времени очки поправляет, лениво чмокает губами — для проформы таким макаром клячу подгоняет.
— Пропустить его к чертовой бабушке, — с досадой командую.
— Что ты, лейтенант! Это же не фольксштурмовец, это же сам божий дар в немецкой шинели, — горячо убеждает меня Поделкин.
Вижу, Сидоров винтовку с оптикой пристраивает, но и его остановил Поделкин:
— Соображать надо. Божий дар, а ты в него пулю.
— Что же с ним делать, молиться, что ли? — подает голос Заря.
— Большой ты, Заря, а соображаешь туго. Сходи, возьми этот дар, клячу тоже приведи, а подводу поперек дороги поставь. И чтоб ни единого выстрела.
— Да я его пальцем, как комара, пришибу. — Заря вопросительно смотрит на меня.
Я киваю головой.
— Да не тронь ты этого старикашку. Свяжем, полежит до плена, ничего с ним не сделается.
Заря вначале полз, потом плюнул, поднялся во весь рост и пошел не таясь. Немец, вглядываясь подслеповатыми глазами, забеспокоился, начал искать что-то в повозке. Но, видя, что уже поздно, приподнялся и вздернул руки вверх. Заря развернул повозку поперек дороги, выпряг лошадь и вернулся с немцем к нам. Тот испуганно таращил глаза и все повторял:
— Гитлер капут! Гитлер капут!
— Заткнись ты, старый хрыч, — взъелся на него Поделкин и жестами показал, что тот должен лежать в яме и молчать, иначе… Что «иначе», старику не надо было объяснять дважды.
В это время на дороге показалась машина. Она шла на большой скорости, в кузове сидели человек шесть солдат. Вот машина притормозила, солдаты собрались возле повозки, намереваясь столкнуть ее в кювет. Несколькими автоматными очередями с ними было покончено.
— Кажется, началось. Теперь надо быстро поставить мины на обочинах вплоть до болота, — предложил Поделкин, и ребята, не дожидаясь команды, бросились минировать. Едва закончили, на дороге показалась колонна автомашин.
— Ну, теперь не подкачай, орлы, — крикнул Сидоров и метким выстрелом уложил водителя первой машины. Немцы, видимо, не слышали выстрела и, ничего не понимая, сигналами требовали дорогу. Неуправляемая головная машина свернула в кювет, перебралась через него, и тут сработала первая мина. Вступили в дело наши пулеметы, автоматы. Машины стали разворачиваться, но натыкались на мины.
— Ну вот, пожалуйста обедать, каша готова.
Последним машинам все-таки удалось развернуться и улизнуть.
— Могут танки привести, — отложив автомат, сказал Заря.
Не мешкая, мы связались с командованием и получили приказ немедленно отойти и где-либо поблизости дожидаться прихода своих. Пленный фольксштурмовец шел за нами по пятам, пытаясь даже помочь переносить вещи. На все наши знаки — уходи, мол, — отрицательно качал головой.
— Да хрен с ним, подойдут наши, отправим в плен, — решил я.
Мы выбрали сосняк погуще, двоих оставили в охранении и залегли спать. Но вскоре были разбужены мощными взрывами. Посмотрев в ту сторону, откуда пришли, увидели в небе самолеты: они продолжали начатое нами дело.
Еды мы с собой взяли мало, а аппетит разыгрывался.
— А вот я слышал: японцы какие-то молодые деревья едят. Или брешут, лейтенант? — спросил Заря.
— Едят, бамбук.
Заря надолго задумался и, когда все уже и забыли о моем ответе, удивленно произнес:
— Скажи на милость, какие же крепкие зубы надо иметь.
— А я вот слышал, — неожиданно развеселился Сидоров, — что некоторые в постели горячий шоколад кушали…
— И ел, — взъерепенился Поделкин, — сколько хотел, хлебал!
Я улыбнулся и повернулся на бок. Между Поделкиным и Сидоровым начинался очередной диалог.
ПОВЕЗЛО
— Я так думаю, что Гитлер специально дал задание уничтожить сержанта Поделкина. Но шиш ему, мне, братцы, везет страшно. А ты, Сидоров, не отворачивайся. Если неприятно тебе мой голос слышать или на лицо смотреть, возьми и отойди в сторону.
Сидоров молча взял свой вещмешок и пересел, однако так, чтобы можно было разобрать слова Поделкина.
— Мог бы подальше чуток, — заметил Поделкин. — Не хочешь? Желаешь послушать мой правдивый рассказ? Ну, слушай, я не жадный. В самом деле, ребята. Я думаю, есть у немцев такая картотека — на самых опасных для них солдат. Если есть, то я в этой картотеке непременно на первом месте. Только какая ни на есть операция начинается, весь свой огонь они на меня обрушивают. Иной раз лежишь и прямо видишь, что все пули так в меня и летят. Пулей не возьмут, начнут снарядами или минами швыряться. Так и метят в куски разорвать. Только и я не промах. И опять же ничто меня не демаскирует, вещмешок тощий и горбом над спиной не поднимается — так что, во-первых, трудно меня обнаружить, а, во-вторых, если и обнаружат, не так просто подстрелить.
— Да уж, драпать ты мастак, — подал голос Сидоров.
— А что? — весело откликнулся Поделкин. — При нужде могу и драпануть. Что, лучше мертвым лежать?
Поделкин снял пилотку, положил ее на колени и погладил ладонью, давая понять, что присказка закончилась и начинается рассказ.
— Было это в Белоруссии. Ну, какие там леса, вам нечего рассказывать — леса что надо, а в них множество деревушек. И каждая название имеет. Скажем, в деревне дома четыре-пять, а название хорошее, веселое: «Леснянка», «Полянка» или «Светлянка». Однажды посылает меня взводный в такую деревню — проверить, не засели ли там немцы. Если засели — в плен взять. Тогда немцы уже охотно в плен шли. Выделил мне отделение, все честь честью. Добрались мы вечером в эту самую Леснянку или Веснянку — не помню уж, прилегли на опушке, стали присматриваться. А там посреди улицы танк стоит. Наш танк. Ну, мы, конечно, обрадовались, смело уж в деревню зашли, поздоровались, поговорили с танкистами, вместе решили поужинать.
— И напились, — вставил Сидоров.
— Чего не было, того не было, — живо повернулся Поделкин. — К великому огорчению, ни у нас, ни у танкистов ничего такого не оказалось. Если б было, по рюмашке, конечно, рванули бы. Ну вот, посидели так, погоревали, поели и улеглись спать. «Утром мы вас мигом к своим доставим», — пообещали танкисты. Отдыхаем культурно, и вдруг среди ночи как рванет! И началось! Снаряды, мины, пули визжат, а тут еще рожь в поле вспыхнула, и дома, как свечки, горят. Вот такая картина образовалась.
— Сколько же немцев на вас двинуло? — спросил кто-то.
— Точно сказать затрудняюсь, а только никак не меньше полка, ей-богу.
— Свисти больше, — опять подал голос Сидоров. — Дивизия целая двинулась на одного Поделкина, иначе с ним никак не справиться.
— Ну и едкий ты, Сидоров, как ташкентский перец. Маленький стручок, а положишь в суп — весь чугунок горечью пылает. Ты возьми в толк ситуацию. Двигались немцы, разведку вперед выставили. Та разведка ночью и набрела на нас. Увидели танк…
— И Поделкина при нем, — в тон ему продолжил Сидоров.
— И Поделкина, и отделение солдат. И еще в толк возьми: ночью могли подумать бог весть что. Может, за штаб нас приняли и решили расправиться с ходу. Точно я, конечно, замыслов немецких не знаю, а картину нарисовал правдивую. Ну и заметались мы, как миленькие, и в суматохе потеряли друг друга. Вижу: танк наш уже огнем горит. «Что же делать?» — думаю. А еще с вечера приметил я чуть в сторонке деревенское овощехранилище. Решил туда податься. Только собрался, на дороге заурчало: танки фашистские из леса вывернулись. Полежал чуток, прислушался: со стороны овощехранилища стрельба. Понял, что не один я это здание с вечера приметил. Подумал малость и решил к своим ребятам ползти. Конечно, можно было в лес сигануть, никто бы меня ночью в кустах не нашел да и искать не стал. Но решил так решил и вскоре очутился перед дверью этого хранилища. Собрался, как на спортивных соревнованиях, и плечом дверешку эту снес. Влетел вовнутрь, а там меня кто-то по голове прикладом хряпнул. Хотел было сознание потерять, но подумал, что, если не успею что-нибудь сказать по-русски, меня свои же разом на тот свет отправят. Замотал головой от боли, но слова такие произнес, что ребята враз поняли, кто перед ними.
Поделкин умолк и покосился в сторону Сидорова, ожидая, не будет ли каких замечаний. Замечаний не было, и Поделкин продолжал.
— Ну вот, братцы, я оказался среди своих. Были там два моих солдата и два танкиста. Они еще до меня отверстия в стенах обнаружили, оконца такие маленькие, вроде амбразур. Их мы и стали использовать: высунем автоматы, по очереди врежем и умолкнем. Патроны бережем.
Гитлеровцы в ответ, конечно, целый концерт устроили, но ничего с нами поделать не могут. Потом, видно, сообразили, что на дурака нас не возьмешь. Но помогли им отдушины вентиляционные, что через крышу хранилища, как перископы у подводной лодки, торчали. Спустили они туда гранаты, а те, как водится, и рванули. Тут я сознание окончательно потерял.
Сколько прошло времени, не знаю. А когда пришел в себя, вижу такую картину: лежу я на спине, поперек груди огромная балка пристроилась. Если бы она не трухлявая была, конечно, вмиг прикончила бы меня. Ну, а в трухлявой, сами понимаете, вес не тот. Стал я потихоньку выбираться. Выбрался, начал соображать, что дальше делать. И, знаете, ничего путного в голову не идет. Может, потому, что шурум-бурум в ней, бедной. Гудит и гудит, а ни одной стоящей мысли нет. Однако решил двинуться куда-нибудь. Рассветет — тогда совсем не выберешься, как раз к немцам в лапы попадешь. Прополз шагов пять к выходу, слышу, окликает меня кто-то:
— Иван.
— Я, — отвечаю.
— Слышь, Иван, подсоби. Пополз я на голос, спрашиваю:
— Из танкистов, что ли?
— Из них. Давай вместе из такого гадкого положения выбираться.
— Вдвоем, — отвечаю, — сподручнее. А ты что, нерусский, что ли?
— Грузин, — говорит, — я. Только какое это имеет значение?
— Никакого. Просто так поинтересовался.
— А есть не простое обстоятельство, а существенное. Офицер я, у меня на карте нанесена оперативная обстановка. Надо мою планшетку отыскать, посеял я ее где-то.
Стал я опять по-пластунски ползать. А почему ползал — и сейчас в толк не возьму. Вполне мог бы спокойно в том полуразрушенном хранилище в рост ходить. Видно, совсем плохо голова работала. Но как бы ни было, а нашел ведь планшетку!
— Ну вот, теперь давай из подвала этого выбираться.
Поползли мы вдвоем и еще одного танкиста обнаружили. Тоже, как и офицер, раненый. Один я среди них здоровый оказался. Стали думать, что делать.
— Прежде всего надо обстановку изучить, — говорит офицер. — Давай, сержант, действуй.
Начал я действовать. Подполз к двери, высунул голову, гляжу: деревня. Фашисты костры разожгли, сидят возле них, чай, а может, кофе варят, консервы едят. Разговаривают громко, так, как только немцы умеют. Пополз осторожно дальше, смотрю — танк стоит, и никого из немцев близко нет. А люк открыт.
Приподнялся я, обошел осторожно вокруг, потом осмелел, на броню влез, вовнутрь заглянул. Никого нет!
Вернулся в овощехранилище, рассказал обо всем танкистам. Те переглянулись между собой, потом офицер спрашивает:
— Ну что, попробуем?
— Попробуем, — отвечает второй танкист. — Меня в тылу обучали немецкие танки водить.
— Давай, — говорит мне офицер, — доставляй нас к этому самому танку. Одним нам не доползти.
Подумал я и предупреждаю танкистов:
— Вот что, ребята. Одно условие — не стонать, не кричать, за какую бы руку, ногу раненую я вас не схватил. Во-первых, не знаю я, в какие конечности вы ранены; во-вторых, потом поздно будет разбираться, где у вас правая, где левая нога.
Согласились они. Взвалил я танкистов на спину, и поползли этакой троицей-каракатицей. У фашистов, видно, бдительность притупилась, думали, что всех нас прикончили, ничего они не услышали. Добрались мы до танка благополучно. По одному затащил я их в танк, устроились — они впереди, а я где-то в закутке приспособился.
Поговорили танкисты между собой, посоветовались, потом слышу: загремел мотор. Меня этот шум так надвое и разрезал, потому что я все тихо старался сделать, дыхание и то сдерживал, а тут… Ну и пошло. Машина дернулась, я головой о заднюю стенку — трах! Машина притормозила — я о переднюю стенку, а потом уж и боковые головой начал молотить. Вот что скажу вам, ребята: быть танкистом на войне — самое что ни на есть трудное дело. О броню головой стукает, кишки в животе путаются, а еще бензин с маслом в нос бьет. Чуть я на волю не сиганул. Был момент, полез было на стенку, да вовремя сообразил: немцы же вокруг.
Рванули мы по всем кострам, да ребята еще из пулемета немцам жару добавили. Из пушки не стреляли: некому было. Затрясло меня еще сильнее, а танкисты веселые стали.
— Эй, пехота, не бойся, теперь вырвались, теперь они не погонятся, с нашими встретиться побоятся, — кричат мне.
А я слова в ответ произнести не могу. Потом остановились.
— Ну, скоро у своих будем, — говорят танкисты.
И стал я тут соображать.
— Вот что, — говорю, — товарищи. Сейчас мы перед своими появимся и они нас, как миленьких, из пушек расстреляют. Откуда им знать, что в немецком танке свои разъезжают.
— А ведь и правда, — отвечают танкисты. — Что же делать?
— А то, — говорю, — что, кто в ногу ранен, снимай сапог.
Начал офицер разуваться. Портянка от крови набухла, сапог не снимается. Наконец, разрезали мы его чем-то, подали мне танкисты какой-то стальной прут, укрепил я на нем красную портянку и к немецкому танку этот флаг прикрепил. Двинулись дальше и тут слышим: первый снаряд разорвался, потом еще один, а потом совсем зачастили.
— Ребята! — кричу танкистам. — Давайте бросим мы к чертовой бабушке этот самый немецкий танк, пешими хоть и дольше, зато безопасней.
— Этот танк еще пригодится нам, — кричат они мне в ответ. — Бабы в тылу на нем пахать будут.
— Тогда давайте я вылезу, буду махать флагом, наши мигом поймут.
— Вот это, — отвечают, — дело.
Вылез я, замахал, закричал, что есть мочи. Тут и стрельба прекратилась.
— Вот я спрашиваю, — неожиданно закончил свой рассказ Поделкин, — ну разве я не везучий? Пуля меня не взяла, граната рядом разорвалась — не задела, балка трухлявой оказалась, танк я нашел, танкистов доставил, свои артиллеристы в нас не попали, а главное — в танке том немцы карты оставили, мы их командованию передали. А что касается картотеки, так есть она у немцев, и явно в ней первой моя фамилия значится. Потому так и получается: как чуть какая заваруха — все пули, все мины-снаряды на меня нацелены. Только жив я до сих пор и думаю, что до самого конца войны жив останусь.
АЛЛЮР ТРИ КРЕСТА
Или я чем-то понравился командиру полка, или просто под руку попался — не знаю. Только подозвал он меня и приказал доставить донесение в штаб дивизии.
— И чтоб одна нога здесь, другая — там, — предупредил.
Я уж было побежал, но подполковник окликнул, спросил:
— На коне доводилось ездить? — И, не дожидаясь ответа, заключил: — Берите — и аллюр три креста.
Вывели мне коня. Откровенно говоря, на боевого коня эта понурая лошадка мало смахивала. Стояла, опустив голову, не обращая на меня никакого внимания. Взял я ее под уздцы, стою, жду.
— Ты чего? — спрашивает меня интендант. — У тебя же аллюр три креста. Скачи, братец.
— Как скачи? — ужаснулся я. — Мне бричка нужна.
— Чего-чего? Бричка? — капитан, издеваясь, даже приложил руку к уху. — Друг ситный, ты случайно там, на передовой, контужен не был? У меня каждая бричка на вес золота: одни снаряды возят, другие — раненых. Скачи верхом.
— Ну хоть седло дайте.
— Это можно. Эй, дайте лейтенанту седло!
Принесли седло, стали прилаживать его к лошади! Она и на это ноль внимания.
«Ничего, — думаю, — лошаденка смирная, как-нибудь поладим с ней». Вспомнил я, как в детстве вместе с отцом ездил на лошади из Челябинска в Копейск. Ехали густым березовым лесом, что рос между этими городами, и сломалась у нас оглобля. Я было заволновался, но отец взял в руки топор, вырубил деревце и скрепил им с помощью вожжей сломанную оглоблю. Этим случаем мое общение с лошадьми и ограничивалось.
Тем временем лошадь была оседлана. Я взял ее под уздцы, отвел в сторонку и вскарабкался в седло. Она покорно поплелась вперед. Мне стыдно было ехать так тихо, и я, сделав равнодушное лицо, начал глазеть по сторонам, будто не спешу никуда. Вот и околица. Я вспомнил лихие атаки чапаевцев и ткнул ногами в бока лошаденки. Это была грубая ошибка. Вместо того, чтобы чуть прибавить шаг, она (откуда только прыть взялась!) подхватила и понесла. Я думаю, она, окаянная, испытать всадника задумала. Я болтался в седле, как куль с овсом, забыв, что надо управлять. Сделав круг, моя лошаденка прямиком вынесла меня с другого конца села к тому самому месту, откуда я начал свой путь.
— Ты чего, лейтенант, никак забыл что? — изумился капитан.
— Забыл, — смутился я, слез и направился в отхожее место.
— Так это можно было и в лесу, — заворчал капитан и презрительно добавил: — Интеллигенция.
Я вскарабкался в седло и снова, теперь уже осторожно, тронул лошадь. Она покосилась на меня черным глазом, и мне показалось, что в нем прыгают веселые смешинки.
Пока ехали по селу, лошаденка вела себя более или менее прилично, но когда миновали опушку и въехали в лес, она стала откровенно надо мной издеваться. Вдруг останавливалась и долго раздумывала, идти вперед или нет. Я кричал: «Но! Но!» — никакого впечатления. Настоявшись вдоволь, вражина делала несколько шагов в сторону, опускала голову и начинала щипать травку.
Я бесился, требовал, просил, только что на колени не вставал, но моя мучительница оставалась непреклонной. Когда же я пинал ее в костлявые бока, она мчалась очертя голову неизвестно куда. Положение мое усложнилось тем, что я почувствовал боль. Я не мог сидеть в седле, все у меня было отбито. Тогда я решил привстать на стременах.
«Это еще что за новости?» — как бы спрашивала меня лошадь своим взглядом. «Перехитрил я тебя, дуру», — отвечал я ей. «Ну, ну, посмотрим, что ты скажешь через часок».
Через часок я уже ничего не мог сказать потому, что натер себе ноги до такой степени, что каждое прикосновение обжигало, как огнем. Вот тут-то и встал передо мной вопрос: что делать? Ехать на лошади я не мог. Это ясно. Она попросту не везла меня — и все. Оставалось одно: слезать и идти пешком. Так я и сделал.
Но я не мог и идти! Каждый шаг мне давался с трудом. Да, не состоялся у меня аллюр три креста! Жалкий и измученный, приплелся я наконец в штаб дивизии.
— Ну, слава богу, прискакал. А уж тебя потеряли. Подполковник через каждые полчаса звонит, — обрадовались в штабе дивизии. — А что такой хмурый? Уж не заболел ли?
— Заболел, ребята, — признался я. — Головокружение и все прочее.
— Ну, скачи обратно, — говорят штабисты.
— Нет, только не это! По-пластунски поползу, а на этой чертяке не поеду, — взмолился я. — Казните или милуйте, а давайте бричку.
Почесали они затылки, отыскали какую-то колымагу, запрягли проклятую лошаденку, суют вожжи в руки — езжай, мол.
— Братцы, я и сидеть не могу.
Опять полезли они пальцами в потылицы. Наконец выискался охотник, доставил меня на место. Чернее тучи встретил меня подполковник, но, когда увидел, как я с брички слезаю и с докладом подхожу, все понял, засмеялся и махнул рукой.
А я еще целую неделю нормально ходить не мог.
…Прошло месяца два, приехала к нам зачем-то повозка, подхожу я к ней, вижу — вроде бы знакомая лошадь. И она, видать, меня узнала, поджала уши, а в глазах знакомые смешинки запрыгали. Взял я прут, сейчас, думаю, отомщу за все твои издевательства и злодеяния. Замахнулся, хотел ударить, но передумал, бросил хворостину. Не виновато животное, всадник виноват был. А лошадь, она ведь тоже в справедливости разбирается.
ОТ ВЕРЫ ПОСТРАДАЛ
— Вот вы спрашиваете, верю ли я в бога?
Солдат Возщиков поудобнее устроился на завалинке, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана кисет, не торопясь свернул козью ножку, сладко затянулся и только тогда на свой же вопрос ответил.
— Не верю я, хотя, конечно, если прижмет, и бога и, извиняюсь, богоматерь вспоминаю. А вот старуха моя, та — другой коленкор, она без бога дня прожить не может.
Он сдвинул шапку на затылок и ткнул пальцем в изрезанный морщинами лоб, посередине которого белел огромный шрам.
— Видите блямбу? Так вот, должен я вам доложить, что получил ее в мирное время от родной своей старухи. Дело было так. Как-то в наше сельпо недели две не завозили спичек. Мужикам туго пришлось. Бабы все спички в тайники припрятали, а нас на произвол судьбы бросили. Ну на работе или на улице — куда ни шло. Обходились. А дома как быть? Хоть ложись и помирай без курева. Долго приглядывался я к лампадке. Боязно было — а вдруг шарахнет, всемогущий все-таки. Однажды решился. Подошел к лампадке, перекрестился, вежливо так спрашиваю: «Дозволь, пресвятая богородица, от твоего огонька прикурить». Ну, она молчит, как всегда. Осмелел я, сунул ей под нос цигарку и прикурил. Ничего. Ни грома, ни молний. И стал я богатейшим мужиком на деревне. Другие страдают, а я завсегда с огоньком. Только раз оплошал. Потянулся к лампадке, а она возьми и брякнись на пол. Шум произвела. Бросился я на колени, стал эту штуковину в порядок приводить, а старуха тут как тут. Совсем взбесилась баба: глаза горят, рот перекосился, руками к моим волосам тянется. Я ей: «Успокойся, Андреевна, удар хватит, образумься». Только не ее удар хватил, а меня. Вырвала она у меня лампадку да прямо в лоб ею закатала. Я бряк на пол и лежу без движения. Минут через пять, а может, поболе, прихожу в себя и застаю такую незабываемую картину. Валяется в углу эта самая проклятущая лампадка, а Андреевна лежит на моей груди и как над покойником голосит. «Подымайся, — говорю, — Экая тяжесть навалилась — и впрямь на тот свет отправишь».
Надо вам, ребята, сказать, что была в то время моя Андреевна в больших формах и немало пудов весила. Вот вы смеетесь, а мне не до смеха было. Начал я соображать. Это дело, думаю, без последствий оставить нельзя. Жалобным таким голоском говорю: «Все, Андреевна, чую — конец мой приближается». Старуха моя понятливая, сразу полезла за трешкой. «На, — говорит, — только поправляйся».
Не утерпела Андреевна, проболталась об этом случае, и прослыл я по всей деревне отчаянным безбожником. Батюшка, поп наш, как-то встретил. «Я, — говорит, — на тебя в суд подам за гонение на веру». А я ему отвечаю: «Если ты на меня в суд, так и я на эту самую веру подам за рукоприкладство. У меня, — говорю, вещественные доказательства завсегда при себе». И показываю на лоб. На том и поладили.
Однажды отлучился я из деревни на неделю — в райцентр на учебу вызывали: советовали, как лучше за лошадями ходить, по-научному, значит. Учитель молоденький был, все смущался, в книжки заглядывал. Мужики посмеивались втихомолку, однако уважительно к парнишке отнеслись, все ему объяснили и рассказали. Он расчувствовался даже. «Спасибо, — говорит, — за практические советы. Многому я у вас научился». Однако не поняли мы, зачем столько мужиков от дела оторвали, вызвали бы, к примеру, меня одного, я бы ему все честь по чести и рассказал. Возвратился я, в баню сходил и только поужинать собрался, мужики в дом завалились. Делегацией целой.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Ты, — говорят, — Тимоху знаешь?
— Что за вопрос несерьезный? Кто его не знает?
— Ну так вот, умер наш Тимоха, нет его больше.
— То-то я сразу приметил — вроде бы в деревне потише стало.
Ну повздыхали, слова подходящие к моменту высказали.
— А я-то, — говорю, — мужики, при чем?
Они объясняют:
— Ты человек отчаянный. Ни в бога, ни в черта не веришь. Побудь с ним ночку в церкви, почитай над ним священные писания.
Я выкручиваться:
— Церковь-то месяц назад как сами же решили закрыть, мерзость запустения там. В такой обстановке покойнику лежать не положено. Грех.
А они свое:
— Церковь мы прибрали и гроб установили как надо. Соглашайся, Егор, выручай. Больше некому. А если тебя его морда небритая смущает, так мы крышку-то гроба прикроем и другие удобства создадим.
Подумал-подумал я и спрашиваю:
— Какое мне уважение от общества за мой героический поступок будет?
— Бутылку, — говорят, — поставим.
— С этого бы и начинали, — отвечаю. — Когда на пост заступать?
— Сегодня в ночь.
Собрался я, пошел в церковь. Надо же общество уважить. Пришел. Гляжу — ничего, церковь прибрана, посередке, как положено, гроб установлен. Мужики постояли-постояли и один за другим исчезли. Остался я с покойником один на один. «Ничего, — думаю, — ночь незаметно пройдет». Раскрыл я священное писание, стал разбираться — ни хрена не могу понять, о чем речь. «Ладно, — думаю, — и без писаний обойдемся. Тимохе все равно, и мне оно ни к чему».
Стал пристраиваться я на ночлег и вдруг вижу: крышка гроба стала медленно так приоткрываться. Приподнимется, опустится, опять приподнимется. Что за чертовщина? Мерещится? Да нет. Совсем поднялась крышка, и Тимоха не лежит уже в гробу, а сидит и на меня жутко глядит.
— Что, Егор, не читаешь священных писаний? — спрашивает покойник. — Нехорошо это. Писаний не читаешь, а бутылку водки с мужиков получить хочешь? Грех.
У меня зубы застучали. Не помню уж, как я к гробу подскочил, Тимоху плашмя уложил, крышку на место пристроил и гвоздями прихватил.
Мать честная, что тут поднялось! Тимоха в гробу вопит, а тут еще в двери забарабанили, ломится кто-то. Я от страха не своим голосом кричу:
— Чего, черти полосатые, надо? А ну входи, кто посмелей, враз рядом с Тимохой уложу.
Долго мы так кричали, светать уж начало. Стал я чертей уговаривать, объяснять, что петухи пропели и всем им сгинуть полагается. А черти-то еще сильнее вой подняли. «Несознательные какие-то», — подумал я и стал прислушиваться. И тут меня сомнения взяли. Подошел поближе к двери — стал голоса различать. Явно же голос Мелентихи, Тимохиной бабы. Подошел к гробу, отхватил гвоздодером крышку, спрашиваю:
— Ты покойник, Тимоха, или нет?
А он по-людски совсем говорить разучился. Матюкается только. «Ну, — думаю, — будь, что будет, отопру дверь». Скинул запор и, как медведь-подранок, налетела на меня Мелентиха, подмяла под себя и дубасит.
— Пьянчуги проклятые, загубили Тимоху. Убью вконец и церковь вашу разнесу.
— Здравствуйте, — отвечаю ей исподнизу. — Во-первых, церковь не моя и охраняется законом. По всей строгости отвечать будешь. А во-вторых, вон твой Тимоха невредимый сидит.
Она меня бросила и Тимоху дубасить принялась. Только потом я узнал, что мужики проверить вздумали, такой ли уж я отчаянный…
— Да, житуха была, — вздохнул Егор Возщиков, поднялся и, махнув рукой, пошел по своим делам.
…Разные воспоминания были у солдат о мирном времени.
ПЕРЕПРАВА
— Думаете, я глухой и слепой? Думаете, ничего старшина не слышит и не видит? — вдруг спросил Матухин, сворачивая очередную цигарку. — Нет, братцы, я все вижу и все слышу. И ни одна самая малая малость не ускользнет от моего взгляда — такой я человек. Вот вы рты открыли и ждете, когда я начну свою байку. Вам бы ведь что? Вам бы только поесть как следует, поспать всласть и байку послушать. А мне, между прочим, известно, что солдат Сидоров не далее чем вчера в одном польском доме… Солдат Сидоров, встать надо, между прочим, когда о тебе речь идет. Вот так… Я и говорю, не далее чем вчера солдат Сидоров, который стоит сейчас перед нами и переминается с ноги на ногу, в одном польском доме стащил чуричок белых ниток. Так или не так, солдат Сидоров?
Красный от смущения Сидоров отрицательно покрутил головой, пытаясь что-то сказать. Но старшина продолжал нудным, сипловатым голосом.
— А я не спрашиваю тебя, между прочим, солдат Сидоров. Я и без твоих слов знаю, что опозорил ты высокое звание советского бойца и за это тебе порицание и всеобщее осуждение.
— Не крал я, я попросил, мне и дали, — успевает вставить словечко Сидоров, пока старшина делает глубокую затяжку.
— Не оправдание это, Сидоров. Значит, ты еще ко всему и попрошайка? И за это тебе тоже осуждение. Ты, между прочим, сесть можешь. Я бы на твоем месте, когда тебя в хвост и в гриву чешут, сидел где-нибудь в уголке, чтобы никто не приметил, а ты, как пожарная каланча, на самом видном месте стоишь. Мало у тебя скромности, Сидоров, а может, и нет совсем. Ты задумайся об этом, между прочим.
Сидоров облегченно вздохнул и опустился на землю, надеясь, что старшина переключит свое внимание на кого-нибудь другого. Не тут-то было.
— Еще бы можно было понять, если бы солдат Сидоров…
Сидорова передернуло, и он опять отчаянно покраснел.
— Можно было, конечно, понять, если бы Сидоров приобрел, скажем черные или зеленые нитки. Ими можно шинельку подлатать, гимнастерку. Но вот какой вопрос возникает у каждого бдительного солдата: что собирается латать солдат Сидоров белыми нитками? А? Отвечаю: белыми нитками солдат может латать только свое кровное исподнее. Теперь другой вопрос: зачем Сидорову понадобилось латать исподнее, и куда он собирается? Только дитю не ясно, что, когда солдат латает исподнее, он собирается в самоволку, и думает не о том, чтобы в чистоте и постоянной боевой готовности содержать свое оружие, а, извиняюсь… — Старшина внезапно понизил голос до шепота и убежденно закончил: — …о женском поле. Вот ведь куда могут довести тебя, Сидоров, нездоровые мысли. До грехопадения. Ты подумай, подумай об этом, Сидоров.
Старшина замолк. Молчали и солдаты, не зная, как — всерьез или в шутку — принимать его слова. Наконец Матухин плюнул на кончик цигарки, бросил ее на землю и растер ногой. Глянув вопросительно на солдат, он стал подниматься, явно ожидая, что его попросят остаться и что-нибудь рассказать. Не дождавшись, достал карманные часы, посмотрел на циферблат, вздохнул и снова присел.
— Так вот я и говорю, — начал без всякого перехода. — Вызывает меня комбат и ставит такую боевую задачу: выдвинуться вперед и в энском местечке накормить роты на марше. Батальон запылил по большаку, а я, чтобы успеть приготовить обед, принимаю решение сэкономить время и километры. Повернул лошадей и двигаюсь напрямую, срезаю объезд. А надо вам сказать, что на дворе весна стоит. На буграх снег растаял, и их ветерком-сушняком уже тронуло, а в ложбинках снег как подмоченный сахар — сапоги так и дерет. Лошади и те через несколько километров уставать начинают, колеса у кухни и повозки грязью облепило, а у нас каждая нога по пуду весом стала. Однако ничего, шлепаем. И добрались бы мы, надо полагать, до назначенного места без приключений, не ошибись я в расчетах. На карте перед нами никаких водных преград не значилось. А тут видим: шумит самая настоящая река.
— Товарищ старшина, как переправляться будем? — спрашивают солдаты. Посмотрел я на них, Витьку-повара да Сережку-контуженного — все мое войско, посмотрел на речку, на карту — ну, полное несоответствие. На карте речки нет, а на земле есть — вот ведь какая чертовщина. Видно, речка эта самая только весной появлялась, а летом высыхала начисто, потому и не была обозначена на бумаге. Прислонился к повозке и чуть не заплакал. Что делать? Возвращаться на большак? Тогда не только своих не обгоним, а, как пить дать, к ужину доберемся. «Думайте, — говорю, — ребята, авось тремя умами до чего-нибудь додумаемся». Однако, сколько ни думали, ничего путного в голову не приходило. Растерялся я вконец и вот в такой растерянности подхожу к телеграфному столбу. Поднял голову, гляжу — перекладина на нем. И сразу она мне милой и родной показалась, потому что подумал: «Эту ж штуковину еще как использовать можно!»
— Сережка, Витька! — кричу. — Доставайте пилу, сносите этот столб к чертовой бабушке!
Ребят два раза просить не надо — мигом столб свалили. Перевели дух, стряхнули пот, на меня смотрят — что, дескать, дальше?
— Тащите, — говорю, — веревку, вяжите за перекладину.
Так и сделали. Посмотрел я на молодых ребят, жаль их стало. Ну куда их в эту стылую воду посылать? Нет уж, думаю, им жить да жить надо, жениться, детей народить, корень в землю пустить. Уж лучше я, старый хрен, простывать буду. Шинелишку сбросил, сапоги, а над брюками задумался. А что если этот жуткий поток меня в Европу унесет — как же я в таком виде там предстану? Неудобно: старшина — и в подштанниках! Бросился в воду, побарахтался, но благополучно на другой берег выбрался. Укрепил свой конец веревки за громадный камень, и получилось у нас что-то вроде переправы.
Сгрузили продукты на сухой бугорок. Вначале лошадей пустили. Они у нас мигом поток этот перемахнули, да еще и ребят на себе перевезли. Опять же веревками привязал я кухню, а Витька-повар да Сережка-контуженный другие концы к лошадиным хомутам прикрепили и вытащили кухню на тот берег. Вернулся по бревну ко мне Витька-повар. Связали мы продукты узлами и прикрепили к своим головам. Знаете, как в Африке на головах разные предметы носят, — вот так и мы. Ничего, перетащили. Правда, в пути неприятность вышла — какая-то сволочь из леска, что метрах в пятистах стоял, обстреливать нас начала. Пришлось опять в воду сползать и, за столбом укрываясь, заплыв делать. А потом, как доплыли, схватил я карабин, гранату и, в чем был, босиком кинулся в этот лес проклятый. Фашист, видно, подумал, что я сумасшедший, и тягу дал. Гнался я за ним — не догнал. Вернулся. Выпили мы горькую, потом осмотрели кухню, помыли где надо и такую кашу сварганили — пальчики оближешь. Только до места добрались — и наши подошли. А обед — пожалуйста, с пылу, с жару. Ешь и отдыхать заваливайся.
Старшина помолчал, и вдруг в глазах его снова заплясали веселые огоньки:
— А все-таки объясни нам, солдат Сидоров, зачем тебе понадобились белые нитки?
ЗА ТО И ВОЕВАЛИ
Артподготовка была короткой, но интенсивной: земля так и вздыбилась. Не дожидаясь ее конца, мы бросились вперед, ожидая встретить сопротивление фашистов, но увидели вдали только их спины.
Траншеи были выкопаны на окраине села, на склоне, а за нашими спинами вверх убегали дома, в подвалах которых прятались жители.
— А хорошо все-таки, братцы, в наступлении, — сказал Жорка. — Окопы не рыть, брустверы не маскировать. Рванул стометровку — и финиш. И все тебе тут готово, знай, обживай.
И в самом деле, не прошло и получаса, как траншеи были обжиты. Пристроили вещмешки, углубления для боеприпасов сделали, чтобы они под рукой были, а кое-кто уже поудобнее устраиваться начал — солдат впрок спит, когда еще придется?
И тут над траншеями пронеслось:
— Берегись! Гранаты!
Я вскочил: чего беречься надо, откуда гранаты, почему? Высунулся из окопа, глянул вперед — все спокойно. А голос не унимается:
— Не там, лейтенант, глянь назад.
Повернул я голову и обмер. В самом деле, вдоль по улице, под уклон, подпрыгивая, катятся прямо на нас штук тридцать, а может, и больше гранат.
— Ложись! — кричу, а сам уже на дно окопа плюхнулся, голову обхватил руками, думаю: «Ну, сейчас всех в клочья разнесет». И еще мысли мелькают: «Или окружили нас немцы, или какой фанатик в подвале уцелел и высыпал на улицу весь ящик?»
Проходит минута, другая — нет взрывов. Начал я голову поднимать, и тут одна граната прямо по ней угодила, а другая — по спине стукнула. Все! Боже мой, сколько раз на фронте вот так мелькало это тоскливое слово «все». И сколько раз после него шептали пересохшие губы: «Пронесло».
Губы-то прошептали, а я лежу и пальцем пошевелить боюсь, чувствую: где-то рядом она, проклятущая, лежит, ждет своей секунды.
Осторожно приоткрываю один глаз — вижу только комья земли, приоткрываю другой — что-то лежит, похожее на гранату-лимонку. Но не взрывается. Все же шевелиться боюсь — другая, которая по спине долбанула, может в любой момент загреметь.
А тот голос, что первым крикнул «гранаты!», радостно так, удивленно звенит:
— Ребята, не гранаты это — яблоки!
Тут я совсем понимать перестал. Почему яблоки? Все еще лежу, а у соседа уже на зубах хрустит, на вкус, видно, «гранаты» пробует. Поднялся я, вижу: многие ребята сидят и яблоки уплетают. Жорка вытер о полу шинели одно, протягивает мне:
— Пробуй, лейтенант.
Попробовал я, понравилось. И весь этот сюрприз в одно мгновение был уничтожен. А запасливый солдат Сидоров и в вещмешок парочку успел сунуть. Сидим мы, смеемся над пережитым страхом, а Заря говорит:
— Нехорошо, ребята, получается. Считай, что поляки нам подарок преподнесли, а мы облизнулись и даже спасибо не скажем. Надо бы чего-нибудь в ответ подарить.
— По-нашему обычаю — обязательно, — поддерживает его Джанбеков.
— И по-нашему, — замечает Жорка. Солдаты загалдели: у всех народов подарком на подарок отвечать принято. Стали думать, что в ответ подарить. Если люди яблоками кидаются, значит, у них всяких вкусных вещей полным-полно и надо что-то такое сообразить, чтобы в грязь лицом не ударить. Один банку консервов в заграничной упаковке («второй фронт») достал, другой конфеты высыпал («ребятишкам в подарок берег»), а Сидоров крякнул, махнул рукой, полез в вещмешок и две плитки немецкого шоколада вытащил. Собрали все вместе, остались довольны — подарок что надо!
— Славяне, а куда же мы его направим, в какой дом? — растерянно спрашивает Живодеров.
Оглянулись мы назад: много домов и оттуда ни одного лица не выглядывает. Вот задача! Все вопросительно на меня смотрят.
— Давайте логически рассуждать, — говорю я. — Если люди яблоками бросаются, значит, у них еды невпроворот. Так?
— Так! — отвечают ребята.
— Значит, живут они хорошо, значит, дом у них хороший должен быть. Так?
— Так, — кивают головами ребята.
— Значит, надо нам выбирать хороший дом и туда доставлять презент.
Оглядели ребята наши подарки.
— Какой-такой презент? — спрашивают.
— Иностранное слово. Ты, Жорка, так с поляками объясняйся, ведь они тоже иностранцы, — поясняю я.
И тут замечаю, что солдаты как-то скисли, головы опустили, мнутся.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Понимаешь, лейтенант, — говорит Заря, — не верю я, что богатеи нам подарок прислали. У них среди зимы снега не выпросишь.
— Богатый человек, когда тонет, руку не подаст, ему надо свою подавать, — заключил Джанбеков.
Подумал я и спрашиваю:
— Кто первый яблоки увидел, кто «гранаты!» крикнул?
Все смотрят на Живодерова.
— Ясно, — говорю. — Вспоминай, откуда они появились.
Живодеров вначале на один дом показал, потом — на другой. Я махнул рукой.
— Давай, Жорка, забирай продукты, выясняй на месте. Мы тебя прикроем.
Выскочил Жорка из окопа, перебежками вдоль улицы пошел, немцы увидели его, начали стрелять, но мы такую пальбу устроили, что позвонил мне командир батальона, встревоженно спросил, не пошли ли немцы в контратаку. Я отговорился.
Через час вернулся Жорка, отдышался.
— Ребята, не то мы послали. Там не то что доброй еды нет, там люди несколько дней яблоки по половинке делили, тем и жили. Хлеба им надо, сухарей.
И пришлось Жорке опять перебежками в гору двигаться.
…Кончилась война, возвращались мы пешком домой, от самого Магдебурга до Орши топали. Прошли Варшаву, к знакомому яблочному селу подошли. Собрали опять хлеба, консервов, снарядили Жорку, чтобы он еще один наш солдатский подарок полякам отнес.
Ушел Жорка. А через полчаса догнал нас.
— Не то мы, ребята, опять послали. Теперь еда у них есть. Бумаги, карандаши просят.
— Порядок, — пробасил Заря. — Польша учиться собирается.
— За то и воевали, — заметил Джанбеков.
И пришлось Жорке еще раз в село топать.
ВСТРЕЧА В НОЧИ
Из тыла на фронт пробраться не просто. Да еще ночью. Да когда непогода. Или когда между передним краем и, скажем, штабом полка перед наступлением столько пушек понаставят, что бредешь, как в лесу, и о снарядные ящики, словно о пеньки, спотыкаешься.
Уж не помню, по какой надобности был я в штабе, задержался там, а возвращаться ночью пришлось. Иду, падаю, непечатными словами с господом богом объясняюсь. Вдруг слышу:
— Стой, кто идет? Пароль?
Иногда такие пароли для нашего беспрепятственного прохода выдумывали, что сразу и не выговоришь. Остановился, начал язык ломать:
— Таша… — начал бойко, а конец никак припомнить не могу. — Извини, браток, концовку никак не припомню.
А часовой торопит.
— Считаю до трех, — говорит, — если не вспомнишь, будешь у меня, как миленький, на сырой матушке-земле лежать и караульного начальника дожидаться.
Досчитал солдат до трех и уложил меня, как обещал. Лежу, проклинаю того, кто заковыристые пароли выдумывает. Только замечаю: часовой вызывать караульного начальника не торопится.
— Ну, вспомнил? — спрашивает.
— Не то Ташалаз, не то Ташаваз, ей-богу, не помню, — лепечу.
— Давай, давай, шевели мозгами, — усмехается солдат. — Вспоминай географию. Город в Туркмении. Ну?
— Вот те крест, не помню, — сдаюсь, а сам на колени приподнимаюсь, жду — не скомандует ли он опять в грязь шлепнуться. Не командует.
— Ташауз, — говорит солдат. — Из какой части? Пехота? Ну, поднимайся, пехота, топай сюда да закурить готовь.
Присели на ящик, закурили. Видно, соскучился солдат, стоя на своем посту. Живой душе рад-радешенек.
— Так я пойду?
— То есть как это — «пойду?» Никуда ты не пойдешь. Посидим, поговорим, приглядеться я к тебе должен. Может быть, разведчик фашистский.
— Чего ты мелешь, какой я фашист?
Солдат затягивается сладко и, бросив на меня лукавый взгляд, улыбается.
— Я, мил человек, за двадцать шагов услышал, что ты не фашист, а свой.
До меня не сразу доходит смысл сказанного.
— Как так «услышал»?
— А вот так, услышал. Наши в чем ходят? Зимой в валенках, летом в ботинках с обмотками. А немец в чем? В сапогах. Голенища у немецких сапог не высокие, но широкие. И когда он идет, теми голенищами по икрам шлеп-шлеп. Бьет. Я эту науку еще в сорок первом познал, когда в окружении лежал в болотах и к каждому шагу прислушивался. Вздрагивал от каждого шлепка, все в плен боялся попасть. Бог миловал, уберегся. Благополучно прибыл из окружения, и с тех пор пошло: передовая — госпиталь — опять передовая. Так всю войну и курсирую.
Замолчал старый солдат, видно, вспоминал свою тяжелую фронтовую жизнь.
…Чуть-чуть обозначилась заря. Где-то вдали редкая стрельба слышна. Вспорет тишину пулеметная очередь, и опять тихо, и опять удивленно смотрят вниз, на землю, звезды, как бы спрашивая: «Люди, да что у вас там творится, очумели вы, что ли? Посмотрите, как прекрасно вокруг! Жить да жить, а вы воевать надумали».
— Видать, недавно на войне? — прервал раздумья солдат.
— Это как считать… В боях — третий месяц. Госпитали не в счет.
— Давно. На войне час — за день, день — за месяц. Месяц — за год. Так что ты по нашей, по солдатской, бухгалтерии, считай, третий год воюешь. А я вот с сорок первого. Почти с самого начала. Всю жизнь, почитай.
Опять надолго замолк. Вдруг тихо засмеялся и тут же пояснил:
— Был я веселый парень. В деревне нашей — чего скрывать? — за пустобреха считали. Вначале злился, потом присмотрелся — беззлобно, даже любовно так величают, махнул рукой. «Ладно, — думаю, — пусть люди веселятся». Девчата меня не обижали, стороной не обходили, до работы я был горяч — чего еще молодцу надо? А приврать любил — так что за беда? Еду как-то мимо правления, на крылечке мужики сидят, языки чешут. Ну, изобразил я озабоченный вид, дернул вожжи, кони рванули, а я кричу: «Что вы тут сидите? Не знаете, что плотину прорвало? Рыбу-то на мелководье выбросило, руками бери». А до плотины той километров пять будет. Гляжу — и откуда только прыть взялась — обгоняют меня мужики. Подскакивают к плотине — в полном здравии она, справно свою службу держит. Они на мелководье — там косяки молоди вес набирают. Чертыхаются, меня за грудки: «Где рыба? Опять сбрехал?» И вот через такие дела в первый день войны случился со мной нехороший случай. Был я в райцентре. И как только узнал эту страшную весть, все дела бросил, кинулся в бричку и, как до деревни доскакал, не помню. Еду улицей, кричу: «Война! Люди, война!» А они сидят хоть бы хны и хохочут. Думали, я их опять разыгрываю.
Солдат прервал себя на полуслове, тихо снял на автомате предохранитель, юркнул в темноту.
— Стой! Кто идет? Пароль? — послышалось в стороне.
— Ташауз.
— Проходи.
Через минуту он снова сидел, правда, на ящике, что стоял чуть подальше от моего.
— Ну вот. А дней через пять стоял я уже в строю, на митинге. Стоим, призывы слушаем. И, откуда ни возьмись, над нашими головами самолет появляется. Глянули наверх и ахнули. Фашист! А было это в небольшом городке. Как сейчас помню, чистенький такой, уютный. Ребята все врассыпную. Я увидел рядом канализационный колодец. Был он плотно закрыт тяжелой чугунной плитой. Я ее вмиг откинул, плюхнулся туда и крышкой этой многопудовой прикрылся. Сижу, сердце в груди, что твой тракторный двигатель, бухает. Однако пришел в себя, осторожно приоткрыл крышку и вижу: посреди площади стоит один-одинешенек политрук, который только что перед нами речь говорил и с колена целится куда-то. А вокруг него брызгами пули рассыпаются. Глянул я в то направление, куда целился политрук, и опять свою крышку захлопнул. Фашистский самолет прямо на него летел. И тут мне стыдно стало. До того стыдно, что стыд мой пересилил страх. «Там, — думаю, — человек один на один с самолетом борьбу не на жизнь, а на смерть ведет, а я тут в своей вонючей яме отсиживаюсь». Откинул я эту чугунку к чертовой бабушке, ищу винтовку, а найти не могу. Самолет сделал разворот и опять на политрука пошел. А у меня винтовки нет! Аж слезы на глазах от обиды выступили. Схватил я камни, что в этой яме валялись и ну пулять в проклятую машину. Немного успокоился, выскочил из ямы, рванулся к политруку, а он лежит уже, двумя пулями пробитый. Самолет там временем улетел. Склонился я к политруку, а он что-то шепчет. Прислушался и разобрал:
— Спокойно, ребята, спокойно. Не осилят они нас.
Отважных кровей был человек. А ребята во взводе долго вспоминали этот случай. Во-первых, все приставали, чтобы я опять голыми пальцами ту чугунку отворотил. Но сколько ни пытался — не осилил, а тогда, как фанерку, отбрасывал. Во-вторых, все просили поделиться опытом, чтоб научил я их камнями самолеты сбивать. Ну, на эту глупость я вообще внимания не обращал.
Стало совсем светло. Я было поднялся, намереваясь уйти.
— Ты куда, мил человек? Так мы с тобой не договаривались. Придется тебе посидеть, подождать нашего разводящего. У тебя, браток, надо еще документы проверить. Я ведь тебя в лицо не знаю, что ты за человек.
Я удивленно глянул на солдата, с обидой проговорил:
— Что же ты мне байки рассказываешь? И потом, если бы захотел, давно от тебя улизнул. Когда ты ушел пароль спрашивать.
Солдат хлопнул себя по коленке, охнул, сморщился от боли, сам себя упрекнул:
— Новая рана, никак еще привыкнуть не могу. Ну, а улизнуть ты никак не мог. Я ведь не один здесь. Тебя мой напарник все время на мушке держит. Так что сиди, слушай мой рассказ дальше. Вот… Вскоре мы взяли в плен первых фашистов. Холеные такие, кожа белая да гладкая. А мы что? Пообветрели в беготне по лесам, пообтрепались. Расселись они, как хозяева, и пальцами показывают — кушать, мол, хотим. Харчи в ту пору у нас были. Сварили мы им в ведре кашу, из-за обмоток ложки подоставали — пожалуйста. Они глянули на ведро, брезгливо поморщились, а один взял да и пнул его ногой. Наша миленькая каша так по траве и растеклась. Мы тоже гордость показали, не стали собирать ее.
Долго наша группа бродила по лесу, под конец наткнулась на своих. Обогрели нас, накормили, дали чуток отдохнуть. Потом приходит к нам майор.
— Ну, орлы, — говорит, — направим мы вас в отличную часть. В кавалерию. Уж больно боевые вы — один вид чего стоит.
Посмотрел я на себя со стороны — не на орлов, на мокрых куриц похожи. А майор свое:
— Встретят вас там лихие ребята, рубаки что надо. Так что уж не подкачайте.
Приходим мы в кавалерийскую часть к лихим рубакам и глазам не верим. Сидят возле костров доходяги вроде нас, носы греют и удивленно на нас поглядывают. Оказывается, им о нас то же, что нам о них говорили.
— Где же ваши кони боевые? — спрашиваем.
— Какие кони? Одна кобыла на всех, да и та раненая, — отвечают.
Вскоре комбат появился. Подтянутый, высокий и худой.
— Вот что, товарищи, — говорит, подозрительно оглядывая нас. — Давайте знакомиться. Имя, отчество ни к чему, фамилию потом узнаю. Пока главное — воинская специальность.
Подходит к одному. Серегой его звали, после каждого слова «так это» говорил.
— Вы, — спрашивает комбат, — кавалерист? Артиллерист? Танкист?
— Так это, автоматчик я.
— Где же ваш автомат?
— Так это…
— Отставить лишнее. На войне каждая секунда дорога. Потеряли?
— Никак нет, — рапортует Серега, — не выдавали еще.
— В таком случае будете минометчиком. Мне минометчики надобны.
Серега глазами хлопает:
— Товарищ комбат, ведь я же этот самый миномет ночью во сне не видел.
— Отставить разговорчики, — командует комбат. — Вот он миномет и есть. Ничего мудреного. Вот ствол, вот тренога, это — плита, это уровень. Мина три килограмма восемьсот граммов. В ствол опускается мина, после того, как она вылетит, опускай другую. Если поторопишься и сразу две мины в ствол опустишь, там, наверху, от меня знакомым ребятам привет передавай. Действуйте, товарищ боец.
Ну Серега и развернулся. Первой же миной в цель угодил. Второй, правда, промазал, а третью опять куда надо кинул.
— Братец, — кричит комбат, — ты же талант, прирожденный минометчик…
Встречался я потом с Серегой. Орден носит, газету показывал, где про него напечатано. В сапоге хранит, за голенищем. Вот оно как было-то. А с куревом, с куревом-то. Один курит, трое плачут. Крошки останутся — общую цигарку закручивают и каждому по очереди, по затяжке. А сейчас? Сейчас что! Вот ты пошел ночью на передовую и среди пушек, как в лесу, заблудился. Техника! А куришь ты что? «Беломор»! Ты подумай только, до чего дожили. Нет, так воевать можно! Так чего не воевать? Вот идет разводящий, проверит тебя — и топай себе на передовую, воюй на здоровье.
В самом деле, послышались шаги. Подошел сержант, проверил документы и отпустил меня.
Совсем рассвело. Старый солдат стоял в стороне и, как мне показалось, переживал свою ошибку. Я подошел к нему, чтобы утешить, чтобы сказать, что не обижаюсь, служба есть служба. Вдруг он поднял голову и, глядя мне прямо в глаза, устало сказал:
— Нет, лейтенант, воевать никак нельзя. В мире жить надо.
НОЧЬ ПОД БЕРЛИНОМ
Конечно, в то время мы не знали, какие немцы в ту ночь на нас лезли. Чувствовали только: не простые, не обычные. Полупьяные, обнаглевшие от отчаяния, засучив рукава и держа автоматы у живота, они не жалели патронов.
— Ишь ты, как в кино, в психическую идут, — хмурились солдаты.
Зрелище было в самом деле отвратительное. Поддерживая равнение в колоннах, перешагивая через своих убитых и раненых, они шли вперед, надеясь, видимо, подавить, испугать нас. Их крушила артиллерия, мы своими пулеметами косили ряд за рядом. А они шли.
— Одурел фашист, ей-богу, одурел. Не война, а убийство какое-то, — ворчал Заря.
— Убийство, когда ты с винтовкой, а он безоружный, — заметил Джанбеков, — а тут и ты с оружьем, и он. Тут война, бой.
Ближе к полуночи на помощь немцам подошли танки. Они плотной стеной двигались по лесной дороге. Это было страшное зрелище. Страшное не только потому, что у нас в руках были всего несколько противотанковых ружей, противотанковые гранаты да отобранные у немцев же фаустпатроны и мы не могли оказать достойного сопротивления. Самое жуткое и отвратительное было то, что немецкие танки двигались прямо по своим раненым солдатам. Мы слышали их крики, проклятья и мольбы. Кровь, как говорится, стыла в жилах.
— Ребята, да что же это они делают? — крикнул Живодеров. — Такое же нигде не увидишь.
— Зверь так не поступает, — Заря сжался, его била дрожь.
Ко мне подполз связной.
— Лейтенант, приказано отойти назад. Наша артиллерия подошла. Сейчас здесь такое начнется…
Мы отошли, и тогда на немецкие танки обрушилась артиллерия. После тяжелой в бой вступила противотанковая, она расстреливала танки прямой наводкой.
Для меня это был самый тяжелый бой. Потом нам вручили отпечатанные в типографии благодарственные грамоты: Верховный Главнокомандующий объявлял благодарность за ликвидацию группировки юго-восточнее Берлина. А еще позже я узнал, что в ту ночь мы отражали атаки армии Венка, которая рвалась на помощь Берлину и на которую так надеялся Гитлер.
Насмерть уставшие, злые и опустошенные, закончили мы бой и в небольшой деревне расположились на ночлег. Хозяева дома, как всегда, суетились, старались во всем угодить. Но я начал замечать, что уж очень суетятся и угождают немцы, кроме того, о чем-то шепчутся, испуганно косятся в нашу сторону.
— Что-то происходит, лейтенант, что-то неладное, — забеспокоился Жорка.
— Поди, узнай у хозяев, — вяло ответил я и уснул.
Жорка ушел, а через несколько минут растолкал меня.
— Проснись, лейтенант. Вот какое дело. Тут во дворе, на сеновале, немец раненый. Фельдфебель, немцы говорят. Что с ним делать?
— А что с ним делать, убивать, что ли? Пошли кого-нибудь, пусть разберется.
Через несколько минут я уже спал мертвым сном и не знал, что Жорка послал Сидорова, а потом спохватился, хотел кого-нибудь другого послать, но уже было поздно. Побежал в медсанроту и только, разузнав все, успокоился.
Ивана Сидорова солдаты прозвали Сидором Сидоровым — за прижимистость и главным образом потому, что был у него громадный вещмешок, куда больше и пузатей, чем у всех остальных. Несколько раз ребята грозились «раскурочить» этот «сидор», посмотреть, что в нем есть. А было там, по-видимому, многое. Чего не хватишься — иголки с ниткой, запасного фитиля для зажигалки, листа бумаги — все оттуда извлекалось. Носил его Сидоров за плечами, в обоз не сдавал.
— Ты же, Сидоров, всех нас демаскируешь. Уткнешь нос в землю, а «сидор» твой, как бугор, торчит.
Сидоров отмалчивался. Хотя нередко приходилось ему снимать вещмешок и дыры от пуль зашивать. Кое-кто, видимо, подозревал, что не пройдет Сидоров мимо того, что лежит без присмотра. Вот потому-то, послав Сидорова узнать о раненом, забеспокоился Жорка, побежал в санроту.
Утром я с пристрастием расспросил Сидорова.
— Да ничего особенного, товарищ лейтенант, не было. Захожу в сарай, немцы боятся, молча на сеновал показали, а сами скорей во двор. Поставил я на всякий случай автомат на боевой взвод, гранату приготовил, полез по лестнице. Ну, поберегся, конечно, думаю: «Шарахнет сейчас прикладом — и делу конец». Они ведь разные бывают, сами знаете. Одни все понимают, сразу сдаются, а другие до последнего дерутся. Ну, взял палку, надел на нее пилотку, осторожно поднимаю над лазом. «Если сейчас ударит по пилотке, я его, проклятого, всего изрешечу», — так думаю про себя. Нет, ничего, нет удара. Осмелел я, высунул голову, а он рядом лежит. В ноги ранен. Руки целые. Ну, как обычно, «Гитлер капут» твердит и протягивает мне часы. Посветил я фонариком, а они как блеснут, хоть зажмуривайся. Золотые. С крышкой и на цепочке. Немец жестом показывает — мне, мол, часы отдает. А на что мне они? Если бы что по хозяйству, взял бы. А золото — что с ним делать?
— Не взял, — подтвердил Жорка, — я бегал, узнавал, часы при немце.
— Зачем они мне? — вслух размышлял Сидоров. — Если бы по хозяйству что…
Долго сидел Сидоров молча. Молчал и я, по-новому оценивая солдата.
Потом Сидоров встрепенулся, заговорил:
— Думаешь, лейтенант, я не знаю, что ребята меня осуждают за крохоборство? Я все замечаю, все знаю. Только молчу. Переживу. Только ведь в солдатском обиходе все сгодится: и гвоздь, и веревка. Они это не понимают, а как что — Сидоров то дай, Сидоров это дай… Хозяйственный я, лейтенант, бережливый. У нас вся деревня такая, потому и колхоз наш крепкий был, гремел по району.
Вздохнул, помолчал.
— А немало нынче ночью наших полегло. Жаль ребят, скоро конец войне, — сказал Сидоров, тяжело поднимаясь.
Я думал о другом.
МОЯ ЗЕМЛЯ
— Пусть смеются. От смеха пока еще никто не умирал. И худа от смеха не бывало. Ученые вон говорят, что он полезен даже. Как витамины. Посмеялся полчаса — вроде таблетки принял, — ворчал про себя Сидоров, когда в очередной раз ребята избрали предметом шуток его вещмешок.
— Я вот вам историю расскажу, может, враз и примолкнет кто из балаболок. Может, и мешок мой оставите в покое и меня самого, потому как я при нем состою и это, видно, мне самой судьбой предписано.
Было это еще до ранения, и воевал я в другой части. Однако любители почесать языки и там водились. Ну, сперва вроде все нормально было, как всегда. Погогочут — устанут, на время примолкнут. Потом опять — и опять притихнут. Я и замечать перестал. У нас в деревне много собачонок за заборами гавкало. Никто их не боялся, и никто на них внимания никакого не обращал. Понимали: они свою собачью службу несли, пропитание зарабатывали. Так и здесь. Если к тебе звание балагура прицепилось, значит, должен ты это звание отрабатывать.
Но вот стал я замечать: в один день шутки кончились и началось что-то серьезное. Примечаю — косятся на меня ребята. У одних укор в глазах, у других осуждение, а у третьих злоба самая настоящая. Что, думаю, за чертовщина? Что я такого сделал, чтобы на меня как на труса, а может быть, даже на предателя смотреть можно было, и какое у них на то право? Однако молчу, меня ни о чем не спрашивают, и я следствие не веду.
Проходит неделя. На душе тошно, они характер свой держат, и я на объяснения не набиваюсь. Однажды вечером занимаюсь своими делами: оружие почистил, патроны проверил, было уж спать стал укладываться — и вот в этот момент замечаю, что подсылают ребята ко мне лазутчика. Был у нас один солдат. Так парень ничего, но уж очень любил не в свои дела нос совать. Вот они его и подговорили. А как ко мне подступиться — не подсказали. У него же на этот счет ума мало. То он закурить попросит, то спичек, то иголку, то нитку — одним словом, мается человек. Черной тоской исходит. Терпел я, терпел и не выдержал.
— Коробкин, — говорю, — не мучь ты себя, ради бога, присядь вот, отдышись и спокойно спрашивай. На любой твой вопрос получишь ответ.
Вижу: повеселел Коробкин. Вздохнул облегченно и уселся рядом.
— Ну, — подбадриваю, — чего хотел узнать?
Помялся Коробкин и говорит:
— Скажи, Сидорыч (так меня там звали), много добра у тебя в вещмешке?
— Много, — отвечаю. — Всего и не упомню.
Покосился он на меня, поерзал на месте и ставит второй вопрос:
— Ну, а вот, если оценить. Какая же цена этому добру будет?
— Не знаю, — отвечаю. — Иным вещам вообще цены нет.
Он даже приподнялся.
— Ну, а самая ценная вещь какая будет?
Я помолчал, раскрыл вещмешок, достал оттуда кисет и показываю.
— Вот эта.
Он как уставился на кисет, так и оторваться не может.
— Что же это такое будет, что цены ему нет?
Тут я разозлился окончательно.
— Золото, — говорю. — Понял, плешивый черт? Иди теперь и докладывай.
Он боком, боком — и деру.
Лег я на спину, хотел уснуть, только чувствую: не заснуть мне сегодня. Небо надо мной синее-синее, звезды на нем, будто впрямь кто-то взял золота в пригоршню да и бросил на синий бархат. Как оно рассыпалось в беспорядке, так и застыло навечно. Стал я рассматривать их повнимательней и соображаю, так ли, в таком ли порядке звезды у нас над Сибирью повисли. Сколько ни искал разницы, не мог отыскать. «Неужто, — думаю, — над всеми людьми одни и те же звезды?» И выходило по моим подсчетам, что одни. Мы все в одном мире, на одной земле живем. А чего только на ней не понаделали! И границ всяких, и кордонов, и окопами, и укрепрайонами друг от друга отгородились. Как завистники друг на друга поглядываем, подсчитываем, чего у кого больше, и заримся на чужое добро.
А ведь чужого добра-то и нет. Нет, не должно быть такого слова — «мое». Моя гора, моя река, мой лес — как такое может быть? Разве ты делал эту гору, эту реку, этот лес? Все, чем наделила природа человека, — все должно быть наше. И надо вычеркнуть из всех книг, из всех языков и наречий это слово «мое» и везде вместо него вставить слово «наше». Вот тогда бы и войн не было и жили бы все как добрые друзья и соседи. Ведь сколько горя и неправды, самой черной несправедливости в нашей деревне было, когда земля не «наша» была, а «моя»! С кольями, топорами друг на друга ходили. В особенности кулаки — те готовы были из-за десятины родного брата убить. Потом пришла Советская власть, пустила трактора, распахала к чертовой бабушке все межи и сказала: живите, трудитесь сообща. Другая жизнь враз образовываться начала. Спокойнее и добрее стали люди. Каждый трудился как мог, по труду и хлеб получал. Кто в беду попадал — выручали сообща. Вот так бы на всей земле. У тебя чего не хватает, а у меня излишек — бери. Чего мне не хватит — у тебя возьму, если ты в силах поделиться.
Так лежу и мечтаю. Одна мысль чуднее другой в голову лезет. «А что же, — думаю, — так у человека за душой ничего и не останется? Должно остаться. Любовь к родной земле должна остаться. Ведь вот как получается».
Считай, полпланеты от своей деревни я прошагал, видел такие земли, что встанешь иной раз, разинешь рот и любуешься дивом. А вспомнишь свои поля да леса, речку припомнишь, и защемит сердце. Там твои корни пущены, та земля потом твоим полита, и нет на свете ее милей и краше. Так бы и улетел в родные места. Иной, раз об одном только и мечтаешь, чтобы там тебя похоронили, чтобы родная земля тебя на вечный покой приняла.
Достал я из вещмешка кисет, раскрыл его, вынул щепоть земли, помял пальцами и понюхал. Сладко пахнет землица, хоть и не в родной стороне взята, а все же наша, советская. Попал этот кисет ко мне в Белоруссии. Подняли как-то нас по тревоге, и целую ночь напролет топали мы под дождем по слякоти. Устали, как черти. Только и думка была: где бы приткнуться на часок, глаза сомкнуть, да ногам передышку дать. Наконец, слышим команду. Остановились. Огляделись кругом — вроде деревня была. Но сожжена вся дотла, одни трубы торчат.
Объявили привал, стал каждый на отдых пристраиваться. А где пристроишься? Однако мне повезло. Шел я на ощупь, руки раскинул, чтоб на кол не наткнуться, и уж совсем было хотел плюнуть, от ветра за печь схорониться, да в этот момент и провалился в какую-то яму. Чертыхаюсь и лезу на свет божий, а тут из-под земли слышу голос:
— Куда же ты, сынок? Лучше места не найти.
Наклонился над ямой — оттуда голос идет. «Как же, — думаю, — в эту яму попасть?» И тут заметил — на земле полоска света лежит. Понял, что это и есть вход. Втиснулся, наблюдаю такую картину. В землянке у стенки лежак, посредине что-то, на стол похожее, стоит, а в углу печурка и труба вверх уходит. Обрадовался. Хотел ребят позвать, да сообразил, что даже еще один солдат здесь никак не поместится.
Пригляделся — вижу: старуха на лежаке сидит. Ноги на землю опустила, руками о край лежака оперлась. Видно, иначе трудно ей сидеть было. Скинул я плащ-палатку, стряхнул с нее воду.
— Ты возле печки одежду пристрой, — говорит старуха.
Какой солдат от такого откажется. Повесил я плащ-палатку на задвижку трубы, повеселел от негаданного-нежданного счастья.
— Здравствуй, — говорю, — мамаша, подвигайтесь к столу, ужинать станем.
— Не могу я, потом до лежака не доберусь, да и трудно мне за столом сидеть. Мне сюда Анютка пищу подает, — отвечает старуха.
— Ну так я тебе на сегодня заместо Анютки буду, — говорю.
Развязал вещмешок, достал, что бог и старшина послали, котелок с водой на плитку бросил. Сижу, молчу, чай дожидаюсь. Чего тут говорить, и так все ясно.
— Откуда ж вы будете? — спрашивает старая.
— Это как сказать. Вообще-то я родом из Сибири, а сейчас вот откуда и куда иду, о том говорить не положено.
— Да я не о том. Я спрашиваю, много ли вам верст пришлось пройти?
— Много, — отвечаю. — Если все километры, которые солдат за войну отмерил, сложить, в тридевятом царстве в тридесятом государстве оказаться запросто можно.
— Слушай, сынок, — спрашивает женщина, — а не доводилось тебе случайно встретить солдата по фамилии Носов?
Подумал я, повспоминал — нет, не доводилось такого солдата встречать.
— Ну, да где же на таком пространстве да среди такой толчеи встретить? Это я так, на всякий случай. Не встречал, может, встретишь еще. Всяко в жизни бывает.
— Бывает, — говорю. — А где ж он у тебя?
Старуха вздохнула.
— Если бы знать. Как проводила сыночка в сороковом году, так и не видели его мои глаза. В Бресте он, в крепости, служил. На самой границе. Может, уж и нет на земле сыночка, может, сложил свою головушку.
— А может, и жив, может, воюет, сердцем рвется, а весточку прислать не может.
— Может, и так.
Тут и чай поспел. Нарезал я хлеба, сало разделил, чайку ей в кружку налил. Она велела из чугунка картошку достать, и получился у нас не солдатский, а царский стол. Поужинали, спать собрались. Устроился я на соломе в углу, а уснуть не могу. Слышу: старая тоже не спит.
— Что же вы, мамаша, так из своего блиндажа и не выходите?
— Что ты, касатик, куда уж мне? Вот Анютка прибежит, полог отдернет, так из ямы на свет божий и поглядываю. Не долго уж мне. Видно, тут и могила моя будет. У людей забот меньше: не надо рыть. Одна думка — может, сыночек навестит, если дорога его по нашим местам проходить будет.
Долго еще вздыхала она, шептала что-то.
Чуть свет подняли нас. И дала мне старая на прощание кисет расписной, что Анютка вышивала. Насыпала туда из своей ямы земли, попросила:
— Может, встретишь где могилку сыночка, высыпь на нее эту-землицу.
Вот с тех пор и ношу я эту землю, как самое дорогое сокровище. Кто знает, может, и встречу солдата с такой фамилией, а может, его могилу. Два раза латал кисет, пуля дыру пробивала. Из вещмешка по крупицам землю доставал.
…В тот раз вызывал меня ротный, про золото спрашивал. Рассказал я ему все, отстали.
Сидоров умолк, долго молчал.
— Вот это и есть моя земля, моя память. А другой быть не должно.
САШКА-ПОЭТ
Умирал Сашка-поэт. Он лежал на плащ-палатке, не кричал, не стонал. Он просто лежал, и сердце не хотело, не могло поверить, что через несколько минут случится непоправимое — его уже не станет. Хотелось крикнуть:
— Люди! Надо же что-то делать. Нельзя же так просто стоять.
Но мы стояли и смотрели на его белое лицо, на выбившийся из-под пилотки чубчик, на посиневшие губы и на страшный темный комочек крови, прилипший к самому виску.
Я смотрел и на его руки. Сильные, мужские руки. Еще час тому назад они не знали покоя. В бою они сжимали оружие, в минуты затишья он любил размахивать ими, особенно когда читал стихи. Сейчас они лежали на плащ-палатке без движения. Какой-то старый солдат сложил их на груди, и тогда я не выдержал. Мы не умели плакать. Я просто отошел в сторону и присел. И вспомнил, как комбат, встретив меня однажды, спросил:
— Стрельцов в твоей роте?
— У меня.
Комбат помолчал. Я уже испугался за Сашку, подумав, что он что-то натворил. Комбаты просто так о солдате не справляются.
— А что? — спросил я.
Комбат озадачил меня новым вопросом.
— Ты в стихах разбираешься?
— Люблю. Когда хорошие.
Он усмехнулся.
— Когда хорошие — это, брат, я тоже люблю. А вот как разобраться, когда они хорошие, когда плохие или только такими кажутся. Вот в чем вопрос.
Он достал из планшета листок бумаги, протянул мне:
— Вот эти — хорошие?
Я прочитал:
Озеро многооконное. Девушка. Книга. Берет.— Ну как?
— Пейзаж, — категорически сказал я и не очень уверенно добавил: — Лирический.
— Пожалуй. Лирический пейзаж, — оживился комбат. — Значит, у озера… постой, постой… а что это такое — «многооконное»? Почему «многооконное»? Сказал бы «голубое», «синее» или еще как попроще…
Я уже вошел в роль толкователя:
— Поэты просто не могут. Поэты говорят заковыристо.
— Что же они друг перед другом, что ли? — покрутил головой комбат. — Почему тогда у Александра Сергеевича просто:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя…Все ясно и понятно. А тут — «озеро многооконное»…
Я никак не мог понять, почему комбат затеял этот разговор и куда он клонит.
— Каждый поэт имеет свой индивидуальный творческий почерк, — выпалил я. — А в чем дело?
— А в том, что эти стихи, насчет озера, написал твой солдат по фамилии Стрельцов. Чуешь? Вот нам и надо определить: поэт он или не поэт.
— Зачем? — спросил я.
— Ты что? — вскинул голову комбат. — Каждого солдата командир должен беречь. Каждого — понял? За каждого человека командир в ответе перед его матерью, сестрами, братьями, невестой. А представляешь, какая ответственность лежит за поэта? Пройдет время, найдут его стихи, а стихи окажутся гениальными, чуешь? Где поэт? — спросят потомки. Убит поэт. И вот тогда подумают потомки — что же за командиры были у него, что не могли уберечь гения? И тогда выплывут наши имена. И будем мы с тобой, лейтенант, вроде Дантеса. Чуешь?
Я передернул плечами. Мне не хотелось стать Дантесом.
— Да и имя у него подозрительное — Александр. Чуешь?
Я не чуял. Комбат пояснил:
— Пушкин был Александром, Грибоедов — Александром.
— Блок — тоже, — уныло поддержал я.
— Ну вот видишь, так что ты прими меры, побереги его.
Стал я после этого разговора Сашку Стрельцова приберегать. Как рискованное задание, я его в сторону. Вначале он ничего не замечал, потом удивился, потом возмущаться начал, а под конец форменный скандал устроил.
— Ты что, лейтенант, не доверяешь мне? Думаешь, я ничего не вижу? Так вот, знай: происхождение у меня самое что ни на есть пролетарское, положение — рабочий, комсомолец, репрессированных среди родственников нет, за границей не был, в других партиях не состоял. В чем дело?
Ну что я мог ответить Сашке? Молчал, успокаивал, а свое гнул. Наконец не выдержал, прямо спросил:
— Стихи пишешь?
— Пишу, — не моргнув глазом, ответил он.
— Читай! — приказал я.
Долго читал он, сейчас, к сожалению, уж не помню его стихов. Но были там такие, особенно понравившиеся мне строки, услышав которые, я еще пуще испугался, не гений ли лежит у меня вторым номером за четвертым пулеметом. Вот они:
Да, мы вернемся в бой, Назад путей не зная. Как старые друзья, Обнимемся с грозой. Да здравствует же Юность боевая, Наполненная дымом и борьбой!— Ну как? — спросил Сашка. — Контрреволюции не нашел? Может, где против Советской власти что обнаружил?
— Приказ я выполняю, — сказал я Сашке. — Приказано мне тебя беречь. Понял, дурень? Может, ты гений будущий, черт тебя знает. И опять же, имя такое — Александр. Пушкин — Александр, Грибоедов и Блок тоже Александрами были, и ты…
— Перестраховщики вы с комбатом, вот вы кто, — взъярился Сашка. — Жаловаться я буду!
— Ну-ну, ты потише, так и наряд вне очереди можно схлопотать, — предупредил я.
— А я на все согласный. Ничего вы со своим комбатом со мной не сможете сделать. Дадите наряд или на губу посадите? У нас тут на фронте у всех наряд вне очереди, а губы нет. В штрафной пошлете — так я только горячего дела и жду. И потом, гонителями поэта будете. Стихи на вас напишу.
Подумал я, подумал, и выходило так, что, в самом деле, ничего я с Сашкой не могу сделать. Махнул рукой — куда судьба вывезет. Сашка часто читал свои стихи. Прочтет, а потом пристает: «Ну как, какие замечания?» Хвалили мы его, хотя не все нравилось. Но и критиковали. Прочел он как-то такие строки:
Тишина, как туча, нависла Над могучею вольной рекой. Только там, где широкая Висла, Громыхает без устали бой.Вначале стихи всем понравились. Потом кто-то хлопнул себя по лбу:
— Стоп, ребята. Это что же получается?
— А что? — встревожился Сашка.
— А то, что у тебя две Вислы. Одна тут: рядом с нами, и над ней, как туча, нависла тишина. Так?
— Так, — озадаченно подтвердил Сашка.
— Так да не так. А что за Висла у тебя там, вдали, где бой громыхает?
— Фу, черт, в самом деле, неувязка какая-то, — согласился Сашка и тут же забормотал себе под нос.
Куда ни пошлешь Сашку, отовсюду стихи в роту тащит. Поставишь часовым. Уж тут, кажется, какие могут быть стихи: стой, гляди по сторонам. Нет, на следующий день Сашка машет руками:
Стоят часовыми сосны, И мы, часовые, стоим…И вот он лежит недвижен и смотрит, не видя, в синее небо, и волосы упали на лоб, а рука не может поправить живой еще чуб.
Час назад мы продвигались в город. Бежали, согнувшись, с трудом таща за собой пулеметы. Чертыхались и матерились, обливаясь потом, стараясь как можно быстрее проскочить трижды проклятую ложбинку, пристрелянную немецкими пулеметчиками. Падали ребята. Одни — споткнувшись о кочку или сучок, другие — убитые наповал и потому молчаливые. Раненые, упав, кричали от боли и ужаса. Это ведь только в кино, кроме команд, в бою не слышно человеческого голоса. В жизни не так: люди кричали, звали и бога, и мать, клялись и просили, грозили и молили, и вот эти крики и стоны были не менее страшны, чем канонада и смерть.
Огонь все усиливался. Наконец, настала минута, когда чувствуешь, что продвигаться дальше нельзя. Мы залегли, чтобы отдышаться и оглядеться. Били два пулемета. Они зажали нас с флангов. С одним мы, пожалуй, бы справились. Справились, несмотря на то что немцы окопались в полный рост, что у них давно пристреляна каждая кочка. Пожалуй, уничтожить не смогли бы, но заставить замолчать на время, пока наша пехота не проскочит ложбинку, было возможно. Второй пулемет был страшнее. Он бил очередями, часто меняя позиции, и никто не мог представить, с какого места в следующую минуту рубанет по бойцам смертоносная огненная струя.
Хорошо бы вызвать огонь минометов. Но нельзя было сдерживать темп наступления, того порыва, который так трудно вызвать еще раз.
Я заметил, как кто-то справа от меня броском метнулся в сторону, и сразу понял мысль бойца. Он решил вступить в единоборство с пулеметом. Немцы заметили бойца. Вначале они не обращали на него особого внимания. Полоснут очередью и снова переносят огонь на нас. Но вот забеспокоились, видно решали, куда стрелять: в нас, в бойца?
А тот упорно все полз и полз вперед. Его автомат стал уже всерьез беспокоить фашистов. Чего доброго, так он скоро и гранату метнуть сможет. Тогда они решили расправиться со смельчаком. Вот уже и второй пулемет, захлебываясь, бьет по солдату.
Но времени, на которое он отвлек врага, оказалось достаточно, чтобы наши бойцы рывком преодолели ложбину.
И вот я стою и смотрю на Сашку, на Сашку-поэта. Он спел свою последнюю песню, бессмертную песню солдата.
БЕЗ ОБЕДА
Бои в Берлине затихали. Лишь кое-где звучали еще отдельные выстрелы или автоматные очереди, рвалась мина или фаустпатрон. Комбат наказывал:
— Ребята, по одному не ходить. Город большой, незнакомый. Держись кучками.
Заблудиться в Берлине в то время было немудрено: кругом развалины, завалы, улицы загромождены искореженной техникой. Ни табличек, ни указателей. Спросите сейчас, в каком районе, Западном или Восточном Берлине, мы были, — не отвечу.
Для меня до сих пор остается загадкой, как на фронте, в самых сложных условиях, нас находили полевые кухни. Видно, у поваров на этот счет свой, особый нюх есть. Бывало, заберемся ночью в лес какой-нибудь или в немецких траншеях сидим и стоит по своим делам отбежать на полсотни шагов, потом битый час своих ищешь. А повара всегда дорогу к нашим желудкам отыскивали. Только примутся солдаты по привычке ругаться, они тут как тут. Бренчат поварешками, кричат весело:
— А ну, орлы, на заправку. Эх, и супец нынче — пальчики оближешь.
Зазывают, будто торгуют: не похвалишь — не продашь. И еще одна закономерность: чем больше повар свой суп хвалит, тем неудачнее он получился.
Вот и на этот раз отыскала нас в Берлине кухня, встала на видном месте, повара, знать, по случаю первого обеда в столице, белые передники понадевали, зазывать принялись.
Мы дружно потянулись к дымку. Проголодались, так как в Берлине трудно было что съестное отыскать. Вначале мы думали, что жители все от нас попрятали, потом только узнали причину. Дело в том, что жители Берлина еду по карточкам получали. Вначале она приличная была, потом все меньше, меньше, а последние две недели гитлеровцы совсем о людях забыли. Не до этого им было: о своей шкуре думали. И остался огромный город без снабжения.
Ну, а мы запасов не делали, одним днем жили. Знали: подвезут, накормят. Иногда, правда, в немецких офицерских блиндажах кое-что реквизировали. Хватало, одним словом. В ту пору голодными не бывали.
А вот в Берлине после боя, на ночь, без обеда и без ужина устраиваться пришлось… Дело так оборачивалось. Потянулись солдаты к кухне, присматриваются, принюхиваются, каждый прикидывает, чем его в фашистском логове накормят. По всем статьям праздничный обед полагается. Не каждый же день столицы брать приходилось. И чувствуем: чем-то вкусным пахнет. Опять же повара без воодушевления скликают, значит, по всем признакам выходит: супец удался. Я, конечно, в сторонке стою. Офицер все-таки. В общей очереди неудобно толкаться. Жорка в котелок наберет — мы с ним из одного похлебаем.
Стою, посматриваю по сторонам и замечаю: из-за камней, из подвалов робко выглядывают ребятишки. С кастрюлями, чашками, кое-кто с бидонами даже. И хочется им к кухне подойти и боязно.
Солдаты тоже увидели ребят. В нерешительности на месте затоптались. Гляжу, Заря не выдержал, поманил пальцем одного мальчишку, к себе зовет. Тот испуганно на своих оглядывается, решает, идти или не идти. Но правду говорят: голод не тетка. Решился, подошел. Заря его впереди себя в очередь поставил, руку на плечо положил. За Зарей Джанбеков другого мальчонку подозвал, тоже в очередь определил. Ну, а потом ребята осмелели, сами подходить стали. Солдаты и их пристроили. И увеличилась очередь вдвое. Ну, а за ребятишками старики, старухи потянулись. Посовещались о чем-то между собой, тоже очередь организовали. В сторонке. Дают понять, что очень-то не рассчитывают. Мол, если останется сколько, их счастье. На большее не претендуют.
Только вижу я: повара наши заволновались. В первые минуты степенно вели себя, даже посмеивались, а как такая картина образовалась, их трясучка взяла. За головы хватаются, передним в очереди объясняют, что у них супа на всех не хватит.
Дело серьезное. Подошел я к кухне. Повара офицера увидели, бросились ко мне.
— Что делать? — спрашивают. — Мы на немцев не рассчитывали, у нас только для своих. И без добавок.
И я не знаю, как поступить. Свои солдаты голодные. Война в Берлине не кончается, нам надо дальше на Запад двигаться. А что за солдат, если он голодный. Стою, думаю. Поднял голову, встретился взглядом с глазами ребятишек и такую в них мольбу прочитал, что дрогнуло мое сердце, чем-то теплым его захлестнуло. Хотел уж скомандовать, чтобы отдали этот суп проклятущий голодным мальчишкам, а сами как-нибудь ночь перебьемся. Благо, не в первый раз, привычно. Но тут увидел комбата и обрадовался: он старший, ему и решать. Подошел и говорю:
— Вот какая карусель получается. Что же нам делать-то? Незваные гости, но дети же… хоть и немецкие…
Сдвинулись брови у комбата.
— Они прежде всего человеческие дети и за фашистов не в ответе. Тут никакого вопроса нет. Вот с солдатами как быть?
Мне хорошая мысль пришла.
— Товарищ комбат, — говорю, — солдатский обед, им и решать. Как скажут; тому и быть.
— Дело, — одобрил комбат. — Пусть солдаты решают.
Подошел он к кухне, забрался на подножку и с этой трибуны стал речь держать.
— Такое дело, солдаты. Нас вместе с немецкими ребятишками много, а вместе со стариками и старухами, старыми людьми то есть, еще больше. И судя по всему, они несколько дней не жрали, не ели, то есть. Я извиняюсь за такие выражения, отвык по-хорошему говорить. Война кончится, научимся. Суть вам ясна. Вопрос: как быть?
Над развалинами тихо стало. Задумались солдаты. Я понимал их: только что на праздничный суп нацелились, уже и запах учуяли, а тут такое.
— Полкотелка немцам, полкотелка нам, — робко предложил кто-то.
Комбат вопросительно на поваров поглядел. Те качают головами — все равно не хватит, мол.
— Все равно не хватит, — сказал комбат.
Опять тихо стало.
— Не знаю, как другие, — сказал Заря, а я свой паек ребятишкам отдаю.
Сказал и отошел в сторону.
— И я, — сказал Джанбеков. И тоже в сторону.
За ними другие потянулись. Немецкие ребятишки с удивлением головами крутят, ничего не понимают. Старики и старухи зашептались между собой. Дети к кухне не подходят. Не поняли, в чем дело, стоят, озираются. Солдаты им знаки дают — идите, мол, за супом, мы отказываемся. Тут повара закричали.
— Сами отказываетесь, по доброй воле, — предупреждают. — Потом не говорите, что мы вас в Берлине-логове голодными оставили. Учтите.
— Давай, давай, — откликаются ребята. — Не ваша забота. Знай — разливай…
Заработали черпаки, зазвенели котелки, чашки, бидоны, а мы восвояси отправились.
Наш взвод «сидор» Сидорова немного поддержал, а как другие из положения вышли — не знаю. Может, и у них свои Сидоровы были.
В КАРУСЕЛИ
Уже в самом конце войны километрах в двух от Эльбы такая карусель закрутилась, что нам, средним командирам, ничего понять невозможно было. Говорили, что мы кого-то окружили, но нас, в свою очередь, тоже окружил кто-то, а потом всех — и нас и немцев — окружили два наших фронта.
А вокруг радовалась весна. Воздух был настоян на сосне, трава, как шелк, стелилась под ногами, даже неудобно было ступать на нее солдатскими сапожищами.
Вначале немцев мы и не заметили: они окопались на опушке леса. Но раздались выстрелы. Наши минометчики быстро установили свои «самовары» и сразу же накрыли противника. Фашисты в то время совсем не те были, что в первые годы войны. Мы думали, что они сейчас же поднимут руки и начнут сдаваться в плен. Или побегут. К нашему удивлению, не произошло ни того, ни другого.
Немцы двинулись на… нас. Что за чертовщина? На всякий случай дал команду развернуть пулеметы. Я тогда уже командовал ротой, а в ней почти все новички были. Как катили «максимы», подняв стволы, так и развернули их и ну палить. С верхушек деревьев ветки посыпались. «Что, — думаю, — происходит?» Пулеметы палят, немцы бегут, не падают, а тут еще сосновые иголки все лицо обсыпали. Глянул наверх, потом на пулеметы и все понял. Хотел сам лечь за пулемет, но глянул на немцев, а они сбились в кучу и кричат что-то. Скомандовал — прекратить стрельбу. Стали прислушиваться мы, чего немцы орут.
— Может, они своих на помощь зовут? — высказал предположение кто-то.
Вмешался Заря.
— Да что вы глухие, что ли? Ревут же немцы, плачут то есть.
Прислушались — в самом деле плач. Осторожно подошли. Глядим, стоят перед нами ребятишки лет по двенадцати-тринадцати, размазывают кулаками слезы и ревут во весь голос. Перевязали мы раненых; успокоили, как могли; показали, куда идти в плен, и двинулись дальше.
— Хлипкий у них фольксштурм, товарищ лейтенант, — засмеялся кто-то.
Заря долго шагал молча. Потом уж, как бы про себя, заметил:
— Хорошо, что мы с тобой, лейтенант, сами за пулеметы не легли.
И опять надолго умолк.
«ЧЕЧЕТКА»
В один из последних дней войны вышли мы к широкой асфальтированной дороге. Залегли. Окапываться не стали. В то время только и разговоров было: «Капитуляцию подписать должны», «Гитлера в плен взяли», «Конец войне».
Лежим мы и ждем, когда нам официально о победе объявят, о полном разгроме фашизма. Сумерки спустились.
Только разложили мы свою снедь, вдруг слышу: вроде бы где-то в стороне автомобильный мотор постукивает. Все ближе, ближе. Подхватился я — и к дороге. Гляжу — метрах в ста пятидесяти по асфальту шпарит немецкая легковушка, а в ней что-то значительное поблескивает. «Мать честная, — мелькнула мысль, — вот повезло в самом конце. Не иначе генерал немецкий драпает, возьму его в плен — меньше ордена не дадут».
Бегу к дороге, расстегнул кобуру, выхватил пистолет и, как только машина поравнялась со мной, выпустил по скатам всю обойму.
Машина завиляла и остановилась. Перезарядил ТТ, пригляделся и обмер. В машине-то наш генерал сидит. Командир дивизии. Автомат на меня направил и молчит. «Убил, — думаю, — дурацкая башка. Своего командира дивизии убил».
Вышел генерал из машины и громко, как бы у леса, спрашивает:
— Кто стрелял?
Я от волнения слова выговорить не могу.
— Кто стрелял? — еще громче спрашивает генерал.
Делать нечего, выхожу.
— Я, — говорю, — товарищ генерал, стрелял.
Помолчал генерал, потом протягивает руку.
— Дай пистолет.
«Все, — думаю, — пристрелит на месте. Имеет полное право». Протянул пистолет. Он прицелился в какую-то кочку и точно все пули вогнал в нее. И вернул пистолет.
— Какое училище закончил? — спрашивает.
— Минометно-пулеметное.
— Плохо вас там стрелять учили.
Понял я, что самое страшное позади, и осмелел немножко.
— Никак нет, — говорю, — хорошо учили. Только больше из пулемета.
— Ну и что, умеешь? — уже улыбается генерал.
— «Чечетку» смогу.
Надо сказать, что в войну особым шиком считалось умение выбить пулеметом «чечетку».
— А ну, покажи.
Подкатили пулемет, «чечетка» у меня вышла отменная.
Повернулся командир дивизии, сел в машину и тут приказал:
— Трое суток домашнего ареста за плохую стрельбу из пистолета.
— Есть трое суток домашнего ареста, — отвечаю.
Укатил генерал. Пошел я к командиру батальона, рассказал все.
— Куда же я тебя посажу? — развел руками капитан. — Ладно, после войны отсидишь.
Прошла весна, лето и осень. От самой Эльбы до Орши прошагали мы пешком, возвращаясь домой. Устали страшно. Вспомнил тут я о наказании генерала, пришел к комбату, потребовал: «Сади».
— Отдохнуть захотел, — рассмеялся комбат. — Ну, ладно, сиди.
Отдохнул я три дня отменно. По разрешению комбата все это время тренировался из пистолета стрелять.
Демобилизовались старички, уехал к себе в Сибирь Заря, пришло к нам новое пополнение. Стали мы его обучать. Однажды подняли по тревоге, сделали мы марш-бросок километров на тридцать, провели беседы среди населения, а ночевать ушли в лес. Надо было новичков закалять. Разбросали снег, нашли сушняк — огромные две сосны. Положили их метрах в трех друг от друга, запалили. Спят солдаты — хорошо им, тепло. Только двух дежурных назначили переворачивать спящих с боку на бок да следить, чтобы от искр шинели не загорелись.
Перед самым подъемом будят меня. Протер глаза — передо мной генерал, командир дивизии. Вскочил, доложил честь честью. Пригляделся ко мне генерал, потом спрашивает:
— Скажи, лейтенант, это не ты по мне в конце войны стрелял?
— Я, — отвечаю, — товарищ генерал.
— Помнится, ты тогда трое суток отхватил.
— Отсидел, товарищ генерал.
— А стрелять из пистолета научился?
— Так точно, — отвечаю. — Научился.
— Ну служи, крестный.
Повернулся и уже уходить собрался, но остановился:
— Слушай, лейтенант, — говорит, — а ведь я тоже тогда не прав был. Ехал-то я на трофейной машине, а вот обозначения никакого не сделал. Ты уж извини меня.
Я покраснел.
— Извиняю, — говорю, — товарищ генерал.
И еще раз довелось мне встретиться с этим генералом. Было это после войны.
Уехали, демобилизовавшись, старички. Обнялись последний раз, паровоз рявкнул, требуя дорогу, дернул, и укатили они в свои села и города. Начались всевозможные переформирования, переводы из части в часть, и, наконец, очутился я в отдельном учебном батальоне, который готовил младший командный состав.
Придирчиво приглядывались мы, прошедшие войну офицеры и старшины, к пополнению. И хотя знали: к нам отбирают лучших из лучших призывников, все равно каждый невольно прикидывал, кто и как из них повел бы себя в бою. А новички приглядывались к нам, ловили каждое слово фронтовиков. Разница в возрасте у нас не превышала двух-трех лет, но между нами лежала огненная полоса войны, и это чувствовали все.
Мы учили и учились сами. Однажды в комнате, где проходили занятия по материальной части пулемета, без стука открылась дверь. Думая, что это кто-то из курсантов, я, не оглядываясь, спросил:
— Почему опоздали?
— Да нет, не опоздали, как раз вовремя, — послышался ответ.
Я обернулся и обомлел. В дверях стоял генерал, бывший командир нашей дивизии. Я доложил о занятиях. Генерал разрешил продолжать их, а сам молча стал наблюдать.
Ну, какие там занятия! Голос мой от волнения дрожал, курсанты сбивались. Генерал хмурился. «Плохо дело, — мелькнула у меня мысль. — Всыплют по первое число!»
— Ну вот что, товарищ лейтенант, — сказал генерал. — Вижу: занятия у вас не клеятся. Да и по себе знаю, какая при начальстве учеба.
Я молчал. Подавленно молчали и курсанты.
— Давайте-ка, ребята, с вами посоревнуемся. Старая, так сказать, гвардия с молодой. Был я когда-то молод, как вы, в гражданскую тоже за пулеметом лежал, на лихой тачанке раскатывал. Пусть нам завяжут глаза и дадут по пулеметному замку. Посмотрим, кто скорее соберет его с завязанными глазами. Идет?
— Идет, — неуверенно и совсем не по уставу протянули мы.
«Что же делать? — подумал я. — Опережать генерала вроде неудобно, а уступить — лицом в грязь ударить». И, словно угадав мою мысль, генерал-полковник предупредил:
— Только по-честному, без чинов и званий. Соревноваться как пулеметчики. Ну, кто первый?
Все молчали. Генерал обвел всех взглядом, усмехнулся:
— Дрейфите? Видно, нет у вас таких занятий, а мы прежде увлекались. Бывало, как свободная минута выпадет, сразу за это дело. На селедку, на сахар спорили.
«А-а, была не была», — подумал я и выступил вперед.
— Разрешите мне.
— Давай, лейтенант, давай, — оживился генерал, скидывая шинель.
Принесли повязки, завязали нам глаза, дали по разобранному замку.
— Начали! — И засекли время.
Собрал я замок, сорвал повязку, гляжу, а генерал еще возится. Только через минуту закончил, снял повязку, увидел, что у меня уже готово, и огорченно крякнул:
— Селедка за мной.
Взялся уж было за шинель, но раздумал, опять вернулся к столу. Вижу: глаза блестят, задело за живое старого вояку, пулеметчика гражданской войны.
— Давай, выставляй курсанта. Я для тебя слабак, — приказывает.
Вызвал я курсанта, и опять генерал попал впросак, опять пообещал селедку. Совсем разозлился, сам вызвал еще одного курсанта, верно подумал, что я самого лучшего на соревнование выставил. И опять последним повязку снял. Поднял руки, смеется:
— Сдаюсь, ребята. Вы нынче грамотные пошли, с техникой большую дружбу ведете.
Потом серьезно добавил:
— Скоро к вам такая техника пойдет, что нам и не снилась. Вам ее осваивать, вам с ней дружить. Во всем вы, ребята, нас должны превзойти. Во всем. Все правильно. Диалектика жизни!
Вечером сели мы ужинать, и вот приносят нам, как холодную закуску, селедку. Другие взводы тоже стали просить, но им отказали.
— Только им. Подарок от генерала, — говорят.
…Много лет спустя довелось мне побывать в военном училище. Пошел я по коридору. Заглянул в одну аудиторию. Вижу, стоят два курсанта перед черной доской и что-то быстро-быстро пишут на ней мелом. Цифры, цифры какие-то, знаки непонятные, формулы.
— Понимаете, — объясняют мне, — вроде соревнования это: кто быстрей сделает расчеты.
Стою, смотрю на цифры, и вспоминается мне та далекая «схватка» с генералом…
Повернулся я, тихо закрыл за собой дверь. Да, диалектика жизни!
ЗДРАВСТВУЙ, СССР!
Мы возвращались с войны. В те дни дороги были забиты до отказа. Народы Европы, силой оружия согнанные на военные заводы, в концентрационные лагеря, шли пешком, ехали на велосипедах, на попутных автомашинах, поездах. Домой! Домой!
Мы шли пешком. Шли весело, скоро, каждый день высчитывая, сколько осталось до Родины. Тоска по Родине — великое, особое чувство. Она подгоняла нас, наполняла силами уставшие тела, заставляла торопиться. Мы считали десятки километров, потом километры, сотни метров. И вот перед нами массивный пограничный столб.
Мы стояли на границе, с трудом сдерживая себя. Стояли и молчали, вглядываясь в короткое слово — «СССР». Вперед вышел полковник.
— Солдаты! — охрипшим голосом сказал он. — Перед нами наша Родина — великий Союз Советских Социалистических Республик.
Помолчал. Потом гордо и властно подал команду:
— На колени перед Родиной!
Полк встал на колени. На коленях перед Родиной стояли солдаты, отстоявшие ее, прошедшие с боями пол-Европы, разгромившие фашизм, принесшие освобождение народам. На коленях перед Родиной стояли победители.
Потом мы перешли границу. Нам казалось, что все вокруг стало другим, что здесь ярче солнце, зеленее трава, листва, голубее небо, звонче голоса птиц.
Мы шли, и каждый из нас мысленно произносил:
— Здравствуй, Родина! Здравствуй, СССР!
Примечания
1
Так в шутку звали солдаты наши самолеты У-2.
(обратно)2
Так солдаты называли немецкий разведывательный самолет.
(обратно)3
Так солдаты называли американские мясные консервы.
(обратно)4
Шерше ля фам (фр.) — ищите женщину.
(обратно)5
Нейтралка, нейтральная полоса — территория, пролегающая между боевыми порядками противников.
(обратно)

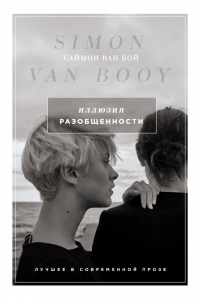
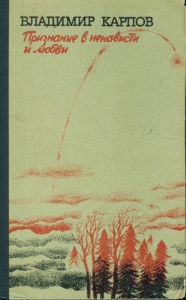
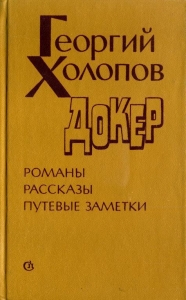



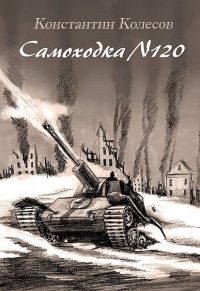



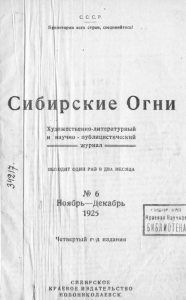
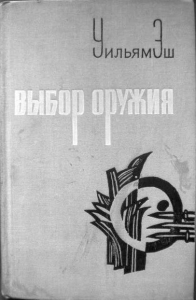
Комментарии к книге «Жили мы на войне», Владимир Николаевич Малахов
Всего 0 комментариев