I. Подруги
Два года назад, еще в первом классе, Ксюша Ермакова и Наташа Ласточкина пришли в детскую библиотеку записываться в читатели. Библиотекарь дала им две красивые книжки с яркими рисунками. На одной книжке был нарисован мальчик с лохматой рыжей дворняжкой, а на другой — белый петух.
— Нам не надо разное, — сказала Ксюша, — нам надо одинаковое.
Библиотекарь удивилась.
— Зачем вам одинаковое? Прочитаете каждая свою книжку, потом поменяетесь.
— Нет, — сказала Ксюша, — мы вместе хотим.
Библиотекарь заулыбалась и даже вышла из-за стола.
— Дружба на всю жизнь?
— На всю, — сказала Ксюша.
Тут библиотекарь перестала улыбаться и вздохнула.
— Чтобы дружить всю жизнь, надо очень уважать друг друга.
— А мы уважаем, правда, Наташа?
Наташа кивнула, покраснела и спряталась за Ксюшину спину. Тогда библиотекарь взяла обе книжки, поставила на полку, а взамен дала девочкам одну толстую: «Сказки братьев Гримм».
— Читайте вместе. Вслух. Так даже интереснее.
Читать вместе было и в самом деле интереснее. И смеяться веселее. Даже грустить и то веселее. А придумывать, что будет дальше, когда сказка в книжке кончалась, всего лучше. Можно было что хочешь придумать. Самые необыкновенные чудеса.
Однажды Ксюша придумала, как добрая фея подарила Золушке свою волшебную палочку. Отправились Золушка с Принцем в разведку и всех фашистов и полицаев превратили в крыс. А потом Принц заиграл на волшебной флейте и утопил всех крыс в море. И не осталось с той поры на земле ни одного фашиста.
Наташа даже в ладоши захлопала, так понравилась ей Ксюшина придумка. Она сказала, что это лучше, чем в настоящей сказке. В настоящей сказке только Золушка и Принц стали счастливыми, а в Ксюшиной придумке все люди.
Ксюшина мама, Лидия Сергеевна, тоже слушала, слушала, как девочки придумывают, а потом сказала, что если бы со злом было так легко справиться, как это бывает в сказках, то на земле давно был бы коммунизм. «Ничего себе — легко, — возразила Ксюша, — пойди попробуй достань волшебную палочку, правда, Наташа?» Наташа закивала головой. Она всегда соглашалась с Ксюшей, потому что Ксюша смелая, быстрая, языкатая, а Наташа робкая — только со своими и разговаривает, а с чужими все больше молчит и слушает. Так у них и шло: выговорит Наташа десять слов за день, и то восемь из них — в школе, а все остальные слова Ксюша за двоих выговаривает, и уж будьте спокойны, ни себя, ни подружку никому в обиду не дает.
Многие посторонние люди думали, что они сестры, хотя Ксюша рыжая, нос в крапинку и глаза зеленые, как у кошки, а Наташа беленькая. У Ксюши волосы разлохмаченной копной, и не успеет надеть форму, как она мятой делается, а у Наташи две мягкие косички с голубыми бантами, и вся она такая чистенькая, складная, как первоклассница на обложке букваря.
И вдруг… Наташа поссорилась с Ксюшей. Вначале Ксюша даже не поняла, что Наташа с ней поссорилась. А когда поняла, то очень удивилась и обиделась на всю жизнь.
И главное, из-за такой ерунды, переживала Ксюша, просто что-то невозможное случилось с Наташей. Молчала, молчала и вдруг… разговорилась.
А ссора получилась вот из-за чего.
II. Старая дорога
Последним в этот день должен был быть урок рисования. Но вместо художника Семена Семеновича в класс пришла Софья Петровна.
Софья Петровна совсем недавно кончила учительский институт. Девочки страшно гордились, что у них самая молодая и красивая учительница в школе. А мальчишки уважали ее за то, что она никогда не жаловалась директору и здорово играла в футбол. Правда, в футбол Софья Петровна перестала играть после родительского собрания. Отец Маши Митрохиной сказал тогда, что учительница не должна бегать по полю с мальчишками, что этим она роняет авторитет преподавателя.
Глупо, конечно. Это все понимали. Если бы Софья Петровна играла плохо, тогда уронила бы этот авторитет, а она стояла в воротах намертво, как настоящий Яшин, и третий «Б» всем классом не смог забить им ни одного гола.
— Ребята, — сказала Софья Петровна, — должна огорчить вас: четвертого урока не будет.
Класс взвыл от радости. Софья Петровна засмеялась.
— Ах вы, лодыри этакие! Петя, сядь на место. А теперь я вас действительно обрадую. Мы совершим с вами сегодня путешествие в бумажное царство! Кто из вас знает, где оно находится?
Шум поднялся невообразимый. Петя Григорьев даже влез на парту, чтобы его слышнее было.
— В библиотеке!
— На почте!
— Макулатуру пойдем собирать!
Ксюша сложила ладони рупором и перекричала всех:
— А я знаю! Знаю! Мы на Эл-пе-ка пойдем!
Маша Митрохина тут же вскочила:
— Я тоже догадалась! Я еще первее Ермаковой догадалась!
Софья Петровна постучала указкой по столу.
— Успокойтесь, ребята. Ксюша угадала правильно. Мы сейчас поедем в Эжву на наш лесопромышленный комплекс. Вы уже слышали, наверно, наш Эл-пе-ка — одно из самых крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в Европе. Но одно дело — слышать, а другое — увидеть собственными глазами, например, изготовление картона, бумаги для тетрадок, учебников и ваших любимых книжек. И вообще, ребята, мне хочется, чтобы прежде всего вы увидели красивую, самоотверженную работу людей и поняли, как велика наша страна, если такой огромный комплекс день и ночь делает бумагу, а ее все равно нужно еще больше.
Ксюша повернулась к Наташе и сказала как будто между прочим, но так, чтобы услышала Митрохина:
— Никто не догадался, а я сразу догадалась!
И показала Митрохиной язык. Митрохина побледнела и отвернулась. Она всегда бледнела от злости, если учительница хвалила другого или ставила ему оценку лучше, чем ей.
— Автобус подойдет с минуты на минуту, — сказала Софья Петровна, — одевайтесь и подождите меня возле автобуса.
Ребята вскочили и ринулись к выходу, сталкиваясь в дверях.
Ксюша с Наташей первыми влетели в раздевалку, сдернули с вешалок шубы и шапки и выскочили на крыльцо, одеваясь на ходу.
Ах, как здорово было на улице! День выдался просто удивительный! Солнце, такое редкое в Сыктывкаре зимой, светило сегодня вовсю. Каждая снежинка в сугробах на газонах школьного сквера, на заиндевелых ветках деревьев, на крышах домов сияла, как маленькое солнце. От этого сияния все вокруг: заснеженный город, зеленоватое холодное небо — словно заволокло розовой дымкой.
На дороге против школы уже стоял синий автобус с двумя красными флажками. Рослый шофер ходил возле автобуса и стукал валенками по колесам. На шофере были надеты ватные брюки и серый пуховый платок, завязанный на спине узлом.
— Дяденька, — крикнула Ксюша, подбегая, — это вы за нами приехали?
Шофер обернулся, опустил темные узкие глаза на Ксюшу и насмешливо улыбнулся накрашенным ртом. Ксюша смутилась.
— Я. Застегнись — простудишься. Где же ваша учительница?
В это время из школы торопливо вышла Софья Петровна. Она на ходу заправляла короткие светлые волосы под красную вязаную шапочку с помпоном.
— Ребята, побыстрее…
Ксюша устроилась на переднем сиденье рядом с учительницей. Напротив нее у окна села Наташа. Окна в автобусе замерзли, и подруги сразу же принялись дышать на стекла и тереть их варежками.
Когда автобус тронулся, Софья Петровна сказала:
— Так вот, мои дорогие, представьте себе, что наш автобус не простая машина, а «машина времени». И мы с вами совершим сейчас путешествие в прошлое нашего края, а из этого прошлого — в настоящее.
Ребята перестали протирать окна и с удивлением уставились на учительницу. Даже Галя Серегина, про которую говорили, что она способна уснуть возле доски, отвечая урок, и та заинтересовалась.
Автобус неторопливо прокатил мимо деревянных двухэтажных домов и свернул на старую дорогу, которая шла через старинное село Тентюково.
— Вот таким деревянным и грустным был наш город еще совсем недавно, — сказала Софья Петровна, — даже тротуары и мостовые были деревянными. Когда моя мама приехала в город учиться, то в самом центре лошадь застряла в грязи и сломала ногу, представляете? Многим из вас уже по десять лет. Знаете, кто вы? Вы ровесники нашей сыктывкарской железной дороге!
— А разве ее раньше не было? — удивилась Ксюша.
— А самолеты были? — спросил Петя Григорьев.
Софья Петровна подняла руку.
— Успокойся, Петя, самолеты были. Ребята, посмотрите в окна внимательно. Вот по этому самому тракту через Тентюково десять лет назад дни и ночи шли сотни машин. Они везли из Айкино и Княжпогоста в Сыктывкар продукты, топливо, товары, строительные материалы. Это наша дорога жизни. Она связывала Сыктывкар с внешним миром, со всей страной.
Софья Петровна стала рассказывать, как давным-давно поселились на реке Сысоле охотники и звероловы коми, как вырос на месте первого поселения город Усть-Сысольск, который после революции стал Сыктывкаром.
Ксюша слушала вполуха, прильнув к холодному стеклу. От ее дыхания протаина туманилась, и приходилось все время протирать ее варежкой. После слов учительницы высокие хмурые дома Тентюкова увиделись ей совсем по-другому…
Утонули в голубых снегах дома, как забытые на посту часовые. Давно уже не режут темную ночь огненные фары машин. Не забегают в дома лихие шоферы погреться, не заходят переночевать веселые геологи, не забредают по пути в лес суровые лесорубы и охотники… Едут грузы и люди по железной дороге, летят искры из-под колес. Не страшны железной дороге пурга и метели, железным колесам не страшна дорожная распутица.
И загрустили дома. Нахлобучили мохнатые снежные шапки и задумались. Тоскливо им, наверное, из-за тишины на тракте. И если бы не расчищенные дорожки и не синие струйки дыма над крышами, можно было подумать, что люди совсем ушли отсюда…
— Ксюша… Ермакова! — Софья Петровна взяла Ксюшу за плечи, повернула к себе. — Ты не слышала? Я тебе уже третий раз говорю: не прижимайся к стеклу — лоб застудишь.
Автобус вырулил на прямую автостраду, прибавил скорость, и через несколько минут впереди показался белый город. Ребята оживились. Конечно, многие бывали в Эжве и раньше. И не раз. У некоторых даже родственники работали на комбинате. Но вот так, как придумала Софья Петровна, еще никто не ездил. И теперь все прильнули к протаинам, глядя во все глаза на приближающийся город. Он был высок и красив, с каменными домами, украшенными орнаментами из красного кирпича. Точно и вправду «машина времени» вывезла их из прошлого в настоящее.
— А в будущее тоже так можно? — тихо спросила Наташа.
— В будущее? — переспросила Софья Петровна и внимательно посмотрела на Наташу. — Так, чтобы раз, два — и там? Нет, девочка, к счастью, так не бывает. Через месяц вас будут принимать в пионеры — это и будет вашим первым шагом в будущее. Сознательным шагом. Ты понимаешь меня?
Наташа кивнула.
Ксюша с удивлением посмотрела сначала на подругу, потом на учительницу. Обе сидели молча, задумчиво глядя в окно. Интересно, что Наташа должна понять? Жаль, что Ксюша не слышала начало разговора, а впрочем, Наташа потом все расскажет. Главное-то Ксюша услышала: через месяц — в пионеры. Когда Софья Петровна сказала им об этом в первый раз, казалось, что впереди еще очень много времени, а оказывается, уже скоро. Вот как оно быстро идет, это время. Даже не поймешь, где кончается сегодня и начинается завтра.
III. Корабли с белыми якорями
Ребята высыпали из автобуса и остановились, запрокинув головы. За высоким забором уходила в небо громадная труба, точно свернутая дудкой шахматная доска в черно-белую великанскую клетку. Она соединяла перекладиной небо и землю… Если запрокинуть голову и долго-долго смотреть на вершину трубы — почудится, что она не стоит на месте, а движется, оставляя за собой клубящийся серо-желтый хвост.
Рядом с этой громадиной все: дома, люди, корпуса комбината, сверкающие огнями квадратные башни с галереями и переходами казались маленькими и непрочными. Даже не верилось, что эту трубу сложили люди из маленьких кирпичиков…
— Здорово! — сказал восхищенно Петя Григорьев и вздохнул. — Наверно, мильон штук кирпичей ухнули, правда? Во, дымит, как настоящий крейсер!
— Софья Петровна, а почему она гудит?
— Помолчите, ребята. Помолчите и прислушайтесь: вы услышите, что труба не просто гудит, а поет песню Труда. Это самая лучшая песня на свете.
— Я знаю, здесь делают тучи, — сказала Ксюша.
— Нет, девочка. Здесь делают тепло и свет.
К ним подбежала высокая девушка в белом полушубке и серой пушистой шапке с длинными ушами. Она запыхалась, раскраснелась, русые кудряшки прилипли ко лбу.
— Софья Петровна, вы давно приехали? У меня только смена кончилась. Как глянула на часы — ну, думаю, замерзли мои туристы.
— У меня одна нога замерзла, — сказала Митрохина.
Ксюша сердито толкнула ее в спину.
— Ничего, Маша, — сказала Софья Петровна, — сейчас согреемся. Познакомьтесь, ребята, это Настя Паршукова. Она три года назад закончила нашу школу и теперь работает на комбинате.
Настя пошла вперед, к проходной. Ребята гурьбой двинулись за нею. Суровый дядька, похожий на старого пограничника, встретил их возле двери.
— Здравствуй, Паршукова. Это что за детский сад?
— Это не детский сад, а гости комитета комсомола, — строго сказала Настя. — Я еще утром сдала вам заявку с разрешением.
Дядька пошуршал бумажками, наколотыми на железный стержень возле телефона, и сказал:
— Можете идти. Да смотрите, чтоб без баловства.
— За моих ребят можете не волноваться, — сказала Софья Петровна.
«Еще бы, — подумала Ксюша, — что же мы, совсем глупые?»
За проходной во все стороны раскинулся необыкновенный город. И не было ему конца-края. В центре города высились два дома, перепоясанные стеклянными галереями. А через весь двор перед домами тянулись длинные ящики на столбах, словно поднятые над землей крытые дороги. В центре двора высились цистерны, точно гигантские трехэтажные кастрюли с крышками.
— Жаль, что зима сейчас и Вычегда стоит, — сказала Настя, — а то бы я показала вам цех водной выгрузки. Знаете, я прямо часами могу стоять и смотреть, до чего красиво. Река до половины покрыта громадными бревнами, вам двоим не обхватить одно, а краны легко, пачками, будто спички, вынимают бревна из воды и переносят на берег…
— А откуда бревна? — спросил Григорьев.
Настя улыбнулась и надвинула Пете шапку на нос.
— Из лесу, вестимо. Не один леспромхоз на нас работает.
Ксюша оглянулась. Еще недавно эти бревна были живыми деревьями… Где вы росли, сосны? Может, в тимшерских лесах у дедушки Савелия? Может, именно на этих соснах дед ставил зарубки? Прошлым летом Ксюша ходила с дедом размечать делянки для леспромхозовских бригад и видела, как валят сосны.
Дед поднял ее в тот день рано, едва дятел сыграл побудку. Каждое утро с восходом солнца этот нахальный дятел прилетал к домику лесника и требовательно стучал клювом в окно: «Человек, а ну-ка подай мне хлебные крошки!» Дед ворчал:
— Совсем изленилась птица…
Прогретый легкий воздух звенел от птичьего разноголосья. Малинник цеплялся колючками за платье, рвал чулки. Ксюша отводила руками упругие ветки, надеясь найти хоть одну ягодку. Но малинник пустовал, ему не хватало солнца. В зарослях смородины на берегу Тимшеры закричала кукушка.
— Человека чует, — сказал дед и срезал ножиком белый гриб. Дед брал грибы аккуратно, только шляпки. Они не прошли и ста метров, а корзина уже полным-полна. И белые, и маслята… Ксюше казалось, что грибы сами вылезали деду навстречу. А от нее прятались. Только мухоморы да никому не нужные поганки лезли на глаза. Может, оттого, что Ксюша больше смотрела по сторонам? Вон из-под елочки выпорхнул рябчик… Мелькнул пушистый хвост белки. Она перепрыгнула с ветки на ветку и побежала по стволу к вершине кедра. А там, в голубой выси, где сходились вершинами сосны, парил соколом чеглок, высматривая добычу.
— Ах ты, матушка-красавица парма, — бормотал дед, — нету меры щедрости твоей…
Ксюша вначале пугалась, когда дед начинал бормотать, а потом привыкла.
— Ты про что, деда?
— Да все про тайгу, — сказал дед, — у нашего леса, как у беса, всего вдосталь. Веками черпали людишки богатство лесное, не вычерпали. Ежели хватит ума и сердца, еще не один век прокормимся.
Ксюша то и дело била мошкару, проникавшую под накомарник, а дед бормотал и ставил метки на деревьях, пока не зафыркал на просеке автобус.
Здоровенные мужики вошли в лес. Ксюша смотрела на них с любопытством. Как сказочные лесные богатыри — в касках и накомарниках. Они по-хозяйски топали ногами и дымили папиросами.
— Здорово, Савелий Андреич! — закричали лесорубы.
— Здорово, здорово, — отвечал дед, — с огнем-то не балуйте.
Заросший медной щетиной лесоруб, в телогрейке, перетянутой солдатским ремнем, включил бензопилу и прислонил цепь к стволу сосны. Брызнули серебристой струйкой опилки… Сосна вздрогнула, медленно-медленно стала клониться верхушкой…
— Идем, Ксения, — сказал дед, — не детское это дело — смотреть, как лес рубят.
— А зачем ты разрешаешь им рубить? И еще сам метки ставишь?
— Круговорот природы, — сказал дед, — лес — он, как все живое, ухода требует. Не будем вырубать время от времени — погибнет. Сам себя задушит. И птица в таком лесу не запоет, и зверь обежит стороной.
Ребята столпились возле лифта в главном корпусе. В тесной кабине все сразу не поместились и поднимались в три очереди. Не успели двери лифта разойтись, как на ребят со всех сторон нахлынул ровный гул. Этим гулом было проникнуто все: люди, машины, воздух… А высоко-высоко, где должно было уже начинаться небо, виднелся потолок. Оттуда можно было прыгать на парашюте. И посреди этого простора стояли две машины с железными лесенками и переходами, как два гигантских корабля с рокочущими двигателями.
Гудят корабли, сотрясают пол, напрягают моторы, и кажется, что вот-вот оторвутся они от металлических переплетений, соединяющих их с потолком и полом, от бесчисленных труб и… уплывут. А возле этих машин суетятся люди. Они кажутся маленькими, как котята рядом с автобусом.
— Ничего себе машинищи! — крикнул Григорьев.
— Это картоноделательная и бумагоделательная машины, — напрягая голос, чтобы пересилить гул, сказала Настя. — На этих машинах я и работаю. Видали, какие громадины? Это только верхняя часть. Все подсобное хозяйство, которое помогает делать бумагу, на первом этаже.
Петя Григорьев удивленно присвистнул. А Ксюша обрадовалась. Ее сосны там, на Тимшере, такие красивые, такие гордые, и было бы просто обидно, если бы бумагу делали из них на обыкновенных машинах. Дед называл сосны корабельными. И эти машины тоже корабли…
Бегут две широченные белые ленты, наматываются в рулон величиной с железнодорожную цистерну… Точно двумя белыми якорями держат эти рулоны корабли, и только поэтому они остаются в цеху.
— Ты бы хотела поработать на такой машине? — шепотом спросила Наташа, касаясь губами Ксюшиного уха. Ксюша кивнула. А кто бы не хотел?
IV. Беда
— Устали, экскурсанты? — спросила Настя. — Наш комбинат за один раз не обойдешь. В следующий раз другие цеха покажу.
Она провела ребят по коридору, открыла высокую дверь, и ребята очутились в длинной светлой комнате. Здесь было много цветов на окнах, на полу в круглых деревянных кадках. На стенах висели плакаты, цветные картинки, портреты. Половина комнаты была заставлена стульями, прибитыми по четыре штуки к деревянным рейкам.
— Это Красный уголок, — сказала Софья Петровна, — снимите пальто и остыньте, прежде чем идти на улицу. Я скоро приду.
Учительница и Настя вышли. Ребята побросали пальто и шапки на стулья. В комнате было жарко от круглых ребристых батарей.
Петька Григорьев заглянул в окно и закричал:
— Ух ты!
Все бросились к окнам. Там, внизу, была самая настоящая железнодорожная станция. Дымили паровозы. Мигал семафор. Краны и лебедки грузили в вагоны рулоны бумаги. Те самые…
— А куда их повезут? — спросила Ксюша.
— На фабрику. Книги печатать, — ответил Григорьев.
— А вот и нет, — возразила Митрохина, — писатели дома пишут.
Спор разгорелся нешуточный. Одни утверждали, что писатели сначала пишут дома на обыкновенной бумаге, а потом отдают на фабрику и там перепечатывают на книжной бумаге. А другие, особенно Григорьев, заявляли, что писатели сидят прямо на фабрике и печатают книжки сразу на машинах, а потом художники разрисовывают каждую книгу несмывающимися красками.
Наташа не любила спорить. Она отошла и принялась рассматривать картинки на стенах, потом остановилась возле тумбочки под пальмой. На тумбочке лежала большая книга в красном переплете. Наташа открыла ее и стала смотреть фотографии.
Ксюша оглянулась, увидела, что Наташа смотрит какую-то книгу, и поспешила к ней.
— Что это?
— А тут Настя, — сказала Наташа.
— Настя? Где? Покажи скорее.
Наташа начала поспешно переворачивать листы с фотографиями. Настин портрет был в самом начале. Ксюша даже подпрыгивала от нетерпения. Она просто не умела ждать, если ей чего-нибудь очень хотелось.
— Ну, что ты так долго? Дай, я сама скорее найду!
Ксюша в нетерпении дернула альбом к себе, и лист с фотографией Насти, который Наташа наконец нашла, разорвался пополам вместе с Настиным портретом.
Наташа испуганно вскрикнула. Ксюша оглянулась. Ребята, увлеченные спором, ничего не заметили.
— Все из-за тебя, — сердитым шепотом сказала Ксюша, — надо было сразу, а то «счас, счас»… Что теперь делать?
— Я не знаю, — Наташа всхлипнула.
— Может, у Насти есть еще такое фото? Ну, чего ты… перестань реветь. Склеим лист, и все. Подумаешь, беда. Да моя мама им десять таких альбомов накупит.
— Это и не альбом совсем…
Наташа закрыла альбом, и Ксюша увидела, что на красной бархатной обложке золотыми буквами написано: «Книга Почета». Ксюша так и обмерла. Разве Книгу Почета где-нибудь купишь? И почему она такая невезучая? Ни с кем в классе ничего не случается, а с нею — обязательно. А теперь все… За такую книгу могут и в пионеры не принять. Что же делать?
В это время пришла Софья Петровна. Она была веселая и все время улыбалась.
— Заждались? Меня в комитете комсомола задержали. Ну, понравилось вам бумажное царство? Правда, интересно? На комбинате много наших выпускников работает. А Настина фотография есть даже в Книге Почета. Сейчас я вам покажу ее.
Ксюша даже дышать перестала. Вот оно, начинается… Сейчас Софья Петровна откроет книгу и все увидит. Ксюша искоса взглянула на подругу. Наташа стояла, опустив голову, и держалась обеими руками за косичку. «Ей-то что, — чуть не плача, подумала Ксюша, — а мне хоть пропади…» И тут в голову ей пришла спасительная мысль: никто же не видел, как она порвала фотографию. Только Наташа знает. А может, Софья Петровна подумает, что так и было? Мог же кто-то другой еще раньше порвать?
Софья Петровна открыла книгу и сразу увидела порванный лист. Она удивленно подняла брови, потом нахмурилась и взглянула на ребят.
— Кто смотрел фотографии?
Все молчали.
Ксюша затаив дыхание ждала: скажет Наташа или нет?
V. Ссора
Вообще-то Наташа молчать умела.
Осенью в класс пришел новенький, Федор Гнедых. Квадратный, как шкаф. Один кулак его был величиной с два Ксюшиных. С первого же дня Федор стал доказывать свою силу: ходил раскачиваясь, руки в карманах и толкал всех плечами. Даже Петя Григорьев и тот притих. Даже Митрохина не ухмылялась, когда Гнедых получал очередную двойку. Попробуй посмейся, если Федора уважали за силу даже пятиклассники. А уж пятиклассники, как известно, самый отчаянный народ.
Ксюша спросила отца:
— Па, если человек сильный, а дурак, что с таким делают?
— Это кто же у вас такой?
— Федор Гнедых. Просто слова сказать нельзя, сразу дерется. Вчера меня так толкнул, что я упала и коленку ободрала. Он всех затолкал.
— Плохи ваши дела, — сказал отец, — тут и жаловаться бессмысленно.
— Почему? Скажем Софье Петровне, и все.
— Видишь ли, Заяц, Софья Петровна, конечно, его накажет. Но он-то все равно будет считать себя самым сильным. Ты же сама говоришь, что он дурак. Жаль, конечно, что класс у вас такой недружный.
— И неправда. У нас очень хороший класс.
Отец недоверчиво покачал головой.
— В дружных классах дураки не распоясываются.
В этот вечер по телевизору показывали соревнования по самбо. Отец, конечно, уселся болеть и усадил рядом с собою Ксюшу. Мамы дома не было, а отец не умел болеть один.
В центре экрана на ковре стояли два борца. Один широкоплечий, мощный, с бычьей шеей и маленьким лбом под косой челкой. А другой, стройный, тонконогий, с веселым хохолком на макушке.
— Па, ты за кого болеть будешь? — спросила Ксюша. — Я вот за того, раз он слабее.
— Это еще ничего не значит, — сказал отец, — тут главное тренировка, воля и еще вот это, — он постучал себя по лбу.
Ксюша даже не поняла, как это произошло, но победил тот, с хохолком. Отец развеселился.
— Видала? Что я тебе говорил?! Тренированный, волевой человек любую силу обуздает.
На ковре сражалась уже другая пара. Отец вскрикивал, хлопал себя по коленям, толкал Ксюшу.
— Ах, какой молодец! Нет, ты только посмотри, как работает, как работает, негодяй!
Но Ксюша не видела борцов. Перед ее глазами на экране телевизора боролись двое: она и Федор Гнедых. Вот Федор толкает ее плечом, глупо ухмыляется. Ксюша бросается вперед, захватывает его руку и — раз, раз! — небрежно бросает Федора на пол! Трах-бах! Федор на полу, красный, испуганный. Тут же перед всем классом он дает обещание никогда больше не гоняться за девочками по улице, не толкать их в лужи… А Ксюша стоит гордая, невозмутимая, и даже не смотрит на униженных мальчишек. Здорово! И не так уж это трудно. Нужно только заняться самбо. Вот тогда… тогда посмотрим!
На следующий день Ксюша взяла в библиотеке книгу «Борьба самбо». Наташа, конечно, удивилась и обрадовалась. Она сразу поверила, что Ксюша одолеет Федора, если захочет. Но сама изучать самбо отказалась наотрез. От одних подписей под картинками — «Переворачивание поворотом противника» или «Переворачивание опрокидыванием» — Наташа бледнела и закрывала глаза.
Книга была написана непонятно, но два приема — «бросок с захватом руки на плечо» и «бросок рывком за пятку изнутри» — Ксюше понять удалось. Она решила, что для борьбы с Федором вполне достаточно и первых двух приемов. Тренировалась она на Наташе, когда родителей не было дома.
— Ну, Гнедых, теперь держись! — заявила Ксюша в классе. — Скоро увидишь, не обрадуешься.
На четвертой тренировке Ксюша так дернула Наташу за руку, что Наташа потом две недели ходила с перевязанной рукой. Родители и Софья Петровна все спрашивали, где она растянула руку, но Наташа никому не сказала. Упала, и все.
Тренировки пришлось прекратить, а за это время родители Федора получили новую квартиру в Эжве, и Федор перешел в другую школу. Ксюша очень жалела, что не успела проучить драчуна. И хотя с той поры прошло уже целых четыре месяца, Наташа так никому и не проговорилась.
И даже тогда, под Новый год, когда Ксюша на зимних каникулах решила закалить волю и полезла купаться в ледяную прорубь на Сысоле, а потом провалялась с воспалением легких все каникулы и еще десять дней после каникул, Наташа тоже никому не сказала, отчего Ксюша простудилась.
Молчать она умела. Но сейчас-то совсем другое дело… Это посерьезнее, чем растянутая рука или ледяная прорубь.
Наташе, конечно, легче. Ей нечего бояться, раз у нее одни пятерки. А у Ксюши две двойки по арифметике; теперь хоть две пятерки подряд, все равно в четверти выше трешки не будет. И дневник весь в замечаниях… Нет, Наташа не скажет. Не может она сказать, раз у них дружба на всю жизнь.
— Кто же все-таки смотрел книгу? — продолжала допытываться Софья Петровна.
Все молчали. Ксюша тоже.
— Да-а, — грустно сказала Софья Петровна, — а я-то думала, что в моем классе учатся самые честные и смелые ребята… Неважные из вас получатся пионеры. Ведь это «Книга Почета», ею так дорожат, так гордятся. А мы пришли в гости и… стыдно!
Тут Наташа подняла голову и с отчаянием взглянула на учительницу.
— Я смотрела…
По комнате словно пронесся ветер. Все зашевелились, зашептались. А Петька Григорьев громко сказал: «Во дает, тихоня!»
Софья Петровна даже не удивилась. Нахмурилась слегка, будто сердилась, что Наташа долго не признавалась.
— И случайно порвала?
Наташа отрицательно замотала головой. На порванный лист капнула слезинка.
— А может, оно и было порвано? — предложил Григорьев.
— И правда, Софья Петровна, — подхватили ребята, — может, кто еще до нас порвал? Ласточкина, перестань плакать, никто на тебя и не думает.
Софья Петровна молча смотрела на ребят, точно собралась наконец разглядеть каждого в отдельности. Ксюша с ужасом почувствовала, что глаза учительницы дольше всех задержались на ней. А может, это только показалось? Наташа же не выдала…
— Ну, что ж… все может быть, — наконец сказала Софья Петровна. — Я верю, что вы всегда говорите мне правду, какая бы беда ни случилась. Потому что любую беду можно исправить, кроме… кроме трусости. Кто бы это ни сделал, мы увидели первыми и должны все исправить. А уж потом придумаем, как помочь беде по-настоящему. Петя, напротив дверь бухгалтерии, попроси клей.
Пока ребята были на экскурсии, на улице задул ветер и поднялась метель. Небо и земля слились в снежной круговерти. Мокрые хлопья залепляли глаза, забивались в рот. Ребята подняли воротники и побежали к проходной.
Ксюша догнала Наташу у выхода из цеха и взяла под руку.
— Молодец, я знала, что ты не выдашь.
Не отвечая, Наташа вырвала руку и быстро пошла вперед, оскальзываясь с заледенелой дорожки в снег. Решительность, с которой Наташа вырвала руку, была так не похожа на обычное Наташино уважительное отношение к подруге, что в первую секунду Ксюша решила: обозналась, приняла за Наташу кого-то другого. Она помчалась вперед, налетела на Митрохину, та упала в сугроб и закричала: «Ты чего, Ермакова, совсем уже?!» Но Ксюша неслась вперед, догоняя подругу. Она нагнала Наташу у выхода.
— Ты что, обиделась? На тебя же никто не подумал!
— Не в этом дело, — не поворачивая головы, сказала Наташа.
«Здрасьте! А в чем же тогда дело? Да что это приключилось сегодня с Наташей. Просто с ума сойти можно». Ксюша забежала вперед и остановилась, не давая Наташе пройти.
— Тогда сказала бы, что я порвала. Сама же промолчала…
Наташа подняла голову и в упор посмотрела на Ксюшу:
— А я не ябеда… Если ты струсила…
— Ты что, обалдела?! — возмутилась Ксюша. — При чем здесь струсила? Просто у меня и так замечаний много и двойки еще…
— Все равно, — сказала Наташа, — пусти, я пройду.
Ксюша ступила с дорожки в снег. Она все еще ничего не могла понять. Ведь они же подруги. Настоящие…
— Вот ты, оказывается, какая, — с горечью сказала Ксюша, — а я-то думала… Ладно, не думай, не заплачу. Я и сама могу Софочке сказать все. Пусть даже меня в пионеры после этого не примут. Этого ты добиваешься, да?
Наташа оглянулась, хотела что-то сказать и не сказала. Только провела варежкой по лицу, стряхивая снег.
Автобус ждал ребят возле ТЭЦ, на том же месте. Снег навалил сугроб на крышу, намел белые холмы возле колес. Шофер открыла переднюю дверь, и ребята ворвались в тепло вместе с ветром и снегом.
Ксюша вошла последней и села на свое место возле окна.
— Ты почему одна, а где Наташа? — спросила Софья Петровна.
Она сняла шапочку, отряхнула снег и расстегнула шубу. В автобусе было тепло, а на переднем сиденье просто жарко. Ксюша встала, чтобы снять шубу, и взглянула в конец автобуса. Там, позади всех, виднелась синяя шапочка Наташи. Она сидела одна и смотрела в замерзшее окно.
Ксюша затосковала: «И что за человек эта Наташка оказалась? Надулась из-за ерунды и даже разговаривать не хочет. Теперь сама одна сидит, и Ксюша из-за нее должна одна сидеть…
Называется — все вместе.
Ну и пусть, пусть сидит одна, если сама не знает, что хочет…» И громко, так чтобы Наташа слышала, позвала:
— Маша Митрохина, иди сюда, здесь место есть.
Митрохина, конечно, обрадовалась, втиснулась рядом с Ксюшей и затрещала:
— Ермакова, Ермакова…
— Ну что ты трещишь? — грустно спросила Ксюша. — Неужели помолчать трудно?
VI. И кто это выдумал — думать?
Отец уезжал в командировки часто, но, куда бы он ни заехал, звонил домой каждый вечер и рассказывал, как идут дела, где был и что хорошего видел. И каждый вечер мама доставала вязание, садилась возле телефона и вязала, пока отец не позвонит.
Отец вполне серьезно считал, что его командировки имеют важное хозяйственное значение для семьи. За прошлую командировку мама связала себе носки, за позапрошлую — пушистую шапочку Ксюше, а сейчас вязала отцу кофту. Командировка получилась неожиданно длинной, и маме осталось довязать рукав.
Ксюша любила эти тихие вечерние часы. Мама выключала верхний свет, зажигала торшер с круглым красным абажуром возле низкого кресла и столика с телефоном, и комната погружалась в дремотную красноватую полутьму. Вещи, такие привычные, неинтересные днем, в полутьме оживали и принимались жить собственной, отделенной от людей кругом света, таинственной жизнью. Даже настенные часы в деревянном футляре сразу же принимались тикать громче, будто хотели напомнить, что прошел еще один день. Ксюше представлялось, что часы не просто тикают, а откусывают кусочки времени: щелк-щелк, секунда за секундой, а вслед за медным глазом маятника все вперед и вперед движется комната, дом, Сыктывкар, тайга и вся, вся Земля — круглая, голубовато-зеленая, с синими-синими морями и океанами. А вокруг земли вертится черный Космос, усеянный золотыми звездами, как в Планетарии. И тишина. Только щелк-щелк…
Под это щелканье легко думалось обо всем на свете. Чаще всего Ксюша думала о том, что с нею было вчера и сегодня. Думать о том, что будет завтра, Ксюша пока не научилась.
А совсем еще недавно Ксюша вообще не умела думать. И очень удивилась, когда узнала, что думать тоже надо уметь и не так-то просто этому научиться.
Осенью отец привез из Иркутска подарок — большой круглый пакет. Когда отец развязал его, у Ксюши перехватило дыхание: в комнате будто расцвел сказочный цветок с синими, красными и желтыми лепестками. Это был мяч, легкий как пух. Ксюше казалось, что стоит ударить его одним пальцем — и он взовьется под самые облака. Она прижала мяч к груди, выбежала на улицу и позвала Лену с первого этажа играть. Сначала они играли осторожно, боялись уронить мяч в лужу, но потом Ксюша разгорячилась, ударила мяч изо всех сил, он взвился свечой, и Лена не смогла поймать его. Мяч упал, закатился за угол дома, оттуда на дорогу и… попал под грузовик.
Ксюша вначале не поняла, что случилось. Потом ее охватила ярость. Она закричала и ударила Лену… Лена заплакала, да так громко, что выбежали обе матери. И вот тогда Ксюша впервые увидела, каким неподвижным, просто каменным может стать лицо ее мамы.
— Как ты могла?! — заикаясь от возмущения, сказала мама, когда они пришли домой. — Ударить человека из-за какой-то разноцветной надутой тряпки?! Стыдно!
Но Ксюше не было стыдно. Перед глазами у нее все еще летал, сверкая на солнце красными и желтыми боками, красавец мяч. Ксюша вытирала грязными руками нос и плакала от злости на Лену.
— Был бы ее мячик, так поймала бы.
— Ну, знаешь, — сказала мама.
Она отвернулась, прикрыла глаза рукой. Словно хотела отгородиться от Ксюши, словно ей было противно даже смотреть на собственную дочку.
«И все из-за этой растяпы Ленки, — горестно всхлипывая, думала Ксюша. — Лучше бы Наташу позвала играть. И мяч был бы целый. Наташа еще не такие свечки берет. А теперь мячика нет и скоро мультфильмы по телевизору…»
— Мам, честное слово… последний раз в жизни. Вот увидишь.
— Ты хорошо подумала, прежде чем обещать?
Ксюша взглянула на часы. Осталось пять минут…
— Хорошо. Можно я включу телевизор?
Но мама будто и не слышала про телевизор, хотя сама всегда смотрит мультфильмы с удовольствием.
— Расскажи мне, как ты думала?
Ксюша с нетерпением переступала с ноги на ногу, с этой комнатной антенной еще телевизор два часа настраивать…
— Я… Я не знаю как. Обыкновенно. А как все люди думают?
— По-разному. Многим только кажется, что они думают. А умеют думать далеко не все.
«Ну, все, — подумала Ксюша, — прощайте мультфильмы! И мячика нет. Ну, Леночка… еще попомнишь!»
— А ты умеешь?
Ксюша давно заметила, что мама никогда не говорит о себе: «Я добрая» или «Я не умею врать» — и всегда краснеет и теряется, когда при ней так говорят о себе другие. Однажды папа сказал, кому-то по телефону: «Я, как порядочный человек…» Мама ужасно расстроилась, покраснела.
— Как ты можешь, Андрей? Это… это все равно, что сказать о себе: «У меня красивые глаза». Твои товарищи и так знают, что ты порядочный человек. Зачем же тыкать им в глаза своей персоной?
Отец смутился заметно, даже руки вздрагивали, пока прикуривал, но тут же оправился и подмигнул Ксюше.
— Слыхал, Заяц? А еще говорят, что наша мама тихоня.
— Да-a, тихоня… а сама на меня вчера ка-ак закричит, когда я кошку крутила в зонтике.
Отец захохотал:
— Значит, мы с тобой две пострадавшие стороны? Давай объединяться!
— Давай, а что будем делать?
— Исправляться. Вдвоем исправляться веселей, правда? Га-ар-низон семейства Ермаковых, на первый, второй рас-считайсь! Ра-авнение на ма-му, смирна-а!
— Ну, знаешь, — сказала мама, и глаза у нее сделались зелеными и прозрачными, как вода в аквариуме.
Вот и теперь, прежде чем ответить на Ксюшин вопрос, мама встала, походила по комнате, потом снова села в кресло и сказала честно:
— Не знаю, детеныш. Иногда мне кажется, что умею. Очень хочу уметь. Думать человек учится всю жизнь.
— Ну уж, нетушки, — сказала Ксюша, — всю жизнь надоест.
Мама улыбнулась.
— Что ты! Это самое интересное и увлекательное занятие на свете!
— А папа умеет?
— Конечно.
Хорошенькое дело! Ксюша делай уроки, Ксюша вынеси ведро, Ксюша сбегай за хлебом, подмети пол, полей цветы, а самое интересное, самое увлекательное занятие на свете приберегли для себя. А отец еще все время говорит, что в семье все — плохое и хорошее — должно делиться пополам.
— Я тоже хочу научиться.
— Так держать, Заяц! Ермаковы не сдаются! — крикнул за стенкой отец.
Оказывается, он все время сидел себе тихонько в Ксюшиной комнате. Такое было правило в семье: если мама за что-нибудь выговаривала Ксюше, папа не вмешивался, а если отец — мама даже специально уходила на кухню, чтобы не мешать. И правильно. Плохо, когда двое на одного. Отец вообще считает, что хвалить человека надо при всех, а ругать только с глазу на глаз.
Мама притянула Ксюшу к себе, положила подбородок ей на плечо и удивленно спросила:
— Андрей, разве ты дома?
— Меня нет. Я на совещании в управлении, — сказал отец и просунул бороду в приоткрытую дверь. — Ксения Андреевна, береги маму, не истязай ее глупыми вопросами.
— Хорошо, папочка, — скромно сказала Ксюша, — я поберегу их для тебя.
Отец изумленно дернул себя за бороду, хмыкнул что-то невразумительное и скоренько умчался на свое совещание.
— По-моему, ты напугала отца, он даже не нашел, что ответить, — сказала мама, улыбаясь.
— Ничего, по дороге домой придумает. Он же Ермаков.
Мама отстранила Ксюшу, но не отпустила, а продолжала держать обеими руками за плечи.
— А ты растешь, детеныш, — удивленно сказала она.
— Ага. Папа говорит, что скоро тебя перерасту.
— Упрямая порой бываешь невыносимо, — не слушая Ксюшу, задумчиво продолжала мама, — и хвастунишкой…
— А разве плохо? Ермаковы все такие, и ты тоже.
— Нет. Я Сердитова. Мои предки из Ношуля, слыхала? Еще дед мой и прадед на Ношульской пристани грузчиками были, переваливали купеческие товары с подвод на баржи. А Ермаковы из Усть-Сысольска.
— И все равно ты теперь наша. Раз папа Ермаков и я Ермакова, значит, и ты тоже. Мама, а когда ты будешь меня учить думать? Сейчас?
— Можно и сейчас. И не надейся, что это так просто — раз, два — и готово. Для начала ты будешь каждый день тренировать мозг.
— А как это?
— А вот так: когда ляжешь спать, закрой глаза и представь, что ты смотришь кино про себя: как встала, как пошла в школу, что делала в школе… и так далее. Вспомни каждое слово, каждый поступок. И если в каком-то месте тебе вдруг станет стыдно за себя, значит, ты поступила плохо.
— Я тебе сразу скажу, — пообещала Ксюша.
— Если захочешь. Но самое важное, постарайся не повторять слово или поступок, за который тебе стало стыдно. Поняла?
Еще бы. Что же тут не понять. Вначале у Ксюши получалось неинтересно. Картинки были отрывочными, перескакивали, путались. Но со временем Ксюша научилась вспоминать плавно, одно за другим. Все, что случилось с нею днем, вечером словно оживало в мозгу, только быстрее, и виделось совсем по-другому. Будто вместо нее жила, бегала, ссорилась и мирилась совсем другая девочка, а сама Ксюша смотрела на нее со стороны, как в настоящем кино. Даже интереснее.
* * *
Светлый круг под торшером словно отделил маму вместе с креслом от полутьмы, в которой осталась Ксюша. И Ксюше показалось вдруг, что маме из ее светлого круга видны Ксюшины дела, что она просматривает их вместе с Ксюшей, разделяя на плохие и хорошие.
От этой мысли Ксюше стало зябко. Она натянула на ноги плед. Какая ерунда лезет в голову! Разве можно видеть чужие мысли? А если и можно, то Ксюше стыдиться нечего. Наташа сама виновата. Никто ее не просил молчать. Разревелась непонятно из-за чего. Интересно, почему Софья Петровна смотрела на Ксюшу дольше, чем на всех? А когда Ксюша села в автобусе одна, а Наташа совсем отдельно, даже не удивилась. Только спросила, и все. А вдруг она догадалась? Может, завтра подойти и самой все рассказать, чтобы Наташенька успокоилась?
Ксюша даже головой помотала, чтобы отогнать невеселые мысли. И зачем мама научила ее думать? Ничего в этом хорошего нет. Читала бы сейчас книжку или с мамой разговаривала, а то голова просто пухнет от всяких мыслей… Все-таки думать нелегко. Легче не думать.
Ксюша повернулась на спину и решила: «Вот возьму и не буду больше думать…» Есть же люди, которые никогда не думают. И на душе у них, наверное, всегда хорошо. И кто это только выдумал — думать? Может, рассказать маме про Наташу? И так она уже несколько раз спрашивала, почему это Наташи нет… Нет, пусть сначала папа позвонит, потом…
VII. Звонок из Ленинграда
И тут в тишину ворвался звонок. Мама вздрогнула, клубок скатился на ковер, и белый кот Славик прыгнул на него из-под стола.
— Алло! Алло! Андрей, это ты? Что?! — Мама побледнела и переложила трубку к другому уху. — Да, да… Здравствуй… Я не волнуюсь. Когда? Вчера?.. Я приеду. Нет… Хорошо.
Ксюша ждала, что папа, как всегда, в конце разговора скажет: «Дай-ка Зайца на два слова» — и она услышит далекий папин голос: «Как жизнь, Зайчишка?» — «Нормально», — ответит Ксюша. «Мне без тебя плохо», — скажет папа. «И мне без тебя плохо. Приезжай скорей», — скажет Ксюша. И обоим станет хорошо от этих слов.
Но мама положила трубку и стала смотреть перед собой темными неподвижными глазами.
— Что случилось? — удивленно спросила Ксюша.
Мама молчала, словно мир вокруг нее перестал существовать. И тут Ксюша испугалась.
— Мама! — крикнула она. — Мама, что случилось?
Мама провела рукой по лбу и через силу улыбнулась.
— Ничего… ничего, детеныш. Завтра мы летим в Ленинград.
Испуг прошел сразу. В Ленинград! Папа обещал когда-нибудь потом, а тут вдруг сразу завтра!
— Ой, мама! Правда полетим? В Ленинград? Нет, ты скажи, скажи, правда?
Ксюше хотелось еще и еще раз услышать, что завтра, не «когда-нибудь потом», а именно завтра они полетят в Ленинград. Она подбежала к матери и принялась тормошить ее, забрасывать вопросами. Прыгала по комнате, гоняясь за нахальным Славиком. Кот не хотел отдавать клубок, за которым долго охотился, и закатил его под диван. Потом достала из-за шкафа пыльный чемодан и принялась обтирать его влажной тряпкой, чтобы тут же сложить вещи в дорогу.
А мама сидела в кресле, в стороне от суматохи, которую подняла Ксюша. Руки матери, обычно такие ловкие, лежали беспомощно на коленях, ладонями вверх. И Ксюша вдруг почувствовала, что мамы сейчас просто не было в комнате.
— Мама, да что с тобой? Ты боишься лететь? Тогда поедем на поезде. Другие же ездят.
— Что? Нет, нет. Нам надо лететь. Нам обязательно надо лететь.
Мама встала, отворила дверцу шкафа и начала снимать платья с вешалок и бросать их на спинку стула. Ксюша любила смотреть на мамины платья. Например, вот это голубое — мама сшила его на премию, когда цех перевыполнил план. Или коричневое с желтыми кружевами… Потом все знакомые спрашивали, из какого журнала мод мама взяла фасон. А мама сама его придумала. Но больше всего Ксюша любила мамин серый костюм. В нем мама была такой стройной и красивой, что все незнакомые люди принимали ее за Ксюшину старшую сестру.
— Мам, давай я сама его положу в чемодан, чтобы не помялся. Ты его все время там будешь носить, хорошо? Мам, а Ленинград на самом деле такой красивый, как в кино показывают? А папа нас встретит? Он обещал меня сводить в кукольный театр. И в зоопарк тоже сходим, правда? Мам, а Машка Митрохина говорила, что там…
Мама сгребла платья в охапку, села на стул и заплакала.
— Никуда мы не пойдем, детеныш… Папе сделали операцию аппендицита… срочную. Он сейчас в больнице…
Ксюша так и застыла с раскрытым ртом. Папа в больнице? Да этого просто не может быть. Она попыталась представить себе отца в белой комнате, на белой кровати под белым одеялом… и не смогла. Так не вязалась папина лохматая «буйная» голова, синие-синие насмешливые глаза и русая борода с грустной комнатой. Отец виделся ей на лыжах с красным от мороза лицом. Или с рюкзаком за плечами, в стеганой, прожженной у костра в тайге телогрейке; заросший, обветренный. Или… Да нет, просто и представить себе нельзя, что отец хоть пять минут улежит неподвижно в этой больнице.
— Нетушки, — убежденно сказала Ксюша, — папа не такой. Он не поддастся!
— Кому не поддастся? — переспросила мама.
— Докторам. Мало ли что они наговорят.
— Господи, детеныш… ну что ты городишь? Аппендицит — это аппендицит и ничего тут не поделаешь.
— Все равно, — упрямо сказала Ксюша, — папе этот аппендицит — раз плюнуть. Подумаешь, аппендицит… Перед новым годом папа сразу четыре зуба сверлил — и то ничего… Никаких докторов не испугался. И нечего говорить. Ермаковы не сдаются. Давай сюда платья, я уложу их в чемодан, а то совсем все изомнешь.
И тут пришли соседка справа Марья Петровна и соседка напротив Екатерина Исидоровна. Следом за ними бочком проскользнул Петр Кириллович — муж Екатерины Исидоровны. Петр Кириллович работал директором бани, и от него всегда приятно пахло душистым мылом и распаренным березовым веником. Даже в те дни, когда баня бывала выходной.
Марья Петровна уселась на диван, вытянула ноги в мохнатых носках из верблюжьей шерсти и потребовала:
— Ну, мать моя, докладай. Звонил Андрей?
Голос у Марьи Петровны звучный, как колокол. Когда она говорила с кем-нибудь на лестнице, было слышно во всех квартирах.
Мама всхлипнула и прижала к себе Ксюшу.
— Звонил Павел. Товарищ по институту. Андрей в больнице… Позавчера оперировали. Аппендицит…
Марья Кирилловна всплеснула могучими руками и звучно хлопнула себя по коленям.
— Всего и делов?! Да аппендицит твой — тьфу! Для сегодняшней медицины и не операция вовсе, а так, незнамо что. Скоро медсестры будут ее производить. Ну, чего ревешь?
— Андрей еще никогда не лежал в больнице… А если осложнение? — Мама принялась торопливо рыться в сумочке, разыскивая носовой платок.
Марья Петровна сняла со стула полотенце, которое Ксюша приготовила в дорогу, и кинула его маме.
— Утрись. Эка невидаль — больница. На то их и строят, чтобы в них люди лежали. Всякое строение имеет свой смысл: в больницах лежат, на стадионах бегают… Стоит из-за этого нервы трепать себе и девчонке? Посмотри на нее, сейчас тоже заплачет.
— Я-то не заплачу, — сказала Ксюша.
Марья Петровна закурила и закашлялась, поперхнувшись дымом.
— И то верно, — с трудом сказала она, — Ермаковы — кремневая порода. Их ништо не берет. А твое дело, Лидуша, поддержать сейчас мужа в хорошем настроении. Приедешь в Ленинград, сходи в парикмахерскую, прическу покрасивше сделай, платье надень нарядное. Чтоб явилась к мужу королевной, а не такой размазней…
— Что вы, конечно, — сказала мама, поспешно вытирая лицо полотенцем, — это я сейчас… все так неожиданно.
Ксюша сидела на чемодане и с нетерпением ждала, когда соседи наконец уйдут и можно будет ехать к отцу.
— А девчонку зачем тащишь с собой? — спросила Марья Петровна. — Руки себе только свяжешь. Побудешь у меня, Ксения?
— И у нас, если позволите, жилплощадь прекрасная, — ревниво сказал Петр Кириллович, — и у нас можно, верно, Катюша?
Екатерина Исидоровна поспешно закивала головой.
— Нет, нет и нет, — сказала мама, — спасибо, дорогие мои, но мы вместе. Когда беда — семья должна быть вместе. И Андрей расстроится, если я Ксюшу не привезу.
— Я маму все равно одну не отпущу, — сказала Ксюша, — и все равно через два дня каникулы…
Марья Петровна сердито ткнула папиросу в пепельницу.
— Ишь раскомандовалась! Не отпущу… Надо будет и не спросим. А ну-ка ложись спать, командирша, за полночь сидеть будешь?
Но Ксюша продолжала молча укладывать в чемодан свои и мамины вещи. Пусть Марья Петровна сердится. Когда-то, когда отец на целый год был меньше, чем Ксюша сейчас, дед Савелий тоже сердился. Он тогда был совсем больной, но в доме не было еды и дед пошел на реку рыбу добывать. Отец насильно увязался за ним. Не хотел деда одного пускать. И правильно сделал. Под утро ветер оторвал льдину, где они пробили лунку. Дед от температуры все время сознание терял. Так и замерз бы, если бы отец не сообразил, что делать. Растирал деду лицо и руки снегом, натаивал его на спиртовке и поил деда кипятком, пока льдину не прибило к берегу. Дед хоть и поморозил здорово ноги, но зато живой остался. Плохо одному в беде. Без друга. Но и такие друзья, как Наташка, ей тоже не нужны. Настоящие друзья жизнь друг за друга отдают, а не то что…
— Ну, чего молчишь? — спросила Марья Петровна.
— Я не молчу. Я вещи укладываю.
Петр Кириллович взмахнул руками и заулыбался ртом, глазами, всеми морщинками на маленьком румяном лице.
— И пусть поедет. Это прекрасно, что вместе. Зато увидит Ленинград! Подумать только: Эрмитаж! Зимний! Исаакий! Я столько у классиков нашей литературы читал о Ленинграде, а самому не пришлось побывать… Не пришлось!
Ксюша знала, что после контузии на войне Петр Кириллович заболел необыкновенной болезнью: не мог летать на самолетах, ездить на поезде. Даже в такси или обыкновенном автобусе и то не мог. Так и прожил тридцать лет после войны, бывая только там, куда мог дойти пешком.
— Ты мне все, все потом расскажешь подробно, Ксюшенька. И я словно побываю в Ленинграде.
— Конечно, Петр Кириллович, я вам все расскажу, ничего не забуду, вот увидите.
— Ну, ни пуха, тебе, ни пера, — сказала Мария Петровна, целуя маму, — привози быстрее своего орла — мы его живо на ноги поставим.
VIII. Александр Новиков
Румяный мальчик с белым чубом и карими, круглыми, как у Буратино, глазами стоял возле книжных полок в коридоре, придерживая за ошейник большую рыжую собаку. Ксюша задержалась в открытой двери, любуясь собакой, — такая она была красивая. На широкой груди топорщилась белая манишка, а на стройных сильных лапах красовались белые носочки; одно ухо торчало, другое висело, и от этого казалось, что собака вот-вот засмеется.
Дядя Павел легонько ткнул Ксюшу в спину чемоданом.
— Иди, иди, не бойся, — сказал он.
И прошел вперед, пронеся чемодан над Ксюшиной головой. Большое доброе лицо дяди Павла с мясистым носом и толстыми губами было красным от ветра и мокрого снега. На белом кудрявом чубе, свисавшем на лоб из-под сбитой на затылок серой шляпы, искрились мокрые снежинки. И весь он был какой-то немыслимо громадный. И сильный. Ксюша, когда увидела его на аэродроме, сразу подумала, что он похож на Илью Муромца, и пожалела, что сейчас другое время и никто не носит блестящие кольчуги и богатырские шлемы. Дяде Павлу они пошли бы больше, чем пальто и шляпа.
— Я не боюсь, — сказала Ксюша, — я никогда собак не боюсь. Папа говорит, что бояться надо глупых людей, а не собак.
— А когда я гуляю с Мишкой, — сказал мальчик, — некоторые люди почему-то боятся и кричат: «Почему без намордника? Еще укусит, кто будет отвечать?»
Он так смешно произнес эти слова, подражая сварливому женскому голосу, что Ксюша и мама рассмеялись.
— А папа говорит, что храбрый человек — тот, кто сам себя не трусит, — вставила Ксюша.
Дядя Павел глянул на нее сверху. Лицо его сморщилось, а глаза превратились в темные насмешливые щелки.
— Красиво, но непонятно. Объяснись.
— Правду сам себе про себя говорит. А трус сам себя обманывает от страха.
— Ничего себе, — изумленно сказал дядя Павел и повернулся к маме, — растут младенчики-то на нашу голову…
— А ты думал, — гордо сказала мама, сияя глазами.
Такая у нее особенность: стоило кому-нибудь сказать хорошее про папу или Ксюшу, она начинала вся светиться.
— Ну, здравствуй, Сашенька. С ума сойти, как ты вырос! — Она сбросила шубу на руки дяде Павлу и шагнула к мальчику.
Саша вежливо улыбнулся, словно хотел сказать: «Да, вырос… вы уж извините, что так получилось». И уставился на Ксюшу серьезно и с ожиданием.
Дядя Павел взял сына за плечи и переставил, как свечку, от книжных полок к вешалке. Пес радостно подпрыгнул и лизнул Сашу в щеку.
— Знакомься, сын. Это и есть та самая Ксения Ермакова — дочь Андрея Савельевича и тети Лиды, которых ты знаешь с пеленок.
Мальчик кивнул, протянул руку.
— Санька. А по-настоящему — Александр Новиков.
— Что за странная манера знакомиться? — удивленно спросил дядя Павел. — Сам изобрел?
— Нет, — сказал Санька. — Так со мной одна девочка в деревне знакомилась. Тебе не нравится?
Из кухни выбежала худенькая высокая женщина, смуглая, как цыганка. Не хватало только длинных золотых серег и цветастой шали. Женщина схватила маму и закружила вокруг себя. Мишка прыгал рядом, радостно взлаивал и все пытался втиснуться между ними.
— Натка, задушишь! — кричала мама, смеясь.
Тетя Наташа отпустила маму и всплеснула руками.
— А это что за девица? Неужели твоя Ксюха?! Ну, знаешь…
Она наклонилась, обдав Ксюшу запахом ванили, расцеловала ее в обе щеки и сказала:
— Саня, пока картошка сварится, покажи Ксюше свою комнату.
Мишка побежал вперед, открыл носом дверь и остановился, помахивая хвостом, точно радовался, что может показать гостье комнату хозяина. Она была небольшой и кроме тахты, письменного стола и полки с книгами ничего здесь не было. Но зато на стенах висело так много, что не было видно, какого цвета обои: теннисная ракетка, боксерские перчатки, рапира, черные африканские маски и… миллион картин!
На одних картинах скалили зубы невиданные фиолетовые и оранжевые звери с глазами, как фонари. На других сквозь черный жутковатый космос неслись пылающие ракеты, окутанные голубоватым сиянием. На третьих вообще ничего не понять — все цвета сразу. У Ксюши даже голова закружилась от многоцветья.
— Это ты рисовал? Сам? — спросила она.
— Нравится?
— Ужасно! Ты просто самый настоящий художник! У нас в школе так никто не сможет, даже старшеклассники.
Санька вспыхнул от удовольствия. Большие, как у отца, губы растянулись в счастливую и немного смущенную улыбку.
— Я сейчас маму позову, пусть тоже посмотрит, — сказала Ксюша.
Санька перестал улыбаться.
— Не надо. Понимаешь… это не совсем я…
— Как это — не совсем ты? А кто?
Санька опустил голову, помолчал, потом сказал нехотя:
— Ну… это больше Тимка рисовал… — И заторопился, словно боялся, что Ксюша не станет слушать и уйдет. — Ты не думай, и я тоже рисовал. Я вот этому дракону хвост и рог на носу нарисовал… И вот эту ракету закрасил красным цветом, а вот этот трактор я рисовал… Летом в деревне я одному пограничнику такую картину нарисовал, что все ахнули. Честное слово! И Нюся тоже тогда сказала, что я настоящий художник…
Он запнулся и замолчал. Он даже вспотел от смущения. Ксюше стало его жаль. Картины были такими прекрасными, что было уже не важно, кто их рисовал на самом деле. На них хотелось смотреть и смотреть…
— А ты бы так смог? — тихо спросила Ксюша.
— Еще бы! — Санька воодушевился. — Конечно! Правда, пока не совсем. Мама обещала мне настоящую акварель достать, «Ленинград». Это самые лучшие краски. Тогда я еще не так нарисую.
— А этот Тимка у вас в доме живет?
— У нас. На первом этаже. Только он не ходит.
— Как это не ходит?
— Ну, откуда я знаю… Что-то с ногами… Он и в школу не ходит, дома учится.
— А кто ему уроки носит?
— Учителя, наверное, кто же еще? Я его раньше и не знал совсем. А когда из деревни вернулся, иду себе, а он сидит возле окна и говорит: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Санька, а что?» А он говорит: «Санька, хочешь я тебе картину подарю?» И подарил. И потом еще много дарил. И другим ребятам тоже. Ой, Мишка! Отдай сейчас же!
Санька кинулся к тахте. Ксюша оглянулась. Оказывается, пока они разговаривали, пес вытащил из-под тахты толстый коричневый альбом и с наслаждением грыз переплет.
Санька выхватил альбом и замахнулся им на Мишку. Пес жалобно тявкнул, поджал хвост и на брюхе уполз под тахту. Санька чуть не плакал.
— Мой альбом с марками! У-у, бессовестная собака! Получишь еще!
Он вытер альбом, сунул его в ящик стола и, схватив длинную деревянную линейку, начал шарить ею под тахтой.
— Вылезай сейчас же!
Мишка тоскливо взвыл, но не вылез.
— Зачем ты его ругаешь? — спросила Ксюша.
— Я должен его наказать, чтоб в следующий раз знал.
— Так он же не виноват.
— Здрасте! А кто виноват? Вчера арифметику сожрал, а сегодня за альбом принялся. У-у… дурацкая собака!
— Ты и виноват. Собака думает: раз на пол брошено, значит, никому не нужное.
Санька перестал шарить линейкой и поднял к Ксюше красное, злое лицо.
— Думает, — передразнил он, — много ты понимаешь. Собаки не думают, если хочешь знать.
— Нет, думают.
— Нет, не думают! У них рефлексы, понятно?
Ксюша тоже рассердилась. Видел бы этот белобрысый мальчишка Найду, собаку деда Савелия. Недаром отец всегда берет с собой Найду в поле.
— Это у тебя рефлексы! А моего дедушки собака Найда даже железо под землей отыскивает, понятно? А когда дедушка заболел и не мог даже рукой двинуть, Найда сама побежала в село за десять километров и под окном у дедушкиного друга фельдшера выла и лаяла, пока он не проснулся и не вышел. Найда тогда схватила его зубами за штаны и стала тянуть… Фельдшер сначала испугался, думал, бешеная собака, а потом жена его сказала: «Ой, никак лесникова собака! Иди же, старый, живее, поди, захворал лесник-то наш».
Санька швырнул линейку и сел на пол.
— Заливаешь?
— Можешь у моей мамы спросить. Я никогда не заливаю, как некоторые.
Санька нахмурился и снова зашарил линейкой под тахтой. Было видно, что его задели Ксюшины слова и теперь он цеплялся к Мишке просто из упрямства. Под тахтой не было слышно ни звука. Ксюша усмехнулась.
— Не пойдет он сейчас к тебе, можешь не звать. И рефлексы не помогут. А вот ко мне пойдет.
Она села на стул и ласково позвала:
— Мишка, иди ко мне… Ну иди, иди, собаченька…
Мишка заворочался. Осторожно выбрался из-под тахты, подполз к Ксюше, боязливо косясь на Саньку, затем встал на задние лапы и уткнул голову Ксюше в колени.
— Дурацкий пес, — обиженно сказал Санька и отвернулся.
— И не дурацкий совсем, а умный. Ты же его сам несправедливо обидел. Дед говорит, что собаки лучше людей правду и ласку понимают. Я раз на Найду закричала, так она два дня со мной разговаривать не хотела. Я даже у нее прощения просила.
— И все равно, — упрямо сказал Санька, — я его хозяин, а не ты.
— От хозяина-то еще обидней.
В комнату вошла тетя Наташа. Фартук она уже сняла и была в черных брюках и голубом пушистом свитере.
— Все готово, дети. Прошу к столу. Ну, вы уже подружились?
— Подружились, — ответила Ксюша, весело поглядывая на Александра Новикова, сидевшего с оскорбленным видом на полу.
IX. Пирожки с изюмом
Мама и дядя Павел стояли в коридоре возле карты Ленинграда и разговаривали.
— Люди, быстро к столу. Все остынет, — сказала тетя Наташа.
Застекленные двери комнаты были распахнуты, и Ксюша увидела посередине квадратный стол, заставленный всякой снедью. А в центре стола возвышалось массивное зеленое блюдо с пирожками.
— Натка-а! — вскричал над головой Ксюши дядя Павел. — Пирожки! Вот это сюрприз! С чем?
— С изюмом. Ваши с Андреем любимые.
Любимые папины пирожки! В эту минуту Ксюша будто увидела отца в белой тоскливой комнате, на белой кровати… Лежит он там совсем один и ждет, ждет, когда же они наконец приедут. Ксюша представила себе, как они с мамой входят в палату, а отец, увидев их, позовет, как зовет всегда, возвращаясь из командировки или экспедиции:
«Зайцы, я здесь! Идите скорей, будем обниматься! — Обнимет сразу маму и Ксюшу, потрется носом об их щеки и спросит: — Скучали?»
«Еще как!» — ответят в один голос мама и Ксюша.
«Это хорошо, — обрадуется отец, — это замечательно, когда скучают, если тебя нет рядом».
А когда отец уезжает, не прощается, как все: «До свидания», «До скорой встречи», или еще хуже: «Привет». Подхватит чемодан или рюкзак и спросит:
«Я вам очень нужен?»
«Очень», — ответят сразу мама и Ксюша.
«Значит, будет мне удача в пути. Скучайте обо мне, зайцы!»
А получается, будто они не очень-то и скучают. Все так веселятся, точно Ксюша с мамой в гости приехали, а не к папе…
— Ксюшенька, — позвал дядя Павел, — садись вот сюда. На этом стуле твой отец всегда сидит.
— Нет, — сказала Ксюша, — нам надо к папе скорее.
— Сейчас поедим и поедем, — сказала тетя Наташа.
А мама ничего не сказала. Только посмотрела на Ксюшу. Конечно, мама и сама стремится поскорее к отцу, но у нее, как утверждает папа, «деликатный» характер. Она боится отказом от еды огорчить тетю Наташу. Пока дядя Павел ездил за ними в аэропорт, тетя Наташа даже пирожки успела испечь, так хотела угостить получше.
— Что за спешка, — удивился дядя Павел. — Я вчера вечером был у Андрея. Он весел и прекрасно себя чувствует.
— Все равно, — сказала Ксюша, — папа не может себя прекрасно чувствовать, раз он ждет, а мы… мы пирожки…
Дядя Павел открыл было рот, потом закрыл. Доброе лицо его сделалось растерянным и немного виноватым. Он подергал себя за нос и пробормотал:
— Н-да-а… в общем-то, конечно…
Мама покраснела и принялась поспешно рыться в сумочке. Ксюша поняла, что маме стыдно и она не знает, как теперь быть. Сейчас она, конечно, ничего не скажет, потому что они не одни, но потом… Ну и пусть! Пусть бестактная, пусть невоспитанная, пусть… Не может Ксюша сидеть за нарядным столом, есть вкусные вещи и эти пирожки, когда папа там один и ждет…
Тетя Наташа решительно вышла из-за стола и сказала:
— Едем. Новиков, не забудь книгу Радунской — Андрей просил.
Мишка лизнул Ксюшу в руку и умильно посмотрел на нее. Может, он ждал, что Ксюша даст ему со стола что-нибудь вкусненькое? Ксюша только грустно покачала головой. Хотя взрослые поняли ее и не рассердились, на душе у Ксюши было невесело. Мама хоть и обрадовалась заметно, что они скоро увидят отца, но на Ксюшу так ни разу и не взглянула. Значит, крепко обижена. Отец всегда говорит: «Нужно быть совсем бессердечным человеком, чтобы обидеть такую маму, как наша». Но разве Ксюша хотела ее обидеть? Если б не эти пирожки с изюмом… И потом, что она такого сказала? Разве дело в словах? Отец всегда говорит: «Важны не слова, а поступки…» Но сейчас-то Ксюша ничего не сделала, только сказала, а маме стало стыдно, что Ксюша получилась такая невоспитанная… Выходит, слово тоже может стать поступком? Что же тогда получается? Если слово — поступок, значит, и молчание, как тогда на комбинате, тоже? Фу, как все запуталось… Ведь решила же больше не думать, так нет… словно оно само, нарочно, в голову лезет.
— Ну, что задумалась? — окликнул ее Санька. — Сама торопила всех, а сама стоит.
Ксюша виновато улыбнулась и вышла в коридор. Мама, одетая, уже стояла на лестнице, а дядя Павел поспешно доедал пирожок.
Ксюша подпрыгнула и сдернула с вешалки свою старенькую цигейковую шубку и шапку.
— Дядя Павел, а в какой квартире Тима живет?
— Тима? Какой Тима?
— Ну, этот, который не ходит, — подсказал Санька.
— Не знаю… Как-то не пришлось. А ты знаешь, сын?
— Я только окно знаю. Он всегда возле него сидит.
— Это удивительный мальчик, — вмешалась тетя Наташа. — Я вижу, Ксюшенька, его картины и на тебя произвели впечатление.
Ксюша кивнула.
— А вы были у него?
— Я?! — переспросил с удивлением дядя Павел. — Нет, не был. Ну, посуди сама, с чего бы это я взял и пошел к незнакомым людям? Что бы я им сказал?
«Интересно, а папа пошел бы, если бы у них в доме жил такой мальчик?» Ксюша натянула шапку поглубже, чтобы не лезли в глаза непокорные волосы, и вышла на лестницу. Мама подняла Ксюше воротник — на улице дул промозглый мартовский ветер — и провела теплой ладонью по щеке.
— Мама, давай отвезем папе пирожков с изюмом?
— Что ты, детеныш, ему сейчас вредно тесто.
— Все равно, — сказала Ксюша, — не может быть вредно, раз они его любимые. Ну, хоть две штуки, ладно?
X. Секрет фирмы
Автобуса долго не было. Мама нервничала, а когда она нервничает, — начинает ходить: три шага туда, три шага сюда, как маятник, и беспокойно хрустит пальцами. В такие минуты лучше с мамой не заговаривать, все равно не услышит.
Дядя Павел и тетя Наташа укрылись от ветра за пустым цветочным киоском.
Снежный дождь прекратился. На газонах и толстых ветках деревьев еще белела снежная опушка, но на дороге и там, где ходили люди, снег превратился в серую холодную кашу.
Высоко впереди, над домами, появилось солнце. Оно выкатилось из темной хвостатой тучи как-то сразу, точно вырвалось из пасти крокодила. И все вокруг ожило: проснулись дома, помчались быстрее машины, забрызгивая прохожих сверкающими кусочками мокрого снега.
Возле поребрика тротуара закручивалась воронкой темная тяжелая вода и уходила под землю с сердитым бульканьем. Ксюше подумалось, что там внизу, под асфальтом, сидит мохнатый подземный зверь и жадно пьет талую воду. Ему там холодно, темно и одиноко. Наверное, думает, что, когда выпьет всю воду и на газонах зазеленеет травка, он сможет выбраться наверх и погреться на солнце…
— Ксюша, иди к нам! — крикнула тетя Наташа, когда мимо проехал мокрый троллейбус. — Посмотри, тебя всю забрызгало!
— Совсем немножко! — крикнула Ксюша, отряхиваясь.
Ксюша была разочарована. Ленинград оказался не таким сказочным, необыкновенным городом, каким она ожидала его увидеть. Все вокруг было знакомым давным-давно, точно она никуда и не уезжала из Сыктывкара.
Даже кинотеатр такой же — одна стена совсем стеклянная, и через нее, как в аквариуме, виден красивый зеленоватый зал с цветами и портретами знаменитых киноартистов; две широкие лестницы расходились друг от друга на второй этаж; такой же зал с цветами на втором этаже… И даже люди возле буфета словно те же самые…А во-он дом через дорогу, возле кинотеатра — длинный, похожий на уложенную ребром белую косточку домино, — точно в таком доме живет Ксюша. И деревья вдоль дома, только здесь тополя, а у них ольха и береза. И мебельный магазин через весь первый этаж.
Ксюша вспомнила, как ворчала Марья Петровна, что мама «тащит девчонку с собой в чужой город неизвестно зачем». Какой же он чужой? Свой. Привычный. Совсем не такой, как в кино или по телевизору. Ксюша чувствовала себя обманутой, словно ей обещали показать жар-птицу, а принесли воробья на ладони…
К остановке подъехало такси, притормозило, мигая зеленым глазом.
— Ксения, за мной! — крикнул дядя Павел и, схватив тетю Наташу и маму за руки, потащил их к машине.
— Как у вас тепло, — сказала мама, усаживаясь на заднее сиденье, — я вся продрогла на ветру.
— Ксюша, садись в серединку, к маме, — предложила тетя Наташа, — или ты хочешь впереди?
Ксюша пожала плечами. Какая разница, где сидеть, если смотреть особенно не на что?
— Садись вперед, — сказал дядя Павел, — здесь обзор, как на капитанском мостике! И смотри во все глаза!
Ксюша покорно села вперед. Шофер улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Он был совсем молодой, курносый и весь сверкал, как его золотой зуб: блестел желтый герб на черной фуражке, блестела куртка с молниями вместо карманов, даже медный колпачок авторучки, торчащей из кармана, и тот светился огоньками на солнце.
— Первый раз в Ленинграде? — спросил шофер.
— Первый, — грустно сказала Ксюша.
— А чего такая невеселая?
— Я думала, Ленинград совсем другой.
— Какой другой?
Ксюша подумала и сказала:
— Необыкновенный. А он одинаковый… у нас дома тоже такие.
Сзади басовито засмеялся дядя Павел. Сквозь смех что-то сказала тетя Наташа; Ксюша не расслышала.
— Такие, да не такие, — обиженно сказал шофер. — Ты памятник Победы видела? А Петропавловку? А Дворцовую площадь? А Смольный?..
— Да они только сегодня прилетели, — сказал дядя Павел.
Шофер посмотрел на Ксюшу с укоризной.
— Не успела приехать, а уже судишь…
Ксюше стало неловко. Наверное, этот шофер очень любит свой город, раз обижается. Ксюша бы тоже обиделась, если бы кто-нибудь сказал плохое про Сыктывкар.
— Я больше не буду.
Шофер понял ее и улыбнулся.
— И правильно. Смотреть надо, а не судить. Город — как человек: одному улыбнется, а от другого отвернется. Как ты ему приглянешься.
А что, если она просто не понравилась городу, вдруг подумала Ксюша, если он не захотел показаться ей красивым? Машка Митрохина съездила в Ленинград на зимних каникулах, так потом на каждой перемене трещала всем: ах, какой Ленинград красивый, ах, какой он чудесный!.. Не может такого быть, чтобы Митрохина понравилась, а она, Ксюша, не понравилась. Не может, и все.
Машина неслась в черный провал под мостом. Вверху, над провалом, грохотала электричка. Зеленая, тупомордая… Ксюша похолодела от внезапного страха — ей показалось, что они въехали прямо под электричку…
А машина уже выехала на солнце и… понеслась по широченному проспекту. Справа и слева мелькали разноцветные дома, длились красные корпуса заводов. За железными и каменными заборами вырастали трубы.
Город летел навстречу, расширяясь во все стороны: бесконечный, меняющийся, как в калейдоскопе. Улицы, улицы, переулки, будто складные книжки-картинки, то раздвигались и становились широкими, как река, то сдвигались, наползая домами на машину, и Ксюша видела людей в комнатах.
И вдруг… машина будто вырвалась из каменного коридора домов и повисла над водой. Река чернела внизу, за узкой решеткой. Стоит машине чуть свернуть в сторону — и она понесется по воде между льдинами с синеватыми подтаявшими краями…
— Нева… — прошептала Ксюша и закричала: — Мама, смотри, это настоящая Нева!
— Невы державное теченье, — торжественно сказала сзади тетя Наташа.
Но Ксюша не видала никакого течения. Нева жила внизу, огромная, разбухшая, и, содрогаясь от ветра, сгоняла с себя льдины, словно хотела быстрее освободиться от зимней чешуи… А вдали виднелся еще мост, и еще… Мосты висели над водой, как нарисованные синей краской. За ближним мостом виднелась старинная крепость, точно богатырский корабль причалил к берегу и застыл неподвижно, сверкая на солнце высоченной мачтой.
Ксюша повернула счастливое лицо к шоферу и тут же развернулась к нему спиной, чтобы еще раз увидеть оставшуюся позади крепость.
Она крутилась на сиденье, вскрикивая от восторга. Хотела сразу увидеть все. Но машина неслась так быстро, что Ксюше удавалось выхватить только отдельные кусочки города: красивый балкон, шпиль на высокой крыше, витрину ателье или магазина. А вокруг такси лилась улица: звенели трамваи, двигались красные важные автобусы, тихие синие троллейбусы. По тротуарам в разные стороны шли нарядные люди. Их было так много, как бывает в Сыктывкаре в праздничные дни.
Шофер лихо развернул машину и остановил такси возле высокого решетчатого железного забора с белым домиком на краю.
— Приехали, — сказал дядя Павел.
Ксюша вышла из машины, потом вернулась и сунула голову в открытое окно:
— Знаете… наверное, я ему тоже понравлюсь…
— Я думаю, — сказал шофер серьезно.
— Кому понравишься? — спросила мама.
Шофер усмехнулся, подмигнул Ксюше и сказал загадочно:
— Секрет фирмы.
XI. Приехали
Домик внутри оказался одной большой комнатой с круглым столом посередине. Вдоль стен, как на вокзале, стояли широкие коричневые скамейки с высокими спинками. Стены были выкрашены густой зеленой краской, а на них висели цветные плакаты с разными микробами. В стене справа матово блестело круглое окно с прилавком.
В комнате ходили люди с сумками и авоськами. Некоторые пристраивались в длинную очередь возле окошка, другие начинали торопливо писать на листках бумаги, одалживая друг у друга ручки.
Слева комната вытягивалась в маленький коридор, в конце которого была дверь во двор. Возле двери сидела на табуретке грузная женщина в черном полушубке и валенках с калошами.
Дядя Павел подошел к ней.
— Здравствуйте, — сказал он, приподнимая шляпу.
— Здрасте, — хмуро ответила женщина и встала, заслонив спиной дверь, — если пропуска нет, не пропущу.
Ксюша смотрела на нее со страхом. Таких больших теток она еще никогда не видела. Рядом с нею даже дядя Павел казался мальчишкой.
Мама растерянно взглянула на дядю Павла и прижала руку в черной перчатке к губам. Дядя Павел откашлялся и успокаивающе положил руку маме на плечо.
— Пропуска у нас действительно нет, — начал было он, но тетя Наташа решительно перебила его:
— В четвертой хирургии лежит после операции наш товарищ. К нему сегодня прилетели из Сыктывкара жена и дочь. Разве вы можете их не пустить?
— Могу, — сказала женщина.
Тетя Наташа растерялась. Тетка возвышалась над нею, как могучий камень. Трактором не сдвинешь.
— Но… но как же быть? — спросила мама. В голосе у нее уже дрожали слезы.
Тетка подняла воротник полушубка, сунула руки в рукава и вдруг жалобно сказала:
— Гражданочка, думаете у меня сердца нет? Звоните на отделение заведующей, попросите, может, и даст пропуск, раз такое дело. Только наперед скажу, девочку все одно нельзя, раз в послеоперационное.
Ксюша сначала даже ушам своим не поверила. Что это значит? Ее не пустят к отцу?! Да этого просто быть не может! Она повернулась к маме:
— Мама, что она говорит? Почему нельзя!
— А вот так, — сказала тетка и нахмурилась, — нельзя, и весь сказ. Инструкция такая — до двенадцати лет.
— Я не могу ждать целых два года, — сказала Ксюша, все еще надеясь, что эта женщина просто шутит.
Тетка усмехнулась.
— Да кто же тебя заставляет столько ждать? Твой отец до той поры сто раз из больницы выйдет. А вы, гражданин, идите звонить, а то уйдет заведующая, и все тогда.
— Да, да, — сказал дядя Павел и заторопился к телефону.
Мама положила руки Ксюше на плечи, прижала к себе.
— Успокойся, Ксюша. Может, еще и разрешат.
Тетка взглянула на нее с сожалением.
— И не обнадеживай девчонку. Насчет чего-чего, а с детьми у нас строго. Не велено, и все.
— А кто не велел? Кто? — возмущенно спросила Ксюша.
— А не кричи. Мала еще на людей кричать. Главный врач не велел, вот кто.
— Ксюша, успокойся, — уговаривала мама.
Но Ксюша не могла успокоиться. Слезы текли по щекам, капали с носа. Главный врач представлялся ей сейчас самым злым человеком на свете. Сидит себе, наверное, в кресле — пузатый, как бочка, лысый. Фантомас, и нос ведьмин, крючком. Синий от злости… Попался бы он ей сейчас — не обрадовался!
— А где… где он, этот главный? — спросила Ксюша.
Тетка показала рукой на зеленоватый каменный дом с белыми колоннами невдалеке от проходной.
— Во-он там. Здесь вся контора размещается.
Ксюша взглянула с ненавистью на этот дом, где прятался от детей лысый Фантомас. И еще главным называется… А ведь Главный — значит, самый лучший должен быть…
За воротами, на улице, пронзительно загудела «Скорая». Вахтер нажала толстый крюк в стене, но ворота не открылись. Она сердито пробурчала: «Мастера — руки обломать» — и затопала к воротам.
И тут Ксюшу будто толкнуло что-то в спину. Она рванулась из рук матери и помчалась к дому с колоннами.
— Эй, ты куда?! А ну вернись! — закричала тетка.
— Ксюша! Ксюша! Сейчас же вернись! — кричали в один голос мама и тетя Наташа.
Ксюша даже не обернулась. Обеими руками она дернула на себя тяжелую дубовую дверь, пронеслась мимо каких-то людей и взлетела на второй этаж. У них в школе и учительская, и кабинет директора были на втором этаже, — значит, и главный должен быть где-то тут.
Ксюша еще не знала, что она скажет главному врачу. Пусть только попадется, а там она найдет, что сказать. Тоже нашелся умный — детей к отцам не пускать! Обрадовался, что главный…
Она быстро шла по коридору, читая синие стеклянные таблички на белых дверях. На них были написаны какие-то непонятные слова. Кабинета главного врача не было нигде. А может, это слезы мешали ей прочитать как следует? Ксюша вытерла глаза ладонями, всхлипнула от обиды. Называется, приехала к отцу… Где же справедливость?..
XII. Игорь Владимирович
В конце коридора Ксюшу остановила старая женщина в белом халате и такой же шапочке. Она была ужасно худая, с острыми вздернутыми плечами и желтоватым морщинистым лицом. За ушами из-под шапочки торчали хвостики седых волос.
— Девочка, что ты здесь делаешь? — медленно спросила женщина.
Ксюша всхлипнула, вытерла варежкой нос.
— Я? Мне… мне очень нужен главный врач.
— А кто разрешил тебе входить в пальто и шапке?
Ксюша испуганно попятилась. Неужели прогонит?
А еще хуже — схватит за руку и отведет в проходную? «Нет, не дамся ни за что не дамся! Ермаковы так просто не сдаются!»
— Никто… Я сама. Я не знала… простите, пожалуйста.
Женщина кивнула, прикрыла темными веками глаза, постояла так минуту. Ксюша хотела уже потихоньку сбежать, но женщина открыла глаза и сказала, точно через силу:
— Ну, хорошо… Зачем же тебе главный?
Ксюша заколебалась: может, сказать? Нет, нет, тетка у ворот сказала же: «Главный не разрешил». Значит, и разрешить может только главный.
— Нужен, — сказала Ксюша и для верности добавила: — Очень.
Из двери напротив вышла розовая беленькая медсестра в голубом платье с короткими рукавами и белом фартучке. В руках у нее был длинный деревянный ящик с дырками вверху. Из дырок торчали стеклянные трубочки, заткнутые ватой.
— Софья Семеновна, вы еще не ушли? — спросила сестра с удивлением. — Разве ваше дежурство еще не кончилось?
— Кончилось, Мариша, сейчас поеду домой. Что-то сегодня трудно далась ночь.
— А когда по «скорой» дежурим, всегда так, — сказала Мариша.
— Ваша? — спросила она, взглянув на Ксюшу.
Софья Семеновна грустно усмехнулась:
— Что ты, девочка, моя уже двоих детей в детский сад водит.
Ксюша посмотрела вслед Марише. Хорошо, что не сказала ничего Софье Семеновне, а то она уйдет сейчас домой, и все.
Софья Семеновна вздохнула, сунула руки в карманы халата.
— Идем, — сказала она, — я отведу тебя к главному.
Они спустились на первый этаж. Ксюша решила уже, что Софья Семеновна обманула ее и сейчас с позором выставит из двери во двор, где ее ждет рассерженная вахтерша. Но врач свернула направо, открыла коричневую кожаную дверь и спросила:
— Игорь Владимирович, можно к вам?
Оттуда послышался веселый бас:
— Да, да, прошу…
Ксюша заглянула в кабинет из-за спины Софьи Семеновны. За большим письменным столом сидел лохматый черноволосый мужчина в темных квадратных очках. Из-за лохматой львиной гривы и темных очков голова мужчины казалась непомерно большой и величественной, как у сфинкса.
— К вам посетитель, Игорь Владимирович, — сказала Софья Семеновна, входя в кабинет.
Ксюша смело двинулась следом. Не съест же ее, в конце концов, этот лев в белом халате. Тем более, что он совсем не похож на фантомаса и на ту пузатую бочку, с которой она приготовилась воевать.
— Девочка? — удивленно спросил главный. — Софья Семеновна, я искал вас, но мне сказали, что вы уже ушли. Присядьте, пожалуйста.
Возле стола стояли два глубоких кожаных кресла с круглыми спинками. Софья Семеновна постояла в раздумье возле кресел, вздохнула и пошла к дивану, втиснутому между двумя книжными шкафами. Села, откинулась всем телом на высокую спинку, подперла щеку ладонью и закрыла глаза, будто уснула сразу.
Ксюша осталась стоять посреди кабинета, утонув ботинками в зеленом ворсистом ковре.
— Итак, девочка, — сказал главный врач, покручивая сильными короткими пальцами авторучку, — что у тебя за дело ко мне?
Ксюша переступила с ноги на ногу. Ей вдруг стало страшно. До сих пор она даже не подозревала, как трудно прийти и сказать в глаза человеку справедливые слова. Старшему человеку. Главному. Чтобы пересилить страх, Ксюша отвела глаза и посмотрела в окно, за которым раскачивало по ветру голыми ветками высокое дерево. Сквозь ветви было видно здание напротив: серое, с рядами широких сверкающих окон. Сухая ветка дерева, толстая, голенастая, как куриная нога, уперлась в окно, и на ней вертелась взъерошенная птица с красной грудкой. Птица напоминала чем-то тетю Наташу, суетливую и маленькую рядом с огромной вахтершей. Ксюша прерывисто вздохнула и сказала громко, с вызовом:
— Это мой папа и, все. И вы не имеете права… Это несправедливо!
Игорь Владимирович улыбнулся, снял очки. Из-под черных лохматых бровей на Ксюшу озадаченно глянули прозрачные улыбчивые глаза, и в них совсем не было злости.
— Зачем ты кричишь? — спросил он. — Я хорошо слышу. Продолжай.
Ксюша ждала, что главный закричит на нее, затопает ногами. А он смотрел на нее и улыбался. И все справедливые, обвинительные слова, которые она хотела сказать главному, потерялись перед этой улыбкой. Поэтому Ксюша смущенно крутила варежки в руках и молчала.
Игорь Владимирович вышел из-за стола, взял Ксюшу за плечи, подвел к креслу и усадил. Сам сел напротив и вытащил из кармана халата круглую красную коробочку с леденцами.
— Закурим? — спросил он и подмигнул.
Ксюша, сама не желая того, невольно улыбнулась.
— Мой папа тоже, как начнет бросать курить, полные карманы карамелек покупает.
— И не курит?
— Ни одной папиросы! Пока все карамельки не съест.
Игорь Владимирович засмеялся и сунул за щеку леденец. Теперь, когда он сидел совсем близко, Ксюша увидела, что волосы у него наполовину седые. Под глазами много мелких морщин, а от носа к губам врезались две глубокие печальные складки. Они не исчезали, даже когда он смеялся.
— Ну, я-то не стану курить, даже когда съем все леденцы, — хвастливо сказал Игорь Владимирович, — вот увидишь. Так и передай своему отцу.
— Как же я ему передам, если меня к нему не пускают? — удивленно спросила Ксюша.
И не дожидаясь, пока главный спросит, принялась торопливо рассказывать, как позвонил им дядя Павел и мама страшно расстроилась. Как они летели в самолете из Сыктывкара и мама все время волновалась, что телеграмма запоздает и дядя Павел не встретит их на аэродроме. И о том, что отец, мать и дядя Павел вместе учились в институте здесь, в Ленинграде, а тетя Наташа отдельно, в Москве. А папа уже на пятом курсе поехал в Москву на соревнования по волейболу и там познакомился с тетей Наташей и дядя Павел женился на ней с первого взгляда. И теперь они все здесь, а эта громадная тетка в проходной не пускает их к отцу… Разве это справедливо?
— Как фамилия твоего отца? — спросил Игорь Владимирович, когда Ксюша замолчала.
— Ермаков… Андрей Савельевич. У него аппендицит…
— Не трудитесь узнавать, — вдруг сказала Софья Семеновна.
Ксюша вздрогнула. Софья Семеновна сидела все это время так тихо, что Ксюша совсем забыла о ней.
— Я оперировала Ермакова третьего дня, — продолжала Софья Семеновна, не открывая глаз, будто говорила во сне. — Там все в порядке, без отклонений. Дня через два-три можно выписывать.
И замолчала, словно все остальное ее не интересовало.
— Ну вот, — сказал Игорь Владимирович, — видишь, все не так страшно, как ты решила. Я думаю, что заведующая отделением разрешит твоей маме навестить отца, раз вы прилетели издалека. А тебе нельзя. Такое правило для всех.
И все это с доброй улыбкой! Значит, на самом деле этот главный притворялся добрым? От обиды и возмущения на глаза снова навернулись слезы. Ксюша вскочила, отошла от кресла и встала перед главным, прижав кулаки к груди.
— Вы же главный! Это вы сами приказали, я знаю!
Слезы скатывались по щекам на воротник шубы. Ксюша не вытирала их. Она даже не замечала, что плачет.
Игорь Владимирович нахмурился и резко сказал:
— Прекрати реветь. Стыдно выплакивать поблажки. Не маленькая. Я не могу нарушить приказ, и именно потому, что сам его отдал.
— Нет, можете! — крикнула Ксюша. — Вы же для других его отдали!
Игорь Владимирович встал, обошел стол, взял очки, лежащие на кипе исписанной бумаги, и принялся не спеша протирать их кусочком замши.
— Для других, — ворчливо проговорил он, разглядывая стекла очков на свет, и вздохнул, — худо станет жить людям, если начальники будут считать, что издают приказы для других, а сами станут их нарушать… Пришла, развоевалась… Думаешь, правда на твоей стороне?
Ксюша всхлипнула, вытерла слезы ладонями и с вызовом глянула на Игоря Владимировича.
— Конечно. Это же мой папа.
— Вот, вот… «мой папа». Здесь больница, голубушка. Кроме твоего папы здесь много других людей. Они лечатся, страдают, а иногда и умирают… Тяжело страдают и тяжело умирают. Нельзя детям на это смотреть.
— Я не боюсь, — сказала Ксюша, — если даже увижу, все равно не испугаюсь, честное слово.
Игорь Владимирович помолчал. Потом снова вздохнул и сказал с укоризной:
— Эх ты, голубушка, только о себе думаешь… «я» да «я». А я о больных думаю. Когда человек тяжело болен, он стыдится своих страданий и не любит, чтобы на него смотрели. Вот о чем надо прежде всего думать. О тех, кто страдает, а не о себе.
Ксюша растерялась. Получается, что она самая настоящая эгоистка… Как же так? Разве она о себе думала, когда шла сюда?
— Вы же смотрите, — прошептала она, защищаясь от тяжкого обвинения, которое звучало в словах врача.
— Я врач. От меня больной ждет помощи. А чем можешь помочь ему ты?
Ксюша опустила голову. Ей стало так стыдно, как никогда еще в жизни не было.
— Я пойду? — тихонько попросила она.
— Иди, — сказал Игорь Владимирович, — я и так потерял много времени с тобой. Хорошо, если не зря.
XIII. Помогите Тиме
За дверью Ксюша остановилась в нерешительности. Куда идти? Мама сейчас, наверное, у папы. Может быть, тетю Наташу и дядю Павла тоже пустили, раз они взрослые. Идти в проходную и ждать их там? А в проходной тетка… Ох, и попадет же от этой тетки!
В это время за спиной Ксюши из-за неплотно прикрытой двери кабинета, послышался негромкий голос Софьи Семеновны:
— Зря вы так… могли бы и разрешить в порядке исключения.
— Это почему? Потому что пришла и потребовала для себя исключения? А как же другие, которые не умеют требовать? Разве они меньше любят своих отцов-матерей? Эх вы, голубушка моя… Хирург. Руки-ноги отсекаете, чтобы спасти человека. Это ведь побольнее, чем отказ…
— Вот не знала за вами таланта воспитателя…
Игорь Владимирович рассмеялся. Ксюша будто увидела, как он сидит за громадным столом и хохочет гулким басом, потряхивая своей немыслимой шевелюрой. Веселый лев в квадратных очках.
— На внучке тренируюсь… Ничего, ничего, пусть с детства привыкает: как всем, так и ей… Ну, ладно. Что же мне с вами-то делать? Вы просите отпуск, а у меня рука не поднимается оставить весной отделение без такого опытного хирурга, как вы…
— Устала я…
— Может, потянете еще месяц, а? Пока кончится гололед? Там полегче станет. Я прикажу освободить вас от ночных дежурств…
Софья Семеновна тихонько засмеялась:
— Нет уж… как всем, так и мне. Без исключений.
— Не ловите на слове, голубушка. Тут для пользы дела. А потом выхлопочем вам путевку в хороший санаторий, и там вас быстро поставят на ноги. Договорились?..
Поставят на ноги… Ксюше внезапно припомнились картины в комнате Саньки: пылающий таинственный космос, стремительные ракеты, диковинные звери… И все это несется во Вселенной все дальше и дальше, от звезды к звезде. Даже представить трудно, как далеко от Земли эти звезды. Горят золотым огнем в темноте, и по всему миру идут от них лучи.
А сам Тима даже из комнаты выйти не может… Ксюше вспомнилась Маруся из книжки Короленко «Дети подземелья». Когда они с Наташей прочитали ее, Ксюша всю ночь уснуть не могла. Неужели и Тима вот также будет делаться все бледнее и бледнее?
Ксюша даже содрогнулась от жалости. Она представила себя на месте Тимы: вот она сидит в кресле, а на ногах гипс… Наташка прибежала, зовет ее гулять на улицу, а она не может и шагу шагнуть. Ксюша почувствовала, как у нее испуганно забилось сердце, словно все это случилось с нею на самом деле.
Нет, так нельзя. Когда прошлым летом на Сысоле маленькая девочка заигралась и упала в воду, так все, кто был на берегу, кинулись ее спасать. А тут пропадает человек — и никто, никто об этом не знает. Разве это справедливо? Нельзя, чтобы так оставалось. Просто нельзя, и все. А что, если попросить Игоря Владимировича и Софью Семеновну вылечить Тиму? Они же могут. Они все могут.
Ксюша повернулась было, чтобы открыть дверь в кабинет, и остановилась в нерешительности. А вдруг Игорь Владимирович подумает, что она опять пришла просить исключения? Нет, нет, он не должен так подумать. Надо только объяснить ему, что Тиме плохо, что сам он не может прийти. И Тима не такой, как все… Вот бы показать Игорю Владимировичу Тимины картины, он бы сразу все понял.
Ксюша решительно приоткрыла дверь пошире и просунула в кабинет голову.
— Игорь Владимирович, можно… я на минутку.
— Как? Ты еще здесь? Почему ты не ушла?
В голосе главврача звучало недовольство, но Ксюша не отступила. Теперь-то она была уверена, что правда на ее стороне.
— Я ушла, то есть я не совсем ушла, — быстро заговорила она, — у меня к вам дело, очень-очень важное дело.
Ксюша вошла в кабинет и прислонилась спиной к косяку.
— Понимаете, есть один мальчик, Тима… Он ужасно хороший художник, просто как самый настоящий и еще лучше! Только у него ноги не ходят… совсем.
— Как не ходят? — спросила Софья Семеновна. — От рождения или после болезни?
Ксюша, недоумевая, посмотрела на докторшу. Разве это так важно? Тем более, что ни Санька, ни тетя Наташа об этом ничего не говорили.
— Я не знаю… Но ведь это все равно, правда? Его можно вылечить? Он… он даже в школу не ходит. Все ходят, а он нет.
Игорь Владимирович нахмурился, постучал пальцами по краю стола и взглянул на Софью Семеновну, точно спрашивая: «Ваше мнение?»
— Сколько лет мальчику? — спросила Софья Семеновна.
— Не знаю… я его не видела. Я только картины его видела. Он Саньке и другим ребятам полные стены надарил. Но я все, все про него узнаю, если надо. Помогите Тиме, пожалуйста.
Игорь Владимирович прошелся по кабинету, покачивая своей лохматой головой. Потом остановился перед Ксюшей и несколько секунд разглядывал ее. Точно смотрел, смотрел и вдруг увидел.
— А ведь мы с тобой еще не познакомились. Как тебя зовут?
Ксюша оробела: неужели откажет?
— Ксюша, — пробормотала она и поправилась: — Ксения Ермакова. Это по-настоящему если.
Игорь Владимирович подошел к столу, вырвал из календаря листок и что-то быстро написал.
— Держи, Ксения Ермакова. Здесь телефон. Пусть мать мальчика позвонит мне.
Ксюша чуть не захлопала в ладоши от радости, но вовремя спохватилась, спрятала листок в карман шубы и вприпрыжку понеслась сначала по коридору, потом по двору к проходной.
XIV. Утро
Зеленый дракон с красной пастью, с глазами-блюдцами гнался за Наташей по лесу. Наташа бежала, размахивая руками. На голове у нее белела круглая докторская шапочка. «Ксюша-а-а!» — кричала Наташа. Ксюша испуганно металась, натыкалась на сосны. Наташа в беде, Наташа в беде… ее надо спасти! Наконец Ксюша выбралась на полянку и бросилась дракону наперерез. Вот сейчас она схватит его за крыло и спасет Наташу… Но дракон вырвался, взвился над лесом и запел: «На зарядку, на зарядку…» Ксюша тоже взлетела высоко-высоко. Лес остался где-то там, внизу, и кружился, уходя вдаль, словно Ксюша все еще смотрела на него из окна самолета. Дракон дыхнул Ксюше в лицо живым теплом и закричал: «На зарядку — становись!»
«Это сон, это просто сон», — подумала Ксюша еще во сне и проснулась.
Большой рыжий пес стоял на тахте передними лапами и смотрел на Ксюшу влажными карими глазами.
Собака? Откуда она взялась? У них же нет никакой собаки… Может, папа привез… Ой, это же Мишка! «Мишенька…» — Ксюша обхватила Мишкину морду руками и прижала ее к себе. Пес счастливо взвизгнул и лизнул Ксюшу в щеку.
Ничего себе, заспалась… Все на свете забыла. Они же с мамой в Ленинграде, спят в Санькиной комнате, а сам Санька ночевал в комнате родителей на раскладушке…
В комнате было совсем светло. Солнечные лучи квадратом лежали на подоконнике. А из-за окна, снизу шел слитный гул, словно там была не улица, а цех бумажной фабрики…
За стеной, в соседней квартире, громко играло радио. Наверное, соседи всей семьей делали утреннюю зарядку.
Сколько же сейчас времени? Наверное, много. Странно, почему мама не разбудила ее? У них же сегодня столько дел! Эрмитаж один чего стоит. Он, наверное, как сказочный дворец, весь из белого мрамора… А на Невском везде красные флаги, раз в этом городе родилась революция.
Ксюша взглянула на стол. Санькиного портфеля не было. Значит, он уже ушел в школу. Вот бы посмотреть хоть одним глазом, что делается сейчас в Ксюшином классе… Софья Петровна, конечно, очень удивилась, что Ксюша так внезапно улетела в Ленинград. И все ребята удивились. Интересно, Наташка тоже удивилась, или нет? Раньше, до ссоры, они даже на один день не расставались просто так… Может быть, Наташа все-таки скучает без нее? А если нет? Ну и пусть. Пусть даже радуется, что Ксюша уехала…
Ксюша будто наяву увидела Наташу, как она ходит по классу, трясет голубыми бантами и радуется, что Ксюши нет… Пустое место рядом с Наташей за партой… А может, уже и не пустое? Может, Софья Петровна посадила рядом с Наташей кого-нибудь… да ту же сонную тетерю Галку Серегину, чтобы Наташа помогала ей по русскому. А потом они вместе пойдут домой… Интересно, с кем Наташа будет теперь бегать на лыжах во время каникул? Эта Серегина на ногах-то еле стоит, не то что. на лыжах.
Ксюша сердито помотала головой, чтобы прогнать тоскливые мысли. Ей стало вдруг невыносимо обидно… ну, просто хоть плачь! Она торопливо вытерла мокрые глаза. Ну, уж нетушки, плакать она не станет. Было бы из-за чего.
За стеной на кухне полилась из крана вода. Звякнула чашка. Послышался негромкий мамин смех. Со вчерашнего дня она ходит веселая и смеется над каждым пустяком. Палец покажи, а она смеется. Значит, отец действительно поправляется и через три, нет, уже через два дня, как обещал Игорь Владимирович, выйдет из больницы. Скорей бы!
Ксюша надела платье и вышла в кухню, радостно вдыхая запах горячих блинчиков с мясом.
Солнце и здесь лежало квадратиками на подоконнике, точно заглянуло на минутку и сейчас уйдет. Совсем юное, по-зимнему робкое мартовское солнышко, едва только начало набирать силы, чтобы подняться выше и по-хозяйски расположиться на улицах и в квартирах.
— Ага, соня-разсоня, проснулась! — сказала мама, улыбаясь. — А мы-то думали, что ты проспишь до обеда. Ну, рассказывай, что ты видела во сне и на новом месте?
— Дракона! Зеленого-зеленого, с глазами, как блюдца! Он летел и пел: «На зарядку, на зарядку…»
— Ксения, не смеши меня, — сказала тетя Наташа жалобно, — а то я пролью чай и закапаю платье… Сегодня я обязана выглядеть, как киноактриса.
Только теперь Ксюша обратила внимание, что тетя Наташа одета и причесана так, словно собиралась в театр. На ней было узкое черное платье с громадными белыми, как у мушкетеров, манжетами и таким же воротником, приподнятым сзади. Наверное, поэтому она пила чай стоя, стараясь держать чашку подальше и, делая очередной глоток, по-гусиному вытягивая смуглую шею.
Значит, тетя Наташа будет сниматься в кино? Ой, как интересно! Митрохина просто завянет от зависти, когда узнает, что у Ксюши есть знакомая, которая снималась в кино.
— Тетя Наташа, а вы в каком кино будете сниматься? В настоящем художественном?
Тетя Наташа с недоумением взглянула на Ксюшу, а мама рассмеялась.
— Держи выше, детеныш! Тетя Наташа сегодня докладывает ученому Совету института результаты своей работы. Не бледней, Натка, я уверена, что доклад пройдет на «ура».
— Тьфу! Тьфу! — испуганно воскликнула тетя Наташа.
Она поставила чашку в раковину и села на табуретку, потирая виски дрожащими пальцами.
— Я считаю, что рано делать выводы… если бы не настойчивость Дмитрия Ивановича, я не стала бы сегодня докладывать… ни за что не стала бы… меня засмеют…
Ксюша поежилась. Босые ступни мерзли на холодном линолеуме. Она тихонько села на табуретку возле мамы и поджала под себя ноги.
«Что же это получается, — удивленно подумала она, — значит, и взрослых могут заставить делать то, что они не хотят? Интересно, а папу смог бы кто-нибудь заставить? Ха! Так он и дался, пусть только попробуют. Тетю Наташу, конечно, запросто… вон она какая худая и слабая».
Ксюше сделалось жаль ее. Дядя Павел, наверное, ничего не знает, а то разве бы он дал ее в обиду?
— Тетя Наташа, а вы возьмите и откажитесь. Не имеют права насильно.
Тетя Наташа перестала потирать виски и, наклонив голову, удивленно посмотрела на Ксюшу поверх очков.
— Отказаться? Как это я могу взять и отказаться?
— А что? Запросто. Скажите: не хочу, и все.
— Не хочу, и все? Так просто? А если надо, тогда как быть?
Ксюша обиделась. Здрасте, она же еще и виновата… С этими взрослыми лучше не иметь решительно никакого дела. Возмущаются, спорят, наговорят сто слов, а потом скажут: «Надо» — и все. Как будто это «надо» самое главное слово.
Мама положила блинчики на тарелку и придвинула ее Ксюше. Потом налила в чашку крепкого чая.
— Ешь и не вмешивайся в разговоры старших.
А кто вмешивается? Никто и не вмешивается. Слово сказать и то нельзя. Ксюша скривила губы и начала обводить вилкой синий квадратик на клеенке. Пусть мама теперь и не надеется, что она будет есть противные блинчики.
— Ксения, не капризничай. Ешь.
— А я, между прочим, еще не умывалась.
— Ну, знаешь… — сказала мама. — Сейчас же иди в ванную.
Ксюша поднялась и медленно побрела в ванную. Там она открыла кран, подержала под теплой струей сначала пальцы левой руки, потом правой, затем смочила отдельно нос и лоб.
— Дмитрий Иванович — твой руководитель, — говорила между тем мама на кухне. — И если он нашел нужным обнародовать ваши исследования, — значит, пришло время и есть что показывать. А все твои «ахи» и «охи» от самой элементарной трусости. Нельзя же так, Наташа. Сколько людей страдает от пищевых отравлений, особенно рыбными консервами. Может быть, именно тебе удастся найти противоядие… Ну, ладно, ладно… не буду… Я сделаю другое — поеду с тобой.
— Спасибо, Лидочка! Я все время хотела попросить тебя об этом, но боялась нарушить твои планы.
Ксюша швырнула полотенце на пол и выскочила на кухню.
— Мама, мы же хотели в Эрмитаж! Ты же обещала!
— Завтра, детеныш. Завтра обязательно.
Да что же это такое?! Вчера вечером перед сном мама сама сказала, что сегодня они пойдут на Невский, на Дворцовую, а потом в Эрмитаж. А теперь получается, что Ксюша должна целый день сидеть дома одна…
— Ну, мама…
— Ксения, не хнычь. Так надо.
И все. Спорить и просить бесполезно.
— Съешь блинчики, вымой посуду. И не выходи никуда из дома, пока Саня не вернется из школы.
Ксюша так расстроилась, что даже не слышала, как ушли мама и тетя Наташа. Она стояла в кухне возле окна и сквозь слезы смотрела на улицу. Там, внизу, красными гусеницами ползли трамваи, бежали блестящие, как разноцветные жуки, легковые машины, на автобусной остановке стояли люди и смеялись…
А почему бы им не смеяться? Их никто не обманывал, не заставлял сидеть одних целый день в квартире в другом городе. И зачем только мама потащила ее с собой в Ленинград? К папе Ксюшу все равно не пустили. В Эрмитаж и музеи маме некогда идти, надо спасать тетю Наташу, чтобы ее не засмеяли.
Раньше Ксюша думала, что взрослые ничего не боятся. А оказывается, даже самые храбрые боятся смеха… Даже папа. Даже Игорь Владимирович и то, наверное, боится… Ой, как же она забыла! Надо скорее идти и разыскивать Тиму…
Да, но мама же не разрешила выходить из квартиры. Неужели сидеть и ждать, пока Саня придет? А если он задержится в школе? Нетушки, раз у мамы свои дела, тогда и у Ксюши свои. У каждого человека должны быть свои дела, и никто их за него не сделает.
XV. Урок самбо
Ксюша убрала со стола грязную посуду, вымыла ее и пошла в комнату застилать постель. На скомканном одеяле, свернувшись в клубок, сладко спал Мишка, прикрыв нос пушистым хвостом. «Значит, будет мороз», — подумала Ксюша. Дед Савелий говорил, что животные заранее чувствуют перемену погоды. Если собака спит, прикрывая нос хвостом, а кошка лапой, — значит, ночью или на следующий день здорово похолодает.
Ксюша согнала Мишку с постели. Он недовольно заворчал, потянулся, раззявив клыкастую розовую пасть, и полез досыпать под тахту. Ксюша аккуратно застелила тахту клетчатым пледом, потом подмела квартиру. Ну вот, кажется, и все. Порученные дела сделаны, можно приниматься за свои.
Ключи от квартиры лежали в коридоре на подзеркальнике. Ксюша надела шубку, сунула ключи в карман и решительно захлопнула входную дверь за собой.
Вчера, когда Ксюша ждала маму и Новиковых в проходной, ей не терпелось поскорее рассказать о записке Игоря Владимировича и о том, что Тиму теперь вылечат. Но когда мама и Новиковы пришли, Ксюша вдруг подумала: а что, если Тиму не смогут вылечить? Все обрадуются, станут хвалить Ксюшу, а Тима будет по-прежнему сидеть у окна худой и бледный… Нет, она не скажет ни одного слова. Даже Саньке. Пусть Тиму сначала вылечат.
Спускаясь на лифте, она пожалела, что не узнала у Саньки, где Тимино окно. Ничего не поделаешь, придется обойти весь дом, заглядывая в окна первого этажа. Конечно, Тима удивится, когда увидит под окном незнакомую девочку. Ну и что? Все люди сначала незнакомые, а потом знакомые. В большом городе, конечно, другое дело, а вот в деревне, куда они с дедом за пшеничной мукой ездили, все с ними здоровались. Это приятно: сразу перестаешь чувствовать себя чужой.
Двор перед домом был огромный. Его даже нельзя было назвать двором. Просто громадное поле, заваленное снежными сугробами, а из сугробов торчат тоненькие голые деревья.
Вокруг дома шла асфальтовая дорожка. Снег с дорожки был сметен на газоны. Ксюша пошла по дорожке вдоль дома, наступая сапогами на прозрачный ледок, затянувший лужи. Ледок трещал под ногами, как тонкое стекло.
Первый этаж дома оказался высоко, выше Ксюшиной головы, и снизу ей были видны только цветочные горшки на подоконниках. Но она все шла и шла, упрямо надеясь увидеть за темным стеклом бледное лицо Тимы.
Возле последнего подъезда на обледенелой скамейке сидел мальчишка в черной лохматой шапке с оторванным ухом и прилаживал крепление к лыже. Он то и дело дул на красные пальцы и был зол на весь мир.
Ксюша подошла и остановилась. Было бы здорово, если бы мальчишка дал ей пробежаться на лыжах по этому снежному полю. Правда, самой Ксюше еще не приходилось прокладывать лыжню. Это делали обычно дед и отец. Но здесь и снег, наверное, не такой глубокий.
— Чего уставилась? — буркнул мальчишка.
— А что, нельзя?
— Проваливай своей дорогой. Здесь не цирк.
— Я и сама догадалась, — миролюбиво согласилась Ксюша, — в цирке звери дрессированные, а ты дикий.
— Чего? Чего?
Мальчишка выронил лыжу и вскочил, сжав кулаки.
— То, что слышал, — сказала Ксюша.
— Нет, ты повтори!
— А то что? Ударишь, да? Ах, как я испугалась!
Мальчишка презрительно фыркнул и сплюнул Ксюше под ноги.
— Девчонку? Руки неохота марать…
— Скажите пожалуйста! — возмутилась Ксюша. — Девчонки, бывает, еще лучше умеют драться!
— Три ха-ха! В косы друг другу вцепятся и пищат, как кошки.
— Да? А самбо не хочешь?
— Чего? Самбо? Не свисти!
И тут Ксюша не выдержала. Она изо всех сил старалась держаться спокойно и гордо, но презрительный тон мальчишки окончательно вывел ее из себя. Да кто ему право дал считать девчонок хуже? Ну, уж нетушки! Нахалов надо учить!
Ксюша метнулась вперед, захватила его правую руку по всем правилам учебника, мгновенно повернулась к нему спиной, так, чтобы его правая рука оказалась у нее на плече, и резко наклонилась вперед. Мальчишка перелетел через Ксюшу и грохнулся к ее ногам.
Все произошло так быстро, что он, уже сидя на ледяной дорожке, все еще не мог опомниться.
— Ты что? Ты что, с ума сошла?! — заорал он наконец.
Ксюша гордо молчала, наслаждаясь победой. Жалко, что Наташе тогда вывихнула руку, а то бы Ксюша еще и не таким приемам успела научиться.
— Вот это да! — крикнули из подъезда, и оттуда выбежал еще один мальчишка, тощий, как цыпленок, с острым красным носиком.
— Ничего себе молодежь растет на нашу голову! — восхищенно сказал он. — Откуда ты возникла? Я тебя раньше не видел. Юрка, вставай… Бой был честный, я видел. Разве девчонок принимают в секцию? Туда только парней записывают, да и то с четырнадцати лет. Я пробовал, знаю.
— А я сама, — сказала Ксюша, — по книжке.
— Брось… Хотя да, — он засмеялся и вытер варежкой мокрый нос, — картина была что надо!
Юрка поднялся, надел шапку и обиженно пробурчал:
— Хватает, дергает… Рада, что научилась. Я к тебе первый лез, да? А тебе, Колька, хорошо смеяться, тебя бы так…
Колька виновато шмыгнул простуженным носом и сказал примирительно:
— Ладно тебе… подумаешь, разок бросили, зато по правилам. Обидно, когда не по правилам, а когда по правилам, тогда честно. — Он повернулся к Ксюше. — Правда, откуда ты такая?
— Из Сыктывкара.
— Из Сыр… Сык… Это что, район такой новый?
— Из Сыктывкара, — поправила Ксюша. — Это столица целой Коми-республики, если хочешь знать.
Мальчишки переглянулись. На лицах у них было такое удивление, словно Ксюша прилетела с другой планеты.
— Это где? — спросил Юрка. — На Севере или в Казахстане?
Ксюша засмеялась, хотя ей было обидно за свою республику.
— Не там и не там. Сторона Коми знаете какая большая? В Воркуте еще зима, а в Сыктывкаре уже весна… За один день на самолете не облетишь. А лес у нас такой… такой, что вы такого и не видели даже! И Бумажный комбинат, и шахты, и… все есть! Все, что хочешь! Я с дедом Савелием и на охоту ходила, и на рыбалку!
Теперь мальчишки смотрели на нее с откровенной завистью.
— А в Ленинград ты надолго?
— Нет. Завтра или послезавтра улетим.
Колька вздохнул. Острый носик его горел огнем и распухал просто на глазах. Он то и дело вытирал его варежкой.
— Везет же людям… Я еще ни разу не летал. Юрка летал, а я нет.
Юрка важно кивнул и сказал с безразличием бывалого летчика:
— Я на всех самолетах летал. Ничего особенного. А ты к кому приехала?
— К Новиковым.
— К Саньке Новикову? — удивились и обрадовались мальчишки. — Мы с ним в одном классе учимся.
Ксюша забеспокоилась. Если Санькины одноклассники дома, может, и он уже пришел? А вдруг у него ключей нет? Но ведь еще рано…
— Разве уроки уже кончились? — спросила она.
Колька засмеялся.
— Нет. У меня ангина, а Юрка за компанию в школу не пошел. Раз мы друзья, — значит, все пополам. Все равно послезавтра каникулы. Одному-то скучно болеть.
— Еще как скучно, — согласилась Ксюша.
Вот это настоящие друзья, подумала она. А Наташка ни разу не осталась дома, когда Ксюша болела… и еще уроки заставляла делать.
— У меня тоже одна настоящая подруга была, только мы с нею поссорились.
— Насовсем?
— Не знаю, — Ксюша вздохнула, — может, и насовсем.
— А мы с Юркой один раз всего поссорились. На прошлой неделе. Нам задачку трудную задали, а по телику кино интересное было. Ну, думаю, завтра у Юрки перед уроками спишу. А он тоже кино смотрел и думал, что у меня спишет. Так нам обоим по паре и влепила училка. Мы с ним сначала поссорились, а потом помирились. Раз обоим одинаково, верно?
— Конечно. Раз вместе, тогда другое дело. А мы с Наташкой всегда вместе уроки готовили. Только она списывать не давала.
— Знаем таких. В отличники лезут, — презрительно сказал Юрка.
— Сам ты лезешь! — рассердилась Ксюша. — Наташка не такая, понял? Она сама по себе хорошо учится, потому что умная. Тихая, тихая, а умная. Ее самой первой в пионеры примут.
— Чего ж ты с нею поссорилась, если она такая хорошая? — ехидно спросил Колька.
— Тебя не спросила, — отрезала Ксюша и насупилась.
Ей не хотелось говорить об этом. Да и что скажешь, если она и сама ничего понять не может? Дружили, дружили, и на тебе — стали чужими. Раньше Ксюша даже не представляла, что так может быть. Если бы кто другой обвинил Ксюшу в трусости, а то Наташка… Мало ли Ксюша за нее заступалась? Никогда ничего не боялась, а тут промолчала просто, и все. Юрка с Колей небось не поссорятся из-за такой ерунды, раз они настоящие друзья. Ну и пусть. Ксюша еще найдет себе настоящих друзей, получше Наташки.
— Пошли с нами на лыжах? — предложил Юрка. — Во-он за тем домом есть законная горка.
— Не могу. Мне еще одного мальчика надо найти.
— В нашем доме? — спросил Юрка. — Как его фамилия?
— Я не знаю. Его зовут Тима… Он не ходит. Может, вы знаете его?
— Еще бы! Конечно, знаем. Он всем картинки нарисованные дарит про космос. Он что, твой знакомый?
— Нет. У меня к нему дело есть. Только я не знаю, где он живет.
Юрка положил лыжи на скамейку и сказал:
— Коль, ты иди покажи, а я пока крепление прилажу.
Коля повел Ксюшу в средний подъезд, поднялся по лестнице на первый этаж и остановился возле двери неподалеку от лифта. Дверь была обита черной кожей.
— Здесь, — сказал Коля, — ну, я пошел. Пока!
Он отошел на несколько шагов и повернулся к Ксюше.
— Слушай… А ты потом выйдешь гулять? — шмыгая носом, спросил он.
— Не знаю… может, и выйду.
— Выходи, ладно? Мы ждать будем!
Колька убежал. Ксюша постояла немного, собираясь с мыслями. А здорово получился этот прием. Ксюша вспомнила, какое ошеломленное лицо было у Юрки, когда он сидел на асфальте и моргал глазами, и улыбнулась. Ничего, этот урок самбо ему на пользу — будет знать, как обижать девчонок. Да что с них взять? Уроки мотают, а где Коми, не знают… совсем еще неграмотные.
Она придирчиво осмотрела шубку, поправила шапку и решительно нажала звонок.
XVI. Вот ты какой, Тима
Дверь открыла рослая женщина с красным мокрым лицом и красными распаренными руками. На оголенных локтях висели клочья мыльной пены. Дверь в ванную была открыта, и оттуда валил пар.
— Постой, я воду прикрою! — сказала женщина и побежала в ванную.
Ксюша осталась стоять в открытой двери, не решаясь войти. В ванной стало тихо. Женщина снова вышла в коридор, оправляя прилипшее к телу, влажное платье.
— Чего не заходишь? Пришла, так проходи, не бойся. Тебе кого?
— Мне… Мне нужен Тима.
— Тима? — удивленно переспросила женщина. — А ты откуда? Не из школы?
— Нет… Я сама по себе.
— Ага… — Женщина кивнула, развязала марлевую косынку и вытерла лицо и шею. — Ф-фу-у… упарилась. В прачечную жалко отдавать — рвут на этих машинах, а теперь трудно стало управляться, годы не те. Значит, сама по себе? А я думала, ты от Ирины Степановны, задачки Тиме принесла.
— Нет, я сама по себе, — повторила Ксюша, — мне Тима нужен. Очень.
— Ну-ну, — сказала женщина, разглядывая Ксюшу маленькими светлыми глазами. Их почти не было видно из-под набрякших век. — А зачем он тебе? Ты чья такая будешь? Что-то я не припомню…
Ксюша почувствовала себя ужасно неловко. Она вспомнила, как удивился дядя Павел: «Ну, посуди сама, с чего бы это я взял и пошел к незнакомым людям? Что я им скажу?» А она-то тогда еще подумала, что дядя Павел безразличный человек… Может, это и есть Тимина мама? А вдруг она не хочет, чтобы к Тиме кто-нибудь приходил, особенно незнакомые? Ну и сказала бы сразу, а то пристала: кто, что, почему… Как будто один человек не может просто так прийти к другому человеку. Разве надо помогать только знакомым?
— Да ты не обижайся… ишь какая гордая. — Женщина усмехнулась. — Нету его, Тимы-то. На деньрожденьи он.
Ксюша растерялась.
— К-как нету? Он же… Разве он уже ходит?
Вот это номер… Значит, она зря старалась? Женщина махнула рукой и вздохнула.
— Какой там ходит… От такой напасти докторов нету. Не изобрели еще. Я и то говорила Марии: куда парнишку тащишь? Своего счастья нету, нечего и на чужие любоваться — только душу травить. Просидел дома семь лет, а теперь нате вам, по гостям таскать сына вздумала. А если грипп какой подцепит?
— Семь лет? — ужаснулась Ксюша.
— Ну да! Четыре годка ему было, когда он свалился с забора и зашиб спину. С той поры и болеет. Мария по докторам все ноги до колен стоптала, да все без толку.
— А как же он пошел на это деньрожденье? — спросила Ксюша.
— Не пошел. Повезли его на машине. Мария с подружкой. У Лизиной дочки праздник сегодня. Дети соберутся, вот они и решили — пусть у нашего Тимофея хоть раз в жизни тоже праздник будет. Я, конечно, против была, да кто старую тетку послушает?
— А когда он вернется?
— Кто его знает. Может, завтра, а может, и послезавтра. Машину закажут и привезут.
Ксюша расстроилась не на шутку. Вдруг Тима действительно вернется только послезавтра? А послезавтра выписывается отец… Неужели она так и уедет, не повидав Тиму? И как же быть теперь с запиской Игоря Владимировича? Эта тетка говорит, что Тимина мама уже была у докторов и ничего не вышло…
— А тетя Мария у всех-всех докторов была?
— Да уж… побегала. У тебя какое дело-то к Тимофею?
Ксюша растерянно молчала, не зная, что сказать. Да и что говорить, если Тимы нет и доктора его уже смотрели?
— Я… Мы к Новиковым приехали, а у Сани картины Тимины на стенах висят…
Тетка понимающе покивала головой.
— Вона что… Значит, потянуло своего к своему.
— Как это — своего? Мы же не знакомые.
— А это здесь ни при чем. Люди, милая, тоже на разные породы делятся. У одних душа к красоте да мечте повернута, а у других — к пирожным. Приходил тут из школы один парнишечка. Такой чистенький да гладенький. Посмотрел Тимофеевы рисунки и говорит — баловство. Нужно, говорит, отражать жизнь, а не выдумывать. Красиво, мол, только то, от чего польза бывает. И кенарь птица бессмысленная, и кошка, поскольку медики давно всех мышей повыводили… Я глянула на Тимофея, а он сидит такой скучный, будто у него вся кровь замерзла. Взяла я тогда этого парнишку за плечико, вывела в коридор и говорю тихонько: «А ну-ка, иди от нас подальше и приноси пользу ногами, если души нет. Человеку не только есть надобно…» А он мне: «Вы, Полина Ивановна, отсталая женщина…»
Полина Ивановна улыбнулась. Светлые глаза словно оттаяли:
— Я теперь к Тимофею просто так не пускаю. А то придет еще такой мускулистый да ненароком ногой на сердце наступит. У тебя душа-то, видно, сродни Тимофеевой… Жаль, что его нету.
В комнате громко запела птица. Сначала отрывисто, точно прокашливалась, пробуя горло, а потом залилась такой длинной трелью, что Ксюша испугалась — вдруг у птицы не хватит дыханья и она задохнется.
— Кто это? — шепотом спросила она.
— Кенарь. Геркулесом зовут. Я уж Тимофея корила: у птицы имя должно быть нежное, а он выдумал… еще вермишелью бы назвал.
Ксюша невольно улыбнулась.
— Геркулес — это был такой герой, самый сильный во всей Древней Греции. Я сама про него читала.
— Ну, раз в книге прописано — другое дело. А Тимофею я еще дам. Вздумал над старухой насмешки строить. Нет, чтоб объяснить… Я ему: «Ты зачем птицу крупой обзываешь?» А он смеется: «Тетя Поленька, человек без каши, как птица без крыльев… ни туды, и ни сюды». А еще у него тритон Гена в банке живет. Ну, чисто крокодил, только маленький. И рыбы всякие. И хомяк Мыслитель. Встанет посреди клетки и стоит часами. Хочешь посмотреть?
— Очень, — сказала Ксюша.
Полина Ивановна открыла дверь в глубине коридорчика.
— Иди. Ты не смотри, что наш Тимофей без ног. Такого выдумщика да насмешника — поискать.
Ксюша следом за Полиной Ивановной вошла в комнату и удивленно огляделась. Эта комната совсем не походила на обыкновенные комнаты, в которых живут. Она была похожа скорее на зимний сад. Ксюша видела такой сад в общежитии шахтеров под Воркутой.
Здесь не было никакой мебели, только письменный стол в углу, да книжные полки в два ряда вдоль стен, чтобы Тиме было удобно, сидя в кресле, взять любую книгу. На стенах висели акварели, а между акварелями чуть ли не с потолка спускались длинные зеленые бороды цветов. И на окне, и на полу под полками тоже стояли разные цветы. Возле окна стоял мольберт с недорисованной картиной, торчали в деревянном стакане кисти, обернутые в аккуратные бумажные колпачки, несколько коробок с красками. Рядом с мольбертом — круглый аквариум с рыбками, а чуть подальше возвышалось розовое дерево. На толстой ветке сидел, надутый, как шарик, серенький кенарь и смотрел на Ксюшу черной бусинкой.
В стене слева был дверной проем во вторую комнату, но двери не было. Вместо двери свисали ветви цветов. Там стояли две кровати, шкаф и пустое кресло на больших колесах. В кресле спал пушистый желтый кот.
— А где Мыслитель? — спросила Ксюша.
— А под столом. Любит спать в темноте, — сказала Полина Ивановна, — а Геннадий в банке на окне. Во-он там, за бегонией. Сейчас я их кормить буду.
— А кот не съест Геркулеса?
— Что ты! Наш Прометей добрый. Тимофей его так воспитал. И с Геркулесом они дружат. Из одной миски едят, можно сказать. Попробуй подойди к кенарю…
Ксюша подошла к дереву, протянула руку. В ту же секунду Прометей одним прыжком перемахнул всю комнату и, вздыбив шерсть, зашипел на Ксюшу. А кенарь раздулся шариком и нахально защелкал, словно предупреждал: «Только тронь… Прометей тебя съест!»
Полина Ивановна засмеялась, довольная.
— Видала? Лучше отойди от кенаря, а то Прометей и укусить может. За себя не укусит, а за друга может. Я сейчас только за кормом схожу.
Ксюша на всякий случай отошла от дерева и принялась рассматривать картины. Здесь они были совсем другими, не такими, как у Саньки. Вот букет цветов на снегу… И видно, что мороз и ветер, а цветам ничего не делается… даже снег вокруг подтаял. На другой — рослая громадная женщина, чем-то похожая на Полину Ивановну и даже на Марью Петровну, прижала рукой к своей груди много-много маленьких людей и отогревает их дыханием. Те, кого она уже согрела, розовые и улыбаются, а другие еще совсем синие… А вот девочка в белом платье танцует на прозрачной планете из острых льдинок. Там, где девочка уже ступила ногой, льдинки растаяли и распустились цветы.
Эта девочка была очень похожа на Наташу. Такая же беленькая и, наверное, тихая… Хотя какая же Наташа тихая? Вон как заговорила… И не с кем-нибудь, а с единственной настоящей подругой… Ксюше стало просто невыносимо грустно. Она хотела отойти от картины и не могла. А девочка все танцевала и танцевала, и от ее танца на холодной планете поселялось тепло… Что же случилось тогда с Наташей? Они же всегда и во всем были вместе, а тут вдруг…
— Нравится? — спросила Полина Ивановна.
— Очень.
— А мне больше всего вот это по сердцу, — Полина Ивановна подошла к акварели, висевшей напротив, и встала, подперев щеку кулаком.
На картине был нарисован космонавт в серебристом комбинезоне. Высокий, широкоплечий, с красным, обожженным лицом. Он только что вышел из помятой, обгорелой ракеты и остановился. В одной руке он сжимал шлем с круглыми очками, а в другой держал обыкновенный подорожник. И плакал, улыбаясь…
— Гляди-ка… через все прошел человек, а увидал родную землю — и дрогнуло сердце, — сказала Полина Ивановна. — То святые слезы… Нет для человека ничего дороже родной земли. Тимофей рассказывал про всякие чудеса, которые на этих планетах водятся. Может, и выдумывал, а может, правда, не скажу, не знаю. Одно знаю — на родимой сторонке и бедовать слаще… Уж так я это понимаю, так понимаю… Чай будем пить?
Полина Ивановна спросила про чай без всякого перехода, и Ксюша сразу даже не поняла, а когда поняла, обрадованно кивнула. Все, все здесь было не так, как Ксюша представляла себе. Не было бледного, несчастного мальчика. Никто не сидел у окна и не смотрел завистливо на заоконную жизнь. Она была здесь, эта настоящая жизнь, в этой комнате, и Ксюше больше всего на свете захотелось не уходить отсюда никогда.
Интересно, а какой Тима на самом деле? Наверное, большой, с сильными руками и веселыми глазами. Слабый не смог бы создать все это. Неужели его нельзя вылечить? Не может такого быть. Наверное, Тимина мама не у всех докторов была. Может, Игорь Владимирович как раз тот доктор и есть, который вылечит Тиму. Ксюша достала из кармана бумажку и решительно пошла на кухню.
XVII. Полина Ивановна
Чайник уже фыркал на огне, а Полина Ивановна, тихонько напевая, протирала полотенцем чашки.
— Как тебя зовут-то? А то говорим, говорим…
— Ксюша… Ксения Ермакова.
— Снимай, Ксюша, пальто и садись к столу.
— Подождите, Полина Ивановна, — нетерпеливо сказала Ксюша. — Здесь, в Ленинграде, есть один доктор… Он даже не просто доктор, а главный, самый главный врач, понимаете? У него в больнице мой папа лежит. Мы к нему приехали. Только папа уже поправился, и, наверное, послезавтра мы улетим домой. Маме на работу надо.
— Так, — сказала Полина Ивановна, нахмурясь, — и что дальше?
— Как что? — удивилась Ксюша. — Он же Тиминой маме свои телефоны написал и велел поскорее позвонить. Он даже сказал, что, наверное, вылечит Тиму.
— А откуда он про Тимофея узнал?
— Я ему сказала, а что? Санька мне рассказал, а ему… Мне просто ужасно обидно стало, что все… ходят, а Тима нет.
Полина Ивановна задумалась, потом сказала хмуро:
— Не знаю, как и быть… Мария зареклась возить Тимофея по врачам. Одно расстройство получается, а толку никакого.
— Мало ли что другие врачи говорили, разве можно им поддаваться? А Игорь Владимирович настоящий, честное слово!
— Страшно, Ксюшенька… Страшно Тимофея понапрасну обнадеживать. А с другой стороны — вдруг не поверим, а он самый случай и есть. Как тут быть — ума не приложу! Мария-то меня слушает, как-никак старшая сестра, вырастила ее заместо матери. Да и Тимофею уже теперь не знаю, кто я, то ли тетка, то ли бабка…
— Надо обязательно звонить, — сказала Ксюша, — Игорь Владимирович поможет, я знаю. Вот увидите.
Полина Ивановна сидела пригорюнившись и все вздыхала:
— А вдруг понапрасну? Тимофей-то уже привык к себе… такому-то.
Ксюша почувствовала, что ей не хватает воздуха, так возмутили ее эти слова.
— Не мог он привыкнуть! Он не такой, понимаете?! Это вы Тиму не знаете! Он никакой правды не испугается!
Полина Ивановна обиделась и встала.
— Это я Тимофея не знаю? Да как ты… Да я, можно сказать, всю свою жизнь ему отдала… У меня, кроме них, никого. — Она всхлипнула и закрыла лицо полотенцем.
Ксюша растерялась.
— Извините… Я не хотела… Это я из-за Тимы…
Полина Ивановна вытерла лицо докрасна и швырнула полотенце на стул.
— Да ладно, чего уж там. Это ты извини. Не со зла я… душа за парнишку вся изболелась.
— Я понимаю, — тихонько сказала Ксюша.
Полина Ивановна взглянула на нее искоса и вдруг улыбнулась.
— Ах ты птаха моя… Понимает! Постой, а может, и правда понимаешь, не умом еще, а сердцем? — Она села, взяла Ксюшу за руки и притянула ее к себе. — Скажи, ты веришь, что этот доктор поможет Тимофею?
— Верю, — твердо сказала Ксюша.
— Ну, быть по-твоему. Попробуем еще раз. А не получится, боле никому не дам парня теребить. Насчет правды-то, Ксюшенька, ты верно сказала — Тимофей не испугается. Он у нас сильный. В прошлом году волю начал закалять… — Она засмеялась. — И закалил! Ох, парень!
Ксюша даже ушам своим не поверила.
— Как волю? А как же он до проруби добрался?!
Полина Ивановна удивленно уставилась на нее, потом прыснула от смеха. Просто вся заходила, заколыхалась от хохота.
— Ну, девка, уморила! В прорубь… Что он, совсем дурной? Где же ты видела, чтобы в прорубь лазили волю закалять? Математику он терпеть не мог, еле тянул. А потом решил: «Буду закалять волю. Не люблю, а заставлю себя заниматься». И заставил. Краски в руки не брал, пока не вышел на одни пятерки. Ирина Сергеевна сначала даже не поверила, что это он сам все осилил… Вот он у нас какой! А ты… в прорубь…
И она снова зашлась смехом, даже закашлялась. Ксюша покраснела и отвернулась, пряча глаза. Если бы Полина Ивановна только узнала, как Ксюша закаляла волю… И чего понесло ее тогда в эту прорубь? Наташа тоже против была, хотя и не спорила особенно. Наверное, тоже не знала, как надо по-настоящему волю закалять.
Полина Ивановна отсмеялась, вытерла ладонью глаза.
— Значит, так. Сегодня Мария не придет, у Лизы ночевать останется. А завтра… Где записка-то? Вот завтра я утречком и поеду к ней на фабрику, вместе и позвоним. Ну, а там видно будет… Нечего наперед загадывать.
— Полина Ивановна, а можно, я завтра с вами поеду?
— Давай. И очень даже хорошо. Надо, чтобы Мария увидела, какой у нашего Тимофея верный друг объявился. Ты в каком городе живешь? Дай-ка я твой адресок запишу… Не люблю настоящих людей терять… Ты думаешь, только рисовать талант нужен? Не-ет, милая ты моя птаха, другом настоящим быть — тоже немалый талант нужен. Иногда друг скажет тебе обидные слова, дурак расфырчится, обидится, а умный задумается: «Для чего эти слова друг сказал? Может, для моей же пользы, может, он сердцем за меня болеет?»
— Полина Ивановна, а бывает так: дружили, дружили, а потом раз… и все? Как будто ничего не было?
Полина Ивановна плеснула горячий чай из чашки в блюдце, поднесла ко рту, подула. И, не отхлебнув, поставила блюдце на стол.
— Если дружба настоящая — не бывает. Настоящего друга потерять — все равно что сердца лишиться. Ничем не заменишь. Да ты пей чай-то, конфеты бери…
Она пододвинула Ксюше вазочку с карамельками. Но Ксюше пить чай что-то расхотелось. Она думала о Наташе, и странное дело, впервые за эти дни она вспоминала подругу не с обидой и злостью, а с болью.
— Полина Ивановна, я пойду, — грустно сказала Ксюша, — я завтра утром приду.
На улице Ксюша постояла немного. Тяжелые мысли ворочались в голове с трудом, как ржавые колеса. Тимины картины и разговор с Полиной Ивановной растревожили ее. Точно вошла она в их квартиру одним человеком, а вышла другим. И этому другому человеку почему-то хотелось плакать. Ну, уж нет! Ермаковы не сдаются! А может, люди растут не постепенно, а рывками? Может, она за это время немного подросла?
— Чего ты так долго? Мы ждем, ждем! — крикнул ей Колька.
Но Ксюша только махнула им рукой и медленно побрела по дорожке вдоль дома. Наверное, впервые в жизни ей захотелось побыть одной. Чтоб никто не мешал и не лез с разговорами.
Где-то там, далеко-далеко, за реками и долами, за бескрайней тайгой остался ее город. Отсюда, из Ленинграда, его и не разглядишь. Точка на карте. Но Ксюше он был хорошо виден и отсюда. Может, даже лучше. Вот она, ее школа… а возле школы, на скользанке Петька Григорьев опять, наверное, устроил кучу малу. Сколько раз из такой кучи Ксюша выбиралась без пуговиц. А чуть подальше, за углом, ее дом. И в этом доме на шестом этаже живет Наташа. Все ребята, как всегда перед каникулами, смазывают лыжи: готовятся к соревнованиям. Может, и Ксюша еще успеет… В прошлом году она заняла первое место среди вторых классов. Потому что всегда сама, как учил отец, смазывала свои и Наташины лыжи. А теперь Наташе некому смазать…
Ксюша словно увидела печальное лицо подруги. Такое же печальное, все запорошенное снегом, как тогда, возле проходной. Может, не надо было тогда вот так, сразу, обижаться на нее, а поговорить? Интересно, Тима поговорил бы? Конечно. Он сильный. Таким другом можно гордиться. И Наташа всегда гордилась Ксюшей и радовалась хорошим Ксюшиным делам больше, чем своим. А потом вдруг…
Ксюше внезапно вспомнился тот далекий разговор с библиотекаршей:
— Дружба на всю жизнь? Чтобы дружить всю жизнь, надо очень уважать друг друга…
И Красный уголок комбината… Софья Петровна тогда все спрашивала, спрашивала, а все молчали. Да они и не видели. Только Наташа знала. Ксюша будто увидела себя со стороны, как она стояла и тряслась от страха, что Наташа выдаст ее. А Наташа не выдала. Она верила, что Ксюша сама скажет… Может, она и плакала оттого, что Ксюша молчала? От стыда?
Ксюша остановилась и сунула сжатые кулаки в карманы. Конечно, Наташа перестала уважать ее после этого. А если нет уважения, какая же дружба? Что же делать? «Любая беда поправима, кроме трусости…» — это Софья Петровна тогда сказала. Значит, с Ксюшей случилась непоправимая беда… Ну, нет. Ермаковы не сдаются! Как только они вернутся домой, Ксюша сразу же пойдет к Софье Петровне. И конца каникул ждать не будет. Прямо домой. И отцу все расскажет. Хватит, один раз промолчала — и ничего хорошего не получилось.
От этого решения на душе Ксюши сразу стало легче. Она оглянулась и увидела, что к ней, размахивая портфелем, бежит Санька.
— Ищу, ищу везде, думал — заблудилась! Ты где была?
— В Сыктывкаре, — сказала Ксюша серьезно.
Санька ухмыльнулся. Он-то, конечно, был уверен, что она шутит. Ксюша не стала разубеждать его.
XVIII. Здравствуй, Ленинград!
А через день Ксюша улетала домой. Такси мчалось по городу к больнице. Там Ксюшу и дядю Павла ждали отец и мать. Мама не могла больше задерживаться ни на один день, и прямо из больницы они поедут на аэродром. Поэтому тетя Наташа и Санька не смогли поехать их проводить.
Ксюша с грустью смотрела на город, пробегающий мимо. Город, который она так и не узнала, так и не успела увидеть. Немножко — в первый день, немножко — вчера, когда они вместе с Полиной Ивановной ездили на фабрику к Тиминой матери.
Ксюша была уверена, что фабрика такая же, как комбинат: и трубы, и корпуса со стеклянными галереями, и железная дорога с паровозами и семафорами. На самом же деле фабрика оказалась обыкновенным домом, и если бы не голубая вывеска с разноцветными буквами, никто бы и не догадался, что в этом доме печатают книги.
Если говорить серьезно, то эта фабрика начиналась не с вывески и не с проходной, которой на самом деле не было, а с раздевалки. Такой раздевалки нет нигде, даже во Дворце пионеров. Ксюша просто засмотрелась на цветастые сияющие витражи с рыбаком и золотой рыбкой, с жар-птицей, с парящими среди звезд космонавтами в голубых скафандрах.
А потом они с Полиной Ивановной оказались в странном помещении, состоящем из многих комнат. Комнаты все были без дверей и переходили одна в другую. Здесь горел дневной свет и гремели под каблуками Полины Ивановны железные полы.
Во всех комнатах работали машины, и все время слышалось: тук-тук, тук-тук… Одна машина напоминала бильярдный стол с вертящимся валом посередине. С одной стороны стояла женщина в черном халате, совала под вал листы картона, а с другой стороны вылетали аккуратные квадраты. Как объяснила Ксюше женщина, здесь резали картон на переплеты для книг.
Другая машина была похожа на ткацкий станок, только вместо материи на станке двигались широкие полосы рулонной бумаги. Ксюша засмотрелась, как работает машина. Работница еле успевала вынимать стопки нарезанной бумаги.
— Ксюша, поди-ка сюда, — позвала ее Полина Ивановна.
Ксюша оглянулась и увидела рядом с Полиной Ивановной женщину в голубой косынке. Женщина что-то быстро говорила и все время трогала Полину Ивановну: то поправит ей воротничок, то застегнет пуговицу на кофте. Ксюша подошла к ним.
— Вот, Мария, это и есть Тимина новая подружка, Ксюша.
Женщина стремительно обернулась.
Так вот она какая — Тимина мама. Если бы Полина Ивановна не сказала, кто это, Ксюша все равно узнала бы сразу. На всех Тиминых картинах женщины были похожи на нее. Такие же тонкие, с длинными шеями и горячими янтарными глазами.
Полина Ивановна достала из нагрудного кармана кофточки бумажку с телефонами Игоря Владимировича и протянула Марии.
— Ксения говорила с хирургом, он сам дал ей этот телефон. Позвони ему, Маша.
Мария помолчала. Потом положила руки Ксюше на плечи, наклонилась и близко-близко посмотрела ей в глаза. Близко и пристально, словно хотела увидеть в них что-то такое, что не видно другим.
— Ты мне нравишься, — наконец сказала она, — ты не отводишь взгляд. Знаешь моего Тиму?
— Знаю, — сказала Ксюша.
— Да откуда ей знать, — ворчливо сказала Полина Ивановна. — Я ж тебе все объяснила. Приезжая она. Совсем из другого города — у меня записано.
— Нет, знаю, — возразила Ксюша, — я его картины видела.
Мария неожиданно поцеловала Ксюшу в щеку и выпрямилась.
— Не знаю, как и быть, — сказала она, — в который уже раз?
Полина Ивановна нахмурилась.
— А хоть в сотый! Я и сама вчера сомневалась. А сегодня думаю — надо. И Тима тебе то же скажет.
Ксюша с беспокойством смотрела на Марию. А вдруг она не решится позвонить, что тогда? Раз не получилось, два, но когда-нибудь должно же получиться.
— Боитесь, да? — спросила она.
— Боюсь, — откровенно сказала Мария, — боюсь, что опять понапрасну обнадежу Тиму. Да и мне-то каково?
Ксюша расстроилась. Выходит, из-за того, что тетя Мария боится, Тима так и останется невылеченным. От расстройства она шмыгнула носом, вспомнила, что носовой платок в спешке оставила дома, и окончательно разволновалась.
— Мало ли что раньше было. Папа говорит, что сейчас такие болезни лечат, что раньше и не снилось. Потом сами пожалеете.
Мария грустно улыбнулась.
— Хороший ты человек. Только маленький. Многого еще не понимаешь.
— Нет, понимаю, — обиделась Ксюша, — это вы не понимаете. А наша учительница говорит, что всякая беда поправима, кроме трусости.
Сестры переглянулись. Мария растерянно, а Полина Ивановна с торжеством. Видала, мол, какую я птаху к тебе привела?
— Ладно, Марья, мы пошли. А ты подумай, крепко подумай.
Мария кивнула и неожиданно улыбнулась. И сразу стало видно, что вообще-то она веселый человек и не сразу поддается унынию.
— А, ладно. Ты теперь все равно не отстанешь. Да и сама буду все время думать: а вдруг это тот случай и есть? — Она посмотрела на часы и предложила: — Ксюшенька, хочешь посмотреть, как книжки печатают?
Да разве об этом еще надо спрашивать? Вчерашняя Ксюша запрыгала бы от радости и захлопала в ладоши, а сегодняшняя сдержанно улыбнулась и сказала степенно:
— Спасибо. Очень хочу.
Ксюша решила, что она должна держаться с достоинством, как ведут себя воспитанные люди. Если решила начать новую жизнь, так во всем. Правда, в разговоре с тетей Марией она не удержалась и наговорила лишнего, но тут никто бы не удержался: речь-то шла не о чем-нибудь, а о Тимином будущем. Но в следующей же комнате, куда Мария заглянула на минутку по своим делам, вся Ксюшина солидность улетучилась. Она увидела на полу рулоны бумаги, в еще не снятой коричневой упаковке. На каждом рулоне сбоку был приклеен квадратный желтенький листок с надписью: «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный комбинат. г. Сыктывкар. Писчая бумага № 2. 1 сорт».
— Это же наша бумага! Наша! — закричала Ксюша. — Полина Ивановна, тетя Мария, посмотрите! Ее на нашем комбинате делали!
Пришли рабочие, стали грузить рулоны на низкие железные тележки. Полина Ивановна и Мария звали Ксюшу, а она все не могла успокоиться. Трогала рулоны руками, словно они были живыми. Ксюше казалось, что от них пахнет ее тайгой, ее соснами, ее городом. И вдруг очень захотелось домой. Так, будто она уже много лет и не видала родного дома.
А потом они поднялись в печатный цех.
Первое, что увидела Ксюша, была движущаяся дорога под потолком. Она была изогнута коромыслом. А на ней, как белье на веревках, висели на прищепках листы бумаги и все время двигались сверху, с середины коромысла к его концам. Внизу листы принимали две женщины. Одна брала лист осторожно за края обеими руками, а другая выбивала его из прищепок деревянной дощечкой.
— А зачем их повесили? — спросила Ксюша.
— Чтобы бумага привыкла к атмосфере цеха, — сказала Мария, — а иначе она в машине будет коробиться.
По обеим сторонам дороги стояли две голубые машины с железными мостками и перилами. По мосткам ходил парень в брюках на лямочках и заглядывал в машину.
Машины назывались офсетными. С одной стороны машины железные пальцы ловко вбрасывали листы бумаги из стопки вовнутрь, а с другой стороны — Ксюше пришлось пройти через весь цех — вертящиеся железные полосы выбрасывали из машины уже отпечатанные листы с текстом и цветными картинками и складывали их в стопку.
Смотреть, как работает машина, как растет стопка листов с картинками, можно было сколько угодно. Ксюша была уверена, что ей никогда не надоест. И все-таки она все время думала о том, что эту бумагу делали на комбинате и что без комбината эти машины остановились бы. Нет, еще раньше, без деда Савелия, который растит и бережет лес и разрешает рубить только там, где это полезно лесу.
Ксюша подошла к готовой стопе и, привстав на цыпочки, попыталась увидеть, что же там напечатано. И не дотянулась. Тогда Полина Ивановна подняла ее, и Ксюша увидела большой, как стол, лист, на котором было отпечатано сразу много одинаковых страниц сказки «Дюймовочка».
Полина Ивановна поставила Ксюшу на пол и сказала:
— Потом эти листы разрежут, сложат страницы по порядку и оденут в переплет.
Ксюша вспомнила спор в Красном уголке комбината в тот злополучный день и усмехнулась. Вот бы ребят сюда, они бы увидели, как печатают книги по-настоящему.
— На фабрике еще много разных цехов, да у меня времени нет. Я ведь на работе, — виновато сказала Мария. — В следующий раз я покажу тебе фотонаборный цех, и как работают ретушеры, и как одевают книги в переплет.
В следующий раз. А когда он будет, этот следующий раз? Тетя Мария сказала, что они летом будут ждать Ксюшу в гости. Хорошо бы мама отпустила. Может, и Тиму к тому времени вылечат.
Вот ведь как на свете все удивительно устроено, думала Ксюша, глядя в окно такси на город, который стал ей дорог, хотя она так и не увидела его. Вот ведь как удивительно устроено. У деда в лесу вырастают сосны, потом приходят лесорубы, потом сосны отправляют по реке в Эжву на комбинат и из сосен делают бумагу. А потом эту бумагу везут в Ленинград и печатают на ней книги уже для всей страны.
Лес на Тимшере, комбинат в Сыктывкаре, фабрика в Ленинграде, которые раньше жили каждый как бы сам по себе, теперь в воображении Ксюши слились в одно целое — громадное, как исполинская машина, у которой даже самое маленькое колесико вертится вместе с самым большим и одно без другого работать не может.
— Жаль, что вы так скоро улетаете. Всего три дня и побыли, — сказал дядя Павел, — ты даже Ленинград не увидела. Даже в кукольном не была, не говоря уже про Эрмитаж и другие музеи…
«Что же я расскажу Петру Кирилловичу, — расстроенно подумала Ксюша, — ведь обещала же… Он ждет».
— Ну, да ладно, — сказал дядя Павел, — зато с людьми хорошими подружилась.
Ксюша приободрилась и, загибая пальцы, чтоб никого не забыть, принялась перечислять:
— С Полиной Ивановной, с тетей Марией, с Тимой… хотя с Тимой еще, конечно, не совсем, но все равно я его уже хорошо знаю. С вами, дядя Павел, с тетей Наташей и Санькой… Еще с Юркой и Колей, я им вчера обещала книжку «Сказ о земле Коми» прислать. А то они решили, что Сыктывкар — это новый район Ленинграда. Совсем темные.
— Вот видишь, а ты расстроилась. Город, Ксюша, — это не только дворцы и музеи… Город — это и люди. Так что считай, узнала Ленинград, раз его люди пришлись тебе по сердцу.
И правда, обрадовалась Ксюша. Она расскажет Петру Кирилловичу про своих новых друзей. Чего лучше? А дома он и на картинках может посмотреть.
— Ой, — спохватилась она, — а про Игоря Владимировича и Софью Семеновну чуть не забыла!
— Столько новых друзей за три дня? — не выдержал шофер. — У иного и за всю жизнь столько не наберется. Хорошо жизнь начинаешь, дочка. Даже завидно.
Дядя Павел засмеялся и похлопал Ксюшу по плечу.
— Ничего, пока порядок. Самое трудное у тебя впереди, когда придется ответы на письма писать. Для меня так легче через Неву переплыть.
Ксюша промолчала. Ответы на письма писать разве трудно? Это приятно, хотя она, кроме папы, еще никому не писала, но все равно. Про самое трудное дело, которое ждет ее, дядя Павел не знает. И никто еще не знает.
Самое трудное — это Наташа. Ксюша понимала, что вернуть уважение подруги будет нелегко. Потруднее, чем рассказать обо всем Софье Петровне. Но она была готова к этому, потому что хорошо поняла: никакая беда на свете не сравнится с потерей друга. Потерять друга — все равно что лишиться сердца. А кому такой человек нужен — без сердца?











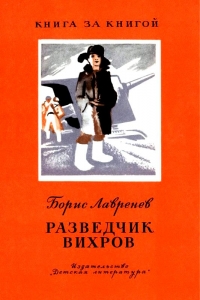
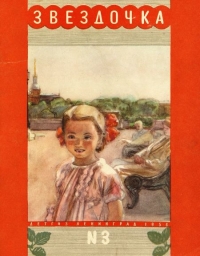

Комментарии к книге «Звонок из Ленинграда», Жанна Александровна Браун
Всего 0 комментариев