Обломок молнии
О ЮНОСТИ, О ПОИСКЕ, О СЧАСТЬЕ
Это книга о молодости и счастье — если в двух словах очертить содержание книги Людмилы Сабининой, — о счастье жить, мечтать, стремиться вперед, по-новому радоваться чувствам дружбы и любви, даже тревожиться и негодовать, если есть на то высокая причина… ведь все это с особенной силой испытывается в юные годы. О счастье искать, даже ошибаться или ушибаться о камни личных неудач (например, в повести «Родео Лиды Карякиной», в рассказе «Концерт Шумана ля минор»); счастье находить свою собственную тропинку в жизни, свою дорогу в труде и творчестве. На всех страницах этой книги, названной Людмилой Сабининой по одному из ее ранних рассказов «Обломок молнии», действуют юные герои: старшеклассники, абитуриенты и первокурсники институтов, ребята, работающие на колхозных полях, начинающие музыканты, творческая молодежь… Что они делают, чем живут, молодые герои этой веселой и яркой книги? К чему стремятся, какие цели ставят перед собой и, наконец, с какими требованиями к себе и миру вступают в большую жизнь? Сам внутренний мир этих школьников и студентов, поколения, выросшего в век атома и покорения космоса, не прост, не однозначен, напротив, он сложен и многогранен; необыкновенны их встречи и споры, труден их поиск своего собственного жизненного пути — а это и есть главная тема книги, — герои Сабининой требуют от жизни многого. Они непримиримы к своим и чужим недостаткам, острота мысли и бескомпромиссность — свойство многих из них; порой они слишком насмешливы, но всегда смелы, бескорыстны.
С интересом встречаешься на страницах книги с такими героями различных увлекательных историй и событий, с такими еще очень молодыми людьми… Главное в их характерах — стремление к большим и сильным чувствам, богатство и широта интересов, стремление каждого стать яркой личностью, человеком, крепко знающим свое дело, чтобы на равных успешно решать предстоящие проблемы века.
О чем, например, рассказывается в «Обломке молнии»? Мы видим тут старшеклассников и студентов на летней практике в колхозной деревне, ребят на работе в поле, их необычные приключения… Но герои в этом рассказе не просто постигают, чувствуют красоту русского леса и полевых просторов, не только помогают выращиванию урожая. Растут, постигают многое сами их души. Летние, густые, как борщ, запахи рассыпчатой черноземной почвы, хвойного леса, просторной реки — все это питает и обновляет духовную близость и любовь к русской природе, чувство Родины. Сама работа на поле выписана тут так колоритно и добротно, что возбуждает у читающего прямо-таки аппетит к этой работе, выписана любовно, с большим знанием дела; и мы воочию убеждаемся, что такая «летняя практика», простая работа ребят на земле духовно обогащает и облагораживает их. На фоне этой основной темы разворачивается и вторая линия рассказа — приключенческий, почти детективный сюжет: столкновение с расхитителями, поимка ночных преступников. А затем перед нами и еще одна сюжетная грань — лирико-романтическая: купание в ночной реке во время грозы, зарождающееся чувство между героиней рассказа Ксаной Ракитиной и студентом Леней Вандышевым.
В таких проникновенно лирических и психологических, тонких рассказах о творческой молодежи и о юных музыкантах, как «На заре туманной юности», «Концерт Шумана ля минор», юные герои — носители больших человеческих чувств; они жертвуют личным успехом и счастьем ради друга, ради своей мечты, для утверждения высокого искусства. Бескорыстие, благородство, самоотверженное служение своему делу — мы встречаем эти черты уже в начинающем музыканте, школьнике, выпускнице училища…
Взаимовыручка, помощь другу, попавшему в беду, дружба и солидарность молодого поколения — эти чувства пронизывают и ярко комедийную повесть Л. Сабининой «Родео Лиды Карякиной», опубликованную осенью прошлого года в журнале «Юность», и другие произведения в книге. Прочитав их, хочется воскликнуть в душе: какие интересные люди вот эти молодые герои, только еще вступающие в жизнь, и сама жизнь раскрывается перед ними как многогранно, интересно!
Но сначала надо, чтобы мы поверили в реальность характеров этих героев книги, чтобы написаны, обрисованы они были колоритно и выпукло, были жизненны, правдивы. Такое не всегда удается авторам книг, тем более книг о молодежи. Это задача нелегкая для писателя — с художественной убедительностью, верно, мудро, и с психологической глубиной, и с душевной тонкостью раскрыть духовный мир своих молодых героев. И раскрыть, показать все это образно, в ключе своей творческой самобытности и яркой лепки характеров. Вот тогда книга будет читаться с увлечением, единым духом…
Легче порой написать просто о себе, нечто только автобиографическое, чем создать большое полотно о молодых современниках со всей широтой и многогранностью их стремлений и поисков… Читателям этой книги предстоит проверить, справился ли автор с этой трудной задачей. На мой взгляд, да; именно такой и получилась книга Людмилы Сабининой; она написана увлекательно, в своеобразной творческой манере, где заметнее всего ключом бьющий юмор, и жизнерадостный, веселый склад этой прозы — порой до фарса, до гротеска, — который сливается с тонкостью ощущений и задушевным лиризмом во многих рассказах.
В статьях о творчестве Сабининой уже отмечалась эта самобытность ее писательской манеры. С юмором, с фарсовостью уживается здесь одухотворенность, сдержанный тонкий лиризм. А по-народному ясный, гибкий разговорный язык или песенно-речевой слог ряда ее произведений придает им особую художественную силу; так же, как и постоянные для писательницы темы и образы из мира музыки — что неудивительно, ведь Сабинина была не только хорошим мастером прозы, но также профессиональным музыкантом, пианисткой, преподавала в Московской консерватории по классу рояля.
Я написал «была»… Да, к сожалению, автора этой книги теперь нет среди нас. Когда книга уже печаталась, тяжелая болезнь унесла Людмилу Сабинину из жизни в самом расцвете ее таланта и так ярко начатого творческого пути. Она успела издать всего две книги (первая книга Л. Сабининой «Тихий звон зарниц» — также в основном о молодежи — выпущена издательством «Советский писатель» в 1975 году), опубликовала в журналах лишь несколько рассказов. Но написано Сабининой значительно больше, первым ее книгам предшествовали годы и годы упорной работы в области прозы.
И вот перед нами новая книга, написанная в целом очень увлекательно, весело, с большим зарядом комедийного юмора. Если взять такие вещи, как «Родео Лиды Карякиной» или «Муравьиная роль», то все это умно и очень занятно, даже забавно, рассказанные истории из жизни молодежи, порой с хорошо закрученной пружиной приключенческого, почти детективного действия, с романтикой личных чувств. И всегда, как уже говорилось выше, со своеобразной, ярко сценической комедийностью (недаром по повести «Родео Лиды Карякиной» сейчас готовится кинофильм). По праву назвал Евгений Евтушенко в своем слове о творческом пути Сабининой в «Литературной газете» искрометно веселой ее повесть о Лиде Карякиной. Искрометность юмора, сочная колоритность в обрисовке человеческих характеров, бесспорно, одно из основных качеств в этой книге. Но самое главное тут, на мой взгляд, душевный свет, человечность, вера в творческие силы молодого современника, всего молодого поколения. И уважение к нему, основанное на его же собственной прямоте и требовательности к себе. Этому главному началу в книге и служат все редкие качества самобытного дарования прозаика Людмилы Сабининой… И все же я не хочу навязывать своих оценок читателю. Вот сейчас он откроет первую страницу… и войдет в широкий волнующий мир героев этой книги, как отплывший от причала корабль входит в безбрежную стихию моря… Пусть читателю предстоит большое плавание. Пусть сам он встретится на страницах этой книги с таким необычным и новым для него талантом автора, превосходной писательницы Людмилы Сабининой, и с таким знакомым для него, близким ему духовно миром молодых героев этих рассказов.
Феликс Кузнецов
РОДЕО ЛИДЫ КАРЯКИНОЙ
© «Юность», 1977, № 9.
Второй такой чудачки, как Лидка, наверное, больше и на свете нет. Таких поискать! Начать с того, что она вообще непохожа на прочих девчонок. У нас в классе все девчонки как девчонки. Танцами увлекаются, спортом. Прическу все носят одинаковую, как у Лизы Мокиной. Лизочка — первая модница, тон задает. Разговоры у них в основном о платьях, о «фасончиках». Такие уж у нас девчонки. Не знаю, может быть, они и везде такие? Впрочем, навряд ли… А Лида Карякина резко отличается. Спортом, правда, она тоже занималась, только недолго.
Помню, в седьмом все мы увлекались лыжами. Даже трамплин довольно высокий за школой построили. Мечтали о горных лыжах — извилистые трассы, скоростной спуск… Всем классом ездили за город на тренировки, одна только Лида Карякина записалась в акробатический кружок. Девчонки тогда шумели, возмущались, дружно осуждали Карякину. Считали, что это она нарочно, в пику нам. Мы ведь мечтали всем классом на лыжных соревнованиях выступить, всем коллективом. Класс-чемпион!.. И вот Лидка нам все испортила. Не только из лыжной секции ушла, еще и Гайдукову за собой потянула. А Гайдукова Рая у нас в первой пятерке была на километровке. На длинной-то трассе Рая отставала, дыхание не умела держать, что ли… За Гайдуковой ушла и Лена Ситникова. Еще бы, подружки неразлучные. Словом, началась катавасия, уходил то один, то другой. Сорвалась вся наша затея! Стояли холода, и ездить на тренировки за город не всякому-то улыбалось. Распалась дружная наша команда. И на соревнованиях мы заняли семнадцатое место из двадцати шести, результат незавидный. А началось ведь все с Лидки!
Зато уж и потеха была, когда Лида и Рая выступали со своими акробатическими номерами. Было это на вечере семиклассников. Объявили номер: «Карякина и Гайдукова, акробатический этюд…» Сначала на сцену выскочила Рая, толстенькая коротышка. Костюм на ней зеленый в обтяжку, ни дать ни взять — арбуз. Небольшой такой арбузик, коротконогий, крепенький. Прошлась колесом по сцене, сделала реверанс, улыбнулась. Все это как-то ловко у нее выходило, мы даже поаплодировали немного, так, из приличия. И тут выкатилась Лида Карякина. Колесом выкатилась. Только ломаное какое-то колесо у нее получилось, вихлястое. Скорее ромб, чем колесо. Карякина у нас чуть ли не самая длинная из девчонок, нескладная такая, тощая. И лицо у Карякиной тощее да длинное. Сердитое, будто недовольное чем-то лицо. Челка — чуть не до глаз, волосы кое-как мотаются за плечами. Сразу видно, прической Лида не особенно-то занималась. А может, не получалась у нее прическа. Не знаю отчего, но только почти все, что делала Карякина, выходило очень смешно… Вот и сейчас: что это за «колесо»! Лидка изламывалась, хватала руками пол, длинные ноги некоторое время болтались в воздухе, потом снова — вся вбок, снова — кувырок. Мы хохотали до упаду. А когда Лидка сделала стойку на руках — вот это была картина!.. Стойку делала она лицом к публике, длинная, нескладная жердь. Толстенькая Райка рядом в такой же позе. Но все смотрели только на Лидку. Особенно смешное было лицо! Перевернутое, злое, от напряжения оно медленно багровело. Волосы свешивались до пола. Мы хохотали, хлопали что было мочи.
Тут обе акробатки вскочили на ноги и сделали реверанс. У Раи это получилось нормально, а Карякина развела свои тощие руки с растопыренными пальцами, присела резко, будто сломалась. В этот момент она напоминала зеленого кузнечика: сплошные ломаные линии и длинная голова вертится направо-налево, кивает. Умора, да и только.
После, когда обе акробатки ускакали за сцену, мы еще долго потешались, орали «бис», и конферансье Андрей Горяев никак не мог объявить следующий номер.
После этого выступления Рая Гайдукова накрепко рассорилась с Лидкой и даже пересела от нее на другую парту. Осталась Карякина одна. Только это, видать, не слишком ее огорчило. На освободившемся месте Лида вольготно раскладывала учебники, карты, чертежи и всем своим видом показывала, как ей теперь здорово живется, — комфорт, да и только! А лицо злое…
И еще одна черта мешала Карякиной: правдолюбие. Нет, вы не подумайте, я сам не люблю вранье, да и кто же его любит! Только у Карякиной и правдолюбие было нелепое. Встанет, бывало, на классном собрании и давай кого-нибудь обличать!.. Раз как-то привязалась к Сидорову, зачем-де он врет? Сидоров у нас самый отстающий, просто злостный двоечник. Что с него возьмешь? Сидит себе на последней парте. Ему на все наплевать. А Карякина разоряется:
— Ну, скажи, Сидоров, почему ты всегда врешь? Вот вчера, например, вызвал тебя физик, а ты конечно, ни в зуб ногой. Ну просто в руки не брал учебника. Так бы и сказал: не учил, не хотелось, на каток бегал или там еще что. — Карякина презрительно скривила нос.
— Он в гости к дяде ходил! — крикнул длинный Андрюшка Горяев.
— Правда, к дядюшке в гости, на блины, — поддержали ребята.
— Мой дядя самых честных правил, — не умолкал Горяев, — когда не в шутку занемог…
Все дружно захохотали, и громче всех сам Сидоров. А Карякина злилась:
— Ну, так и сказал бы: к дяде в гости ходил. А ты наврал, что у врача был. Не понимаю, зачем надо врать. Как только не стыдно?
— Ложь во спасение, — подсказал Горяев.
— Вот, вот, во спасение… — сразу ухватился Сидоров.
Сказал и озирается, смеются ли… Тут все заспорили о том, допустима эта самая «ложь во спасение» или нет. И все смеялись над Карякиной.
— Я считаю, что врать нельзя! — крикнула Лида. — Потому что где ложь, там…
— Где ложь, там неправда, — буркнул Вадик Спицын.
И все снова покатились со смеху.
— Что смеетесь? — выходила из себя Карякина. — Именно, где ложь, там и неправда!.. Неправда в смысле несправедливость. Где ложь, там не может быть никакой справедливости! А что может быть хуже, чем… чем…
И вдруг она закрыла ладонями лицо, потом схватила свой портфель — и вон из класса. Мы так и не доспорили тогда…
Позже я узнал, что несправедливости всякой выпало на Лидин век достаточно. Хотя бы то, что в раннем детстве ее бросил отец. Сначала увез ее с собой, оставив мать с маленьким Мишкой, а потом — видно, Лидка ему надоела — посадил дочку в вагон, сунул билет в руку… Словом, отправил ее к матери. А той и без Лидки тошно. На руках Мишка годовалый, средств никаких нет…
Но все это я узнал потом, а тогда, в школе, ужасно нелепой мне эта Лидка казалась. Вызовут ее к доске, идет Карякина хмурая. Вытянет руки по швам, повернется лицом к классу и забурчит:
— Я ничего не выучила.
— Почему? — удивляется педагог.
— По домашним обстоятельствам.
— Да ну? Что же за обстоятельства такие? — с усмешкой спрашивает преподаватель.
— Стирки накопилось.
Ну, тут, конечно, смех, шуточки начнутся разные. Ставят двойку Карякиной, бредет Карякина к себе на место. Вообще-то училась она ничего, средне. Бывали и четверки. Но случались и двойки. Всего бывало понемножку.
Собственно, Карякина мало кого интересовала, и уж, во всяком случае, не меня. Мой друг и сосед по парте, Витька Голубев, тоже подсмеивался над Лидой и даже прозвище ей придумал: «Секлетея». Правда, это осталось между нами. Понимали, что кличка обидная.
— А в сущности, почему? — разводил руками Витька. — Секлетея нормальное христианское имя! Классическое, можно сказать!
Сам-то Витька чуть ли не с первого класса отзывался на кличку «Дельфин». Лицо Витькино и правда напоминало дельфинье рыльце. Круглое, усмешливое такое, и нос клювиком. Глазки блестят, карие, веселые дельфиньи глазки. И фигура у Витьки соответствующая: невысокий, плотный, с круглой сутуловатой спиной.
Когда осенью наша семья переезжала на новую квартиру, Витька помогал таскать вещи. Не успели мы с ним втащить в подъезд холодильник, видим идет навстречу Карякина. Вот это номер!
— Ты что тут делаешь?! — удивился Витька.
— Ничего. Я тут живу, — хмуро ответила Карякина и прошла мимо, болтая пустой авоськой.
Оказывается, Карякины жили в соседней квартире.
Нам дали две комнаты. Третью занимала Юлия Михайловна, работник какого-то большого учреждения. Делопроизводитель. Днем все мы расходились по делам, вечером толпились на кухне. Мы предпочитали питаться на кухне, чтобы не таскать кастрюли с едой туда и обратно. Я был против, мне всегда нравилось есть не спеша, в одиночестве, но мама сразу прикрикнула:
— Это что еще за фокусы?! Комнату пачкать не позволю! К тому же там чертежи!
Строгие у меня родители. Оба инженеры, работают вместе на станкостроительном заводе. Отец сейчас в долгосрочной командировке на Урале, и поэтому, наверное, мама строга за двоих. Я единственное дитя. У нас и правда всюду чертежи. На столе и на двух больших чертежных досках. Свитки чертежей и рулоны кальки громоздятся на шкафу. Правда, мне для жительства отвели вторую, маленькую комнату. Это было здорово — получить собственную комнатенку. Я навел там блеск, привинтил книжные полки, установил проигрыватель, словом, зажил в свое удовольствие. Мы с Витькой вместе готовили уроки, а после часами разговаривали, и никто не мешал нам. Никто не гнал, не кричал: «Эй, вы там, потише!» Полная свобода.
Как-то раз Виктор и говорит:
— Слыхал новость? Карякина уходит из школы. То есть окончит восьмой, и все. Отучилась наша Секлетея. Кончила курс наук.
— Вот оно что! То-то, слышу, на кухне споры да раздоры, общее собрание жильцов. И мать Лидкина что-то больно разоряется…
— Что, Карякины знакомы с вашими?
— Тетя Аня ведь медсестра. А Юлии Михайловне нашей прописали какие-то уколы. Хотя, по-моему, она здоровяк… Значит, Лидка бросает школу?.. А ты-то откуда узнал?..
Витька ухмыльнулся.
— От самой Карякиной. Спрашиваю: «Правда, что ты школу бросаешь?» — «А тебе-то что? — отвечает. — Ну, бросаю, а тебе-то что?». Смотрит на меня как бешеная килька, я уж и сам не рад, что спросил.
Лидина мать дома почти не бывала, и первоклассник Миша до самого вечера ошивался в школе, в группе продленного дня. Понятно — зарплата медсестры невелика, приходится браться за любую работу. Ночами она дежурила у тяжелобольных, делала уколы больным на дому, иногда и вторую смену отрабатывала за других… И все-таки денег не хватало. Это сразу видно было по истрепанному Лидкиному пальто, по разбитому вдрызг рыжему Мишкиному портфелю.
— Интересно, платит он им алименты или нет? — рассуждала на кухне Юлия Михайловна. — Что-то уж очень, гляжу, Анна надрывается. А толку чуть.
— Не знаю, право. — Мама устало перемывала тарелки.
— Как же, — возражала Юлия Михайловна, — на что существует закон? Бросил семью — плати. Вот бы узнать, платит он им или нет?
Юлия Михайловна очень хорошо знала все законы. Даже до тонкости. Наверное, делопроизводителю так и положено — знать законы. Самой Юлии Михайловне это знание законов явно пошло на пользу. Она всегда знала, как отстоять свои права, знала, где, когда и что можно получить. А получить, оказывается, можно многое: тут и бесплатные путевки, и тринадцатая зарплата, и разные там премиальные, и подарки по случаю праздников, профилактории, санатории, всего и не перечесть.
Юлию Михайловну из года в год выбирают в члены месткома, она активная общественница… Но я просто обалдел, когда увидел, как тщательно Юлия Михайловна следит за собой. Например, после работы обязательно спит два часа. Так вот попросту ложится на спину, закрывает глаза и спит. Среди бела дня. Зато по вечерам эта сорокапятилетняя женщина полна энергии. Розовое лицо лоснится от крема, сквозь реденькие обесцвеченные кудряшки на голове просвечивает розовая кожа. Сидит на кухне за своим столиком, застеленным цветастой клеенкой, и поучает, без умолку поучает:
— Перед сном наедаться не следует! Ни в коем случае. Кефирчик, один кефирчик, и больше ничего. Кефир стимулирует кишечник, а пищеварение прежде всего! Утром — пожалуйста! Котлеточку, немножко гарнира, яблочка половинку. Ты вот, Сережа, уже второй кусок маслом намазываешь. Положи обратно, воздержись. Даже в твоем возрасте излишества вредны. Атеросклероз, радикулит, подагра…
И все в таком роде. Я даже бояться стал на кухню выходить.
Когда тетя Аня пришла и пожаловалась нашим, что Лида хочет бросить школу, на кухне началось такое… Тут и моя мама, и тетя Аня, и, главное, Юлия Михайловна — все дружно наседали на Лидку. Особенно Юлия Михайловна.
— Ты сама понимать должна, — вкрадчиво говорила она. — Матери трудно. Все она отдает детям. Мишка маленький, единственная надежда на тебя. Вот мать радовалась, два годика потерпеть осталось, а там, бог даст, в институт поступишь, стипендию приносить начнешь. А там, глядишь, и специалист. Как же ты не понимаешь, что без десятилетки ты не сможешь стать полноценным членом общества?!
Лидка бурчала в ответ что-то нечленораздельное. Она так умела: буркнет себе под нос, ни то ни се.
— Ты только подумай, — не отставала Юлия Михайловна, — какие условия для вас, ребят, созданы! Светлые классы, спортзалы, все сыты, одеты. Как тут не учиться! Да разве мы в наше время так жили!
Тут Юлия Михайловна отхлебнула из своей большой кружки молока, закусила кусочком бисквита и старательно вытерла бумажной салфеткой рот.
— Мы голодные и босые в школу бегали. Мы…
— Ну, положим, босиком-то все-таки не ходили, — вмешалась мама.
— Да что вы, ей-богу… Если уж тапки брезентовые за обувь считать… — Юлия Михайловна повернулась к Лидке и снова впала в поучительно-торжественный тон. — Все дороги для вас открыты. Учиться вы должны, вы просто обязаны учиться…
— А она обязана? — Лидка хмуро кивнула в сторону матери.
Та молча и скорбно сидела в углу. Чашка остывшего чая стояла на краешке стола.
— А? Чего обязана? — переспрашивала Юлия Михайловна.
— Вкалывать обязана? Всю жизнь вкалывать, значит, а я учиться буду. За чужой-то счет…
Лидка стояла, прислонившись к дверному косяку, смотрела мрачновато, исподлобья.
— Разве мать чужая тебе? — повысила голос Юлия Михайловна. — Ты не должна так обижать мать, запомни это!
— Ну, мам, я пошла. — Лидка резким кивком попрощалась со всеми, вышла.
Я догнал ее у самых дверей.
— Ты что, и вправду из школы уходишь?
— Ну и что? Если даже и ухожу, так что?
— Да так… Как-то это бессмысленно получается…
Карякина слушать не стала, выскочила, хлопнув дверью перед самым моим носом.
Я ушел в свою комнату, принялся за уроки. Но почему-то все время думал о Лидке. Задумался и о жизни вообще. Если присмотреться к жизни, замечаешь, какая она у всех разная. И люди разные, и судьбы их, и даже внешний вид. Резко друг от друга отличаются. А когда-то тоже в классах сидели и были, как мы, школьниками… И еще подумалось мне, что сейчас, в восьмом, и наступил тот самый момент, когда каждый начинает сворачивать на свою собственную дорожку. Вот она, развилка, мы уже добрались до нее. Теперь начнем разбредаться, кто раньше, а кто чуть позже. Разница невелика. Потом когда-нибудь встретимся и, чего доброго, даже не узнаем друг друга… Как-то раньше об этом я не думал, тем более что мой-то путь ясен: наверное, буду инженером, как отец и мать. Это главное…
Меня позвали ужинать. На кухне ситуация изменилась. Теперь Юлия Михайловна почему-то уговаривала тетю Аню, что Лидке просто необходимо устроиться на работу.
— Девочка молодая, — пела Юлия Михайловна, — ей и одеться хочется, и погулять. Ее тоже понять надо… Ну, поучилась, и довольно. Я, бывало, тоже науки терпеть не могла. И сейчас-то как раскрою книгу, так и засну…
— Да что вы, Юлия Михайловна.
Тетя Аня вытащила из кармана платочек, приложила к глазам. Нос у нее был распухший.
— Как это вы говорите, Юлия Михайловна, — вмешалась мама. — Вот если бы ваша дочь…
— Моя дочь, слава богу, замужем. И удачно: муж — завгар, сейчас вот в трехкомнатную переезжают… Я считаю, расстраиваться незачем, все к лучшему. Ну, поработает девочка, что тут такого. Каждому свое. Может, сын образованным станет. Мой вам совет, Аня, надейтесь на сына, раз уж так получилось…
Юлия Михайловна только что закончила массаж лица и теперь промакивала кожу бумажкой салфеткой: скомкала салфетку, нагнулась к маленькому зеркальцу на столе, оттянула пальцами левое веко.
— Опять ячмень. Досада какая! Простудилась, что ли? Или обмен? Обмен, не иначе. Лыжами заняться срочно. Что-то я в этом году отстаю. Пойдемте вместе на лыжах, Мария Николаевна!
Моя мать торопливо чистила картошку — готовила на завтра обед. На сковородке что-то шипело.
— Да некогда, Юлия Михайловна. И потом, у меня костюма нет.
— Костюмчик чудный я себе выбрала, — оживилась Юлия Михайловна. — С полосочкой тут и вот тут, просто прелесть! Пошли мы вчера, месткомовцы, и купили себе по костюму. Я примерила — как хорошо! Нам пять костюмов положено в год, ну, как раз нас четверо. Расписались и разобрали по домам. Один на всякий случай, про запас…
— Значит, казенные костюмы? — удивилась мама. — А вдруг порвете? Как же тогда?.. И ведь костюмы-то на всех?
Юлия Михайловна выдвинула ящик стола, забросила туда зеркальце и тюбик с кремом.
— Порвем — спишем. Списываем все равно каждый год. И что значит — на всех? Мы ведь тоже сотрудники. Расписались и получили в личное пользование. — Она хихикнула. — Фаина Петровна, старшая наша, толстая, как домна. Размера такого не было, так она для племянницы взяла…
— Это же нельзя, ведь нечестно, — высказался я.
— Допил? Уходи, не мешай, — распорядилась мама.
— Почему нечестно? — спокойно возразила Юлия Михайловна. — Для сотрудников — стало быть, для нас. Да еще и покупаем, заботимся. Мы общественники. А без нас никому и дела нет. Всю работу на нас взвалили…
— Ну, я пошла. — Тетя Аня встала, забрала свой медицинский чемоданчик. — Так это был последний укол, Юлия Михайловна. Десятый. Ваш курс закончен, завтра зайдите, покажитесь врачу. Мне кажется, вам назначат вливание алоэ.
— Вызову на дом, — решила Юлия Михайловна.
— Что вы, это нельзя, терапевт наш занят по горло, сорок вызовов на день. Вы же не температурите…
— Пустяки, — отмахнулась Юлия Михайловна. — В конце концов, у меня давление. Не сидеть же там в очереди.
— У нас процедурная пропускает быстро, запишитесь только к терапевту.
Лицо Юлии Михайловны как будто окаменело. Широкое, чуть раскосое, с выпяченным подбородком, неумолимое лицо.
— Да что вы мне там говорите! — вспылила она. — Человек больной, с давлением, и на дому обслуживать не хотят! Это же безобразие! Посмотрите, она обращалась к маме, — что такое творится! Вот бы Танечку Тэсс бы сюда! Материал для фельетона первый сорт! Написать ей, что ли?
Я даже фыркнул: имя известной журналистки она называет запросто, будто та приходится ей ближайшей родственницей…
— Какой же тут материал? Тетя Аня права, — не выдержал я, — терапевт наш, ясно, перегружен. Микрорайон большой.
— Сережа, иди в комнату, — сухо сказала мама. — Принимайся за уроки!
Я вышел вместе с тетей Аней. В дверях она задержалась, зашептала жалостно:
— Сережа, милый, поговори ты с Лидкой, пожалуйста… Может, ты на нее воздействуешь, уж очень я прошу, поговори…
— Да я что же… Я готов, только вот она не больно слушает. Она знаете какая…
— Да знаю, знаю. Ты все-таки побеседуй…
Я обещал, но, честно говоря, не очень-то верил в успех этого дела. Почему-то я больше надеялся на Витьку.
В марте в нашем классе случилось ЧП: Карякина прошибла голову Вадиму Цыбульнику. И сделала это она при всех, прямо на классном собрании. Тут и родители Цыбульника присутствовали.
Цыбульник поступил к нам этой осенью. Здоровенный такой детина, красивый, румянец во всю щеку, самый лучший в классе спортсмен… Учится Цыбульник хорошо, одежка на нем всегда первый сорт — форма на заказ, башмаки на платформе, свитера самые дорогие, часы какие-то необыкновенные… Сразу видно, обожают родители своего Цыбульника, души не чают.
И вдруг один второклассник пожаловался отцу, что Вадим отбирает у него двугривенные. Каждый день по двугривенному. Мальчишка этот уже и в буфет перестал ходить; утром как явится в школу, наш Вадим тут как тут: гони монету! И не только у него одного отбирал. Были у Вадима и другие данники: все из первого, второго и третьего классов. Дальше — больше. Первоклассник Мишка, брат Карякиной, объявил, что Цыбульник время от времени собирает всю эту малышню, загоняет на лестничную площадку около чердака и гоняет туда-сюда. Заставит, например, на четвереньках ползать — и ползают все в ряд, один за другим. А то еще придумал такую игру. Выстраивает ребят в затылок и велит тому, кто стоит в хвосте, лупить по голове впереди стоящего. Тот, в свою очередь, бьет следующего и так далее. Причем требовал, чтобы били всерьез… Жаловаться ребята боялись.
Так продолжалось до тех пор, пока Копенкин Толик не рассказал все отцу.
Классное собрание объявили в тот же день. Отец Цыбульника явился задолго, когда у нас шел урок литературы, видно, заранее хотел поговорить с классруком.
Мы услышали осторожное постукивание в дверь, потом дверь приоткрылась, и кто-то согнутым пальцем поманил Нину Харитоновну. Она прервала свой рассказ, оглянулась на дверь. Но с места не двинулась, только лицо медленно начало покрываться красными пятнами. Это всегда у нее, когда волнуется…
— Не иначе папа Цыбульник пожаловал, — громко прошептал Горяев. — Я его палец узнал. Начальственный перст!
Девчонки зафыркали.
— Внимание! — сказала Нина Харитоновна. — Продолжаем тему.
И спокойно довела урок до конца.
Сразу после звонка в класс стали прибывать гости: несколько младших школьников, кое-кто из них с отцом или матерью. С Цыбульником пришли оба родителя.
Наконец явилась завуч Анна Леонтьевна, и класс заперли изнутри. Кто-то еще стучался, дверь дергали, пытались открыть, но Анна Леонтьевна отпирать запретила. Собрание началось. После того, как Нина Харитоновна кратко изложила суть дела, выступил сам Вадим. И вот странно: он ничуть не смущался… Отобрать медяки у малышей! Да я бы, кажется, сдох от стыда, да и любой из нас тоже. Грязное дело. А Вадим еще улыбался, пошучивал с девчонками. Те и рады — шепчутся, записочки строчат: «Вадим, Вадим, обернись». Хихикают, дуры. Ну и девчонки же у нас! Хорошо, хоть не все такие.
— Неужели, Вадим, ты отбирал деньги? — спросила Нина Харитоновна. — Об этом ведь даже подумать гадко.
Вадим стоял, небрежно покачиваясь. Руки за спину заложил. Поглядеть на это свежее лицо, ясные глаза, брови вразлет — примерный юноша, вожак школьный, чистая душа.
— Что вы, Нина Харитоновна. Как вы могли такое подумать? Правда, был у нас тут один замысел… В общем, в кино собирались. Всем, значит, коллективом, так сказать, организованно… А деньги на кино добровольно они давали, так что не сомневайтесь! Пусть вот хоть Сидоров подтвердит.
— В кино с младшими школьниками? — не поверила Нина Харитоновна.
— Он отнимал ни на какое не на кино! — закричал с места Копенкин Толик. — Он просто так отнимал, себе брал!
— Мальчик, мальчик, ты ошибаешься, — заговорила гражданка Цыбульник. — Ты что-то спутал. Наш Вадим вовсе не такой!
— Минуточку, — остановила ее Нина Харитоновна, — минуточку, ваше слово впереди.
— Но сами подумайте, какая нелепость! — вспылила мать Вадима. — Не может же, на самом деле, наш сын, имея постоянно собственные карманные деньги, и, кстати, немалые, польститься на какие-то жалкие медяки! Чепуха это, вот что!
Ее меловые плоские щеки подергивались, подкрашенные серым веки беспокойно помигивали. Одета эта пожилая женщина была по-спортивному. То есть было в одежде ее что-то такое от спорта: брюки, куртка, отороченная пышными мехами, на голове — белая пуховая повязка. Куртку она расстегнула, стал виден нарядный свитер. Словом, хоть сейчас на Олимпийские игры.
Отец, тот совсем в ином стиле. Плотный, хорошо укомплектованный тюбик, застегнутый на все пуговицы. Добротное бобриковое пальто, шапочка с квадратным козырьком, лицо раздавшееся, будто прижатое сверху неизвестно чем, шапочкой этой, что ли, и, понятно, глаза-щелки. Такие дядьки обычно попадаются по вечерам в нашем сквере, собак своих выгуливают… Собаки у них нахальные, носятся, прохожих облаивают… Пальто родителю пришлось снять, но внешний вид нисколько от этого не изменился. Тот же тюбик, только в пиджаке.
— А позвольте спросить, — высунулся Горяев, — откуда у вашего сына такие толстые подкожные?
— Что, что? — растерялась родительница.
— Карманно-джентльменские откуда? — скромно пояснил Андрей.
Тут завуч Анна Леонтьевна резко застучала карандашом.
— Горяев! Кто тебе дал слово? Что это такое, что с тобой? Немедленно уймись, или сейчас же выведу!
Атмосфера накалялась.
— Если молодого человека так интересует, я могу ответить, раздраженным, скрипучим голосом заговорил тюбик. — Карманные деньги сыну выдаю лично я. — Он помолчал. В классе стояла тишина. — Тридцать рублей в месяц, если вас интересует. Хотя это никого не касается. Надеюсь, ясно? Я прошу прекратить нападки на моего сына. И клевету.
Он сел. Железобетонный дядечка.
Слово взяла Анна Леонтьевна.
— Я думаю, в основном все это недоразумение какое-то… — Она говорила осторожно, почти вкрадчиво. — Конечно, я не отрицаю, что Вадим Цыбульник провинился, нарушил школьную дисциплину. И мы примем надлежащие меры. Но стоит ли, э-э… Стоит ли преувеличивать, раздувать инцидент?..
— Вот именно, — поддакнула мать Вадима.
— Мы все понимаем, что деньги отбирать Цыбульник не станет. В нашей школе грабителей нет…
Чувствовалось, что Анне Леонтьевне до смерти хочется как можно скорей прекратить это дело.
— Да как же так?! — заволновалась молодая родительница в цветастом шелковом платке.
Она сидела на последней парте вместе со своим сынишкой-второклассником.
— Как же так? Мой Колька вон что говорит… То-то, замечаю, приходит бледненький, стакан чаю, значит, не выпьет, деньги-то отнимают! Я думала, в школу ребенок идет, значит, в безопасности, а оказывается, вот что! Не-е, прощать мы не будем!
— Позвольте, позвольте, что значит — прощать? — заерзал тюбик.
— В шею гнать надо! Из школы исключать, — зашумели родители. — Это что же творится!
— Пускай вот Коля все нам расскажет. Расскажи, как было дело, Коля! — распорядилась Нина Харитоновна.
Поднялся Коля, худосочный, зеленый пацан.
— Ну, мы шли в буфет, а Цыбульник догнал нас и говорит… Это, говорит… Деньги чтобы ему отдавать…
— Рэкет, — ляпнул Андрюшка Горяев, — бизнес по-американски. Ну и ну!
— Горяев! — Анна Леонтьевна шлепнула ладонью по столу.
Водворилась тишина.
— А потом, — продолжал Коля, — велел идти всем на чердак. И там, это… Командовал.
— Клевета! — возмутился Вадим. — Ну, помаршировали немного, физзарядку сделали, это же не во вред!
Наши дуры девчонки угодливо захихикали. Нравится им Вадим, это ясно. За что? Неужели смазливая рожа так влияет?
— А сам по шее бил! — закричал Коля.
— Он их по шее бил и на коленки ставил. Я сам видел, — раздался из угла солидный детский басок.
И все оглянулись на Мишу Карякина. Он сидел рядом с сестрой.
— Пусть хоть Сидоров скажет. Он видал.
Сидоров смущенно заерзал на своем месте, закрутил головой.
— Так вот в чем дело! — торжествующе изрек родитель Цыбульник. Теперь понятно. Я хорошо знаю своего сына, но совершенно не знаю этого вот Сидорова. Чувствовал, что здесь чья-то рука. Сидоров! Вот где собака зарыта!
— Сидоров, встань, — с досадой произнесла Анна Леонтьевна. — Еще тебя не хватало. Рассказывай!
Сидоров встал, вернее, вытянул из-за парты свое длинное вихлястое тело. Он всегда так — не встает, а будто лениво выползает куда-то вверх. Такая уж у него привычка, вообще-то Сидоров крепкий парень.
— А я ничего не ведал, — невинно протянул Сидоров.
И первый усмехнулся. За ним, конечно, засмеялись и другие.
— Тише! — прикрикнула Нина Харитоновна.
— Он видел, — повторил Мишка. — Когда их на чердак загонял. Тот. Вадим.
— Скажи, Миша, — обратилась к нему Анна Леонтьевна, — скажи, у тебя тоже деньги отнимали? Кто именно отнимал? Сидоров или Цыбульник?
— Посмели бы, — проворчал Мишка.
— Вот как? Так, значит, тебя не тронули?
Мишка засопел.
— Тронули. Только я не дался. Сзади заскочил — и портфелем. Прямо по заду.
Ребята наши снова захохотали.
— Кого?!
— Его. — Мишка кивнул в сторону Цыбульника. — Я ребятам говорил: соберемся и вместе налетим. Побоялись.
— Вот какие порядки в этой школе, — закипятилась мать Вадима. — Теперь понятно, кто здесь главный заводила. Оказывается, Сидоров. Наш сын попал под влияние, он мальчик впечатлительный…
— Да-а, попал в лапы, — подытожил «тюбик». — Этим следует заняться. И если это дело не расследуют на месте, придется мне обратиться в другие инстанции.
Он стал надевать пальто.
— Я думаю, все ясно.
— Мне лично много еще неясно, — мягко заговорила Анна Леонтьевна. — Но на педсовете мы все это обсудим и, конечно, накажем и Сидорова и Цыбульника. Надо еще многое выяснить.
— А он денег не брал, — внезапно пропищал Толик. — И никого не трогал. Он только видел раз, как мы на чердак шли.
— Кто?
— Сидоров. Он потом заметил нас и сказал только: «Куда?»
— «Куда», и все? — язвительно переспросил тюбик.
— Он не трогал!.. Деньги Вадим отбирал!.. — зашумели малыши.
— Тише, тише!
— Повторяю, мы займемся и Сидоровым и Цыбульником, — пообещала Анна Леонтьевна. — А сейчас…
— Я прошу слова! — звонко выкрикнула Тося Хохлова.
Вскочила, быстро оглядела всех нас. Маленькая, даже и непохоже, что восьмиклассница, с круглым, чуть раскосым личиком.
— Это потрясающе! — тонким голосом зачастила Тося. — Сидим здесь, разбираем дело о… Словом, ограбление настоящее! Это ведь все равно, сколько денег отнято — двадцать копеек или больше. Важен сам факт. Цыбульнику нет места в нашем коллективе! Я лично ему и руки не подам. Но я не про него хотела сказать. Я про вас.
Она развела руками, вскинула голову, коричневый большущий бант на затылке затрепетал.
— Ненормальные вы какие, что ли? Сидят, веселятся, цирк, развлечение себе устроили! Посмеиваетесь! Вон Мокина десяток записочек Цыбульнику переслала. Нежное сочувствие… Ну, Мокину мы все знаем, а другие-то? Горяев острит. Вместо того чтобы возмутиться, он острит! А сознание где? Смотреть на вас противно!
Все это она выпалила разом, без остановок. Перевела дух, села.
— Кипятиться тоже не следует, — назидательно произнесла Анна Леонтьевна. — Случай этот, как я уже сказала, мы разберем на педсовете.
— Гнать надо, исключать обоих, — зашумели родители. — Это что же такое, на работе беспокоишься, что там с ребенком… Деньги отнимают!
— Я прошу слова!
Поднялась Карякина. Заговорила неловко, угрюмо:
— Тут все про деньги говорили. Деньги, деньги. Двадцать копеек, деньги, подумаешь… А главное забыли. Главное-то — это что Цыбульник их на чердак загоняет. Ребят маленьких.
Она помолчала.
— Ведь что он проделывал? В ряд ставил. На четвереньках ползать заставлял. Оплеухи, подзатыльники… И ему нравилось! Нравилось, значит, смотреть, как ребята терпят, а молчат… Власть, вот что. Власть ему нравилась. Как это называется?.. — Карякина исподлобья оглядела всех нас. Я заметил, как Витька Дельфин, сосед мой, пригнулся, расстегнул портфель, начал суетливо рыться в нем. — Фашизм, вот как, — продолжала Карякина. — А что этот гад Цыбульник пятачки отбирал — это не удивительно. Он такой.
Лида села. Все молчали. Неудобно как-то получилось. Крайность. А может, все-таки она права?
Все посмотрели на Вадима. Он сидел, небрежно откинувшись на своем месте. Пожал плечами, улыбнулся снисходительно.
— Ну, ты, Карякина, и скажешь, — вякнула было Лизочка Мокина.
А Вадим снова пожал плечами и проронил:
— Так это же Карякина. Не стоит затягивать собрание, домой пора. Ужинать.
Мокина и ее подружки засмеялись заливисто. Но остальные молчали.
Вдруг Карякина встала, ни слова не говоря, направилась к Вадиму. Деревянными какими-то шагами направилась. Взяла с учительского стола дубовую, выточенную в школьной мастерской указку. В полной тишине подошла к Вадиму и изо всей силы трахнула его этой указкой по голове.
— Так тебе будет понятнее, — сквозь зубы пробормотала Лидка.
Бросила указку и тут же направилась к двери. Следом побежал и Мишка, согнувшись под тяжестью двух портфелей — своего и сестры. Синий сатиновый мешок с кедами мотался, путался под ногами.
— Карякина, вернись! — крикнула Нина Харитоновна.
— Неслыханно! — Анна Леонтьевна даже руками всплеснула.
Поднялся шум. Цыбульники хлопотали около своего детища. Кажется, он довольно легко отделался — на лбу всего-навсего выскочила багровая шишка. Лидка, она ведь слабосильная…
— Травма! — громко объявила мамаша. — Гляди, Павел, какая травма! Что я тебе говорила? Давно надо было перевести сына отсюда. Теперь сам видишь.
— Да! Вижу! — гремел Цыбульник-старший. — Я это так не оставлю!
Теперь-то, конечно, он был на коне. Дура все-таки Лидка. Она ведь такой козырь им дала; можно сказать, своими руками спасла Вадима от наказания. Сделала его жертвой, а мы все разом превратились в обвиняемых. Весь наш класс с руководителем вместе…
Так я и сказал Витьке, когда мы с ним возвращались домой. Дельфин призадумался, покрутил носом, но все-таки со мной не согласился. Он сказал, что разные бывают ситуации и что Карякина в данном случае права.
— Знаешь, я такого от нее не ожидал. Так вот просто подойти и шарахнуть! При завуче, при классруке. Ну и молодец! А то я уж боялся, что Вадиму это хамство с рук сойдет. Порицание какое-нибудь вынесут, и концы в воду…
— А теперь ему и вовсе ничего не будет…
— С него достаточно! Лидка так ему врезала! Опозорила навеки. И выступила она здорово. В самую точку.
Дельфин помолчал, потом признался:
— Честно говоря, она меня смутила. Сидим, помалкиваем, посмеиваемся. Мы, парни… А Лидка все на себя взяла… Я думаю, теперь Цыбульник в нашем классе не задержится.
— Да ну!
— Точно. Жаль только, что Лидку исключат. А она человек. Ей бы надо учиться.
Мы оба замолчали. И так призадумались, что едва не попали под ледяной обвал — с крыш сбивали сосульки. А в лицо нам дул легкий теплый ветер, и асфальт кое-где уже просох. Ступать по нему было приятно: ноги как будто освобождались от зимних пут — сугробов и гололеда. У газетного киоска старуха содрала с корзины брезентовую покрышку, распаковала свой товар, это были синие подснежники. Первые в этом году.
Все-таки Карякину не исключили. Правда, долго ее прорабатывали, таскали в учебную часть, еще куда-то там, вызывали к директору мать. Но в конце концов все улеглось. А вот Цыбульник действительно исчез. Родители перевели его в школу со спортивным уклоном, где старший его брат преподавал физкультуру. Оказывается, Цыбульники — спортивная семья. Отец в молодости играл в футбол, мать была тренером по художественной гимнастике, брат — мастер спорта. Теперь вот и Вадима устроили. Что же, скатертью дорога!.. Думается, все же кое-какие выводы для себя он должен сделать. Недаром ведь больше у нас не показывается: ни в школе, ни поблизости. Совестно.
Про Цыбульника скоро забыли, потому что как раз начались экзамены. В нашем классе все окончили восьмилетку благополучно. И всех перевели в девятый. Только Сидоров да Карякина ушли из школы. Сидоров собирался поступить в техникум, а Карякина решила устроиться на работу.
После экзаменов было у нас классное собрание. Нина Харитоновна провела беседу, спрашивала каждого, кем он хочет быть и вообще кто является для нас идеалом. Ну, конечно, когда заговорили об идеалах, началась разноголосица. Многие как-то об этом не думали, просто жили, и все. Поэтому и отговаривались общими словами. Ну а конкретно? Молчат. Потом кое-кто собрался с мыслями, стали планами делиться. Сидоров сказал, что его идеал окончить техникум и сделаться хорошим мастером по телевизорам. Мокина мечтала стать манекенщицей (смех, да и только), Тося Хохлова — педагогом, Горяев — архитектором, я… скажем, инженером. А Витька ни больше ни меньше как в капитаны дальнего плавания метил. Дошла очередь до Карякиной. Какой ее идеал?.. Лидка долго молчала, переминалась с ноги на ногу, а потом бухнула: «Семья. Работать где-нибудь, и чтобы семья была…» Тут, конечно, поднялся шумок, шуточки: «Карякина-то! Замуж собралась. Почтенная мамаша, ничего себе!..»
— Семья, детей трое, отец… — упрямо бубнила Карякина. — Отец добрый чтобы. За столом все сидели бы, чай пили, а он веселый, шутит. Все дети радуются, все смеются… И лампа яркая, а под столом — кот. Полосатый.
— Почему же именно полосатый, сударыня? — не утерпел Андрюшка Горяев. — Могу порекомендовать вам сиамского рыжего, короткохвостого! На свадьбу подарю. А когда, если не секрет, свадьба?..
Хорошо, что Дельфин пнул его под столом ногой, а Лидка скисла, села и лицо ладонями закрыла…
Дома я застал суматоху. Во-первых, в комнате Юлии Михайловны начали ремонт, во-вторых, она срочно уезжала в дом отдыха.
— Прихожу сегодня на работу, — рассказывала она маме, — меня так и ошарашили: путевка горит. Должна была поехать Фаина Петровна, и, представьте, у нее зуб заболел. Она туда, она сюда! Ничего не поделаешь, коронку снимать придется. Я, конечно, тут как тут. Путевка хорошая, в Кисловодск, мне только шестнадцать рублей доплатить придется, остальное за счет профсоюза. Целый день бегала, оформлялась.
— А как с билетом? — поинтересовалась мама.
— Поезд в десять вечера, билет у меня. Вы уж, Мария Николаевна, последите тут за ремонтом. Распорядитесь, чтобы помыли.
— Хорошо, только ведь я на работе…
— Ничего, Сережа подежурит!
Я едва не взвыл, когда услышал это. Сидеть в разоренной, заляпанной известкой квартире, когда у нас с Дельфином столько планов! Ведь каникулы!.. Но Юлия Михайловна как будто уловила мое настроение.
— В крайнем случае Лиду попрошу, делать ей все равно нечего. Да, кстати, вы не знаете новость? К Анне приехал муж.
— Какой муж? Разве она…
— Как какой? Да отец Лиды и Миши. Он с ними не живет… уж не помню с какого года, Аня мне что-то рассказывала. Теперь вызвала его из-за Лидки, чтобы воздействовал. На три дня приехал.
Юлия Михайловна сходила в коридор, вернулась с белым курортным чемоданом, шлепнула его на стол, откинула крышку. Резко запахло духами.
— Интересный мужчина, и, между нами говоря, она его не стоит. — Юлия Михайловна встряхнула розовую шерстяную кофту, уложила ее в чемодан. — Не знаю, правда, кем работает. Кажется, костюмер театральный или осветитель. Приблизительно что-то такое…
Я сидел и чистил картошку. Теперь, когда начались каникулы, мама неусыпно следила, чтобы я помогал по хозяйству. Кажется, какой пустяк почистить пяток картофелин. Но нет, для мамы тут дело в принципе: хотя бы потребовалась и одна-единственная, все равно почистить ее обязан я. Ну, принцип так принцип. Зато у меня предлог — сидеть рядом с мамой и слушать разглагольствования Юлии Михайловны. Иногда она изрекает любопытные вещи…
— Я обещала устроить Лиду в наше учреждение, когда вернусь. Как вы думаете, Мария Николаевна, благодарность у них есть или, так сказать, отсутствует?
— Какая благодарность?
Юлия Михайловна внимательно оглядывала шелковый цветастый халат, распялив его на руках.
— Обыкновенная. — Отбросила халат, занялась пижамой, тоже цветастой. По-моему, она должна бы сама догадаться и сделать мне курс алоэ на дому. Тридцать уколов. И вообще, знаете ли…
— Как-то странно… Не вижу тут никакой связи, — замялась мама.
— А я вижу, — не утерпел я. — Человек человеку, баш на баш, мы вам вы нам, ты мне — я тебе, что я с этого буду иметь… И еще много разных пословиц и поговорок!.. Да, забыл еще одну: с паршивой овцы хоть шерсти клок. В данном случае с несчастной овцы…
Я так разошелся, что вместо картофелины резанул себе по пальцу. Черт! Сам ведь вчера нож отточил. Перестарался.
— Допрыгался! — вскрикнула мама. — Йодом залей сейчас же! Сколько раз говорила, делай каждую работу внимательно… И нечего тут развешивать уши!
Обедали мы на сей раз в комнате, потому что в кухне было очень уж грязно. Пол уставлен ведрами, банками, измазан побелкой, затоптан. Пахло олифой и красками. Из комнаты Юлии Михайловны слышались голоса — малярки там распевали частушки.
— Я вижу, придется нам отныне обедать в комнате, — раздраженно сказала мама. — Из-за тебя. Вечно ты в чужие разговоры вмешиваешься.
— Не в чужие, а в твои, — ответил я. — Все дело в том, что я подрос. Взрослый. Я могу иметь свое особое мнение.
— Взрослый, — усмехнулась мама. — Ну, если так уж повзрослел, не потрудишься ли держать свое «особое мнение» при себе? Я вовсе не хочу нарываться на неприятности.
— Вот еще! Тут болтают такую подлую чушь, просто уши вянут, а я буду помалкивать, будто слабоумный какой? Не-ет, от меня не дождетесь! Чушь надо разоблачать.
— Сережа, ведь существует и простая вежливость, такт, наконец. Нельзя быть бестактным…
— А она имеет такт?
— Тише, тише. — Мама оглянулась на дверь. — Нельзя же от каждого требовать, чтобы… Нет, как все-таки с тобой трудно! Жаль, отца дома нет.
И мама замолчала. Я тоже призадумался. Дело в том, что мы с отцом собирались провести отпуск вместе. Рыбачить, купаться, спать в палатке, по вечерам — костер, чаек с дымком, комары. Хорошо! Скорее бы он приезжал!..
Сразу же после обеда к нам заявилась Юлия Михайловна. Со своей подушкой. Голова повязана полотенцем, лицо лоснится от крема.
— Мария Николаевна, вы отдыхаете? Я прилягу рядышком, можно? Ничего, ничего, я с краешку. Или лучше валетиком. Вот так.
Она улеглась. Оказывается, «валетиком» — это лежать головами в противоположные стороны. В первый раз слышу… Она улеглась на спину, сложила на животе руки и тут же заснула. Буквально через несколько минут я услышал негромкое ритмичное похрапывание. Ну и ну! Это ведь уметь надо! Сразу видно, что всякие там душевные волнения, сомнения и прочие сложности — все это совершенно чуждо Юлии Михайловне. Хороший аппетит, крепкий сон и, уж конечно, умеренные нагрузки. Житуха!
Мама читала лежа. Я видел, что ей неловко, тесно рядом с Юлией Михайловной. Она осторожно, стараясь не шелестеть, перевертывала страницы, а потом и вовсе отложила книгу. А храп нарастал. Прорывались уже какие-то воющие звуки. Поза спящей осталась незыблемой — пятки вместе, носки врозь, руки на груди. А лицо! Достоинство, спокойствие, мудрость. Этакий розовый Будда. Или иллюстрация к плакату: «Здоровый сон необходим для восстановления сил организма». Что-нибудь в этом роде. Мама не вытерпела и потихоньку выбралась с тахты…
Вечером ко мне зашел Дельфин, и мы вместе отправились к Лиде, надо было забрать кое-какие учебники.
Открыли не сразу. Надутый и явно чем-то рассерженный Мишка сказал, что Лидки нет дома, но что учебники для нас она отложила, они на этажерке. Мы прошли в квартиру. За столом сидел дядька в расшитой украинской сорочке и пил чай. Я сразу догадался, что это их отец, — он со вкусом попивал чаек, как у себя дома.
Завидев нас, привстал.
— Леонид Павлыч, — представился он. — Заходите, молодые люди. Чайку не хотите?
Стол был уставлен разными закусками, посередине желтела бутылка коньяку. Я заметил, что чай пил он совсем уж не по-людски: то отхлебывал из чашки, то тянулся к селедке или салу, закусывал. Наливал рюмочку коньяку, опрокидывал, а потом снова брался за чай.
Мы вежливо отказались.
— Напрасно, парни, напрасно. — Он покачал головой. — Чаек очень хорош. Ишь как заварен!.. Не чай, а прямо пожар в джунглях!
Это он здорово сказал. Я вгляделся попристальнее, и дядька мне, пожалуй, понравился. Лицо продолговатое, ровное, в мелких рыжих веснушках. Волосы тоже рыжие, подстрижены по-молодежному, удлиненным мыском на шее, а надо лбом пышно зачесаны вбок. Мы с Дельфином принялись разбирать учебники. Видно было, что Лидка кое-как собрала учебники — забирайте, мол, все, мне не нужны больше…
— Ликвидация имущества, — заметил Леонид Павлыч. — Дело понятное. Уговаривал, просил, умолял — не послушалась. Непокорная дочь!
Он наполнил рюмку. Напевая «непокорная дочь, непоко-орная дочь…», выбрал на тарелке кусок ветчины, зацепил.
— Ваше!
Выпил. Вздохнул глубоко, удовлетворенно.
— Вы, молодежь, неправильно о жизни понимаете. Смотрю на вас, так сказать, изучаю. И вижу: нет и нет. Все неправильно.
— Как это — неправильно? — спросил Дельфин.
— Как? А-а, это целый разговор, — оживился Леонид Павлыч. — Вы ведь как живете? Каждый из вас, взять хотя бы этого вот пацана, — он указал на Мишку, — сотворил себе тюрьму. Я говорю — мысленную тюрьму. Ящик дубовый себе построил и в этом ящике сидит. Ограничитель вечный, клапан предохранительный… Вы кем хотите стать? — Он ткнул пальцем в сторону Дельфина.
— Капитаном.
— Во-во! А он летчиком, — кивок на Мишку. — То-то оно и есть. Сена клок перед мордой осла. Видите вы этот клок, и все тут. Вы — корабль, Мишуха — самолет. А что по сторонам — вас не интересует. А жизнь, она…
Леонид Павлыч мечтательно закачал головой. Пропел:
— А жизнь-то проходит мимо-о!
— А я думал, жизнь — это любимый труд, — с усмешкой заметил Дельфин.
— Э-э, друг… Кто его знает, что тут любимое, а что нет. Все течет, все изменяется. Я вот сколько перевидал. Ого! На море, между прочим, тоже побатрачил. Матросом был. Морока. Потом бревна катал в лесхозе. В рабочий класс подался, на завод. А городов сколько перевидал!.. Теперь вот в театре. Сцену освещаю, делаю день-ночь. Иллюзия, искусство, мираж чувств… Можно так, а можно и не так. По крайней мере, не скучно… Эй, цуцик, поди сюда!
Мишка шмыгнул носом, промолчал.
— Цуцик! Тебе говорят?
— Я не цуцик, — мрачно ответил Мишка.
— Нет, цуцик.
— Не цуцик я.
— А я говорю — цуцик!
— Сам ты цуцик! — Мишка с достоинством вышел, крепко притворив за собой дверь.
— Видали? — подмигнул Леонид Павлыч. — Герой. Весь в меня пошел. Этот не пропадет! Тут мое отцовское сердце может быть спокойно… — Он качнулся. — Завтра уезжаю, арриведерчи, Рома! Возвращаюсь в таинственный мир кулис, черт бы его побрал…
Он уткнулся носом в стол, должно быть, задремал, Теперь он нравился мне куда меньше, вернее, совсем не нравился. Ничего в этом Леониде Павлыче нет хорошего. Рыжий. И нос как-то кверху загибается. А прическа? Ничего себе причесочка! В таком-то возрасте и длинные волосы. Бачки рыжие, косая челка.
Дельфин, должно быть, полностью разделял мои чувства. Мы запихали в сумку учебники и собрались уходить, но тут вошла тетя Аня.
— А-а, мальчики. А я думала, Лида… Вы Лиду случайно не встречали? Запропастилась куда-то…
Она держала вазочку с вареньем. Я сразу заметил, что на тете Ане новое платье, серое в полоску, а волосы причесаны как-то по-особому. Но держалась она безразлично-отрешенно, как бы обходя вниманием того, кто сидел за столом.
— А-а! Анюта! — встрепенулся Леонид Павлыч. — Ручку, мадам!
Он привстал, но тут же качнулся и плюхнулся на стул. Тетя Аня бесстрастно прошла мимо, как бы случайно оставив вазочку с вареньем на столе.
Смотрела она куда-то в сторону, всем своим видом показывая, что этот человек для нее просто не существует. Я еще не успел ответить ей, что не встречал сегодня Лиду, как уже понял, что ответа и не требуется, она просто забыла, о чем спрашивала… Она присела на диван. Так присела, будто не дома, а в троллейбусе или вагонном купе. Выпрямившись, сложив руки на коленях. Комната у них одна, и, кроме кухни, ясно, никуда не денешься.
— Мам, чего ее дожидаться, давай ужинать, — пробасил Мишка, входя в комнату.
— А?
Тетя Аня смотрела на Мишку, а на ее измученном, козьем каком-то лице была отрешенность и холодность.
Должно быть, тетя Аня за эти двое суток совсем растерялась. Надо было и хозяйство вести, и все время демонстрировать пришельцу свою независимость и достоинство. Чтобы проняло его, чтобы обидно было… Может быть, она втайне хотела, чтобы Леонид Павлыч пожалел о своем бегстве?
— Мам, есть хочется, — заскулил Мишка.
Меня даже зло взяло. Вот женщина! Вся с головой ушла в какие-то свои переживания из-за этого пьяницы…
— Сын! Садись со мной, поужинаем! — бодро воззвал из-за стола Леонид Павлыч. — Говорю, герой, топай сюда! Конфету дам.
— Не хочу, — мотнул головой Мишка. — Мам, каша-то подгорела!
Действительно, запахло горелым.
Тетя Аня поднялась и, сохраняя ту же обиженно-кислую мину, отправилась на кухню.
— Хороша каша, да не наша, — вполголоса сказал Леонид Павлыч.
И мне почему-то сделалось смешно. Витька дернул меня за рукав, и мы вместе выкатились из квартиры. Дверь захлопнулась.
— Уф-ф! — фыркнул Дельфин. — Ты чего застрял-то? Уж я и подмигивал, и ногой толкал!
— Не заметил. Ну, знаешь, обстановочка… Смотреть противно. Да и смех разбирает…
— Обстановочка ничего себе! Тут пожалеешь Лидку. Ну и тип! Вот не повезло Карякиной.
— Все-таки в этом дядьке есть что-то. Обаяние какое-то, что ли… А вот мать… Ну, просто не думал, что женщина может быть такой нудной… Ходит, будто клюквы объелась…
Дельфин пригладил ладонью волосы, ухмыльнулся.
— Ну, насчет дядьки ты это зря. Эгоист нормальный. И заливает будь здоров… Ишь, всего в жизни проваливался. А чуть что, и стрекача. Попрыгун!
— От такой жизни любой упрыгает. Куда глаза глядят. Хоть на Северный полюс.
Дельфин посвистывал, о чем-то размышлял на ходу.
— Это как сказать. Мне кажется, понимаешь… В общем, любит она его. Несмотря ни на что. Знаешь, бывает такая любовь…
— Пошел ты!..
— Мне так кажется. А иначе зачем бы она стала переживать. И нарядная ходит, заметил?
— Ну, Дельфин, видно, у тебя глаза на затылке. Вроде учебники разбирал, не смотрел ни на кого, а что-то там все-таки усмотрел. Фантазер!
— Может, и фантазер, — скромно заметил Витька. — Только мне кажется, я прав…
Я открыл дверь своим ключом, и мы вошли в нашу обезображенную ремонтом квартиру. Было тихо, видно, Юлия Михайловна уже уехала. Мама на кухне негромко позвякивала посудой. В моей комнате горела настольная лампа, а за столом сидела Лидка и читала книгу. Увидев нас, привстала, убрала длинную прядь со лба.
— Привет! Я тут расположилась, ничего? Я сейчас уйду.
— Что ты, сиди. А мы прямо от тебя. Учебники вот забрали.
Она безразличным взглядом скользнула по сумке с книгами.
— А-а… Как там гость наш, сидит? Не убрался еще?
— Сказал, завтра уезжает.
— Я не про то. Ночует он у приятеля, вот и жду, уберется когда. Попросилась у Марии Николаевны посидеть.
— Да ты сиди, сиди. Хочешь, чаю принесу?
— Пили уж, Мария Николаевна угощала.
Мы с Виктором уселись на койку.
— На работу, значит, поступаешь? — задумчиво сказал Дельфин.
— Ага. Только очень трудно устроиться. То есть устроиться-то можно, да куда хочу, туда не берут, а где берут, там, пожалуй, не справлюсь…
— А куда ты хочешь? — спросил я.
— Мало ли… Не решила пока. Педагогом хотелось быть, да без образования, сами знаете…
— Зря школу бросаешь, — огорченно сказал Дельфин. — Можно сказать, сук рубишь, на котором сидишь…
— Вот и была бы педагогом, — поддержал я. — Без образования все-таки нельзя. Приходи к нам в девятый, а? Отметки ведь нормальные…
Лидка встала. Показалось мне, что она выросла за последние дни. Правда, после экзаменов я ее еще ни разу не видел. Стала выше ростом и вроде похудела.
— Нельзя мне в школу. Сами видите, работать должна. Мишка мал, его дорастить надо, мать больная. Только она скрывает, а я-то знаю, что больная.
Она шагнула к своей жакетке на вешалке у двери, вытащила из кармана сигареты.
— Курите? Я курю, только, чур, секрет!
Мы с Витькой закурили для компании, правда, скоро нам надоело глотать дым, и мы притушили свои окурки.
Лидка в своем черном свитере и потрепанных джинсах, с огоньком сигареты у губ казалась какой-то непривычной и странно обаятельной.
— Зря ты куришь, Лид, — сказал Витька. — Терпеть не могу, когда женщины курят.
— Да? А я терпеть не могу, когда мне делают замечания, — резко ответила Лидка. — Дошло?
Она беспокойно зашагала по комнате, наконец нашла себе место — уселась на корточках у стены.
— Заладили — школа, школа, — расстроенно заговорила она. — Будто и сама не знаю, что десятилетка нужна. И отец твердит: школа. Знал бы он, каково маме.
— Разве он не помогает?.. То есть материально? — промямлил Дельфин.
— Смех один. Сначала скрывался, потом приходить стали гроши какие-то. Я была против. И чтобы не приезжал. Мать — «ладно, ладно», а выяснилось, что эти копейки все-таки брала. Ненавижу всякое крохоборство! Смотреть противно.
— Это не крохоборство, это закон, — осторожно сказал Дельфин. — Положено — бери.
— Плевать я хотела!
Лидка тряхнула головой, темные спутанные пряди взметнулись и закрыли половину лица. В сумраке сердито поблескивал один только глаз да рдел огонек сигареты.
— А что, если работать и учиться в вечерней школе? — сообразил я. — Многие так делают. Почему бы и тебе?
— Точно, — обрадовался Дельфин. — Только работу надо найти попроще, успевать чтобы…
— В этом году учиться, во всяком случае, не придется. Надо матери помочь. Чтобы напрочь освободить ее от… Словам, от копеек этих.
Мы помолчали. Комната вдруг озарилась синими и сиреневыми бликами, это на крыше кинотеатра напротив вспыхнули рекламные огни.
— А у тебя тут здорово, — одобрила Лидка. — Современный интерьер, ничего не скажешь!
— Да, ловко устроился. — Дельфин хлопнул меня по плечу. — Я уж и то уроки делать к нему бегаю. Привык.
Я согласился с ними, что действительно у меня тут красота.
— Ходила куда-нибудь насчет работы или нет? — спросил Дельфин.
— Ходила. Только все неудачно. Во-первых, не везде берут шестнадцатилетних, во-вторых, все-таки надо что-то уметь. Восемь классов и ничего не умею. Решительно ничего. Ну, скажите, чему только нас учили в школе? Чему?
Она беспокойно задвигалась на своем месте, огонек сигареты потух. Поднялась, шагнула к окну и выбросила окурок в форточку.
— Нет, кое-что все-таки умеем, — усмехнулся Дельфин. — Во-первых, дисциплину соблюдать, потом, конечно, читать-писать. Стихи наизусть помним: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Еще про помещиков знаем — Пульхерия Ивановна, Афанасий Никитич. Барщина, оброк и так далее.
Мы все трое расхохотались.
— А столярка? — напомнил я.
— Да-а, столярка, — подхватила Лида. — Я, например, пестик для толчения картошки выстрогала. И одну ножку для стула. Правда, кривая получилась.
Мы снова расхохотались и смеялись до тех пор, пока смех не иссяк. На шум явилась мама, заглянула к нам.
— Вы что это в темноте сидите? — она включила свет.
Сразу сделалось скучно, и лица у нас такие обыкновенные. Как в школе. Дельфин поздоровался с мамой и тут же собрался уходить.
— Вот что, — сказал он. — У меня тетка в зоопарке работает. В лаборатории. Спрошу ее, нет ли у них в зоопарке для тебя местечка. Завтра же съезжу.
— Разве в качестве экспоната, — горько пошутила Лидка.
Витька ушел.
Мы с Лидой проводили его до угла, потом пошли разыскивать телефонную будку. Надо было позвонить к ним, справиться, ушел ли отец. Я набрал номер. Сердитый Мишкин басок сообщил, что отец все еще сидит.
— Ну и пускай сидит, — нахмурилась Лидка.
— Пойдем к нам, — предложил я. — Поужинаем. Телик включим.
— Да нет, я, пожалуй, домой.
Мы вместе дошли до подъезда, и тут Лида сказала мне, чтобы я шел домой, а ей надо еще забежать в булочную. Я понял — она просто хотела отделаться от меня, потому что было уже одиннадцать и булочная, конечно, давно закрыта.
Лидка повернулась и пошла. Я стоял у подъезда, смотрел, как она удаляется — долговязая, в своих потертых джинсах и черном свитере, бредет по асфальту мимо шеренги фонарных столбов, и синеватые отсветы поочередно ложатся ей на спину.
Дельфин сдержал слово: на другой же день съездил он к тетушке, и вскоре Карякину приняли на работу в зоопарк. Обязанности несложные: чистить клетки, подметать вольеры, помогать кормить животных. Зарплата — семьдесят рублей, для начала неплохо.
Недели через две мы с Дельфином зашли в зоопарк, как бы случайно. Мы долго шлялись по дорожкам, заглядывали в служебные помещения, Лидки нигде не было.
У клеток с леопардами я задержался.
Витька из всей живности больше всего любит птиц, с детства у него такая страсть. У него все подоконники усажены кормушками, за окнами настоящий птичий базар.
Я же предпочитаю семейство кошачьих. На разных там леопардов, рысей, пум и тигров готов смотреть часами. Вот где красота! Интересно, что все эти звери разные, отличаются и цветом, и ростом, и характером. Тигр весь какой-то тяжелый, глыбистый по сравнению с гибкой шелковой пантерой, а маленькие рыжие пумы и вообще кажутся игрушечными… Это ничего, нельзя просунуть руку и погладить зверя по мягкой шкуре, зато можно смотреть и вдумываться… Я долго стоял возле клетки с большим пятнистым леопардом. Он спал, свернувшись в точности как домашняя кошка; впрочем, скоро мне начало казаться, что леопард обратил на меня внимание. Во всяком случае, он приоткрыл острые треугольники-глаза, взглянул на меня пристально и снова зажмурился. И морда сразу стала казаться такой кроткой, домашний Вася, да и только.
Я любовался пятнистыми переливами шкуры, длинным гладким хвостом. Леопарда, видно, заинтриговало мое долгое стояние, он приподнял морду, лениво зевнул во всю пасть и как бы случайно взглянул на меня еще раз. Потом вытянулся и, задрав все четыре когтистые лапы, принялся перекатываться с боку на бок. Ну и картина! Он как бы приглашал меня участвовать в этой игре, а щелки-глаза подстерегающе поглядывали: тронь попробуй!
Интересно все же, что там про себя думает это пятнистое создание, а ведь все-таки думает же! В школьном учебнике одно объяснение всему: инстинкт. Ловко сказано! Название придумали такое: инстинкт, и крышка. Будто нарочно, чтобы не думать дальше. Почему зверь бежит куда-то?.. Инстинкт. А почему вот так крутится, лапами машет?.. Опять инстинкт. Сожрал кого-то? Инстинкт, ничего не поделаешь… А вдруг в данный момент этот леопард вовсе и не желает меня сжирать, вдруг у него что-то совсем иное на уме? Нет, тут еще думать и думать надо… Подошел Витька и толкнул меня в бок:
— Засмотрелся? Пошли. Она, оказывается, у копытных.
…За проволочной сеткой вольера паслись разные пони, зебры и прочий травоядный скот. В верблюжьем загоне двигалась щуплая фигурка в широченных брюках на подтяжках, в клетчатой рубахе. Я не сразу узнал Лидку. Волосы она запрятала под берет и совсем стала похожа на хилого мальчишку-подростка. Наклонялась, орудовала лопаткой и совком — подбирала с травы навоз. Тонконогий палевый верблюжонок ходил за ней по пятам.
— Здорово, Лид! — крикнул Дельфин.
Лидка распрямилась, вгляделась из-под руки.
— А-а! Вы? Привет!.. Порядок все навожу.
— А что этот тип за тобой ходит? Что ему надо?
Она обернулась, погладила верблюжонка по клокастой морде.
— Это любимец мой, Гришка. Вечно его обижают, заступаться приходится.
— Кто?
— Старшие. Вон особенно тот хулиган. — Лидка показала на темно-бурого приземистого верблюда. — То от кормушки оттеснит, то гонять начнет по вольеру. Беда с ним.
— Ну, ничего, ладно, — пробормотал Дельфин. — А как ты здесь вообще-то? Хорошо?
Лидка нахлобучила берет на ухо, подтянула свои чаплинские брючищи.
— Нормально. Работы, конечно, невпроворот. Вкалываю… Чищу, кормлю, восстанавливаю справедливость.
— И как они?
— Ничего, привыкают понемногу. Перевоспитываются.
Деловито подхватила ведерко и совок, отошла от решетки.
Потом мы увидели ее в другом загоне, среди мелких каких-то лошаденок, наверное, пони. Лидка нагнулась, чтобы подобрать навоз, и тут довольно крупный рыже-белый жеребчик подошел сбоку и звонко ударил ногой по ведерку. Ведро покатилось. Лидка заругалась, бросилась подбирать, а жеребчик все заходил сбоку, резво подбрасывая передние ноги, мотая башкой. Группа самок стояла невдалеке, с интересом наблюдая за действиями жеребчика, похоже, что конек из чистого бахвальства перед ними вытворял все эти шутки. Нагнулась Карякина, чтобы взять ведерко, а он подступил вплотную и толкнул Лидку башкой так, что бедняга едва не растянулась. Схватила метлу на длинном черенке, пригрозила баловнику. Но тот не отставал и, когда Лидка повернулась спиной и пошла, нахально увязался следом. Она прибавила шагу, жеребчик тоже. Досадливо махнула рукой, подхватила ведерко и совок, побежала к выходу… Жеребчик, видно, только этого и ждал: что есть мочи погнался за Лидкой. Она оглянулась и не на шутку запаниковала. Во всяком случае, бросив совок, метелку и вообще все свои орудия производства, пустилась бежать опрометью… Выскочить все же не успела, жеребчик прогнал ее мимо калитки. Лидка мчалась по кругу, придерживая обеими руками брюки, а коняшка преследовал ее, набирая скорость. Бег его был целеустремлен и плавен, как у иноходца… Такое увидишь разве что в старых, начала века, фильмах. Но мы забеспокоились. В самом деле, а вдруг лошачок-то кусается? Да и остальные лошадки подозрительно оживились, вышли из своего угла, заинтересованно поворачивали морды вслед этой карусели: Лида — коняшка Лида — коняшка — Лида…
Короче говоря, Витька не выдержал и полез через решетку. Я за ним. Стоило только нам оказаться на зеленом поле вольера, сердитый жеребчик сразу же переключился на нас. Опасно приблизилось и остальное стадо. Удирать теперь пришлось нам, и мы довольно успешно пробежали два круга, пока Лидка, подобрав разбросанные вещи, не отперла калитку. Мы выскочили. Ну и ругала же она нас!
— Куда полезли! Запрещено беспокоить животных, не положено! Хорошо еще начальства поблизости не было, а то бы… И с какой стати вы сюда заявились? А ну марш отсюда!
И это вместо благодарности за спасение. Разобиженные, мы удалились. И тут-то, когда ворота зоопарка остались далеко позади, мы насмеялись вдоволь. Смеялись даже в трамвае, повергая в недоумение пассажиров, хохотали и никак не могли остановиться. Старикан, сидевший на «месте для детей и инвалидов», долго терпел эти наши приступы, наконец укоризненно покачал головой и обратился к пассажирам:
— Вот! Посмотрите на них.
И все действительно на нас посмотрели.
После, стоило нам только вспомнить, как Карякина «восстанавливала справедливость» среди зверей, мы снова начинали хохотать. Что поделаешь, уж больно смешно у нее это получалось.
…На другой день получили мы с мамой письмо от отца. Приехать в скором времени он не мог и поэтому звал нас погостить к себе на Урал. Мама взяла отпуск, собрались и поехали… Вернулись мы на исходе августа. Уже запахло началом школьных занятий: писчебумажные магазины гудят от ребятни, я даже испугался, что не успею купить тетради, атлас по истории и запас стержней для шариковой ручки. Около нашего подъезда намело целые сугробы желтых листьев, и это удивляло меня: уезжал-то я в самом начале лета, на березах тогда была изумрудная зелень… Словно и лета не было, хотя я очень здорово провел его вместе с отцом на Урале. Странно это получилось — погостил где-то на Урале, а вернулся домой и тихо ахнул: в чем дело, почему сразу осень? Ведь была же весна! Чувство потери. Вот ведь как бывает…
Конечно, первым делом побежал я навестить Дельфина. Не терпелось узнать, как он там, побывал ли в Крыму, на море, как собирался, или родители упекли его в деревню к родным? И вообще хотелось поговорить. Я бегом спускался с лестницы и едва не налетел на Мишку — пацан тащил продовольственную сумку, тяжелую, видно было, что еле доволок.
— В магазин ходил? Молодец, мужик самостоятельный! — похвалил я.
— Подумаешь! Кому же еще, — ворчливо отозвался Мишка. — Дома никого нет, все на работе.
И он поглядел на меня исподлобья, в точности как Лидка. А я-то считал, что между ними сходства никакого нет. Лидка длинная, худая, а братец Мишук, наоборот, плотный крепыш. И характеры у них разные…
— Как Лида поживает? Небось всех зверей там перевоспитала? — поинтересовался я.
Мишка трудно засопел.
— Не. Они ее.
— Как так?
— Она старалась, а они все равно… Один там даже оплевал Лидку. Верблюжонок.
— Неужели Гришка?
— Ага. Она все заботилась, воспитывала, хлеб из дому таскала, а он подрос да и оплевал.
Мишук жалостно шмыгнул носом, но тут же насупился, умолк и, как подобает мужчине, пошел своей дорогой.
— Сестре привет передай! — крикнул вдогонку я.
Дельфина дома не было, мать сказала, что он пошел в кино на семичасовой. Было полседьмого, я помчался к нашему кинотеатру. Витьку увидел еще издали, он стоял около входа и нетерпеливо поглядывал на часы. Джинсы на нем были новые, с иностранным ярлыком на заднем кармане, рубашка яркая, с голубыми разводами.
— Здорово, Дельфин! Ну и ну! Стиляга, больше никак не назовешь.
— Сергей! Приехал наконец! А я уж заходил к тебе. Позавчера был, что за черт, думаю, куда он там провалился…
— А я иду сейчас, а навстречу Мишка. Вспомнилось, знаешь, как мы в зоопарке-то… Помнишь? Вот смеху было!
Я принялся было хохотать, но заметил, что Дельфин в общем-то не очень-то разделяет мое веселье. Прищурился как-то озабоченно, по сторонам оглядывается, на часы смотрит.
— Ты что, ждешь кого-нибудь?
— Да вот Карякина просила билетик взять.
Дельфин отвернулся, как бы вглядываясь в толпу, пригладил рукой белесые гладкие волосы. Мне показалось — он немного смутился.
— Кстати, что там случилось с Лидкой? — Я торопился спрашивать, стрелки часов передвинулись уже на без десяти. — Что-то Мишук рассказывал, я не понял. Что, она теперь в зоопарке не работает?
— Нет.
— Сама ушла или…
— Сама. Видишь ли, она со зверями все-таки не сработалась.
— Как так?
Витька беспокойно оглянулся.
— Да ты ведь знаешь, она какая. Все напрямик, всерьез… А там все-таки звери. Как ни говори.
— Но, я думаю, навоз-то убирать все равно…
— Да ведь Лидка же! Ей все мало. Обидят кого, еду сожрут у слабого или побьют… Удав проглотил живьем кролика, обезьяны морды друг другу побили, она и психует. А тут еще любимчик Гришенька в благодарность за все заботы плюнул, да и наподдать пытался. Подрос, возмужал верблюдик, агрессивный стал. В общем, не сработалась, ушла. Давно бы надо…
Из кинотеатра донесся звонок, публика торопливо начала втискиваться в двери.
— Опаздывает, — сказал я.
— Значит, не придет, — констатировал Дельфин. — Она, знаешь, любит пораньше…
Я украдкой взглянул на Витьку. «Любит пораньше». Не в первый раз, значит, в кино ходят вместе. Подозрительно.
Уже давали три звонка. Мы заторопились в зрительный зал, уселись с краю, на свободные места.
— А сейчас не работает? — продолжал я.
— Почему? Работает. Ваша Юлия Михайловна устроила ее к себе в контору. Секретарем-машинисткой. Я думал, ты знаешь… Уже целый месяц работает…
Фильм был дурацкий, про какого-то алкоголика-слесаря. Слесарь этот только и делал, что пил-гулял. Причем гулял он без всякого восторга, даже без малейшего удовольствия. Будто жвачку жевал. И ради такого времяпрепровождения слесарь где попало хапал трешки, пятерки. Унылый тип! Его полюбила такая же унылая девица. Как только героиня эта появилась в кадре, мы переглянулись и фыркнули. Дельфин прошептал мне на ухо:
— Не сахар!
Я был полностью согласен с ним. Можно было понять слесаря, который никак не желал влюбляться в эту дурочку, но уж совсем трудно понять девицу: ну что нашла она хорошего в безнадежном алкоголике, рваче и, в сущности, ненормальном типе?.. Все это тянулось целых две серии, под конец совсем надоело сидеть в духоте. Было бы из-за чего. По-моему, если уж снимать фильмы, то обязательно про ярких, смелых людей. Ну, если и не про смелых, то хотя бы чем-то интересных, выдающихся. Так, чтобы захватывало, чтобы потом было о чем поспорить. А тут мы вышли из кино какие-то расслабленные. Разговаривать не хотелось, молча дошли до моего дома.
— Поднимемся? — пригласил я. — А то, хочешь, давай к Лидке зайдем, узнаем, почему не явилась?
Заходить к Карякиным не пришлось — все семейство находилось у нас на кухне. Еще от самых дверей мы услышали причитания тети Ани:
— И что это такое, господи! Хоть бы вы разобрались, Юлия Михайловна, мне уж и совсем непонятно, что с ней такое! Оттуда ушла, отсюда выгнали. Просто напасть какая-то…
— Да это все недоразумение! — сказала мама. — Надо сходить, выяснить, в чем тут дело. Я уверена, что никто и не собирается увольнять Лиду. Девочка она тихая, в конце концов, работник новый, ее учить надо…
— Тут нечего и выяснять, — оборвала Юлия Михайловна. — Факт остается фактом…
Мы остановились около кухонной двери. Страсти были накалены, и на нас просто не обратили внимания.
Тетя Аня сидела на табуретке и плакала. Хмурый Мишка жался у ее коленей. Лида стояла, прислонясь к стене, опустив голову.
— Факт остается фактом, — возвысила голос Юлия Михайловна. — Она потеряла работу.
— Так испытательный срок Лида уже прошла. Как же можно?! — не отступала мама.
— Так вот и можно! — мотнула головой Юлия Михайловна.
И спокойно начала ломать над кружкой бублик. В кружке дымилось подогретое молоко. На лице Юлии Михайловны, особенно на ее выпуклых скулах, рдел коричневый южный загар, волосы кудрявились крупной светло-желтой стружкой, должно быть, заново их покрасила.
— Говорила я, школу не бросать, — ныла тетя Аня. — Видишь, ума-то еще не хватает, училась бы, копила бы ум…
— Последний потеряешь тут с вами, — сквозь зубы сдерзила Лидка.
— Рассуди сама, — подкрепившись моченым бубликом, с новыми силами начала Юлия Михайловна, — вот поступила ты на место. Без образования, безо всяких связей, и вдруг благодаря мне такое место! Восемьдесят рублей, работа благородная, люди вокруг все интеллигентные! Ты что должна? Прежде всего должна подумать: я девочка молодая, позаботиться обо мне особенно некому, должна я сама о себе позаботиться, за это место держаться. И такт! Вся — внимание, вся — услужливость и такт.
Юлия Михайловна впала в свой обычный нравоучительно-елейный тон.
— Фаина Петровна милейший человек, деликатнейший. Она всегда поймет, всегда объяснит, если надо. Она…
— Чучело она, вот кто, — не поднимая головы, пробормотала Лидка. — Чучело надутое.
— С ума сошла! — Тетя Аня всплеснула руками. — И что это с тобой делается?!
— Ничего не делается, — твердо заявила Юлия Михайловна. — Просто она всегда такая невоспитанная.
— Ничего подобного! — вспылила Лидка.
— Как ничего подобного? Вспомни, когда Фаина Петровна велела тебе перепечатать материал, а ты?.. Представьте себе, — она обратилась к тете Ане и маме, — «Некогда, говорит. — У меня, говорит, — своих бумаг накопилось». Отказалась, представьте себе. А надо было свои-то бумаги в сторонку отложить, а для Фаины Петровны постараться! Вот как, милая моя.
— По-моему, это неправильно, — сказала мама. — Прежде всего надо закончить свои дела. И если столько накопилось, как могла эта самая Фаина Петровна еще и свои бумаги ей подбрасывать? Недобросовестно это. Особенно со стороны старшей.
— Ну, хорошо, — не поддавалась Юлия Михайловна, — а что вы скажете насчет одного интересного разговорчика по телефону? Помнишь, Лида?
— Не помню, — буркнула Лидка.
— Так я напомню тебе. Начальник, понимаете, велел Лиде соединить его с Николаем Захаровичем из планового отдела. Ей ответили, что Николай Захарович уехал обедать. Знаете ли, что Лидуша наша сморозила?
— Господи, да что же такое? — испугалась тетя Аня.
— А вот что. — Тут Юлия Михайловна вытянула лицо, изображая Лидку. Получилось талантливо. — «Обедать? Это в одиннадцать-то часов? Да он еще сегодня на обед себе не заработал. Не успел».
На кухне воцарилось молчание. Я заметил, как мама поспешно отвернулась, скрывая улыбку.
— Ведь слова эти через пару часов дошли до самого Николая Захаровича, понимать надо! Вот и врага нажила.
Неожиданно Дельфин отодвинул меня плечом, протиснулся на кухню. Я просочился вслед.
— А что такое! — с ходу заговорил Дельфин. — Ну и нажила! Если он человек настоящий, не будет из-за этих справедливых слов придираться. Хороша и Фаина Петровна ваша — свою работу на других наваливать, благо повыше сидит!
— А этот откуда взялся? — презрительно протянула Юлия Михайловна. — Ба, да там и еще один. Ну, как говорится, вас не перекричишь…
— А мы и не собираемся кричать, — заверил я. — Мы просто послушать пришли. Интересно же.
— А что это за история с приказом? — спросила мама. — Лида начала было рассказывать…
Юлия Михайловна пожала плечами.
— Не знаю, это что-то для меня новое. Пусть сообщит сама.
И она, как всегда, после ужина принялась массировать лицо.
— А, ерунда все, — отбрыкнулась Лидка.
— Расскажи все-таки, — попросил Дельфин.
— Ну, дает мне Фаина Петровна бумагу, — монотонно начала Лидка. — Перепечатать велит и зарегистрировать. Приказ. Вот какой. «За невыполнение плана за второй квартал премировать заведующего плановым отделом тов. Соменко Николая Захаровича восемьюдесятью пятью процентами премии».
— Ну и что? — Юлия Михайловна перестала массировать лицо, вытаращила глаза.
— Как что? — удивилась Лидка.
— Ничего себе, — захохотал Дельфин. — «За невыполнение плана премировать…» Ну и ну!
— За невыполнение плана премировать заведующего плановым отделом, съехидничал я. — Чудеса, да и только!
— Вот я и подумала… — начала было Лидка.
— Ну хорошо, — сухо остановила ее Юлия Михайловна. — Скажем, формулировка тебя не устроила. Хотя твое дело было зарегистрировать, и все. Ну, взяла бы, составила другой черновичок, например: «В связи с невыполнением плана за второй квартал лишить заведующего плановым отделом тов. Соменко Н. З. пятнадцати процентов причитающейся ему премии». Поняла? Звучит иначе, хотя суть остается прежней. Уже не «премировать», а «лишить».
Все молчали. Вот так фокус!
— Ничего себе! — заорал я. — Никакой премии этому тов. Соменко не давать, раз работать не умеет. Гнать его надо!
— Поняла? — не обращая на меня внимания, внушала Юлия Михайловна. — А потом с этим черновичком-то к Фаине Петровне. И шепотком: «Фаина Петровна, а может, лучше так вот и так? Как вы думаете?..» Тактично, умненько, а Фаина Петровна, она сразу поймет, и ты внакладе бы не осталась…
Юлия Михайловна выдвинула ящик стола, достала баночку с кремом.
— Да что тут слушать, Лид, пойдем лучше погуляем! — Дельфин схватил Лидку за руку, потянул.
— Что это значит — пойдем! — спохватилась тетя Аня. — Куда это пойдем? У тебя-то дела в порядке, тебе и горя мало, а у нее… Никуда чтобы не ходить! Пускай дома сидит.
Я не узнавал ее, обычно такую тихую, кроткую тетю Аню…
— Ну а как все-таки получилось, что тебя уволили? — спросила мама.
Лидка молчала.
— Она сама все это устроила, — сказала Юлия Михайловна.
— Ага. Я сама ушла. Подала заявление и ушла. Вот как. — Лидка кивнула.
— Как же так, зачем же? — вскинулась тетя Аня.
— Так. Я этот приказ печатать не стала. Засунула его куда-то, и все. А Фаина Петровна как закричит: «Где приказ за номером пятьсот сорок четыре дробь двенадцать?..» Я говорю: «Не знаю где. Потерялся…» А она: «Вон! Сейчас же пиши «по собственному желанию»!… — «Пожалуйста», — говорю. И написала.
— Видали? — пожала плечами Юлия Михайловна.
— Мне кажется, дело это можно еще поправить, — сказала мама. — И, по-моему, заявление она имеет право забрать назад…
— Поздно, — вздохнула Юлия Михайловна. — Раньше думать было надо. Фаина Петровна живенько его на подпись снесла, и отдел кадров все тут же оформил.
— Что же теперь делать? — горевала тетя Аня. — Придется новую работу искать…
— И вот что я замечу, — доверительно понизила голос Юлия Михайловна. Не надо было заявление подавать. Ну зачем ты его подала?
— Она велела.
— А ты бы не писала, и все. Не понимаешь, что ли? Практически уволить человека у нас невозможно, раз он прошел испытательный срок и замечаний, занесенных в протокол, не имеет. Разве что по сокращению штатов… Но раз ты подала «по собственному желанию», это совсем другое дело… Просто удивительно, до чего человек не умеет заботиться о себе! — Она помолчала. — Что же, я сделала все, что могла…
— Ладно, Лид, — сказал Дельфин. — Ушла из этой лавочки, ну и правильно. Я на твоем месте тоже бы ушел.
— И я… Мы пойдем подышим полчасика, мам! Лида, пошли.
— Куда? — спохватилась тетя Аня.
Но мы все трое были уже у двери…
На улице к вечеру похолодало, на асфальте, подсвеченном неоновой вывеской аптеки, шуршали сухие листья. Мы вышли во двор, отыскали подходящую скамейку и, благо все общественники-пенсионеры нашего двора давно залегли спать, забрались на нее с ногами. Мы восседали на удобно выгнутой спинке скамейки и на такой высоте казались себе независимыми, гордыми и житейски умудренными людьми.
Сквозь ветви деревьев сверкали острые точки звезд, низко проплыли красно-зеленые огни — авиалайнер пошел на посадку. Дельфин выдавал что-то веселое, мы шумели, хохмили наперебой, даже затеяли возню, кто кого столкнет со скамейки. На самом-то деле нам было тоскливо и плохо, очень плохо. Только мы не показывали виду.
— Что там с Карякиной, не знаешь? — спросил меня как-то Андрей Горяев. — Говорят, кочует с места на место, нигде не удерживается. Правда это? Ты ведь рядом живешь, поведай…
Мы сидели на лабораторных занятиях по химии. Химию Горяев не любил и все опыты благосклонно предоставлял делать мне: в химическом кабинете мы с ним рядом сидим.
— А зачем тебе? — Я встряхнул колбу с окисью марганца, поглядел на свет.
— Это не взорвется? — Андрюша опасливо отодвинулся.
Он вообще ничего не смыслит в химии, считает почему-то, что архитектору химия не нужна.
— Во дает… Это же простая марганцовка, чудик!.. Так зачем тебе сведения о Карякиной?
— Да интересно же! Ну хотя бы с математической точки зрения: сколько времени это родео может продлиться?
— Родео? Почему родео?
— Ну как ты не понимаешь: вскочит на мустанга, тот сбросит, на другого вскочит, тот еще брыкливее… И так далее, и так далее. А зрители смотрят на секундомер: две секунды, три секунды…
Он вытянул из рукава свою длинную кисть — часы у Горяева знатные, — и случайно задел сосуд, в котором шла реакция. Отдернул руку.
— Горячо! Ты что, не видишь?! Взорвется, а?
— А ну-ка раскрой учебник, градостроитель, — усмехнулся я. — Прочти мелкий шрифт, описание опыта. Это тебе не картинки рисовать.
— Да ну его, — легкомысленно отмахнулся Горяев. — Лучше расскажи про Лидкино родео… Честно говоря, я потому спрашиваю, что встретил вчера парня одного знакомого, с вашего двора. Сашка Астраханцев, знаешь?
— Ну, знаю.
— Так вот, он рассказывал, что Карякина приходила к ним на завод. Не взяли: у них горячие цехи, девчонкам трудновато. Там парней охотнее берут. Интересно все же, где она теперь?
— Не знаю, Горяй. Я ведь болел две недели, из дому не выходил. Откуда же мне знать?
Тут в колбе зашипело, жидкость забурлила, вспенилась. Я стал поскорее записывать в тетрадь формулы, а Горяев увлеченно рисовал на чистом листе. Как ни посмотришь, вечно он что-нибудь рисует, башку наклоняет то к левому, то к правому плечу, а на лице такое удовольствие!.. Работал Андрей уверенно, нанося размашистые штрихи. Я вгляделся — получилось что-то вроде лошади…
После уроков я спросил Дельфина, что там происходит с Лидой. Витька, мне показалось, смутился.
— А что? Работает. В школу вечернюю поступила, учится.
Он крутил своим дельфиньим клювом, смотрел куда-то в сторону, и вообще мне было ясно: Витька темнил.
Домой пошли вместе, разговорились, и тут-то он мне все выложил. Оказывается, Лида работает теперь в парикмахерской.
— Я, правда, не хотел тебе говорить, — смущенно объяснял Дельфин, — потому что работа-то такая… Неквалифицированная, что ли.
— Что ты? Парикмахер! — сказал я. — Это знаешь какая работенка! Тут уметь надо.
— Чудак. Кто сказал — парикмахером? Уборщицей она работает, вот кем. Короче, волосы подметает… Понимаешь, — заторопился Витька, — зато рядом! Экономия времени, экономия сил, можно учиться в девятом. Все это Лидкина мать мне по секрету сообщила, а то Лидка стесняется, не велит никому говорить. Хотя что тут особенного!.. Хочется подойти, спросить, да неудобно. Она стала такая скрытная…
Я снял шапку, провел по отросшим волосам.
— А не подстричься ли? — Я подмигнул. — Зарос за время болезни, на дикобраза стал похож. Да и тебе не мешает.
Мы свернули в переулок. В маленькой обшарпанной парикмахерской уже дожидались двое, мы заняли очередь, уселись на шатких стульях и стали наблюдать. Работали два мастера: тучная женщина с простецким добрым лицом и щуплый старикашка. Глядя на парикмахершу, не верилось, что она вообще способна выполнить стрижку или соорудить хоть сколько-нибудь нормальную прическу, уж больно сама-то не причесана. Форменная растрепа. Старичок же работал виртуозно. Сразу видно — мастер! Он вертелся вокруг кресла с клиентом, заглядывая в зеркало, напевал, гребешки и щетки порхали, ножницы щебетали в его руках. Словом, залюбуешься!
— Сяду обязательно к нему, — шепнул Дельфин.
— Лида, шампунь! — позвала парикмахерша.
— Лидуша! Подметай быстрее, что делается, я говорил — грязи не терплю! — не переставая суетиться, закричал старичок. — Что это делается, боже мой!
И он с новым рвением набросился на клиента.
Вошла Лида. В руке она держала мисочку с шампунем, в другой — щетку. Поставила шампунь на подзеркальник, проворно начала подметать.
— Лидуша, я говорила — розовый шампунь! — протянула мастерица. — Убери этот, давай розовый.
— Скорее, скорее! — торопил старичок. — Вот так, вот та-ак, сейчас мы височки сделаем, вы, конечно, носите короткие бачки? Скорее, скорее, Лидушка, душка, дорогушка…
Лида остервенело орудовала щеткой, она ухитрялась выметать волосяные сугробы чуть ли не из-под самых ног мастера, а тот весь был в движении, прямо-таки танцевал вокруг клиента.
— Хм, хм, — нарочно громко кашлянул я.
Тут Лида обернулась и увидела нас. Она смотрела, а щетка не переставала двигаться возле ног старичка.
— Лидушка, душка, дорогушка, — напевал юркий парикмахер, — сейчас мы вам…
Он нацелился на клиента своими ножницами, и тут Лидина швабра с размаху заехала между ступней парикмахера. Он подпрыгнул, но было уже поздно. Рывком Лида потянула щетку на себя, и парикмахер с грохотом обрушился на пол вместе со своими ножницами и гребешками.
— Что делается, что делается… — бормотал старичок, барахтаясь на полу.
Нам оставалось лишь немедленно бежать. Все это из-за нас получилось. И на улице мы принялись упрекать друг друга. Особенно выходил из себя Дельфин. В этот день мы едва не поссорились.
Здорово я тогда перетрусил: а вдруг из-за нас Карякина снова потеряет работу? Дельфин переживал не меньше моего. Конечно, получилось это все случайно; как говорится, «роковое стечение обстоятельств», но ведь виноваты-то все-таки мы! И особенно я: это ведь моя была идея заявиться в парикмахерскую. Успокоился я, лишь когда узнал от Юлии Михайловны, что Лида по-прежнему работает в парикмахерской, учится и все обстоит благополучно…
— Вот это для нее самое подходящее дело, — кротким голосом пела Юлия Михайловна, — волосы подметать. В жизни ведь все так: одному то, другому это. Ничего не поделаешь, каждому свое. Девочка она молодая, старательная, я так рада, что наша Лидуша наконец-то нашла свое место в жизни!
За такие слова мне ее просто убить хотелось. Ну не убить, так обругать крепко и обдуманно. Но придумать что-нибудь язвительное в тот момент я не смог, а потом сообразил, что ругаться с Юлией Михайловной — дело бесполезное. Ее этим не проймешь. Это все равно, что чугунную болванку за брюшко щекотать. Отрицательным эмоциям нет места в организме Юлии Михайловны, это уж точно. Послушает, да и спать заляжет, такого задаст храпака…
Лидку после того я долго не встречал, да, по правде сказать, и не очень-то стремился к этой встрече. Точнее, я даже избегал ее. Как ни говори, а все-таки неловко.
Кончилась первая четверть, за окнами полетел косой снег вперемешку с дождем, электричество стали включать раньше, и вечера как будто приблизились. Не успел из школы прийти, не успел пообедать — зажигай свет, вечер наступил. Утром в школу бежишь — вокруг сумерки, в домах там и тут вспыхивают окна, только по-особому, сыровато-свежему воздуху и поверишь, что это наступает день, а не ночь.
В такое-то вот смутное утро я и увидел Карякину — на работу спешила.
Я еще издали узнал ее старое зимнее пальто, и шапка та же, только в руке сумочка, как у взрослой. Рядом вышагивал Мишка. Ушанка — уши врасхлыст, портфель раздутый и обязательный мешок с кедами. Я догнал их, поздоровался.
— Здрасьте. — Лида кивнула. — Что это тебя не видать? Я уж думала — помер.
— Зачем помер? Уроков задают — во, по самую завязку, гулять-то не приходится.
— А как там Дельфин? В порядке?
— В полном… Я передам от тебя привет. Можно?
— Валяй.
Она вдруг фыркнула.
— А здорово вы тогда драпанули! Ой, не могу… Вскочили — и за дверь. Храбрецы! Чего удрали-то?
— Да так, знаешь, неловко как-то все вышло…
— Ну и ну! А явились зачем?
— В качестве клиентов, — признался я. — И тебя навестить.
— Клиенты! Ха-ха-ха!.. Ой, умора! Из-за вас мы все потом со смеху чуть не померли, хорошо, что старикан особенно не пострадал.
— Тебе из-за нас досталось, а? — осторожно спросил я.
— Было немного. А потом хохотали. Всем коллективом, так сказать.
У меня сразу на душе полегчало.
— А Дельфин, знаешь, тебе звонить боится. Думает, ругать начнешь.
Она перестала смеяться.
— Ну передай — пусть не тушуется.
В школе я рассказал об этой встрече Дельфину, привет от Карякиной тоже не забыл передать. Витька молча кивнул и, как всегда бывает, когда он смущается или обдумывает, что ответить, полез в свой портфель и стал в нем рыться. Но я-то видел, что Витька страшно рад. Еще бы, такой груз с души свалился! Да и скучает Дельфин по Лидке, это я давно заметил.
— Надо будет ее навестить. Или у меня собраться, — предложил я. — Лучше у меня.
— Это можно. — Дельфин, не поднимая носа от раскрытого портфеля, кивнул головой.
— Чудачка все-таки Лидка, — сказал я. — Все у нее не по-людски получается. Будто по ухабам скачет. Сплошные ухабы.
Дельфин защелкнул портфель, задвинул его в стол, усмехнулся.
— Не любишь ухабы? Гладенькая дорожка больше нравится?
— Нет, почему гладенькая? У каждого свои трудности, но какие-то нормальные, что ли… Скажем, наши ребята, весь наш класс. Люди как люди, кто учится лучше, кто хуже, ну бывают и провалы и срывы. С кем не случается. И ничего, двигаются потихоньку. А Лидка…
— Для некоторых эти самые ухабы просто не существуют, — перебил меня Дельфин. — Такие над ухабами плывут.
— Почему? — удивился я.
— Не замечают потому. Не хотят замечать. Плывут своей дорогой, и все тут. А есть там ухаб или нет, такому типу наплевать. Пускай хоть всю дорогу камнями завалят. Объедет — не заденет.
— Да ведь она как поступает? — загорячился я. — Себе во вред. Вспомни только, как с Цыбульником-то обошлась. Едва из школы не вылетела. А в учреждении? Нужный документ куда-то засунула. Ее же фактически выгнали! Все делает себе во вред!
— Зато ваша Юлия Михайловна делает все исключительно себе на пользу… Тебе это больше нравится?
Дельфин начинал злиться. Но мне тоже хотелось сказать свое.
— Нет, это мне совсем не нравится. Юлия Михайловна! Вспомнил тоже. Таких поискать. Да нет, таких, наверное, больше днем с огнем не сыщешь.
— Сыщешь! Еще как сыщешь… Если хочешь знать, Лидка — живая душа. Она каждый камень на дороге чувствует. Мешают ей эти камни, убрать хочется. Вполне понятно.
— Да ведь она как действует? — не уступал я. — Носом она об эти камни! Ей же хуже.
— А вот Юлия Михайловна все делает как ей лучше…
— Далась тебе эта Юлия Михайловна! Мы же о Лидке говорим…
Тут прозвенел звонок, вошла учительница по математике, мы умолкли, поскорее достали учебники. Начался опрос…
Приближался Новый год.
— Беспокоюсь я за Лиду, опять она без работы, — сказала как-то за обедом мама.
— Что?!
— Я сама сегодня только узнала, Лида ведь и не скажет, гордая… А зря. Недели три уже не работает. У нас на заводе открыли новый цех, можно бы устроиться, я бы посоветовала ей…
— Неужели выгнали?!
— Уж не знаю, как там. Но деньги Карякиным нужны, я понимаю, да и справку в школе вечерней требуют.
— Вот не везет человеку! Неужели еще что-нибудь учудила?
— Ты вот что, Сережа. Зайди к ней, позови сюда. Поговорим, может, и придумаем что-нибудь.
Я отправился. Дома у них никого не было, и тогда я решил прогуляться к Дельфину.
Застал его за вычерчиванием какой-то морской карты с целой россыпью островов. Завидев меня, Дельфин выставил вперед нос, шумно втянул воздух.
— Ого! Снежным циклоном запахло, Арктикой. Морозно?
— Не очень. Слушай, Карякина опять без работы, только что узнал.
Лицо Дельфина вытянулось.
— А что случилось?
— Не знаю. Мама сказала мне только, что Лидка не работает, и все. Уже целых три недели. Больше ей ничего не известно.
— Так. — Дельфин убрал недочерченную карту в папку, призадумался.
— Что-то надо делать, — соображал он. — Для начала давай сходим в Лидкину парикмахерскую, узнаем, что и как. Будем действовать в открытую.
Я согласился, и мы пошли.
— Вот видишь, — не утерпел я, — кто был прав, а? Снова Секлетея наша номер выкинула. Интересно, что за номер. Может, миску с шампунем в мастера запульнула? С розовым.
Дельфин остановился, посмотрел на меня в упор.
— Еще не слышал от тебя этого словечка — «Секлетея».
— Я же его от тебя слышал.
— Так то в раннем детстве. Мало ли что болтаем…
— Понял. Заметано.
— То-то.
Мы свернули в переулок…
Парикмахерская оказалась запертой, окна все черные, без занавесок, а то и без стекол. Ясно, давно отсюда выехали.
Дельфин почесал за ухом.
— Н-да… Что же, пошли.
Мы поплелись по переулку. Падал мягкий снежок, всю дорогу застелило ровной снежной пеленой, нигде не видно ни одного следа… Лишь в одном месте крестики от птичьих лап да узенькая цепочка через дорогу: должно быть, кошка перебежала.
— Как на границе, — сказал я. — Ничейная полоса.
— Похоже. — Витька кивнул.
Мы перешли через пустырь и оказались в нашем дворе, у самой ограды детского сада.
Красные кленовые листья еще с осени облепили проволочную сетку ограды, их припорошило свежим снежком, и это было красиво. Прозрачная металлическая сетка и островки кленовых заснеженных листьев на ней. Детвора за оградой шумела.
— Гляди, наша Лида! — сказал Дельфин.
На скамейке среди детворы действительно сидела Карякина. Мы остановились и стали слушать.
— Юрик, поди сюда! — позвала Лида.
В белой пушистой шапке с помпоном и таком же шарфе, Юрик беспрекословно явился.
— Что у тебя за пазухой?
— Конфеты, — объявил Юрик. — Много конфет.
— А-а, — протянула Лидка, — а то я уж думала, что у тебя живот такой толстый.
Ребятишки вокруг засмеялись.
— У него в карманах тоже конфеты, ему бабушка целый мешок конфет принесла, — объявила девчушка.
— А в других карманах пряники!
— Это хорошо, — похвалила Лидка, — теперь наши ребята будут чай пить с конфетами. Тут на всех хватит. Ты, конечно, сладости для всех ребят приберег?
Юрик опустил голову, так что помпон с макушки свесился ему на лоб. Молчал.
— Он не для ребят, он для себя приберег! — закричали вокруг. — Лидия Леонидовна, он для себя и пряники приберег!
— Вот как, — протянула Лида. — Значит, все дети будут чай пить без конфет и без пряников. Один только наш Юрик — с конфетами да с пряниками. Придется Юрика посадить за отдельный стол, а то ему тесно, сладости положить некуда.
Ребята засмеялись.
— Юрик, Юрик, — пропищала какая-то пигалица, — а ты конфеты раздели на всех! Вместе сидеть ведь веселее.
— Это мои конфеты, — уперся Юрик.
— Пускай он лучше отдельно сидит, — зашумели ребята. — Он всегда толкается.
— Он толкается, он сегодня Митю повалил! Митя самый маленький, а Юрик у нас самый сильный.
— Я самый сильный, — хвастанул Юрик.
— Вот как. Ну-ка подойди сюда поближе, самый сильный, — приказала Лида.
Юрик подошел.
— Вон сколько у тебя конфет. Объешься, заболеешь, пожалуй… Скажи-ка, Юрик, а что, если к нам в группу поступит новенький и он окажется еще сильнее, чем ты? Хорошо тебе будет?
Юрик молчал.
— А что будет, ребята, если все люди так начнут: сильный бьет слабого, а слабый ищет кого-нибудь еще послабее, чтобы повалить?
— А я знаю, что будет, — снова пропищала малышка, — все люди сразу в милицию попадут.
— И конфеты у Юрика обязательно кто-нибудь отнимет! Сильнее который.
— Да, нехорошо получится, — подтвердила Лида. — А как ты, Юрик, думаешь, правильно ты поступаешь или нет?
— Я не знаю, — проворчал Юрик.
— Он знает, он знает, только не хочет говорить, — зашумели вокруг.
— Нет, правильно ты поступаешь, Юрик? Скажи, — настойчиво требовала Лида, — ты бьешь слабых, конфеты все себе присвоил, справедливо это или нет?.. Скажи, ты сам-то себе нравишься?..
Ребята вокруг затихли, ждали, что скажет Юрик.
Наконец он поднял голову, и кисточка на шапке заняла правильную позицию — повисла на затылке.
— А я конфеты на всех разделю. Я слабых защищать буду. — И мальчик полез в карман за конфетами.
— Молодец. Сейчас не надо, перед чаем раздашь. Ну, идите, играйте…
Мы вошли в садик. Лида уже перематывала шарф какому-то малышу, стряхивала с пальтишка снег.
— Наше почтение! — Мы разом приподняли шапки. — Войти можно?
— А-а, «клиенты» явились. Ну, присаживайтесь, — пригласила она.
Мы уселись на скамейку.
— Лид, а мы думали, ты в парикмахерской… — начал я.
— Какое там в парикмахерской! Закрыли… Целый квартал на слом идет, разве не знаете? Ну, я и рада. Устроилась вот. Интереснее.
Мы с Дельфином молчали. Лидка чертила что-то детской лопаткой на рыхлом снегу.
— Вот так, — добавила она.
— Как с конфетами-то распорядилась, — улыбнулся Дельфин. — Неприятностей не будет, а? Конфеты-то все-таки родительские.
— Благодарят пускай, что спасла ребенка от засорения желудка, — сказала Лида. — Нанесут, будто здесь голодные.
— Возьмет этот Юрик да нажалуется, — предположил я.
— Что же делать. Вполне возможно. — Она вздохнула. — Такова наша педагогическая работа. Иду на риск.
— Так. Лидия Леонидовна — педагог! — поддел Витька.
— Пока что всего-навсего младшая няня…
Дельфин продолжал улыбаться, и лицо у него было, по-моему, самое идиотское.
— Значит, ничего работенка? Нравится?
Она помолчала.
— Ага… Здесь, по крайней мере, можно что-то сделать существенное. По крайней мере, не зря трудишься…
— Понимаю. Ну и как, результаты налицо? — спросил я.
— Еще бы! Но, по правде говоря, недурно бы поработать в яслях. Ведь воспитывать человека надо с самого раннего возраста. А то уже перевоспитывать приходится.
— Все ясно. Ну, не будем больше мешать…
— Алла! Алла! — вскочила с места Лида. — Вылезай сейчас же из сугроба! Ерохин Коля!.. Оставь Аллу в покое!
Она пошла разнимать ребятишек.
Кто-то быстро шагал мимо ограды. Остановился.
— Гляди, Вить, никак Горяев… Андрей! Заходи сюда! — окликнул я.
— А-а!.. Вы! А я гляжу, здорово как: сетка стальная, на ней листья. Красные, со снежком. Глядятся здорово. Надо этюдик сделать…
— Как дела, маэстро архитектор? — спросил я.
— Ничего пока. На изокружке был, бегу вот к дому…
И тут он заметил Лиду среди ребятишек.
— Батюшки! Неужели Карякина?! — взвыл Горяев. — Теперь уже в детсаду! Ну, родео, право слово — родео.
— Заткнись, лучше покажи рисуночки, — сказал Дельфин.
Горяев присел рядом с нами, с готовностью раскрыл свой альбом.
На первой странице был карандашный рисунок — церковь…
— Церковь Покрова-на-Нерли, — пояснил Горяев. — Летом ездил, смотрел. Красотища! В двенадцатом веке построили.
— Да ну! Неужели в двенадцатом?..
Мы с интересом перелистывали альбом. Здорово все же рисует Андрей. Позавидуешь. Просто талант, ничего не скажешь. Там были разные пейзажи: реки, поля, рощи летом и осенью. И обязательно с каким-нибудь зданием в центре или сбоку. Сразу поймешь, что рисовал архитектор. Призвание налицо.
— Это церковь на берегу Клязьмы… Вот, кажется, и все. — Он перевернул лист, и тут мы увидели совсем другой рисунок. Карикатуру. Во всю страницу нарисована была лошадь. Встала на дыбы, беснуется. Морда оскалена, задние копыта — наотлет, передними машет. А на крупе кое-как держится… Лида Карякина. Ноги врозь, руками цепляется, глаза выпучены от ужаса — вот-вот слетит. Лидка получилась очень похоже. На брюхе лошади надпись: «Работа». Внизу название картины: «Родео Лиды Карякиной».
— А это, как видите… — пустился объяснять Горяев.
Дельфин спокойно протянул руку:
— Давай сюда!
Он выхватил лист, сложил его вдвое и порвал на мелкие кусочки.
Мы все трое переглянулись.
Лидка разобралась с ребятишками и уже подходила к нам.
— Вас понял, — сказал Андрей и захлопнул альбом.
ХАРАКТЕРИСТИКА
© Издательство «Советский писатель», 1975.
Урок математики подходил к концу, Аделаида Ивановна, математичка, собрала на своем столе тетради, классный журнал, засунула все в портфель, посмотрела на окно и сказала:
— Ребята! Торопитесь, побыстрее усваивайте учебный материал! Новый год у ворот!
Я оторопел прямо. Нечего сказать. Четырнадцатое сентября, на улице жарища, вон пацаны в одних майках мяч по улице гоняют, а она — про Новый год!
— Да, ребята… — продолжала маленькая шустрая Аделаида Ивановна. Глазки ее забегали беспокойно по рядам, светлая челка запрыгала над сморщенным румяным личиком. Ни дать ни взять пионерка, только пожилая. Недаром ребята прозвали ее «Юный Математик».
— Да, ребята! Новый год на пороге. Неужели вы не чувствуете запах снега, запах елки?! Чувствуете, ребята? Елка! — вздохнула Аделаида Ивановна. — А материал у нас не пройден! Даже не начат, в сущности. Ужас, ужас! Ребята! Если так и дальше пойдет, это будет просто ужасно! Мы должны немедленно…
— Дает наш Юный Математик, — шепнул я соседу по парте, Вадьке Белосельскому. — Шуточки, Новый год у ворот. А я купаться было собрался.
Вадька ничего не ответил, не шелохнулся даже. Только покосился на меня прищуренным карим глазом и слегка отвернул свою розовую скулу. Сидит прямо, руки на парте сложены. И подумать только, я с ним раньше дружил… С третьего класса.
В сущности, Вадька просто чурка, а не человек. Особенно уши меня раздражают. Кругленькие такие уши, к черепу аккуратно приставлены. Бывает, отвернется Вадик, замолчит, вот как сейчас, что ли, а уши как будто за него говорят: «Это все меня не касается, делайте как хотите. Лично я уверен в себе и вообще попусту терять время не намерен…»
И все в таком роде. У меня иной раз руки так и зачешутся, вот бы влепить! Да нельзя. Не маленькие. Девятый класс, не до драк… Едва успеешь уроки выучить, а на другой день вдвое больше навалят… Ничего не поделаешь, двадцатый век, поток информации…
Я бы, между прочим, с удовольствием пожил бы где-нибудь в начале девятнадцатого: бредешь себе тихонько по улице, извозчик плетется, пара-другая прохожих, ну, там, Онегин какой-нибудь катит, — «морозной пылью серебрится его бобровый воротник». У забора свинья разгуливает, куры с петухом… Красота! На досуге помечтаешь о том, о сем. Что такое вообще человек, чем дышит личность, и всякое такое, о чем сейчас и вспомнить некогда.
Конечно, надолго я бы там задерживаться не стал, но все-таки… Отдохнул бы душой, что ли, самоуглубился бы, полюбовался бы на всякие там закаты и восходы, на весну и осень, погрелся бы на солнышке.
А то все некогда. Только и живешь, что в каникулы.
Вот и сейчас: звонок уже был, а математичка вроде и не собирается нас отпускать: на доске график начерчен, вот она и принялась восхищаться им:
— Ребята, глядите, как плавно ниспадает эта линия! Я просто не понимаю инертности вашей, вашего равнодушия! Ведь это… Это красота! Глядите, какая в этом поэзия, какая музыка! Да, да, Горяев, не улыбайся, именно музыка!
Еще бы не музыка. У нее ведь одна математика, и все. И та уж давно знакомая. Мне, если один-единственный предмет изучать, тоже, наверное, бы музыка слышалась.
В общем, продержала нас чуть не полперемены. В буфете очередь, не протолкнешься. Наши постояли немного и — назад, в класс. Я через головы заглянул — недаром рост мой 195 см — вижу, чего только нет: и пирожки, и яблоки, на бутерброды уж и смотреть не могу, съел бы все разом. И пить хочется. Кричу:
— Это что за красная жидкость вон в той колбе? Это, случайно, не B2O3?
— Нет, это вишневый напиток, — отвечают.
Пока очередь подошла, буфет совсем опустел. Съел два с колбасой, один с сыром, выпил вишневый напиток…
Выбегаю — в коридоре пусто. Опоздал. Из класса слышен голос физика:
— Нет, это просто полная умственная деградация. Слушай, я тебя про Ерему спрашиваю, почему ты мне все про Фому? Чему равен вектор?..
Заглянул в щелку — у доски торчит Сидоров. Спрашивать с него, все равно что с парты. Молчит да рыбьим глазом на класс поглядывает. У него манера такая, как-то сбоку поглядывать, и всегда одним глазом. Молчит, патлы рыжие за ухо заложил, сразу понятно — подсказки ждет.
— Ну? Из конца вектора проводи горизонтальную составляющую! — подгоняет физик.
А голос подрагивает. Я понимаю: лучше не входить. Нарвешься на неприятность. Подожду звонка. Заглянул еще раз, вижу: Сидоров получил шпаргалку. Физик-то не видит, за столом сидит, зато мне отлично видно, как Сидоров развернул бумажку и крутит над ней своей длинной шеей — изучает. Я отошел от двери. Пожалел, что нет учебника химии, подучил бы пока. Целый урок пропадает.
Впрочем, время прошло быстро, прозвенел звонок. Я отскочил за шкаф, подождал, пока из класса выйдет педагог, и тут отмочил такую штуку, которая ребятам надолго запомнилась. Мне-то шуточка эта вышла боком. С нее и начались мои мытарства.
Знаете, как изображают Фантомаса? Собственно, это я придумал. Надо всего-навсего натянуть горловину свитера на лицо, вроде маски, рукава тоже спустить, чтобы руки как в перчатках были, — чем не Фантомас? Свитер-то у меня под пиджаком темно-зеленый, с длинной горловиной, подходящий как раз… Потом надо медленно войти в помещение и передвигаться там плавным шагом, загребая то одной, то другой лапой. Главное, движения должны быть замедленные, как на рапидной съемке.
Когда неожиданно к вам входит детина ростом в 195 см, с зеленой рожей и начинает этак вкрадчиво, но вместе с тем и стремительно носиться по комнате, будьте уверены, впечатление получается умопомрачительное… Я уж проверял не раз. Девчонки прямо-таки визгом исходят, ребята с хохоту падают. Словом, выходит здорово. Только в нашем классе я еще не дебютировал. Как-то не до этого было.
Едва физик повернулся спиной и пошел по коридору, я натянул свитер до самой макушки и нырнул в класс. Прошелся скользящим шагом вокруг стола раз, другой… Что такое? Вместо визга и хохота — тишина, сдавленное фырканье.
Я еще больше стараюсь, чуть не летаю по классу. Указку схватил, «антенну» к столу пристраиваю… В чем дело? Все сидят на местах, тихонько посмеиваются.
Сдернул тогда свитер с лица, гляжу. И что же? На последней парте сидит завуч, Анна Леонтьевна, и этим спектаклем любуется… Тут все грохнули. Видно, лицо у меня такое было…
С Анной Леонтьевной шутки плохи, все это знают. Перед ней Сидоров стоял, как раз с него стружку снимали. Ясное дело, теперь все внимание перешло на меня.
Главное, на уроке-то я отсутствовал. Уважительных причин никаких не было, а хулиганская выходка налицо. Досталось мне основательно… В конце концов Анна Леонтьевна объявила, что школа ни в коем случае не сможет дать мне удовлетворительную характеристику. А без характеристики просто невозможно поступить в институт. Словом, куда бы я ни сунулся со своими документами, всюду мне теперь — от ворот поворот.
Нечего сказать, влип. Настроение у меня совсем испортилось. Уроки кончились, я и этому не рад. Сижу, в портфеле роюсь. А Вадик, сосед, и говорит:
— В архитектурный, конечно, тебе и соваться нечего. Попробуй в театральное училище. Покажи им Фантомаса, вполне возможно, что зачтут.
И лицо такое сделал, скромное и благородное. Тетрадочки в портфель положил, замок защелкнул, на пухлом подбородке складка обозначилась, коротенький нос и рот собрались в этакую мордочку. В крепенькую, квадратную и, в общем-то весьма умненькую мордочку.
Ребята собирались домой, девчонки наскоро записывали уроки, договаривались о чем-то. И я почувствовал себя заброшенным, одиноким, хоть вой, хоть вовсе домой не являйся. И дернуло же меня фантомасничать!
* * *
Дома я рассказал маме всю эту историю. Мама как раз на вечерние занятия собиралась, она у меня преподаватель. Немецкий язык в институте преподает.
— Ты с ума сошел! — удивилась мама. — Вот еще не было печали!
Мама пудрилась перед зеркалом, и теперь она то ругала меня, то снова пудрилась.
— Ты не представляешь себе, как трудно поступить в вуз! Мне пришлось разыскать одну знакомую, которую я уже лет двадцать не видала. (Мах, мах пуховкой.) И только для того, чтобы она познакомила меня с репетиторами, знающими требования твоего института… Ты отдаешь себе отчет, во что обойдется твое поступление в вуз?
— К черту! — заорал я. — У меня по всем предметам четверки да пятерки! На что мне репетиторы! Я что, хуже других? Не хочу репетиторов!
— Глупости! — прикрикнула мама. — Может быть, ты и не хуже, да другие-то вдруг окажутся лучше! В общем, чтобы не было никаких историй! Понимаешь? Никаких историй больше! И характеристику чтобы хорошую получить! Не удовлетворительную, а хорошую! Вот!
Мама схватила сумочку, заглянула в нее и направилась к двери.
— Да-а, хорошую! — заныл я. — Напишут мне теперь хорошую, как же!..
— Старайся! Общественную работу выполняй, в кружки какие-нибудь запишись. И, главное, без фокусов! — Мама остановилась в коридоре, обернулась, взглянула на меня. — Никаких драк, никаких глупостей!
— А если хулиганы пристанут, что же я тогда…
— Беги. С твоими-то ногами длинными, да не удрать; просто позор. Но в драку ввязываться не смей!
И мама ушла.
Я засел за математику. Ничего не клеилось. Из головы не выходила проклятая характеристика. К тому же задача попалась ломовая какая-то. Нет, подумать только, что это будет за жизнь! В кружки какие-то записываться. В какие кружки?
Общественную работу я и так выполняю: делаю рисунки для стенгазеты, карикатуры, рамочки всякие, одним словом, оформление. Но к этому привыкли давно, не замечают, вроде так и надо. И правда, кто же кроме меня? Я лучший художник в классе. Да-а… Прибавить придется пару нагрузочек, не иначе.
Этой ночью я спал плохо. Утром меня подозвала Нина Харитоновна, наш классный руководитель.
— Горяев, я слышала, ты вчера опозорил весь наш класс, — сухо сказала она, и на лице у нее сразу вспыхнули красные пятна.
— Да я, Нина Харитоновна, ей-богу…
— Поздно каяться. Об этом поговорим после, — остановила она. — Имей в виду, это отразится на твоей характеристике.
— Я… Я постараюсь загладить. Так вышло, понимаете, я и сам не ожидал!
— Не ожидал! Подумать только, не ожидал! Уж если ты и сам не ожидал, так чего же ожидать другим! Да! Чего ждать от тебя коллективу, педагогам, родителям? Ты подумал хоть об этом?
Я смотрел на лицо Нины Харитоновны — красных пятен на нем становилось все больше — и молчал. Да и что тут скажешь. Молчать — самое лучшее! Я молчал бы и дальше, если бы не выручил звонок.
— В общем так. Ты должен доказать делом. Возьми этот адрес, вот заявка, и после школы поезжай на кинофабрику, договорись о просмотре учебного фильма.
Я обрадовался. Съезжу туда, и баста. Зачтут за общественное поручение, и весь инцидент забудется.
Ехать пришлось часа полтора, с двумя пересадками. Там была очередь, так что потратил часа полтора, чтобы оформить заявку. Обратно — снова полтора часа.
В общем, когда я вернулся домой, уже стемнело. Только сел за уроки, позвонил Вадька:
— У тебя задача четыреста первая получилась? Какой ответ?
— А почем я знаю? Я еще ни черта не успел. Поручение выполнял.
— А-а! Прискорбный случай, — посочувствовал Вадька. — Ну привет. Не забудь, завтра сдавать сочинение.
И повесил трубку.
Конечно, я понял, что это он нарочно. Не удержался, чтобы не съехидничать. Ну черт с ним. И я принялся за работу. Изложил своими словами сказку Салтыкова-Щедрина, вставил кое-какие фразы из учебника, ничего, сойдет… Главное, сдать сочинение обязательно завтра. Иначе придется беседовать с Ниной Харитоновной, потому что она-то и ведет у нас литературу.
Закончил в одиннадцать. Потом принялся за остальные уроки. В общем, к двум часам ночи почти все было готово.
Мама давно уже десятый сон видела, когда я улегся наконец спать.
* * *
Время шло. Я старался как только мог. На разные поручения сам напрашивался, за два месяца пять стенгазет оформил, на все экскурсии ходил, отстающему Сидорову помогал.
Этого черта Сидорова приходилось ловить в толпе около кинотеатра, домой тащить да за уроки засаживать… Сам-то я уже позабыл даже, когда последний раз в кино ходил…
Однажды после уроков нас задержала Нина Харитоновна. Надо было обсудить вопрос о классном вечере. Обыкновенный вечер, с танцами, с постановкой… Решили показать несколько сцен из гоголевского «Ревизора». Распределили роли, мне дали Ляпкина-Тяпкина. Оформление сцены, декорации, конечно, тоже поручили мне. Вечера всегда оформлял я. Ничего не поделаешь, лучший художник…
А потом Нина Харитоновна заговорила о танцах.
— Смотреть обидно, — начала она, — как наши мальчики прямо-таки постыдно прячутся за спину друг друга, лишь бы девочек не приглашать. Однажды Сидоров даже под стол полез, когда Зоя Копыткова пригласила его на вальс. Стыдно! На прошлом вечере все, как тараканы, забились по углам, одни девочки танцуют друг с другом.
— Мы же отдохнуть пришли, — бормотнул на последней парте Сидоров.
— Вот, вот. Инвалид первой группы нашелся. Ты и сейчас отдыхаешь, развалился на парте, как на диване.
Тут выскочила Тося Хохлова:
— Нина Харитоновна! Позвольте мне высказаться по этому вопросу!
Она маленькая, тоненькая, Тося эта, прямо кукла, и все время вертится, когда говорит. Получается вроде кукольного театра.
— Ребята! — запищала Тося. — Я считаю, что пора покончить с такими танцами. Что это за танцы! Надо взяться как следует за наших мальчиков, заставить их вести себя нормально!
Я терпеть не могу девчонок. Во всяком случае, наших. В нашем классе ни одной порядочной девчонки не найдешь. Ни поговорить с ними по-человечески, ни в кино пойти. Одно ломанье, писк и всякое издевательство.
Взять ту же Тосю. Пробовал пригласить ее на «Риголетто». Сначала она ломалась, дескать, не знает, сможет ли, и так далее. Потом вроде согласилась. А в самый вечер, как идти, позвонила, что не может… Я уж не знал, как быть с билетом, когда она снова позвонила, что идет. А со второго действия смылась. И хорошо, что смылась, а то духами от нее так несло, что я уж и музыку слушать не мог, в носу защипало.
В общем, после долгих обсуждений и споров мы все поклялись активнее танцевать, и, конечно, только с девочками.
Потом Нина Харитоновна рассказала, каково должно быть оформление сцены: по сторонам — гирлянды из флажков, а наверху — фигура школьника высотой в два метра. Такой фанеры у нас не было, и я предложил оформление попроще, без школьника. Но Нина Харитоновна стояла на своем. Дался ей этот «школьник»!
Где взять двухметровую фанеру, я не знал.
— Подумаешь, стащишь где-нибудь. Мало ли стройучастков разных, — сказал Вадька. Он ухмылялся от уха до уха. — Могу порекомендовать: строительство в Купавне. Сел на электричку, через час там. Что стоит?
— Вот и поедем вместе, — поддел я его. — Я воровать буду, а ты на стреме стоять.
Знал я, конечно, что Вадька никуда не поедет. Дорожит временем, готовится поступать в машиностроительный. Говорит, на курсы какие-то записался, три раза в неделю ходит.
— Мне зачем? — процедил, не оборачиваясь, Вадька. — Характеристику зарабатывать, что ли? Мне и так хорошая обеспечена.
Ух, так бы и врезал ему! Да нельзя: характеристика.
Все же совет Вадькин я учел. На другой день съездил в Купавну, спер на строительстве подходящую фанеру. До Москвы доехал с ней на электричке, а дальше пришлось пешком тащить. В троллейбус не пустили. Куда с такой фанерищей.
Вспотел, топая от Курского вокзала через всю Москву, Дома еле отдышался.
Поел, взялся за уроки. Развернул дневник. Батюшки! За контрольную по математике — тройка. Математика — это же один из главных предметов для меня. Проходной балл, как говорит мама. Скоро конец четверти, что делать, как исправить отметку? Я задумался.
До сих пор отношения с Юным Математиком у меня были самые лучшие. Предметом я интересовался, а это главное. Аделаида Ивановна не терпит лени, равнодушия.
Сдается мне, что человека, который не интересуется математикой, Аделаида Ивановна каким-то неполноценным считает.
И вот поди же — тройка. Это у меня-то! Ясное дело, замотался в последнее время, на уроках не вникал, дома все кое-как, лишь бы успеть…
Огорчаться было некогда, я быстро доделал алгебру, пробежал глазами физику, химию, литературу, биологию и занялся оформлением.
Нарисовал во всю фанеру школьника, отошел, полюбовался издали.
Люблю я это дело! Собственно, и в архитектурный-то стремлюсь из-за того, что связана архитектура с искусством, с декорациями… На художника учиться поздно, с детства надо было. Мне кажется, что в архитектуре соединяются техника с искусством. Как раз то, что мне надо. Растрелли, Воронихин!.. От одних имен этих у меня мурашки по коже бегут. Архитектура мне кажется таким особым, прекрасным миром, куда пускают только избранных. Вот бы и мне!..
Я принялся усердно раскрашивать фигуру школьника, а уж выпиливание и окончательную отделку пришлось оставить на воскресенье.
* * *
На следующий день Вадька схватил двойку по химии. Вадька вообще учится хорошо только по профилирующим предметам, то есть по тем, которые нужны ему для поступления в вуз.
А нужны ему математика да физика, ну и, конечно, русский с литературой… Сил даром не тратит. От физкультуры освобожден, а значит, и от всяких походов да экскурсий. Есть у него справка от врачей, что перегрузка вредна для Вадькиного организма, что-то не в порядке у него, сосуды, что ли. Впрочем… он ростом только не вышел, а вообще ничего, крепенький… не верится в общем в сосуды эти.
Двойке Вадькиной я порадовался. Не все же мне одному страдать.
— Поздравляю с днем ангела, — говорю, — и желаю дальнейших успехов.
— Пропадаешь с этими курсами, задают по самую макушку! — бормочет Вадим. — А ты иди знаешь куда… Характеристику свою зарабатывай…
* * *
Фигура школьника была совсем готова, осталось только выпилить. Я приготовился было заняться этим, но мама послала в гастроном за макаронами.
На улице падал снежок, было так чисто, бело. Меня обогнал дядька с раздутой авоськой. Из авоськи торчал рыбий хвост.
— Безобразие! — проворчал дядька. — Оставят и уйдут.
Тут я заметил, что у дверей гастронома привязан большой рыжий терьер. Пес покосился на дядьку и виновато отвернулся. Такой славный пес, морда почти прямоугольная, шерсть волнистая. Сидит смирно, ждет.
Нельзя не полюбоваться таким псом, и я остановился у витрины. Каждый, кто проходил мимо, обязательно отпускал какое-нибудь замечание.
— Привязали на самом ходу! Укусит, так будут знать!
— Развели собак кому делать нечего!
Псу, видать, было неловко. И ногами-то он перебирал, и к самой стенке подвинулся. Поджался весь, чтобы поменьше быть, понезаметнее… А какая-то тетка еще и пожалела пса:
— Бедненький. Сидит, бедняжка.
Терьер покосился на нее и совсем к стенке отвернулся.
А почему, собственно, пес «бедненький»? Наоборот, сытый псина, ухоженный. Вон как шкура блестит, мытая да расчесанная. Ничего себе бедненький!
Я прошел мимо, делая вид, что вовсе не гляжу на пса. Тут и хозяйка вышла, отвязала собаку. Надо было видеть, как терьер заспешил от магазина! Даже не обернулся ни разу…
В дверях я неожиданно столкнулся с Тосей. Она была в голубой короткой шубке и пушистой шапочке.
— Знаешь, у Борисова ничего не получается, — сказала Тося.
— Что не получается?
— Хлестаков. Мы сегодня с ним порепетировали немного. Прямо бегемот какой-то, а не Хлестаков. Решили роль передать тебе.
— Так я же Ляпкин-Тяпкин!
— Ну и что же! А в другой картине, где нет Ляпкина-Тяпкина, ты сыграешь Хлестакова. Знаешь, сцена вранья! У тебя получится!
Я подозрительно покосился на нее, да нет, Тося говорила по-честному, без подвоха.
— Ну что же. Я готов. Начну зубрить!
— Репетиция завтра! Не забудь! — Тося помахала рукой в пушистой варежке и ушла.
Домой я шел нарочно длинным путем, по тихому снежному переулку. Это чтобы петь без помех. Люблю петь, когда меня никто не слышит.
Оглянулся: никого нет. Набрал воздуху и заорал во все горло: «О дайте, дайте мне свободу! Я свой позор-р-р… сумею искупить!» Получилось мощно.
А что, если у меня вдруг появится оперный голос?! Вот здорово! Стать бы оперным певцом! И я размечтался: театр кипит, все наши ребята в партере.
— Сидоров, сядь на место, успокойся, не вертись, — волнуется Нина Харитоновна.
Нарядные девчонки шепчутся, программки листают. Дирижер взмахнул рукой, и… В общем, я выхожу на сцену. Поступь важная, борода, кольчуга. Конечно, с мечом в руке.
— Ни сна-а, ни отдыха измученной душе…
Тут кто-то хлопнул меня по плечу.
— Ты чего распелся? Вся лестница гудит!
Оказывается, я уже в нашем подъезде. А на площадке около своей двери стоит Игорь Савельев, наш сосед. Вернее, сын соседский, он из армии в отпуск приехал. Стоит и усмехается.
Каким-то другим стал Игорь. Не пойму, в чем тут дело, а все-таки Игоря не узнать… Еще в прошлом году вместе в кино бегали. Ни силой не отличался особенной, ни ростом. На три года старше меня, а разницы большой между нами как-то не чувствовалось. Бывало, вместе обсуждали, куда лучше поступить, книгами обменивались.
Игорь полез в карман за ключом, дверь отпирает, все делает с какой-то особенной, мужской ухваткой. Сразу видно — хозяин.
— Ну, как дела в школе?
Спрашивает, конечно, просто так, для проформы, потому что он-то отлично знает, какие такие дела в школе, сам в ней учился.
А вот мне ничего не известно об армии и страшно хочется с ним поговорить. Только как подступиться, не знаю. На Игоре шинель, нашивки какие-то, ремни… Что-то незнакомое и в лице, и в повадке.
— Так себе дела, — отвечаю. Нажимаю звонок, жду. В руке сетка с макаронами топорщится.
— Заходи, — бросает Игорь.
— Обязательно! Можно завтра?
Я подпрыгиваю от радости и едва не сбиваю с ног маму.
— Отличник боевой подготовки макароны доставил! — рапортую я.
Все-таки очень хочется поскорее в армию попасть. Отслужить свое, вернуться таким, как Игорь. Невозмутимым и бывалым, непохожим на себя… Зато на человека я буду похож, и дышать станет легче. Скорее бы!
* * *
В тот день, когда был назначен вечер, меня подозвала Нина Харитоновна.
— Горяев, я на тебя надеюсь. Приедут представители из роно, гости из соседней школы. Оформление сцены сделай пораньше, чтобы все было готово к пяти. Роль крепко помнишь? Обе роли?
Нина Харитоновна говорит, а сама оглядывается, ищет кого-то.
— Сидоров! Поди сюда! Надеюсь, на вечер ты придешь не в этой рубашке!
— А чем плохо?
— Ну вот еще. Некогда мне с тобой разговаривать. Хохлова! Где программа вечера? Перепечатала? Дай сюда…
Видно было, что Нина Харитоновна волнуется. На лице красные пятна выступили, так что мне даже жалко ее стало. На меня-то, во всяком случае, Нина Харитоновна может положиться. Я твердо решил работать весь вечер не покладая рук.
И не только ради характеристики, нет… Настроение было такое. Слишком уж много вложил я в этот вечер. Рисовал, красил, пилил, роли разучивал, репетировал.
Даже костюм решил надеть новый. Еще ни разу не надевал. Костюм серый, из какого-то блестящего материала, где его мама раздобыла — не знаю. Не сразу решишься надеть этакий костюм. Но я решился.
Последним уроком в этот день была физкультура. Я задумал удрать пораньше, надо было еще довыпиливать «школьника».
В раздевалке было пусто, один только Вадька бродил вдоль вешалок, свое пальто разыскивал.
— На экскурсию в музей послезавтра поедешь или нет? — спросил я. Просто так спросил, надо же что-нибудь сказать.
— Нет. — Вадим аккуратно, крест-накрест заложил на груди шарф.
— Почему?
Вадим посадил шапку на голову. Торчком посадил, чтобы повыше казаться. В портфель заглянул, вытащил толстую тетрадь, проверил в ней что-то. Я заметил — формулы в ней незнакомые. На курсы, значит, идет. Или к репетитору. Подумаешь, студент.
— Почему? — Вадька защелкнул портфель. — Потому. Боюсь, что ты своими ушами троллейбус перевернешь. Катастрофу устроишь.
Он застегнулся на все пуговицы и вышел.
Интересно все же выходит. Оказывается, Вадьке не нравятся мои уши. А мне — Вадькины. Ну, я-то хоть критически смотрю на себя. Хвастаться нечем, уши у меня действительно большие. Ну и что же? По росту…
Я отправился домой и всю дорогу думал, как это получается, что дружишь с парнем несколько лет, и все хорошо, а потом вдруг неизвестно почему что-то в нем начинает раздражать, и дружбе конец…
Шел второй час, и мне надо было поторапливаться.
* * *
Дома я наскоро поел, потом доделал «школьника». Прислонил фигуру к стене, отошел, чтобы полюбоваться издали.
Неважное оформление получилось. Толстенький «школьник» то ли бежит, то ли на месте приплясывает. В поднятой руке — дневник. Улыбается школьник глупо-радостно, как будто ему только что полный дневник пятерок насыпали. Н-да… Не шедевр. Что поделаешь, так уж получилось. И сама Нина Харитоновна требовала, чтобы школьник был обязательно ликующий.
Ну, ликующий так ликующий.
Я надел белую рубаху, костюм новый. Встал перед зеркалом, осмотрел себя со всех сторон.
Блеск. Не человек, а серая акула двухметровая, вставшая на хвост. Я казался длиннее и тоньше, чем на самом деле. Да еще эти разрезы по бокам и сзади. Повернешься, и полы пиджака разлетаются… Может, снять, пока не поздно?
Тут я поймал себя на трусости. Заходил я на днях к Игорю. Он рассказывал мне, как ловил себя на трусости. И на учениях, и ночью на посту. Все дело в том, что Игорь не ждет, когда наступит момент внутренней паники, а предупреждает его. Он заранее заставляет себя забыть об опасности, как бы выключает в себе чувство страха, и думает только о том, как получше выполнить задание. Причем заставляет себя делать все как можно тщательней. Это в любой, хоть бы и самой сложной боевой обстановке…
Вот это да! Это я понимаю! Это человек!
Я решил действовать методом Игоря: не смущаться, делать все как можно лучше. Надел пальто, захватил под мышку оформление и отправился в школу.
Надо было еще успеть укрепить «школьника» на верхней рамке сцены, прибить несколько лозунгов, перетащить декорации из кладовой…
И нелепый, должно быть, вид был у меня, когда я со «школьником» под мышкой маршировал по улице. Фанерная рука с дневником топорщилась над моей головой, прохожие с удивлением оборачивались.
Хотя я пришел за полтора часа до начала вечера, в переулке около школы уже толпились парни. Есть такие, для которых первое удовольствие — безобразничать на чужом школьном вечере. Побьют стекла, поломают стулья — и деру.
Среди ребят я узнал Кольку Рябухина, Витьку Гуляя и Сережку Лямина. Все трое когда-то учились в нашей школе, и меня они, конечно, знали.
Я чуть было обратно не повернул, завидев их, но вспомнил про Игорев метод и пошел напрямик.
Хулиганы стояли, большие и маленькие, и поджидали, когда я со своим «школьником» подойду поближе.
— Во! Горяй хиляет! — заорал Рябухин. — Горяй, достань ворону!
— Гляди! Икону прет! Где спер образ, Горяй?
Я шел уже между двумя рядами этой публики. Удовольствия мало, когда знаешь, что вот-вот получишь кулаком в спину или, чего доброго, клюшкой по башке.
Но я заставил себя идти, не убыстряя шага. Заметил даже, что у Рябухина знатная шишка на лбу.
— Где фонарь заработал, Ряба? — миролюбиво спросил я.
Рябухин сплюнул.
— Ща и у тебя такой же будет, — заверил он.
Какой-то пацан потянул за ногу «школьника». Меня схватили за воротник. Я страшно разозлился. Захотелось развернуться и насовать им всем как положено. Уже и «школьника» взял поудобнее, чтобы размахнуться и хлопнуть сверху по головам.
Но тут же вспомнил: а вечер? В драку ввязываться мне нельзя. Никаких драк. Да и оформлению тогда капут. Поломают наверняка. А синяки? Разукрасят синяками физиономию, хорош будет Ляпкин-Тяпкин…
И я побежал. Я бежал, зажав под мышкой «школьника», а за мной вся честная компания во главе с Витькой Гуляем. Еле успел в школу проскочить, дверь перед самым носом у них захлопнул. В школу-то уже им ходу нет, учителей боятся.
Все же попало мне по шее раза два-три, и синяк под глазом вывели. Ничего, умылся, синяк мелом запудрил…
Стал оформление прилаживать. Нина Харитоновна посмотрела, «школьник» ей понравился.
Ну понравился, вот и хорошо.
Пока возился на сцене, плакаты в зале вешал, декорации перетаскивал, не заметил, как и время прошло.
Гляжу, девчонки прибывать начали.
Не понимаю, в чем тут секрет, только девчонок сейчас и узнать невозможно. Утром, на уроках, все были девчонки как девчонки. Всего несколько часов прошло, а их и не узнать.
И не в том дело, что платья нарядные, что туфли на каблуках, прически особенные какие-то… Нет, дело не в этом. Что-то необыкновенное в них было, таинственное, что ли… Словом, вот так, запросто, и не подойдешь к ним. А обязательно: позвольте пригласить вас…
Девчонки вообще мастерицы туман напускать. Но я-то не забыл, какие зануды наши девчонки. Меня не проведешь.
Вон Четверикова Натка появилась. Платье синее, кудри до плеч. Прямо героиня романа, кинозвезда… Да она у меня вчера тетрадь свистнула, чтобы задачу сдуть. А когда я попробовал тетрадь отобрать, то по голове портфелем угостила. Нет уж, пускай кто хочет с ней танцует!.. И я забрался на сцену, за занавес, чтобы подзубрить роль.
В зале шумели, видно, порядочно ребят набралось. Мы пригласили на свой вечер два других девятых класса. Были тут и десятиклассники.
Нина Харитоновна расставила актеров по местам, занавес раздвинулся.
В первых отрывках Хлестакова играл Борька Синицын. Роль он выучил еще в прошлом году, тогда тоже «Ревизора» ставили. Здорово тараторил, прямо без единой запинки. Я изображал Тяпкина-Ляпкина, тоже ничего получалось.
Странное чувство, когда на тебя глядит затемненный притихший зал. Пока не смотришь на публику, еще ничего, но стоит взглянуть только, все, конец. Как будто на краю ямы стоишь: вот, вот, одно слово неосторожное, и ты куда-то ухнешь.
— Боже, боже! Вынеси благополучно! — взвыл я, и голос так жутко задрожал, что зал покатился со смеху.
Слова эти надо было произносить тихо, как бы про себя, а у меня получилось во все горло, с подвыванием.
— О господи боже! Не знаю, где сижу. Точно угли горячие под тобою. (Хохот, девчонки прямо заливаются.)
— О боже! Вот уж я и под судом! И тележку подвезли схватить меня! (Зал хохочет, даже реплика Хлестакова не слышна.)
— Ну, все кончено — пропал! Пропал! (Все валятся от хохота, учителя на первой скамейке смеются.)
А когда в другом отрывке я предстал в качестве Хлестакова, то веселью не было конца, стоило только на сцене появиться. Я чувствовал себя настоящим Хлестаковым: любезничал с Анной Андреевной и Марьей Антоновной, тараторил, хвастал напропалую и под конец так распрыгался, что поскользнулся, грохнулся на колени и Марью Антоновну — Тоську едва не повалил. Да еще с криком: «Лабардан! Лабардан!» Это когда, отобедав у городничего, пьяный Хлестаков покидает столовую. Коленки отбил так, что целую неделю потом болели. Зал был в восторге.
На том и кончилось представление. Ребята долго хлопали. Учителя меня поздравляли. Нина Харитоновна сказала:
— Ох, уморил! Давно так не смеялась. Молодец, Горяев! Талант, талант!
Говорят, что три минуты смеха равны по калорийности стакану сметаны. Если так, то все, без сомнения, здорово поправились в тот вечер. Недаром сразу же танцевать бросились… Все, кроме Вадима. Он сидел у стенки, вытянув ноги, и, видно, злился. Когда я проходил мимо, он бросил вслед:
— Вот это франт! Светский лев! Костюм цвета молодого черта.
И все девчонки засмеялись.
Я был весел и тут же постарался забыть про Вадьку. Я даже его жалел. Уж очень хотелось, чтобы всем в тот вечер было хорошо.
Кого бы пригласить танцевать? Тося, как всегда, была нарасхват. Она вертелась там и здесь, в красном платье, как искорка, маленькая, быстрая. Перед моими глазами мелькали то ее платье, то пышный льняной хвост волос, стянутый на затылке красной лентой. До нее не добраться. Ну и пусть!
Тут я заметил Зою Копыткову. Она стояла в углу, никто не приглашал ее. Я подлетел не хуже Хлестакова, пригласил, и мы пошли. Странно, Зоя Копыткова в этот вечер мне тоже другой показалась. Она не вертелась, не гримасничала, как остальные девчонки, а двигалась спокойно и просто. И музыку умела слушать, ничего не скажешь.
Я четыре раза подряд приглашал Зою. Мне нравилось танцевать с ней. Может быть, потому, что она была повыше ростом, чем другие девчонки, а может, и еще почему-то… Когда я пригласил Зою в пятый раз, она взглянула на меня как-то грустно и чуть-чуть улыбнулась.
И тут подлетела Тоська.
Странное дело, когда хочешь пригласить ее, так не дозовешься, скачет где-то в самой толкучке, только по волосам светлым и найдешь. А как не нужна, так вот она, тут как тут. Хохочет, обе руки протягивает.
Пришлось отказаться. Я ведь пригласил уже Зою… И мы снова пошли, и танцевали, пока пластинка не кончилась.
Потом всем классом вышли на улицу, долго не расходились, бросались снежками, скатывались целой гурьбой с ледяной горки… Я веселился как никогда. Вадька был почему-то с портфелем. Я вспомнил, что он из школы ездил на курсы, а после курсов, значит, явился сразу на вечер. То-то он был на вечере в школьной форме.
— Все зубришь, зубрила? — засмеялся я.
— По крайней мере, не рассыпаюсь мелким бесом, как ты, — проворчал Вадька, — подумаешь, характеристика! Из-за характеристики с Копытковой танцевать… Умора, да и только!
…В общем, я бросился на Вадьку. Но ребята схватили меня за руки с двух сторон. Тут из подъезда учителя вышли, и мы разошлись.
Шел одиннадцатый час, в переулке было тихо. С туманно-светлого неба начал падать мягкий крупный снежок… И откуда только на свет появляются такие типы, как Вадька? Обязательно скажет какую-нибудь пакость. Рептилия, а не человек!.. А ведь дружили когда-то. Просто не верится!
* * *
Стоял морозный январь. Аделаида Ивановна закончила объяснять новую тему, записала что-то в журнал, посмотрела в окно и сказала:
— Ребята! На пороге весна! Скоро луга зацветут. Птички прилетят. Я уже чувствую, понимаете, запах ландыша. Вы помните, ребята, как ландыши пахнут? Скоро летние каникулы, ребята…
Она вдруг опустила углы рта, сделала детское какое-то обиженное лицо и продолжала:
— А материал не усвоен! А тема не пройдена!
Я усмехнулся. Здорово получается! Мороз трещит, даже лыжный поход отменили, а она — про ландыши.
— Жаркое лето не за горами, ребята! — продолжала Юный Математик. — Скоро будете купаться, загорать, за ягодами ходить. Как быстро мчится время! Боюсь, что мы не успеем программу пройти…
— Зубрилы-то успеют, — пробормотал я в сторону Вадьки. — Им и зимой жарко.
— Кому жарко, а кому так — в самый раз, — зашипел Вадька.
— А мне не жарко и не холодно.
— Да что о тебе говорить! Все равно завалишься. Не наберешь баллы. Ты думаешь, там — тру-ля-ля… Загремишь в армию, вот и все! Ничего, Копыткова подождет.
— Ну ты потише…
— И характеристика не поможет. Зря старался!
— Что-о?!
Я и сам не заметил, как мы оба вылетели из-за парты и оказались в проходе.
Ну и дрались же мы! Вадька оказался крепче, чем я думал. Он сразу сбил меня с ног и навтыкал кулаками под ребра. Зато уж я, когда вскочить удалось, отделал его как надо… Мне было трудней, приходилось чуть не вдвое сгибаться, в то время как низенький Вадька все время таранил меня головой в живот.
Мы таскали друг друга по проходу между партами, дрались кулаками, коленями, давали подножки…
Аделаида Ивановна, расставив руки, семенила вокруг нас, как судья на ринге.
— Ах, ах! Мальчики, мальчики! Что вы делаете? Ребята, ребята, разнимите их! Они же убьют друг друга! Что же вы сидите!
Мы сцепились и грохнулись на пол.
— Тосенька! Беги за директором. Врача, врача позови!
Мы катались по полу. Вадька схватил меня за шею. Я барабанил по нему коленками. Мы лягались, как разъяренные ослы.
Ребята умирали со смеху. Никто не собирался нас разнимать. Еще бы, лишиться такого зрелища! Девчонки визжали:
— Ай, ай, Андрюша, перестань, он же маленький…
Когда вбежали директор, завуч и докторша, этот «маленький» добивал меня точными ударами в живот и под ребра.
Я отскочил. Прыгнул на Вадьку. Тот увернулся… И я ткнулся носом в пол. Обхватил руками Вадькину ногу, дернул изо всей силы… Он грохнулся. И мы снова сцепились на полу. Мы рычали, визжали, царапались.
Нас растаскивали, но мы вырывались и снова лезли в драку. И только тогда, когда директор гаркнул: «Встать!» — мы расцепились и поднялись.
— Забирайте сумки — и вон! Без родителей не являйтесь!
Мы вышли из класса, вместе спустились по лестнице. Я просто обомлел, когда увидел себя в зеркале. Всклокоченная, вся в синяках и царапинах физиономия. Нос распух и занимал сейчас большую площадь лица. Рубаха разорвана, на пиджаке ни единой пуговицы.
Вадька выглядел не лучше. Один рукав был оторван, едва держался. Волосы прилипли ко лбу. Нижняя губа вспухла, и от этого весь рот перекосило.
Мы оделись. Молча вышли на улицу. Я захватил пригоршню снега и приложил к лицу. Вадька проделал то же самое. Не сговариваясь, нахлобучили шапки как можно ниже, чтобы прохожие не шарахались.
Медленно побрели по переулку. Я чувствовал какую-то легкость во всем теле. Как будто после бани. Словно от души отлегло.
— Ты чего это взъелся? — спросил вдруг Вадька. Спокойно так спросил, без всякой злобы.
— А ты-то чего?..
— Да, откровенно говоря, надоел ты мне со своей характеристикой. Носишься с ней… Из кожи вон лезешь! Смотреть тошно… Ей, ей… На человека непохож.
— Дурак. Я и забыл про нее.
— Да ну?
— Конечно! Я носился на вечере так просто, сдуру. Веселье разобрало. Хочешь, не верь. Твое дело.
— Да я верю, почему же…
Помолчали. Снег по-прежнему падал, холодил наши разукрашенные физиономии.
— Ну а все-таки чего ты взъелся на меня? — спросил Вадим.
— Сам не знаю… В общем-то, какой-то зубрила ты стал. Спятил со страха, что на экзамене срежешься. Не человек прямо.
Вадька вздохнул.
— Спятишь тут. Задают — во!
— А чего ты понес насчет Копытковой, то, се… Если бы не эти твои слова, я бы, может, и не психанул.
— Говорю, со злости. Характеристика твоя довела.
— Да… С характеристикой теперь покончено. Плакала характеристика!
— И моя тоже, — сказал Вадька.
Мы взглянули друг на друга и рассмеялись.
Мы дошли уже до моего подъезда и повернули обратно. Снег повалил гуще.
— Здорово ты меня отделал, Вадька. Вроде меньше ростом, а поди ж ты… Как это, а?
— Самбо, — пробормотал Вадим.
— Ты самбист? — удивился я. — А как же сосуды?
— Ну да, сосуды. Это после гриппа освобожден был. Временно…
— А я-то думал… — сказал я. — Самбо вещь хорошая.
— Еще бы, — сказал Вадим. — Это и в армии пригодится.
— Ну, Вадька, ты даешь!..
Мы снова переглянулись и расхохотались.
Я смотрел на Вадьку. Совсем неплохой он парень. И лицо симпатичное, и уши как уши. Как это вышло, что дружба врозь, непонятно. До драки даже дошло. Чего только не случается с человеком!
Условились родителям пока ничего не говорить, проводили друг друга до дома еще по разу и никак не могли разойтись.
А снег все падал и падал, и каждый раз мы шли по свежей пороше.
НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ
© «Урал», 1974, № 3.
— А я, по-твоему, страстная? Или нет? Не стесняйся, говори, здесь ведь мы двое, никто не услышит.
Она облокотилась на крышку рояля и прямо-таки впилась глазами в лицо Алеши.
— Видишь ли… Я не знаю. Голос у тебя великолепный, это верно. Это, знаешь, я точно говорю.
Он помолчал.
— Вообще самое лучшее в тебе — это голос. Честное слово!
Алеша вдруг смутился. Не глядя на собеседницу, снял очки, протер их тряпочкой. Потом открыл клавиатуру.
— Давай лучше заниматься. Скоро зал запрут, а мы еще и не начинали.
— Голос, голос, — разочарованно протянула Клава. — Не ври. Вадька тоже подкатился как-то раз и тоже заладил — голос. Знаю я вас! И ты — голос, и он туда же. Умные нашлись — голос! Так я и растаяла.
— Вот видишь, — обрадовался Алеша. — Вадька тоже считает, что голос. Это же бесспорно! Ну, начали заниматься!
Он заиграл вступление к романсу.
Клава долго прокашливалась и поэтому не смогла начать вовремя. Он снова проиграл вступление. Она запела:
На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит…Алеша слушал и удивлялся, что в большом зале голос ее звучал еще лучше, полнее, чем в другом помещении. В музыкальном училище, где Алеша учится по классу фортепьяно, его считают неплохим аккомпаниатором. Ему нередко приходилось работать с певцами. Но такой голос, как у Клавы, он слышит впервые. Чистый, глубокий, мягкий…
— Постой. Вот здесь, во втором такте, — он пропел: «На заре ты ее не буди», — у тебя выходит «Ие ни буди».
— Где «ни буди»? Врешь!
— И еще одно: потише начни фразу. Понимаешь, ты сэкономишь дыхание: дашь полнее звук на верхних нотах. Вот так: «На заре ты ее…» Шире звук.
Она запела. Алеша остановил ее:
— Нет, это слишком. Чуть-чуть шире. Повтори, пожалуйста.
Она поправила кудряшки, зевнула:
— Вот еще. Повтори да повтори. Надоело — ужас! Лучше давай из «Трехгрошовой оперы». Эту самую, — она пропищала: — О, май хип-пи!
Алеша нахмурился.
— Учиться надо классике! Итак, начали романс!
Занятия окончились поздно. Сегодня ему повезло: в школе мыли пол, поэтому уборщица долго не запирала.
Он был доволен: удалось основательно распеться, пройти два романса. Да еще выучили новый вокализ. Трудно: ведь нот Клава не знает. Все на слух.
Усталые, брели по вечерней набережной.
Алеша высокий, тонкий, в коротком летнем пальто, под мышкой — истрепанный школьный портфель.
У Клавы пухлые щеки, из-под пушистой вязаной шапочки темные локоны. Ни у одной девчонки в классе нет таких волос. Правда, Клава то и дело накручивает свои локоны на карандаш. Этим она в основном и занимается во время уроков. Сидит и знай крутит локоны. Сначала один локон, потом другой. За урок, глядишь, все приведет в порядок, до единого. Что поделаешь, привычка. Но вьются-то они у нее сами, от природы, это факт.
— Какие волосы у тебя сегодня…
— Грязные. Мыть пора. Между прочим, немытые они еще лучше вьются. — Она поправила локоны. — А шапочку заметил? Сама связала. Домой приду, займусь жакетом. Жакет хочу себе связать к маю. Знаешь, голубенький такой, с пушинками. Самый шик!
Алеша подумал, что лучше бы, пожалуй, Клава занялась чтением или уроками. Нельзя же все время ехать на тройках да двойках. Но промолчал: обидится.
Все в классе знали, что Клава учится последний год. Вот окончит восьмой, и все. Учиться она не любила, и в письме делала самые нелепые ошибки. Каждый раз, когда ее вызывали к доске, Алеша испытывал сложное чувство стыда, и жалости, и злости на Клаву: как это она может так долго с тупым лицом молчать перед всем классом, да еще и улыбаться. Ну разве трудно сказать хотя бы пару разумных слов? Потом все смотрели, как она идет к своему месту, слегка покачивая кудрявой головой, садится, подбирая и оглаживая с боков юбку. И хоть бы что. Вот уже шепчется с соседкой, строчит какую-то записочку. Обе фыркают.
И все-таки девчонки уважают Клаву: она все умеет. Шить, вязать, готовить, красиво одеваться. Даже школьную форму переделала как-то по-особому. Вроде и не форма на ней, а просто модное платье, украшенное маленьким изящным фартуком. И как это у нее получается, неизвестно, но когда Клава идет, всем заметно, какие у нее округлые плечи, тонкая талия, стройные ноги. А локоны так и прыгают по плечам. Может быть, все это потому, что Клава старше других девчонок: она ведь дважды оставалась на второй год…
Но для Алеши мир перевернулся, когда он услышал Клавино пение. Было это на школьном вечере. Сам не помнит, как подошел тогда к ней, как уговорил заниматься. Главное, ясно, что это тот самый голос, редкий алмаз, который надо сберечь, отшлифовать, а потом, как чудо, показать всему свету. И это сделает он, Алеша. Ему грезилось, как постепенно, с усердием, с любовью к музыке он разбудит в ней артистку, как научит работать, выучит музыкальной грамоте, а потом, через год, повезет в Московскую консерваторию. Но это потом. А сейчас другая трудность: как научить Клаву читать ноты?
— Послушай, я совсем забыл сегодня проверить ноты. Выучила или нет?
— Ох ну и зануда же ты! Опять ноты. Не до нот мне. Надо проклятое сочинение писать, тошнотища. И жакет недовязанный. Сочинение-то мне Вадька обещал написать, да, боюсь, соврал. Подведет. А вот жакет… Да тут еще вчера отец едва не убил маму. Кстати, не зайти ли в кино? Сегодня мама дежурит.
Клавина мать работала контролершей в кино.
— Нет, что ты. Некогда… А за что же твой отец…
— Из-за ревности. Ужасно ревнивый! Каждый раз такие сцены! Морока.
— Как же так? Ни с того ни с сего…
— А, что ты понимаешь. В маме есть цыганская кровь. Мать ее, то есть моя бабушка, была цыганка, а цыгане ведь ужасно ревнивые. Будь уверен. Ужас!
— Да ведь ты говорила, что ревнивый-то отец. Как же…
— Дурак! Не все ли равно? Это не имеет никакого значения. И вообще нечего рассуждать, о чем не имеешь никакого понятия. Ты еще ребенок. Понял?
Алеша усмехнулся, но промолчал. Не стоило спорить с Клавой о пустяках. Как всегда, обидится, убежит. Все что угодно, только не это!..
Веяло мартовской оттепелью, под ногами с хрустом рушилась сухая корка льда, а рядом, за перилами, дышала Волга. Вспухшая, загроможденная грозными льдинами. Ледоход. На том берегу сипло прогудела электричка. А самого берега и не видно, утонул в разливе и в весенних сиреневых сумерках.
— Весной пахнет, — сказал Алеша. — Чувствуешь?
— Еще бы. Весна и есть. Вот чудик! Ну, мне направо. Пока! Или нет. Лучше уж проводи меня, а то темнотища, кто его знает…
— С удовольствием.
— Ты только не воображай! У нас переулок, правда, темный, а то бы я одна. Все вы воображаете. Учти на всякий случай, что я очкариков не люблю, и особенно тощих не люблю. Я откровенно.
Алеша вспыхнул, хорошо, что темнота…
— Пора бы поумнеть, а?
— И так умная.
— Тогда, умная, выучи ноты на всех пяти линейках. Завтра спрошу.
— Не видала. Ноты.
— Учти, что без музыкальной грамоты никакая певица из тебя не получится. Точно.
— Подумаешь! Для певицы главное — секс. И для артистки тоже.
— Чушь!
— Конечно, секс!..
Она убежденно мотнула головой. Взглянула с хитрецой на Алешу.
— А во мне он есть?
— Что?
— Секс. Ну скажи по секрету, есть или нет? Хоть вот на столечко?
— Ну, завелась. Отстань с чепухой.
— А все-таки, а? Есть, да?
— Не приставай. Вон твое крыльцо. А я пошел. Всего.
Она взбежала по ступенькам.
— Подумаешь. Ну и ладно. Ой! Постой, забыла самое главное. Дядя Гоша, он в артели инвалидов заведующий. Родной мой дядька. Очень уж просил выступить. У них клуб, маленький, правда. Совсем, знаешь, крохотуля. Выступить, что ли?
Алеша нахмурился. Очень уж она любит выступать. Прямо хлебом не корми. Мало ей школьных вечеров.
— Ну, Алешенька, миленький, давай выступим. Ну что нам стоит?
Бросила на крыльцо свой портфель, подбежала к Алеше, застегнула верхнюю пуговицу его пальто, затормошила.
— Так и быть. Ладно. Что поем?
— Все, все! «На заре», «Колокольчик» и «Май хиппи»!
Он снова нахмурился.
— Только уж не «хиппи». Разве мы разучивали «хиппи»?
— Ладно, ладно! Там видно будет! Можно и «Колыбельную», и неаполитанские песни…
— А что за инвалиды там работают? — полюбопытствовал он.
— Инвалиды! — Клава фыркнула. — Инвалиды те еще. Там инвалидов-то и нету почти, все больше здоровые. Чтобы план выполнять. Понял? Ну, спок ночь, я пошла.
— Спок!
Он шел один среди мартовской капели. В темноте иногда слышался шорох — с крыш сползал снег. По водосточным трубам — грохот ледяного крошева.
В черном небе ярко сияли звезды.
А когда вышел на Волгу — дух захватило: река вспучилась, казалось, выше перил, по гладкой черной поверхности невесомо скользили льдины. На том берегу мелькали огни речного вокзала.
Но ему мерещились другие огни: сверкающие искры хрусталя, концертные залы, полные народу, и она. На фоне приподнятой крышки рояля, в длинном белом платье, на обнаженных плечах — каскад черных глянцевитых локонов. И чудесный бархатный голос. Музыка ее голоса. Самая лучшая, самая глубокая музыка: Гендель, Бах, Моцарт… А за роялем, конечно, Алеша… Да пусть даже и не он будет за роялем, пусть кто-нибудь другой… Но Клава, конечно, поймет и оценит его труд, его подвиг.
Это будет совсем другая Клава: взрослая. Умная, талантливая русская артистка. Певица. Оперная певица. Она его оценит и вдруг… И может быть, полюбит. Кто знает?..
Алеша совсем размечтался. Он шел, упоенный музыкой этого вечера, и не заметил, как оказался дома.
В комнате сидел отец.
Алеша удивился, потому что отец заходил к нему не часто.
Алеша жил один. Мать умерла, когда ему было пять лет, а отец вскоре женился, завел новую семью. Теперь у него уже двое детей. Алеша не в счет: его воспитывала бабушка. В прошлом году, когда бабушка умерла, он по-настоящему осиротел. Когда все разошлись после похорон и он впервые остался один, стало страшно: как жить? Бабушка заменяла ему и мать и отца. У него, как и у всех, был дом. А что, если отнимут комнату, где тогда жить? По ночам он плакал от одиночества и от страха остаться бездомным. Жена отца совсем чужая, даже на похороны не пришла. Детдом? Но ему было уже четырнадцать, он не хотел в детдом…
К счастью, комнату ему оставили, и все образовалось.
Хоть бабушки и нет, все же есть дом, где все осталось по-прежнему: кровать, застеленная белым покрывалом, табуретка у стола, за которым она сидела, чистила картошку, пила чай, шкаф с книгами, диван с вышитой круглой подушкой. А если взглянуть на швейную машинку в деревянном футляре, то и совсем хорошо делается на душе: будто бабушка сейчас придет из магазина и примется перешивать для него старый отцовский пиджак…
Теперь Алеша сам готовил себе обед. А кастрюлю с горячим супом укутывал точно так же, как бабушка, — сначала в газеты, а потом в старый шерстяной платок. Так лучше, когда приходишь из школы: будто бы тебя ждут…
Отец поднялся со стула, шагнул навстречу. Он был в пальто.
— Ну, брат, и гуляешь ты! Целый час сижу.
— В школе был, репетиция!
Он очень обрадовался отцу.
— Ты, пап, раздевайся, будем есть суп, потом чай пить. С баранками! Ты ведь не торопишься?
— Да как сказать… Валерка, понимаешь, прихворнул, прямо не знаем, что с ним. Температура с самого утра.
— Да ну-у! Плохо дело, — посочувствовал Алеша. — А Танюшка что поделывает?
— Танюшка ничего, растет. В детсад ходит. Бойкая такая!
— Это хорошо, — обрадовался Алеша. — Детсад — это даже очень здорово! Там и кормят, и воспитание… Ты садись. Руки-то мыл? Вот полотенце! Чистое.
Он торопливо накрывал на стол.
— Да, понимаешь, некогда. Дома-то ждут. Я ведь ненадолго. Деньги вот принес. Тридцатка. Бери.
Отец ежемесячно выдавал сыну тридцать рублей — четверть зарплаты.
— Спасибо. А как у тебя, хватает?.. На будущий год мне стипендию обещают. Как только закончу восьмой. Полностью в музыкальное училище перейду, по всем предметам. А то, знаешь, сейчас хожу только на специальность, а математику и все другое прохожу в школе. Вообще-то так не полагается…
— Ты у меня молодец. Герой. Совсем самостоятельный парень! Когда тебе шестнадцать-то? В сентябре, кажется, будет?
— В ноябре.
— Да, да, в ноябре…
Отец огляделся: в комнате все, как было раньше. У двери на вешалке старое пальто сына, на подоконнике горшок с кактусом, пустая бутылка из-под молока. В общем-то, маловато парню тридцатки, надо бы подкинуть. Пятерку, что ли. Да жена учитывает каждый рубль, разговоров не оберешься. Ладно, как-нибудь потом… Вот ведь как: жена получает сто пятьдесят да он, а все равно не хватает. Что поделаешь.
— Живешь-то ничего? — спросил он.
— Ничего. Хорошо живу.
— Молодец! — Отец поднялся, надел шапку. — Гляжу я вот на тебя и завидую: свободен, молод, никто не мешает! Учись, твори, действуй! Полная свобода!
Алеша улыбнулся.
— Конечно. Я и учусь.
— Правильно, — одобрил отец. — Валяй и дальше так!
Он начал застегивать пальто.
— Ну, мне пора.
— Посиди еще!
— Нельзя, нельзя, Валерка-то!
Отец хлопнул его по плечу.
— Совсем взрослый парень. Крепыш! Физкультурой-то занимаешься?
— Занимаюсь.
— То-то! Ну, я забегу на днях. Пока!
Отец ушел. Шаги затопали по лестнице, потом затихли. Внизу хлопнула дверь.
«Крепыш» поел немного супу, вымыл тарелку и ложку, убрал со стола хлеб. Потом расстелил на клеенке газету, разложил учебники и принялся за уроки.
Клуб артели инвалидов был действительно невелик. В зале вмещалась лишь крошечная сцена да десяток рядов. Половина стульев пустовала, только первые ряды были заполнены.
В самом центре первого ряда сидел дядя Гоша, румяный, плотный здоровяк. По бокам дяди Гоши сидели, видно, его близкие дружки, такие же плотные, ражие, в праздничных костюмах. Настроение у них было благодушное.
А в крошечной артистической прихорашивалась Клава. Волосы причесаны так, что каждый локон лоснился, а все вместе они рассыпались и сияли. Подрисовала глаза, подкрасила губы. Решила выступать сегодня в расклешенных брюках и ярко-зеленом шелковом джемпере.
— Ну, ты сегодня уж слишком!.. — сказал Алеша.
— А чем плохо? — Она взглянула на него, вдруг расхохоталась и шлепнулась на стул.
— Ты что? — Алеша смутился.
— Так, смешинка в рот попала. Просто лицо у тебя такое… Ну не могу, и все!
— Лучше бы слова романсов повторила: забудешь! И вообще… Все-таки лучше бы в платье, — сказал он. — Как-то приличнее, что ли. Нормальнее, в общем.
— Вот еще. Много ты понимаешь! Брючки у меня — блеск. И не твое дело! Вот. — Она прижала пальцем кончик Алешкиного носа. — Мопс!
Он отстранился.
— Ладно! Слова-то повтори!
Она принялась повторять по бумажке тексты песен. Клава часто забывала слова, память у нее была неважная…
Наконец объявили их номер. Волнуясь, сжимая в руках ноты, Алеша зашагал вслед за Клавой на сцену.
Артистов встретили жиденькими аплодисментами. Он уселся за старый, разбитый рояль, с тревогой взглянул на певицу. Вступила вовремя, чисто, мягко. Кажется, все в порядке. А как звучит голос! Хорошо, что он разучил с ней эти русские романсы. Именно с них и надо начинать!
Вот и последние такты. Заключительные аккорды, конец… В публике одобрительный гул, хлопки. Певица явно понравилась.
Со вторым романсом вышло не совсем гладко. Клава забыла-таки слова. Он уже проиграл вступление, взглянул на нее. Клава покосилась на пианиста и вдруг хихикнула. И от этого неожиданно закашлялась, прикрывая пухлой ладошкой рот. Пришлось начать вступление снова. Но ее все еще разбирал смех. Скосила глаза, снова зажала рот, шепнула ему из-под руки:
— Ой, не могу… Горло прочистить…
— «На заре туманной юности», — шепотом подсказал он. И поглядел на Клаву так, что она сразу выпрямилась, посерьезнела и начала петь. Голос полился свободно, и инцидент был забыт.
Дальше все шло отлично. Публика бурно хлопала, и это воодушевило певицу. Она пела все лучше и лучше. А сам Алеша уже не тревожился за нее. Он гордился, радовался. И страдал. Страдал, когда в зале возникал случайный шорох, когда кто-нибудь скрипел стулом, шептал или кашлял.
Один раз его напряженный слух уловил слова: «Такой молоденький, мальчонка совсем, а уж зрение-то испортил. В очках. Жалость берет. Да и худенький какой. Бедняга…»
Но не все ли равно, что там про него говорят? Главное, Клава пела. И пела по-настоящему! Она заполняла своим мягким мощным голосом зал, она дарила отраду! Не зря, значит, прошли его уроки!
Он был счастлив.
Клава пропела всю свою программу, некоторые песни прошли дважды, на «бис», а публика все хлопала, все вызывала певицу…
После концерта Клава осталась смотреть кинофильм, а он поспешил уйти. Хотелось унести с собой это ощущение удачи, поскорее остаться одному, чтобы еще раз пережить все чудесное, что случилось сегодня.
Клава надулась, узнав, что он ушел. Надо же! Будут крутить заграничный фильм, а он удрал. Вот чудак! И кто же ее проводит после кино?
Однако задумываться долго не пришлось. В зал набилось много народу, уже пронюхали про фильм, и надо было поскорее занять хорошее место. Клава оставила на стуле носовой платочек и зеркальце, а сама побежала взглянуть, чем торгуют в буфете.
Около буфета толпились инвалиды, распивали «Жигулевское». Дядя Гоша, краснолицый, довольный, поманил ее согнутым пальцем.
— Конфетку хочешь?
Клава захихикала.
— Смотря какую! Если «Мишку», то, конечно, хочу!
— Ух ты, племяша! «Мишку»! А «Машку» не хочешь?
Долго хохотали вместе. Потом дядя Гоша провел племянницу в контору. Там он уселся за письменный стол, выдвинул ящик, вытащил две новенькие десятирублевки, пошуршал ими.
— Вот тебе тут и «Мишка» и «Машка». Профком решил вознаградить артистку. Рада?
— Ой! Дядь Гош, дядь Гош, давай сюда!
— А допрыгни!
— Давай, давай деньги!
Клава прыгала, пыталась достать, а дядя Гоша высоко держал десятирублевки. Оба хохотали.
Наконец Клава схватила деньги.
— А где же твой очкарик? Деньги-то ведь на двоих! Ему, стало быть, десять.
Клава перестала смеяться.
— Это еще зачем?
— А как же быть? — Дядя Гоша шутливо развел руками.
— Ему? Вот еще.
Клава нахмурилась, раскрыла сумочку, решительно щелкнула замком.
— Незачем! В конце концов, кто здесь пел? Я или он? — Клава капризно топнула ногой. — Я или он?
— Ну, ты, ты! — Дядя Гоша ущипнул племянницу за щеку.
— Ну и все! Пусть еще скажет спасибо, что я с ним вожусь. Много их таких! Захочу, так Вадьку возьму. Тоже классно стучит на рояле. Даже еще лучше!
И Клава заулыбалась, затанцевала, заиграла бедрами:
О, май хи-и-ппи! О, май хи-и-ппи!— А тебе, оказывается, палец в рот не клади, вся в меня пошла. — Дядя Гоша с одобрением оглядел племянницу. — Уже гуляешь с кем или как? Есть у тебя парень?
— Есть, да не знаю где. Все ищем друг друга! — бойко ответила Клава.
— Да ну! Молодчина! Ишь ты!..
Он шагал мимо дощатых заборов, мимо недостроенных корпусов с пустыми черными окнами, с неподвижно простертой стрелой башенного крана. Мимо запертых табачных и газетных киосков. Прохожих было немного, да он и не замечал их… В ушах все еще звучал волшебный гибкий голос. Такт за тактом поднималась мелодия. Росла, расцветала в синем ночном пространстве. Измученный, счастливый, долго бродил Алеша по темным переулкам.
Дома он прежде всего потянулся к нотной бумаге — захотелось тут же записать для Клавы музыку, переполнявшую его сегодня.
Он напишет песню. Песню синего вечера. Это будет прекрасная песня, и когда-нибудь Клава обязательно ее споет!
Алеша заточил поострее карандаш, положил на стол нотную бумагу и ластик… Облокотился о край стола, задумался.
Вчера он совсем было решил показать Клаву преподавателю из местного музыкального училища. Теперь он боялся даже подумать об этом. Он не доверял. Нет, только в столице, только там он может передать Клаву педагогам. И пусть это будет как можно быстрее! При мысли о разлуке с Клавой что-то сразу опустело внутри, рука замерла над нотной строчкой. Он вздохнул. Ничего. Так надо. Клавиным голосом должен заняться кто-нибудь из корифеев вокального искусства… Конечно, от такого, как сейчас, любительского пения романсов вреда нет, наоборот, это даже необходимо. А вот уж ставить голос надо по-настоящему. Такой голос, как Клавин… Только большой специалист… Дело серьезное… Серьезное дело…
Тихо в комнате, за раскрытой форточкой размеренно стучит весенняя капель.
Алеша спит, положив голову на стол. Мартовский воздух, тихо вливаясь в комнату, слегка шевелит хохолок на светло-русой макушке.
КОНЦЕРТ ШУМАНА ЛЯ МИНОР
— Все! Лешаково проехали! Тю-тю… Дело сделано.
Зоя навалилась грудью на перила, сощурилась, вглядываясь. Совсем близко пробегал зеленый травянистый берег, ослизлые бревна причала, выше тянулись беленые строения свинофермы.
— Чисто сработано! — Она засмеялась, прижала ладонями черную копну волос. Ветер.
— Хорошо еще родители телеграмму не послали Варваре Семеновне, — заметила Саня. — Вот было бы!
— Тетя Варечка обязательно прибежала бы встречать! Она такая, — усмехнулась Зоя. — Я уж маме так и сяк. Умоляю, не телеграфируйте, хотим нагрянуть как снег на голову. Сюрприз! Согласилась, слава богу.
— А что, если самой тете вздумается написать письмо твоим? Ну, так просто, взять да и написать?
Зоя тряхнула головой, откинула назад волосы:
— Э-э! Не напишет. Она письма пишет к седьмому ноября да к Новому году. Где ей! Тетя Варечка на свиноферме работает, шибко занята.
— Пока что нам везет. Вот как дальше-то будет, неизвестно…
Саня вздохнула.
Девушки стояли на самой нижней палубе, почти вровень с водой; и прозрачная масса воды отсюда казалась черной, с антрацитовым блеском, а ближе к берегу желтела, набегала мягкими волнами, колыша и искажая отражение зеленой кромки берега.
По песчаной косе бежала стайка ребятишек. Женщина полоскала белье, потом выпрямилась, замерла, вглядываясь из-под руки. И долго еще стояла, провожая взглядом теплоход, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока вовсе не скрылась за зеленым мыском. Сане стало отчего-то грустно, сиротливо… Вспомнилась мать, как она провожала их рано утром. Одна — Зоина мама не смогла прийти, на работе сегодня — растерянная, жалкая. Тревожными глазами смотрела вверх, на палубу. А они с Зоей нарочно повыше забрались, чтобы не слышать надоевших наставлений: «Не виснуть на перилах, надеть кофты — не просквозило бы, кланяться Варваре Семеновне, передать то-то и то-то». Сверху мать казалась совсем маленькой и худой. «Всегда почему-то жалко тех, кто остается, — размышляла Саня. — Отъезжающие-то радуются, ждут хорошего, нового. Все впереди. Может, это оттого, что отъезжающих много? Целый поезд или вот, как сейчас, теплоход, народу полно. А на пристани только мама и еще несколько провожающих. Постоят немного и разойдутся. Им остается только ждать…»
Жалко маму. Ох, да еще и совесть нечиста. В сущности, они ведь обманули родителей. Отпросились погостить у Зоиной тетки, а сами… А сами благополучно проплыли мимо Лешакова и отправились дальше, до самой Москвы.
Этот план они вынашивали еще с прошлой зимы. Вот окончат весной музыкальную школу и двинут в Москву, в училище. Говорят, конкурс большой, ну и что же. Можно попробовать. Обе они считались лучшими пианистками у себя в школе, а весь этот год обе занимались особенно много. Готовились. Родители и слышать не хотели о поездке в Москву. Сначала, мол, надо получить аттестат зрелости… Но аттестат зрелости они все равно получат, окончив музыкальное училище в Москве, так зачем же время терять, сидеть в девятом, а потом в десятом классе? Искусство ведь не ждет, каждый месяц дорог. Скорей, скорей туда, где лучшие педагоги, где концерты, конкурсы, где труд и блеск артистической жизни.
Весной собрали нужные документы, сочинили автобиографии, послали все это в столицу и стали ждать вызова.
И вот они едут, через два дня экзамен, а что будет потом… Вообще-то все давно продумано, последние два года они только и говорили, что об училище, о Москве, о том, как поступят, как будут учиться, как начнется самостоятельная жизнь. Конечно, придется много заниматься. Играть часов по восемь в сутки, да еще существуют предметы, и специальные и общеобразовательные.
Но это и замечательно! Это и есть настоящая жизнь! Они до самых мелочей видели эту будущую жизнь. Жилье представлялось обеим почему-то в виде этакой уютной мансарды. Внизу — крыши, зеленые купы деревьев, прямо перед глазами — синее небо. Две узкие койки, старенький рояль, всюду книги и ноты. На койках, на столе, на полу — целые кипы нот. Столько надо пройти, проиграть!.. Еда? Селедка, чай, хлеб. В общем, все самое дешевое. Да и какое значение имеет еда? Как-нибудь проживут. Главное — играть как можно больше. Инструмента может не хватить на двоих — ведь в сутках всего двадцать четыре часа. Ничего, они поделят часы: и дневные и ночные. Да, будут заниматься по ночам, если дня не хватит! Надо, значит, надо…
— А не пора ли нам все-таки закусить? — предложила Зоя. — Кстати, сколько там у нас бумажек осталось?
— Двадцать восемь рэ. Было сорок, десять пятьдесят билеты, рубль с полтиной проели утром…
— Н-да… Не густо. Впрочем, все равно. Пошли в буфет!
— Спятила. А там на что будем жить? А на обратную дорогу?
Зоя усмехнулась, поставила ногу в широкой брючине на ступеньку — лестница вела на верхнюю палубу, где буфет.
— Обратно? Обратно мы не вернемся. Мы там останемся. Лично я все равно поступлю…
— А вдруг?
— А если вдруг… Послушай, Санечка! Давай мы, если провалимся, обратно пешком пойдем! Вот здорово будет! А деньги дорожные сейчас проедим. В буфете. Такие там пышки вчера были… Пошли, ей-богу, а то сил нет.
Подруги поднялись в буфет. Там было пусто. Уборщица протирала столики. На стойке красовалась только шеренга бутылок минеральной воды. Оказалось, все пышки, бутерброды и прочее пассажиры съели еще утром, и буфет закрылся. Ничего не поделаешь. Уборщица продала им три бутылки минеральной воды.
— Пойдем вниз, там у меня в чемодане баранка завалялась, — предложила Саня. — Угощаю.
Подруги ехали «третьим классом». Помещение было битком набито пассажирами, и их места оказались занятыми, там расположилась пожилая цыганка с целым выводком чумазых цыганят. Мальчишка лет шести уже сновал между скамейками; приплясывая, шлепал себя по черным пяткам — работал. Пассажиры потешались, поощрительно звякали медяками. Девчушку, которую кормила грудью, цыганка нежно именовала Земфира, с ударением на последний слог.
— Почти как у Пушкина, — подивилась Саня. — Земфира!
— Цыгане теперь грамотные, — бойко зачастила цыганка. — Цыгане не хуже тебя, голубка, зимой хорошо живем, в школу ходим, все знаем, а ты положи монетку, положи сюда сколько не жалко, чтоб не почернело белое твое лицо…
С трудом разыскали свои чемоданы под кучей цыганских узлов. Два чемодана и две папки с нотами. Выбрались из душного помещения и устроились снаружи, под навесом. У стены лежали на боку две огромные бочки, девушки забрались на них… Было полутемно, тихо, слышался только плеск воды за бортом и заглушенный рокот мотора.
Отыскали в чемодане баранку, разделили. Минеральная вода оказалась солоновато-горькой, противной. Зоя не выдержала, соскочила с бочки и с хохотом вылила воду за борт.
— А бутылка пригодится, где-нибудь достанем воду нормальную.
— Все-таки здесь гораздо лучше, на бочках, — сказала Саня. — И чего мы только там, в духотище, делали?
— Психи, — заключила Зоя.
— А пирожки мамины следовало не сжирать, сейчас как пригодились бы!
— Н-да… Ничего, привыкай, Санечка, привыкай. Еще не то будет! Терпи, пока доберемся до московской селедки с хлебом да колбасы. О священная селедка! Приди! Приди! — на мотив из «Аиды» громко запела Зоя. — После тебя есть не хочется, а только пи-ить!
— Кончай оперу, капитан идет!
— Где?
Появился хмурый матрос в полосатой тельняшке и измятых штанах, вытащил из угла какую-то цепь, поволок. Даже не взглянул на девчат.
— Спасибо, не прогнал, — вздохнула Саня.
Обе замолчали.
Где-то наверху включили радиолу. Мощные динамики рявкнули, стая чаек шарахнулась в голубое небо, и духовой оркестр завел знакомую мелодию «На сопках Маньчжурии». Так и ехали, распугивая зеленые берега оглушительной музыкой; берега сторонились, обегали теплоход с обеих сторон. Редкие пешеходы замирали, глядели вслед из-под руки, коровы поворачивали белые морды, даже маленький издали грузовичок перестал нырять по ухабам, замер, шофер, видно, высунулся из кабины, прислушивался.
Саня задумалась о том, что стоит ей только вспомнить… А что вспомнить? Ну, любой момент из жизни. Любой. И сразу возникает та самая музыка, связанная с этим моментом. Вот, например, детство: отец играет на гитаре, а она, трехлетняя Саня, пляшет. Отец поет: «Мы вчера дрова рубили, рукавицы позабыли, топор, рукавицы, рукавицы и топор…» Пляшет Саня, а на бревенчатой стене Санина тень пляшет. Это от лампы. Прыгает круглая тенина голова вверх-вниз, вверх-вниз, а на макушке хохолок подпрыгивает. Весело Сане. «Рукавицы и топор, жена мужа об забор…» И всегда с тех пор, как услышит Саня эти простенькие гитарные аккорды, зазвучит в ушах: «Топор, рукавицы, рукавицы и топор». И прыгающая тень на стене, и лампа керосиновая, и отец. «Вот, всегда так, — продолжала размышлять Саня, — вот, например, когда в город переезжали, всего мне четыре года было. А и сейчас, как услышу колокольцы да песню «Еду, еду, еду к ней…», все видится снег, да крупы лошадиные, да сено. Ноги сеном укрыты, тепло, а дядя Миша все беспокоится: не простыла ли? И не ответишь, замотана шарфом. Дорога круто повернула, на передних санях покачнулась мама с маленьким Юркой на руках, вся закутанная в клетчатую шаль. Годовалый Юрка спит, а кисточка на шапке раскачивается. И будто от кисточки этой звон идет: динь, динь… Но то колокольцы… Потом стемнело, мама чего-то забоялась, волки, видно, почудились. А дядя Миша вдруг встал в санях, звучно подхлестнул лошадь и затянул во все горло: «Еду, еду, еду к ней, еду к миленькой своей…» И еще: привели Саню в музыкальную школу. Директор велел что-нибудь сыграть. И Саня сразу заиграла про колокольчик. «Однозвучно звенит колокольчик». Давно уж дома этот мотив подобрала, как только отец купил старенький рояль… Этак, — усмехнулась про себя Саня, — мою биографию совсем просто рассказать можно. Выписать на листке бумаги список песен, мелодий, тем, соответствующих основным точкам жизни, вот и все. Скажем, так: поступление в школу — октябрятский марш, в музыкальную — «Однозвучно звенит колокольчик», поездка в пионерлагерь — «Средь шумного бала». Потому что сосед по автобусу, Ленька Малявин, все время напевал этот романс. Когда в седьмом классе по алгебре срезалась — Чайковского Пятая симфония. Бродила после экзамена по городскому саду, в тоске и в жаре июньской, а репродукторы на каждом столбе ревели финал бессмертной симфонии… И все помнится: хруст гравия под ногами, скамейки, раскаленные солнцем до того, что краска потрескалась… большой фанерный щит с портретами: «Лучшие передовики производства». И симфония Чайковского…
А вот теперь, конечно, запомнится вальс «На сопках Маньчжурии». Ясно, прилипнет. Вон бас-геликон как фальшивит, нижний звук чуть ли не на четверть тона… Трубы тоже не всегда играют чисто, трещат. Что это за оркестр? Провинциальный, видно, гарнизонный… Вот так все и останется в памяти — река, чайки, этот фальшивый оркестр…» Саня поморщилась страдальчески: и надо же, такая чепуха вписывается в жизнь. Это ведь навсегда… Вовек не отделаться!
— Холодно что-то. Сквозняк. — Зоя достала из чемодана теплый свитер, напялила, выпростала из-под горловины черные спутанные пряди волос.
— Между прочим, Санечка, вечер, Часов шесть небось. А утром будем уже там.
— На эшафоте. — Саня мрачно усмехнулась.
— Сильно сказано. Ну, если уж не поступим, так и башки не жалко. Пускай рубят. На что она? Мне лично не понадобится. Но я не о том. — Зоя одернула свитер, стала сразу ловкой и подтянутой. — Здесь холодно, не прогуляться ли нам по кораблю? Там, где потеплее. Я видела, там дорожки бархатные и вообще. Комфортно. Пошли, а?
— Выгонят.
— Кто? — Зоя высоко вздернула брови. — Ну, выгонят так выгонят. — Она мотнула головой, показала кому-то язык. — Пошли!
Поднялись по лестнице, юркнули в теплый коридор, по мягкой красной дорожке прошли вдоль дверей кают. Впереди мелькнул официант с подносом, скрылся за крайней дверью, оттуда слышался сдержанный говор, женский смех.
— Житуха! — оглядываясь, прошептала Зоя.
— Вот бы нам так проехаться!
Саня не удержалась и потрогала блестящую дверную ручку. За дверью кашлянули. Девчата фыркнули и на цыпочках помчались к выходу. Уже на палубе Зоя сказала:
— Проедемся, погоди! Лауреатами международного конкурса. Недолго ждать!
Саня вовсе не удивилась хвастливым словам подруги. Она, Зойка, всегда такая, стремительная, самонадеянная и все же какая-то чебурашная. Фантазерка. И лицо у Зойки необыкновенное — яркое, смуглое, а если поглядеть сбоку, похоже на египетское изображение. Древнее, конечно. Черная масса волос, глаз, подчеркнутый длинной бровью, четко обрисованный профиль, длинная тонкая шея. Глаза и брови у Зойки поставлены чуть косо, и такое впечатление, что глаза заходят на самые виски. А что, пожалуй, она и вправду поступит. Недаром ведь занималась по столько часов. Так заниматься никто не умел, как Зоя. Чего стоит тот случай, когда Зойка проиграла подряд девять часов и даже не заметила. Забралась в пустой класс и шпарила рапсодию Листа, пока другие сидели на занятиях по истории музыки и гармонии. Между прочим, рапсодию педагог ей вовсе не задавал, и на другой день Зойке здорово попало за сбитые в кровь пальцы. Но тут уж ничего не поделаешь, Зойка — фанатик. Что же, может быть, так и надо… И правда. Ведь чтобы все получить, полагается все и отдать. А как же иначе?
Между тем свечерело. Солнце уже почти скрылось, изредка только вспыхивало за деревьями слепящим оранжевым костром. Широкая гладь реки заиграла перламутровыми переливами — из серого в розовый. Радиола давно уже смолкла, по палубе прогуливались пассажиры, негромко переговаривались.
— А здесь шикарно, — вздохнула Зоя, — ей-богу, зря мы пожадничали, сиди вот теперь на бочках. Ой, что это… Слушай, слушай!
Откуда-то донеслись четкие звуки рояля. И не радио, не какая-нибудь звукозапись, нет, живое фортепьянное звучание, ля-минорный концерт Шумана.
Саня замерла. Именно концерт Шумана везла она на экзамен. Звуки ширились, плыли над рекой, и все это удивительно сочеталось с торжественным золотом заката, с розовыми облаками и вообще со всем этим наступающим тихим летним вечером.
— Необыкновенно, — шепнула Зоя. — Как звучит… Интересно: так здорово играют или просто над рекой так мощно звучит? Акустика?
— Кто же это?
— Значит, здесь существует инструмент! А мы-то шляпим. Пошли на разведку.
Но разведать ничего не удалось. В дверях их остановил тот самый хмурый матрос: «Нельзя, не положено. Займите свои места…»
Пришлось спуститься вниз. В помещении стоял гвалт, под лестницей за бочками прятался цыганенок, видно, цыганское семейство «засек» контролер.
— Что же, займем свои места, — вздохнула Саня, — музыку-то и отсюда слышно.
— А играет божественно. Знаешь, сдается мне, что он едет туда же, куда и мы. Конечно. Тогда нам уж лучше там и не показываться. Куда уж нам!
— А почему «он», а не «она»?
— Еще бы! — Зоя даже присвистнула. — Мужская игра! Разве не слышишь? Ритм, широта. Лапа чувствуется. Настоящая лапа, не наши хилые пальчики. Божественно!..
— Ну, положим, у тебя-то пальчики…
— Санечка! Куда уж нам. Говорю тебе, мужская игра — это дело совсем другое. Но давай послушаем…
Саня больше всего любила этот шумановский концерт, сама играла его, но теперь слушала как будто в первый раз. Особенно поражала мужественная сдержанность, благородство. Исполнитель как будто что-то не договаривал, но оно, это «что-то», все равно было, оно присутствовало в каждом такте, в каждом штрихе. Что это было, Саня не могла бы точно определить, но она хорошо знала это чувство. Ощущение главного, без чего вообще игра бессмысленна, пуста. Ощущение образа, быть может?.. И все-таки было одно место, явно недоработанное. Вернее, оно было как-то не разгадано пианистом. Он и сам, видно, это чувствовал, то и дело останавливался, повторял, переигрывал снова… Да, здесь он почему-то терял опору…
Наконец все смолкло. И сразу же стемнело, потянуло резким холодком. В каютах вспыхнул электрический свет. Девчата особенно остро почувствовали и свою неприкаянность, и все неуютство, и холод этой затоптанной, обитой железной скобой грузовой палубы.
— А дома мама с работы пришла, чайник поставила. Уютно, тепло, — сказала Зоя.
— Я раньше думала, что на теплоходе обязательно тепло. Теплоход же! — Саня съежилась, засунула ладони поглубже в рукава.
— Ну и чудик!.. Да ничего страшного, пересидим! Пообедали баранкой с духовым оркестром…
— А поужинали концертом Шумана. Ужин был неплох.
— Неплох. К нему бы котлеты…
— Придется потерпеть, — улыбнулась Саня. — Котлеты потом когда будешь лауреатом.
Посмеялись немного, устроились поудобней, каждая на своей бочке. Предстояло скоротать ночь.
Теплоход шел, казалось, несколько быстрее, по крайней мере, машина стучала громче, отчетливей. Время от времени он испускал басовитый гудок, и чужие берега отвечали издалека протяжным эхом.
Было неудобно и жестко сидеть на ребристых бочках, к тому же бочки все время покачивались в такт стуку машин. Покачивались они то разом, то вразнобой. Подруги в полудреме клевали носами.
— Сань…
— А? Что?
— Что мы это так… недружно качаемся. Несинхронно, в общем. Давай уж вместе. Раз — и, два — и…
— Да ну тебя. Будто от нас зависит. Бочки тяжеленные… Я спать хочу…
Снова заклевали носами вразнобой.
— Сань.
— А?
— Вот сидим на бочках, а не знаем, с чем они. Вдруг с порохом?
— Наплевать. Спать давай.
Ночью где-то причаливали, слышались голоса, потом снова короткий гудок, отплытие; равномерное покачивание бочек.
Перед самым рассветом их согнал хмурый матрос. Прибежал второй, взялись за бочки, куда-то покатили…
Зевая, девчата поднялись по лестнице, вышли на уютную, выстланную мягким пластиком палубу.
— Модерн. Бельэтаж. — Зоя пригладила ладонью растрепанные вихры, облокотилась о перила.
Серая поверхность реки вся в мелкой ряби, как будто ежится от ночного холода, а на востоке уже зажглась узкая малиновая полоса. Берега совсем темные и безликие километр за километром, уж сколько их за ночь-то пробежало…
— Надоело. — Зоя широко зевнула, вдруг поглядела в сторону. — Гляди, Санечка, — он! Ей-богу, он!
Саня сразу поняла, о ком речь. В самом конце палубы у перил виднелась невысокая фигура. Парень как парень, ничего особенного, мальчишка почти. Но каким-то неопределимым, профессиональным чутьем обе девушки безошибочно угадали: он. Тот, кто играл вечером ля-минорный концерт. Слишком уж отрешенно стоял он у борта, так слушать предрассветную реку может только музыкант.
И Сане вспомнилось почему-то пустое, безопорное место в концерте, оно ведь так и не получилось у него вчера. И подумалось, что, стоит вот солнцу взойти, все вокруг прояснится, на воде заиграют розовые блики, а берега зазеленеют или прорежутся четкими фермами электролиний и что этого-то момента и ждет пианист. Прояснится и в голове, и в пальцах; само отыщется необходимое звено. Он возьмет его и вставит, как недостающую частицу мозаики, в то самое пустое место!.. Конечно, это все блажь. Она понимала, что тут еще пропасть работы, и горячо сочувствовала незнакомому парню.
— Сань, а у тебя ведь тоже неплохо получается концерт Шумана, — сказала вдруг Зоя.
«Неплохо». Зойка никогда не умела врать. По тону ее Саня поняла, насколько велика разница между игрой ее и этого парня.
— «Неплохо» в данном случае означает «плохо», — пробормотала она. — Такую музыку нельзя играть «неплохо»…
— Ну уж и завяла! Подумаешь. Играет он, конечно, божественно, но ведь и твой уровень…
— Тише ты. Услышит…
Подруга умолкла… Уровень. А что такое уровень? И существует ли уровень в искусстве? Какой такой уровень в музыке, например? Музыка вон как тот сосновый лес на берегу. Сплошная цепь остроконечных вершин, одни выше, другие ниже, пожалуй, нет даже двух равных. И каждая сама по себе… А когда говорят про уровень, это, значит, хуже уж нельзя…
Между тем наступило утро, на палубе появились пассажиры. Парень оказался светловолосым, худеньким, в синих джинсах и куртке. Он еще стоял у борта, когда к нему подошел мужчина, немолодой, в полосатой тенниске, гладколицый, весь какой-то собранный, похожий на спортивного тренера. Повернулся спиной — блеснула порядочная лысина. О чем-то поговорили, потом мужчина ободряюще похлопал юношу по плечу, и оба ушли.
Палуба пустела, из ресторана потянуло запахами еды, звякала посуда. Девочки поспешили к буфету. На сей раз повезло, позавтракали бутербродами и кефиром…
А день разгорался, разгоралась и жизнь на берегах — левом и правом. Дымили заводские трубы, сновал транспорт, бульдозеры и башенные краны уже начали свой рабочий день. Теплоход вошел в распахнутые ворота шлюза. Саня с тревогой, с любопытством смотрела на всю эту процедуру: шлюз пройти, подняться по водным ступеням — шутка ли? Жалела, что Зойки нет рядом, скрылась куда-то. Но тут Зоя появилась и сразу затормошила:
— Слушай, так и есть! Он едет туда же, куда и мы. Парень — настоящее чудо. Сам из Рыбинска, а тот мужик — дядя родной, Павел Эрастович, кстати, известный куйбышевский педагог-пианист. Везет племянника.
— А почему пароходом?
— Решили прокатиться. Дядя с ним занимается каждый день, совмещают приятное с полезным… Там где-то есть рояль. — Зоя неопределенно махнула рукой. — Парень просто бог, понимаешь, бог! Пианист настоящий!
— Как же тебе удалось познакомиться?
— Как? Очень просто!
Зоя скорчила гримасу, ладонью отмахнула назад волосы.
— Элементарнейше! Подхожу, говорю: «Это вы играете?» — «Я», — говорит. «Тогда, — говорю, — давайте знакомиться». Вот и все. Знакомство состоялось.
— Ну ты, Зойка, и даешь!
— А ты цыпочка. Сложная натура. Чуть что, и стушевалась.
— Да ну тебя, Зойка, не выдумывай…
— Погоди. Зовут его Светликов Никита, как и мы, в девятый перешел.
— А что играет, кроме концерта?
— Везет пару этюдов Шопена, «Утешения» Листа, концерт, ну и, конечно, полифонию. Больше всего любит играть Баха. Гений…
В этот день они перебрались поближе к салону, где стоял инструмент, долго слушали игру Никиты. С первых же звуков Сане стало ясно, что так играть, как она сама играет, нельзя. Особенно концерт. Собственная игра вспоминалась растрепанной, стихийной и технически неряшливой. Не надо было ехать… Но разве она знала, что можно вот так, стройно, соразмерно, красивым звуком подать все части программы? Правда, много слушала хороших пианистов, но они воспринимались как бы издали, будто звезды. Звезды, еще бы им не сверкать! А тут такой же школьник, как и они с Зоей, а какая игра! Нет, зря только поехали. Недаром и Анна Владимировна не советовала. Так и сказала: «Мало шансов». А они вот не послушались. Но все-таки… Все-таки одно место в концерте у Никиты не получается. В самом начале разработки… Вот. И вот. Да он и сам чувствует это. Сане мучительно захотелось наполнить это «пустое» место, захотелось помочь!
Будь она такой же отчаянной, как Зойка, сейчас вбежала бы, сыграла, он понял бы… Ох и дура! Ох ненормальная. А дядя-то Никитин? Представилось розовое, в седоватых гладких полубачках дядино лицо, надменные дуги бровей, снисходительная улыбка…
Наконец Никита кончил заниматься. Зойка сунулась было в салон поиграть хоть немного, но дверь оказалась запертой.
Через пару часов теплоход уже входил в порт, для девушек начинались новые заботы.
Долго разыскивали переулок, где находилось училище… Все тут было для них ново! По рассказам Анны Владимировны, вокруг училища теснились одни старинные особнячки с колоннами и полустертыми гербами владельцев на фронтонах. Оказалось, что у самого входа в Малый Никольский переулок высится многоэтажное здание из серого бетона и стекла, рядом шумит молодой широкий сквер… И тупичок рядом с церковью, в котором приютился училищный особняк, найти было не так-то легко…
В канцелярии училища они получили ордера на койки в общежитии, получили и пропуска в репетиторий, отведенный специально для приезжих абитуриентов. Время занятий у них оказалось почти одинаковое: у Зои — с одиннадцати до двух, класс номер пятнадцать, Саня заниматься должна в шестнадцатом классе с двенадцати до трех. Впрочем, на подготовку оставался всего один только день, и эти три часа, конечно, большого значения не имели.
Нельзя было терять ни минуты. Весь вечер подруги провели в училище, занимались в свободных классах.
В перерывах бродили по коридорам, осторожно заглядывали в разные двери, все казалось им значительным, необыкновенным, даже священным. Все: и фотографии на стенах, и портреты основателей училища, и даже сам воздух, пахнущий старым деревом, лаком, пылью и еще неизвестно чем, воздух, которым дышали самые знаменитые музыканты нашего времени…
По узкой деревянной лесенке откуда-то сверху прямо в зал спустился большой пушистый кот. Уселся на нижней ступеньке и высокомерно поглядывал на девушек. Зоя первая заметила его.
— Смотри! Кот самой директорши, Елены Глебовны Самарской! Еще Анна Владимировна рассказывала, что у нее есть такой кот! Неужели он самый?
Зоя молитвенно сложила руки.
— О славное, божественное животное, насквозь пропитанное гениальной музыкой! Ты видело запросто тех, которых мы называем с благоговением «лауреатами»! Ты слышало их!
Кот неожиданно попятился, взвился по лестнице наверх.
— Видишь, обозналась, — рассмеялась Саня. — Не он.
— Нет, он, он, — настаивала Зойка. — Полосатый, серый, с бакенбардами. Я сразу узнала.
— Тот был, когда Анна Владимировна училась. Лет двадцать назад.
— Ну и что же! Ну, значит, его потомок. Внук. Здесь ведь дорожат традициями…
— Спятила, Зойка! Пошли, вон, кажется, класс освободился. Скорее!
— Чур, я первая!..
Занимались, пока училище не закрыли на ночь. И чем больше играла Саня, тем глубже проникала в нее неуверенность, ощущение беспомощности. Еще с пьесами и полифонией дело обстояло более или менее благополучно, а вот с концертом совсем скверно. Стоило только начать играть, в памяти звучало совсем другое исполнение, лучше, совершеннее. Хотелось подражать… Да это уже и было подражание. И сама не заметила, как появились в игре интонации Никиты, а когда заметила, было поздно уже. Все закрепилось. И все пошло вразброд, все перемешалось, она и сама теперь не знала, хорошо играет или плохо. Скорее все-таки плохо…
Послезавтра экзамен. Может, не ходить? Может, лучше уехать сегодня же?
Ровно в двенадцать она стояла у дверей «своего» класса. Ее время. Можно спокойно заниматься до трех. Прислушалась: ля-минорный концерт Шумана. Играл, без сомнения, Никита.
…Какая звучная, красивая игра! Одухотворенная и вместе скромная, сдержанная…
Саня задержалась у дверей, прислушалась. Он все еще бился над тем проклятым местом в разработке. Временами как будто начинало что-то получаться, но Никита снова и снова терял нить, чувствовалось, что нервничал. Еще бы. Саня понимала его. Как хотелось ей, чтобы он справился, поймал наконец за хвост причудливый, ускользающий образ.
Прошел час. Она все не решалась войти и напомнить Никите о времени. А время шло. В этот день, последний перед экзаменом, свободных инструментов не было, из каждого класса рвалась звуковая буря. Гаммы, упражнения, пассажи — последние усилия перед состязанием…
Откуда-то возникла Зоя.
— Ты что сидишь? — прислушалась. — А-а, понятно. Не можешь выставить того типа. Эх ты… Давай я его попрошу, так и быть.
— Что ты, не надо…
— А что? Играет он, конечно, как лауреат, но… Знаешь ли, тебе и самой инструмент нужен. Ну как? Выставить субчика?
— Нет, подожду лучше…
— Как знаешь. Я-то своего предшественника на пять минут раньше выгнала. А то как же? Пять минут на пересменку, ноты раскрыть и так далее. Ну, привет.
Подруга убежала.
И тут Саня вспомнила о репетиции. Встреча с педагогом, который аккомпанирует ей концерт, завтра утром, сразу перед экзаменом. Надо заниматься, надо заниматься изо всех сил! А она снова слушала и не могла оторваться. Никита играл чудесную мелодию коды. Саня взглянула на часы: оставалось совсем мало времени…
Появился он внезапно. Взъерошенный, скомканная куртка и ноты под мышкой. Смотрел он так, как смотрят, только что выйдя из темного помещения. Слегка обалдело, будто проснувшись. Увидел Саню не сразу, потом, сообразив, что занял чужое время, совсем сконфузился.
— Я и не знал, что ждете.
— Ничего… я опоздала… только что пришла.
Зачем ей понадобилась эта ложь, и сама не знала. От сказанного стало неловко, и щеки горели, и, едва усевшись за инструмент, она сразу же заиграла концерт Шумана ля минор.
Почему-то все оказалось просто, сгоряча все получалось, и ей самой нравилась своя игра. Были, конечно, промахи, но она их как бы не замечала. Главное — все вперед и вперед, и каждый звук осмыслен. Главное — она совершенно точно знала, как надо играть этот концерт.
А перед глазами все стоял тот вечер, и оранжевый закат, и запах воды волжской, и одинокая мальчишеская фигура у борта…
Доиграть так и не удалось, ровно в три инструмент пришлось уступить, ее время кончилось.
В коридоре подошел Никита.
— А вы знаете, мне ужасно нравится у вас концерт…
Говорил он медленно, как-то неуверенно, будто вслушиваясь в свои слова.
— Не может быть! — вырвалось у Сани. И сразу в горле пересохло.
Он помолчал, сморгнул раза два, серьезно посмотрел на Саню своими слишком серыми глазами.
— Нет, почему же? Нравится, правда. Я даже благодарен вам, я столько услышал для себя… Теперь я точно знаю, что мне надо. Нет, без шуток.
— Да у меня мазни много, техника не в порядке…
Он помолчал, как бы обдумывая услышанное.
— Техника… Это ведь воспитание пальцев. В каждом отдельном повороте приходится отрабатывать. А то ничего и не донесешь. Но это уже потом…
Никита вдруг как будто забыл, о чем они тут говорили, стоя посреди коридора, и рассеянно двинулся было прочь. Но тут же вернулся.
— Да… У вас концерт удивительно наполнен. Удивительно. У меня этого не было, но я понял, когда послушал вас. Мне повезло.
Он постоял еще мгновение, потом кивнул, отчего медово-светлая челка взметнулась, и отошел. «Какой все-таки странный парень, — подумала Саня, — видно, работать умеет, мужественный человек, и что-то детское есть в нем. А рассеянный-то… Но, во всяком случае, если кому и суждено стать пианистом, так именно ему».
Ей посчастливилось быстро найти свободный инструмент, но на том везение и кончилось. После двух суток перерыва в занятиях пальцы ощущались задубевшими, пьесы — полузабытыми. Понимала, конечно, что все это не так, что сумеет быстро восстановить беглость и все остальное, и усердно работала над пьесами.
Настоящая паника началась, когда принялась за концерт. Он выходил каким-то разношерстным: временами слышались явно Никитины интонации; в такие моменты вспоминались ей и руки Никиты с длинными поникшими кистями, и теплоход, и даже те жесткие, ребристые бочки. А то вдруг всплывет физиономия Никитиного дяди, его седоватые брови, снисходительная улыбка… Снова принималась за игру и как будто находила свое прежнее. Только ненадолго. Прельщало совершенство Никитиной игры, его особый стиль, подчеркнутая суховатость, мужество. Пробовала подражать — не получалось. Собственное исполнение казалось теперь ей чересчур уж расхлябанным, провинциальным. Да. Не стоило ехать сюда. Зачем? Ради того только, чтобы убедиться в своей неподготовленности? Или бездарности? От этой мысли даже руки похолодели. А что, если это и есть бездарность? Типичная, пошлая, так широко распространенная бездарность?
В эту ночь Саня почти не спала, В комнате разместилось полдюжины девушек, на соседней койке громко храпела Зоя, свет автомобильных фар косо пробегал по стенам, оконные шторы шевелились от ночного ветра. Волновали непривычные, праздничные запахи столицы — запах наезженного гудрона, духов, листьев тополиных, еще чего-то. И невидимое присутствие многолюдной столичной толпы.
Как получилось, что она избрала именно музыку? В сущности, просто никак. Так вышло. Отец купил по случаю старенький рояль. Понравилось. В девять лет поступила в музыкальную школу. И пошло, и пошло… Да ведь и у всех так же! В точности так же получилось и у Зои. И никакого сомнения не было ни у той, ни у другой. А Никита странноватый парень, с его лохматой челкой, с этим старомодным «вы», с какой-то особой, рассеянной элегантностью прирожденного артиста. Как он сделал свой выбор? Скорее всего никакого выбора и не было, родился музыкантом, только и всего. Только и всего… Как много!..
Утром училище гудело, переполненное абитуриентами. Каждый знал время своего выступления, и все-таки к девяти часам все толпились у дверей зала. Волновались, перешептывались, пробовали заглядывать в замочную скважину. Наконец вызвали первого, дверь заперли изнутри на крючок. Все затихли прислушиваясь.
— Из Бурятии, — шепнул кто-то. — Она из Бурятии.
Раздались жиденькие звуки этюда Аренского. На первом же трудном месте пианистка споткнулась, потом остановилась вовсе. Слышно было, члены приемной комиссии ободряюще зашумели. Игра все-таки не стала лучше. Пианистку никто не останавливал, и она безнадежно доигрывала свою программу.
— Кто это сыпется? — К двери протискалась Зоя. — Эх, кто же так? — С отчаяния запустила все десять пальцев в свои черные вихры. — Ну, не везет!
На нее зашикали, и в этот момент музыка прекратилась, неудачница, красная и потная, выскочила из дверей.
В дальнем помещении шли репетиции для тех, кто играл концерты в сопровождении рояля. Там уже началось! Расписание жесткое. Санина репетиция — в десять, экзамен — в одиннадцать.
— Пойду посмотрю, может, не пришел кто, — заторопилась она. — Может, лишнее время есть.
— И дура же ты, Санька. — Зоя наморщила лоб. — Сколько раз я говорила тебе, не концерт надо показывать, а сонату Гайдна. Без хлопот, без аккомпаниатора, и вообще проще. У тебя получалось.
Проще, конечно. Зоя, конечно, права. Но ей хотелось обязательно сыграть концерт. Для нее даже вопроса такого не существовало — что играть…
— Постой. — Зоя удержала подругу за рукав, насторожилась. — Кто-то там здорово шпарит. Случайно не заметила, кто пошел?
Играли октавный этюд Клементи. Все с уважением слушали четкую, быструю игру.
— Молодец! — одобрила Зоя.
В стороне Саня заметила Никиту Светликова. Рядом стоял дядя Павел Эрастович и, наклонив ухо в сторону двери, прислушивался… А в зале уже исполняли фугу Баха. Полифония звучала из рук вон плохо, потом пианист и вовсе запутался, перестал играть. Саня мельком заметила, как переглянулись дядя и племянник. Дядя криво улыбнулся — в углу рта блеснул серебряный зуб, — быстро черкнул что-то в свой блокнотик. Похоже, педагог вовсе не сочувствует тому бедняге. Скорее доволен. Еще бы, шансы племянника увеличиваются…
Саня взглянула на часы: около десяти. Пора.
Она брела по длинному коридору. Играть или сразу отказаться? Раз нет уверенности… Она ведь еще не готова! Вдобавок еще и бездарна… Ой, а вдруг и правда бездарна? Главное, концерт. Как же его играть?.. Вспомнилась вчерашняя неуверенность, пустота, сумятица в мыслях и в пальцах…
Никита догнал ее уже у дверей класса, где репетировали.
— П-постойте, — заикаясь, выговорил он, — это п-просто ужасно. — Он глядел на нее беспомощно, как-то по-детски ломая руки. — Понимаете, я потерял ноты! Ля-минорный концерт. Утром репетировал с дядей, а потом… Потом, сейчас то есть, гляжу, нет! Аккомпанирует мне дядя, а ноты я потерял. Ужасно!
— Где-нибудь в классе остались…
— Моя очередь играть, п-понимаете?! Сейчас вызовут! Можно, я пока возьму ваши ноты?
Никитины глаза, казалось, вышли из берегов, затопили все лицо отчаянием и грустью.
— Вот, пожалуйста, — не раздумывая, она протянула тетрадь.
Быстрыми шагами подошел Павел Эрастович. Лицо красное, глаза оловянно поблескивают — в бешенстве.
— Ну? Как будем?
Никита сиял.
— Мне повезло! Помнишь, я рассказывал, как она играет Шумана? Эта вот девушка. Она и выручила. Фу ты, до сих пор опомниться не могу!
Павел Эрастович мельком взглянул на Саню, приподнял брови:
— Вы играете ля-минорный концерт? Зачем же взяли такое трудное? С этим концертом в консерваторию поступают. — И заторопился: — Пошли, пошли! Пора.
Они удалились. Павел Эрастович шагал быстро, пружинисто, ботинки поскрипывали на ходу. Никиту он вел, ухватив за плечо.
Ну вот… Все разрешилось само собой. Это просто удача, что она оказалась рядом, что пригодилась. А то бы случилось непоправимое. Недаром ведь предупреждали, что опоздавшие на экзамен не допускаются. И вообще ошибок здесь не прощают. Шутка сказать — ноты потерял! Выходит, концерт отпадает. А без крупной формы нельзя.
Саня топталась у двери класса, прислушивалась. Там репетировали моцартовское аллегро. Концертмейстер то и дело останавливал ученика, объяснял что-то, как ей показалось, очень важное. Надо бы войти, представиться, послушать других, проиграть свою программу. Но без нот не имеет смысла…
Время шло, давно уже отыграли Моцарта, в класс входили и выходили абитуриенты, она ждала. А Никита с нотами все не появлялся.
Дверь неожиданно приоткрылась, выглянул толстячок концертмейстер.
— Ко мне тут кто-нибудь есть?
И, не получив ответа, скрылся за дверью. Тут примчалась Зойка, растрепанная, красная.
— Все! Кажется, ажур!
— Отыграла?!
— Санечка! Дружище! — обняла Саню, запрыгала. — Кажется, я поступила, ей-богу, поступила! Во-первых, повезло, сыграла удачно. А потом, знаешь, подозвали к столу, спросили, сколько лет, где училась и так далее. Других не спрашивали, понимаешь? Ура, ура! Виктория!
Она вдруг взглянула на Саню.
— Ой! А ты что стоишь? Скоро тебя вызовут, там уже мало народу!
— Не знаю…
— Что не знаешь?
— Да, во-первых, Никита ноты уволок, потерял, понимаешь, свои. А потом… Честно говоря, стоит ли? Что-то у меня не получается. Вряд ли я буду играть.
— Что?! Псих! — Зоя схватилась за виски, заметалась. — Где Никита? Он давно ведь отыграл!
— Отыграл? Ну и как?
— Спрашивает! Бог! Но я еще доберусь до этого субчика!
Она бросилась бежать по коридору, остановилась на минуту:
— Ты не репетировала? Ну, псих!
Умчалась, стуча каблуками. Вернулись они вместе с Никитой.
— Оказывается, он забыл про тебя, а ноты у дяди, а дядя сквозь землю провалился! — ругалась Зоя.
— Что-то ужасное, — лепетал Никита, — но я действительно забыл. Как отыграл, всю память отшибло… Никогда со мной не было, а тут вот…
Зоя уже стучала в класс.
Вышел толстяк концертмейстер, вежливо выслушал Зою, развел руками.
— К сожалению, наизусть я эту партию не помню… Библиотека наша закрыта. Попробуйте все же поискать ноты. В конце концов, существуют нотные магазины…
— Не успеть, экзамены уже кончаются…
— Все, что я могу предложить… Ищите ноты, давайте попробуем играть прямо так, без репетиции…
Дядя все же нашелся. Его сияющую на солнце лысину увидели сверху, из окна — он стоял у киоска, ел мороженое. Ноты были зажаты у него под мышкой… Дядя просто опешил, когда из подъезда выскочил бледный Никита и, ни слова не говоря, выдернул ноты…
Саня шла по жаркому московскому переулку, все больше удаляясь от музыкального училища, к которому так стремилась эти последние годы. Что же, решение принято: она не поступит. Ничего изменить уже нельзя. Да и зачем? Выставить напоказ неимоверную отсебятину, этакую сентиментальную стряпню? И лучше не рассказывать ни о чем Анне Владимировне. В самом деле, не рассказывать же о том, как она тут нафантазировала, наподражала и, может, этим самым всю ее работу испортила. Сначала-то ведь получалось неплохо. Вот ведь и Никите нравилось…
— Стойте! Вот ноты!
Никита догонял ее.
— Куда же вы?! Я, я виноват. Но куда же вы уходите? Постойте! — Он совсем запыхался, ладонью откинул намокшую светлую челку.
Саня остановилась.
— Я и не виню. Просто я передумала, я не буду играть.
— Да что вы? Еще не поздно! Пошли скорее, там еще не кончили!
Никита, казалось, готов был расплакаться. Как бы ему объяснить, чтобы понял: дело вовсе не в нем!
— Я уезжаю сегодня. Просто передумала поступать. Мне разонравилась своя игра. Все надо переделать.
Он вдруг схватил ее за руку, молча и упрямо потащил за собой.
Сане сделалось смешно: разыгрывалась настоящая драма, будто в кино.
— Все равно я решила! — твердо сказала она.
— Дура! — закричал Никита. — Дура! Я тебе говорю — пойдем!
На них оглядывались. Саня вырвала руку и пустилась бежать к трамвайной остановке.
В трамвай вскочила чуть ли не на ходу. «Вот, и про свою воспитанность забыл, и уже, пожалуйста, не «вы», а просто «дура», — горько думала Саня. Но ей, как никогда, нравился Никита, его растерянность, горячность, и как он поволок ее за руку — тоже…
Трамвайные стекла дребезжали, Саня смотрела и прощалась с кривым переулком; с витриной цветочного магазина — они с Зойкой каждый раз любовались белыми махровыми пионами; с колоннами старинного особняка; с уже знакомыми и такими близкими фасадами домов.
В общежитии она торопливо собрала чемодан, написала записку Зое, вложила в нее оставшуюся десятку, сунула под подушку… А потом присела на кровать и наплакалась вволю, благо комната была пуста.
Ехать решила поездом, так быстрее. Скорее на станцию, минуя все сочувственные расспросы, Зоины упреки, советы, уже запоздалые! И когда поезд тронулся, привстала на цыпочках, высунулась в окошко. В лицо ударил ветер, колкая станционная пыль, Сане сделалось вдруг хорошо и радостно. Она знала наверняка, что приедет опять через год и что другой дороги нет для нее.
«Я могу. Я ведь могу быть очень сильной, сильнее даже самой себя. Приеду с новой, накрепко отработанной программой, сейчас как зверь работать начну. Все будет железно! А то, что произошло, это ведь жизнь, это пусть у меня останется. В сердце. И в памяти. Концерт Шумана ля минор».
ОБЛОМОК МОЛНИИ
Подруги уже спали, когда Ксане почудился шорох за дверью. Насторожилась. Да нет, все тихо как будто… Слышно даже, как внизу, под самым берегом плеснула рыба, где-то далеко поскрипывали уключины — лодка шла вдоль озера, к Деревкову… Сарай был сквозной, жердяной, он полнился душным запахом сена, и хоть с озера продувало, густой сенной настой оставался незыблем. Девчонки насквозь пропахли свежепросушенной травой — волосы, платья и даже кое-какие пожитки в рюкзаках — все прочно впитало в себя сенной аромат.
Вот… Опять. Щеколда звякнула. Мгновенно Ксана села, прислушалась. Снаружи осторожные шаги, шорох… Их ведь тут три девчонки только ночуют, ребят вчера увезли на дальние покосы. Говорила тетя Паша — жить в избе, нет, сами на сеновал запросились. Что теперь делать? Будить подруг?..
Она сидела, будто окаменев. С поля доносилось мерное цыканье кузнечиков, в просветах между жердями сарая блестели звезды. А за дверью явно кто-то ходил. Шорох, звяканье. Щеколда отскочила. Значит, руку просунули сквозь прутья, отперли, соображала Ксана. Так и есть. Мурашки пробежали по телу… Как во сне, нащупала ногой стремянку, соскользнула бесшумно вниз, замерла. Иришка и Люба мирно похрапывали на пружинистой толще сена под самой крышей, а Ксану будто кто подталкивал: протянув вперед руки, кралась в темноте. Вот, кажется, и дверь. Полуоткрыта. Выскочить? Может, закричать?.. Неожиданно рука ее натолкнулась на что-то, крепко вцепилась. Кисть. Чья-то голая кисть. Это было очень страшно — схватить в темноте за руку неизвестно кого. Ксана вскрикнула. Тут же луч фонарика ударил в лицо. И громкий шепот:
— Витька, ты? Что за черт? Отпусти же!
— Кто это? — спросила Ксана.
И не узнала свой голос — сонный, деревянный какой-то, будто чужой.
— Вандышев, из стройотряда, — торопливо зашептал парень. — Вандышев я, Леонид… Витька Скворцов где? Заснул, что ли?
— Уехал… — Ксана ответила не сразу. — Все мальчишки вчера уехали. На дальний покос.
Тут ее подвел голос, задрожал, сделался писклявым, вдобавок она икнула. Все это при незнакомом парне из студенческого отряда. И надо же так перетрусить!
— Уехали? Вот невезенье! — пробормотал Вандышев. Он, казалось, не заметил ее испуга. — Неужели ни одного мальца нет?
— Нет никого. Трое нас девчат, вот и все… Ночуем.
— Н-да… История… А ты храбрая! — неожиданно сказал Вандышев. — Как это решилась за руку-то! Цап — и готово. А если бы я был вооружен? А? Ну, не я, конечно, а тот… Словом, бандит какой-нибудь. Ты ведь не знала кто. Как ты могла?
Он снова включил фонарик и осветил ее всю.
— Сама не знаю… Будто гипноз какой. Иду и иду. Боюсь, конечно, а иду. За руку-то я случайно… Так получилось.
— Н-да… Храбро, но не умно. Впрочем…
Помолчал, соображая.
— Значит, парней ваших угнали. А нам срочно нужен кто-нибудь. Небольшой, хоть вот вроде тебя… Но, конечно, нужен мальчишка. Эх, Витьки, жаль, нет.
— А зачем?
Вандышев помялся немного.
— Да так, пустяки. Помочь тут надо участковому… Слушай, а ты не могла бы?.. Да нет, пожалуй, зарубишь нам все дело. Девчушка…
Парень вдруг занервничал. Взглянул на светящийся циферблат, заторопился:
— Ну, я пошел. Извини за беспокойство. Обойдемся как-нибудь.
Он пригнулся, шагнул за порог. Фонарик погас.
Только тут Ксана сообразила, что дело, из-за которого приходил Вандышев, не простое. Еще бы: кому это вздумается ни с того ни с сего людей тревожить среди ночи, Витьку Скворцова разыскивать. Витька ему понадобился… Участковый… Ой, неужели что-нибудь случилось? Интересно, что?
— Эй! — негромко окликнула Ксана.
Из темноты донеслось настороженное:
— Да. В чем дело?
— Постойте.
Ксана неслышными шагами догнала Вандышева.
— А я чем хуже Витьки? Согласна заменить. Что надо делать-то?
Вандышев, видно, колебался.
— Видишь ли, это не для девчат. Парень нужен. Впрочем… Ты как, вообще-то? Писку не будет? Нервы, обмороки какие-нибудь там… Не подвержена?
Ксана оскорбленно повела плечом.
— Нету. Такого не водится.
Вандышев вздохнул:
— Ладно. Беги одевайся. Джинсы. Куртка темная есть? Только быстрей, ждать не стану.
Ксана торопливо переодевалась в сарае. Джинсы и тапки с трудом разыскала в сенной трухе, куртку пришлось захватить Любкину — потемней. Ну и длинная же — Любка ведь самая высокая из девчонок в их классе. Полы висят, рукава болтаются. Ничего, сойдет, зато темная… А Вандышев — интересно, какой он? Голос вроде знакомый. Интересно, видела его раньше или нет? Конечно, видела, только в темноте не узнать.
— Вандышев! Ты здесь?
Сырая глинистая тропка вела от сеновала вниз, к озеру. По ней сбегали ребята по утрам, захватив зубные щетки и полотенца. Вода в озере теплая, чуть илистая у самого дна, с первых шагов увязнешь по колено, а дальше дно крепкое, купаться хорошо. Только Вандышев, видать, купаться не собирался, у самой воды повернул вправо, зашагал по травянистой кромке берега. Ксана рысцой за ним. Тапки быстро промокли от росистой травы, концы брюк отсырели и неприятно липли к ногам, и вообще ночь была какая-то сырая: кузнечики сырыми голосами свиристели в мокрых кустах, а над головой — влажные, будто умытые звезды. И как будто с них даже капало. Ксана подняла воротник куртки. Вандышев остановился.
— Объясняю задачу, — тихо сказал он. — Смотри, потом не переспрашивать. Все вопросы — сейчас.
— Ага, — согласилась Ксана.
— Полезешь на забор, где укажу. Я — внизу, с рацией. Внимательно следи за двором. Заметишь кого — сообщай мне. Шепотом, конечно. Кто появится — женщина, мужчина с поклажей, мешком, чемоданом, все сообщай. Поняла? Только тихо…
— Ясно.
Дошли до изгороди, по широкой утоптанной дороге поднялись наверх, к амбарам и баням. Ксана вспомнила — это та самая дорога, по которой совхозный конюх Алексеич ездил с бочкой за водой. Однажды лошадь Алексеича забрела вместе с повозкой в озеро и едва не утонула. Сам Алексеич как ни стегал лошадь, как ни ругался, ничего не мог поделать, хорошо — студенты помогли. Купались рядом и вот всей гурьбой вытянули коня из топкой грязи. Этот случай вспомнился Ксане, и еще почему-то пришло на память другое: солнечный вечер, когда в селе появился студенческий стройотряд. Все три — Люба, Иришка и Ксана — сидели в избе, чай пили. Прасковья Семеновна угощала их ржаными оладьями со сметаной — вкуснющими, при воспоминании о них Ксане сразу же захотелось есть, — Иришка еще рассказывала о кинофильме «Рим в одиннадцать часов», и вдруг на улице зашумело: гомон, музыка, смех. Подруги кинулись к окнам. Ну и картина!.. Пестрая толпа катилась мимо домов, парни с вещмешками, чемоданами, ящиками на спинах шагали ходко, девчата, тоже нагруженные, едва поспевали за ними. Поверх грузов у многих приторочены были гитары, там и тут наигрывали транзисторы… Подруги высунулись из окна, вытянули шеи. Кругленькая Иришка залилась смехом.
— Ой, девчонки смешные какие! Студентки. Гляди, у этой брюки лопнут сейчас, и ножки коротенькие, а тащит-то! Рюкзачище.
— А вот комар, — указала Ксана.
— Где, где комар?
— Вон, длинноволосый, у него еще лопата привязана.
— Блондин?
— Ага. На спине мешок — во, лопата, а он еще и на гитаре бренчит.
— Приплясывает! Ха-ха!
— Сколько их! Толпа! Цыгане шумною толпой…
Люба до пояса высунулась из окна, заглянула в конец шествия, но конца не было. До самого леса — пестрые куртки, мешки, гитары, светлые, русые, черные головы.
— Прорва, — мрачно пробасила Люба, — прорва какая-то. И куда их гонят?
Подошла Прасковья Семеновна.
— Студенты прибыли, — объяснила она. — Практиканты. Каждый год у нас гостят, и лагерь у них тут, вон на колочке.
Она указала на сосновый пригорок за оврагами.
— А какой это институт? — спросила Иришка.
— Да у нас тут целых два гостят: строительный да юристы, что ли…
— Юристы! А ведь неплохо в юридический попасть, — вздохнула Ксана.
— Эти уж каждое лето, так и ждем. Строительные отряды, помощь от них немалая. В прошлое лето коровник совхозу наладили, весь перебрали, и все заново. Не знаю, что нынче-то собираются.
— Гляди, гляди! Чудаки-то! — завопила Иришка.
Парни шли шеренгой, взявшись под руки. Человек тридцать, всю улицу перегородили. Громко скандировали что-то и шагали в такт, нарочито высоко поднимая ноги. В раскрытых окнах смеялись, аплодировали. Кто-то бросил букетик желтых одуванчиков.
— Красавцы, — съязвила Люба.
— А что же, чем не красавцы, — отозвалась тетя Паша, — вон какие, посмотреть любо-дорого. Твое-то дело девичье, отчего же и не полюбоваться. Мы старухи, а тоже ведь поглядим-порадуемся. Ишь ты, молодцы какие!
И Прасковья Семеновна отправилась на завалинку в палисадник.
Процессия наконец начала редеть, вот прошагал бородатый парень с красным крестом на чемоданчике, налегке протрусила стайка девчат, а в самом хвосте уныло плелись несколько до отказа навьюченных ребят. Рюкзаки свисали с них со всех сторон. Парни, видно, потеряли всякую надежду догнать своих и пылили себе потихоньку, благо лагерь уже не за горами.
— Эй, доходяги! — не выдержала Иришка.
— Ты что, это рыцари, — поправила Ксана, — гляди, и свое и девчачье тащат. Во дают!
— Медицина шагает, — пробубнила Люба. И запела во все горло: — До-обрый доктор Айболит! Он под деревом сидит…
Подружки так и покатились со смеху.
Было это всего неделю тому назад, и теперь Ксана пыталась вспомнить, не видела ли она тогда и Вандышева. Впрочем, она его и вообще не видела. Какой он, Леонид? Может, тот самый «комар» с притороченной к вещмешку лопатой? Нет, скорее он похож на долговязого Айболита. Один там отплясывал — пыль столбом, может, это и был Леня?
— Стой. Сюда. — Вандышев тихонько дернул ее за руку.
Свернули в глухой прогон между заборами. Под ногами пружинило, видно, был навален мусор, Ксана споткнулась — звякнула консервная банка.
— Тихо!.. Полезай, — шепотом скомандовал Вандышев.
«Будто овчарке какой-нибудь», — сердито подумала Ксана. Она и впрямь представила себя овчаркой, когда карабкалась на дощатый, довольно высокий забор. «А интересно, овчарки по заборам умеют лазать или нет? Служебные, конечно, умеют».
— Там нащупай перекладину, садись.
В темноте обшарила шершавые доски, нашла в самом углу удобную перекладину, уселась. «Наблюдательный пункт. Нарочно, наверное, устроил».
— Ну? — шепнул Вандышев.
— Порядок.
— Наблюдай.
Тут же внизу что-то щелкнуло и тихий голос настороженно произнес:
— Внимание. Говорит второй. Операцию начали.
Ксана изо всех сил вглядывалась в темноту, но что там увидишь, чернота сплошная, как ни таращи глаза — ничего, кроме черноты. Как назло, ни звезд, ни луны, видно, туча накрыла. А ведь были же звезды! Не везет. Вот всегда так. Вечно ей не везет… С самого детства. Считается, что если сильно чего-нибудь пожелать, обязательно сбудется. И классрук Елена Федоровна говорила: «Вы должны помнить: чтобы добиться чего-нибудь, надо очень сильно этого пожелать». Родители тоже так считают. Впрочем, родителям многое непонятно, как ни говори, отсталый народ. Заладят свое: «Мы-то в ваши годы такого навидались. Мы и работали, и учились на пятерки». А уж если войну припомнят, то и вообще… Получается, что все поколение родителей — герои, трудолюбцы и просто святые какие-то, а вот поколение деточек не в них пошло. Интересно только, в кого?.. Где-то по соседству сонно гавкнула собака, ей ответила другая. И началось. Лаяли в разных дворах, на все голоса, по всей округе прокатился собачий перелай. «Почуяли нас, что ли? Вот была бы картина, если бы все псы прибежали сюда и собрались у забора. Большие, маленькие, лохматые, серые — разные!» Наконец отлаялись, только где-то за лесом, может быть, в Валентиновке, какая-то шустрая собачонка никак не могла успокоиться. Ксана вздохнула, уселась поудобнее… «Заспорила как-то с родителями. Она тогда еще в пятом училась. В тот год все девчонки увлекались фигурным катанием, и она тоже. Расхвасталась перед отцом: «Раз я желаю очень сильно стать фигуристкой, значит, это обязательно сбудется». Отец только усмехнулся на эти слова, а мама начала доказывать, что «сильно пожелать чего-нибудь» — это значит трудиться, много и неустанно трудиться. Тогда, возможно, и получится результат. Привела примеры из собственной жизни. Как терпеливо училась вязать, и потом как им с отцом удалось добиться отдельной двухкомнатной квартиры. Скучища какая! Подумаешь, квартира. И вообще это не шутка — корпеть над чем-нибудь целые годы. Сейчас время другое. Сейчас все в темпе… Фактор времени — вот чего не понимают старшие. Натиск, победа, успех. А иначе как же? Иначе и жизнь попусту пройдет. Пока кропотливо добиваешься. Факт!.. Ксана, забывшись, заболтала ногами, пятками забухала в забор.
— Спятила? — донеслось снизу.
Торопливо поджала ноги. «Да сейчас вон первоклассники алгебраические уравнения решают, Алик Розанов из 8-го «А» мини-телевизор смастерил, сейчас в четырнадцать да в пятнадцать лет чемпионами мира становятся. Да. В разных видах спорта. Вот это жизнь! А то корпеть, долгие годы гнуться над чем-нибудь… Нет, это уж пускай кто-нибудь другой. На здоровье».
— Ну, что там? — прошептал Вандышев.
— Ничего.
— Не спи!
Подул ровный свежий ветер, край неба очистился, и показались звезды. Уже можно было разглядеть кое-что по ту сторону забора. Двор широкий, утоптанный, тропка светлая от калитки до самого крыльца, в стороне груда фанерных ящиков. И только. «Собаки, кажется, нет, — решила Ксана. — Это хорошо…» Стало прохладно. Она поежилась, застегнула верхнюю пуговицу куртки. «Интересно, сколько еще придется тут высиживать зря? Холодно. Сидеть жестко». Ксана пошевелилась, стараясь устроиться поудобнее.
— Замри! — сердито шепнул снизу Вандышев.
«Хорошо ему, разлегся в траве, будто на диване. А тут обе ноги затекли… Ничего, интересно все-таки, чем все это кончится? Придется уж потерпеть. А девчонки спят себе, даже вообразить не могут, где она теперь. То-то порасскажет!..» Ей представились вытянутые от удивления лица Иришки и Любы. Они просто умрут от зависти.
Внезапно вспыхнул неяркий свет. Засветилось окошко у самого крыльца. Небольшое такое, зарешеченное… Ксана свесилась вниз, в темноту, зашептала:
— Эй, где ты там… Свет зажгли в крайнем окошке, свет!
Щелчок. И едва слышное:
— Внимание. Говорит второй. Там включили свет. Приготовиться… Повторяю: приготовиться.
Ксана вцепилась руками в шершавые доски забора, вглядывалась изо всех сил.
В окне за серой занавеской мелькала чья-то широкая тень, кто-то там, в комнате, ходил. Потом скрипнула дверь, дверной проем тускло осветился. От волнения Ксана едва не свалилась с забора.
— Вышел кто-то, — зашептала она, — эй, приготовься, идут…
Но тот, на крыльце, вроде не торопился. Постоял-постоял, да и ушел к себе, и дверь плотно притворил. Загремел засов. Скоро зарешеченное окошко погасло.
— Как? — шепнул Вандышев.
— Ушел в дом, заперся. Свет погасил…
Настала тишина. И это было долго: отсыревшие доски забора, звон кузнечиков в поле, жесткая, неудобная перекладина. А за забором смутная тропка до калитки и чернота. Больше ничего.
Звезды плыли высоко над крышами, потом из-за белесого рваного края тучи выполз желтый, скособоченный какой-то месяц. Плавное, незаметное движение всей этой системы миров почему-то навевало неудержимый сон. «Растянуться бы сейчас, — мечтала Ксана, — да укрыться потеплее». Где-то совсем близко захлопал крыльями, заорал петух… «Смотри в оба», — одернула себя Ксана. И она старательно смотрела. Двор просматривался теперь совсем хорошо, каждый камешек виден — уже начало светать.
За домом по дороге протарахтела телега, видно, конюх Алексеич за водой поехал. В чьем-то хлеву густо мыкнула корова. Взревел мотоциклетный мотор.
— Все, — сказал Вандышев. — На сегодня проехало. Слезай.
И тихо в рацию:
— Отбой. Второй говорит. Отбой. Расходись по домам.
Ксана рывком спрыгнула с забора и тут же свалилась — ноги затекли.
— Сильна. — Вандышев усмехнулся, протянул ей руку. — Уснула, что ли?
— Ой, нога занемела. — Ксана согнулась, терла коленку. — Ой, щекотно!
— Попрыгай на одной ножке, — посоветовал Вандышев, — кровообращение быстро восстановится. Ну ладно. Пошли.
Он легко зашагал вдоль забора, Ксана — на одной ноге — за ним. Огородами пробрались к озеру, потом — мимо амбаров и бань — добежали до усадьбы Прасковьи Семеновны, где жили девчата. Вон и сарай. Еще издали потянуло запахом свежего сена.
— Ну, беги, — сказал Вандышев. — Да смотри, никому ни слова…
В хлеву медлительно заскрипела дверь, должно быть, тетя Паша доить пошла.
— Скорее, — поторопил Вандышев, — беги! Помни, сбор в двадцать два ноль-ноль. Внизу, у озера… — Чуть помедлил, похлопал Ксану по плечу. — Вообще-то ты молодец!
Он повернулся и не спеша побежал по тропе. Все-таки Ксана успела его разглядеть. Оказывается, это совсем не тот парень, что отплясывал с гитарой, и не тот, который вещи девчачьи тащил. Вообще это совсем незнакомый парень. Ксана еще ни разу его не видела. Других студентов встречала и на улице, и на работе, а этот раньше ей как-то не попадался. Долговязый, и волосы светлые да длинные, лицо длинное, серые длинные глаза. Серьезный такой. Наверное, дружинник. Все знали, что у студентов есть дружина охраны общественного порядка. Вандышев, конечно, оттуда… На цыпочках Ксана юркнула в сарай, в густое, пахучее сенное марево. Скинула тапки, куртку, джинсы, ловко взобралась по приставной лестнице, ухнула на домотканую полосатую дерюжку, как раз в ямку, належанную еще с вечера. Тепло, мягко. Рядом посапывали подружки. Натянула на плечи стеганое ватное одеяло, угрелась, замерла… «А чего это мы? Ловили кого, что ли? Кого? И вообще, что там случилось? Вот дура, спросить-то позабыла».
В щели и дыры сарая заглядывало серое предутреннее небо, потом вдруг — Ксана даже удивилась — небо оказалось розовым. И вот шершавые старые жерди засветились позолотой… Частые полоски света косо легли на полу, на пышных ворохах сена. «Клетка золотая, — подумала Ксана, — будто в сказке… А я — жар-птица».
Длинный горячий луч пробрался сквозь жерди, сквозь сенную пыльцу, сенные развалы, коснулся Ксаниной щеки. Спала Ксана.
— Ты кашу солила?
— Да. А что?
— Я тоже.
— Трагедия. Соленая каша.
Взглянули друг на друга и фыркнули. Иришка осторожно попробовала кашу.
— Ой, она не только соленая, а еще и слоеная. Попробуйте! Слой соленый, слой сладкий, опять слой соленый. Чего это мы, девочки, а?
— Сдвиг по фазе, — пробормотала Люба. Она усиленно перемешивала ложкой манную кашу. — Психи, что ли? С вами не соскучишься. Такой каши не едала еще…
Девчонки завтракали за дощатым столиком во дворе. Из-за изгороди на них смотрела соседка Вера Степановна — краснолицая, рослая, с мелко завитыми седыми кудряшками.
— А вы не очень-то! — задорно крикнула соседка. — Подумаешь, каша такая-сякая. Ели всякую. Мой вот пенсионер сейчас тоже кашу будет есть. Родионыч! Зарядку кончай! На водные процедуры станови-ись!
Из-за угла появился Аким Родионыч, тощий старичок в майке и сатиновых тренировочных шароварах. На ходу он помахивал гантелями, острые лопатки ходили туда-сюда под новенькой голубой майкой.
— Каша готова, чего канителишься-то! Мойся, да за стол!
Она посторонилась, пропуская к умывальнику мужа. Мылся Аким Родионыч на веранде, боясь простуды. И пока мылся, Вера Степановна солдатом стояла у входа — полотенце через плечо, грудь вперед, правая рука придерживает ситцевую шторку. Каша дымилась на столе, рядом — витамины и коробочки с таблетками. С веранды доносился плеск воды, фырканье…
— В магазин свитера привезли, — между тем громко докладывала Вера Степановна. — Я так полагаю, взять для тебя один, зимой-то будет холодновато.
— Два возьми, — донеслось из-за занавески, — лыжным спортом займемся; зимой здесь, в сельской местности, красота-а! Это понимать надо!
Тут старческий голос задрожал, Родионыч закашлялся.
— Во! Я говорила — простынешь. А все: «Заря-адка, зарядка». Куда уж тебе! Сидел бы на печке, что ли. Говорила я.
— Цыц! Молчать! — тонким голосом прикрикнул Родионыч.
— Лежанку отремонтировала, — рапортовала Вера Степановна, — овчины там настлала, так что все к пенсионному отдыху готово. Знай грейся!
Она по-военному отступила на шаг, откинула штору. Во всей красе появился Родионыч: рубашка серая в клеточку, джинсы, на ногах — синие с белым кеды.
— Эва-а! — протянула Вера Степановна. — Вырядился-то! Или собрался куда?
— Там видно будет, — отмахнулся Родионыч, — а пока давай есть. Что там у тебя?..
Он вежливо поздоровался с девчатами и уселся за садовый стол завтракать.
Акима Родионыча местные прозвали «долгожителем». И не потому, что так уж стар, а потому, что Родионыч твердо решил прожить как можно дольше и отнюдь не скрывал этого. Для того и переселился сюда из города вместе с женой год тому назад, сразу после выхода на пенсию. Всю жизнь прослужил Аким Родионыч бухгалтером и всю жизнь мечтал поселиться где-нибудь на селе, к природе поближе, к лесу, к реке. Рыбку половить, здоровье поправить, а главное, спортом заняться на досуге… Никто из сотрудников и не подозревал, что в хилом старичке бухгалтере скрывается страстный спортсмен. Пока работал, все некогда было: то годовой отчет, то баланс, а то еще грипп или ангина. Сердце пошаливало. Словом, суета… Вторая страсть Акима Родионыча — музыка. Любил музыку послушать, любил и сам посидеть где-нибудь на лавочке с гитарой. Или с балалайкой. А здесь, на воздухе-то, все так прекрасно звучит! На природе-то! Да вот беда, инструментов нет. Гитару с балалайкой в городе у сына оставил. Обещал сын привезти, да вот не едет что-то, задерживается…
— Чай с молоком будешь или так? — спросила Вера Степановна.
— Так.
— Все так да так… Молоко пить должен, что врач-то говорил? Девочки, скажите там Прасковье, чтобы вечерошнего нам оставила. Литр.
— Пол-литра, — возразил «долгожитель».
— А я сказала — литр! Я тебя заставлю молоко пить! Ты у меня не отделаешься!
«Долгожитель» промолчал, отхлебывая горячий крепкий чаек.
— Так и скажите хозяйке, литр, мол, — повторила Вера Степановна.
— Ладно, — отозвалась Ксана, — передадим обязательно.
— А вы чего это с утра за кашу? В столовой или не варят? Сейчас ведь в столовку пойдете.
— А-а! Столовка, — засмеялась Иришка, — в столовке потом водички попьем. После этой столовки еще голоднее, чем были.
— Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой! — сказала Ксана.
Вера Степановна стояла за изгородью, — мощный торс, облаченный в голубое в белых яблоках платье, голова склонена набок — заинтересованно слушала.
— Ишь ты. Плохо кормят, значит. А должны кормить хорошо. Ребятишек-то как не стыдно.
— Там ведь не только мы, там и совхозные рабочие питаются, — сказала Люба.
— Ну, рабочим-то невелика беда. У них все свое… А и те, слыхать, жаловались: с собой на работу кусок тащи. Куда это годится!
— А вот я хочу спросить вас, молодые барышни, — вкрадчиво обратился Аким Родионыч. — Сардины в столовой бывают или нет? Знаете, этакие коробочки длинные, сардины. Знаете, наверно?
— Эва чего захотел. Сардины. — Вера Степановна звучно шлепнула себя по бокам. — Ты, Родионыч, скажешь! Сардинами их будут кормить! Чего другого придумал бы, а то — сардины!
И раздосадованная Вера Степановна ушла на веранду.
Люба протерла полотенцем последнюю чашку, поставила ее в ряд с остальными, покачала головой:
— Килька в томатном соусе бывает. В буфете. Сардин что-то не заметила. — Она сосредоточенно шмыгнула носом.
— Килька? — живо отозвался Родионыч. — Это маленькие круглые такие?
— Да килька же, — удивилась Люба, — рыбешка в томате!
— Тара, тара меня интересует, — нетерпеливо потирая руки, пояснил Родионыч. — Баночки то есть.
— Баночки? — удивилась Люба.
— Ой, девчата, опаздываем! — Иришка вскочила, отряхнула свои коротенькие потертые брючки, наскоро расправила бантики у висков, помчалась к калитке.
— Тара обыкновенная, — ответила на ходу Ксана, — маленькая, жестяная!
— Круглая, — серьезно добавила Люба.
Калитка за девчатами захлопнулась.
— Эх, незадача! — бормотал Родионыч, усаживаясь на ступеньку крыльца. — Круглая! Не годится. Никуда не годится. Дрянь дело. Дело дрянь…
Он посидел еще немного, потом поднялся, захватил свою можжевеловую, чисто обструганную палку, снял с забора продовольственную сумку — Вера Степановна сушила ее после мытья — и вышел со двора.
А грядки оказались длинные — конца не видать. До самого горизонта протянулись четкие параллельные борозды, испещренные нежно-зелеными слабыми листками капусты и пышными цветущими кустами сорняков. Каждая девочка получила по такой грядке.
— Ничего, к полдню управитесь как миленькие, — говорила Прасковья Семеновна, она была тут бригадиром. — Спины-то молодые, чисто резиновые, не то что у нас, пожилых.
Но какое там к полудню, и к вечеру-то управиться мудрено. Солнце жгло, сорняки злые, колючие, с цепкими извилистыми корнями. Выдернуть такой куст непросто. Ксана ухватывала жесткий жилистый пучок обеими руками, изо всей силы дергала. Зеленая верхушка обрывалась, а корни оставались в земле. Ксана копалась в земле, нащупывала спутанную проволоку корней. Ситцевая кофтенка прилипала к потным лопаткам, расстегнутые полы трепыхались на жарком ветру, и издали Ксана похожа была на суматошную, взъерошенную птицу.
То и дело выпрямлялась, окидывала взглядом поле, где трудился весь девятый «Б», за исключением уехавших на сенокос ребят, — отстать боялась. Но девчонки были все тут, рядом, растянулись неровной шеренгой поперек поля. Только Люба Смолякова ушла далеко вперед, почти тетю Пашу догнала. «Сильная все-таки Любка, — думала Ксана. — И работать умеет. Вообще она такая. Молчаливая. Молчит-молчит, а как уж возьмется, только держись…» Поискала глазами Иришку. Иришка явно не справлялась. Видно было, как она суетилась где-то в самом начале борозды, торопливо рвала траву, разбрасывала, потом собирала, вспомнив, что тетя Паша наказывала в кучи складывать сорняк. «Старается, а толку нет», — решила Ксана. Сама она не то чтобы устала, ее просто разломило всю, спина ныла, лицо горело, глаза щипало от пота. «Ну и работенка! И как только люди могут… Да это, наверное, самый тяжелый труд!» К полудню не добрались и до середины борозды. Работа подвигалась все медленнее.
— Шабаш, девки! — крикнула наконец тетя Паша.
Все собрались у края поля, в тени ивняка. Рядом, в неглубоком овраге, струился ручей. Совсем мелкий, с желтым песчаным дном, а все-таки ручей. Вода! Девчата спустились в овраг, бродили по щиколотку в воде, умывались, многим хотелось напиться, но тетя Паша не велела.
— Вы что, девки, надумали?! А ну, выходи из воды. Не для чего. Там на взгорке вон стадо пасут, овцы весь ручей ископытили. Экую грязь пить.
Достала из кустов большой молочный бидон, обернутый влажной тряпицей, пару кружек эмалированных. Ксана своей очереди не дождалась, напилась молока прямо из бидонной крышки. Прохладно, вкусно, слегка припахивает жестью. Крышка вся в мелких капельках испарины.
— Работницы тоже, — рассуждала тетя Паша. — Из вас одна только Любаша и годится. Жидкие нынче девки пошли. Я-то, бывало, девчонкой… Эх, чего там! Телегу, бывало, ворочала, не то что… Да ты пей еще, Любаш! Не хочешь? Зря. Молоко свежее. Пейте, девчата, не стесняйтесь.
Тетя Паша стянула с головы розовый ситцевый платок, стала обмахивать распаренное лицо. Усмешливо покосилась на Любу.
— Добрая невестка выйдет. А что, Любаш, сын из армии вернется — пойдешь в невестки, а? Во зажили бы. Верно говорю!
Девочки дружно захохотали, а Иришка, та даже повалилась на траву и ногами задрыгала.
— Не теряйся, Смолякова, жми!
— Пользуйся случаем!
— Да, пользуйся, такой случай когда еще будет!
— Везет Смоляковой!
Люба молчала, ожесточенно терла песком опустевший молочный бидон. А лицо злое, неприступное. Она всегда такая, если задевать начнут. А пошучивали над Любой часто. Считалось почему-то, что Смолякова самая некрасивая девчонка в классе. И самая неудачливая. Почему так считали девчонки, неизвестно, ничего в ней нет такого особенного. Девчонка как девчонка, человек как человек. И учится неплохо. Во всяком случае, получше некоторых… Разве вот рост. Выше Любы ни одной девочки в их классе нет. Да, пожалуй, и в других девятых тоже. Может, из-за этого над ней и потешались. Чуть что, начинается: «Берите пример со Смоляковой!» «Изящна, как Смолякова». «Смоляковой стремянки не надо, с верхней полки книги рукой достает». «Вон правофланговая чешет, становись в затылок, а-арш!..» А Ксана с ней дружила. С самого первого класса дружила, и не было у нее лучшей подруги, чем Люба. С Иришкой тоже дружила, но не так. Иришка насмешница, а Люба, та не подведет. Все у нее всерьез. Ксана устроилась на траве рядом с подругой, поговорить хотелось. И о том, что случилось этой ночью, хотелось рассказать, и вообще… Да нельзя. Дала слово, держись.
— Так пойдешь ко мне в невестки или нет? — не отставала тетя Паша. — Говорю, соглашайся, не пожалеешь!
— Теть Паш! А если муж бить ее будет, тогда как? — крикнула Иришка. — Ведь, кажется, в деревне жен бьют? Есть такой пережиток?
— Наша Смолякова сама дерется не хуже, — возразил кто-то. — Кому хочешь накостыляет!
— Отколошматит будь здоров!
— Ничего, Андрюша мой добрый, драться не будет, — смеялась тетя Паша.
Лицо у нее загорело и все в морщинах, а зубы белые, плотные. И в ушах серебряные серпы-серьги.
— Еще возьмет ли? — усомнилась Иришка.
Ей что-то надоело смеяться, сидела, расправляя свои бантики.
— Отчего не взять? — тетя Паша похлопала смущенную Любу по плечу. — Вон какая дивчина! Сам-то Андрюша у меня ростиком не вышел, так больно уж уважает высоких. Так уважает, так уважает!
— Да ну вас, тетя Паша!
Люба вывернулась из-под бригадиршиной руки, побежала к ручью бидон полоскать. За ней — Ксана. Вслед им несся дружный хохот. Вымыли бидон, улеглись в густой траве. Ручей журчал потихоньку, в кустах тенькали какие-то мелкие пичуги. Солнце припекало. Ксана закрыла глаза и сразу ощутила теплый ветерок у щеки, мягкую траву, и земля как будто покачивалась под ней. А ведь ночью было холодно… Звезды холодные, мокрые. Собаки лают. Изгородь. И этот Вандышев. Как он тогда сказал: «А ты молодец». Нет, не так. «А ты ничего, храбрая. Молодец». Ловили кого-то. Не поймали… Чудной все-таки Вандышев… В десять ноль-ноль, не забыть бы…
— Ксан, спишь, что ли? — подтолкнула ее подруга. — Зря. Спать хуже.
А голос злой. Переживает, ясно. И что это Прасковье Семеновне вздумалось… А Иришка-то! Туда же. Вообще девчонки всегда рады позабавиться на чужой счет…
— Люб, ты не обращай внимания. Пускай веселятся.
— Да ну их!
— Работать — так не умеет никто. А высмеивать-то каждый. Плюнь, и все тут. Не расстраивайся.
— Не видала — расстраиваться. Вот еще.
Помолчали.
— Люб. Ты случайно Вандышева не знаешь? — будто невзначай спросила Ксана. — Леню Вандышева из стройотряда.
— Из стройотряда? — удивилась Люба. — А что?
— Да так. — Ксана перевернулась на другой бок, к подруге спиной, притворно зевнула. — Просто слышу вчера — кто-то крикнул: «Вандышев, Ленька!» Вот я и подумала…
— Что подумала? — Люба искоса взглянула на подругу.
— Да ничего не подумала. Так, вспомнилось что-то…
Обе замолчали.
— Вандышев — это который блондин? Длинный такой? — вяло спросила Люба.
— Кажется… Впрочем, не знаю. Я ведь не видала его, откуда мне знать.
Люба встала, сердито посмотрела на подругу.
— Ну да! Сама первая заговорила, а теперь будто и не знаешь? Чего темнишь!
— Не темню, не темню! — заспорила было Ксана, но тут бригадирша позвала:
— Девки! За дело! А то до обеда всего ничего осталось!
Двинулись гурьбой, каждая к своей борозде, рассыпались по всему полю. Тетя Паша стала посередине, руки в бока, оглянула поле командирским взглядом, серьги-полумесяцы сверкнули, закачались.
— Ну-ка подравняйтесь, — приказала негромко, — а то не нравится мне. Что это, как горох, кто где. Давай отстающим помогай, чтобы вровень шли!
— Ну да! — закричали с дальних грядок. — Мы старались, выходит, зря мы старались!
— Может, нам поскорее закончить хочется, что же, за всех отвечать?
— Они не торопятся, как черепахи ползут, а нам-то надрываться зачем?! Что еще за новости!
— Что-о?! — прикрикнула бригадирша. — Гляди-ка, торопливые нашлись! У нас, деревенских, привычка такая — артелью с работы идем. С песнями. И чтобы никаких. У меня чтоб в струночку!
И сама пошла помогать Иришке. Ничего не поделаешь, многим пришлось вернуться назад, к отставшим. Люба перешла на Ксанину полосу, стали обрабатывать грядку с двух сторон.
— Спать хочется, — вздохнула Ксана, — прямо хоть тут же, на земле, заснула бы. Честное слово.
— Значит, плохо спалось, — усмехнулась Люба. — Мечты. Да ты признавайся лучше, что там с Вандышевым. Влюбилась, что ли?
— Спятила, Любка, — отмахнулась Ксана. — Говорю, спать хочется… Чего это ты? Придумала Вандышева какого-то…
— Как какого-то? Леню! — не отставала Люба. — Разве я придумала? А может, это ты придумала? Нет, скажем, он сам придумался. Вандышев Леня. Придумался, вот и все…
Ксана, низко пригнувшись, обеими руками выбирала сорняки. «Ну и Любка. Вот не ожидала. Сама виновата. Надо было молчать».
— Погоди, — остановила ее Люба. — Ты не так делаешь. Гляди: сначала надо крупные выдирать, затем уж и мелочь. Ее можно прямо горстями… Видишь? Гораздо быстрее.
— Ой, спина…
Ксана распрямилась, оглядела поле. Отстающие подтянулись, и теперь все девчата работали почти на одном уровне. Пестрая шеренга девушек вытянулась поперек поля.
Прасковья Семеновна взглянула из-под руки, стянула с головы платок, крепко встряхнула.
— Вот это по мне, — одобрительно сказала она. — Так-то душевнее, дочки. Все в струночку, одна к одной.
— Жарко, — пожаловалась Иришка, — работенка та еще!
— Работенка та, — согласилась тетя Паша. — Да нынче и дождя вдосыт, и тепла. Вот и сорняки, черт нагнал их… Ну, девушки, все. На сегодня кончаем, обедать — и отдыхать!
— Ура-а! — заголосили девчонки.
— А то и впрямь жарко, не сморило бы кого. Да смотрите у меня, после обеда отдыхать чтоб! Всем!..
Тетя Паша отряхнула передник, приосанилась.
— А теперь песню! Чтобы полегчало. В наших краях так говорят: «Громче поешь — спине легче». Давай, Ирина, заводи.
Запели было «Подмосковные вечера», да скоро хор разладился. Угасла песня. Побрели молча.
— Тетя Паш, — неожиданно сказала Ксана, — а почему это так, дождя много, солнца много, а растет так здорово один сорняк? Ведь тогда и капуста расти должна? Раз и солнце и дождь? Должна ведь, а?
— Ну, должна, — согласилась бригадирша.
— А что же тогда капуста? Листики маленькие, хилые, смотреть не на что.
— Она еще вымахает, капуста-то, — хмуро возразила тетя Паша.
— Отчего же не вымахала? — не отставала Ксана.
— А так. — Бригадирша усмехнулась. — Не вымахала, и все тут. Поди поспорь с ней.
— С агротехникой плохо, что ли?
— Эк куда махнула. Агротехника! — Тут тетя Паша, кажется, даже рассердилась. — Агротехника, слово-то знаете! А зато не знаете, в жизни-то как.
— А как?
— Как, как. Что быстрее растет, хорошее или плохое? Вот вам загадка.
— Плохое, конечно, — мрачно согласилась Люба.
— То-то и оно. Хорошее-то и сеем и поливаем. Уж растим-растим, всей артелью стараемся. Росточки-то когда еще пойдут, и то, глядишь, где росточек, а где и плешь. А уж сорняки-то, плохое-то! Лес дремучий, право, лес дремучий. А вы захотели, чтобы сорняк слабенький. Эх вы!
Девочки засмеялись.
— Философ наша Прасковья Семеновна!
— Это что-то новое. Новое в капустоведении!
— А сорняки почем знают, что они сорняки?
— А знали бы, так потише бы росли?
— Со стыда бы подохли!
С шумом и хохотом протискались в столовую. Там уже набралось порядочно народу: трактористы, шоферы, за столом у самых дверей примостилось несколько женщин. Расстелили на столе чистые тряпицы, на них — хлеб, лук зеленый, бутыль молока. Низко нагнувшись над тарелками, хлебали суп, чинно помалкивали. Тетя Паша мигом отыскала подходящий стол. Самый длинный и поближе к окошечку, откуда пищу выдают.
— Эй, Гордеич, и ты, Митяй, переселяйтесь, — скомандовала тетя Паша. — Не видите, смена пришла. Помощницы мои золотые…
— А мы что, мешаем? Мы ничего. — Рябой Гордеич миролюбиво подвинулся на самый край скамьи.
— Не-е. Сказано, переселяйтесь. Вон к Николаю. Николай расселся, барин будто. Вон и пивка раздобыл, ишь прыткий! Нам и без вас поместиться бы впору. Бригада!
— Да мы ничего вроде…
— Бригаду приветствуем!
Пришлось пастуху Гордеичу вместе с Митяем перейти за другой стол.
— Ну, девки, вытирайте столешницу. Чего ждать. — Тетя Паша подошла к окошку, крикнула: — «Эй, Сысоев! Подавай. Значит, семнадцать обедиков, я восемнадцатая!
Она заглянула внутрь.
— Чего сегодня? Трикаш или тригуляш?
По столовой пробежал смешок… Дело в том, что меню в столовой не отличалось разнообразием. На второе повар готовил всего два блюда: или кашу, или гуляш. Чаще все-таки кашу перловую. Третьего блюда не полагалось.
В окошке замаячила круглоголовая короткорукая фигура повара. Сысоев выбросил на прилавок три тарелки с кашей.
— Три-каш! — возвестил он. — Кому?
Подошел парень, свалил все три каши на одну тарелку, понес.
— Куча мала! — пробасил парень.
Повар бухнул на прилавок еще четыре тарелки.
— Чтырь-каш! Забирай!
Утирая рот платочком, подошла женщина, забрала каши.
— Э-эх, ты! — Прасковья Семеновна укоризненно покачала головой. — Трикаш, двакаш… — Сысоев ты, Сысоев, смысла нет в тебе. С такой работы кашей сыт не будешь. Доходит до тебя или нет? Ужо вот директор-то приедет, поговорю с ним. Ей-богу, поговорю…
Повар на это ничего не сказал, сжал и без того маленький рот, исчез. На его месте появилась судомойка Лизавета.
— Чего там?
— Чего, чего! Восемнадцать первых подавай, чего!
Судомойка покосилась на девчачий стол быстрыми узкими глазами.
— Подождете. Посуды нет.
— А ты поживее поворачивайся, тарелок грязных навалом! Да и знать должна — люди придут.
Тетя Паша начала сердиться не на шутку:
— Да я с тобой и разговаривать-то не хочу, подавай мне благоверного твоего, Сысоева! Чего он смылся-то?! Чтобы сейчас мне восемнадцать обедов на стол! Ждать не желаю!
Тетя Паша крепко стукнула кулаком по прилавку. Широкое желтоватое лицо судомойки качнулось в окошке, подбритые в ниточку брови скривились.
— Ты чего это галдишь, чего ты галдишь?
Быстренько возник Сысоев с горой тарелок на подносе.
— Лизавета, отойди… А ну, забирай перь-р-вое! Раз — кулеш, два — кулеш, три — кулеш…
Иришка с Любой подошли, стали принимать тарелки, относить на стол.
— Вот наконец-то появляются первые ростки хорошего, — рассмеялась Ксана.
— Поздновато, поздновато, — весело зашумели девчата. — У нас уж животы подвело.
Иришка попробовала суп, поморщилась.
— Весьма слабые ростки. Солнца, что ли, не хватило?
— Зато воды хоть отбавляй, — проворчала Люба, — целое наводнение, вот что.
Все рассмеялись.
— Ничего, девки, — утешила тетя Паша, — завтра воскресенье, оладьями всех накормлю. Пораньше приходите, довольны будете. Всей гурьбой приходите ко мне.
Дома подруги умылись, переоделись в чистое и хотели было немедленно завалиться на сеновале, как вдруг услыхали истошные вопли.
Все три разом выскочили на крыльцо, прислушались. Вопли неслись с соседнего двора. Кинулись туда. Веры Степановны дома не оказалось, а кричали в сарае за огородом. У Ксаны даже поджилки затряслись, так жалостно кто-то там стонал и подвывал. Иришка бежала вся бледная… Люба решительным движением распахнула ворота сарая. Весь пол был засыпан колотыми дровами, а высоко под потолком, судорожно вцепившись руками в металлическую перекладину, висел «долгожитель» Аким Родионыч в белых трусах и майке. На плече у него растопорщился большой огненно-оранжевый петух. Петух подскакивал и клевал Родионыча в макушку, Родионыч охал, болтал ногами в воздухе, тощие бледные руки напряглись, натянулись — вот-вот сорвется… Девочки остолбенели.
— Ну и ну! — проговорила наконец Люба.
— Ой! Что это с вами, Аким Родионыч? — взвизгнула Иришка. — Спускайтесь скорее, что вы?
У Ксаны язык к гортани присох.
— Ничего особенного, — фальцетом зачастил Аким Родионыч, — занятия! На турнике… Занятия на турнике!
— Вы спускайтесь! — кричали девчата.
— Накладочка получилась. Как спускаться? Влез-то сюда по дровам, а поленница, видите, рассыпалась. Ногой задел, рассыпалась, окаянная… Ой-ой!
— Бежим за стремянкой! — кинулась было Иришка.
Но тут Родионыч отчаянно задергал ногами, взмахнул рукой, пытаясь столкнуть петуха. На одной руке не удержался и с грохотом сверзился вниз. Девочки подбежали, стали поднимать незадачливого спортсмена.
— Ничего, ничего, — бодрился Родионыч, — первое боевое крещение, так сказать… Первый блин комом…
Прихрамывая, пошел в угол сарая отыскивать рубашку и брюки. Сверху, нахохлившись, глядел на него петух. Родионыч на ходу погрозил петуху кулаком.
— Слишком уж высоко, Аким Родионыч, — укоризненно заговорила Иришка. — Сами понимаете, разве бывают такие турники?
— А это, видите ли, для просушки рыбы, — словоохотливо объяснял Родионыч. — Ничего, придется переделать в соответствии, э-э… с существующими нормами. И этого… — он еще раз погрозил петуху, — головореза сейчас же вон! Вон! Тут тебе не курятник!
Петух наверху сварливо заклекотал, захлопал крыльями.
Родионыч просил не рассказывать ничего супруге. Девчата обещали. А добежав до своего сеновала, разразились хохотом. Смеялись долго, и даже после того, как забрались к себе наверх и растянулись на мягком душистом сене.
— Отдохнешь тут, — хмуро проговорила Люба, и все снова захохотали.
— Ой, Любка, молчи уж лучше, — взмолилась Иришка, — а то лопнем тут из-за тебя! Со смеху лопнем!
— А чего я такого сказала? Конечно, не отдохнешь. Там этот Сысоев со своими «трикашами», не успеешь очухаться — тут Родионыч, спортсмен олимпийский…
— Ох, замолчи, Любка, — смеялись Ксана с Иришкой, — уморишь ведь!
— Да ну вас, — недовольно буркнула Люба. — Что толку лежать, я, пожалуй, пойду искупаюсь. Кто со мной?
Ни той, ни другой не хотелось двигаться.
Девушки лежали в душистой прохладной тени, сквозь щелястые стены дул мягкий озерный ветерок. И не заметила Ксана, как задремала, а когда проснулась, был уже вечер. Взглянула на часы — около восьми. Вспомнила — встреча с Вандышевым в десять ноль-ноль. Можно еще чуточку поваляться, потом — к тете Паше чай пить, а потом… «Снова ночь целую сидеть на заборе, неизвестно только зачем. Мог бы он все-таки и объяснить, этот прекрасный Леня. Не счел… А если я возьму да и обижусь? Об этом он не подумал». Издалека слабо доносились звуки радиолы, музыка, пение.
— Гляди-ка, — завистливо сказала Люба, — студенты дрозда дают. Веселятся. А у нас тут скучища. Спать ложимся засветло.
— Ой, девочки, — перебила Иришка, — там танцы каждый вечер. Мне одна здешняя девчонка сказала: все деревенские ходят в лагерь. Вот бы и нам! Там и кино бывает.
— Уж и кино! — отозвалась Люба.
— Эта девчонка говорила, на той неделе что-то с участием Чаплина крутили. Старую какую-то ленту.
— Почему бы и нам не пойти? — Ксана приподнялась на локте, поглядела сквозь щель на улицу.
Вечер был теплый, тихий, по небу, еще светлому, подсвеченному розовым закатом, плыл тонкий месяц. Со стороны лагеря временами слышались отдаленные голоса, смех. Но вот совсем близко заиграла музыка. Тихое, кроткое позвякивание. Будто кто-то осторожно пощипывал струну, потом, разойдясь, давал мелодии волю. Звучало то глухо, деревянно, то нежным серебристым тремоло.
— Что это? — удивилась Ксана. — На гитару непохоже, цимбальчик, что ли?
— Ой, да Родионыч же! — засмеялась Иришка. — Конечно, он!
— Даешь, — не поверила Люба.
— Он, он. Я раз даже видела; сидит и на какой-то штуковине наигрывает. Не поняла только на чем. Маленькая такая, вроде игрушечной, мандолина, что ли, или балалайка. Вера Степановна сказала — сам смастерил.
— Гляди-ка, отдышался, значит, — Люба хмыкнула. — Я думала, рассыпался по косточкам пенсионер, все, конец. А он еще ничего, дышит!
Молча полежали еще.
— Чаю хочется, — Иришка потянулась, зевнула. — Встали, девочки, а?
Одна за другой спустились. Уже стемнело. В палисаднике пахло душистым табаком, окна в доме не светились. Значит, тетя Паша ушла куда-нибудь или отдыхает. Подруги присели на лавочку у калитки, стали ждать… Мимо палисадника торопливо прошли две девушки в брюках и нарядных блузках, их оживленные голоса еще долго слышались в темноте.
— В кино пошли, — позавидовала Иришка, — на танцы.
— Давайте завтра и мы, — предложила Ксана.
— Как же. Тетя Паша пустит, как же…
— А я удеру. Возьму вот и удеру, — сказала Люба, — что я, привязанная?
В конце улицы вдруг зашумели подростки, ударили сразу в несколько гитар, двинулись гурьбой вдоль палисадников. Девушки прислушались, пытаясь разобрать слова, но это был просто беспорядочный галдеж, выделялись, правда, иногда выкрики: «любимая», «любовь», «навсегда» и что-то еще в этом роде.
— Нахалы, — Иришка вздохнула, — вот нахалы! А ведь воображают, что поют.
— Малышня расквакалась, — презрительно отозвалась Люба.
У озера кто-то пронзительно свистнул, помигал электрическим фонариком. В ответ фонарики замигали там и тут — мальчишки собирались на какое-то ночное озорство.
Мимо бесшумно пронесся велосипед, за ним второй. Легко звякнули спицы. Вот и третий, вдогонку. Шорох шин по дорожке, жаркое дыхание погони…
— Носятся как черти, — недовольно заметила Люба, — того и гляди собьют кого. В темноте, да без фары. Надо же!
— Сбивать-то некого. — Иришка зевнула, потянулась лениво. — Прохожие сами за три версты разбегаются, ведь слышно… Еще бы, в такой тишине. Да и где они, прохожие? Давно на печках спят. Деревня!
В самом конце деревни, где улицу густо обступали сосны, ярко засветились вдруг фары. Засветились и погасли. Машина шла в обход деревни, задами. Легонько журчал мотор.
— Во, — кивнула Люба, — а вы говорите. Молчали бы уж лучше…
Девочки вгляделись: за огородами мелькали очертания небольшого фургона. Будто крадучись, машина обогнула деревню.
— Наверное, продукты подвезли… — снова зевнула Иришка. — Ой, девочки, — вдруг оживилась она, — а почему это продукты всегда ночью? На той неделе, помните? Еще за картошкой с Прасковьей Семеновной ходили, тоже эта машина стояла. Темно, а они выгружаются. Сысоев, Лизавета, еще какой-то тип в кепке.
— Шофер, — подтвердила Люба. — Я еще помню, как он их поторапливал. Все «живо» да «живо». Слабонервный…
Хлопнула калитка, это наконец явилась тетя Паша. Оказывается, задержалась в правлении. В доме зажгли свет, поставили самовар. Пили чай со сладкими ватрушками. А кипяток в самоваре был особенный: чуть желтоватый и слегка припахивал тиной. Чай пили из ярких расписных чашек. Никогда еще Ксана не пивала такого вкусного чая. Самовар фырчал, пар тонкими струйками вырывался из-под крышки, Прасковья Семеновна наливала чашку за чашкой, приговаривала:
— А вот наш деревенский чаек-то, веселенький наш. Зимой — сугрев, летом — прохлаждение, и всем-то одно удовольствие. И старым и малым. Из озерной водицы, мятной, травяной. Пейте на здоровье, девушки!
Иришка с Любой все-таки сбежали на танцы. Чтобы тетя Паша не хватилась, сеновал на щеколду заперли изнутри. Дело нехитрое, стоит просунуть руку между жердями, щеколда тут как тут… Когда Ксана, запыхавшись, примчалась к озеру, Вандышев уже был там. Взглянул на светящийся циферблат, заметил сухо:
— Двадцать два десять.
Ксана промолчала. Не станешь же тут рассказывать, как торопилась, как нервничала, пока чай попивали, чашки перемывали, беседовали. Да еще пришлось обмануть девчат, сказать, будто она собирается сегодня ночевать в избе, там теплее. Хорошо еще, догадалась соврать вовремя. А то прибегут с танцев, а ее нет.
— Пошли, — шепнул Вандышев.
И Ксана заторопилась за ним, вернее, за его длинной зыбкой тенью. Тень скользила по светлой от месяца траве, Ксана догоняла, силилась наступить, но тень вырывалась вперед, была недосягаема. А по сторонам — высокие темные кусты, изгородь, бани, снова кусты… Вот и проулок между заборами. Тот самый, знакомый.
— Стоп. Отдохнем.
Ксана молча прислонилась к забору. И пока он устанавливал в траве свой передатчик, чутко прислушивалась. Вот будет номер, если их обоих застукают здесь, в темноте. Кто? Неважно. Хотя бы тебя Паша. Что тут скажешь? Все равно она не сумеет толком объяснить ничего. Потому что и сама не знает… И Ксана потихоньку начала злиться… «Снова сидеть здесь целую ночь. А зачем? Не мешало бы ему все же рассказать, в чем тут дело. Ну, хотя бы намеком. Словом, что-нибудь должна она все-таки знать. А то распоряжается, подумаешь, начальник».
Вандышев подошел, близко наклонился к ней.
— Ты как, в форме сегодня? Хоть немного-то спала?
— В форме, — резко ответила Ксана.
— Эге-ге, — насмешливо протянул Вандышев. — Нам, кажется, хочется домой, баиньки!
Ксана испугалась: не прогнал бы.
— Ничего подобного!
— Да? На всякий случай имей в виду, сегодня замена у меня найдется.
— Нет, а все-таки должна я знать? — шепотом заспорила Ксана. — Кого ловим, за что, могу я все-таки знать?
Вандышев молчал. Лицо его казалось темным, только глаза светились совсем близко, широкие, неподвижные.
— А знаешь, бывает и так, — ответил наконец он. — После узнаешь. Бывает.
Он сдержанно улыбнулся, кивнул, заправил за ухо длинную прядь волос.
— Теперь будь особенно внимательна.
— Да?
— Первое, слушай в оба. Второе, смотри в оба. Третье… — Он замялся. — Третье. Значит, не высовывайся. Возможно, будет жарко… В общем, если зашумят… Замри.
— Драка? Брать будем? — оживилась Ксана. — А как у тебя с оружием?
Вандышев фыркнул, тут же зажал себе ладонью рот, оглянулся.
— Ну ты и сильна! Оружие! Ха-ха. Маленькая, а понимает.
Он посерьезнел.
— Ну, все. Летучка кончена. Полезай. Инструкцию помнишь?
— Помню, — шепнула Ксана уже сверху.
Широкий двор внизу белел под месяцем, белели крыши, изгороди, вся деревня будто мелом посыпана. Ксане представилось вдруг, как она сама-то выглядит сейчас: белая фигурка на заборе. Смешно и нелепо. Да и опасно, вся на виду. Пригнулась, обняла руками столб, может, так незаметнее. С нетерпением вглядывалась в зарешеченные черные окошки, хотелось, чтобы все произошло поскорее, чтобы уже сейчас…
Как и вчера, Вандышев кому-то сообщил, что «операция началась», словом, все происходило будто в точности, как и вчера. И все же это была другая, совсем непохожая ночь. И кузнечики стрекотали по-особому, жарко, оглушительно; показалось Ксане, что весь мир заполнен сегодня кузнечиками, что обступают они со всех сторон. Или это звезды вместе с ними стрекочут? Хор звезд. Ксана взглянула на небо. Западный край темнел, ширилось черное полотнище, росло. Звезды убегали от него, сухие, яркие. Широко полыхнуло теплым ветром. «Душно. Зря только стеганку надела. Сиди вот теперь». В соседнем дворе скрипнул колодезный журавель, стукнула крышка. Ксана насторожилась… Ничего. Воду кто-то брал. «И ночью, значит, за водой ходят. Бывает». Что-то звякнуло в углу двора. Или показалось? Ксана изо всех сил всматривалась, но уже совсем стемнело, даже белой дорожки от крыльца до калитки не видать. «Да, обстановочка… В такой темноте слон мимо пройдет, и то не заметишь».
— Не спишь? — окликнул Вандышев.
— Нет.
«Сам не усни смотри, — подумала Ксана. — На траве-то мягко. Здесь, на заборе, не захрапишь… Только скучно. Надоело. Что толку сидеть, все равно ничего не случится. Как вчера. А если ничего не выйдет, неужели и завтра сидеть тут? Ой! Нет уж, спасибо… Впрочем, интересно все же, чем это кончится…» На улице зашумели веселые голоса. Кто-то напевал, кто-то бренчал на гитаре. «Из кино, видно, возвращаются. Значит, Ирка и Люба сейчас домой придут, залягут. Расскажут завтра, что за фильм». И снова все стихло. Внезапно по краю неба полыхнуло оранжевым. Вспыхнуло бесшумно и погасло. И тут же налетел упругий теплый ветер, зашумел в тополевых верхушках.
Ксана сидела тихо, смотрела, как угольно-красный месяц нырял в тучах, и почему-то думала о доме. Цветастая штора в ее комнатке, диван, книжные полки… Подойдешь к окну, а там ничего, только светящиеся клетки-окна. Желтые, голубые, розоватые. В каждом — своя лампа, свой цвет, своя жизнь. И все. Так много и так мало. «Вот если бы я не оказалась сейчас в деревне, да еще случайно — на этом самом заборе, пожалуй, За все шестнадцать лет жизни мне и вспомнить было бы нечего. Нет, конечно, школа, подруги. Ну, еще праздники. Театр. Зато ни тополей, ни неба! И как на земле все интересно, и как быстро меняется погода… Здесь понимать начинаешь, что к чему. А там сидела бы в своей комнатке, и только. Учебники читаешь, книги. Книги — для развлечения, учебники — чтобы отметку получить. А про главное забываешь. А что такое главное? Может быть, главное, это и есть — все видеть, и людей и природу, все перед своими глазами иметь, и понимать, что к чему? А не просто так. Не просто так — жить как живется… Об этом подумать надо. Может, и профессию подобрать какую-нибудь такую. Чтобы поехать куда-нибудь, чтобы не в городе… А мама что скажет? Родителям, конечно, это не понравится. Да жить-то ведь все-таки мне. Мне, значит, и решать»… Еле слышный звук прервал ее размышления, и вдруг она поняла, что окошко и дверной проем освещены и что на крыльце кто-то стоит.
— Ой, Леня! На крыльце…
— Кто?
И тут же тихое:
— Внимание, приготовьсь…
Грузная фигура постояла еще немного, потом дверь закрылась, ступени тяжело заскрипели.
— По дорожке идет. Не вижу только кто.
— Направление?
— К калитке.
Вандышев уже приглушенно бубнил в передатчик:
— Третий, четвертый, пятый. Выходить на объект. Повторяю: третий, четвертый, пятый…
Зарешеченное окошко погасло, и теперь только по звуку шагов Ксана могла определить, в каком направлении движется человек.
Скрипнула калитка… И одновременно что-то лязгнуло, обрушилось, будто груда жести. Но это совсем в другом углу двора, там, где вчера она заметила наваленные пустые ящики. Сейчас, в темноте, не разобрать, что там такое…
— Леня! Справа, слышишь? Справа, говорю! Шумят.
Вандышев не отвечал. Холодок пробежал по Ксаниной спине. Спрыгнула с забора, нагнулась. Рация валялась в траве, рядом — футляр с батареями. Вандышева не было. Мгновенно вспомнилось: «Не высовывайся, возможно, будет жарко!» Она прислушалась: через двор кто-то бежал. Слышно было тяжелое дыхание, жестяное звяканье, топот. Мигом взобралась Ксана на свое место. Кто-то там метался по двору, видно, выхода искал. Потом юркнул за кучу пустых ящиков… В соседнем дворе давно уже исходил истошным лаем пес, другие собаки поддали жару, лай несся со всех сторон.
— Стой! — закричал кто-то на улице. — Стой!
Ксана соскочила вниз, понеслась вдоль забора. Вот и улица… Еле виднеются избы в предрассветном молочном тумане, дорога белеет. Наискосок через дорогу, пригнувшись под тяжестью мешка, поспешает кто-то. Женщина. В стеганке, голова закутана шерстяным платком.
Навстречу ей бросаются двое: Вандышев и незнакомый парень.
— Стой! — кричит Вандышев. — Стой!
Но та как будто не слышит, топает себе мимо.
За спиной резко хлопнула калитка. Ксана обернулась: из калитки выбежал приземистый человек с тяжелой жердиной в руках. Перемахнул через канаву — и бегом к Вандышеву. Ксана взвизгнула:
— Леня! Обернись!
И закрыла лицо ладонями… Когда отдернула ладони, увидела, как тот орудует своей жердиной: жердь вращалась как заведенная. Незнакомый парень изловчился, ухватил было другой конец жерди, не повезло, упустил. Тут же получил гулкий удар по спине.
Долговязый Вандышев подскочил, цепко схватил того за кисть, с силой вывернул локоть. Тот коротко взвыл, выпустил жердь, повалился…
Тут только заметила Ксана, что женщина с мешком уже далеко. И как раз собирается свернуть в один из прогонов… Со всех ног Ксана кинулась вдогонку. По улице с двух сторон бегут: справа тот самый, но без дубины, за ним — Вандышев, а слева — участковый Гуськов и еще двое.
Не раздумывая, Ксана бросилась между заборами. Неужели успела перелезть куда-нибудь, спрятаться?!. Ушла! Не может быть!.. Слева, у забора, высокий кустарник. Если не ушла, то там. Где же еще?..
Ксана подбежала. Так и есть: прижалась к забору, лицо до самых глаз платком замотано, глаза — злые блестящие щели. Зашипела:
— Ах ты, змея рогатая… Чего тебе надо?! Отзынь, говорю. Чтоб тебе сдохнуть!
Она замахнулась на Ксану, но подбежал тот самый, только без жерди. Увидел тетку, забормотал:
— Дура! Мешок брось, говорю, дура!
Тетка суетливо стала выпутываться из лямок, мешок шлепнулся на траву.
— Стой! Стой!
Подбежал участковый Гуськов, за ним Вандышев и еще двое парней.
— Ну, здоровы бегать, — усмехнулся участковый. — Мешочек-то подберите.
— Мешок не мой! — взвизгнула тетка.
— А чей же?
— Я почем знаю! Иду, гляжу — лежит!
— Так. А вы, гражданин Сысоев, куда бежали? И дрались зачем?
Тут только узнала Ксана повара Сысоева. Ну и ну!
Повар собрал губы, причмокнул огорченно:
— Думал, женщину грабят, ну и…
Он замолчал, покосился на тетку, снова причмокнул.
— Да это же Лизавета, жена его.
— А от нас бегали зачем? — спросил участковый.
— Думал, хулиганы какие…
— Что же, составим протокол, — участковый пнул носком сапога раздутый мешок. — Тут же, на месте, и мешочек вскроем.
Он вынул блокнот, кивнул одному из парней.
— Давай, Дима, действуй.
Парень подтянул к себе мешок, резанул ножом по бечевке, мешок скособочился, и на траву выпала мороженая куриная тушка.
— Номер один, — усмехнулся Вандышев. — Дима, открывай счет.
Парень вынимал одну курицу за другой…
Вандышев подошел, встал рядом с Ксаной.
— Устала? — Он положил ей руку на плечо.
— Я? Нет. Совсем не устала!
Она подняла к нему лицо, разглядела сразу все: спутанные длинные волосы, нос длинный и какой-то серьезный, насмешливые серые глаза. На щеке царапина страшнющая, ворот разорван так, что рубаха надвое распадается.
— Здорово попало? — участливо спросила она.
— Мне? Нет. Совсем нездорово.
Оба рассмеялись. Вандышев похлопал ее по плечу, качнул легонько, обнял, притянул к своему боку. Бок был костлявый, но Ксана, уж так и быть, вытерпела.
— Шла бы ты домой, — сказал Вандышев.
— А рация? Рация ведь там валяется.
— Верно. Я сам за ней схожу…
Парень запихал куриные тушки обратно в мешок, туго затянул бечевку.
— Вот, Сысоев, ты и попался. — Участковый вздохнул с облегчением. — Давно на тебя смотрю, да ведь непойманный не вор? А теперь вот взяли с поличным. Что, не ждал?
Сысоев скосил глаза в сторону, молчал, переминался. Парень вытянулся перед участковым, отрапортовал:
— Товарищ лейтенант! Докладываю: операция по поимке расхитителей народного добра повара Сысоева и его жены Сысоевой Елизаветы успешно завершена. В мешке обнаружено: кур — двадцать одна, бараньих окороков — четыре, индеек — две штуки.
Парень щелкнул каблуками, отступил.
— Спасибо, ребята, — участковый пожал всем руки. — Еще что обыск покажет. На квартире немало интересного найдем, не сомневаюсь.
Судомойка Лизавета взвыла в голос, но тут же прихлопнула ладонью свой рот.
— Пошли, — скомандовал участковый.
Процессия двинулась по улице. Уже выгнали коров, пастух щелкал кнутом. Женщины с ведрами на коромыслах оборачивались, громко переговаривались. Ксана шла рядом с Вандышевым.
— Ну, куда ты? — усмехнулся он. — Говорю, иди спать!
— Вот еще! — заупрямилась Ксана. — Как на заборе сидеть, мерзнуть, так мне, кому же еще. А как самое интересное, сразу «иди спать».
— Маленьким надо спать. — Вандышев шутливо потянул ее за косичку.
Ксана отстранилась.
— Я не маленькая. И вообще вам без меня не обойтись. Я свидетельница. Вот, например, Лизавета говорит, что мешок на дороге нашла. А я видела, как она с этим мешком из дому вышла. Вот.
— Ну, положим, что она с этим мешком из дому вышла, мы все тоже знаем.
— А откуда? Откуда?
— А как же. Из сообщения нашего первого номера, того самого, что на заборе сидел, наблюдал, а после храбро преследовал преступников.
И все вокруг рассмеялись. Не смеялся один только лейтенант Гуськов. Обернулся, строго взглянул на Ксану.
— Так она и была «первым»? — спросил он Вандышева.
— Она.
Участковый укоризненно покачал головой:
— Ну и ну. Ребенка на такое дело брать… За это, знаешь ли, не похвалят.
— Этот, ребенок тот еще. Бесстрашный какой-то ребенок попался. Честное слово.
Участковый замедлил шаг и крепко пожал Ксанину руку.
— Спасибо. Спасибо за помощь.
Ксана хотела ответить, ничего подходящего не придумала, смутилась. И правда, что полагается в таких случаях говорить? В голове вертелось что-то вроде: «Служу Советскому Союзу» или «Так поступил бы каждый», слова все какие-то неподходящие к случаю. Пришлось уж промолчать.
Подошли к отделению милиции. У крыльца уже толпились любопытные, каждый хотел проникнуть внутрь, но дежурный никого не пускал. Ксана же вместе с Вандышевым прошла свободно.
Прошла, да и не обрадовалась. Только дверь отворили, а навстречу — Прасковья Семеновна. Растрепанная, красная.
— Товарищ Гуськов!
— Минуточку, гражданка, видите, занят. Попозже зайдите, попозже.
— Да товарищ же Гуськов! Дело-то какое — девчонка пропала у меня. Так вот и пропала. Ой, горькая я! Гляжу — нет как нет. Со вчерашнего дня ушедши. Да послушайте же, человек пропал!
Тетя Паша горестно всплеснула руками, и вдруг глаза ее остановились на Ксане. Она смолкла на полуслове и опустилась на скамью.
— Эта, что ли? — участковый кивнул в сторону Ксаны.
— Матушки мои! — изумилась тетя Паша. — В милицию забрали вместе с хулиганами! Это что же такое делается? Вечор те две в кино удрапали, меня не спросивши. А теперь и эта…
— Плохо, значит, соблюдаете, — строго сказал участковый. — Дисциплина хромает.
— Да я ли не соблюдаю! — в голос запричитала тетя Паша. — Я ли не берегу! У меня, если хотите, ровно у матери родной!
— Как же так получилось? — Участковый уже сидел за столом, листал какие-то бумаги, и мысли его, видно, заняты были куда более важными делами, чем тети Пашины…
А тетя Паша-то разливалась:
— Вечор, грешным делом, сбегаю, мол, в кино. Посмотрю, что за фильму привезли. Тоже ведь я не каторжная. Девки, думаю, спят, ну и пускай спят. А я, мол, сбегаю. Прибежала, гляжу: дым коромыслом, пляшут, да еще как чудно пляшут, ой, мамочки! А мои-то две в самой середке, а парни-то вокруг, парни-то! Так и обомлела. Хвать одну, хвать другую!
Тетя Паша перевела дух, обмахнула потное лицо платком.
— Ну, кино посмотрели все же, домой веду. «Ах вы, такие, — говорю, — сякие, что же вы без спросу ушли, да и подружку одну в сарае покинули?» Отвечают: «А она в избе спать залегла. Еще с вечера». Так я и обомлела. Бегу в избу — так и есть, пусто! А она вот, оказывается, где. В милицию угодила. Ух, я ужо крапивы-то нарву, ух, уж и не посмотрю, что не своя, не помилую!
— Минуточку, — участковый предостерегающе выставил ладонь, — минуточку, гражданка. Тут надо еще разобраться…
— Да что разбираться-то, товарищ Гуськов! — взмолилась тетя Паша. — Ну, девчонка молодая, глупая. С кем не бывает… Отпустите вы ее ради бога, товарищ Гуськов, а я уж, обещаю вам, крапивой-то. Уж я посодействую!
— Минуточку! — Участковый резко постучал по столу карандашом. — Ваша подшефная ни в чем не виновата. Наоборот, она выполняла особое задание и сильно помогла нам. Она, если хотите…
Тут Гуськов замолчал, уставился на дверь. Все, кто тут был, тоже повернулись к двери, прислушались. В полной тишине за дверью раздались странные, лязгающие шаги. По ступеням кто-то поднимался, медленно, грузно, бряцая на каждом шагу чем-то металлическим. Участковый поднялся из-за стола, выжидающе вытянул вперед шею.
Дверь распахнулась, и на пороге между двух дюжих дружинников появился Аким Родионыч. За плечами у него болтался полупустой рюкзак, брюки на коленях порваны. Родионыч смущенно улыбался.
— Ой, Родионыч! — заголосила было тетя Паша. — Тебя-то за что, мил человек?!
— Отставить! — сгоряча скомандовал тете Паше участковый.
Кивнул дружинникам:
— Докладывайте!
Парень выступил вперед:
— Товарищ лейтенант! Результаты обыска на квартире Сысоевых: говяжьей тушенки сто пятьдесят банок, туш бараньих шесть, индеек восемь, масла топленого тридцать одна банка. Консервы «Сардины в масле» — девятнадцать банок. Все найдено в погребе. Четыре сберкнижки. Вот они. На квартире остался старшина Митрохин.
Дружинник протянул Гуськову пакет.
— Так. А этого где взяли? — Участковый кивнул на Родионыча.
— Все там же, на складском дворе. За ящиками прятался, видно, сообщник.
Участковый задумчиво посмотрел на Родионыча.
— А в мешке-то что?
— Не знаем. Не стали вскрывать, некогда.
— То-то, что некогда, — проворчал Гуськов. — Вы, гражданин, садитесь. Что там у вас в мешке, показывайте.
Родионыч торопливо скинул с плеч рюкзак, там что-то звякнуло. Аккуратно развязал веревочку, опрокинул рюкзак. На пол высыпалась целая груда пустых консервных банок.
— Вот. Из-под сардин. — Родионыч смущенно развел руками.
— Никак помешался! — испугалась тетя Паша.
— Гм… Хм… — Участковый откашлялся. — Так. Из-под сардин, значит. Ну а все-таки, на что вам они, а? Расскажите все по порядку, не торопитесь. Для нас каждая деталь важна. — Гуськов положил перед собой чистый лист. — Итак, сегодня ночью вы пробрались на складской двор…
— Да, да, понимаете, именно пробрался. — Родионыч нервно потер рука об руку. — Пробрался, значит, поскольку пытался пробраться еще днем, да, понимаете, никак нельзя: прогнали.
— Кто прогнал?
— Да вот гражданочка. — Родионыч указал на судомойку Лизавету. — Прямо-таки выгнала. Некультурными словами обозвала, пришлось уйти домой. Я тогда и решил: ночью все спят, прогуляюсь вторично, собаки там не имеется, отчего же и не пройтись. В моем возрасте прогулки полезны в любое, понимаете ли, время суток…
— Так. За что же вы его прогнали? — обратился участковый к судомойке Сысоевой.
— Лазает там. Не положено, — проворчала судомойка. — Склад, упрут чего — отвечай.
— Ну и… — Гуськов кивнул Родионычу.
— Ну и пошел. Мне жестянки эти до зарезу нужны. Я из них домры делаю.
— Домры?
— Нет, вы поймите меня правильно, — заторопился Родионыч, — годится не всякая жестянка, а именно такая вот, — он поднял с пола одну, показал, — продолговатая, из-под сардин. В тысяча девятьсот тридцатом году у нас в клубе «Пролетарий» целый ансамбль, понимаете, был. С инструментами трудно приходилось, прямо-таки невозможно трудно, а это, если хотите, выход из положения. Ансамбль самоделок, прекрасный ансамбль. Я бы продемонстрировал вам… Эх, да с собой-то нет. Изготовил тут одну.
— Постойте, постойте, — Гуськов сложил чистый лист, забросил его в ящик стола, — я что-то не понимаю…
— Ах, что тут понимать! Жестянка продолговатая — это корпус, к ней приладить гриф деревянный, переднюю деку, лады. Четыре колочка, четыре струночки. И звучит, знаете! — Родионыч затряс кистью, как бы играя на балалайке. — Звук, правда, небольшой, но серебристый, в нижнем регистре — глуховатого тембра.
— Так, значит, на помойке обнаружили банки и решили воспользоваться? — подытожил участковый.
— Именно, именно, — Родионыч закивал согласно, — именно воспользоваться. Не пропадать же добру.
— Зачем же вам так много? На продажу, что ли? — Гуськов недоверчиво уставился на Родионыча.
— Как на продажу? — обиделся Родионыч. — А ансамбль? Почему же детский ансамбль не организовать? Мы с этими домрушками еще на областной смотр попадем, вы уж поверьте. Ноты — по цифровой системе, строй — домровый, и зазвучит, ах как зазвучит!
Родионыч сладко зажмурился, будто прислушиваясь к звучанию необыкновенного ансамбля. Участковый помолчал немного.
— Все ясно, — сказал наконец он. — Аким Родионыч, извините за ошибочное задержание. Служба, долг, понимаете. Еще раз извините и можете быть свободны.
Дружинники помогли Родионычу собрать в мешок консервные банки, и тот заторопился к двери.
— Прочих граждан, кроме задержанных, прошу освободить помещение, — распорядился участковый.
Вместе с другими Ксана вышла на крыльцо и сразу же зажмурилась от света. Солнце едва поднималось. Сильно пахло тополем и березовым листом. Солнечные лучи оранжевыми стрелами вырывались из-за тучи, насквозь пронизывали сосновую рощу на пригорке, стволы деревьев горели, переливались ярой медью, длинные тени сосен протянулись через всю луговину… Никогда еще Ксана не видала такого красивого утра: глядеть бы и не наглядеться.
— Ишь парит как, — сказала тетя Паша. — С утра раннего. Разомлели березки-то, ровно пареным веником отдает. Быть дождю, не иначе.
— Значит, опять сорняк подрастет, — заметила Ксана.
— Сила. Ну, ничего. Сегодня все равно воскресенье, пускай себе льет. А мы вот оладьев напечем, потом и баньку затопим. Веничков свежих навязать бы.
— Я схожу наломаю, теть Паш…
— А ты мне зубы-то не заговаривай, — спохватилась тетя Паша. — Рассказывай, что ли, где гуляла. Что за притча случилась, что за происшествие?
— Ой, устала я, теть Паш. И голодная. Вот за стол сядем, там все и объясню.
Тетя Паша заботливо оглядела Ксану.
— И правда, лица на девке нет. Серая вся, от пыли, что ли… Ты вот что: мыльце захвати, мочалочку, да и выкупайся пока. Одежку хорошенько встряхни. А я, глядь, управлюсь с оладьями. Беги, касатка, беги.
Прасковья Семеновна повернула к дому, а Ксана добрела до сеновала, взяла с привешенной к забору полочки мыло, сдернула с веревки полотенце и купальник, привычной тропой спустилась к озеру. Села на сухую, без росы траву, начала расшнуровывать пропыленные кеды, да и засмотрелась: озеро гладкое, блестящее, как стекло. Только стекло разноцветное: до середины ярко-голубое, а дальше, до самого того берега, темная полоса, туча грозовая отражается. Ксана торопливо расшнуровывала кеды, а сама все поглядывала вверх. Туча висела неподвижно, свинцово-синяя, с лохматыми краями. «Вроде и не двигается, на месте стоит. Вон и солнышко припекает. Во всяком случае, до сарая-то всегда добегу».
Разделась, одежду все-таки в куртку завернула и запрятала под куст. Вода оказалась до странности теплой. Первые два-три шага по илистому дну, еще шагов пять по песочку, а дальше уж никакого дна, плыви себе в любую сторону.
Мягкая толща воды расступалась, Ксана прыгала, вертелась, несколько раз ныряла в глубочину. Она любила купаться и могла часами не выходить из воды. Пока не прогонят. «Хорошо, что родители не видят. Купайся сколько захочется. А то: «Ксана, пора выходить! Ксана, утонешь!» И как это люди тонут? Это ведь умудриться надо — утонуть. Ну-ка попробую». Опустила руки, перестала двигаться. «Ну и что? Вот лежу я на спине. Хорошо. Солнышко лицо греет, вода укачивает. Хорошо… А как же в книгах? Катерина в «Грозе», «Бедная Лиза», еще кто-то там. Представляю себе: с горя заорал, разбежался — и бултых в воду. Это-то понятно. С горя же. Ну а дальше? Бултых в воду, и… Так-таки и утоп? Как же, держи карман».
Она рассмеялась, зашлепала ладонями по воде, радужные брызги рассыпались кругом. «Интересно, сумела бы я доплыть до того берега? Далековато все-таки. Но как-нибудь надо попробовать». Она вгляделась. Очертания берега почти скрылись за синей волнистой хмарью. Вдруг там сверкнуло. В самой толще тучи возникло слепящее ветвистое дерево, задрожало и стремительно воткнулось в землю. «А грома нет. Значит, не скоро еще. Можно не торопиться!..» Не спеша поплыла обратно, вдогонку раздался раскат грома. Солнце медленно уползало за тучку, вот осталось полсолнца, а вот и совсем маленький кусок, так, в пару лучиков…
Неожиданно потемнело. Огляделась Ксана — гладкого озера-зеркала как не бывало, всюду мелкая свинцовая рябь. «Это уже неинтересно. Пора вылезать». И тут ударили толстые струи дождя. Вода вокруг закипела, вспучилась пузырями, дождем хлестало по голове и плечам… «Дождалась! Так мне и надо». Ксана нырнула, чтобы избавиться от дождя, а когда снова выглянула из воды, увидела, что по берегу кто-то бежит. Вандышев! Спустился к самой воде, сбросил рубаху и джинсы, неразборчиво крикнул что-то, кинулся в мутную кипень воды. «Нашел место купаться. Не мог уж подальше… Да и время, ничего не скажешь, подходящее», — рассердилась Ксана.
В несколько взмахов доплыл до нее, отфыркиваясь, схватил за лямку купальника.
— Как, тонем? Помощь требуется?
От изумления Ксана действительно чуть не захлебнулась. Во всяком случае, порядочно глотнула озерной водички.
— Ч-что такое? Кто тонет? Я купаюсь. Купаюсь, понятно?
Она нырнула, отплыла под водой как можно дальше. Оглянулась. Вандышев был тут, рядом. Лицо мокрое, волосы обвисли.
— Нет, серьезно? Не шутишь? Кто же это купается в такое время?
— Самое лучшее купание. Я всегда купаюсь, когда гроза, — соврала Ксана.
Над головой с треском разорвалась тучка, полыхнуло фиолетовым, по всем берегам раскатилось гулкое эхо. Оба, не сговариваясь, нырнули.
— Вот. А ты говоришь, — Вандышев отфыркивался, поглядывая на низкую, тяжелую тучу. — Самое опасное дело, между прочим. Гроза. Вода — проводник.
— Ну и пускай проводник, — храбрилась Ксана, — мне это нипочем, я привыкла…
— Ха-ха, — печально усмехнулся Вандышев. — Мокни вот теперь из-за тебя. Иду — вижу, девушка тонет. Дай, думаю, спасу. Прославлюсь, что ли, напоследок. И все, выходит, зря.
— Так берег вон близко, в чем дело? Вылезай!
Он шутливо зашмыгал носом.
— Пожалуй, теперь это нерационально. Сейчас, пожалуй, самое подходящее место — озеро.
Ливень припустил с новой силой. Казалось, нежданно обрушилась многотонная водяная кровля, сплошной массой шлепнулась на озеро, придавила. Вода вокруг раскачивалась, белые хлопья пены хлестали в лицо.
— Все-таки вылезем, а? — предложил Вандышев.
— С-смысла нет, — пискнула в ответ Ксана, — в воде ведь лучше!
На самом-то деле она уже порядочно продрогла. Но разве на берегу, под дождем и ветром, теплее?
Она стала подпрыгивать, вертеться, грести как можно сильнее, лишь бы согреться. Вандышев барахтался рядом.
— А знаешь, наше озеро ведь волшебное! — крикнула ему Ксана.
— А? Почему волшебное? — сквозь дождь отозвался Вандышев.
— Предание такое есть. Когда татары напали на эти места, население стойко защищалось, наконец горстка храбрецов вместе с женщинами и детьми заперлись в церкви.
— Уф! Ну и крепок дождь! Бьет будто палкой! Всю голову пробуравил… Уф-ф! Ну а где же эта церковь?
— На дне! Только хотели татары церковь поджечь, как она сползла по берегу да на дно озера и ушла. Вместе со всеми защитниками, монахами и священниками.
— Это называется — из огня да в воду. Воду все-таки предпочли… То-то я ногой сейчас задел… Ой! Твердое что-то. Кажется, крест церковный.
Вандышев скорчил уморительную рожу. Ксана засмеялась.
А ноги все-таки поджала, так, на всякий случай. Кто знает, что там, в черной глубине. Вдруг огромная щука.
— И говорят, если утро тихое-тихое, — продолжала Ксана, — а вода совсем прозрачная, то…
— Церковь виднеется, — насмешливо подсказал Вандышев.
— Ага. И купола разноцветные, и золотые кресты горят. А еще некоторые пение слышали. Красивое пение. И шествие праздничное, крестный ход. Все нарядные, и все поют. Представляешь?
— Представляю.
Вандышев не торопясь поплыл к берегу, Ксана — рядом. Дождь лил стеной. Спешить было некуда.
— Вообще-то озеро бездонное, так уж считается! На середине, конечно! Пытались измерить! — кричала Ксана.
— Церковь и шествие на бездонном дне. Легенда красивая. Но нелогично.
— А что вообще-то логично? — заспорила Ксана. — Вот, мокнем в воде, а все равно дождь, это логично? Или вон Сысоев: наворовал продуктов, а самому ведь пировать не придется! Отнюдь. Какой уж тут пир. Где логика?
— Он не знал. — Вандышев ухмыльнулся деланно-глупо.
— Не знал. Вот еще!
Багровая яростная вспышка. Оба зажмурились, инстинктивно ушли под воду. Но все равно оглушил мощный удар, зловеще пронзительный треск. Ксане показалось, что воду вокруг и ее тело пронизала особая, мелкая дрожь, будто ток электрический прошел. Едва не задохнулась то ли от страха, то ли от этого жуткого ощущения. Вандышев нашарил ее в воде, встряхнул.
— Цела?
Состроил испуганное лицо, потешно взвыл:
— Ой, старцы святые, спасайте, спрячьте! Ма-а-ма!
Страх сразу прошел.
— Ну, хляби небесные закрываются на обед, — сказал Вандышев, — главные ресурсы исчерпаны, с боезапасами заминка. Объявляю отбой! Отступаем в полном порядке, потерь нет, настроение бодрое!
И правда, уже шел тихий мелкий дождик. Солнце проглядывало из-за посветлевшей тучи, вокруг мирно зеленели берега… Вандышев протянул ей руку, вместе побрели к берегу, взбежали на травянистую кручу.
— Н-да… — Он огорченно разглядывал свою промокшую одежку. — Уж лучше опять к старцам на дно, чем это вот на себя налепить. И все из-за тебя. Спасать надумал, а?!
Кое-как выжал, накинул на плечи мокрую рубаху, начал усердно отжимать брюки…
Совсем другое дело — Ксанины вещи. Куртка намокла сверху, зато уж остальное все было в целости, все сухое. Захватила узел, отбежала в сторонку, к соснам, там за тройным широким стволом она всегда переодевалась. Подбежала и ахнула. Мощная свежезеленая верхушка сосновая лежала на земле. Один из трех стволов разбило молнией, чернели острые зубья излома, от верха и до самой земли выжгло глубокий обугленный желоб. А вокруг валялись осколки. Сосновые осколки, на них смола запеклась прозрачными красными натеками, и не щепки это были, а именно осколки разбитой грозовым ударом сосны. Пахло смолой, летним парным дождем и еще чем-то, легким и тревожно-радостным. «Озон, — поняла Ксана, — вот как он пахнет, озон…» И неожиданно для себя позвала:
— Леня! Ой, погляди!
— Что случилось?
Вандышев приближался, на ходу вытирая голову и шею мокрой рубахой. Замер, оценивающе глядя на Ксану.
— Ничего себе! Ты, оказывается, взрослая. А я-то… Думал, ребенок.
Она смутилась, отступила за ствол. Было неловко, беспокойно отчего-то, но весело. Может, потому, что вот заметил ее все-таки Вандышев и смотрел сейчас на нее сквозь зеленую крону поваленной сосны совсем иначе, не как раньше. А раньше вроде и не замечал. «Пошли. Лезь на забор», «Быстро!» — вот и весь разговор…
— Ты только погляди, что творится! — крикнула она из-за сосны. — Дерево-то!
— Ого! — Он обошел вокруг, потрогал обугленный ствол. — Расколотило нормально. Вдребезги.
Ксана нагнулась, подобрала тяжелый, набрякший от сырости кусок дерева. Понюхала.
— Такую махину разбило будто фарфоровую. Это когда ударило, помнишь? Еще по воде вроде ток прошел… Ну, мне показалось, что ток…
Вандышев брал в руки то один, то другой осколок, рассматривал.
— Ничего не скажешь, прямое попадание.
Выбрал длинный кусок, кора на нем блестела от запекшейся смолы. Долго рассматривал бурые волнистые натеки.
— Пожалуй, стоит это с собой взять. На память. А? Я возьму. Жареная сосна, оригинально.
Ксана, уже в джинсах и кофточке, натянутых кое-как прямо на мокрый купальник, удивленно озиралась.
— Гляди, гляди! Земля-то! А были здесь такие ромашки! И трава по колено. А теперь будто все выжгло…
— Черти горох молотили, — беззаботно пошутил Вандышев. — Эх, сейчас бы горяченького чего. Чаю бы попить…
Он поежился, обхватил себя руками. Только теперь вспомнила Ксана про тетю Пашу, про подруг, про горячие оладьи с чаем.
— А у нас сегодня оладьи, — вырвалось у нее. — И самовар. Пошли к нам! А что? Я приглашаю.
Вандышев ежился, подпрыгивал то на одной, то на другой ноге.
— В мокром виде? — Он присел, по-собачьи тряхнул головой, с длинных прядей полетели брызги. — Нет уж, в таком виде не могу. Как говорится, конфузно. Конфуз перед дамами.
Он так смешно это произнес, приказчик из пьесы Островского, да и только.
— Ничего, ничего, — смеялась она, — там и просушим одежду. У самовара.
— Нет уж, увольте-с. Как-нибудь в другой раз, очинно вами благодарен.
— Ой, хватит смешить!
— Нет, и правда не могу, — неожиданно серьезно сказал он. — Там ребята ждут, сегодня мы перебазируемся. Все-таки я староста, нельзя. И так опаздываю!
Он уже мчался вдоль берега, зажимая под мышкой трофей — «жареную сосну» и свои скрученные в жгут брюки. Издали крикнул «Пока», махнул рукой.
Ксана постояла еще немного, подобрала несколько смолистых осколков и побежала домой.
Было ей радостно, а почему, не знала сама. Так просто. Потому что дождь кончился, пахло мокрой травой и листом березовым, и ноги бежали так легко. В гору, а легко. И еще Вандышев, какой он ловкий и смелый и какой смешной. На бегу пыталась вспомнить, что он такое выдавал во время грозы, в озере, но все как-то забылось. Ведь было смешно, хохотала. Что же он такое говорил?.. Все равно: она знала, что вспомнится каждое слово. Потом. Даже хорошо, что не сразу вспомнится.
Вот улягутся все спать, и она тоже. Будет смотреть сквозь щели сарая на звезды, будет лежать тихо-тихо. Девчонки заснут, а она и не подумает. Будет вспоминать. И все снова, с самого начала переживет. И купание в грозу, и все, что он тогда говорил. Каждое слово. На целую ночь хватит.
Вот и сарай виднеется. Запахло дымом, значит, тетя Паша уже баню топить начала.
Ксана замедлила шаги, остановилась. Оглянулась. Внизу озеро отблескивает сталью, у того берега — голубая кайма. Небо. «Все-таки наше озеро волшебное, — подумалось Ксане. — И эти вот куски сосны, смолистые, звонкие, они волшебные тоже. Их молния опалила. И пахнут молнией. Всегда буду хранить их. Талисман. Пусть это будет мой талисман!»
После бани улеглись в избе, Прасковья Семеновна велела. Сыро на сеновале после дождя. Одна простуда. Да оно и спокойнее… Ксана уснула первая. И отсыпалась чуть ли не до самого обеда. Будить не стали, тетя Паша не позволила. А в обед прибежали девочки, рассказали, что студенческий стройотряд уехал. В Рябинино уехал, это километрах в двадцати. Там строят овцеферму. Сильно жалели Люба с Иришкой, что не будет больше ни танцев, ни кино. Ксана молчала… Все равно через несколько дней кончался срок их сельской практики. Впереди город, дом, школа. Последний учебный год.
— Ракитина Ксения! Вашу зачетку, пожалуйста.
— Ах да. Сейчас.
Ксана подошла к столу, не глядя подала зачетную книжку. Она была вся поглощена обдумыванием темы, которая ей досталась. Вернулась на свое место, на листке бумаги набросала пункты: первый, второй, третий. Кажется, проясняется… Римское право. Вообще-то она не слишком боялась этого зачета, очень уж интересный материал. За этот год много прочла всего, даже те статьи читала, которые в списке обязательной литературы и не значатся. А все же… Все же страшновато. Сейчас она подойдет к столу, сядет перед преподавателем… Да, надо поторопиться. Она последняя осталась. Кажется, и преподаватель на часы поглядывает. Вообще-то она готова. Можно идти…
Вытащила из стола сумочку, чтобы достать платок, раскрыла.
— Что вы там ищете? «Шпоры», что ли? Зачем, не надо, не советую!
Ксана вздрогнула. Сумка едва не выпала из рук. Подняла лицо: над ней стоял… Вандышев собственной персоной.
— Так что вы там ищете?
Она горячо порадовалась про себя, что не захватила на зачет эти самые «шпоры». Шпаргалки, разумеется, у нее имелись, только трудилась Ксана над этими листочками совсем не для того. Просто чтобы лучше расположить материал в памяти и чтобы удобнее повторять. Как хорошо, что они дома, вся пачка!.. Потянула из сумочки платок. Вместе с ним выпал кусочек обугленной сосны, тот самый. Когда-то разложила Ксана эти осколки по всем своим сумкам. На счастье.
— Что такое? — удивился Вандышев.
Взял осколок, подбросил на ладони, уставился на Ксану. И тут ей стало смешно: такое лицо у него сделалось. Глаза широченные, даже рот приоткрылся.
— Так вы, значит, Ракитина Ксения? — сказал наконец.
— Ага.
— Ничего себе! А я ведь так и не спросил тогда ваше имя. Потом, когда вернулись, заходил к бригадирше, не застал. И все давно уже уехали…
Еще раз подбросил осколок на ладони, задумался.
— У меня-то он на столе лежит. Большой такой. Молнией пахнет… Обломок молнии.
— Я помню, — тихо отозвалась Ксана.
Помолчали.
— Ну, идите отвечать, — сухо сказал Вандышев.
Говорила Ксана как-то машинально, плохо слушая себя. Ведь ответ был разработан по пунктам, ей было легко. Только мешали разные совсем посторонние мысли. То вечер вспомнится, когда звякнула щеколда и Вандышев пробрался в сарай, то как он побежал по берегу в плавках и мокрой рубашке, зажимая под мышкой закопченный обломок сосны… Неудивительно, узнала сегодня не сразу: в сером костюме, волосы коротко подстрижены, да и вообще как-то повзрослел. Он ведь тоже ее не узнал…
— Ну что же, понятие кое-какое вы имеете. Достаточно. Зачет.
Вандышев расписался в зачетной книжке, перелистал ведомость.
— Хотя уж какой это зачет был, — усмехнулся он, — скорее вечер воспоминаний.
Ксана смущенно запихивала в сумочку свою зачетку.
— Для меня, конечно, — добавил он.
— И для меня. До свидания.
Ксана побрела по уже опустевшему коридору. То, что сегодня случилось, ошеломило, но как-то не удивило ее. Втайне она ведь всегда знала, что так и будет. Конечно, знала, но все-таки не верилось… А отвечала на зачете, кажется, неважно. Он сказал: «Кое-какое понятие имеете». Да нет, рассказала все по порядку, как надо. Все-таки могла бы получше. Растерялась, и все из-за него, из-за Вандышева. Вот сумасшедшая! А ведь она умеет собраться, когда надо. Сколько экзаменов сдала, кое-какой опыт имеется. Одни вступительные что-нибудь да значат. В первый год не прошла по конкурсу, а на другой год прошла. Попала, правда, на заочное. Все оказалось непросто.
Ксана застегнула пальто, стала надевать перед зеркалом шапочку. Неожиданно в зеркале возник Вандышев, бросил портфель, торопливо замотал шею шарфом.
— А как насчет того, чтобы продолжить вечер воспоминаний? — сосредоточенно нахмурившись, проговорил он.
— Можно и продолжить, — не сразу ответила Ксана.
— Может быть, продолжим в кафе, тут недалеко, за углом?
— Нет. У меня билет в консерваторию. Лучше уж продолжим там, на концерте. Второй билет как-нибудь достанем…
— Значит, в девятнадцать ноль-ноль? — Он низко надвинул на лоб шапку, улыбнулся.
— Нет. В восемнадцать тридцать, — строго поправила Ксана. — И без опозданий.
Нахмурилась, вытянула лицо и, подражая Вандышеву, сказала:
— Джинсы. Куртку потемнее. И не опаздывать. Я ждать не стану!
Оба весело рассмеялись. Вандышев распахнул перед ней дверь на улицу. Обоих ослепил белый зимний день.
МУРАВЬИНАЯ РОЛЬ
© Издательство «Советский писатель», 1975.
Когда я завалил экзамены в институт, сначала вообще ничего не почувствовал — ни разочарования какого-нибудь там, ни горя. Так, отупел от зубрежки… Но вот прошло дня три-четыре, отошел чуточку, отмяк, и тут меня одолели мысли. И так они меня одолели, так привязались, что ни шагу шагнуть, ни дохнуть. То, что я провалил в этот инженерно-строительный, меня не особенно огорчало. Собственно, я потому туда пошел, что не знал, куда лучше. Вернее, мне было все равно. Да и какой из меня инженер. Бред! Чепуха все это. Но, с другой стороны, ведь надо же куда-нибудь устраиваться! И родители покоя не давали: чуть ли не с пятого класса зудят: «Институт, институт. Вот завалишь, вот останешься на низших ролях. Последним человеком будешь».
На низших ролях! Вот эти-то самые «низшие роли» и не давали мне покоя. Выходит, каждый человек играет в жизни какую-то определенную, раз и навсегда взятую роль! И, значит, раз уж я на «высокие» или там просто нормальные роли не потянул, значит, мне суждена самая что ни на есть малюсенькая, самая неинтересная роль в жизни. Вот здорово! Где же тут справедливость? Впрочем, наплевать. Даже к лучшему. Как говорит мой уважаемый дядюшка, «меньше ответственности». Проживу как-нибудь. До армии осталось полгода, устроюсь пока на работу, все равно на какую…
А на дворе август, пылища, жара, все знакомые ребята разлетелись кто куда, футбольная площадка замусорена желтыми листьями с березы, в общем, тоска.
И от скуки стал я наблюдать.
Начал с отца. Отец мой, Николай Петрович Рыбкин, скромный служащий, всю жизнь подвизается на самой маленькой должности — в канцелярии трикотажной фабрики. На работе его ценят: исполнителен, скромен. Сдается мне, что за всю свою жизнь отец ни разу не опоздал на службу… А может быть, так уж и положено, самой природой изготовлены мы все по-разному, то есть для разных надобностей? Кто для исполнения мелких текущих дел, а кто и для героических свершений?
Вот, например, дядя, брат моей матери. Совсем другой человек. Даже если не знать его близко, а так, издали только взглянуть, каждому сразу ясно: большой человек! Носит дорогое пальто, круглую шляпу, двигается не спеша, говорит вдумчиво, с расстановкой. «Дядя Владя» — так я с детства привык называть Владислава Львовича — возглавляет один из филиалов крупного научно-исследовательского института. Дядя Владя наиболее почитаемый наш родственник, в гости приходит лишь по особо торжественным случаям.
Не знаю, может, экзамены на меня подействовали, может, я переутомился, что ли… Настроение было самое паршивое, когда раздался тот телефонный звонок.
— Слушаю!
— Простите, а это кто у телефона?
— У телефона я, Виктор. С кем, собственно, имею честь?
— Ишь как ты официально! Имею честь… Послушай, Витюша. Дело в том, что последний раз я видел тебя в люльке. Ты был розовый и ревел. К тому же внешность твою здорово портила соска, вечно, знаешь, во рту торчала. То ты ее терял, то снова находил, одна морока. Словом, усек?
— Усек-то, усек, — говорю. — Непонятно все-таки… При чем тут соска?
В трубке какой-то хриплый смешок…
— Может быть, вам поговорить со мной хочется, — стал я злиться. Думаю, кто из мальчишек разыгрывает. Голос показался знакомым.
— Вот именно поговорить. Потому что не хотелось бы мне встречаться с твоими родными. Потом объясню отчего. Да, в сущности, и объяснять-то тут нечего… Я, знаешь ли, дядя Кеша… Приехал по делам и очень бы хотел тебя повидать. Леву, твоего брата, я все-таки помню, а вот тебя, можно сказать, и не видал совсем.
— Как?! — заорал я. — Дядя Кеша из Хантайска?
В трубке жиденький, щекочущий смех.
— Он, он самый. Так вот, я сижу в вокзале. Оккупирую центр передней скамейки. Она пустая, так что ты сразу меня разглядишь.
— Сейчас бегу!
— Постой, постой! Сейчас я должен поехать в город по делам. Давай договоримся на вечер, а? В восемь, скажем. Хорошо?
— Ладно! Дядя Кеша, а что же вы к нам-то?
Но он уже повесил трубку…
Голова у меня пошла кругом. Главное, я не знал, говорить ли о приезде дяди Кеши родителям. Дело в том, что дядя Кеша был, что называется, «позор нашего семейства».
Дядя Владя и моя мать давным-давно отказались от своего родного братца.
Когда-то, еще мальчишкой, дядя Кеша совершил какое-то хулиганство, подрался, что ли, с кем, кого-то побил. Его посадили в колонию, он убежал. Изредка приходили письма, то из Хантайска, то из Верхнеудинска, то из Кулунды. Потом и письма прекратились. Два раза дядя Владя ездил выручать его из очередной беды, устраивал на работу, но на работе дядя Кеша не задерживался. Попадал в очередную историю, куда-то исчезал.
Об этом дяде у нас в семье рассказывали чудеса. Например, вот легенда первая. Однажды в пивной дяде Кеше не понравилась какая-то компания. Особенно один тип не понравился, главарь этой бражки. Дядя Кеша подошел к типу и стукнул его кружкой по голове. Началась потасовка… На дядю Кешу навалилось человек шесть, но он всех раскидал, а потом подошел к стойке, заплатил сорок восемь копеек за выпитое, полтинник за разбитую кружку и спокойно вышел из пивной. Позже, когда его все-таки забрали и дали год, он убежал из тюремного вагона, разобрав доски пола. На ходу выскочил прямо на шпалы. Потом его поймали, срок, разумеется, прибавили.
Другая легенда. Ехал дядя Кеша, вернее, его везли в одном вагоне с уголовниками. Ну, известно, режутся в карты, ругаются. Проиграл дядя Кеша уголовникам фуфайку, куртку, всю мелочь, какая у него была, а когда ничего не осталось, то проиграл и свою фамилию. Пришлось обменяться фамилиями с выигравшим типом. На каком-то полустанке вызывают: «Хмытько!» (Фамилия уголовника.) Выходит, как условились, дядя Кеша. Повели… Оказалось, этот Хмытько имел срок — двадцать лет в колониях строгого режима (а в другом варианте — вышку). Немало тогда дяде Владе пришлось похлопотать за братца. Но срок ему за этот финт снова набавили. Вот как… В общем, срок отсидки у дяди Кеши все нарастал, и он никак не мог рассчитаться. Он уж и письма родным перестал писать, а дядя Владя поклялся больше не вспоминать о брате. Мама тоже поклялась.
Ясно, что появление «дяди Кеши из Хантайска» было бы для них не такой уж радостной новостью. Пожалуй, лучше пока ничего не говорить, решил я. Но самому-то мне не терпелось познакомиться с легендарным дядюшкой.
К тому же по этим рассказам я давно уже представлял себе дядю Кешу: здоровенный малый, как говорится, косая сажень в плечах, кулачищи — во! Косматый чуб, один глаз вприщур, глядит с хитрецой. И так далее.
Вообще-то даже страшновато. А вдруг меня втянут в какое-нибудь там темное дело? Может быть, все-таки сказать родителям? Да нет, что это я, испугался, как маленький. Сам за себя постоять не сумею, что ли? Главное, все это чертовски интересно!
Я так волновался, суетился попусту, поминутно подходил к телефону и набирал «время», что даже сам Лев наконец обратил на меня внимание.
А это не шутка — заставить моего уважаемого старшего брата обратить внимание на что-нибудь, кроме «науки» да его собственной особы.
Весь мир, по-моему, Лева делит на две части: наука, вернее, он, Лева, в науке, и все остальное. Центр земного шара — это институт, в котором он, аспирант-медик Левушка Рыбкин, священнодействует. Главное божество в этом храме — Алевтина Петровна, руководитель кафедры.
Целый день только и слышишь — Алевтина Петровна считает, Алевтина Петровна полагает, Алевтина Петровна приказала…
— Что ты крутишься около телефона? Не занимай, пожалуйста, телефон, я жду звонка Алевтины Петровны!
— А может, я тоже жду звонка!
Но Левушка уже не слышит, он углубился в свои конспекты. Он имеет такую привычку просто не замечать ничего, что творится вокруг.
Поток информации, видите ли, нынче так велик, что он, Левушка, вынужден отбирать факты, и всякие малозначительные, вроде моей особы, моих дел, моих бед или радостей, он вынужден попросту отбрасывать.
Нос, по-моему, у Левушки за последнее время сильно увеличился. Должно быть, от сознания собственной значимости: нос всегда предшествует самому Леве. Сначала появляется нос, потом — портфель, а следом — уже и весь Левушка с целой серией авторучек в грудном кармане, в узеньких серых брюках-дудочках. Глазки вниз, и скромно, бархатным голосом: «Понимаете, Алевтина Петровна полагает, что…» А я не верю в Алевтину Петровну, потому что не верю в Левушку.
— Послушай, опять ты вертишься у телефона! Повторяю, я жду важного звонка. Положи трубку!
— Вот и я жду важного звонка. А ты за своей Алевтиной Петровной всюду тащишься, как нитка за иголкой. Куда она, туда и ты. Эх ты, зануда…
Другой старший брат за такие слова попросту съездил бы по шее, а может, и вложил бы как следует, чтобы неповадно было. Не таков Левушка.
— Ма-ам! — блеет он. — Уйми Витьку! Мне должна звонить Алевтина Петровна, а Витька нарочно телефон занял!
— Господи, — вздыхает в соседней комнате мама, — не отдохнешь! Витя, перестань!
— А что я, не имею права, что ли…
Левушкины уши краснеют от гнева.
— Тунеядец несчастный! Зубрил бы лучше!
— Сам зубри! Я уж отзубрился.
— Господи, — стонет мама, — скорее бы конец. Ну, как хотите, мне все равно. Ну, деритесь, убивайте друг друга, режьте, если вам этого хочется. Мне уже все равно, я устала.
На маму нашло «христианское настроение». То есть полное равнодушие, всепрощение, отрешение и все в таком роде.
Появилась эта черта у мамы с прошлого года, когда врачи заподозрили у нее какую-то серьезную болезнь. Диагноз не подтвердился, болезнь давно прошла, а «христианское настроение» осталось. Хорошо хоть оно у нее не каждый день, вообще-то мама даже веселая, насмешливая, но когда появляется этот вот плаксивый тон, разные там жалкие слова — хоть вон из дому беги. Стоит кому-нибудь рассказать, например, о ворюге, ограбившем магазин, или о пройдохе, бросившем семью, как мама начинает вздыхать: «Что ж, не от хорошей жизни он пошел воровать, нет, не от хорошей! Семью бросил? Чего тут удивительного? Господи, да кому же это по силам — семью тащить на плечах? Видно, невмоготу бедняге стало, вот и убежал. Что же, слаб человек, слаб. Куда ему… Все мы слабы». Выходило, что мама прощает и оправдывает всех, а сама чуть ли не святая, потому что булок не ворует, банк не грабит и от семьи никуда не бежит. Смиренно несет крест.
— Положительно, — рассуждает Лева, — лучше мне переехать в общежитие. Это удобнее и для меня и…
Тут звонит телефон, Лева хватает трубку.
— Да, да! Слушаю вас, Алевтина Петровна! Том седьмой? Конечно, есть. Да, у меня. С удовольствием! Буду ждать!
Благоговейно кладет трубку, оборачивается сияющим лицом.
— Сейчас заедет Алевтина Петровна по пути на аэродром. Возьмет одну книгу…
Я не утерпел и выглянул в окно. Из машины вылезла сухощавая старуха в брюках и свитере, в черных очках, забрала у подбежавшего Левы книгу и укатила.
Потом Левушка отправился в свой институт, а я сел у окна — есть такое у нас широченное кресло, — скрестил на груди руки и стал думать. О чем? Обо всем. О чем попало.
Квартира наша на первом этаже, даже немного ниже, так что окна почти на целую треть под землей. Назвать это просто полуподвал было бы не совсем точно, поэтому придумали звучное слово «цокольный этаж». Когда я был маленьким, то думал, что так называют наш этаж из-за ног, которые целый день идут мимо окон и все цокают. Даже в классном диктанте написал как-то «цокальный»… Сегодня, показалось мне, цокали как никогда.
Был час «пик» в продовольственных магазинах, и ноги домохозяек работали на полных оборотах. Мускулистые, здоровенные ноги. Большинство ног обуто в крепкие туфли на невысоком толстом каблуке. Я всегда удивлялся, что женщины покупают себе такие туфли. Не туфли это, а скорее башмаки. Такие башмаки с пряжками носили мужчины в восемнадцатом веке. Я зажмурил глаза и попытался представить себе Потемкина и других разных вельмож в расшитых камзолах, в башмаках с каблуками, в пудреных париках.
Какие только мысли не приходят в голову, когда не надо зубрить теорему синусов и рисовать схемы органических соединений!
В тот день я просто обалдел от скуки и от нетерпения. И едва старые часы в столовой пробили семь, я быстро натянул куртку и выскочил за дверь. Важно было избежать расспросов родителей — куда, зачем и надолго ли?
С тех пор как я завалился на экзамене, родители, кажется, только и ждут, что меня «втянут в компанию», что я обязательно заведу «дурные знакомства». Боятся этого больше всего на свете… Интересно, что родители, да и педагоги тоже, все как будто бы убеждены, что меня и прочих ребят просто хлебом не корми, а только дай похулиганить. Будто мы все сидим и ждем: вот-вот наставники отвернутся. Отвернулись, мы и давай кто куда! Первым делом, конечно, в «дурную компанию». С преступным миром связаться, избить кого-нибудь, ограбить — это для нас, думают взрослые, самое милое дело. Предел мечтаний, можно сказать! Да вот еще напиться, стекла побить. Забавно видеть, как папаша за столом отодвигает от меня вино, косится с подозрением. Дело не в вине. Дело в самом деле, то есть в той роли, которую каждый собирается играть… Вот тут я опять запутался: что, наконец, первично? Само дело или роль, порождаемая делом? Или вообще все наоборот? Меня, например, никакая работа особенно не привлекает, да и не верю я, что быть, например, счетным работником — голубая мечта моего отца. Или мечта мамы — всю жизнь сидеть секретарем-машинисткой в детском театре. Конечно, всякому ясно, что человек обязан трудиться. Просто смешно, когда в школе начинают внушать семнадцатилетним лбам эту мысль. Да все ребята только и мечтают скорее за работу взяться, прочно на ноги встать. Или начинают толковать о том, что каждый обязан защищать Родину. Будто бы и так неясно, что при нападении врага каждый будет драться как черт! А как же еще? И будешь драться, и все сделаешь как надо, а если нельзя иначе, умрешь. И все это безо всяких там речей, песен и разных чувствительных стихотворений. Но главное-то все-таки дело, которым жить собираешься. Вот в чем загвоздка. С чего тут начать? Неизвестно…
Всю дорогу до вокзала я размышлял об этом самом деле и о роли, о знакомых ребятах и девчонках.
Если на наших ребят взглянуть со стороны, вроде бы ребята как ребята, коллектив как коллектив. На самом деле как бы не так! Все гораздо сложнее. Чуть ли не с первого класса каждый определился, каждый уселся на свое место, что ли… Например, Мишка Сабзин уже со второго класса староста, бессменный, вечный, так сказать. Как перевыборы, разом кричат: «Сабзин!..» Кого же еще? Хороший ученик, да и посмотреть со стороны — крупный, басовитый, начальство, и только. Вокруг Мишки целый штат дружков-помощников. Так сказать, «чиновники особых поручений». Вперед не лезут, но свое место тоже не особенно-то уступают. Комсоргом избрали тоже Сабзина, так что Мишка объединяет в себе, так сказать, руководство «гражданское» к комсомольское. Ну, конечно, передовой Мишка и сознательный, ему и карты в руки. Авторитет. Чем-то даже на моего дядю Владю похож… Ну, значит, Мишка, потом штат помощников; есть у нас и несколько середняков, так, ни то ни се. К ним-то, должно быть, и я отношусь. Есть еще Олег Селиванов, толстый, в очках, хорошо говорит по-английски и по-французски. Эрудит. В каждом классе, по-моему, имеется хотя бы один такой.
Среди девчонок — там своя иерархия. Лена Сахновская, отличница и умница, с писклявым голосом и длинным назидательным лицом. Всю жизнь держался от нее подальше. Стоит Ленке поглядеть на тебя, как ты сам себе становишься противен: оказывается, и рубашка-то у тебя мятая, и прическа сомнительная, башмаки три недели не чищены, а насчет знаний, внутреннего содержания, тут ты и совсем дурак. Хотя вообще-то вовсе ты не так уж плох, да кто же выдержит сравнение с таким эталоном, как Ленка? Как водится, есть у Сахновской пара подружек, такие же умницы-разумницы. Но, конечно, сортом пониже. Следующая категория — хорошо успевающие, солидные девчонки, звезд с неба не хватают, но на своем месте крепко сидят. Все они заранее подобрали себе подходящие специальности. Кто зубной врач, кто химик или экономист. Смотря по родителям. По стопам идут. Этим задумываться не о чем… Ну и остальные. Как и в каждом классе, было у нас несколько дур. Лизочка Мокина, хоть и дура, все же занимала особенное место, потому что красотка. Наряды, моды и так далее. Те, что вокруг нее, те уж дурехи окончательные. Таких всегда наберется две-три штуки. Вызовут такую к доске, и начнется потеха. Она и глазки строит, и волосы поправляет, улыбается, будто кинозвезда, а по существу ответить не может ни слова. Не понимаю, где родятся те чудаки, которые в них после влюбляются, женятся и тому подобное. Вот бы посмотрели на них, когда у доски…
Но как ни говори, каждый занимает в классе свое место. А я? Неужели я с самого рождения обречен быть незаметным середнячком, чьим-нибудь приспешником, так себе человечком? И если это так, то почему? Нет у меня никакой сильной страсти или хоть какого-нибудь увлечения. В детстве учился музыке, надоело, бросил. В пятом классе ходил в радиокружок, потом стал заниматься плаванием. Потом перешел в баскетбольную секцию и вовсе забросил спорт! Если честно признаться, больше всего меня интересовал досуг. То есть делать так, чтобы этого самого досуга было у меня как можно больше. Я приходил из школы, поскорее садился за уроки, выполнял их все подряд и как можно быстрее. Но все равно быстро сделать уроки мне никогда не удавалось, слишком уж много задавали… Потом поскорее летел выполнять какое-нибудь общественное поручение — и все бегом, бегом. И все равно досуга не хватало. То есть его у меня, в сущности, никогда и не было. Я месяцами жил, никуда не вылезая из дома. Только в школу. Школа, дом, школа, дом. Из этих двух мест я предпочитал, конечно, дом, но дома была та же школа: уроки. В девятом и десятом классах мне уже не хотелось ни в кино, ни в театр. А вот досуга хотелось! Может быть, мне нужен был он как воздух, чтобы подумать, почувствовать что-то важное. Не знаю… И все-таки кто же я такой?..
На вокзал примчался я минут на двадцать раньше, чем следовало, но дядя Кеша был уже на месте. Потому что передняя скамейка была пуста, а в центре, раскинув обе руки по спинке скамьи, развалился какой-то тип. Впрочем, остальные скамьи тоже были почти пусты.
— Дядя Кеша! — кричу еще издали.
— А? Это ты? Что я вижу?.. Я думал, что мальчик Витя самый маленький из моих племянников, а это как понять? Целая каланча?
Он говорил быстрым шепелявым тенорком и этим напомнил мне тех смешноватых представителей блатного царства, каких иногда показывают в кино. Например, слова «что я вижу» у него получились так: «Щщто я вижю!» Но внешность его прямо-таки потрясла меня. Крохотный человечек, в нем не было и ста пятидесяти сантиметров, лицо худое, длинное, с чаплинскими усиками. Когда улыбался, то наклонял голову к плечу, а глаза щурились застенчиво, как-то по-детски, и видно было, что во рту не хватает переднего зуба. Все в нем было маленькое: лицо, руки, ноги. Все, кроме носа. Нос выделялся и своим размером и цветом. Одет дядя Кеша был как джентльмен. Безукоризненный темный костюм, модный, слегка приталенный и с разрезом, белоснежная грудь и манжеты, выставленные ровно настолько, насколько предписано модой. В галстуке сдержанно поблескивал изящный зажим.
— Спасибо, что пришел, обрадовал старика!
(«Прищел», «щтарика»!)
— Да я и сам рад… А почему вы не сразу к нам…
— Э-э, дружочек, я ведь, знаешь, ненадолго, я по делу. Да и не хотелось бы сестру беспокоить, нет, я уж как-нибудь так. Тебя вот очень хотелось видеть, не скрою, хотелось… Ну, дружочек, пойдем в ресторан, посидим по такому случаю, пойдем!
— Да что вы, дядя Кеша…
— Пошли, пошли, не сидеть же все на скамейке…
— А вы в какой гостинице остановились?
— Да знаешь, браток, паршиво получилось, в гостинице-то мест нет. Вторые сутки сижу.
— Как? Здесь? На вокзале?
— Чего, браток, раскричался? Ну, здесь. Где же еще. А чем не понравилось?
— А у нас?
— Щ-щютишь! Мне, братец, и здесь хорошо, тем более что днем уйма дел, а завтра все равно уезжаю домой.
— В Хантайск?
Он рассмеялся.
— Нет, браток, твой дядя Кеша уже семнадцатый год жительствует в Красноярском крае, в поселке Пурга. Но это название только такое, а Пурга на самом-то деле городок хоть куда! Театр, магазины, ателье мод… Промышленный центр! Растем, растем, дорогой, в гиганты метим!
И крохотный дядя Кеша вошел в ярко освещенный проем ресторана. Там было людно, накурено, пахло шашлыком. За всю жизнь мне всего пару раз привелось быть в ресторане, но я, честно говоря, люблю ресторан за этот шум и запахи еды, а особенно за то, что здесь никому до тебя нет ровным счетом никакого дела. Можно сидеть, слушать джаз, или смотреть на танцующих, или просто есть шашлык. Люблю шашлык. А главное, в этой толпе ты как все, и отношение к тебе такое же, как ко всем: «Что закажете? Котлетки сегодня будут только куриные. Шашлычка, к сожалению, нет. Возьмите ромштексик. Пить что будем?.. Так. Водичка. Пивко есть жигулевское…»
Дядя Кеша мигом отыскал свободный столик. Сразу было видно, что дядя Кеша понимает толк в ресторанных благах. Заказывая ужин, он оживленно советовался с официантом, щелкал пальцами, вертелся, манжеты его своим мельканием прямо-таки слепили мне глаза.
— Ну вот, дружочек. Теперь рассказывай, как живете. Только по порядку. Как мать? Здорова ли?
Я подробно рассказал про мать, отца, про Левушку.
Дядя Кеша жадно слушал, без конца расспрашивал про разные мелочи, вроде того, цел ли наш большой письменный стол с ящиками и какую прическу носит мать.
Когда я подробно описал дядю Владю, он долго смеялся.
— Узнаю старшего брата! Что же, как говорится, большому кораблю большое плавание, а я вот, видишь, ростом не вышел. Каждому свое, каждому свое!
Тут принесли вино и закуску.
— Водки не выпьешь? Между прочим, не советую, вредно влияет на желудок.
— Да что вы, дядя Кеша. Я не пью.
— И сухое не пьешь?
— Сухое пью.
Он налил мне в бокал цинандали, а себе — водки. Я даже испугался, что такая порция тут же свалит его с ног. Ничего подобного. Дядя Кеша был, что называется, ни в одном глазу. Он ловко разрезал ростбиф, то и дело подкладывал мне на тарелку лакомые кусочки, тугие нейлоновые манжеты нервно порхали над столом. И не уставал расспрашивать о родных.
Вино на меня подействовало, я разомлел. И все время стучала мысль о дяде Кеше. Кто, собственно, он, то есть кем работает? Спросить было неловко, и я старался угадать. На инженера непохож, слишком уж франтоват. Артист? Хорош артист, с этим самым «щ-щутишь». Артист непременно вставил бы зуб. Может быть, учитель? Нет. Ребята, пожалуй, со смеху бы попадали, если такой вот смешняк вбежал бы в класс и, махая манжетами, зачастил: «Щ-щто я вижю! Вы, братишки, дурака валяете, а мы еще целых две темы не прошли! Ша! Раскроем тетрадочки! Пишите: Евгений Онегин есть продукт дворянского общества!» Тут я глупо рассмеялся вслух.
— Ты что?
— Да нет. Я так, вспомнил смешное. Про Левушку.
— А-а. Хватит уж про Левушку, давай-ка рассказывай о себе. Ну, вот отучился ты, аттестат зрелости получил, а теперь куда? Что-нибудь задумал?
— Говоря по правде, ничего не задумал. В институт не попал. На работу устроюсь.
— Ясно, что на работу. Да на какую? Работа ведь разная бывает: одна тебя съедает, другую ты съедаешь, третья голову только дурит. А есть и такая, что на путь выведет. Есть, есть, не скрою!
— Да, конечно. Только разобраться-то трудно, как-то сразу и не поймешь…
— Трудно, браток, трудно. Это ты верно сказал.
— Тут, по-моему, важно выбрать роль. То есть в какой роли тебе хочется выступить. У нас в классе все ребята давно в ролях.
— Как так?
— Скажем, Димка Коблер. Кудри до плеч, зад обтянут желтыми панталонами, физия как маков цвет. Сразу ясно: Димка претендует на роль Купидона. В театральное училище подал.
— Поступил?
— Нет. Сорвался. Но все равно он своего добьется. Потому что роль. Или Сабзин. Сознательность, дородность, бас. Словом, начальство!
— Гм… А какая твоя роль?
— Не знаю. В том-то и дело. Должно быть, муравьиная.
— То есть как так?
— Очень просто. Крикнут: «Бег на месте, ать, два!» Я и закручу лапками. «Шагом!» Пойду. «Винтики навинчивай!» Пожалуйста. Буду. «А ну таскай булыжники!» Очень даже рад, где они? Тащу, тащу!
Дядя Кеша засмеялся. Что-то в нем было обаятельное, когда он смеялся. Оказалось, у него совсем голубые чистые глаза. Только обычно их не разглядишь за морщинами.
— Что-то ты такое загибаешь. Говоришь, роль. И ссылаешься на внешний вид тех ребят. Но ведь форма зависит от содержания, форма и содержание едины. Как же иначе? У тех ребят, стало быть, и содержание имеется соответствующее!
— Да вы сами сказали, что форма и содержание едины. Так не все ли равно? Форма — содержание, содержание — форма. Я и говорю — роль.
— Что-то ты путаешь, дружок. Не разберусь, в чем тут дело.
— А дело ни в чем. Просто, как только замечу, что кто-нибудь начинает выламываться, вот как Левушка под ученого, сразу противно делается, и все тут. Ну какой он врач? Врач интересуется больными, и наплевать ему, какого цвета брючки или портфельчик или что скажет Марья Алексевна. А Левушка добивается места в жизни. Точнее, триста двадцать в месяц. А там, может быть, и больше. Вот и все. Вот что меня бесит!
Я раскричался, за соседними столиками оглядывались.
— Тише, тише, дружок. Но все-таки объясни мне, ты-то чего хочешь от жизни?
— Почем я знаю? Только не врать, не выламываться.
— Хе-хе! Да ты, браток, вылитый я. Честное слово! Ну, право, вылитый!
Я чуть со стула не упал. Я ростом в 185 сантиметров, семидесяти шести кило весом, я — вылитый дядя Кеша! Этот цыпленок!..
— Тоже я не вытерпел, сбежал, — продолжал дядя Кеша. — Посмотрел бы ты в то время на Владислава. Все воспитывать меня норовил… Да не в нем суть. Ты что, может быть, в битники собираешься, в хиппи, правды искать?
— Вот еще! Да они, как шуты гороховые, рядятся в лохмотья. Вот уж роль так роль! Всем на потеху.
— Это верно! Сейчас, так сказать, в моде хиппи, а в мое время в моде была шпана («щипана»). Ну, мелкие уголовники разные. Да. «Гоп со смыком, это буду я…» Впрочем, были и крупные… Тоже своя форма: брюки клеш, джемпер с полосками поперек пуза, кепи… Романтика!
Дядя Кеша опрокинул рюмку, деятельно закусил.
У меня от этих слов просто дыхание захватило: вот бы спросить, кто же наконец он?
— Дурак я был, скажу тебе, первостатейный. Редкий дурак. Ну и помотало меня по свету. Всего хватил. В стужу мерз, в жару пекся, горел. На железной дороге все станции и полустанки изучил, не поверишь, честное слово! Такого бича, как я, не было больше от Охотска до самого Владивостока. И все это, я тебе скажу, дурь. Чистая дурь. Уж поверь мне.
— Дядя Кеша, а вы женаты?
— Эк хватил, братец. Жениться — это тоже уметь надо! А я не сумел. Одинок, как килька, засохшая в неводе. Может быть, мимо своего счастья сорок раз проехал, да спрыгнуть с подножки не догадался. Дурак, говорю, был, в том-то и дело… Вот приехал в командировку, дай, думаю, взгляну хоть на племянников. На брата мне смотреть чего-то не хочется, а перед сестрой стыдно… Всегда было стыдно. Поверишь?.. Кстати, попрошу тебя, — он как-то искоса взглянул на меня, — матери о моем приезде лучше не говори. Нечего ее волновать… Усек?
— Усек. И дяде Владе?
— Никому. А к тебе личная просьба.
Он вынул блокнот, написал в нем что-то.
— Вот адрес. Сбегай, пожалуйста, завтра. Там тебе дадут чемодан, принесешь его на вокзал, сунешь в камеру. Номер не забудь записать.
Во мне что-то забилось. Чемодан! Неужели… Неужели дядя Кеша… Вот это да! Все-таки не порвал с прошлым!
— Я бы и сам, но, понимаешь, у меня еще сотня дел, а завтра вечером уезжаю. Так что уж выручи меня.
Я почувствовал себя как бы в центре детективного фильма. Ресторан, шум, табачный дым, а за столом самый настоящий, махровый преступник, и с ним неопытный, наивный новичок. Не хватает лишь сыщика, маскирующегося развернутым газетным листом.
Украдкой я скосил глаза в сторону, оглядел соседей. Ничего. Люди как люди.
Дядя Кеша опрокинул еще одну рюмку.
— Там, кстати, есть вывеска «Методический кабинет». Спроси Анну Христофоровну, она и выдаст чемодан…
Официант принес счет, дядя Кеша расплатился.
— Однако, — он взглянул на часы, — тебе пора, поздно уже. Да и мне пора занимать свою скамейку… Может, встретимся завтра, тогда и продолжим наш разговор.
Последние слова показались мне многозначительными, и я долго раздумывал о них. Может быть, дядя Кеша хочет втянуть меня в свою шайку? А может, я брежу, и чемодан не чемодан, и вообще все это — сон и блажь?
Утром я, не позавтракав, побежал по тому самому адресу. Нашел и дом, нашел и вывеску «Отдел культуры. Методический кабинет». Учреждение было еще закрыто, и я долго топтался, опасливо выглядывая из подъезда.
Я уже почти чувствовал себя «преступным элементом» и, кажется, ничуть не удивился бы, если бы вот сейчас подкатила машина и из нее вылезли детективы. Седой умудренный полковник и отважный молодой капитан с горячими глазами. «Рыбкин? А ну пройдемте к машине! Спокойнее, спокойнее, руки из карманов вынуть! Пошли!» Конечно, это все от бессонницы, в глубине души я, конечно, знал, что ничего такого не может быть и дядя Кеша всего-навсего дядя Кеша…
И все же: вдруг из-за угла покажется зверский тип в черных очках или накрашенная «маруха» в роскошном туалете?
Наконец учреждение открылось. Анна Христофоровна, седая старушка в золотых очках, встретила меня с любезной улыбкой.
— Значит, вы племянник нашего Иннокентия Львовича? Он предупреждал меня по телефону. Вот чемодан. Кстати, передайте Иннокентию Львовичу, пусть он обязательно зайдет к нам. Только что получила приказ о награждении его Почетной грамотой!
— Дядю Кешу?
— Он ведь опытнейший культработник. Труженик, подвижник настоящий. Дворец культуры, которым руководит товарищ Румянцев, считается у нас лучшим, образцовым. За пятнадцать лет работы ваш дядя очень много сделал. Очень много! Вы передайте, пожалуйста, чтобы Иннокентий Львович мне позвонил!
Я так удивился, что не сразу сообразил, при чем тут товарищ Румянцев. Потом уж дошло до меня, что фамилия дяди Кеши та же, что у дяди Влади и у моей мамы в девичестве…
Чемодан был очень тяжелый. Один замок действовал, второй, ржавый, был сломан. Я затащил чемодан домой и как следует перевязал веревкой. Но перед этим все-таки не удержался, заглянул внутрь. Чемодан битком был набит разной методической литературой. Книги о драмкружке, о хоровом пении, о кукольном театре и даже о раскрое легкого дамского платья… Какие-то брошюры…
Когда я тащил чемодан вниз по лестнице, навстречу попался Левушка. Он прошел мимо меня, как всегда ничего не замечая.
Я благополучно довез чемодан до вокзала, благополучно сдал его в камеру хранения. Потом заглянул в зал ожидания. Дяди Кеши там не было.
Я вернулся домой и стал искать, чего бы почитать.
Сунулся в книжный шкаф: «Дубровский», «Война и мир», «Отцы и дети», «Что делать?», «Мертвые души». Словом, все «классное чтение» было тут. У меня даже скулы свело, сразу захлопнул дверцу и повернул ключ. Половины этих книг я не читал. Так, посмотришь наспех да критическую статью в учебнике пробежишь, ну и ладно. Трояк обеспечен, а то даже и четверка. А уж надоели все эти «образа» просто до тошноты. Образ Чичикова, образ Дубровского…
Тут впервые мне пришла в голову мысль, что книги-то эти все, должно быть, очень интересные. Ну просто увлекательные книги, из тех, за которыми в библиотеке очередь. А после школьной канители читать их просто невозможно. Заболеваешь. Потребуется лет десять, не меньше, чтобы забыть про «образа», про типичных представителей, про удушающую среду и читать все насвежо, читать как следует, с удовольствием…
Может, я хохотал бы до упаду над похождениями этого жулика Чичикова и плакал бы над беднягой Дубровским, если бы не наслушался в классе про «деспотизм и самодурство Троекурова, типичного барина, помещика-крепостника, и про «накопительство и капиталистические тенденции гоголевского героя». Я долго раздумывал обо всем этом. И додумался до того, что школьные уроки литературы начали казаться мне какой-то колоссальной молью, пожирающей лучшие книги.
Потом я снова открыл шкаф, оглядел корешки книжек и поклялся себе, что обязательно перечту их все. Пусть только позабудутся немного. А пока отыскал последний номер «Крокодила», начал с первого фельетона, про то, как на базе воровали овощи. Выходило, что самый злостный враг — это сторож той базы. Меня совсем одолела зевота, и, если бы не соседка Зоя Ивановна, я бы, наверное, уснул. Но вряд ли кто сможет уснуть, когда к соседке пришла подруга и они за стеной распевают в два голоса.
Зоя Ивановна пела каким-то искусственным, металлическим тонким голоском. Впрочем, и говорила эта пожилая сухонькая женщина точно таким же голосом, щебечущим, пронзительным и немного в нос. Долгое время я не понимал, откуда у Зои Ивановны этот странный носовой голосок. Напоминает не то Петрушку из кукольного театра, не то Буратино. И только когда по телевизору стали демонстрировать тридцатилетней давности фильмы, я догадался: Зоя Ивановна подражала героиням этих фильмов. Недаром добрейшая соседка и одевалась-то по тогдашней моде: обесцвеченные кудряшки, платьице в горошек с круглым белым воротником, какие-то расклешенные длинные юбки. Видно, подражать начала она еще тогда, лет сорок назад. Вот это называется — «вжилась в образ»!
Ну а голосок? Тут я, если можно это так назвать, провел специальное исследование. В уме, конечно. Дело в том, что лет тридцать-сорок назад звукозапись была еще не на высоте. Вот поэтому и получилось, что героини экрана пищали-трещали такими неестественными, попугайскими голосами.
Но кино есть кино, кинозвездам всегда подражают. Не исключено, что все девчата того времени говорили точно так же, двигались рывками и были способны в любую минуту совершить какое-нибудь чудачество: например, обидевшись на ухажера, вдруг выпрыгнуть из лодки в реку и прямо в платье, саженками к берегу. Или, никому не сказав ни слова, взять да и укатить на Дальний Восток. Просто потому, что настроение такое, к тому же на улице дождь, а в вагоне сухо и музыка. А для Зои Ивановны я даже прозвище придумал: «Девушка с характером».
Служит Зоя Ивановна в заводской библиотеке и очень любит свою работу. Подружка ее тоже библиотекарша и приблизительно в таком же стиле. Только голос у той чуточку пониже, не такой пронзительный. И вот поют за стеной в два голоса:
На заре, белым-бела, Рано вишня расцвела, Полюбила я парнишку…— Пар-р-нишку, — раскатывается Зоя Ивановна.
— Паг-нишку, — вторит подруга. Она не выговаривает «р».
И обе:
А завлечь не завлекла-а!А дальше припев:
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-а-а! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-а-а!Когда начинается это ляляканье, я затыкаю уши, мне невмоготу, даже зубы начинают ныть. Бежать некуда, одна надежда, что скоро песня кончится. Подружки знают всего две песни: одну веселую, другую грустную, веселая — «сердце в груди бьется как птица, и хочется знать, что ждет впереди, и хочется счастья добиться». А грустная — эта самая, про парнишку. Всегда сначала поют веселую, а затем уж грустную.
Ну, слава богу, поют грустную, стало быть, веселую уже спели без меня. Скоро конец, так и быть, потерплю… Я крепче зажимаю ладонями уши.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-а-а!— Ты что это съежился? Заболел, что ли? И зеленый весь… Жару нет?
Оказывается, пришел отец. Заботливо щупает мне лоб.
— А мать где? Вроде договорились сегодня обедать пораньше…
Сразу мне стало легче. Когда отец дома, все кажется как-то прочнее. Даже уроки учить начинал я по-настоящему, только когда приходил с работы отец.
Отец усаживается напротив меня, устало протирает очки.
— Между прочим, спрашивал сегодня у Ситникова. Сашка у него на карбюраторный завод устроился. Говорит, доволен.
— Да? Ну вот и прекрасно. Пойду и я на карбюраторный.
— А я все-таки не понимаю. Чего ты так торопишься? Во-первых, подумать надо как следует, во-вторых, отдохнуть тоже неплохо…
— Чего там думать. Я не устал.
— Ну не скажи. Вон какой зеленый.
Отец разворачивает газету, углубляется в чтение.
— Знаешь, что я придумал, — неожиданно говорит он, — надо тебе куда-нибудь проехаться. В дом отдыха, например! На море! Похлопочу-ка я насчет путевки. Мне давно полагалась, должны бы дать…
Отец задумывается, по привычке покачивает ногой в домашней туфле.
Я гляжу на туфлю, на носок, самый обыкновенный, дешевый носок. Кажется, пятьдесят копеек пара. Отец всегда сам покупает носки: для меня — дорогие и яркие, а для себя — только такие, серые. Он говорит, что от дорогих носков у него ноги болят. Но я сильно подозреваю, что он это из экономии. На себе экономит. Готовое платье тоже из экономии, хотя не понимаю, почему бы отцу раз в пять лет не сшить себе хороший костюм или пальто. Чаще он, кажется, одежду и не покупает. А все готовое сидит на нем скверно: обязательно образуются складки сзади у воротника. Впрочем, у многих на улице я вижу такие складки. Воротник морщится и отстает, петля торчит наружу, как будто портные специально позаботились о том, чтобы при случае удобно было хватать за шиворот. Воротник торчит, прямо-таки провоцирует: раз, и схватил! По этим складкам у воротника я сразу узнаю готовое платье.
— Ну, что ты думаешь о море, сынок? А?
Море… На море был я только раз, и то в детстве. Почти забыл уж.
— Не знаю… Пожалуй, все-таки надо устраиваться на работу. Пора деньги зарабатывать.
— Деньги! Чепуха какая. Пока мы с матерью живы… Успеешь еще, наработаешься!
Отец начинает сердиться.
— Имей в виду, что такая возможность отдохнуть не скоро представится! Отпуска маленькие, к тому же в армию пойдешь, там уж не до отдыха будет! Думать надо, голова садовая!
Что там думать? Вместе со всеми я, пожалуй, поехал бы. А так, оставить отца и мать на работе, а самому — к морю. На всех, конечно же, денег не хватит…
В прихожей хлопает дверь, это пришла мама. Слышно, как она делится впечатлениями с Зоей Ивановной.
Моя мама — это прежде всего ворох свежих новостей. Дверь хлопнет, и вместе с запахом снега и духов: «А на улице гололед, в галантерею привезли цветную шерсть, артистка Вякина ушла от режиссера, а на кинотеатре висит во-от такая афиша, от угла и до угла, новый кинобоевик в четырех сериях. Очередь в кассу — до самой молочной!» И все это вынимая из авоськи свертки, баночки, селедки, ломкие прутья макарон.
Мама когда-то мечтала о сцене, даже раз выступала в какой-то маленькой роли, но дальше у нее не получилось, и осталась она при театре секретарем-машинисткой. На всю жизнь. «И хорошо, — говорила мама, — я даже рада, что так вышло. Что бы я стала делать теперь, при моей полноте? Диета? Спасибо, это не для меня!»
У мамы румяное, совсем молодое лицо. И не моложавое, а именно молодое. Быстрые карие глаза, коротенький круглый нос. Старит ее лишь полнота…
— Ребятки, обедать!
Из своей комнаты, потирая руки и держа нос по ветру, выходит Левушка. Мама разливает суп.
— Я вот говорю Виктору насчет поездки на море, — начинает отец. — По-моему, надо ему поехать. Путевку мне должны выдать.
— Ах, Витя, Витя! Как подумаю я, зачем ты забросил музыку, — начинает мама. — Был бы сейчас пианистом, и никаких забот… А насчет путевки — вряд ли на сентябрь дадут. Бархатный сезон, все начальство на юге. Вот если бы пораньше… Ну что же, Витюша, я могу поговорить у себя в месткоме. Были у нас путевки в дом отдыха Подсолнечное…
Отец наклоняется над тарелкой, складки у воротника куртки становятся дыбом.
— Нет, зачем же Подсолнечное? — хмуро протестует он. — Я сказал — достану на юг.
— Ну хоть не на юг. Не всем же на юг, — кротко возражает мать. — Надо заранее смириться. Чем плохо в Подсолнечном? Зато близко!
Левушка ест, поглядывая в развернутую брошюру.
— Ты что это, — обращается к нему отец, — выходит, разом оба вида питания получаешь — и телесное и духовное? Отложи-ка книжку, ешь по-человечески! Кстати, как там у тебя дела в институте?
Левушка перестает читать.
— Ничего, все пока благополучно. Проясняется тема моей будущей кандидатской. Скоро начну… Вчера Алевтина Петровна заезжала к нам, сказала, что…
— Как, разве к нам заезжала сама Алевтина Петровна? — вскрикивает мама. — А в доме беспорядок, развал! Уж представляю себе! Ужасно!
— Насчет развала — не заметил, — резонно отвечает Лев, — об этом надо спросить нашего Митрофанушку. Он без дела мается, мог бы и убрать.
— Ну ладно, ладно, — примирительно бурчит отец. — Нашел Митрофанушку.
— Витя, сыночек, — стонет мама, — неужели у нас вчера был беспорядок? Мне, право, стыдно!
— Да никто к нам не заходил, успокойся! — Я разозлился.
— Как же? А Алевтина Петровна?
— Не знаю. Заскочила во двор какая-то дама. На минуту заскочила и сразу уехала. Может, это Алевтина Петровна и есть.
Лев начал краснеть. Краснеть он начинает обычно с носа.
— Господи, Левушка, неужели ты обращаешь внимание на разные глупые выходки! — Мама повернулась ко мне. — А тебе стыдно. Стыдно задевать старших!
— Вот! Всегда так! — Левушка выскочил из-за стола, забегал по комнате. — Своего любимчика вечно выгораживаете! Скоро совсем на шею сядет! Работать невозможно.
— Ну ладно, ладно, успокойся. — Отец махнул рукой. — Оба вы хороши. Ты тоже к нему придираешься!
— Что делать, что уж есть, то и есть, — сказала мама. — Задеваете друг друга, деретесь… А надо прощать. Я вот все терплю… На шею так на шею, оскорбление так оскорбление… Все приму. Чего уж тут. Что уж будет. Один такой, другой сякой. Какие уж есть.
— С таким отношением далеко не уедешь! — заорал Левушка и забегал еще быстрее. — Вы даже не подозреваете, с какой компанией он связался.
— Что? Что? — заволновалась мама.
— Ты это, брат… Думай, что говоришь, — недоверчиво сказал отец.
— Я-то думаю! Не знаю вот, что здесь думаете вы!
— А что такое? Что за компания? — осторожно осведомился отец.
— Глупости все.
— Как же, сознается он, ждите, — усмехнулся Левушка. — А дружбу водит он не с кем иным, как с дядей Кешей.
Левушка оглядел всех, оценивая впечатление.
— С небезызвестным вам дядей Кешей из Хантайска, который скрывается где-то здесь, в городе.
Надо было видеть лица родителей. Все молчали.
— Вчера видел этого лопуха на лестнице с каким-то чемоданом, — добавил Лев. — Темное дело.
— Господи! — прошептала мама. — Что же это такое? Кошмар какой-то!
— Да ты не волнуйся, — уговаривал отец. — Ну что особенного? Сейчас Виктор нам расскажет… Давай, Витя, рассказывай. В чем там дело? Что за чемодан?
— А ничего я не расскажу. Не имею полномочий!
— Видали? — Лева торжествовал. — Что я говорил?
— Значит, дядя Кеша в городе? — настаивал отец.
— Боже мой, двадцать лет от брата ничего не было, я думала, он навсегда забыл нас или вообще… И вот опять начинается! Я не переживу этого! Снова суды, следствия, весь этот ужас! Какой позор!
И вдруг мама крикнула:
— Говори! Что у тебя было с этим… Где он скрывается?!
Удивительно, как быстро соскочило с мамы «христианское настроение».
— Я это так не оставлю! Я сейчас же позвоню Владиславу! Он обязан вмешаться. Он старший из нас, пускай немедленно примет меры.
При упоминании дяди Влади я было поежился, но потом подумал: «Ну и что же? Пусть вмешивается. А что он может сделать дяде Кеше? Ровным счетом ничего! К тому же сегодня он уезжает». И я решил выжидать. Родители нервничали, то и дело приступали ко мне с расспросами, но я прочно уселся в кресло, сложил руки на груди и просидел так до самого вечера.
То и дело мать подбегала к телефону и звонила Владиславу Львовичу. Его не было ни дома, ни на работе. Часов в шесть дозвонилась все-таки.
— Владик, Владик! Ты знаешь, какое у нас несчастье! Снова объявился братец! Какой? Забыл, что ли! Кеша из Хантайска! Да, да, можешь себе представить. Да, я тоже! Ужасно, ужасно. Этому конца не предвидится. И представь себе… Нет, приезжай срочно, это не телефонный разговор…
Мама бежит на кухню, по квартире разносится запах валерьянки. Слышно, как трещит голосок Зои Ивановны:
— И надо же, вот какой несчастный пар-рень! Опять за старое!.. Носит его по свету, никак остепениться не может. Да вы успокойтесь, Машенька, дорогая, может быть, так, ложная тревога.
Зоя Ивановна живет в этой квартире давно и отлично помнит дядю Кешу.
Когда наконец появляется Владислав Львович, она торчит тут же, в дверях. Морщинистое личико выражает крайнюю степень возбуждения, то и дело поправляет она голубую ленточку на голове, глаза раскрыты широко, почти вытаращены. Вообще Зоя Ивановна любит все неожиданное, страшное. Мне кажется, она все время тайно ожидает какого-нибудь «вдруг». Вдруг… дверь раскрывается и вбегает… Шпион, вор, преступник, черт с рогами или что-нибудь в этом роде. Вдруг… он выхватывает револьвер. Иногда я из комнаты слышу, как в коридоре вдруг ахнет Зоя Ивановна. «Зоя Ивановна, что с вами?» — «Да представьте себе, несу кастрюлю, и вдруг… Ой! А оказалось, это ваше пальто!»
Чувствуется, что соседка сегодня обрела наконец свое долгожданное «вдруг». То-то будет запираться на ночь! На три замка и цепочку.
Дядя Владя тоже возбужден. Плащ нараспашку, круглая шляпа съехала набок. Но все равно это респектабельный, властный дядя Владя.
— Ну, рассказывай, где он?
Я твердо решил молчать. Пусть. Пускай принимает свои «меры» к дяде Кеше, скромному культработнику из поселка Пурга. Тем стыднее будет потом.
— Чего молчишь? Говори!
— Рассказывай сейчас же! — Мама трясет меня за плечо.
— Постойте, тут что-то не так, — вмешивается отец. — Чего привязались к парню? Какая-то ерунда получается. Думаю, что Иннокентий и сам позвонил бы, если, бы приехал. Куда же ему пойти, как не к нам?
Из соседней комнаты выглядывает Левушка.
— Я не хотел говорить, потому что не желаю ввязываться в это дело. Но так и быть, скажу. Он сидит на вокзале, на первой скамейке. Сам слышал, как договаривались по телефону… Вчера этот идиот стащил туда какие-то вещи.
— Вещи?
Дядя Владя круто повернулся, застыл посреди комнаты.
— Чемодан. По-видимому, тяжелый.
Все смотрят на меня. Выцветшие глаза Зои Ивановны вот-вот выскочат из орбит. Неожиданно она метнулась, прижалась к маме, нежно обняла ее. Как на фотографии. Мама, кажется, вот-вот лишится чувств.
— На вокзале? Чемодан?! — кричит дядя Владя. — Я ему покажу чемодан!.. Сейчас же позвоню в милицию!
Он делает шаг по направлению к телефону.
— Ай! Ай! Брат, не делай этого! Умоляю! — Мама простирает вперед руки. — Умоляю! Подумай о моем сыне! Ведь его наверняка заберут. Надо уладить все посемейному. Витя, Витя, подойди ко мне!
— По-семейному?! — рычит дядя Владя. — А подумала ли ты, сестра, как это может отразиться на моем положении? Ведь уже до чемодана дело дошло! Знаем мы своего братца!
— Никогда! Вором Иннокентий никогда не был, ты все врешь, врешь! — истерически кричит мама.
— Я ничего не понимаю, — говорит отец, — раскричались, а может быть, все попусту. Ну взяли бы съездили на вокзал, пригласили бы человека, расспросили бы, что и как… Давайте я съезжу.
— С ума сошел! — кричит мама. — Не желаю ничего иметь общего с ним. Сколько намучились! Если… Если только ты поедешь на вокзал, я… Не знаю, что я сделаю. Разведусь с тобой! Вот!
Отец пожимает плечами, выходит из комнаты.
Про меня забыли. Дядя Владя вышагивает по комнате, разговаривает сам с собой, он любит размышлять вслух: скверная история, скверная история. Появление этого человека, чемодан… Бог знает что! Позвонить в милицию, окажешься замешан. Этакое родство… Встретиться с ним — опять же втянут во что-нибудь… Соучастие. Ума не приложу…
— Владислав Львович, — подсказывает соседка, — вы ведь знаете, что сначала мелкое правонарушение, затем крупное…
— Да уж было и крупное! — раздраженно сопит дядя Владя.
— Вот я и говорю… А крупные правонарушители, вы понимаете, могут быть связаны с кем? Тут ниточка далеко протянуться может! Очень, очень далеко…
— О-ох! — стонет на диване мама.
На миг выглядывает Левушка:
— Я, во всяком случае, тут ни при чем! Так и запомните!
И снова скрывается.
Отец в соседней комнате сердито фыркает и шелестит газетой.
Я понимаю, что сейчас все примутся за меня вплотную, и поэтому выхожу, потихоньку открываю дверь — и бегом по лестнице. Надо все-таки предупредить дядю Кешу, если он еще не уехал.
Как все-таки странно! Такой с виду незначительный, тщедушный человечек перепугал и всполошил всех, даже всемогущего дядю Владю!
Ну а если бы я все рассказал им? Про Дворец культуры, про Почетную грамоту? Нет, все равно не поверили бы. Пустой номер.
У самого вокзала меня застал дождь. Я заторопился, подумалось почему-то, что опаздываю, перебежал площадь. Пузыри так и топорщились в лужах, хлестало вовсю.
В зале ожидания было душно, народу — битком. Башмаки шлепали по мокрому кафелю. Я с трудом отыскал дядю Кешу. Он дремал в углу, ножка на ножку, ручки скрестил. Вид у него был грустный. Мне он обрадовался так, что я даже удивился.
— Витюша! Вот молодец, что зашел! Вот спасибо! А то сижу тут, скучаю, понимаешь. Ну, как там у вас?
Что-то послышалось мне в этих словах, какое-то ожидание, что ли…
— Да ничего. Все в порядке. Чемодан я доставил. Кстати, поздравляю вас с наградой.
— За чемодан спасибо. А награда что же, у меня их целая папка накопилась. Ты лучше расскажи, как дома-то? Может, в ресторане посидим? — спохватился он.
— Нет, нет… Я ненадолго, так просто забежал. Да и обедал только что…
— Ну а без тебя и подавно не пойду. И есть-то не хочется…
Мы оба почему-то замолчали.
Я рассматривал толпу пассажиров, разные пестрые баулы, чемоданы, тюки.
Дядя Кеша как будто ждал, что еще сообщу я новенького. Молчание затянулось.
— Кратковременный зарядил, — сказал я.
— А? Что?
— Кратковременный, говорю, зарядил.
— А-а… Да ты, брат, вижу, остряк. Хорошее качество!
— Куда уж там!
Мы снова замолчали, наконец я спросил:
— Дядя Кеша, вы ведь сегодня уезжаете?
— Да, понимаешь, брат, тут такая петрушка вышла. Словом, билет мне продали только на послезавтра. Так что еще и сегодня и завтра сидеть… Вот, братишка, дела какие.
Я обомлел. Не миновать, видно, дяде Кеше неприятностей. Вот-вот нагрянут родственники…
— Может, вы все-таки к нам заглянете?
Но сказал я это неуверенно, скорее даже фальшиво сказал.
— Нет, что ты, браток… Я же объяснял тебе положение дел. Да ты не тормошись! Может быть, я переночую сегодня в гостинице. Обещали!
И он еще крепче скрестил руки, а ноги вытянул, должно быть, затекли.
Ну, раз так, то и предупреждать его нечего. Пускай оскандалится наша семейка. Так нам и надо! Я вконец затосковал.
— Думал я тут о тебе, — продолжал он, — интересного много ты наговорил. Насчет формы и насчет места, которое тебе занимать… Как это ты сказал: муравьиная роль. Хе-хе-хе! И выдумщик же ты! Сдается мне, что никакой муравьиной роли и не существует!
— Как так?
— Да разве муравей, когда он травинку тащит, считает это травинкой? Нет, брат, ошибаешься. Ему кажется, что бревно целое волочет. А раз бревно, значит, и он не муравей, а богатырь. Вот как получается-то, дружок.
— Со стороны виднее, — брякнул я.
И осекся. Потому что вдруг он это про себя?
— Не спорю, не спорю, — как-то сразу согласился дядя Кеша. — Но вот поживем — увидим! А тебе, я советую, надо учиться!
— Дядя Кеша, а что, если мне поехать к вам? Как вы подскажете? Работа ведь найдется?
— Ш-шутишь! — Он откинулся, с удивлением посмотрел на меня. — Да ты знаешь, какие специалисты у нас нужны? Высшей категории! Инженеры, программисты, операторы на разных вычислительных устройствах. А таких парней, как ты, и своих достаточно. Я вот жалею, что поздно учиться стал… Знаешь, как солоно приходится? Нет, ты не знаешь, где тебе.
— Учиться. А на кого? На кого мне учиться?
— Это уж тебе лучше знать. Но, по-моему, все равно, лишь бы начать с чего-нибудь. Учись, работай и дороешься наконец до самого главного. Только не ленись! Главное, ты очень еще молодой, время у тебя есть. Не то что у меня! Так-то, браток! Главное, не теряйся! Учись, и все тут. Проучишься пять лет, хорошо, а если семь — то и еще лучше. Больше узнаешь, больше потом отдать сможешь, больше тебе цена.
— Так-то оно так. Лишь бы начать поскорее!
— Не бойся, начнешь!.. Главное, плюнь ты на неудачи, жизнь ведь задает иногда такие загадочки… А ты плюнь и знай свое — учиться. Советую!
Он помолчал.
— Знаешь, иногда я даже удивляюсь, как быстро проходят всякие огорчения, всякие кислые дни. Закрыл глаза, — он зажмурился, — снова открыл, вот и все позади. Честное слово, не поверишь. Подумаешь об этом, и сразу перестаешь бояться. Человек не должен бояться. Человек желает уважать себя! Без этого ему хана!
Мы поговорили немного еще, потом попрощались, и я уехал.
Дома было тихо, пахло валерьянкой, на кухне отец жарил себе яичницу. Значит, ужина не было. Я потихоньку пробрался в свой угол, быстро разделся и притворился, что сплю.
Утром я пожалел, что не поговорил с отцом. Надо было все ему рассказать, он поверил бы. Но делать нечего, отец был уже на работе. Звонить было бесполезно. Служебный телефон у них всегда был занят, и пользоваться им не разрешали. На всякий случай я позвонил пару раз и махнул рукой. Да и зачем, в сущности? Отношение родни к дяде Кете все равно не изменится, я это видел. Не желали они иметь с ним дела, вот и все. Вообще как-то унизительно: ах, вы заслуженный культработник, тогда пожалуйте на семейный чаек, милости просим. А если нет, тогда катитесь отсюда, подозрительная личность! Другое дело, если бы сразу: чем помочь? Как выручить? Только так, а не иначе… А дядя Кеша желает уважать себя, это-то я хорошо понял… Да и сам он велел молчать, разве не так?
В этот день обед у нас опять расстроился. Только что сели за стол, как появился дядя Владя. На нем лица не было.
— Я с вокзала. Вы представить себе не можете — сидит!
Все повскакали из-за стола, тут же откуда ни возьмись появилась Зоя Ивановна.
— Сидит!
— Подумайте, сидит!
— Сидит, о господи!
Дядя Владя, заложив руки за спину, забегал по комнате. Полы плаща развевались на ходу как паруса.
— Да ты говорил с ним? — забеспокоилась мать. — Что он делает на вокзале?
Дядя Владя на миг остановился перед матерью.
— Если тебе так хочется побеседовать со своим родным братцем — пожалуйста! Я же просто не имею права это делать. Да и не хочу! Не хочу, и все тут. Я только ездил взглянуть, и все! Сразу узнал голубчика!
И он снова забегал.
— Что же делать? Надо все-таки что-то делать.
Мать вытащила из кармана платочек, уткнулась в него.
— Надоела эта канитель, — сказал отец. — Что он не заходит, не звонит, это действительно странно. Тем не менее проще пойти, поздороваться, пригласить к себе…
Дядя Владя только презрительно глянул на него…
* * *
Среди ночи я вдруг проснулся с ощущением странной пустоты в голове. Как будто все лишние мысли и чувства испарились куда-то, и я мог думать теперь на свободе о самом главном, во всяком случае мне ничто не мешало. Багровая рожа дяди Влади, сморщенное личико Зои Ивановны, удрученный происшествием нос Левушки — все отъехало на задний план и больше меня не тревожило. Окно в комнате было распахнуто, покачивались черные ветви дерева, за ними ровно светила чистая, как зеркало, луна. Было прохладно.
Я стал думать о том, как лучше поступить: сразу заявиться в отдел кадров «Карбюратора», захватив, конечно, все документы, или сначала увидеться с Сашкой Ситниковым — мы с ним на одной парте сидели до восьмого класса. Поговорить, что за работа, справлюсь ли я, каков минимальный заработок и так далее… Конечно, прав дядя Кеша, время терять нечего. Какое там море, устраиваться надо. Работать и учиться… Интересно, кстати, получил ли дядя Кеша номер в гостинице или все еще сидит?.. И вдруг меня осенило: а что, если дядя Кеша все это время ждал, что родные придут и пригласят его к себе?! Ведь столько лет не видались! Правда, запретил мне говорить о нем дома, но что, если это он просто так? А сам сидел и все время ждал! И в душе надеялся?
Какой же я болван! Тупица, дурак, идиот! Может быть, и надел он новый костюм специально для этой встречи! Конечно! А то кто же ни с того ни с сего будет в этаком костюме валяться на вокзальной скамье!
То-то он все время спрашивал про дом, про мать. А эта отсрочка? Ведь это он нарочно поменял билет на двое суток позже! Потому что надеялся, что я проговорюсь дома, потому что ждал! Сам прийти не мог без приглашения. Это и понятно. Еще бы, если так здорово насолил в молодости, как тут придешь!..
Долго я вертелся, ругал себя последними словами. Под утро все-таки уснул. Когда вскочил с постели, дома никого не было. Я помчался на вокзал. В зале ожидания было почти пусто. Дяди Кеши не было. Я прошел на перрон, потом прочитал расписание поездов на фанерном щите. Поезд на Красноярск уже ушел. Я поплелся к выходу. В очереди у газетного киоска вдруг увидел отца. Он стоял сгорбившись, в своем поношенном пиджаке. Складки, как всегда, набегали на воротник.
— Уехал Иннокентий Львович, — сказал отец. — Привет тебе передавал.
Отец помолчал.
— Между прочим, какой человек интересный! Достойный человек. Жаль, что так получилось…
Он развернул газету, стал читать на ходу. Я спросил:
— Ты что, на работе не был?
— Придется опоздать, — отец кашлянул. — Надо же было проводить человека.
Мы подошли к остановке.
— Оба вы чудилы, — оторвавшись от газеты, добавил отец. — Старый да малый. Но все-таки тебе-то надо было иметь соображение. Он гость, а ты хозяин. Вот что.
Больше об этом мы не говорили.
Дома я собрал все свои документы, сходил в домоуправление за справкой с места жительства, потом присел у пианино. Играть я давно уже разучился, мне и в голову никогда не приходило что-нибудь сыграть. Я и ноты почти уже позабыл… Просто от скуки открыл крышку. Сразу обдало запахом пыли, старого дерева, лака. Представилось, что я мальчишка, лет десяти… Я осторожно взял одну ноту, другую. Так непривычно запело, что даже мурашки по спине прошли… Получилась мелодия, все выше, выше, нота за нотой, а потом обрыв. Обрыв как вопрос. Я снова и снова повторял ее. Ми-ля-си-до и длинное-длинное ми, все вверх и вверх… И потом еще другие ноты, каждый раз новые. А может быть, и правда напрасно я бросил музыку?.. Я посидел еще, прислушиваясь. И тут я услышал в себе что-то особенное, радостное. Сначала исподтишка, а потом все шире и шире. Все равно как перед новогодними каникулами или как перед выходом на сцену, когда на школьном вечере читаешь стихи. Я понял, что все будет хорошо, больше того, все будет отлично.
Эх, черт! Человек может все! А я что, не могу? Пойду жить, пойду искать свое главное. Искать, как ищут белые грибы. Неустанно искать свой счастливый белый гриб. Кто вышел на рассвете, найдет больше!
Я сложил документы в папку и пошел устраиваться на работу.
МЕСТЬ МАГАРАДЖИ
Все произошло в тот самый день, когда Вероника Павловна рассказала мужу о скандальном происшествии: дочь соседки, семнадцатилетнюю Вальку, ночью отвезли в родильный дом.
— И, разумеется, благополучно разрешилась от бремени. — Вероника Павловна шутливо пожала плечами. — В таких случаях всегда все благополучно. Да еще мальчишку родила, весом в три с половиной кило! Вот как! Отец неизвестно кто, неизвестно где, как и почему. Вообще ничего не известно.
Она отхлебнула кофе, положила в чашечку кусок сахару.
— Наша Лида Яковлевна только руками разводит да слезы льет. Но ведь давно следовало ожидать чего-нибудь подобного! Я бы, наоборот, удивилась бы, если… Посуди сам: девочка работала на трикотажной фабрике, это за городом где-то. Там же и училась, ночевала то в общежитии, то у подруги. Вот и… Сам понимаешь.
Вероника Павловна подвинула поближе к мужу тарелочку с ломтиками кекса. Мельком взглянула на массивное, в тонких красных прожилках лицо.
— Ты что, сегодня в институт не торопишься? Еще чашечку налить?.. Мне казалось, тебе сегодня к девяти…
Алексей Петрович недовольно нахмурился, пожал плечами.
— Нет. Несколько позже…
— А что?
— Обыкновенная история. Возня с гостями. Коллеги из Парижа, Бордо, Льежа. Прием. Не люблю. Суета сует…
Он шумно выдохнул, сложил руки на животе, квадратные тяжелые плечи опустились.
— И без меня справятся.
Вероника Павловна промолчала, она вполне понимала мужа: пришлось бы говорить по-французски, а язык Алексей Петрович знал весьма слабо, если не сказать больше…
Она уткнулась в свою чашку, чтобы скрыть улыбку: представилась вдруг блинообразная физиономия приятельницы, жены профессора Рогожина, ее тягучий ленивый голос: «Ваш-то, милая, из простых, сразу видно. Не обижайтесь, дорогуша! Зато мужчина! Представительный, умеет себя показать, словом, не то что мой Вениамин, сушка с маком, да и только»… Тут Вероника Павловна не удержалась и фыркнула. Сушка с маком! Надо же! Это о Вениамине Тихоныче, талантливом математике, известном даже за рубежом. Рогожина умеет высказаться, умереть со смеху можно. Ее бы в театр!.. А об Алексее Петровиче-то: «из простых»… Этак с французским прононсом полупрезрительно, полусочувственно. Она фыркнула снова. Для того чтобы успокоиться, поскорее вызвала в памяти скорбный образ Лидии Яковлевны, обманутой матери, ныне, увы, почти бабушки.
Алексей Петрович поднял свои лохматые седеющие брови.
— Что с тобой?
— Так. О Лиде Яковлевне вспомнила. Бедная женщина. И надо же! Как снег на голову!
Алексей Петрович внимательно взглянул на жену, поставил кофейную чашку на блюдечко, помолчал, припоминая.
— Кажется, это я рекомендовал Лидию Яковлевну в институт.
— Да. Она и сейчас там работает. Машинисткой… А что? Разве это имеет какое-нибудь значение?
Алексей Петрович выдернул салфетку из-за ворота, скомкал, бросил на стол.
— Представь себе, имеет!
Резко двинул стулом, поднялся, грузно ступая, направился в свою комнату. Возвратился, на ходу застегивая толстый желтый портфель.
— Не понимаю, — недоумевала Вероника Павловна. — В конце концов, не в твоем же институте. Тебе-то какое дело?
Она тщательно протирала полотенцем кофейный сервиз. Любуясь, просматривала тонкие чашечки на свет. Ставила осторожно каждую вещицу на скатерть.
Алексей Петрович вдруг шлепнул тяжелый портфель на стол. Чашечки подскочили.
— Что ты?
— По моей рекомендации приняли!.. А кого?! Грязная история. Помнится, это ты меня упросила.
Алексей Петрович уставился на жену.
— Ну, знаешь ли!..
Вероника Павловна быстро собрала посуду, повернулась спиной, молча удалилась на кухню… Муж последовал за ней.
— Извини, пожалуйста… Но ты представить себе не можешь, как все это некстати. Прямо чертовщина! На той неделе состоится совет. Тема: о моральной ответственности перед молодым поколением. И доклад, вероятно, поручат мне.
— Ну и что же, — вставила невозмутимо Вероника Павловна.
Алексей Петрович побагровел. Стал заметнее седой ежик волос надо лбом.
— Уф! Что с тобой говорить. Тяжко.
Неловко начал стягивать с плеч пиджак, бросил на стул. Сдвинул галстук вбок, расстегнул ворот своей обширной накрахмаленной белой сорочки.
— Дай другой пиджак, полегче!
Вероника Павловна принесла.
— Ты ведь знаешь, — раздраженно продолжал он, — что вся общественная работа, все дрязги, да и все фактическое руководство кафедрой — все лежит на мне!
Алексей Петрович говорил громко, раздельно. Каждое слово увесисто, гулко бухало под сводами отделанной дубовыми щитками кухни. Жена возилась с посудой. Он умолк. Посидел, побарабанил пальцами по кухонному клеенчатому столу. По привычке стал разглядывать свои руки. Пальцы толстые, с квадратными ногтями, все в рыжих волосах. Желтые веснушки густо усыпали кожу — до самой кисти. Зрелище это успокаивало: привык за долгие годы — заседания, ученые советы, вечно в президиуме, вечно руки на столе, перед глазами, а глаза — вниз, на руки.
— Вот еще загвоздка — совет, — уже спокойнее заговорил он. — Придут представители дружественного, так сказать, вуза. Ректор, завкафедрой, старшие преподаватели.
— Кстати, узнаешь, как там у них Юрик наш, — вставила жена.
— А что? — насторожился Алексей Петрович.
— Да ничего!.. Спрашивала о зачетах, что-то помалкивает. Книжку зачетную искала, не нашла. И вообще какой-то странный… Как на дачу к приятелю укатил к экзамену вместе готовиться, так и не появлялся. Вторая неделя пошла! Спасибо хоть телеграмму дал… Ты бы позвонил все-таки Марку Владимировичу, как там он сдал зачеты.
Алексей Петрович хмыкнул, иронически взглянул на жену.
— Вот, вот. Он меня спросит, кого я им в секретарши подсунул, а я в ответ: «Не знаете ли, как там у вас учится мой лоботряс?»
Лоботрясом Алексей Петрович обозвал сына только так, для красного словца. На самом-то деле он гордился сыном, знал, что Юрий скорее уж идеальный студент, образец трудолюбия, талантливый физик, прекрасный товарищ. Так и в школе его всегда аттестовали. Правда, учился сын пока еще на первом курсе, но Алексей Петрович не сомневался, что со временем Юрий займет надлежащее место в своем институте… И не из последних, отнюдь не из последних!.. Ничто не пропадает даром. Воспитание есть воспитание. Спорт, музыка, языки, да что там говорить! Не жалели ни сил, ни средств!
Алексей Петрович надел пальто, жена протянула ему пушистый коричневый шарф.
— Новый?
— Специально заказывала у одной тут мастерицы. Носи на здоровье.
— Спасибо, киска.
Он поцеловал жену в лоб.
— Все-таки это счастье, что у нас не дочь, а сын, — с грустью вздохнула Вероника Павловна.
— Не вижу разницы. Воспитание есть воспитание, — повторил вслух свою мысль Алексей Петрович. — Уверен, что и дочь мы смогли бы так же отлично воспитать… Сын или дочь, не вижу разницы.
На лестничной площадке он сразу увидел Лидию Яковлевну. Крохотная женщина с бледным, горестным, каким-то козьим лицом. Вязаная серая шапочка с помпоном, такие шапки носят лыжники, лохматый лисий воротник. Суетилась у своей двери, позвякивала ключами, замок, видно, заело. Алексей Петрович, не раздумывая, направился прямо к ней.
— Лидия Яковлевна! — громко заговорил он. — Что же это творится?
Женщина прошептала что-то вроде «здрассте», кивнула, виновато улыбнулась.
— Вы получили от меня рекомендацию, воспользовались, так сказать, моим авторитетом, и вот, пожалуйста… Как же вам не стыдно! Ведь, если разобраться, это черт знает что такое! Единственная дочь, и ту не сумели как следует воспитать. С таких лет… Спрашивается, где вы были?
Слова его раскатывались в лестничных пролетах. Лидия Яковлевна втянула личико в облезший воротник. Обоими кулачками вцепилась в авоську с картошкой, так что суставы побелели. На пальце — старое, потертое обручальное колечко.
— Алексей Петрович!
Она подняла глаза.
Щеки его пылали, массивные суконные плечи громоздились, застилали свет.
— Ведь я не виновата, ведь вы тоже отец, Алексей Петрович, можете понять…
— Да! Я отец и горжусь этим, — отрубил Алексей Петрович. — Немало сил положил, и недаром! Сына вырастил, друга, можно сказать, воспитал, единомышленника! Вы думаете, что все просто, что все само собой делается? Нет, уважаемая, нет! То, что у вас произошло, позор!
Алексей Петрович перевел дух. Лидия Яковлевна заплакала, и это окончательно разозлило его. Слез он не выносил. «Плачут, страдают, мошкара этакая. Слабые, видишь ли. А отдуваться за вас нам, так сказать, сильным!»
— Во всяком случае, не рассчитывайте на меня, если неприятности на работе начнутся, — добавил он, нажимая кнопку лифта. — С меня довольно.
— Господи, да кто же вас потревожит! — всхлипывала Лидия Яковлевна. — Побойтесь бога! Счастье ваше, таких сыновей, как ваш Юрик, и не бывает нынче. Ангельский мальчик. Так это же вам повезло просто, повезло! Зря вы этак обижаете, не ожидала от вас!
Он вошел в лифт, захлопнул дверь.
«Во всяком случае, я честно высказал то, что думаю, — размышлял Алексей Петрович, спускаясь. — Я не остался в стороне. В случае чего я беседовал, я в курсе. Какая-то доля ответственности лежит и на мне. Ведь я же все-таки рекомендовал…»
Вероника Павловна тем временем приняла ванну и занялась туалетом.
Она любила эти утренние часы, когда оставалась одна в квартире, а за окнами еще сумерки, осенняя распутица или косой снегопад… Включила плафон у туалетного столика, начала одеваться. Неплохо бы, конечно, поваляться еще немного в постели с книжкой, но сегодня, пожалуй, некогда. Вечером приедет Юрик, надо купить чего-нибудь вкусного к столу… Можно свежайшие антрекоты, фрукты… Обязательно сыр, его любимый.
Она застегнула на все крючки полукорсет, натянула чулки. Все это не отрывая взгляда от зеркала. Белье было персикового цвета — любимый цвет Вероники Павловны.
Взглянула в зеркало: в электрическом свете лиф почти не отличался от персиковых плеч — еще держался южный загар. «Для своих сорока лет хороша, — подумала Вероника Павловна. — Хороша, только никому это не нужно…» Усмехнулась, провела ладонями по лицу, шее… Легкий утренний массаж.
«А кому вообще мы нужны? Нужна производительность труда или еще там какая-нибудь польза. А женщина не нужна. Хотя бы и Алексей Петрович, ну что он понимает? А еще доктор наук, кафедру ведет…»
Она включила плафон с другой стороны зеркала, вгляделась в свое лицо. Все-таки нижняя часть того… Чего доброго, скоро двойной подбородок наживешь. Ничего! Усилить массаж… Зубы. Ах, эти золотые пломбы… Их многовато. Любовь к сладкому не прошла безнаказанно… А эта новая пара — лиф и полуграция — очень ловко сидит. Превосходно! Туго, но удобно. И цвет… Ну все! Кончено. Накинем этот простенький халатик, никто и не догадается, что под ним такой шик. Маленький секрет. Так. Вот и молодцом.
Вероника Павловна причесалась, повозилась еще немного с флаконами, баночками на подзеркальнике, затем выключила оба плафона.
Пора и завтракать. Правда, утром пила кофе и что-то ела вместе с мужем, но это не в счет… Вероника Павловна любила покушать в одиночестве, не спеша, смакуя любимые лакомства: ломтик заливной осетрины, кусочек сыра, шоколадку, чашечку кофе по-турецки, ложечку орехового варенья.
Но довольно лакомиться. Стоп!
Пора, пожалуй, и в магазин.
Убирать квартиру дважды в неделю приходила работница, она же приносила картошку и другие овощи, но остальные продукты покупала сама Вероника Павловна, это служило ей и прогулкой и спортом.
Раздвинула шторы… Дневной свет, густой снегопад. С удовольствием прошлась по своему четырехкомнатному царству. Квартира блестела чистотой. Темно-зеленый ворсистый ковер на блестящем паркете всегда напоминал ей дремучий лесной мох. Она гордилась своим умением расставить вещи так, что было и оригинально и просторно. Ничего лишнего, но все нужное есть. Комфорт. Изящество.
Вероника Павловна подошла к окну. На улице сейчас немного народу, пусто, бело. Вот пораньше, часа два-три назад, совсем другая картина: черный поток людей, все спешат на работу. В метро, должно быть, давка. Ужас.
Иногда она вставала на рассвете, специально чтобы посмотреть сверху на этот кошмар: холодно, дождь… Вероника Павловна плотней куталась в теплый халат. Внизу вереницы озабоченных, торопливых женщин. Есть и совсем девочки. Сумерки, морось. Бр-р… А если недомогание? Ну, обыкновенное, женское. Все равно бежать, висеть на подножке автобуса? Боязнь опоздать на работу. Ужас. Какое счастье, что она догадалась в свое время выйти замуж за Алексея Петровича. Она была студенткой второго курса, он читал у них лекции по истории Древней Руси. Алексею Петровичу было сорок один, ей — двадцать… Ну и что же. Необходимая разница в годах, ценз устойчивости и обеспеченности… Ничего не поделаешь, удел красивой женщины быть женой обеспеченного человека. Алексей Петрович был, без сомнения, именно таким. Солидный перечень печатных трудов, ученая степень, положение в обществе. Конечно, кое-чем пришлось пожертвовать. Ничего не поделаешь, надо уметь приносить жертвы… Как и у любой девушки, у нее тогда был свой Гриша… Ну и что же? Она бросила и Гришу и институт. Нет, нет, это было бы ни на что не похоже. Достаточно вспомнить маму: корыто, ругань с отцом из-за каждой копейки, огрубление нравственное и физическое. Уродство. Чем уродовать так любовь, лучше уж сразу отказаться от нее. И потом: разве она не любит Алексея Петровича? Любит и уважает. По крайней мере, есть за что. Да. Каждый по-своему понимает счастье. Она — именно так. Любовь и уважение, достоинство и комфорт. А Юрик? Разве это не счастье, иметь такого сына? Она старательно взращивала его, ограждала от всего плохого. И результат налицо!
Вероника Павловна оделась для выхода «по магазинам». Для этого у нее было специальное пальто, скромное, но отлично сшитое, с маленьким норковым воротником. Шапочка тоже из норки.
На лестничной площадке к перилам жался какой-то паренек. Он зажимал под мышкой большой бумажный сверток. Вероника Павловна сразу заметила уголок стеганого голубого одеяла — бумага лопнула под тугой бечевкой. «Ага! — поняла Вероника Павловна. — Вот и наш пастушок, виновник переполоха. Дело проясняется…» Она хотела сказать парню, что Лида Яковлевна, вероятно, на службе и вернется только к вечеру, но сдержалась. Как-то не к месту. Еще испугаешь своей осведомленностью.
Спускаясь по лестнице, не вытерпела и обернулась еще раз: бледненький, скромница. Какая прелесть! Невольно посочувствуешь. Ну, авось теперь все уладится. Зря только Алексею выболтала. Перетрусил, бедняга. Подумаешь, рекомендация, рекомендация… Спускаясь вниз, она никогда не пользовалась лифтом: все-таки движение помогает держаться в форме…
Да, живут люди, любят, страдают… Собственно, ничто не помешало бы и ей завести роман: досуга хоть отбавляй. Конечно, без трагедий, без разных там страстей, а так, чуть-чуть, немного развлечься, поволноваться потихонечку… Когда-то, правда, давно уже, она рискнула. Был однажды роман. Но что это было! Лучше уж и не вспоминать.
Случилось это лет десять тому назад. Как-то во время банкета привелось ей сидеть рядом с молодым аспирантом по фамилии Хмара. Серьезный, даже нелюдимый какой-то, а тут начал ухаживать, танцевали много… Она, помнится, вела себя крайне легкомысленно. Кончилось тем, что он сунул ей записку с адресом. Там был указан и час встречи.
Как будто бес одолел ее. Помчалась. Раскаяние наступило раньше, чем следовало бы.
Пыльная комнатушка, заваленная книгами, койка, накрытая какой-то пестрой дерюгой, явно грязноватой. Она струсила. Из коридора то и дело доносились чьи-то шаги, голоса… А Хмара был мрачен и деловит. Потом бег по темным осенним переулкам поздним вечером, чулки, забрызганные грязью, и вообще ощущение грязи. Как мокрая собачонка, с поджатым хвостом… Да еще, прежде чем бухнуться в ванну, пришлось улыбнуться случившемуся у Алексея Петровича гостю, потом соврать про нездоровье и только потом уж бухнуться.
Боже мой, если бы это было и все! Так нет. Дни проходили в ожидании телефонного звонка. Каждый раз она вскакивала, хватала трубку. Придется ведь сказать решительное «нет». А вдруг это случится в присутствии мужа? А вдруг Хмара все откроет? Со злости почему бы и не отомстить? Она изнервничалась, почти заболела, а звонка все не было. Но главное унижение было еще впереди. Не выдержав, сама решила позвонить. Из телефонной будки. Хмара не сразу вспомнил, какая такая Вероника, а когда она попросила не звонить ей, даже удивился:
— А с чего вы взяли, что я собираюсь вам звонить?
Она молчала. Он пробурчал:
— Извините. Всего хорошего.
И щелчок в трубке.
Это был крепкий щелчок. С тех пор она перестала мечтать о любовных приключениях. А когда приятельницы рассказывали ей о своих похождениях, только удивлялась: взвалить на себя это бремя — куда-то бежать украдкой, возвращаться поздно вечером, поджав хвост, врать, вечно чего-то бояться… нет уж, спасибо. Покой дороже всего. Есть и другие удовольствия. Например, книги.
Вероника Павловна читала сначала все подряд. Утром проводит мужа и сына, несколько минут постоит у окна: дождь, хлопья мокрого снега, людской поток внизу, плывут черные намокшие зонты. Продрогнув, снова в постель, мягкий свет торшера над головой, в руках книжка. Иногда хорошо часа два после вздремнуть… Прочла всего Бальзака, Мопассана, потом стала доставать старинные переводные романы теперь уже забытых авторов. Постепенно вкус ее определился. У букинистов, на книжных барахолках разыскивала потрепанные старые романы. Чего тут только не было! «Последняя песнь» «Страсть одалиски», «Похождения Вавочки», «Тайна голубой комнаты». Бульварное чтиво? Пусть. В конце концов, чтение — это всего-навсего развлечение, времяпрепровождение не хуже всякого другого. Фамилии авторов она тут же забывала, да и не интересовалась ни авторами, ни эпохой. Однажды купила Собрание сочинений Чарской. «Княжна Джаваха», «Записки гимназистки», «Лесовичка». Пожалела, что не прочла все это еще в детстве… Пожелтевшие, в коричневых пятнах страницы, разлохмаченные от бесконечного перелистывания, затрепанные переплеты, сам запах, невероятный запах то ли ладана, то ли восковой свечи, все это остро волновало!
Она любила острые ощущения: например, получив однажды от мужа крупную сумму денег — гонорар его за книгу, одну ассигнацию в сто рублей не сдала в сберкассу, а положила в какую-то книжку в качестве закладки. Иногда ассигнация терялась и между страницами, и Вероника Павловна обмирала: ее нет! Бросало в дрожь, лихорадочно листала страницы, находила ассигнацию, вздыхала облегченно. И снова вызывала в памяти весь ужас потери. Конечно, она знала, что никуда деньги не денутся, да и, в конце концов, не так уже страшна для их бюджета была бы эта потеря. У Алексея Петровича солидный счет в сберкассе. Но все же как это волнует, когда теряешь деньги!
Однажды ассигнацию заметил сын, ему тогда было пятнадцать.
— Это что? Деньги?
— Как видишь, Юрик. Деньги. Презренный металл.
— Сто. Вот здорово! Дай посмотреть!.. Послушай, мам. А могла бы ты, скажем, взять да и подарить мне эту вот деньгу?
— Да на что тебе? Ты ведь, кажется, имеешь все: одежду, еду, книги…
— Нет, а все-таки! Вот просто так могла бы подарить или нет?
— Видишь ли, деньги — это ведь не просто деньги, это, как говорит папа, эквивалент труда, усилий, знаний. Как же их можно дарить ни с того ни с сего… Их заработать надо.
— Да-а, а сама в книгу суешь. Вдруг стащит кто!
— Кто же?
— Ну я, например! Или тетя Таня, уборщица.
— Не говори глупостей!
Вообще во всем, что касалось сына, Вероника Павловна была (всегда предельно) строга. Ради него прочитывала всю обязательную литературу, с чувством декламировала «Песню о соколе», читала вслух про горящее сердце Данко. А когда дошло дело до Чернышевского, боже мой, «Что делать?» тоже пришлось перечесть… Надо же знать, что отвечать сыну, если спросит о Верочке или об этом чудаке, который на гвоздях спал. А «бульварное чтиво» запирала в собственном шкафу на два поворота.
Сколько забот, сколько ранних вставаний, сколько зажаренных в семь утра, перед школой, антрекотов, а беготня из-за рубашек, свитеров, лыжных костюмов? Ну теперь, кажется, полегче. Сын поступил на физмат, как-никак студент. Дома бывает реже, много занятий…
Вероника Павловна вышла из подъезда на заснеженную улицу. Пошире раскрыла глаза. Это у нее стало привычкой. Знала, что сейчас встретит много знакомых, а глаза у Вероники Павловны совершенно необыкновенного цвета: мутно-голубые, яркие, но в дымке, как на цветной фотографии. Очень заметные глаза. Меховая шапочка, глаза как озера, персиковые щеки, правда, уже чуть-чуть дряблые, подбородок она любила прятать под норковым воротником… Ну вот и знакомые.
— Доброе утро! Доброе утро!
— Вероника Павловна, душка! Вы чудесно выглядите…
— Что вы, Анна Марковна, у меня страшно болит голова…
— Доброе утро, доброе утро!
Почти столкнулась с ближайшей приятельницей, женой профессора Рогожина.
— Вероника. Голубушка!
— Ах! С приездом! Давно? Почему не позвонила?
— Только что! Некогда было. Разобрать чемоданы, то да се… Вот бегу за кофе…
— Ну как Париж?
— О, Париж, и не спрашивай!.. Сейчас некогда, я потом подробнее расскажу, но, милая, проезжали мы и Варшаву, и Бухарест, и Белград, и все это просто нуль перед Парижем. Если бы я и могла где жить, то только в Париже. Тут и говорить нечего. Остальное просто забывается, как и не было, понимаешь меня?
Вероника Павловна с любопытством посмотрела на рыхлую грушеобразную фигуру Рогожиной. И эта без ума от Парижа. Интересно.
— Только там я поняла, что не живу, а прозябаю. Там, понимаешь, совсем особая атмосфера. Там не дадут вам скучать. Там вы замечены, вы на виду.
— Да ну?! — недоверчиво протянула Вероника Павловна.
— Да, да! Скажем, вы вышли из вагона. И сейчас же: «Мадам! Вас проводить? Вам чем-нибудь помочь? Мадам…»
Тут Рогожина рассыпалась целым каскадом французских фраз, она хорошо владела языком.
— Да! Совсем особая атмосфера, рай для женщин. Ты и представить себе не можешь, как скучно, серо мы живем. Да что там говорить! — Она вздохнула. — Как тут мой Вениамин, не знаешь? Я ведь просила присмотреть!
Рогожина шутливо погрозила пальцем.
— А как же! Я не забыла, — в тон ей ответила Вероника Павловна. — Я знаю про Вениамина Тихоныча решительно все! Во-первых, он вечерами бывал всегда дома. Это совершенно точно. Читал, ходил по квартире. Только вот удивляюсь: почему-то все подходил к холодильнику и что-то ел. Не знаю, яйца, что ли? Или конфеты?.. Что-то маленькое… Откроет дверцу, возьмет, съест и ходит по комнатам. Через минуту опять хлоп дверцей и опять что-то съест. Пожует, пожует и за стол, листает что-то там…
— Вот как!
Рогожина подняла свои толстые округлые брови, озадаченно похлопала глазами.
— Интересно. А откуда ты это узнала?
Вероника Павловна расхохоталась.
— А бинокль? У Юрки великолепный полевой бинокль! Стащила у него, а ваши окна как раз напротив!.. Вообще, оказывается, страшно интересно смотреть в бинокль. Во всех квартирах такая разная жизнь!
Теперь хохотали обе.
Рогожина хлопнула себя по бокам:
— У меня, представь, имеется подзорная труба!.. Ой, не могу! Ты просто уморила меня! Представь, подзорная труба, старинная, антикварная. Длиннющая, вот такая! Вся в перламутре! Там что-то починить надо, но я все равно вечером испробую. Обязательно испробую! Ну, пока! Мне за кофе надо…
Рогожина неуклюже повернулась, переваливаясь, затопала к магазину.
«Парижанка», — ехидно подумала Вероника Павловна. И вдруг крикнула вслед:
— Погоди! Я еще тебя не поздравила! Забыла совсем…
Рогожина остановилась, обернулась.
— С чем это?
Вероника Павловна легко, красуясь, подошла к подруге.
— Поздравляю! Книга Вениамина Тихоныча уже вышла…
— Книга?!
— Да. А разве ты не знала?
— Не-ет, — ошалело протянула Рогожина.
Помолчала, соображая.
— Вот ехидный какой. Ничего и не сказал. Небось у него теперь денег куча.
— Да уж не без этого. Книга толстая. Мне показывал Алексей. Постой, как, бишь, называется? Исчисления… Исчисления… Да ты ведь должна знать?!
— М-м… Исчисления?.. Многочленовые.
— Нет, нет… Дифференциальные… Нет… Словом, какие-то там исчисления.
— Ах, милая, почем я знаю, какие там исчисления. — Рогожина вконец расстроилась. — Боюсь, что все «исчисления» уже попали в какой-нибудь фонд. Фонд мира или там фонд научных открытий. Уже случалось!.. Ну ладно. Посмотрим! Так я за кофе.
«Все-таки странно, — думала Вероника Павловна, глядя ей вслед. — Не знать, над чем работает муж. Хоть заглавие-то знала бы. Ха-ха! Вот тебе и Париж! А денежки, конечно, ухнули. Вениамин Тихоныч, он ведь, кажется, идейный! Без шуток».
В магазинах еще совсем немного народу. Час довольно ранний. Вероника Павловна посещает магазины только в это время — когда хозяйки еще заняты уборкой, возней с ребятишками. Все продукты хорошо видны, все прилавки к ее услугам. Продавщицы не сводят глаз с элегантной покупательницы, продавщицы полны готовности услужить.
— Десяток антрекотов. Пожалуй, курицу взвесьте. Вон ту.
— Возьмите эту. Посмотрите, кругленькая.
— Хорошо. Антрекоты свежие?
— Только что привезли! Посмотрите сами, какие!
Веронику Павловну тут знают: приятная покупательница. И немелочная. Девушки-продавщицы украдкой рассматривают покрой пальто, перчатки, легкие венские сапожки, шапочку. Она неторопливо переходит от прилавка к прилавку, наполняет свою сумку. Но не слишком, чтобы не перегрузить. Тяжести таскать вредно.
Скорее домой, освободиться от продуктов. Затем небольшая прогулка уже налегке. Предлог — покупка туалетного мыла и пары шерстяных носков для Алексея Петровича. Все это не спеша, любуясь белыми сверкающими ветками, вдыхая снежный запах мягкой зимы.
Наконец дома. Ага! Мы разрумянились! Совсем другой вид. Уже не перезрелый персик, а крымское яблочко… Теперь легкий мини-обед, чашка бульону с кусочком чего-нибудь такого. Может быть, рюмка коньяку? Так, совсем чуть-чуть? Не стоит. Крошка, воздержись, ты рискуешь отяжелеть… Тем более завтра в гости к Старцевым. Именины. Уж там придется.
Третий час. Надо что-то сготовить. Скоро придет муж, приедет Юрик… Что же, небольшая возня на кухне. Вероника Павловна любила готовить еду. Наконец все. Можно отдохнуть, почитать… Итак, «Месть магараджи», переводной роман, издание 1886 года. «На чем, бишь, я там остановилась?.. Да, значит, в гарем пробирается таинственный дервиш, он-то и есть магараджа. Франческа, конечно, сразу узнает, она в ужасе. Забавно. Что-то будет дальше?..»
Часы в столовой бьют пять. Смеркается. Она включает свет и читает, читает. Потом книга валится из рук, Вероника Павловна натягивает на плечи пуховый плед и крепко засыпает. Просыпается не сразу. В дверь звонок за звонком. Это приехал Юрик.
— Боже мой, Юрик! Оброс, похудел!.. Хоть бы позвонил, я уж беспокоиться начала…
— Неоткуда звонить было, понимаешь, мама, это не дача, а халабуда какая-то, прямо в лесу! Закоптел совсем у печки. Электричества нет, как вечер, так беда! Виктор привык, ему хоть бы что…
— Господи, как же вы занимались? Ведь послезавтра экзамен?
Юрий усмехается, машет рукой. Длинный, тонкий, как хворостина, лицо черное то ли от загара, то ли от грязи… Согнувшись, втаскивает в свою комнату огромный кожаный баул. Волосы отросли чуть не до плеч…
Потом приходит из института Алексей Петрович. Ужинают все вместе.
— Ну, как дела у молодого поколения? — шутливо осведомляется Алексей Петрович.
— Да не хуже, чем у старого. Берем пример! Так сказать, копируем.
В голосе сына еле заметная усмешка. Алексей Петрович сразу настораживается. Но молчит.
— Юрик, ты совсем мало ешь, — замечает мать.
— Что значит «копируем?» — недоумевает Алексей Петрович. — Как это понять?
— Стараемся быть не хуже. — Юрий жует. — Но и не лучше. В общем, стараемся не перестараться! Доходит?
— Хм…
— Хрен редьки не слаще, а поперек батьки в пекло не лезь. Так, кажется, говорится? Русские пословицы и поговорки, том надцатый… — Звонкий тенор сына где-то на высокой ноте дает «петуха».
— Ты что-то не нравишься мне сегодня, — ворчит Алексей Петрович. — Влияние, что ли? Кстати, что за парень этот Виктор, у которого ты загостил?
— Парень как парень.
Юрий в упор смотрит на отца. На лице, темном от зимнего загара, ярко выделяются светлые глаза. «Такого цвета, как у меня, — отмечает про себя Вероника Павловна. — Красивый мальчик».
— Ты бы хоть рассказал, как там жили, как работали, — мягко говорит она. — Нам ведь тоже хочется знать, что за товарищи, что за…
— Вообще не понимаю этой манеры, — сухо перебывает Алексей Петрович. — Приехал как будто к чужим. Какие-то недомолвки, ухмылочки. Хотелось бы знать, что сие означает?.. И вообще…
Его прервал телефонный звонок. Алексей Петрович протянул руку, взял трубку.
— Да? Я у телефона… Какой Михаил? Простите… А-а! Белухин? Здорово, Михаил!.. Когда приехал? Сегодня? Проездом? Ну-у!.. Вот дела!.. Рад, брат, очень рад…
Лицо Алексея Петровича приняло бодрое, волевое выражение.
— Как же, помню, помню, брат, ту экспедицию. Все помню, не забыл!.. Василь Егорыч тоже тут? А-а!.. Здорово, Василь Егорыч! Как же, как же! Помню незабвенное Городище. И как мы вместе песни спивали!.. Хо-хо-хо!.. Сын-то? Да он уже в вузе. Оре-е-ел!.. Орел, говорю!
Вероника Павловна с улыбкой взглянула на сына. Заметила, как тот весь передернулся, уткнулся в чашку с чаем.
— Да вы куда сейчас? В Ташкент?..
Алексей Петрович долго слушал голоса в трубке, кивал, хмыкал.
— Да, видишь ли, тут дело такое… Я тоже сижу на чемоданах… В Ленинград! Завтра. Всю ночь буду доклад готовить. Чертовски жаль, чертовски. В кои-то веки!.. Ну, на обратном пути звякайте. Может быть, больше повезет. Да ладно уж! Бывай!.. Ни пуха ни пера!.. Жаль, жаль!
Он положил трубку, отдуваясь, вытер платком лоб.
Юрий поболтал серебряной ложечкой в чашке, искоса взглянул на отца.
— Это ведь тот самый Михаил Иванович, который вместе с тобой на раскопках был? В Приуралье, кажется? Тот самый, сибиряк?
Алексей Петрович молчал.
— Еще обвалом тебя засыпало, чем-то стукнуло по голове, да? А Михаил этот отрывал тебя… Я же помню, ты рассказывал, когда мне лет двенадцать было. Как пример мужества и товарищеской выручки. Так ведь? А теперь у тебя и времени не нашлось. Да еще наврал, что уезжаешь…
— Юрий, иди спать, — с досадой сказала Вероника Павловна.
— Чего там спать — грубовато возразил сын. — Спать! Выспался. Не маленький.
— Ты еще глуп, — напряженно заговорил Алексей Петрович. — Ты не умеешь ценить фактор времени. Хорошо, я объясню. Какие бы они ни были славные люди, я не имею права тратить время на пустую болтовню. Мое время дорого. В конце концов, я должен сегодня отдохнуть, чтобы нормально работать завтра… А кроме того, ты попросту охамел…
— Я охамел? Я?
— Боже, Юрий! — всплеснула руками Вероника Павловна.
— Да! Охамел!
— Я? Ничего себе! А каким языком ты изъяснялся с бывшими друзьями? «Бывай»!.. «Песни спивали!»… «Здорово, брат!»… Ничего себе! Снизошел. Ложь! Все ложь!
— Повторяю! Ты лезешь не в свои дела!.. Щенок!
Алексей Петрович стукнул кулаком по столу.
— Алексей! — вскрикнула Вероника Павловна.
Такого в их семье еще не бывало.
— А я говорю, ложь! — Юрий тоже грохнул по столу. — Спрашиваешь, какой такой Виктор? Он бог! Да!.. Гений! В школе первым физиком был! Да что там в школе… Да всем известно…
— Да какое мне дело…
— Такое! Потому что и тут вранье! Почему-то он не прошел по конкурсу! Я прошел, а он не прошел?! Я пигмей перед ним, бездарь! Понятно? Где логика, логика где, я спрашиваю?.. Где справедливость?
— Не прошел по конкурсу, стало быть, не прошел. — Алексей Петрович повернул к сыну тяжелое, словно окаменевшее лицо. С усилием скривил рот в усмешке. — А ты прошел по конкурсу, значит, прошел. Считаю, что разговор окончен.
— Нет, не окончен! Еще бы мне не пройти? Чуть ли не с пеленок с репетиторами. И по физике! И по математике! Язык!.. Я не понимал раньше, только сейчас понял, какое я ничтожество. А Витька — бог! Чего он там не знал, чепухи какой-то…
— Юрик! Но ты же такой талантливый! — воскликнула Вероника Павловна. — Вспомни, ты гордостью школы был!
— Черта с два! — завопил Юрий. — Я не талантливый, я натасканный. Половина нас, таких натасканных, на факультете! Сидим как попки. Уйду к черту!.. Сейчас только понял, раньше не знал!
— Ну и куда же ты собираешься податься? — с трудом разжал губы отец.
— К чертям!.. Певцом эстрадным! Микрофон в глотку, и ори… Да почем я знаю, на что я гожусь. Поднатаскали!.. Витька — на заочном, но это математик! А я нет!.. А как же насчет справедливости? А? Есть она у нас? Или нет?
— А, какое мне дело до вашего физмата. Я историк.
— Увертка! И ты сам это знаешь!
Алексей Петрович вцепился ладонями в подлокотники кресла, с усмешкой взглянул на сына. Заговорил как можно спокойнее:
— Может, хочется восстановить справедливость? Может, уступишь свое место этому твоему Виктору? И в институте, и… в жизни?
— И уступлю! — Юрий дернулся, нога застряла в складках ковра, уцепился за скатерть. Чашка с чаем опрокинулась, ложка упала на пол. — И уступлю!! Сказал, в джаз пойду! В певцы!
— Юрик! Что с тобой? Успокойся! Умоляю!
Вероника Павловна простерла обе руки к сыну.
Юрий вскочил, убежал в свою комнату. Включил там радиолу, грянула джазовая музыка. Потом оборвалась… Слышно было — он крутил телефонный диск: там был отдельный аппарат. И ломкий тенор:
— Нора?! Да! Это Юрий. Слушай, старуха, я, кажется к тебе приеду! Да, прямо сейчас. Сюрприз? Бывает!.. А тебе что, все еще очень хочется, чтобы я на тебе женился?..
Родители в столовой переглянулись.
— Пожалуйста!.. Раз тебе так хочется, пожалуйста. Только вряд ли это доставит тебе удовольствие… Голос?.. Голос нормальный. Тебе почудилось. Нет, я не пьяный. Я вполне в себе!.. Не догадываешься? Ладно. Пока… Жди.
Алексей Петрович начал медленно подниматься из-за стола. Жена бросилась в комнату Юрия.
— Послушай, Юра, нельзя же так… Вот тыс кем-то говоришь, мы волнуемся, все-таки мы должны знать…
— Отодрать подлеца, и все! — перебил Алексей Петрович. — Мой батька не стал бы церемониться! Придется и мне…
— Твой батька! — закричал Юрий. — Нашел «батьку»!
— Да! Со мной не церемонились! Я мальчонкой был, землю пахал, меня сохой из стороны в сторону швыряло!
Алексей Петрович потряс сжатыми кулаками, как бы стараясь удержать эту самую соху.
— Ложь! Твой отец фельдшером был, хоть и сельским! Какая там соха! «Соха»! Ха-ха!..
Алексей Петрович рванулся, схватил сына за воротник. Рубашка затрещала, посыпались пуговицы, обнажились мускулистая волосатая грудь и голое плечо. Юрий качнулся, но устоял. Расставив ноги, руками уперся в дверной косяк, боднул головой…
Алексей Петрович бессильно упал в кресло. Вероника Павловна прислонилась к стене, прижала руку к сердцу. Все было как в страшном сне. Она почувствовала себя беспомощной, лишней, посторонней в этой комнате. Уже не могла ничего изменить. Такое бывает лишь во сне да еще в тех романах, которыми она зачитывалась.
Сын был непохож на себя. Он некрасиво морщил нос, потрясал длинными волосами, скалил зубы, выкрикивал бессвязные слова.
— Ложь! Все ложь!.. «Бывай»… «Сохой швыряло!» А труды? Думаешь, я не читал труды?.. «Я историк». Ерунда!.. Давай, я сам предложу тебе темы! Хоть сто!.. «Производительность труда в условиях первобытной общины». «Обработка земель в Тьмутараканском царстве». «Классовая борьба в эпоху неолита». Ха-ха! А может, по-честному? «Краткий обзор всех аспирантских работ за последние десять лет»! Это уж целая диссертация! Читал и я эти первоисточники. Читал!
— Щенок! — снова загремел Алексей Петрович. — Сбесился! Вон! Мразь! Ты, видно, и с девками спишь!
— Алеша! — застонала Вероника Павловна.
— Вон!! — Алексей Петрович вскочил, вцепился сыну в рукав. Рубаха поползла с плеч. Юрий рванулся, снова взметнулись пряди волос, резко запахло потом.
«Боже, он даже не мылся, — оцепенело подумала Вероника Павловна. — Не мылся!.. Ох! А вдруг Рогожина сейчас как раз смотрит в свою подзорную трубу! Ужас какой!»
— Да! Сплю с девками! — вне себя закричал Юрий. И вдруг спокойно добавил. — А что? Я считаю, девки — это для меня самый подходящий пол.
Стряхнул обрывки рубахи, надел прямо на голое тело пальто и без шапки выскочил за дверь.
Прошло две недели. Вероника Павловна постарела, осунулась. По вечерам они молча сидели с Алексеем Петровичем, говорить было не о чем.
«И как все странно случилось, — думала Вероника Павловна. — Вдруг, сразу. Все было хорошо, и вдруг в один вечер все кончилось».
— Ты бы узнал все-таки, — просила она мужа. — Учится ли хоть он! Живет он у товарища, положим, а учится ли? Может, выгнали, может, стипендии лишили?
Алексей Петрович молчал, упрямо качал головой.
— Не проси. Не жди этого от меня. Не хватало позора.
— Сам понимаешь, переходный возраст, — робко настаивала она.
— Ну вот, пускай сначала переживет свой «возраст». Раньше пусть и не является.
Вероника Павловна сходила к Лиде Яковлевне, упросила разузнать потихонечку, числится ли в институте Юрик, как обстоят дела со стипендией. Лида Яковлевна сочувствовала, дивилась такой перемене в Юрике.
— И подумать только, такой ангельский мальчик был. Да вы не больно огорчайтесь, Вероника Павловна. Вон лица на вас нет. С ними все бывает. Перебесятся!.. Вон Валюшка-то моя замуж вышла, душа в душу живут, и внучек растет. Глядите, что я ему купила!
И, расплывшись в улыбке, растягивала перед гостьей крошечные рейтузы.
Про выговор, который сделал ей в свое время Алексей Петрович, она так и не рассказала. Но про себя верила, что все, что произошло в семье Алексея Петровича, — все это кара, посланная свыше за ту несправедливость, за обиду…
Лидия Яковлевна не была злопамятной. Однажды утром она забежала к Веронике Павловне:
— Все разузнала! И Юрика видела.
— Ну?! Дорогая Лида Яковлевна, милая!
— Экзамены и зачеты все Юрик сдал, и все почти на «хорошо». Политэкономия, кажется, «отлично». Стипендию получает.
— А сам как?
— И самого в коридоре встретила. Идет, скромненький такой, и во все стороны: «Здрассте… Здрассте…» Вежливый. Со всеми здоровается.
— А вы бы спросили…
— Думала было, да нельзя все-таки. Не надо, Вероника Павловна. Мало ли чего. Пускай уж сам подойдет. Так лучше все-таки. Побоялась.
— Да, пожалуй…
— Волосики причесаны…
— Подстригся?
— Не подстригся, а гладко зачесан, все как следует. Одет чисто. Только бледненький.
— Голодный! Господи, как помочь?
— Ничего, ничего. Знаете, Вероника Павловна, у меня такое было чувство, что он хочет, сам хочет подойти ко мне и про вас спросить… Да удержался. Он придет, вот увидите, придет!
С этого дня Вероника Павловна стала ждать. Прибралась в комнате сына, перебрала его рубашки, галстуки. Стало легче дышать.
Действительно, чего только не бывает с мальчиками! И не такое бывает. И все проходит. Может быть, даже напрасно она так переживает…
Глупая, как она могла думать, что Юрик сможет долго обходиться без ежедневной свежей рубашки, без шведской стенки, вмонтированной в его комнате, без рояля, без любимых пластинок, книг… А духовое мясо с кровью? А кофе по-турецки?.. Но, может быть, любовь? Нора эта самая? Ах, Вероника Павловна слишком хорошо знала, что такое любовь. Нет уж, это сына не привлечет! По крайней мере, надолго не привлечет.
Мальчик вернется, она была уверена.
Вероника Павловна легко вздохнула, подошла к зеркалу, провела ладонью по лицу и шее… Легкий утренний массаж.
СЕМЕЙНОЕ ТРИО
Стемнело. Вагон мягко покачивался на ходу, мотор негромко выводил свою бесконечную мелодию, колеса отстукивали все одну и ту же ритмическую фигуру. Люба задремала в своем уголке у окна.
Внезапно зажегся свет. Хлопнула дверь.
— Кузьминка! — крикнул старичок проводник.
Пассажиры зашевелились. Кашляли, вздыхали, расправляли затекшие ноги и снова погружались в дремоту. Видно, Кузьминка не нужна была никому.
Проводник, ссутулившись, прошаркал по проходу между скамейками. Люба сонно поглядела ему вслед. Старичок остановился, обеими руками натянул свою фуражку поглубже, нагнулся, вытащил из-под скамейки громоздкий брезентовый мешок, с мешком под мышкой начал протискиваться в дверь.
Тут кто-то включил радио. Знакомая мелодия как будто толкнула. Чардаш?.. «Чардаш» Монти!.. И тонкие звуки скрипки неожиданно притянули полузабытый мир детства, старинный желтый двухэтажный дом в тихом городке над Волгой, на набережной Стеньки Разина…
Окна в верхнем этаже раскрыты, оттуда доносится музыка — отец играет на скрипке.
Отец работает счетоводом в горфо, но он и страстный музыкант. Почти каждый вечер он торопится в клуб «Ударник», где руководит кружком струнных инструментов. Рыжий потертый портфель набит нотами до отказа, под мышкой — мешок с инструментами: домрами и мандолинами, которые он не доверяет кружковцам. Еще поломают, чего доброго.
Домой отец возвращается поздно, дети спят, и долго еще из-под закрытой двери видна полоска света и слышно осторожное пощипыванье струн.
— Папа пишет ноты, — сонно шепчет Люба.
Что-то быстро пробежало в темноте.
— Ой, медведь!..
И вот дверь открыта, в комнате светло. Отец заботливо укрывает детей.
— Спи, спи. Мурка это. Какой медведь…
Рано утром начинается сыгровка — репетиция.
— И — раз!.. И — два!.. — дирижирует отец. — Опять, оболтус, скрипку в руки не брал! Лентяй!.. Начали снова!.. И — раз!.. И — два!..
Большие круглые стекла очков сердито сверкают в сторону Димы. Семилетний скрипач, упрямо набычившись, выпятив живот, тянет дрожащим смычком невообразимо фальшивую ноту.
Мать выглядывает из кухни.
— Да он играл вчера, Сергей! За что ты его ругаешь? Он занимался.
— Не мешай! Аленка, веди бас погуще… Еще раз!
У отца идея: семейное трио. Детей трое, и все они учатся в музыкальной школе. Но Люба старше и опытнее, шутка ли, уже в третьем классе. Не то что начинающие — скрипач Димка и виолончелистка Алена.
Сейчас разучивается песня Шуберта.
Партия рояля очень уж однообразна: вот уже шестнадцать тактов повторяются те же четыре ноты в правой руке. Младшие партнеры то и дело сбиваются, приходится начинать сначала… Ох, уж двенадцатый раз одно и то же… Скучища какая!
— С пятого такта! — кричит отец. — Там, где вступает скрипка. Начали! И — раз!..
Вот Дима снова ошибся. Перетянул, прибавил лишнюю четверть. И Люба забавы ради поддерживает его: потихоньку играет лишние четыре ноты.
Аленка ничего этого не замечает. Она ведет партию густо и добросовестно, счет ведет точно. Короткая рыжая косичка с бантом на конце вздрагивает в такт музыке. Аленка уткнулась в свою виолончель и вряд ли слушает сейчас партнеров. Получается забавная путаница.
— Стоп, стоп, стоп!.. — Отец резко стучит кончиком смычка по столу. — Что такое?! Начнем сначала!
Ох, опять сначала… Люба с презрением оглядывается на партнеров. Хоть бы раз доскрипели до конца благополучно!
— И — раз!.. Начали!
На этот раз ошиблась Аленка. Не дотянула четвертушку. И Люба тотчас же укорачивает свой аккомпанемент. Ровно на четверть. Будто бы так и полагается.
А Димка тянет как ни в чем не бывало свое ре… Не слышит, балда, что виолончель и рояль закончили фразу, что он один остался. Тянет и тянет.
С улицы хором позвали:
— Димка!..
— Пошли на Волгу-у!..
Но где там… Отец занимается долго и придирчиво.
Отец бьется, разъясняет каждому его ошибку, а трио по-прежнему играет кто в лес, кто по дрова.
Вот Аленка покосилась на сестру, догадалась, кажется. Плутовато уткнулась носом в гриф виолончели. Сестры переглянулись, фыркнули… И ансамбль заиграл так, что невозможно стало понять, кто же несет чушь. Все развалилось.
— Безобразие! Лентяи, олухи!.. Убирайтесь вон!!.
Весь красный, отец топает ногами, швыряет ноты на пол. Смычок наставника резво щелкает по ком попало. «Семейное трио» с ревом несется на улицу.
А вконец расстроенный, так ничего и не понявший Сергей Иванович идет на службу в свою контору.
Там он садится за дубовый письменный стол и открывает толстую бухгалтерскую книгу с графами «дебет» и «кредит». Сбоку под стеклом лежат нотные листки, разлинованные от руки. Вальс Андреева. Мазурка Венявского. Названия старательно надписаны кудрявым почерком счетовода. Отец не теряет ни одной свободной минуты, все переписывает репертуар для струнного кружка. Ведь вечером ему в клуб, на сыгровку…
— Никитин! — окликает иногда начальственный бас из соседней комнаты. — Баланс готов? Давай!
— Готов, готов, — вскакивает отец.
Он тщательно прикрывает бумагами вальсы «Березка» и «Осенний сон» и с толстым гроссбухом в руках спешит в кабинет главного бухгалтера.
…Тихо в конторе. Только у окна кто-то время от времени отщелкивает на счетах, за другим столом крутят ручку арифмометра. Металлическое позвякивание, шелест бумаги, иногда негромкое покашливание. Уже близок обеденный перерыв.
Внезапно в дверях появляется секретарша Симочка.
— Товарищи, — громким шепотом взывает она, — ревизия! Уже в налоговый отдел пошли… Держитесь!
Симочка исчезает. Щелканье и жужжание арифмометра разом прекращаются… Увесистые папки с делами одна за другой шлепаются на пол, сотрудники поспешно прячут их в шкаф, наводят порядок на столах.
И вот появляется сам начальник горфо: тучный мужчина с крупной лысой головой. За его спиной двое — высокий сухощавый ревизор и молодая женщина в синей беретке. Сотрудники встают.
— М-м, — мычит начальник, — подайте-ка мне сюда отчет за третий квартал!
Он поочередно обводит сотрудников своими крупными бычьими глазами.
— М-м… У кого, собственно, находится отчет?
Сотрудники переглядываются.
— Кажется, отчет находится у Никитина, — тенористо отвечает молодой счетовод.
Он мнет в руках тряпку для вытирания стола, пыльную, всю в чернильных пятнах.
— Кажется, вчера я видел отчет у него на столе…
— Кажется, — басит начальство. — Надо точно знать. А где Никитин?
— Там, — сотрудники дружно кивают на дверь.
Начальник и члены комиссии шествуют к столу Сергея Ивановича. Женщина в синем беретике берет со стола папку. А под ней — лист нотной бумаги.
— Вальс «Березка», — удивленно читает женщина. — Танго «Аргентина»… Вальс «Осенний сон».
Все трое молча смотрят на стол. Под стеклом целая коллекция нотных листков с разными музыкальными отрывками… В комнате напряженная тишина, только слышно, как грозно пыхтит начальник.
— Что же это такое? — наконец произносит он.
Сотрудники обескураженно молчат; подтянутый, суховатый член комиссии деловито осматривает нотные листки, женщина зачем-то раскрывает свой портфель, достает платочек, в ее синих глазах смех.
Дверь кабинета главбуха распахивается, появляется не чаявший беды Сергей Иванович. Немая сцена…
— Тэк-с, — начальник тихо барабанит пальцами по столу, не отрываясь смотрит на Никитина. — Тэк-с. Отчет за третий квартал пожалте нам, уважаемый…
— Отчет?
Сергей Иванович спешит к столу, выдвигает тяжелый нижний ящик, и все видят поверх папок с делами… крохотную самодельную балалайку. Сергей Иванович смастерил ее специально для учреждения, чтобы в свободные минуты проигрывать написанные им партии струнных инструментов. Он суетится, торопливо отодвигает в сторону свою балалайку пикколо, словно невзначай прикрывает ее бумагами, под руку попадается коробочка с медиаторами… Вот наконец и отчет. Красный от смущения, Сергей Иванович передает папку начальству. На обложке кудрявым почерком черной тушью выведено: «Отчет за третий квартал». Сослуживцы облегченно вздыхают; они знают: раз отчет составил Никитин, все будет в порядке.
Ревизоры направляются к двери, начальник оборачивается и долгим взглядом смотрит на Сергея Ивановича.
— До свидания, — сухо бросает ревизор.
— До свидания, маэстро. — Синий беретик юркнул за дверь.
Сергей Иванович стоит посреди комнаты, протирает вспотевшие очки.
— Ну и ну! — произносит он. — Не было печали…
Сослуживцы посмеивались над этим убежденным музыкантом, но уважали за точность в работе и редкое трудолюбие.
Того же Сергей Иванович требовал и от детей. Каждая пьеса тщательно отрабатывалась. Особенно много занимались перед отчетными концертами музыкальной школы. Такие концерты устраивались трижды в год. Сколько было суматохи, сколько волнения! Трио Никитиных всегда пользовалось успехом у публики.
— И повезло же людям! — вздыхали в зале мамаши. — Трое детей, и все такие талантливые. Загляденье!
Конечно, выступать перед публикой куда приятнее, чем заниматься разучиваньем трудных пьес. Тут и освещенный люстрами зал, и аплодисменты, и поздравления! Бывают и конфеты и подарки… Выступать приходится и ансамблем и соло. А появление на эстраде Димы каждый раз вызывает всеобщий восторг.
— Какой маленький, скрипка-то больше его самого! Какой хорошенький.
— И кудрявый какой! Сразу видно, необыкновенный ребенок. Талант.
— Лицо-то особенное, не как у всех. Сразу видно…
Отыграв свое, Дима с блаженной улыбкой возвращается в артистическую, а возмущенная Люба принимается укорять:
— Вышел как дурак, я сыграла вступление, а ты проспал. Два раза пришлось начинать. Оглох, что ли?
— Сама ты дура. Я хорошо играл.
— Вот так хорошо! Заскрипел как телега немазаная. А повторить первую часть забыл? А два такта аллегро съел?.. Не выучил, так выступать хоть не лезь.
— Сама не выучила! Слышала, как мне хлопали?
— Ха! Солист тоже! — злится Люба. — Больше меня и не проси аккомпанировать, нашел дуру!
— Ну и не надо! Вон, тебе пора выходить… Увидишь, ни одного хлопка не будет.
— Тебе бы все хлопки. Вот подожди, что твой учитель скажет. Уж он тебе намылит шею, уж он тебя… Только держись!
И все-таки выступать на концертах приятно. Не то что дома, перед гостями… Играть дома совсем неинтересно. Даже название особое таким выступлениям ребята придумали: «зверинец». А отец только и ждал выходного дня, чтобы показать свое трио знакомым. Знакомые отца все музыканты-любители. Приходят со своими гитарами и мандолинами, целое воскресенье играют вместе или слушают друг друга.
В этот день в доме с утра пахнет пирогами. Дети встают пораньше. Сейчас мама будет вынимать пирог из печки. Солнечные блики играют на вымытом полу. Тюлевые белые занавески на окнах слегка вздуваются от свежего волжского ветра… Пирог-то пирогом, да не зевай: того и гляди пожалует папин сослуживец Терентий Никанорыч Свистунов. Да не один, а с супругой.
Папа ждет гостей и, конечно, постарается представить свой «зверинец» во всей красе. Уж и ноты на пультах разложил… Удрать бы куда… Попадешься гостям на зубок, так скоро не отвертишься.
— Профессионалы, артисты, не чета нам с тобой, Сергей! — засипит низенький хромой Свистунов. — Ну-ка, молодые люди, грохните чего-нибудь этакого… Словом, Вторую рапсодию Листа.
— Ах, что за девицы у вас! — запоет супруга Свистунова, дородная женщина в цветастой бархатной кофте. — Ягодки! Душки! Так бы и съела. Младшая особенно.
— Давно ли, Сергей Иванович, они капельные были? — забасит огромный, как слон, Арнольд Карпович Бутлер, фотограф из ателье. — На горшок, так сказать, ходили? А? Поди ж ты, время-то как идет… Эхо-хо-о…
Отец нервно потирает руки, суетится, подтягивает струны виолончели.
— Начинайте потише, вторую часть повторите… Э-э, Дима, повнимательнее… То место, помнишь, не забудь!
Играть приходится долго, каждая вещь исполняется два-три раза. После каждой пьески — восторженные возгласы, аплодисменты. Время идет. Чувствуется, что гости утомились и не прочь бы засесть за стол, поближе к водке и пирогу. А отец знай подкладывает на пульты все новые и новые ноты. Отец сияет, то и дело оборачивается к гостям, поясняет скороговоркой:
— А послушай, Терентий. Это классическое… А это, Арнольд, высшая трудность. Это уже виртуозом надо быть… Нам с тобой уже этого не достичь, поздно, брат!
И концерт продолжается.
Нет, уж лучше заранее улизнуть куда-нибудь, скрыться… Только вот пирога хочется. А он уже готов. Вот мама ставит пирог на стол.
— А-а, тепленький какой!
Шустрая Аленка хватает кусок пирога. Но тут же, случайно взглянув на окно, роняет кусок на тарелку и бегом устремляется к двери.
— Ты к-куда? — насмешливо шепчет Люба, но тоже не отстает. Сестры панически протискиваются в дверь. Дима какой-то миг тупо смотрит на них, потом, сообразив, бросает самокат, над которым трудился все утро, и удирает вслед за сестрами. Он выскакивает через черный ход, чтобы не столкнуться с гостями.
— Ребята, ребята, вы куда? — спохватывается Сергей Иванович, но где там, поздно. Нет никого.
Дети бегут в известное им одним убежище: на задний двор, к скамейке за мусорным ящиком.
— Обойдутся сегодня и без нашего зверинца! Сами сыграют. Вон уже начали…
Действительно, из окон доносится «Чардаш» Монти. Папа играет на скрипке.
— А на гитаре-то кто? — удивляется Люба. — Неужели Терентий так скверно?
— Нет, что ты, — смеется Аленка. — Наверное, супруга.
— Супру-уга… Сказала тоже, — возразил Димка.
Он уселся поудобнее на скамейке, пошарил в карманах, вытащил ножик, принялся строгать какую-то палку.
— Супруга на гитаре не умеет. Заладила, «супруга…».
Димка заболтал ногами, благо они не достают до земли.
— Есть хочется, — вздыхает Аленка.
— Вальс «Березка». Свистунов заврался, — мрачно сообщает Дима.
Все слушают, сосредоточенно глядя на свои ноги в белых носках и празднично начищенных башмаках.
— А что, если стащить пирога? — предлагает Люба.
Она потихоньку пробирается в дом, заглядывает в замочную скважину. Отец и Свистунов сидят на стульях друг против друга, заложив ногу за ногу, высоко подняв головы, и виртуозно разыгрывают вариации «Светит месяц». Свистунов — на гитаре, отец — на балалайке.
«Лица как у слепых», — подумала Люба.
— Терентий, до-мажор, — не меняя выражения лица, подсказывает отец.
Но Свистунов все равно опаздывает перейти в другую тональность и пару аккордов ляпает невпопад. Почему-то он всегда так.
Пироги все там, на столе, стащить ничего не удается.
Дети грустно сидят на скамейке за мусорным ящиком.
— Есть хо-очется, — тянет Аленка.
Она чуть не плачет. Димка молча чертит носком башмака по земле. Люба вдруг радостно вскакивает:
— Ура! Пошли в горсад есть мороженое!
— Да-а… А деньги где?
— А вот! — Люба высыпает на скамейку мелочь. — Восемьдесят копеек! Я вчера шестнадцать строчек выучила.
Младшие дети восторженно смотрят на нее. Отец дает за каждую выученную наизусть нотную строчку по пятачку. Но шестнадцать строчек за один день! На такое способна только Люба…
И вся компания дружно направляется в горсад.
* * *
— Станция Брянцево! — протяжно оповестил старый проводник. — Станция Брянцево!
Радио вдруг смолкло. Свет медленно потускнел, в вагоне стало полутемно.
Люба смотрела, как в сумерках удалялась сутулая спина старика. Перед тем как покинуть вагон, старик остановился и обеими руками натянул фуражку на уши… Может быть, уши простужены, болят, подумала Люба. Как у отца, бывало. Тоже все кепку свою вот так натягивал… Вагон снова плавно закачался. Сдержанно заговорили колеса.
А отца давно нет в живых. Все дети выросли, все получили музыкальное образование. А семейного трио так и не получилось… «Почему-то не получилось, отец, — с тоской подумала Люба. — И все-таки мы бы сыграли… Честное слово, собрались бы все трое и сыграли бы для тебя, если бы ты был живой. Как следует сыграли бы, со всем старанием!»
Где-то вдали загудела электричка.
Гудок возник на короткое мгновение и тут же потонул в путанице рельсов, в ночном хаосе и сырости… В стекла начал накрапывать дождь.

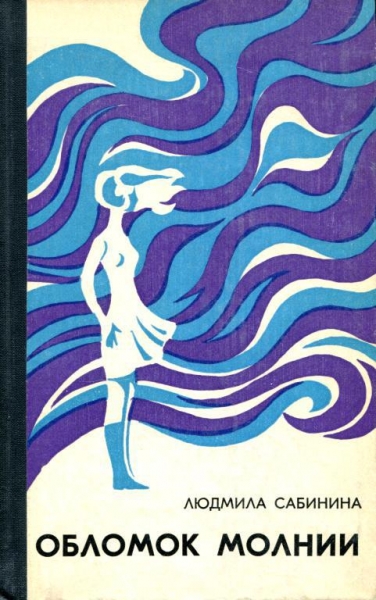








Комментарии к книге «Обломок молнии», Людмила Николаевна Сабинина
Всего 0 комментариев