Софья Заречная ОРЛЕНОК
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордятся страна.
Засада у землянки
Когда Левушка прибежал к Чекалиным, Шура сидел посреди комнаты на табурете и кормил молоком из соски двух новорожденных белок, одну за другой по очереди. Ребята со всех сторон обступили Шуру.
— А! Откуда взял? — ахнул Левушка, пораженный невиданным зрелищем.
— Вчера на охоту с отцом ходили. Старую белку папка пристрелил, а дети беличьи остались, так я выкормить хочу.
У Шуриных ног прыгает ручная галка, ревниво поглядывая круглым глазом на белок. Когда животы у тех округлились, Шура посадил их в клетку и, обрызгав пол водой из кадки, начал подметать его свеженаломанным березовым веником. Ребята молча и с некоторым уважением следят за его работой. За окном, в палисаднике, младший Шурин брат Витя дрессирует лохматого сеттера.
У Чекалиных дома из старших никого нет. Надежда Самуиловна уехала в район по делам сельсовета. Павел Николаевич, на рассвете вернувшийся с рыбной ловли с полной корзиной окуней, ушел работать на колхозную пасеку.
— Что сегодня у нас на повестке? — деловито осведомляется Сережа Аверин.
— Спрашиваешь! В засаду сядем, конечно. — Рослый для своих тринадцати лет Шура сверху вниз смотрит на Сережу. — Ребята из Второго Песковатского нападение готовят. Гляди, сейчас же после испытаний нагрянут. A мы готовы? Винтовок и то на всех не хватает. Пулемет только один. О тяжелой артиллерии и говорить не приходится…
Ручная галка теперь сидит на плече у Шуры. Склонив набок голову, она заглядывает ему прямо в рот.
— А вопрос не шуточный, — продолжает он, вынимая из кармана ломоть хлеба и разламывая его на мелкие куски. — Кому быть красным: нам или им? В белогвардейцах ходить никому не хочется.
— И не будем! — заявляет Сережа решительно.
Стукнув крепким клювом в блестящую эмаль Шуриных зубов, галка вытаскивает зажатый между ними лакомый кусочек.
— У, балованная! — хохочут ребята.
Шура отплевывает крошки.
— Факт, не будем, а все же слава пойдет, если они нас побьют.
Забытая галка нетерпеливо теребит командира за воротник рубахи. Он сует ей в клюв кусочек хлеба и смахивает ее с плеча.
— В землянку!
Из хаты на горке, на отлете села, ребята следом за Шурой бегут вниз под горку, где вырыта землянка. Здесь и начнутся военные действия.
Никто из песковатских ребят не хочет быть белым. Решили так: на белых и красных делиться после сражения; почетное звание красных получат победители, а побежденные будут носить позорную кличку белых до новой драки и победы.
Боевой день начался. Засаду устраивают неподалеку от землянки.
— Виктор! В разведку! — командует Шура.
— Есть в разведку, товарищ командир!
Заткнув за пояс самодельный деревянный пистолет, Витя свистнул Тенора. Черный с рыжими подпалинами сеттер с радостным лаем бросил на плечи мальчика тяжелые передние лапы и чуть не опрокинул его.
— Ну-ну! — сурово оттолкнул его Витя.
Тенор сконфуженно завилял хвостом и лизнул руку хозяина.
В землянке тем временем уже идет напряженная работа. Строгают, пилят, клеят, красят. Черные волосы командира взлохмачены. Черные глаза сосредоточенно серьезны. Рукава засучены по локоть. Рубашка измазана столярным клеем.
— Разложить костер! — приказывает он. — Будем паять металлические части.
— Есть разложить костер!
Шура уходит в дом за паяльной лампой. Галка прыгает за ним следом, как собачонка.
У входа в землянку пышно разрослась крапива. Коля Бочков, дневальный, стоит навытяжку с винтовкой за плечом. У ног его, свесив набок язык и отмахиваясь хвостом от надоедливых комаров, дремлет косматый Громила. Колю тоже одолевают комары. Он срывает ветку черемухи и начинает усиленно ею обмахиваться, но из дверей хаты высовывается взъерошенная голова командира, и, вспомнив его наставление: «Часовому надлежит быть неподвижным, как скала», Коля испуганно роняет ветку.
На площадке перед землянкой разложен костер. Сережа Аверин, Лева Виноградов, Илюша Доронин и Жора Холопов подбрасывают в огонь сухой валежник, но завидев командира, все бегут к нему навстречу. Сейчас он покажет, как обращаться с паяльником…
К вечеру семь новеньких, свежевыкрашенных винтовок, семь пистолетов и три пулемета с трещотками аккуратно разложены на нарах землянки. Они еще не стреляют, но будут стрелять. Шура уже придумал, как это сделать. После испытания по математике бригада займется изготовлением оружия нового образца.
Над костром закипает в котелке уха. Ребята сидят вокруг. Все проголодались, и от душистого пара, поднимающегося над котелком, у всех текут слюнки. Уха жирная, наваристая, с перцем, с луком, с лавровым листом. Ни одна хозяйка не приготовит так вкусно, как Шура. Ребята хлебают наперегонки, и когда командир вспоминает, что отец с матерью вернутся голодные и надо им оставить хоть по миске, сквозь янтарную гущу ухи уже просвечивает дно котелка.
Край неба за зубчатой линией леса отливает медью. Оттуда неторопливо выползает красновато-рыжий диск луны. Снизу с деревенской улицы доносится песня девушек.
В ожидании ужина Павел Николаевич покуривает на крыльце. За освещенными окнами избы мелькает проворная фигура жены, звякает посуда. Павел Николаевич вытряхивает золу из трубки, идет в дом. На столе вокруг кипящего самовара горячий картофель в обливной глиняной миске, пшеничные лепешки, крутые яйца, мед, молоко.
— А ушица? — спрашивает хозяин. — Или не поспела? Жаль! Окуньки-то больно хороши.
Надежда Самуиловна отворачивается, смущенная. Шура ей все рассказал, и она не знает, как выгородить любимца.
Шура переводит глаза с матери на отца, потом выпаливает сразу:
— Ты, папка, не сердись, уху мы с ребятами съели.
— Всю? — изумляется отец. — Да ведь там их штук двадцать…
— А какие мы голодные были! — с запалом перебивает Шура. — Шутишь! Ведь целый день работали. Вот погляди!
Он кладет перед отцом только что сделанное оружие. Павел Николаевич одобрительно разглядывает деревянные пистолеты, пулеметы, ружья. Он тоже мастер на все руки и очень ценит в сыне эти унаследованные от него способности.
— Чистая работа, сынок! А все же об ухе сказать надобно. Окуней не жалко, не покупные, еще наловить можно, а плохо, что об отце с матерью не подумал.
— Я подумал, — с жаром перебивает Шура, — честное пионерское, подумал, только поздно. Ребята так прихватились! Гляжу — уж и дно видать.
— Да будет тебе, Павел Николаевич, — перебивает жена, — есть об чем толковать!
Подобравшись к Большой Медведице, луна бледнеет, и уже не янтарные, а серебристо-голубые отсветы падают с высоты на засыпающую деревню.
В хате Чекалиных гаснет свет. На залитый лунным сиянием пол ложатся теневые квадраты от оконных рам. Трубка Павла Николаевича раскаленным угольком маячит над его койкой. Надежда Самуиловна расчесывает на ночь косу.
— Давеча Марфутка мне встретилась. «Когда, говорит, ребят своих уймете? Покоя от них нет. Со всей деревни парнишки к вам сбегаются. Крик, шум, всякое озорство. Подумать надо. И что бы, говорит, им на том конце, по очереди друг у дружки собираться! Так нет же, как назло — все у вас да у вас». — «Простор им у нас, говорю, Марфа Тимофеевна, свобода. Никто им играть не препятствует. Вот они к нам и льнут. А что шумят, так на то они и дети. Без этого, говорю, нельзя»… Ты что, Паша?
Он не откликнулся. Алый уголек, маячивший над его койкой, погас. Надежда Самуиловна доплела косу и растворила окно. Пахнуло черемухой. Где-то совсем близко защелкал соловей. Надежда Самуиловна постояла у окна, потом обернулась, прислушалась к сонному дыханию мужа и детей и, счастливо чему-то улыбаясь, улеглась сама.
В древнем городе Лихвине
Мирно дремлет древний город Лихвин на холме над тихой обмелевшей Окой. В пышной зелени фруктовых садов наливаются сладкими соками румяные яблоки, янтарные груши, бархатисто-лиловые сливы.
Посредине города — площадь. Заросший травой скверик. Бюст Ленина. Три-четыре деревянные скамейки. Вокруг площади несколько каменных домов старинной кладки со стенами в метр толщиной. В разные стороны от площади расходятся улицы, мощенные острым булыжником. А подальше тянутся кривобокие бревенчатые домишки. Разбитые дощатые тротуары хлопают под ногою прохожего. Козы щиплют траву вдоль заборов, за которыми буйно зеленеют обильные огороды.
Где-то кричит петух. Посредине улицы босоногие ребятишки по щиколотку в глинистой вязкой грязи пускают бумажные кораблики в колдобине с еще не просохшей от последнего дождя водой.
Не то город, не то деревня.
Без малого четыреста лет тому назад Лихвин был в чести. Грозный царь Иван Васильевич приказал укрепить его дубовым тыном и пожаловал лютой опричине, верной своей помощнице в борьбе с боярской крамолой. А когда настала великая смута на русской земле, когда князья и бояре, служилый люд и холопы поднялись на царя Василия Шуйского, кто ради власти, кто ради счастья и воли, а кто ради легкой наживы, Лихвин попеременно занимали враждующие рати. Жителям чинили они увечье и смерть, обиды и всяческое угнетение. Обезлюдел тогда Лихвин, разорился да так с той поры и не мог оправиться.
Многие десятки лет дремал уездный город Лихвин на холме над тихой Окой. Не слишком предприимчивые местные купцы грузили свои товары на баржи и мелкие суда, а после коротали досуг за пузатым самоваром в затхлых покойчиках собственных домов, провонявших лампадным маслом и квашеной капустой, или в трактире, проливая пьяную слезу над стаканчиком.
Раз в три года съезжались сюда окрестные помещики на выборы предводителя дворянства и целыми ночами резались в карты или беспутничали среди опустошенных бутылок с шампанским, коньяком и ликерами.
Советская власть обратила уездный город Лихвин в районный центр. В бывших купеческих домах обосновались райком партии, комсомола, райисполком, народный суд, библиотека, школа-десятилетка. От Тулы до Лихвина пролегла ширококолейная железная дорога. В киоске появились «Правда», «Известия», областная газета «Коммунар».
Когда Надежду Самуиловну назначили директором лихвинского универмага, в город следом за ней переехала вся семья. Шуре было уже пятнадцать лет. Он окончил семилетку. Продолжать учиться — Лихвина не миновать, а жить на два хозяйства тоже никакого расчета. Чекалины сняли в Лихвине деревянный домишко с палисадником и широким, заросшим травою двором. Перекочевали в город и Тенор с Громилой и ручная галка с белками. Но Шура заскучал.
Что такое Лихвин? Не то город, не то деревня. Правда, есть кинотеатр, зато нет землянки под горкой. А главное, нет старых товарищей. Сережа Аверин и Жора Холопов, окончив семилетку, остались работать в колхозе. Левушка Виноградов продолжал учиться в Песковатской школе. Он был только в пятом классе.
— Мама, у нас будет фотокружок. Анна Леонтьевна сказала. Если ты мне купишь аппарат…
Шура только сейчас заметил, что за столом, кроме отца с матерью и Вити, сидела еще какая-то девушка.
— Что так поздно? — спросила Надежда Самуиловна, наливая Шуре тарелку щей.
— Анна Леонтьевна задержала — полчаса отчитывала после уроков.
Он швырнул связку книг куда-то в угол, наскоро ополоснул под умывальником руки и сел за стол.
— Значит, опять нашалил?
Девушка обернулась, и Шура узнал двоюродную сестру Тоню.
— Вот приехала к вам в школу учительницей, — сказала Надежда Самуиловна, — жить у нас будет.
— Учительницей? — недоверчиво переспросил Шура, думая, что мать шутит. — Что же ты будешь преподавать?
— Физику. — И добавила смеясь: — Успокойся, не у вас в классе, а вот у него, у Вити.
Шуре все еще не верилось. Тоня была всего на четыре года старше его. Он считал ее девчонкой. И вдруг она учительница. Какой же у нее может быть авторитет!
Комната Вити и Шуры, которую отдали теперь Тоне, сразу преобразилась. Тюлевые занавески на окнах, какие-то вышитые салфеточки, и на столе рядом с аккуратно сложенной стопкой книг букет свежих цветов в стеклянной банке.
«Девчачья чепуха!» — ворчал про себя Шура. А все-таки его тянуло в эту опрятную, девически уютную комнату посидеть, поболтать с Тоней после школы. Главное, она умела слушать. Она одинаково охотно слушала все, о чем бы ни рассказывал ей Шура: о школьных шалостях, о последнем своем изобретении — самодельном ружье с пробковыми пулями, о путаной алгебраической задаче, которой никто в классе не мог решить, кроме него, и о замечательной книге Григорьева «Суворов», недавно им прочитанной. И слушала Тоня не так, как взрослые, а с живым интересом, с блеском в глазах, подробно расспрашивая обо всем, что занимало Шуру.
Урок истории
Математик Зис, получивший такое прозвище за «обтекаемую» форму покатого лба, как только мог защищал Шуру на педагогическом совете.
— Мой предмет он знает отлично. Самые сложные задачи решает раньше всех. Взял на буксир Кузнецова. Тот уже на «пос» отвечает, а был совсем безнадежный. Что вы хотите от мальчика, не понимаю!
Дверь из учительской внезапно распахнулась. Кузнецов, «дежуривший» у замочной скважины, успел отскочить и с невинным видом прохаживался по коридору. Пропустив учителя математики, он побежал в класс.
— Зис фарами так и сверкает. За тебя горой стоит, — докладывал он Шуре.
Спор в учительской продолжался.
— «Хор» в четверти по дисциплине! — возмущалась «немка» Марья Ивановна. — Чекалин развлекается на уроках и других отвлекает…
— Бывает, — согласилась Александра Николаевна, преподавательница литературы. — Это когда ему скучно. Но попробуйте его заинтересовать: подопрет голову кулаками, уставится на вас глазищами, даже рот раскроет от избытка внимания. Ведь на Чекалине проверить можно, интересно построен урок или нет.
— Вы хотите сказать, что я скучно веду занятия? — обиженно поджала губы Марья Ивановна.
Александра Николаевна с удивлением взглянула на нее.
— Я имела в виду, не вас, а себя. Для меня Шура Чекалин как барометр.
— Он часто скучает на уроках не по вине преподавателя, — примирительно заметила руковод восьмого класса Анна Леонтьевна. — Он быстро все схватывает, и пока преподаватель разжевывает урок другим, ему становится скучно, и он начинает шалить. Я посоветовала ему заняться фотографией.
Вопрос о Чекалине был исчерпан. Заговорили о молоденькой учительнице истории, назначенной в Лихвинскую школу прямо с вузовской скамьи. Сегодня она должна была дать первый урок, но почему-то запаздывала.
В этот день Шура принес в школу новый фотоаппарат.
— Анна Леонтьевна, взгляните! Мать уже купила мне.
Он с увлечением объяснял учительнице устройство фотоаппарата.
— Вот видишь, как заботятся о тебе родители!.. Так ты даешь слово исправиться?
У Шуры на смуглых щеках проступил румянец.
— Как я могу дать слово? Вдруг забуду, и опять что- нибудь случится… Ведь это будет нечестно. — И, чувствуя, что Анна Леонтьевна огорчена, добавил виноватым голосом: — Ладно, не сердитесь. Я уж постараюсь.
В коридоре продребезжал звонок.
Шура захватил аппарат и убежал в класс. Прошло еще несколько минут, а новая учительница все не появлялась.
— Пойдемте во двор, снимать вас буду, — предложил Шура. — Сегодня освещение хорошее.
— Меня сними!
— И меня!
— Меня, Шурка, меня! — обступили его девочки.
— Всех сниму. Пластинок много. Девчата, во двор!
— А вдруг она придет?
— Погодите, я сбегаю посмотрю.
Шура выскочил в коридор и открыл дверь в учительскую. Там было пусто. Все учителя уже разошлись по классам. Только на краю стола какая-то незнакомая девочка, упитанная и румяная, спешно перелистывала тетрадь.
— Не пришла! — объявил Шура, вернувшись в класс. — Айда во двор!
Ребята кинулись было вон из класса, но в дверях неожиданно возникла фигура директора.
— Что за шум? Почему вы не на месте?
Девочка шла следом за директором. Она была маленькая, с косами на прямой пробор и с быстрыми синими глазами на круглом лице.
— Значит, к нам, — шепнул Шура Володе Кузнецову, — а я думал, в седьмой. Такая маленькая!
— Плохо вы себя рекомендуете вашему новому педагогу, — продолжал директор. — Вот познакомьтесь — Раиса Исааковна, преподаватель истории.
— Г-ггы! — хмыкнул кто-то на задней парте.
— Ну и преподаватель! — пробормотал Шура. — От горшка два вершка.
— Хи-хи-хи! Раиса Исааковна! — втихомолку прыснули девочки.
— Какая там Раиса Исааковна! Просто Райка, — пробубнил Шура.
Мила Воронцова, красная от душившего ее смеха, кашляя и пряча лицо в платок, выбежала из класса.
Новая учительница спокойно выжидала, окидывая ребят быстрыми синими глазами.
— Ну, кончили веселиться? — спросила она наконец. — Теперь давайте работать.
Класс затих.
— Какова! — толкнул Володю Кузнецова Шура.
А новая учительница, раскрыв журнал, начала как ни в чем не бывало делать перекличку.
С этого дня между Раисой Исааковной и восьмым «А» повелась глухая упорная борьба. Молодая учительница спокойно и настойчиво забирала класс в свои маленькие крепкие руки. Ребята упирались, пытались ускользнуть, но это им плохо удавалось.
Труднее всех сдавался Шура. Он никак не мог примириться с тем, что девчонка ростом ему по плечо была педагогом, к которому он должен был относиться с надлежащим уважением.
Приручение началось с чартизма. Учительница увлекательно излагала материал. Шура слушал, подперев кулаками узкий подбородок и не спуская с нее черных глаз. Раиса Исааковна отметила внимание строптивого ученика и усмехнулась, довольная. Шура перехватил усмешку, обозлился и начал возиться под партой со своим аппаратом, с которым никогда не расставался. Он уже давно задумал заснять всех учителей в самой характерной для каждого из них и смешной позе. Почему не начать эту серию сегодня же?
Шура зарядил кассету. Володя Кузнецов помогал ему. На соседних партах шептались и пересмеивались посвященные в проект серии ребята. Чартизм уже никого не интересовал.
Раиса Исааковна недоумевала: все шло так хорошо, и вдруг по непонятной причине урок был сорван.
Два дня спустя, на следующем уроке истории Раиса Исааковна вызывала к доске. Но дисциплина уже не восстанавливалась. В классе стоял смутный гул; две свернутые из газетной бумаги галки, пролетев мимо кафедры и едва не задев учительницу, ткнулись носами в потолок, приклеились к нему и повисли; на партах из рук из руки переходил какой-то предмет, ребята со смехом рассматривали его.
Как будто ничего не замечая, учительница с рассеянным видом расхаживала по классу и вдруг, задержавшись у второй парты, накрыла рукой фотографическую карточку.
Класс замер, ожидая грозы.
Но Раиса Исааковна так же спокойно вернулась на кафедру и начала перелистывать журнал, делая вид, что выбирает, кого бы еще вызвать.
— Чекалин Александр, — сказала она наконец, — ступай- ка сюда.
Шура побледнел и, криво усмехаясь, пошел к доске.
— Ну-ка, расскажи нам о чартизме, Чекалин. Ты, кажется, очень внимательно слушал тогда.
Шура просиял. Он и правда не проронил на уроке ни слова, и этот чартизм на самом деле преинтересная штука. Он начал излагать хорошо усвоенный материал с обычной для него последовательностью и блеском.
— Отлично, Чекалин. Садись. И фото у тебя тоже получилось очень удачно. Не правда ли, ребята, я здесь похожа?
Она высоко подняла, чтобы всем было видно, снимок в позе, характерной для нее, когда она увлекалась изложением нового урока: с широко растопыренными полудетскими руками и оживленным круглым лицом.
— Ведь похожа?
Сдержанный смешок прокатился по классу. Все вдруг почувствовали, какая она симпатичная, эта учительница, которую они изводили только потому, что она была маленького роста и видом смахивала на их ровесницу.
Раиса Исааковна протянула Шуре снимок.
— На вот, возьми. И больше аппарата на урок не приноси. Это и тебя и других отвлекает от дела. Договорились?
— Договорились.
Красный от смущения, Шура побрел на место.
Киносеанс на квартире
— Мама, пришей мне пуговицу. Я куртку сниму.
— Ишь ты! — засмеялась Надежда Самуиловна. — Самому надоело неряхой ходить. Давай, давай!
— Только скорей, мама, а то мы опоздаем на сеанс.
— В кино собрался? Деньги там у меня в сумке возьми…
— Деньги у меня есть, тетя Надя, — перебила ее Тоня.
В шубе и шапке она стояла на пороге своей комнаты.
— А, вот кто тебя надоумил пуговицу пришить! Спасибо, Тоня, что порядку его учишь.
— Какую пуговицу? — недоумевала Тоня. — Я ничего не знаю.
— Ну что ты, мама! Это я сам. Уж и сказать нельзя!
Тетка и племянница переглянулись. Тоня отвела глаза.
Это было уже не в первый раз. Собираясь с ней в кино, Шура приглаживал щеткой волосы, чистил куртку и вообще старался принять благообразный вид.
Из кино Тоня вернулась одна. Шура куда-то исчез после сеанса. А вечером, когда все домашние собрались в кухне за самоваром, он потихоньку пробрался в дом со двора, неожиданно потушил лампу, и на выбеленной стене, как на экране, развернулось ослепительное зрелище победы древнерусского полководца над тупорылой немецкой свиньей.
— Да что ж это такое? — изумлялась Надежда Самуиловна. — Где ты пленку достал?
— У киномеханика выпросил.
— А как же ты… того… пускаешь ее? — заинтересовался Павел Николаевич.
— Аппарат сам сварганил.
Мать зажгла лампу, и отец долго рассматривал самодельный аппарат, критикуя и похваливая.
— Музыки нет, — пожалела Тоня, — а то бы совсем как в кино.
— Подумаешь, велика штука музыка! — с важностью протянул Витя. — Накручивай, Шурка, я сейчас.
Он побежал в спальню за своей балалайкой, и когда свет погас, волнующие эпизоды Ледового побоища снова возникли на белой стене, но уже в сопровождении музыкальных номеров, довольно удачно подобранных на балалайке.
Рассказала ли Тоня в учительской о киносеансах своих двоюродных братьев или Витя проболтался в классе, а может быть, и сам киномеханик Шура поделился новостью, только на другой день в кухню Чекалиных набилась чуть не вся школа. Всем хотелось посмотреть самодельное кино под аккомпанемент балалайки. Поздно вечером, когда зрители разошлись, а все домашние улеглись спать, Тоня и Шура остались вдвоем в кухне.
— И чаю не дали выпить, — пожаловался он, — а самовар остыл.
— В печке есть кипяток, — сказала Тоня. — Налить?
— Налей, пожалуйста.
Он пил и ел с жадностью, откусывая хлеб крепкими белыми зубами.
«Как голоден, — подумала Тоня, — а забыл об еде за делом!» И спросила вслух:
— Ты куда пойдешь после десятилетки?
— А что?
— К технике у тебя способности. И большие. Я думаю, ты изобретателем можешь быть.
— Угу! — мотнул головой Шура и, прожевав хлеб, добавил — Я авиаконструктором хочу, инженером. А ты? Неужели с этих пор в учительницах будешь? Давай поедем вместе в Москву? А, Тоня? В один и тот же вуз поступим.
— Давай, — снисходительно улыбнулась Тоня.
— А ты не улыбайся, как тетя племяннику. Я ведь всерьез. Знаешь, я с девчонками до сих пор не дружил. Не то чтобы воображал о себе, а так, неинтересно. В военном деле ничего не смыслят, в технике тоже. Им бы только фотографироваться. Ты другое дело, с тобой обо всем поговорить можно. Давай дружить?
— Давай! — тепло согласилась Тоня.
— Только я знаешь какой? Я не люблю, как Володька Кузнецов: сегодня с одной девчонкой дружит, завтра с другой. И когда девчонка так делает, тоже не одобряю. По- моему, дружба так дружба, на всю жизнь.
Несколько дней спустя ребята со всего города сбегались поглазеть на диковинку. Две лохматые собаки, Громила и Тенор, запряженные парой в салазки, терпеливо ждали, пока Шура вытягивал из колодца одно ведро за другим, а потом обе собаки, как хорошо объезженные лошади, бережно, чтобы не расплескать воду, повезли салазки.
Лесной дорогой
— Пойдем рыбу удить.
— Да я же не умею.
— И не надо. Я буду удить, а ты только смотри.
— Так мне же скучно будет.
— А я книжку для тебя возьму. Чехова хочешь? Там, где «Дочь Альбиона», тоже про рыбную ловлю.
Раннее утро, но уже душно, как в парнике. День будет жаркий. Тоне лень двигаться. Но Шура так умильно заглядывает ей в глаза, что у нее не хватает духа отказать.
Они идут крутыми холмами с прихотливо разбросанными на них купами деревьев, постепенно сливающимися в сплошной лес. Теплый ветер гонит облака. Просеянные сквозь них солнечные лучи теряют свою жгучесть и обливают землю матовым сиянием. Река тихо плещет. С того берега плывут голоса купающихся ребятишек. Их сброшенные рубашки белыми, алыми, желтыми флагами вздуваются на песке.
На траве, обрызганной яркими пятнами цветов, Шура расстилает свое пальто.
— Вот тебе, ложись, а я пойду удить.
— Охота была тащить пальто в этакую жару!
— Я для тебя. Земля сырая после вчерашнего дождя.
Он спускается к реке, расставляет подпуска, закидывает в воду три удочки.
Тоня смотрит ему вслед, потом бросается навзничь на землю, подложив руки под голову.
Ветер гонит по голубому полю белые курчавые стада. Тоня следит за ними долго, пока не начинают слезиться утомленные глаза. Ей становится почему-то грустно. Она чувствует себя такой маленькой, затерянной в этой голубой воздушной пустыне. Она поворачивается на бок и сквозь щели полуопущенных век видит родную зеленую землю, пеструю россыпь цветов, смуглого мальчика с удочкой на берегу. И от этого у Тони теплеет на сердце. Ветер слабо шевелит ее волосами, темными и волнистыми, как у Шуры. Говорят, что они похожи друг на друга, будто родные брат и сестра.
Сладко пахнет цветущим клевером. Прокравшиеся сквозь густую зелень березы солнечные зайчики прыгают по белому Тониному платью. Умеренное тенью, солнце греет, но не жжет. Тоня закрывает глаза. Дремлет. Вдруг она вздрагивает, испуганная. Что-то мягкое, пушистое падает ей на колени, будто кошка прыгнула с печи. Но это не кошка, а пышный букет полевых цветов — лиловые колокольчики, розовый клевер, ромашка, шалфей. Над цветами с жужжаньем кружится пчела. Шура отгоняет ее и скалит белые зубы.
— Не бойся, не укусит. Сегодня самый что ни на есть пчелиный день.
— Как пчелиный? — не понимает спросонок Тоня.
— Цветы медоносный нектар дают. Видишь, солнце какое неяркое. При таком свете лучше всего цветочный нектар собирать. Уж пчелы, они знают! А ты заснула? Как не стыдно! Соня ты после этого, а не Тоня. А сколько я рыбы наловил! Придем домой — уху сварим.
Возвращались той же лесной дорогой. Теперь, когда у Шуры в ведре плескалось около десятка жирных лещей, три судака и одна щука, торопиться было некуда. Закинув удочки на плечо, Шура шел лениво, с развалкой, приглядываясь к каким-то, ему одному ведомым приметам.
— Вчера на рассвете, когда мы с отцом ходили проверять пчел, соловей как защелкает… — неожиданно обернулся он к Тоне. — Хотел тебя разбудить, да после жалко стало.
— Зачем меня будить?
— Чтобы вместе со мной послушала. Мне одному скучно.
— Ишь ты! — Тоня провела рукой по его буйным волосам от затылка до лба, против шерсти.
— Ну-ну! — Он поставил на землю ведро с рыбой, бросил снасти, схватил Тоню за руки и осторожно, чтобы не сделать ей больно, но так крепко стиснул их за спиной, что она не могла пошевельнуться.
— Пусти!
— Не пущу! Ты думаешь, если ты взрослая, учительница, а я школьник, мальчишка…
— Пусти же…
— А, попалась, которая кусалась!
— Какой ты глупый, Шурка!
— Глупый? Ну и ладно.
— Не буду больше с тобой дружить.
— А я и не прошу.
Он сверху вниз смотрел на нее. В черных глазах его прыгали озорные огоньки.
— Ну пусти же!
— Отказываешься от своих слов?
— От каких?
— Что больше дружить не будешь.
— Как же я могу отказаться, когда ты так глупо ведешь себя?
Он неожиданно отпустил ее, как будто вдруг забыл о ней, и, присев на корточки, начал что-то внимательно рассматривать.
— Гляди, ведь это медведка.
— Да ну тебя! — Тоня сердито растирала покрасневшие около кистей руки.
— Слышишь, чирикает?
Она невольно прислушалась. И правда, это было нечто среднее между чириканьем воробья и стрекотаньем кузнечика. Она нагнулась, заинтересованная. Толстенькое бархатистое серо-бурое существо в полпальца длиной поводило усиками, таращило выпуклые глазки и со всем усердием трещало короткими жесткими надкрыльями.
— Медведка, — уже совершенно уверенно сказал Шура. — Смотри, испугалась, уходит.
Существо юркнуло в небольшое отверстие, видимо им же проделанное, и начало выбрасывать оттуда горсточки земли.
— Видишь, роет ходы, точно крот, — радостно смеялся Шура. — Ты обрати внимание: ножки, крылья, усики, щупальцы. И все точно прилажено, будто в хорошей машине. Замечательная штука! Эта медведка вредная тварь. В лесу ничего, пускай живет, а в огородах уничтожать надо, не то все сожрет. Знаешь, я иногда думаю, не пойти ли мне по биологии. Естественные науки тоже до черта занятная вещь. Если делать научные открытия… Только это долго. Пока одно открытие сделаешь, можно столько наизобретать. Нет, техника интереснее. Точность, математика и фантазия. Чудесно! Как ты думаешь, Тоня? — Вдруг, что-то вспомнив, он круто повернулся к ней и, встретив ее оживленные сочувствующие глаза, схватил ее за плечи, — Не сердишься?
— Ну как на тебя сердиться, негодный мальчишка!
— Не сердится! Не сердится! — твердил Шура нараспев и, подхватив ее на руки, закружился с ней на одном месте.
— Опять начинаешь! Пусти же! — отбивалась Тоня.
«В разведчики пойду!»
Второй день в Песковатском дул резкий северо-восточный ветер. Ветви старой березы, на которой была укреплена антенна, подломились у самой верхушки. В дедушкиной хате, где Шура с отцом, матерью и Витей теперь обыкновенно проводили лето, радиоприемник молчал с утра. Усевшись верхом на тонком раскачивающемся суку, Шура долго возился с антенной. Когда он окончил починку, вся семья сидела уже за обедом. От котла с картофелем поднимался пар.
— Скорее, а то простынет, — сказала мать, накладывая ему полную миску.
— Погоди, дай проверить. — Он включил вилку. Радиоприемник захрипел, как простуженный человек. И вдруг сквозь глухие нечленораздельные звуки прорвались отчетливые слова: «…без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли…»
— Война! — Крикнул Шура.
Надежда Самуиловна вскочила с места.
— Как! Война?
— С кем война? — недоумевал Павел Николаевич.
— С немцами, с Гитлером.
— Господи Иисусе! — крестилась бабка Марья Петровна, глотая слезы вместе с горячим картофелем. — Теперя всех заберут — и сынов и зятя.
Только дед Николай Осипович, крепкий семидесятидвухлетний кузнец, без единой сединки в темноволосой голове, с невозмутимым спокойствием дожевывал картофель.
— Не скули, мать. Ешь, раз что тебе пища дадена. Ешь да силы набирайся. Война, она много силы требует, опять же и терпенья. А кого заберут, кого нет — это от нас независимо. Кому что на роду. Иной, может, и здеся останется, а животом помрет, а иной на самой линии огня, в пекле адовом уцелеет. У кого какая планида. Понимать это надо.
Шура напряженно прислушивался к глухому бормотанью радиоприемника, что-то передвигал, подвинчивал.
«…Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины…» — неожиданно четко заговорил радиоприемник, но тут же оборвал и совсем замолк. Махнув рукой, Шура бросился к двери.
— Куда? — забеспокоилась мать.
— К Виноградовым. У них радио в порядке.
— И я с тобой! — побежал за ним Витя.
— Шура… голодный… поел бы… — сокрушалась Надежда Самуиловна.
Но обоих уже не было в избе.
Директор Песковатской школы Николай Иванович Виноградов, обычно такой сдержанный и ровный, взволнованно ходил из угла в угол. Антонина Ивановна сидела на диване в непривычной праздности. Грибок с натянутым для штопки чулком валялся на полу подле нее. В другом конце комнаты Леля и Левушка вполголоса о чем-то говорили.
Хлопнула дверь.
— У нас радио испортилось. Расскажите, Николай Иванович, — попросил Шура.
Витя подбежал к ребятам. Радуясь случаю поговорить со свежим человеком, директор изложил своими словами речь Молотова.
— Что же теперь делать? — волновался Шура.
— Как что делать? Бороться.
— Ну да, это Красная армия. А нам что делать? Которых не призвали.
Николай Иванович усмехнулся.
— Каждый будет свое дело делать: ты учиться, я учить.
Шура с удивлением взглянул на него.
— Учиться! Разве усидишь теперь за партой?..
— Что же ты хочешь делать? — спросила Антонина Ивановна.
— Брошу все и пойду воевать.
— Да ведь тебе шестнадцать лет, в армию не возьмут.
У Шуры загорелись глаза.
— В разведчики пойду! В двенадцатом году, когда Наполеон вторгся, бабы воевали, не то что ребята. А вы говорите… Ну, прощайте, я пошел.
— Куда ты? — подскочил к нему Витя.
— В Лихвин. Хочу узнать, что там.
— И я с тобой.
— Нет. Ступай домой, скажи матери, а то она с ума сходить будет.
По зову родины
В кабинете комиссара Макеева поминутно звонил телефон. Входили и выходили люди. Павел Сергеевич отдавал короткие распоряжения, записывал что-то в блокнот, потом накручивал звонок телефона, кого-то вызывал и снова что- то приказывал. Шура долго ждал, пока до него дошла очередь.
— Ну как? — спросил Макеев и улыбнулся.
— Я к вам, Павел Сергеевич. Что мне делать?
— А учиться?
— Не могу.
Светлые глаза Макеева, небольшие и проницательные, на секунду задержались на взволнованном мальчишеском лице.
— Тебе сколько лет?
— Шестнадцать, — с виноватым видом пробормотал Шура.
— Верхом ездишь?
— Ну еще бы!
— Я формирую истребительный батальон. Подай заявление. Пока будешь ходить ко мне на учебную стрельбу. Всё.
Шура обернул к нему счастливое раскрасневшееся лицо, пролепетал задыхающимся шепотом:
— Хорошо, Павел Сергеевич. Спасибо.
Макеев с ласковой усмешкой смотрел ему вслед. Складки на его большом умном лбу разгладились.
Враг подступал к границам Тульской области, и линия фронта проходила уже близко от Лихвина. Все чаще кружили над городом фашистские стервятники. Артиллерийская стрельба, еще недавно отдаленная и глухая, доносилась все явственнее. По тихим, заросшим травой улицам грохотали, подскакивая на ухабах, военные машины с людьми и грузом, медленно тащились набитые узлами и чемоданами телеги. Вокзал был набит доотказа людьми. У кассы день и ночь дежурила очередь. Паровоз с тяжелым пыхтеньем тащил перегруженный поезд. Люди сидели на крышах вагонов, гроздьями висели на ступеньках, цеплялись за буфера.
Во дворах спешно закапывали овощи, утрамбовывали землю, сверху накладывали кирпичи, щебень, дрова.
— Уезжай, Надя, — уговаривал жену Павел Николаевич. — На тебя кулацкое охвостье еще с каких пор в обиде. Ты думаешь, забыли, как ты на коллективизации поработала?
Надежда Самуиловна молчала, сжав губы и устремив куда-то темные, как у Шуры, глаза.
— Уезжай и Витю с собой забирай.
— А Шура? — быстро обернулась она к мужу.
Павел Николаевич неопределенно развел руками:
— С Шурой ты сама поговори.
Шура поступил в конно-разведывательный взвод истребительного батальона и теперь пропадал целыми сутками. Прибегая домой с работы, Надежда Самуиловна наспех готовила обед, кое-как прибирала в комнате и садилась у окна ждать.
Как она тревожилась! Как ей недоставало его! Он был не только ее любимцем, ее гордостью, но и помощником во всех ее делах. Он проводил слишком сложные для нее подсчеты в универмаге. Когда туда прибывала новая партия товара и в магазине скоплялся народ, он в подмогу продавцам становился за прилавок. Натаскать воды из колодца, наколоть дров, истопить печку, подоить корову, выкрутить белье — все это Шура делал охотно, ловко и весело, с шуткой, с острым словцом, будто играя. Надежда Самуиловна не знала технических затруднений в хозяйстве: портился примус или электричество, Шура все налаживал в несколько минут.
В тоске и тревоге, напряженно прислушиваясь, мять проводила долгие часы у окна. И когда вдруг со стороны огородов, тянувшихся до самой опушки, доносился голос, такой знакомый, такой родной:
Три танкиста, три веселых друга — Экипаж машины боевой… —она срывалась с места и выбегала на улицу. Сначала слышно было только цоканье копыт. Потом из-за угла появлялась складная фигура всадника, ловко сидевшего в седле. Надежда Самуиловна хваталась за грудь, чтобы сдержать сумасшедшую птицу, которая до боли сильно трепыхалась у нее внутри. И когда Шура соскакивал на землю, мать висла у него на шее, жадно вглядываясь в утомленное, но счастливое лицо.
— Ты, верно, голоден, сынок. Пойдем кушать.
— Погоди, мама, дай Пыжика убрать.
Он уводил вспотевшую лошадь в конюшню и, только расседлав и задав ей корму, садился обедать сам. Мать неотрывно смотрела на него, пока он ел. Если она начинала расспрашивать его, он отшучивался или отмалчивался, и она оставляла его в покое, браня себя за бестактность.
В этот раз он вернулся неожиданно скоро, в тот же день, когда ушел из дому. Он не выглядел усталым, но лицо его было сосредоточенно, как у взрослого человека, принявшего серьезное решение. Он ел молча, односложно и рассеянно отвечал на вопросы. Потом, вставая из-за стола, сказал:
— Ну, собери меня как следует, мама. Я, наверное, на всю зиму уйду.
Надежда Самуиловна молчала. Что она могла ему сказать! Коммунистка, активная общественница, она собственным примером воспитала его таким, каким он был. Она гордилась им. И все-таки по-матерински боялась за него и больше всего на свете хотела бы удержать его около себя.
— Мы с Витей на этих днях уезжаем, — охрипшим от волнения голосом заговорила она. — Может быть, и ты с нами?..
— Нет, не поеду, — сказал он решительно.
Надежда Самуиловна молчала, низко опустив голову.
Шура взглянул, подошел ближе, обнял ее за плечи.
— И тебе не стыдно просить меня, мама! Ты же сама смелая и умная. Ты все понимаешь. Зачем же?..
Надежда Самуиловна отвернулась и молча начала собирать вещи: белье, валенки, теплый джемпер, три буханки хлеба; потом вынула из печки большой кусок говядины, который приготовила себе с Витей на дорогу. И, выложив его из противня в миску, хотела остудить.
— Мяса не надо, — сказал Шура. — Нам папка целую свинью достал да еще пуда два меду.
У Надежды Самуиловны сердце закипело обидой. Значит, отец все знал раньше, а от нее скрыли. Что ж, поделом ей! Он, видно, не стал удерживать сына, а она… И не зная, как загладить вину, она достала из шкафа новый, недавно справленный Шурин костюм из хорошего сукна и еще не надеванный затейливой расцветки галстук.
Шура со снисходительной улыбкой смотрел на ее хлопоты.
— Ни к чему мне галстук, мама. И костюм убери. Что мне с ним делать в лесу? Вернемся — все себе достанем, а пока…
Пришел отец. Лицо у него было озабоченное.
— Что, готов? Ну, собирайся, там ждут.
И на молчаливый тревожный вопрос в глазах жены ответил:
— Я скоро вернусь, Надя. Только провожу его.
Надежда Самуиловна обняла сына, потом отстранила его голову и долго смотрела ему в лицо, любуясь и мучась.
— Ну, сын, защищай нашу родину, крепко защищай. Только смотри, ты ведь не учен военному делу. Будь аккуратней.
— Что ты, мама, — усмехнулся Шура, — я лучше старших стреляю.
Прибежал со двора Витя. Взглянул на расстроенное лицо матери, на вещевой мешок, набитый доотказа, все понял.
— Уходишь, Шурка? И ты уходишь, папка? А я как же? Я тоже хочу с вами.
Шура вплотную подошел к Вите, заговорил серьезно, как взрослый со взрослым:
— Ты должен ехать с матерью, защищать ее. А отец скоро вернется. Он здесь нужен. Понял?
— Понял! — тяжело вздохнул Витя.
Партизан Саша
Пробираться в лесу нехожеными тропами, прислушиваться к каждому шороху, находить дорогу по едва уловивым приметам, прячась в лесной чаще, не упускать из виду противника и в дерзких вылазках подбирать только что оставленное на поле битвы оружие — какое счастье! Главное, это была уже не ребячья игра в войну, а самая настоящая война. И он, Шура Чекалин, вчерашний школьник, был настоящим защитником родины.
Когда в партизанском отряде заговорили о нехватке вооружения, Шура первый вызвался добыть его. Никто лучше не знал местности, чем он. Недаром еще десятилетним парнишкой увязываясь за отцом на охоту, он вдоль и поперек исходил родные леса. Сначала только присматривался, учился заряжать ружье, раскладывать костер, а года три- четыре спустя стал и сам заправским охотником. Как все это пригодилось теперь — знание оружия, умение ориентироваться в незнакомой местности, способность выслеживать зверя, оставаясь необнаруженным, и прочие охотничьи навыки!
Трос суток Шура провел один в лесу. У него уже были припрятаны под ворохом опавших листьев две винтовки к несколько гранат. Ему хотелось раздобыть еще патроны. Буханка хлеба, которую он захватил с собой, кончилась. Чтобы обмануть голод, он жевал сосновые иглы и запивал их водой из колдобин и луж. На ночь забирался в дупло древнего дуба и засыпал спокойно, как у себя дома.
— Шура не приходил?
— Нет.
Командир отряда Тетерчев снял с плеча автомат и повесил его на крюк над нарами.
— Зря отпустили мальчонку. Молод еще самостоятельно в разведку ходить.
— Никто его не посылал. Сам вызвался! — огрызнулся комиссар Макеев, сушивший над печкой мокрую от дождя куртку. — А молод, так не надо было брать в отряд. У нас не детский сад — с младенцами нянчиться.
А сам на шум шагов бросился к выходу.
— Шура, ты?
Но это был Алеша Ильичев, рабочий-печатник, немногим постарше Шуры. Оглядев присутствующих, он начал отстегивать гранаты у пояса.
— Что, Шура еще не приходил?
Тетерчев молча покачал головой.
— Да-а… — протянул Ильичев. — Может, немцы его сцапали, а?
Партизаны один за другим возвращались в землянку. Кто из разведки, кто после выполнения другого задания, голодные, усталые, промокшие, и каждый непременно спрашивал:
— А Шура что? Не вернулся еще?
Все уже сидели за столом. Дядя Коля, кашевар, высокий, сухощавый, с небритой седой щетиной на длинном лице, разливал кипяток по кружкам. В дальнем конце землянки, там, где ступени круто поднимались вверх, показалась вихрастая мальчишеская голова. Обрызганное дождем лицо сияло.
Шуру окружили.
— Где пропадал?
— У немцев в плену, что ли, был?
— Ведь трое суток…
Молча, с торжественной улыбкой Шура положил перед командиром две винтовки, около десятка гранат и, схватив на ходу ломоть хлеба, побежал к выходу.
— Куда ты? Постой!
Но его уже не было в землянке. Минуту спустя он притащил целый ящик патронов.
— А ты говоришь, молод в самостоятельные разведки ходить, — подмигнул Тетерчеву Макеев. — Где же ты все это раздобыл, Шурка?
Набив рот по самое горло, Шура, ухмыляясь, пережевывал хлеб.
— Да не приставайте вы к нему, дайте ему поесть. — сказал Макеев. — Вот сейчас лепешки поспеют. Поужинаешь и спать ложись. Устал, поди.
С блаженным видом Шура прихлебывал кипяток из кружки.
— Спать некогда. До завтра хочу радио наладить, а там опять в лес смотаться. У меня в дупле припрятано еще несколько таких штучек, — кивнул он на гранаты, — да ящик с патронами. Всего сразу уволочь не мог.
— Экой ты неугомонный какой! — ласково попрекнул Тетерчев. — Да вот что, я уже говорил братве. Мы будем звать тебя Сашей, Шура у нас уже есть.
На раскаленной докрасна чугунной печке в шипящем на сковороде свином сале подрумянивались ржаные лепешки. Светловолосая девушка в гимнастерке, с засученными по локоть рукавами обернулась к Шуре раскрасневшимся от жара лицом.
— Ты не обижайся, что я у тебя имя отбила. Я постарше. И в отряде раньше тебя.
Она засмеялась, и вздернутый нос ее забавно натянулся над пухлой верхней губой.
— С чего это мне обижаться? — сказал Шура рассудительно, поднимая голову над радиоприемником. — «Саша» будет вроде боевой клички, «Шура» останется для домашних.
— Да ты, я вижу, шутник! — одними глазами улыбнулся командир. — Скажи, неужто и вправду наладишь у нас радио?
— А как же! Завтра утром проснетесь и услышите: «Внимание! Внимание! Говорит Москва».
— Вот здорово! — Шура Горбенко отошла от печки, вытирая платком вспотевшее лицо.
— Ну, граждане хорошие, я уже сотню отхлопала. Хватит с вас?
— Валяй другую, — сказал Тетерчев.
— Вот ненасытные! Дядя Коля, много еще у тебя там теста?
— Да тут на целую дивизию хватит, — жалобно проговорил кашевар. — Только это не тесто, а жижа какая-то!
— Эх ты, горе-повар! Зачем же ты столько воды наболтал? Подсыпь-ка еще муки.
— Да я уже подсыпал, а оно все не густеет, — горестно вздохнул дядя Коля. — Там в мешке немного осталось.
Шура Горбенко деловито поболтала палкой в жиже.
— Отлей-ка половину вон в тот горшок. Так. Теперь ведро вынеси на холод, чтобы не прокисло, а в горшок подсыпай муки. Правильно… А теперь замешивай. То-то вот оно, бабье дело, — поучительно добавила она, — Мы с вашим, мужским, справляемся, а вы с нашим что-то не очень. А еще старый партизан. Не стыдно тебе?
Дядя Коля сокрушенно крутил остриженной ежиком седеющей головой, юмористически поблескивая узкими щелками глаз.
После чая с хрустящими ржаными лепешками и медом, который Шура привез с отцовской пасеки, улеглись спать. От сосновых веток, устилавших, нары под матрацами, в жарко натопленной землянке стоял густой смолистый запах. Кругом храпели и посапывали на разные голоса. Над землянкой шумел осенний дождь, однообразный и унылый, как старческая воркотня. Шура долго лежал без сна, глядя в темноту широко открытыми глазами, и счастливо улыбался.
Утром он вскочил, когда все еще спали. Накинув полушубок, вышел из землянки, взлез на сосну и несколько минут в сером рассветном сумраке колдовал над антенной. Потом ощупью спустился в землянку, чиркнул спичкой и при тусклом свете коптилки снова начал возиться с радиоприемником. А немного времени спустя удивительно знакомый голос проговорил привычное: «Внимание! Внимание! Говорит Москва…»
Партизаны просыпались один за другим, щурили на свет удивленные глаза и, как старому другу, улыбались знакомому голосу.
Отец и сын
Дождливым осенним вечером Павел Николаевич шел из Лихвина в Песковатское. Нужно было захватить кое-что из продуктов жене и сыну на дорогу. Надежда Самуиловна уговаривала и его ехать с ними. Муж коммунистки, у которой были враги среди подкулачников, отец партизана… Если немцы придут, ему несдобровать. Павел Николаевич колебался. Ему не хотелось оставлять Шуру. Казалось, что в трудную минуту он может понадобиться сыну. И хозяйство жаль было бросать на стариков. В случае чего он и картошку закопает и одежу припрячет. Деду с бабкой одним не справиться. Немцы всё ограбят. Вернешься из эвакуации, а дома пусто.
Еще не совсем стемнело. Павел Николаевич тоскливо оглядывал с детства знакомые, столько раз исхоженные места. Вот здесь под вязами в троицын день собирался народ со всех окрестных деревень, девушки завивали венки, хороводы водили. Дальше за дождем и туманом притаилось родное село. Хмурились под намокшими крышами избы без единого огонька в окнах. На улицах тишь, безлюдье. Молодежь в армии. А кто не был еще призван, но способен носить оружие, ушли партизанить, скрывались в лесах. Нет, он не уедет с женой, Он будет держать связь с партизанами, будет, пока жив, отстаивать родную землю, своих стариков и нажитое трудом добро.
Дождь припустил сильнее. Ветер сбивал с деревьев последние мокрые листья, и они тяжело шлепались на дорогу.
Павел Николаевич прибавил шагу, потом побежал под хлещущим дождем, скользя сапогами по размокшей глине. В дедовой хате сквозь плотно занавешенные окна узенькой полоской пробивался свет. Не переводя духа, Павел Николаевич взбежал на крыльцо. В сени доносился громкий разговор, несколько мужских голосов наперебой. Пока Павел Николаевич искал в темноте сеней ручку двери, кто-то очень знакомый сказал:
— А в Косолапове обещали еще и телку дать.
«Шурка!» — задохнулся от радости отец и, нащупав наконец ручку, шагнул через порог.
У деда за столом, кроме Шуры, сидели Ильичев и Тетерчев.
— Вот здорово, что ты пришел, папка! — кинулся ему навстречу Шура. — Ты нам жутко нужен.
— Заготовку продуктов делаем, Павел Николаевич, — сказал Тетерчев. — Без тебя, как без правой руки. Мучицы бы нам надо, да поскорей. А то у нас повар не очень высокой квалификации. Разболтал муку с целым ведром воды, подсыпать — еще на неделю хватит, а не то скиснет. — И он со всеми подробностями рассказал, как Шура Горбенко пробирала дядю Колю за перевод партизанского добра.
— Мать уехала? — спросил Шура.
— Нет еще, собирается.
— Ты не вздумай с ней эвакуироваться, — тоном старшего наставлял он отца. — Проводи ее и возвращайся. Что ты будешь за ней ездить!
— Да, Павел Николаевич, ты нам здесь нужен, для связи, — сказал Тетерчев. — В отряд пока не зову, у нас людей хватит. А от тебя и на месте польза будет. Деревня на большаке стоит. Пройдут немецкие части — замечай какие, сколько их и куда направляются, А мы Сашу к тебе за сведениями посылать будем. А ежели отступать придется, так мы тебя в отряд с дорогой душой примем. Согласен, что ли?
По договоренности с колхозом партизаны получили крайние огороды, те, что у самой опушки.
— И нам способнее, и вам ближе, — говорил председатель. — Только уж не взыщите, доставка ваша. Мы в это дело не мешаемся.
Но овощи до прихода немцев партизаны так и не успели запасти.
— Капустки бы мне, — сетовал дядя Коля, — свинина есть, я бы вам таких щей наварил — язык проглотишь.
— Давайте телегу, привезу, — вызвался Шура.
— Из-под носу у немцев возьмешь? — усмехнулся Макеев.
— А то нет? Написано на мне, что я партизан, что ли? Приехал колхозный парень огород убирать — и все.
В голубых глазах Тетерчева мелькнула усмешка.
— А ведь он прав. В случае чего и председатель колхоза подтвердит, что свой парень собирает.
Шура просиял.
— Кто со мной? Вдвоем веселее, да и скорее наберем.
Вызвался Алеша Ильичев.
— Каков молодняк! — сказал Макеев, когда они пошли запрягать, оба рослые, широкие в плечах, темноволосые и смуглолицые.
— Орлы! — блеснул глазами Тетерчев. — Помрем — смена готова.
— Еще неизвестно, кого раньше ухлопают, — покачал головой Макеев. — Уж очень прыток этот Шурка! Удержу ему нет.
Капусты в это лето уродилось великое множество. Омытые дождем кочаны, белые с зеленоватым отливом, тесными рядами сгрудились на грядах. Шура зорким хозяйским глазом окинул огород.
— Все убрать надо. Не то либо немец огребет, либо морозом прихватит. А тогда это уж не капуста, а так, дрянь, кисель.
Пока он привязывал лошадь к дереву, Алеша, захватив мешок, направился было к огороду, но вдруг остановился.
— А чем срезать будем? Ножей-то не взяли. Что ж, теперь за восемнадцать километров назад ворочаться? Ну и разини мы с тобой!
Шура растерянно посмотрел на товарища, потом вдруг весело расхохотался.
— Ничего, я с запасцем! — и вытащил из-под мешка на дне телеги две длинные шашки.
— С ума ты сошел! — проворчал Ильичев, прикидываясь сердитым. — Какие ж это колхозники с шашками на огород ездят? Вот застукают нас немцы и пустят в расход.
— А какие это партизаны без оружия ходят! — с запалом перебил Шура.
— Ну, давай, давай! — торопил Ильичев. — Препираться некогда.
Они принялись за работу. Острые лезвия шашек, с хрустом впиваясь в крепкие кочаны, срезывали их начисто.
Шура рубил с остервенением. Направо и налево от него вырастали груды капусты.
— Фашистские бы головы так… — Глаза его сверкали ненавистью, щеки разгорелись. Ильичев едва поспевал за ним собирать кочаны в мешок и высыпать на телегу.
Тучи рассеялись. Отточенные клинки шашек серебром сверкали на солнце.
Ильичев разогнул спину и вытер рукавом вспотевший лоб.
— Хватит. Гляди, телега чуть не с верхом полная.
— Ни одного кочана гадам не оставлю, — процедил сквозь зубы Шура, еще яростнее круша капустные головы.
Вдруг Ильичев схватил его за плечи.
— Немцы!
Шура обернулся. На опушке, за лугом около десятка немецких солдат, видимо, о чем-то совещались. Вероятно, сверканье шашек на солнце привлекло их внимание. Они поняли, что имеют дело не с простыми колхозниками.
Шура прикинул на глаз расстояние.
— Ложись, Алешка, — шепнул он и, взвалив себе и ему на спину по мешку с капустой, пополз к телеге. Над их головами просвистела пуля, за ней другая, третья.
Отвязать лошадь, вскочить на телегу было делом одной секунды. Прикрываясь мешком с капустой, Шура изо всех сил нахлестывал бедную клячу. Когда телега скрылась в лесной чаще, он опустил поводья.
— Ну, дальше немцы за нами не погонятся. Лесов они избегают: досмерти боятся партизан.
Он ласково потрепал по крупу взмыленную лошадь.
— Досталось тебе, старик! Ничего, теперь мы с тобой отдохнем.
Оба приятеля развалились на телеге, и мясистые капустные листья заскрипели у них на зубах. Утомленная лошадь плелась шагом, но доехали все-таки засветло, и щи поспели к ужину.
Первый арест
Обезглавленный петух, судорожно взмахивая крыльями, пролетел над двором и камнем рухнул вниз. Алая струя из перерубленного горла, темнея, впитывалась в песок. Перепившиеся немцы гонялись за домашней птицей, длинными шашками сшибали головы уткам и гусям, стреляли в кур. Пьяный, бессмысленный хохот, выстрелы и полные предсмертного ужаса клохтанье, гоготанье и кряканье сливались в какой-то сумасшедший гул.
Бабушка Марья Петровна сидела на лавке, скрестив на коленях узловатые жилистые руки.
— Ходила за ними, кормила, поила… Племенные ведь, — шелестела она одними губами. Две слезинки, выкатившись из ее линялых глаз, замешкались в путаном узоре морщин на щеках.
— Молчи, мать, терпи, — невозмутимо наставлял дед. — Война, она терпения требует. Понимать надо.
Краснорожий немецкий солдат швырнул на колени бабушке еще теплое тело птицы.
— На, матка, делай!
Марья Петровна вздохнула и начала покорно ощипывать гуся.
— И ты! — Немец сунул Павлу Николаевичу убитую курицу.
Стараясь сохранить спокойствие, тот принялся за непривычное дело. Но руки не слушались. Он выдергивал перья, разрывая кожу и оставляя невыщипанным пух.
— Нет гут! — Немец отнял у него курицу. — Давай солома. Печка топил.
Павел Николаевич вышел на крыльцо. С глаз долой все-таки легче.
По ту сторону улицы темнел затушеванный мелким осенним дождиком стог. Чекалин перешел через дорогу. Уж лучше было ему уйти к партизанам в землянку или даже уехать с женой, чем прислуживать фрицам!
Правда, командир Тетерчев говорит, что здесь он нужнее для связи, а все же тяжко ему здесь. Работали, детей растили, радовались на них. И на вот! Семью развеяло кого куда. Все нажитое трудом разграблено. Только хата уцелела. Надолго ли? Уходить будут — подпалят.
В частой сетке дождя смутно наметилась фигура человека. Павел Николаевич вгляделся, и не то от радости, не то от испуга сильнее застучало сердце.
— Шурка!
Когда он подошел ближе, отцу показалось, что похудевшее обветренное лицо его стало взрослее и строже.
— Не ходи в избу: у нас немцы стоят, — сказал Павел Николаевич, — человек тридцать.
Шура усмехнулся:
— А почем они знают, что я партизан?
— Ступай лучше во двор. Полезай на сено. Я тебе и поесть туда принесу.
— Чего я не видал на сене? Мне поговорить с ними нужно, выведать. Я ведь не в гости к вам пришел.
— Тсс! — Павлу Николаевичу вдруг почудилось, что по ту сторону стога кто-то дергает сено. Сделав знак сыну, он тихонько обошел стог. И снова померещилось ему, что кто- то проскользнул в потемках.
— Да ну тебя, папка! — подсмеивался Шура. — Какой ты пугливый стал. Не бойся, мне не впервой. Ничего не будет.
Отец дал ему вязанку соломы.
— Что с тобой поделаешь! На, неси.
Немцы занимал, чистую половину избы. Хозяева ютились в той, что поменьше, около печки. Но дверь была открыта для тепла.
После ужина погасили свет и легли. Шура с отцом на одной койке. У немцев еще горела лампа. Они громко говорили о своих делах, не подозревая, что колхозный паренек внимательно прислушивается к их словам и почти все понимает.
— Слышь, папка, — прямо в ухо отцу зашептал Шура, — они мост хотят поднять на быки. Железнодорожный… Который наши взорвали при отступлении. Ничего, пускай поднимают. А мы обратно взорвем. Аммоналу у нас хватит.
— Тише ты! — Павел Николаевич заткнул ему рот рукой. — Они понимают по-нашему.
— Ни черта они не понимают! — глухо из-под отцовской руки пробормотал Шура.
Минуту спустя он уже спал, беспечно посапывая носом. Задремал и отец.
Где-то прокричал случайно уцелевший петух. В другом конце деревни робко и неуверенно, как будто предчувствуя свою скорую гибель, откликнулся ему второй. В темноте деревенской улицы вдоль спящих изб ощупью пробирался человек. Проходя мимо дремавшего патруля, он остановился и сказал что-то солдату. Тот ушел в избу. Немного погодя в полуосвещенном прямоугольнике двери показались двое в немецких шинелях. Электрический фонарь бросал в темноту снопы света, обрызганные дождем. Человек в ватной куртке шел впереди, немцы за ним. У избы Чекалиных они остановились. Двое вошли в избу. Третий, сутуля плечи, ушел в дождь, в темноту.
— Ты есть кто?
Павел Николаевич раскрыл сонные веки, но тотчас же опустил их: резкий свет электрического фонаря слепил глаза.
Рыжий рыластый немец грубо тряс его за плечо:
— Ты есть кто? Отвечайт.
— Чекалин, Павел Николаевич.
— Сколько лет имеешь?
— Сорок два года.
— А то кто есть? Сын?! — Рыластый ткнул пальцем проснувшегося Шуру.
— Да, сын.
— Какой он возраст?
— Шестнадцать лет, — спокойно разглядывая немца, ответил Шура.
— Вы есть арестованные… Одевайт!
Побег
Один конвойный шел впереди, другой сзади, Чекалины, отец с сыном, посредине. Дождь не переставал. Глина вязла к ногам. Шура потерял калошу и остановился.
— Ну! Иди!
Немец ткнул его прикладом в спину.
Привели в избу к Филиппихе.
— Павел Николаевич! Шура! — сочувственно заохала хозяйка. — За что они вас?
Подошел офицер. Прокартавил, ослепляя электрическим фонарем глаза:
— Пагтизаи? Где лесная хата? Где отгяд? Где мины?
Павел Николаевич развел руками:
— Мы ничего не знаем. Мы из деревни никуда не ходим, здесь всегда и живем.
— Пагтизан! — упрямо твердил немец.
— Да ведь это же пчеловод наш колхозный. Мед, мед! Сладко! — пыталась объяснить немцу Филиппиха. — А Шурка— сынишка его, в школе учится. Зачем вы их забрали? Мы всех их знаем.
— Молчи, матка! — топнул на нее офицер и, сказав что- то конвоиру, вышел.
— Слышь, папка, — зашептал Шура: — дорогой рыластый говорил другому по-немецки, а я все-таки разобрал: «Жена — коммунистка, а сын — партизан». Откуда же немцам знать? Никто, как свой, выдал.
Павел Николаевич перевел глаза на окно, потом на сына. Тот понял, оглянулся. Конвоир с автоматом в руках дремал стоя, прислонившись к двери. Шура шагнул было к окну, но Филиппиха, возившаяся у печи, загремела ухватом. Конвоир вздрогнул и протер глаза. Что-то показалось ему подозрительным в их поведении.
— Марш, рус! — рявкнул он и сердито стукнул прикладом об пол.
И снова их вытолкнули из тепла на дождь и ненастье. Привели в чужой погреб. Загремел засов, Шура нашарил какие-то мешки, зарылся в них и тотчас заснул.
Павел Николаевич прислушивался. Где-то тонко попискивала крыса. Шаги часового раздавались в разных местах одновременно, значит их было несколько. Высоко, под самыми сводами, чуть намечалось окошко. Можно бы подтянуться на руках и… Но бежать, когда нечем отстреливаться…
— Холодно, — пробормотал сквозь сон Шура и поджал под себя ноги.
Отец лег рядом с ним, обнял, потом начал растирать его озябшие руки. Ночи, казалось, конца не будет. Пахло плесенью. Стучал дождь по крыше. Перекликались часовые. Только под утро, согрев сына и сам согретый его теплом, Павел Николаевич задремал. Он проснулся от какого-то шума за дверями. Шура все еще спал.
— Пусти, чего пихаешься? — кричала женщина.
— Матка, нельзя!
Подтянувшись на руках, Чекалин выглянул в окно. Светало. Дождь перестал. У входа в погреб хозяйка препиралась с часовым.
— Картошки тебе моей жалко? Так я не по картошку, я по дрова.
— Нельзя, матка!
— Который день хата не топлена. Дети обревелись, холодные, голодные сидят.
Часовой круто повернул ее за плечи и для вразумительности поддал еще прикладом в спину.
Застучал засов. Павел Николаевич спрыгнул на пол. Шура, сидя на мешках, протирал глаза. Трое конвоиров окружили его.
— Вставай, пошли.
Выйдя из погреба, взяли направление к большаку.
— В город нас ведут наверное, в штаб, — сказал Шура.
Не дойдя до школы, немцы свернули с дороги, ввели арестованных в сад, поставили к стенке.
— Папа, нас расстреливать сейчас будут!
Павел Николаевич молчал. Ему и самому так казалось. Один из конвоиров, посоветовавшись о чем-то с двумя другими, ушел в школу.
Шура смотрел ему вслед.
— Нет, не расстреливать, а вешать. За веревками пошли. Они партизан всегда вешают.
Медленно проходили минуты. Конвоиры стояли, как деревянные чурбаны.
Шура нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему не стоялось спокойно.
— Уж кончали бы скорее! Что они нас мучают?!
— Поспеешь! — не разжимая губ, проговорил отец.
Из школы с приглушенным говором высыпали люди в красноармейских шинелях, худые, с изможденными, землистыми лицами.
— Наши! — крикнул Шура. — Пленные, наверное.
— Правильно, сынок, пленные, — прохрипел простуженным голосом человек с рукой на перевязи. — Из окружения прорвались, потом в лесу плутали. Больше недели без пищи. А на опушке они нас настигли. Патроны все вышли. Голыми руками чего сделаешь! А вы кто будете?
— Нет разговаривайт! — крикнул конвойный.
Пленных выстроили парами. Шура с отцом оказались в последней.
В конце деревни, за огородом, отделенным от проулка высоким турлуком, стояла полевая немецкая кухня. Солдат- повар выплеснул из котла остатки пищи.
— Рус, кушай.
Изголодавшиеся люди, сбившись в кучу вокруг отбросов, подбирали их с земли и ели с жадностью.
От ненависти, от чувства унижения и боли за своих у Шуры перехватило дух.
— Как они с нашими… У, гады!
— Прикрой глаза, прикрой! — шепнул отец. — Тебя за одни глаза в расход пустят.
Худые клячи щипали пожелтевшую под осенними дождями траву. Солдат снял с них сбрую и швырнул в группу пленных.
— Рус, чтоб блестело!
Чекалиных заставили чистить картошку, остальных колоть дрова.
— С вас бы так шкуру сдирать, нечисть фашистская! — сквозь зубы бормотал Шура, с остервенением кромсая картофель.
— Тише ты, помалкивай, — опасливо оглянулся один из пленных. — Чего уж там после драки кулаками махать! Москву-то сдали.
— Кто сказал? Откуда?! — вскинулся на него Шура.
— Немцы сказывали. Уж они знают. И Тула взядена и Москва. Скоро за Урал наших погонят.
— Брешут псы поганые! — в бешенстве крикнул Шура, забывая всякую осторожность. — Я вчера только последнюю сводку слышал. Тула держится и будет держаться. Никогда еще Тула врагу не поддавалась. Наши оружейники не подкачают. А Москвы немцам, как своих ушей, не видать. Дайте срок, покатятся они назад, только пятки засверкают.
Шуру окружили.
— А Ленинград как?
— И Ленинград наш.
— Что ж они твердят, будто и Красная армия разбита и войне скоро конец?
— А вы слушайте больше. Мало чего они скажут!
В гуле голосов часовой не мог разобрать ни слова. До отвала набив живот награбленной у колхозников свининой, он с чувством превосходства оглядывал голодных людей. Наверное, они ссорятся из-за объедков, которые он так великодушно выплеснул им на землю. На всякий случай он крикнул начальственно:
— Рус, работа!
Пленные расходились по своим местам. Человек с рукой на перевязи задержался около Павла Николаевича.
— Как уйти отсюда? Расскажи дорогу.
Продолжая чистить картошку, Павел Николаевич ровным голосом объяснял ему, как добраться до Тулы. Полчаса спустя, когда, окончив работу, Чекалин огляделся, человека с рукой на перевязи уже не было среди пленных.
— Стройся!
Люди снова стали в пары. Павел Николаевич старательно сгребал в кучу картофельную шелуху и понемногу отодвигался к сараю. Негромко окликнул Шуру.
— В город поведут, — шепнул тот. — Я слышал. Как мы? Сейчас или оттуда?
— Сейчас, там хуже. — И, увлекая за собой сына, Павел Николаевич шмыгнул за сарай. Оба пригнулись, слушали.
Окрики конвойных… Обрывки слов… Нет, никто не заметил. Решились. Поползли огородами. Что-то загрохотало совсем близко. Оба замерли.
— Едут, — шепнул Павел Николаевич.
Машина с пулеметом зашуршала в кустах орешника, окаймлявших огород, и, обдав брызгами, осыпав пожелтевшими мокрыми листьями, пронеслась мимо.
— Свернула, — сказал Шура. — Пошли?
Ползком пробрались они через поле, потом перемахнули железнодорожную линию и скатились с насыпи в лощину.
— Здесь переждем дотемна. — Павел Николаевич вынул из-за пазухи остатки каравая, который сунула ему сердобольная Филиппиха, отломил половину Шуре.
— Последний. Надо как-нибудь потерпеть.
— В землянке накормят, — хрустя пропеченной коркой, посулил Шура. — Дядя Коля у нас знаменитый повар.
Весь день дул пронзительный ветер. Он разогнал тучи и подсушил грязь. Павел Николаевич часто прикладывал ухо к земле.
— Мельница стучит, слышишь? — Он осторожно поднял голову. — Возы! Это с мельницы. Не иначе — муку везут.
Шура смотрел по направлению его взгляда, подняв руку щитком над глазами.
По дороге, седлом выпирающей над двумя лощинами, медленно тащились возы, доверху набитые пузатыми мешками.
— Оружие бы нам! — вздохнул Шура. — Немцев бы шлепнули, а муку себе в лес.
— Об чем забота! — усмехнулся отец. — Тут впору бы ноги унести, а он…
— Ничего, мы по муку еще придем! — с уверенностью заявил Шура.
Стемнело. Теперь можно было размять застывшие от неподвижности руки и ноги.
Чекалины шли выпрямившись, бок о бок: плечистый, не по летам рослый сын и на полголовы ниже его, но тоже крепкий, по-молодому статный отец. От быстрой ходьбы они разогрелись Ветер обжигал щеки бодрящим холодком.
Шура радостно засмеялся.
— Ты что? — удивился отец.
— Так! Из-под носу у гадов ушли. Хорошо!
— Рано пташечка запела, — проговорил Павел Николаевич невесело. — Сегодня ушли — завтра можем попасться. Беда со всех сторон стережет.
— А ты что же, думал партизанить, да без тревоги? — усмехнулся Шура.
— Ну какой из меня партизан! — насупился отец. — Не к лицу вороне в павлиньи перья рядиться. Помочь — я с дорогой душой помогу, медом ли, мясом ли, мукой… не жалко. Что узнаю, расскажу. Отчего не рассказать? Только вояка из меня, чего там греха таить, никудышный. Я, сынок, сызмалетства пчеловодом был, рыбачил. Опять же охотник я неплохой и хозяин тоже. Кого хочешь спроси, никто не похает. Но чтобы воевать…
— Ты, отец, это оставь! — сурово оборвал его сын. — Ребята воюют, женщины, а уж мужчине совестно руки складывать. Да и податься тебе теперь некуда, кроме как к нам в землянку. «Жена — коммунистка, сын — партизан», слышал?
Павел Николаевич молчал. Шура говорил с ним, как старший. И возразить ему было нечего. Отступаться и правда не приходится. Он вздохнул и оглянулся на родную деревню, чуть намечавшуюся в поздних сумерках.
Чтобы обойти немецкие посты, приходилось дать крюку и переправляться вброд через речку. Ледяная вода колючими иглами впилась в обнаженные ноги, выскочили на берег, как ошпаренные. Бежали босиком, пока не обсушил ветер. Потом обулись, пошли медленнее. Углубляться в лес ночью не стоит. Павел Николаевич, как опытный охотник, хорошо это знал. И с дороги сбиться легко, да и свои могут обстрелять, не распознав. Заночевали в стогу на опушке. Шура зарылся в солому.
— Залезай и ты, — сказал он отцу. — Хорошо, тепло.
— Нет, уж я постерегу. Мне все равно не заснуть.
Ветер снова нагнал тучи и стих. Потеплело. Стал накрапывать дождь. Павел Николаевич обошел вокруг стога, прислушался. Потом вырыл в соломе нишу и укрылся от дождя. Тоска одолевала. Вот приходится ему, трезвому, трудолюбивому хозяину, скитаться без крова и пищи, как бездомному бродяге. А за какие грехи? За что разбита его мирная, налаженная жизнь? Ненависть к врагу душила его. Скорей бы рассказать кому-нибудь, поделиться, не то задохнешься от злобы.
— Шура, — позвал он, — Шура!
Но тот уже крепко спал.
До землянки добрались только утром.
У входа дежурил Ильичев. Завидя Шуру, он встрепенулся, просиял:
— Ну то-то! Заждались мы тебя.
Шура приложил палец к губам и, сделав знак отцу, начал спускаться по осклизлым земляным ступеням.
Партизаны просыпались. Дядя Коля, зевая, растапливал печку. Макеев с Тетерчевым тихо о чем-то разговаривали.
— А вот и я! — раздался у входа веселый Шурин голос.
— Саша, жив! — бросился навстречу комиссар. — Все тут за тебя перетревожились.
— Жив, здоров и еще одного партизана привел. Мы с отцом, можно сказать, чудом из петли ушли. Только дайте нам чего-нибудь поесть: голодные мы. как черти!
Трофеи в пользу воронья
— Павел Сергеевич, немецкие машины в Лихвин идут… Целая колонна. Не пропустить бы… надо скорей.
Разгоревшийся, потный Шура часто и жарко дышал, нетерпеливыми глазами торопя комиссара.
— Погоди. Говори толком, по порядку. Откуда идут машины?
— Из Перемышля.
— Сколько их?
— Много. Я не успел сосчитать.
Снарядились в несколько минут и четверть часа спустя вышли на дорогу, ведущую в Лихвин. В самом конце ее, там, где хмурое небо сливалось с землей, наплывало темное пятно.
— Они! — Шура торжествовал. Как он верно рассчитал расстояние! Вовремя вывел отряд куда нужно, чтобы не пропустить колонну.
По команде Макеева залегли в кювет.
Шура держал наготове свой полуавтомат. Это была первая боевая вылазка, в которой он участвовал. До сих пор его посылали только в разведку.
— Спокойно! — Макеев положил руку ему на плечо. — Раньше времени выстрелишь — все дело испортишь. Не горячись, слушай команду.
Машины проходили одна за другой близко-близко. Казалось, руку протянешь — зацепится. И надо было терпеливо выжидать, спокойно упускать из рук живую силу врага и награбленное колхозное добро. Одна машина с прицепным мотоциклом отстала. В мотоцикле сидел офицер.
— Буксует! — шепнул Шура комиссару. Но тот и сам не спускал глаз с заупрямившейся машины.
Шуре казалось, что все вокруг него застыло: время, притаившиеся в кювете товарищи, фашистский транспорт на дороге. Только сердце колотилось с бешеной быстротой.
Колонна проехала. Машины скрылись за поворотом. Осталась одна, та, что забуксовала. Шофер, лежа на земле между колесами, все еще налаживал что-то.
Шура нетерпеливо поглядывал на комиссара. Неужели и этой дадут уйти?
Шофер сел в кабину. Машина тронулась. Пошла полным ходом. Сейчас скроется за поворотом.
— Огонь! — негромко скомандовал комиссар.
Затрещали выстрелы. Грохнули гранаты. Огненные шарики прорезали воздух. Кто-то больно стиснул Шурину руку.
— Трассирующими стреляешь? С ума сошел!
— Так виднее, куда пули ложатся. Я хотел в офицера…
— Ему тоже виднее, откуда пули летят, — сердито проворчал Тетерчев.
Шура послушно опустил автомат. Выхватил из-за пояса гранату. В грохоте и сверкании разрывов офицер вместе с мотоциклом взлетел на воздух.
— Вот это правильно, Саша!
Легковая машина неподвижным пятном темнела посреди дороги. Четверо сидевших в ней молчали. Алеша Ильичев выстрелил для проверки. Ответа не было.
— Готовы! — сказал Макеев. — Пойдемте, товарищи.
— А трофеи? — разочарованно протянул Шура. — Разве мы не возьмем их с собой?
— Какие там трофеи! Подбитая машина с начинкой из фашистской падали. От таких трофеев можно отказаться в пользу воронья.
Встреча в соборе
Женщина с младенцем, завернутым в теплое одеяло, осторожно пробиралась в толпе на паперти Лихвинского собора. Проходя мимо рослого черноглазого парня, она легонько задела его и крикнула сердито:
— Ты что толкаешься? Видишь, с ребенком иду. Поаккуратней надо.
Тот обернулся, возмущенный:
— Подумаешь, какая! Сама толкается, а к другим пристает.
Из-под старушечьего платка глянули живые карие глаза учительницы Музалевской.
— Антонина Алексеевна! — вырвалось было у Шуры, но спохватившись, он проворчал грубовато: — Сама бы поаккуратней, а то прешь не глядя, а люди виноваты…
«Так это она на явку с младенцем! Ловко придумано». Шура хорошо знал Музалевскую. Она часто бывала в Лихвине, заходила и к ним. Держала связь с Надеждой Самуиловной по общественной работе.
— Крестить вот принесла, — сыпала между тем Музалевская быстрым бабьим говорком, — да поп все нейдет. Боюсь, как бы младенчика не застудить.
В церкви началась служба, паперть постепенно пустела.
— Передай Макееву, дочка у него родилась. — Музалевская отогнула угол одеяла, прикрывавший розовое, с кулачок лицо новорожденной. — Гляди, какая! А жена, передай, здорова, кланяется. — И так же скороговоркой, только понизив голос, добавила: — Скажи ему, бойцов надо провести в Кипеть. Двадцать пять человек. Из окружения прорвались. В лесу сидят, в овраге под Мышбором. Можете?
— Не знаю… Сейчас все на операции ушли. Только двое остались сторожить. Новости еще есть какие?
— А-а-а! — укачивала Музалевская расплакавшегося ребенка, и речитативом на мотив колыбельной песни: — По железной дороге ходят немецкие осмотрщики и дрезины с военным грузом. А поезда ходят от двух до пяти… А-а-а! Если сможете на Кипеть, дайте знать. Буду ждать до завтра… А-а-а-а!
Шура огляделся. Убедившись, что, кроме них, не было никого, заговорил быстрым шепотом:
— Как минирован мост? И где еще мины? Где у них огневые точки? Где комендатура штаба? Управа? Как там расположены комнаты? Пока все. — И добавил громче: — Прощай, тетка. В другой раз не толкайся. Надо быть культурнее.
По безлюдным улицам ходили немецкие патрули. Из двора с выломанными воротами вышла женщина в ватной кофте, накинутой на плечи поверх худого ситцевого сарафана в лиловых цветочках по красному полю. Пугливо посматривая по сторонам, она пробиралась вдоль дырявых дощатых заборов, наполовину разобранных на топливо.
— Halt! — крикнул часовой у перекрестка, женщина застыла на месте, прижимая к себе какой-то сверток под кофтой. Немец схватил ее за платье. — Ты комсомол!
— Комсомол? — слабо усмехнулась женщина. — Я старая. Понимаешь? Дети у меня вот какие. — Она провела рукой на уровне своего плеча.
— Ты красный! — твердил немец, дергая ее за платье. — Ты комсомол. — И, обнаружив под ее распахнувшейся кофтой два кочана капусты, грубо выхватил их.
Женщина заплакала.
— Отдай! Дети у меня сидят голодные. Насилу выпросила у родни. Щи хотела сварить им. Отдай!
Но солдат упрямо тащил ее за собой.
— Ты комсомол! Красный! Иди.
Шура шел следом на некотором расстоянии от них. Сдерживая ярость, придумывал, как бы вызволить женщину. Они свернули направо и скрылись за углом.
Вдруг из подворотни выскочило лохматое чудовище. С радостным лаем прыгнуло на Шуру и лизнуло его в лицо горячим языком.
«Тенор! Откуда он взялся? Или мать перед отъездом оставила у соседей?»
И, не успев подумать о том, что он делает, Шура обхватил шею собаки.
— Пиль немца! Куси его!
Тенор наставил уши. Потянул в себя воздух. Одним прыжком очутился на углу улицы и, увидев здоровенного мужчину, толкавшего худую, заморенную женщину, с грозным рычанием впился в коричневые обмотки на его ноге. Храбрый вояка заорал во всю глотку и не то от боли, не то с перепугу свалился на землю. А женщина, подобрав вывалившиеся у него из рук кочаны, шмыгнула в пробоину забора, пересекла пустырь и скрылась.
Грохнул выстрел. Отчаянный собачий визг просверлил воздух. Доблестный воин воровато огляделся и, убедившись, что свидетелей его героического поведения не было, вскочил, высоко поднял голову и молодцеватым шагом вернулся на свой пост.
Тенор еще узнал Шуру. Слабо вильнул хвостом. В потухающих глазах его мелькнуло выражение беспредельной собачьей преданности и погасло. Из простреленного горла хлынула кровь. Он передернул лапами, вытянулся, замер.
Шура снял шапку. Ветер трепал его черные волосы.
В глазах стояли слезы. Он быстро нагнулся, провел рукой по волнистой, еще не остывшей шерсти собаки и пошел прочь.
Поезд взорван
Сидеть неподвижно в кювете в этот бесснежный и уже по-зимнему морозный день, терпеливо выжидать, ловить ухом каждый шорох для Шуры было труднее всего. Ноги застывали даже в теплых валенках, а сердце жарко выстукивало нетерпеливую дробь. Музалевская сказала — поезда ходят между двумя и пятью. Уже второй час, а между тем ничего еще не видно.
— Идут!
Макеев приложил палец к губам. Шум шагов приближался. Потом картавый немецкий говор. Изредка — постукиванье молотком по рельсам. Шура уже вскинул свой полуавтомат.
— Осмотрщиков пропустить! — одними губами, но совершенно отчетливо проговорил Тетерчев и в пояснение добавил — Пускай доложат на станции, что путь в порядке.
Шура смотрел на него восхищенный: «Вот это командир! Все предвидит…»
Осмотрщики прошли. Шаги затихли. Можно бы, кажется, начать разборку пути, а то ведь и не успеть, пожалуй. Но Тетерчев с Макеевым все еще медлят, чего-то выжидают. Глухой, едва различимый шум возник где-то очень далеко. Он постепенно нарастал, и уже нельзя было ошибиться — поезд.
Шура переводит укоряющие глаза с командира на комиссара: «Проворонили! Теперь крышка! Проскочит, как миленький».
Тетерчев чуть приподнял голову над кюветом.
— Дрезина!
Партизаны взяли было на прицел.
— Пропустить! — сердито зашипел командир.
Опять пропустить! Шура совсем обозлился. Что ж это такое? Мерзнуть здесь часами только для того, чтобы полюбоваться, как немцы под самым носом у них прогуливаются взад и вперед.
— За работу! — скомандовал наконец Тетерчев, когда дрезина отгрохотала.
Шура бросился на рельсы, как на врага. Орудовал клещами и отверткой. Торопился, не разгибал спины. Все казалось, что они не успеют разобрать путь и поезд пройдет благополучно. По лицу жарко струился пот. Шура сбросил шапку, расстегнул пальто. Рядом с таким же молчаливым упорством работали Шура Горбенко, Ильичев, Тетерчев и Макеев.
— Тсс! — Комиссар застыл с протянутой вперед рукой, прислушался.
— Ложись!
Пятеро в серо-зеленых шинелях показались на повороте. Между ними один офицер.
— Огонь!
От дружного залпа фашистов будто смыло. Или это только уловка? Притаились? Подстерегают?
С ружьями наготове партизаны пошли вдоль насыпи. Шура первый наткнулся на убитого немца. Он лежал навзничь, щекастый и еще румяный.
— Капут! — жестко сказал Шура.
В нескольких шагах лежало еще двое — один ничком, широко раскинув руки и ноги, другой скорчившись, с застывшей гримасой ужаса на лице.
Командир насчитал четверых.
— Ищите пятого. Затаился, поди. Нагадить нам хочет.
Шура вздрогнул и оглянулся, будто его толкнули. Из кювета по ту сторону линии два глаза уставились на него, ненавидящие и злобные, как у затравленного волка. Шура поднял автомат, хлопнул выстрел. Голова в пилотке скрылась.
— Вот за это спасибо! — похвалил Тетерчев. — Из тебя снайпер выйдет что надо. Пойти взглянуть, может еще жив. — Он вынул из кобуры наган и подошел к кювету. Немецкий офицер лежал на спине с запрокинутой головой. Рядом валялась намокшая в крови пилотка. Рука фашиста сжимала гранату Командир усмехнулся:
— Опоздай ты хоть на секунду, нас бы никого в живых не осталось.
Ильичев, Горбенко и Макеев снова уже копошились над рельсами. Шура подбежал к ним.
— А стрелку-то, стрелку перевести забыли!
И будто в ответ ветер принес издалека протяжный, полный тревоги гудок паровоза.
— Бросай работу! — скомандовал Макеев.
Сбежали с насыпи, пересекли поле. Передохнуть остановились только в лесу. Шура беспокойно прислушивался к нарастающему грохоту. А что, как проскочит? Может быть, они не все сделали? Или не так, как надо?
Так-так-тик! Так-так-тик! — успокоительно выстукивают колеса.
Так-так-тик! Так-так-тик!
Теперь совсем близко. Шуре даже показалось, что поезд уже миновал разобранный участок пути и стук колес затихает. От досады он кусал себе губы.
Так-так-тик! Так…
Мелодия оборвалась, затерялась в бешеном хаосе звуков, в грохоте взрыва, лязге железа, раздирающих воплях.
Шура обхватил руками и ногами ствол сосны, вскарабкался проворно, как белка.
Поезд разорвало на две части. Паровоз под откосом нелепо, как перевернувшийся на спину жук, вертел в воздухе колесами. Несколько разбитых вагонов лежало рядом. Среди обломков дерева, развороченных ящиков с боеприпасами, искореженных железных частей, изуродованных скелетов военных машин валялись трупы убитых. А в хвосте поезда в оторвавшихся, устоявших на пути и объятых пламенем вагонах с треском рвались снаряды.
— С ума ты сошел, Саша! Мишень из себя делаешь! — кричал снизу Алеша Ильичев. — Слезай скорей!
Переправа
Музалевская шла впереди. За нею бойцы. Человек пятнадцать. Лес редел. Когда вышли на опушку, в мутном свете луны, затушеванной быстро бегущими тучами, обозначился мост через речку и какие-то невысокие строения на другом берегу.
Антонина Алексеевна указала в ту сторону.
— Вон Кипеть. Придется перебираться через реку. По мосту нельзя. Вчера я была в Переславиче у Юдиной, учительницы, она мне сказала, что на мосту немецкий патруль ходит.
— А как же, вброд? — спросил кто-то из бойцов.
— Нет, глубоко. Тут в конце деревни, метров двести от моста, школа. Я там учила несколько лет назад. Ворота снимем— плот будет. Вот и переправа.
— Есть такое дело!
Двинулись за Музалевской, пробирались между деревьями, держась в тени. На мосту вспыхнула красноватая точка, в противоположном конце другая.
— Курят, гады! — сказала Антонина Алексеевна.
К школе она пошла одна. Бойцов оставила пережидать в лесу. Всклокоченная, вся в репьях дворняга кинулась на нее с хриплым лаем.
— Шарик! — позвала учительница. — Не узнал, глупый! — И бросила ему ржаную лепешку.
Собака взвизгнула и завиляла хвостом, извиняясь.
Несколько минут спустя четверо мужчин подтащили к реке снятые с петель ворота. Учительница несла за ними подобранные во дворе жерди. Собака наставила уши и, вертя головой, недоуменно смотрела вслед уходящим.
Плот отчалил. Трое остались на берегу — женщина и двое мужчин. Они дождались, пока двенадцать бойцов переправились на ту сторону, потом притянули плот веревкой, спрятали его в кустах и снова ушли в лес.
— Запомнили дорогу? Проведете остальных без меня? — спросила Музалевская.
— Будь покойна, мать, проведем.
— Так завтра в ночь двинете? А утром я вам еще передачу принесу.
Когда на другой день учительница возвращалась домой с корзинкой наскоро сполоснутого в речке детского белья, по дороге ее перехватил староста.
— Слушай, Алексеева, за тобой замечать стали. В народе слушок пошел, будто ты партизан кормишь. Нынче снова цельное утро печку топила.
— А что мне не топить? — беспечно засмеялась Музалевская. — He лето на дворе. Или тебе моих дров жалко? Так у меня много запасено.
— Не об дровах речь. Нечего зубы-то скалить! И кормишь их, и носишь им, и ночуют они у тебя. А мне в ответе быть тоже не расчет. Откудова сейчас пришла? Сказывай.
— Ты мне не начальник, чтобы спрашивать. Захочу — скажу, не захочу — и так хорош будешь. Белье на речке полоскала. Видал?
— Белье-е… — протянул староста и, махнув рукой, пошел прочь.
«Как же теперь с учительшей быть? — рассуждал он сам с собой. — Немцы в одну душу требуют: докладай им об тех, что с партизанами знаются, не то капут тебе будет. А партизаны обратно свое твердят. Намедни Тетерчев за деревней на огородах встрелся. Намотай, говорит, себе на ус, говорит, продажная твоя душа, говорит: ежели с учительницей Музалевской приключится что, не быть тебе, староста, в живых. Куда ж теперь человеку податься, который сызмалетства смирный и воевать не согласный? И вертишься тут промежду них, как дерьмо в проруби».
Да, жизнь будет замечательная!
Первый снежок крутился между деревьями. Сквозь белый настил на земле еще просвечивала полужидкая, не успевшая подмерзнуть грязь, но уже посветлело вокруг, и долгая осенняя ночь не казалась такой непроглядной.
Шура потянул носом воздух:
— Будто свежим огурцом пахнет. Это всегда, когда первый снег падает. Правда, дядя Коля?
— На охоту бы сходить! — вздохнул старый партизан. — Теперь зверя по следу найти легко.
— Пойдем, дядя Коля. Тут зверья! Так и бродят вокруг. Пищу чуют, отбросы. Вчера лиса к самой землянке подобралась. Пока я за ружьем бегал, она и скрылась. А зайцев, дичи… Да это что! Дней пять назад я на медвежий след набрел, только после дождем размыло. Вот бы нам с тобой медведя ухлопать, дядя Коля, а? Шуба теплая!
— Что ж, и ухлопаем. Дай срок снегу прочно лечь. Тогда следа не потеряешь. И ласки тут лазают. Выдра как-то промелькнула. А раз иду по лесу, недалеко от землянки. Дров у меня на обед не хватило. Слышу треск. Кто-то сучья ломает. Гляжу, лось прет целиной. Да здоровенный такой! Жаль, ружья при мне не было.
Они любили дежурить вместе на посту у землянки — самый старый и самый молодой в отряде. Ночи длинные, темные. В пяти шагах ничего не видать. Кричат совы. Жалобно, как обиженный ребенок, плачет филин. Ветер гудит в вершинах сосен. Дядя Коля рассказывает о гражданской войне. Он тогда еще парнишкой партизанил на юге. Щорса помнит.
Шура слушает и старается представить себе, как выглядел двадцать пять лет тому назад этот седоволосый жилистый человек с веселыми, смеющимися глазами. Мысль о собственной старости в первый раз приходит ему в голову.
— Пройдет еще двадцать пять лет, и буду я дежурить на часах с каким-нибудь пареньком, вот как ты со мной теперь, — задумчиво говорит он, — буду рассказывать ему, как мы оборонялись от немца.
— Будешь рассказывать, — усмехнулся старый партизан. — Только не в лесу на часах, а у себя в кабинете, за письменным столом, товарищ инженер-строитель. Так ведь, а? Когда немца побьем, начнется замечательная жизнь, Саша. Войне крышка по крайней мере на тысячу лет… Иначе и кровь проливать не стоило бы. Так ли я говорю, Саша?
— Так, дядя Коля, конечно так! — Шуре хочется расцеловать чудесного старика, который через всю жизнь пронес веселую юношескую бодрость и веру в человека. — Да, жизнь будет замечательная! Когда побьем немца, я снова учиться пойду. Буду инженером-авиаконструктором или лучше просто инженером-строителем. Ведь сколько они разрушили, проклятые! Отстраиваться надо, восстанавливать хозяйств. Это уж наша забота. Правда, дядя Коля?
Старый партизан молча улыбается в темноте.
Зловещая ночь
Тоннель длиною в несколько метров с выходом в лес должен был служить убежищем для партизан на случай, если бы немцы застали их в школе и окружили ее. Копали все — Музалевская, ее муж, невестка.
Летучие отряды ребят под командой шустрой Юльки охраняли школу на расстоянии, чтобы вовремя предупредить об опасности.
Стемнело. Музалевская чистила картошку на ужин. Только что она проводила тоннелем четырех бойцов. Они постучались в школу вчера ночью. Их направил Макеев. Они прорвались из окружения и догоняли свою часть. «Спасибо, мать, — говорили они прощаясь. — Когда все кончится, когда перебьем гадов, всех до единого, мы тебя на руках носить будем».
В кухню вбежала невестка Сима с белым, как мел, лицом.
— Карательный!
С улицы уже прорывался грохот машин, цоканье подков, ржанье и слова команды.
Музалевская оглянулась на тяжелый кованый сундук в углу кухни, плотно прикрывавший подпиленные половицы. Его будто годами не сдвигали с места. «Бойцы уже, верно, далеко в лесу», подумала учительница и сказала вслух:
— Ступай к детям, Сима!
А немцы уже ломились в дом. Они наполнили тихую опрятную школу стуком деревянных подметок, грубым квакающим говорам, зловонием потных тел и грязного, обовшивевшего белья.
Долговязый ефрейтор вплотную подошел к Музалевской, дыша ей в лицо тошнотворным запахом винного перегара.
— Матка, ты прятал партизан. Три шелёвек и еще один. — Он растопырил перед ней четыре толстых волосатых пальца.
Она слегка подалась назад.
— Я никого не прятала.
— Мы будем делал обыск.
— Ищите.
Они рассыпались по классам, обшаривали жилые комнаты, искали в погребе, в сарае, на сеновале. Они хватали все, что попадалось под руку: детские валенки, стенные часы, бочонок квашеной капусты, патефон. Только книг не брали. Раздирая на части учебники, географические карты, диаграммы, они с пьяным хохотом плевали на них и топтали ногами.
Старый учитель понуро сидел в углу на табурете и с окаменелым лицом смотрел на этот дикий погром. В соседней комнате плакали со страху дети.
Куча картофельной кожуры на кухонном столе росла. Из переполненного горшка плескала вода. Музалевская ничего не замечала. Бледная, с плотно сомкнутым ртом и нахмуренными бровями, она упорно продолжала чистить картошку.
Долговязый ефрейтор был в ярости. Они обыскали весь дом и никого не нашли. Он грозил маузером, икал и брызгал слюной.
— Матка! Ваш рус банда убиль наш funf зольдатен und ein официр. — Он растопырил перед Музалевской пятерню, — Ты должен показываль нам лесной хата.
Музалевская покачала головой.
— Я ничего не знаю.
— Ты зналь. Ты ушитель. Ты все зналь.
Он схватил ее за руку и потащил на крыльцо.
Деревня пылала. Строчил пулемет. Пламя вспыхивало в разных местах и, вгрызаясь в темноту огненными зубцами, высвечивало до мельчайших подробностей группу деревьев, бегущих людей с перекошенными от страха лицами, немца с автоматом, лошадиную морду, кузов машины.
Двое солдат волокли старика. Голова его моталась, как у мертвого. По седой бороде струилась кровь. Он падал. Его били прикладами, поднимали и снова волокли. Простоволосая женщина с воем бежала за ним. Рука с зажатым маузером поднялась над ее головой и опустилась. Женщина охнула, свалилась, затихла.
Зарево разгоралось. В зловещих кровавых отсветах его катился фургон, огромный, как дом на колесах. Ело тащили запряженные цугом лошади-великаны с длинными, развевающимися по ветру гривами, с косматой бахромой вокруг мощных копыт. Возница с дикими воинственными криками размахивал бичом, с непостижимой ловкостью сшибая мимоходом гуся или курицу с опаленными крыльями. Солдаты, марширующие по обеим сторонам, хватали на ходу убитую птицу и швыряли ее в раскрытую пасть фургона.
Перепуганные животные, вырвавшиеся из горящих хлевов, с ревом, мычаньем, блеяньем, хрюканьем проносились мимо. Поймав телку или свинью, солдаты бросали их тоже в фургон. Позади на узком отрезке платформы пристроились двое с пулеметом. Под грохот колес, под свист бичей, под рев, ржание и дикие воинственные выкрики двуногих и четвероногих невиданная колесница катилась мимо школы. Вдруг кони стали. Даже им не под силу было вытащить из грязи переполненный награбленным добром фургон. Защелкал бич. Возница прыгнул со своего сиденья на спину лошади и в бешенстве впился зубами ей в холку. Гривастый великан взвился на дыбы, остальные рванули и понеслись. Фургон покатился дальше.
Вокруг вспыхивали зажигательные ракеты, но ветер разбрасывал их в разные стороны, прочь от школы.
А фургоны катились один за другим — Музалевская насчитала их десять — в искрах, едком дыму, среди воя и плача и треска пожарища. Необычное зрелище поглотило все чувства учительницы: негодование, отвращение, страх. Будто какие-то наглухо забитые подземные ходы в бездонную древность внезапно раскрылись перед ней и довременный хаос мутным потоком ринулся на поверхность.
Эти двуногие человекоподобные, насилующие, убивающие и грабящие с воинственными криками первобытных дикарей, были одеты не в звериные шкуры, а в ловко скроенную форму военного образца. Они сеяли смерть и разрушение не палицей, не пращой, а самой усовершенствованной техникой, на какую только способен изощренный мозг человека XХ столетия.
Учительница стояла потрясенная.
— Марш, матка.
Ее грубо толкнули в спину. Подхватили с обеих сторон. Поволокли. Она дрожала от озноба. Волосы ее распустились. Ветер хлестал ими по лицу. Кто-то окликнул ее, нагнал, накинул на плечи пальто. Она оглянулась и в колеблющемся свете зарева узнала лицо мужа, сразу осунувшееся, постаревшее.
Болезнь
Шура захворал. Ныли кости, болело все тело, надрывный кашель не давал спать. Целыми сутками он ничего не ел и только изредка, превозмогая себя, чтобы не огорчить дядю Колю, проглатывал ложку щей или надкусывал лепешку.
— В бане бы ему попариться, малинки выпить — и на печку! — сокрушался Павел Николаевич. В последнее время он подолгу пропадал в разведке и сейчас корил себя, что недоглядел за сыном.
Шуру знобило от промозглой сырости по утрам, когда натопленная накануне печка остывала; днем он задыхался в духоте плохо проветренной землянки.
— Отпустите его, Павел Сергеевич, — просил комиссара отец. — У него легкие не в порядке. Здесь ему не поправиться.
Макеев озабоченно сдвигал брови.
— Да разве я удерживаю? Только худа его девать? Кругом немцы.
В конце концов решили отправить в Мышбор к Музалевской. Она как мать родная, выходит. И под школой тоннель — в случае чего уйти можно.
Шура сначала заупрямился. Какие нежности не по времени! Ему и в землянке неплохо. Но его убедили, что в хороших условиях он скорее встанет на ноги, и дали задание по разведке. Он сунул две гранаты за пояс, кусок хлеба в карман и ушел. Морозная свежесть, насыщенная запахами хвои, взбодрила его. Хорошо было шагать глухими лесными тропами, не опоганенными сапогом фашиста, пить вольный лесной воздух, не зараженный его смрадным дыханием. Где им забраться в такую чащобу! Душонка коротка. Сознание необъятности родины наполняло чувством гордой радости. Сидят фрицы по теплым хатам и смердят, точно клопы в щели, нос высунуть боятся. «Погодите, дайте срок, как клопов и выкурим, только вонь пойдет вокруг! Ничего, проветрим. У нас воздуха много».
На полпути от Мышбора Шура притомился и дошел только к вечеру, совсем больной. Дверь отворила Сима, растерянная, с опухшими веками. В доме был полный разгром. Антонину Алексеевну вчера вечером увели в комендатуру в Лихвин. Муж ушел туда же утром справиться и до сих пор не вернулся. Карательный отряд спалил вчера полдеревни.
Шура молча повернулся и ушел. От слабости его шатало. В голове стучали молотки. Он побрел вдоль обгорелых пустырей и постучался в первый уцелевший дом. Его впустили. Замешаться среди погорельцев в переполненной народом избе было, конечно, всего безопаснее. Шура втиснулся между спящими вповалку на полу и заснул.
Кто-то тряс его за плечо. Он с трудом поднял тяжелую голову.
— Вставай, сынок, утро, — говорила женщина жалеющим и как будто виноватым тоном. — Уходи от греха — неровен час, немцы вернутся. Тут все свои, деревенские, а ты, бог тебя знает, может в партизанах ходишь, так нам за тебя в ответе быть не приходится.
Окна мутно синели в душной темноте избы. Значит, светает. Шуре казалось, что он только что заснул. Он встал, пошатываясь вышел из хаты. Женщина вздыхала, провожая его жалостливыми, виноватыми глазами.
В конце деревни Шура остановился. Куда идти? Он знал округу вдоль и поперек, но вся она кишела фашистской нечистью. Макеев не зря предупреждал отца.
Рассветало, мгла нехотя растворялась в тусклом утреннем свете. Дороги были пустынны. И как-то само собой вышло, что он пошел по той, которая вела в родную деревню. Бабушка напоит горячим молоком, вытопит баньку. Он отлежится денек-другой — и все в порядке. Немцы в Песковатском долго не стоят. Те, что схватили тогда его с отцом, давно ушли. В конце концов, чего ему бояться? Разве он не дома? Разве не он хозяин этой земли, на которой и отец его, и деды, и прадеды трудились всю жизнь? И если гнусные ворюги забрались в его хату, разве он должен прятаться от них, вместо того чтобы встретить с оружием в руках и выгнать с позором вон, как подобает настоящему мужчине?
Он повеселел от этих мыслей и уже без колебаний направился в родное село.
— Батюшки мои, да что ж это такое! — Марья Петровна всплеснула руками, ахнула, привела и, пугливо озираясь, заговорила быстрым шепотком: — Немцы ведь у нас, немцы! Или ты о двух головах?
Шура посмотрел кругом — никого. В комнате рядом тоже пусто.
— Чего глядишь-то? — зашелестела бабка. — От нас ушли, у людей стоят. Все одно свои на тебя докажут. Про тебя, чай, вся деревня знает.
Шура тяжело плюхнулся на лавку. Он снова почувствовал, что болен. На ногах как будто гири навешаны, в ушах звон, и то ли от голода, то ли еще от чего нудная муть подступает к сердцу.
Он поднял на старуху нехорошие от жара глаза.
— Поесть бы собрала мне, бабушка!
— Ах ты, господи милостивый, чего ж это старая дура…
Она засуетилась, загремела ухватом, вытащила из печки кувшин топленого молока, покрытого зарумянившейся пенкой. Отрезала краюху душистого черного хлеба, проворно зашлепала в сени и вернулась с куском сотового меда в глиняной миске.
— Кушай, внучек! Дед от немца малость схоронил. Все улья разорили, окаянные. Всех пчел поразогнали.
От горячего молока с медом у Шуры помягчело в груди. Его разморило от сытости. Сон одолевал. Зевая и потягиваясь, он побрел к печке.
— Не гони, бабушка, до вечера. Пережду дотемна и уйду. На печке искать не станут.
Марья Петровна часто заморгала ресницами.
— Да нешто я гоню, господи! О себе, что ль, забота? За тебя же сердце болит. — И всхлипнула, утирая нос передником.
Вечером вернулся с работы дед. Шуру разбудили ужинать. Он сидел над миской c картофелем, нахохленный, как больная птица. Кусок не лез в горло. Вязкая дремота клеила веки.
— И что ты думаешь над своей головой? — басовито бубнил дед. — Сам в петлю лезешь. Нам с бабкой по сто лет в обед. Помирать когда-никогда приходится. А тебе еще жить да жить. Покушай да и ступай в лес, в землянку. Целее будешь. А хворь… Подумаешь, какое дело! В твои года от этакой хвори не помирают.
Шура вяло жевал, с трудом превозмогая сонливость.
Воркотня деда доходила до него словно откуда-то издалека. Вряд ли он вникал в ее смысл.
Поужинали. Бабка убирала посуду. Шура дремал, склонившись над столом. Вдруг он вздрогнул и поднял голову. Старики выжидательно смотрели на него. Оба. Сон мигом развеяло. Шура надел пальто и ушанку. Взял намазанную медом краюху и пару крутых яиц, которые сунула ему бабка, кивнул головой и вышел.
— С богом! — крикнул вдогонку дед.
А бабка заморгала ресницами, и частые слезинки, догоняя друг дружку и путаясь в сетке морщин, потекли извилистыми струйками до горько изогнутого рта.
В родной хате
Шура шагал против ветра, подняв воротник пальто и засунув руки в карманы.
Восемнадцать километров! Шутка сказать! Здоровому это бы ему нипочем. Но теперь, когда его шатает от слабости и липкий пот обдает все тело… А в землянке смеяться над ним будут. Струсил, прибежал назад, как маленький. И задания не выполнил. Хотя получил-то он его по собственному настоянию, и то когда поправится. Поправишься, если голову преклонить негде!
Шура миновал деревянный мосток, расшатанный тяжеловесными германскими машинами, поднялся на развороченную танками глинистую горку. У Виноградовых еще не спали… Окна, выходящие в палисадник с оголенными кустами, слабо светились за плотными шторами. Шура представил себе комнату в квартире директора, лампу под абажуром над столом, и сердце сиротливо заныло по домашнему теплу и уюту. Рядом направо была его родная хата, еще три года назад, перед тем как они переехали в Лихвин, такая светлая и приветливая на своей вышке, вся облитая солнцем, овеянная теплыми ветрами, вся в вишневом и яблоневом цвету, в лиловых гроздьях сирени, в пушистых кистях черемухи. Теперь она стояла темная, с заколоченными окнами, пустая.
И все же Шуру неудержимо туда потянуло. Что, если отлежаться в старом родном гнезде до выздоровления? Кому придет в голову искать его в заброшенной хате с наглухо забитыми окнами? Он поднялся по шатким, хлопающим под ногой ступеням, отодрал руками доску, прибитую поперек двери, и вошел. На него пахнуло затхлым, застоявшимся духом, плесенью и еще какой-то дрянью. Пискнула крыса и, зашуршав бумагой, прошмыгнула мимо. Шура чиркнул спичкой. Он вдруг вспомнил о маленькой жестяной лампе на стене, над полкой с посудой. В Лихвине была другая. Может быть, ту, старую, оставили здесь? Спичка догорела. Он зажег другую. Лампа была на своем месте, проржавевшая с выщербленным закопченным стеклом. И даже немного керосина оставалось на дне. Затрещал, разгораясь, фитиль. Из-за стекла, протертого подвернувшейся под руку тряпкой, приветливо мигнул огонь. Ничего, света не будет видно — окна забиты досками.
Высоко подняв лампу, Шура обошел избу. Кучи мусора, битая посуда, какие-то лоскутья, изломанный детский биллиард, который он сам смастерил когда-то по образцу клубного…
В комнате за перегородкой узкая, выложенная кафелями лежанка глянула на него многократно повторенным, с раннего детства знакомым узором. Затопить бы так, чтобы накаленная лежанка прогрела до костей простывшее тело! Шура заглянул в чулан. Там аккуратно были сложены сухие распиленные дрова. Он с нежностью подумал об отце. Какой хозяин! Предусмотрительный, запасливый, трудолюбивый! А если увидят дым из трубы? Ведь в хате давно никто не живет, все знают. Он вспомнил, что ветхую трубу снесло бурей еще в прошлую зиму. Значит, дым будет стелиться по крыше. Кто же его заметит в этакую темень?
Дрова занялись дружно, но давно нетопленная печка чадила. Слезились глаза. Грудь раздирало от кашля. Скоро, однако, дым вытянуло. Лучистое тепло ласково обволакивало тело, Шура сидел перед печкой, смотрел в огонь. Так они сиживали прошлой зимой с Тоней по воскресеньям, когда мать уходила в универмаг, а их оставляла домовничать. Потом Тоня уехала от них к себе в Черепеть. Летом, уже во время войны, она пришла навестить их. Шура был тогда в истребительном отряде. Как он обрадовался, когда, вернувшись со стрельбища, услышал ее голос, увидел оживленное смугло-розовое лицо!
Если бы каким-нибудь чудом Тоня очутилась здесь и они оба сидели бы рядом перед огнем! Он рассказывал бы ей про свою партизанскую жизнь, а она смотрела бы на него сочувствующими, понимающими глазами и слушала бы так, как она одна умела слушать, внимательно вникая в каждое слово. И хворь бы его как рукой сняло.
Печка догорала. Шура помешал рассыпавшиеся золотистыми угольками дрова, закрыл вьюшку и влез на разогревшуюся лежанку. Милое смугло-розовое Тонино лицо всплыло перед закрытыми веками. Губы ее шевелились. Слов он не мог разобрать.
— Что, что ты говоришь? — Он открыл глаза. Сердце больно стучало. Чуть светилась в потемках догоравшая лампа, и Шуре вдруг показалось, что никогда он больше не увидит Тоню, никогда…
Сквозь забитые досками окна свет проникал скупо. Шура не сразу сообразил, где он находится и утро это или вечер. Вымокшая рубашка липнет к спине. Во всем теле приятная слабость. Он хорошо поспал и прогрелся. Пожалуй, вся хворь вышла испариной. Еще одна ночь в тепле и покое— и он будет совершенно здоров. Ему захотелось есть. Он вспомнил про краюху с медом, вытащил ее из кармана вместе со сплющенными яйцами в раздавленной скорлупе, съел с жадностью.
Щелки в окнах медленно темнели. Значит, он проспал почти целые сутки. Может быть, теперь он в состоянии будет пробраться к своим? Но лежанка держала еще не остывшим теплом, и тяжело клонилась голова. Кто-то негромко постучал за дверью. Или это ему послышалось?
— Шура!
Он приподнялся на локте.
— Шура!
Нет, теперь уже совершенно отчетливо. Он вскочил, бросился к двери.
Они были все тут — Левушка Виноградов, Сережа Аверин, Коля Бочков, Илюша Доронин и Жора Холопов. Как они узнали?
Они заговорили все разом, перебивая друг друга:
— Сережка заметил, что у вас по крыше дым стелется.
— И я побежал сказать твоей бабке. А она перепугалась. Говорит: «Наверное, Шурка там. Он больной». — говорит.
— Ну, Сережка нас всех и позвал.
— А мы захватили разную еду.
Илюша зажег керосиновую коптилку, которую ребята принесли с собой. Коля затыкал тряпками щели между досками в окнах. Левушка и Жора расставляли на колченогом столе мясо, хлеб, молоко, мед. Это был пир наподобие тех, которые они устраивали два года назад в маленькой землянке под горкой. Только теперь их командир стал настоящим бойцом.
— Бабка велела тебе уходить скорей, — сказал Сережа. — Как бы не застукали тебя здесь. Дым и другой кто мог заметить.
Шура беспечно махнул рукой:
— Ерунда, ничего не будет! Сегодня в ночь уйду, никто и не увидит.
Он и радовался встрече с товарищами и немного смущался тем особенным уважением, которое чувствовалось теперь в их отношении к нему. А что он такого сделал? Партизан-разведчик. Мало ли их!
— Куда же нам теперь податься? — Коля выжидающе смотрел на него. — Когда мы разные военные игры устраивали, помнишь, Сережка хотел летчиком стать, Илюша — танкистом, а Жора в кавалерию метил.
— Я даже колхозный молодняк выхаживать начал, — живо подхватил Жора, — хорошего коня хотел вырастить.
— Теперь, значит, всему крышка? Что же нам при немцах-то делать?
— Как что делать? — удивился Шура. — Воевать, фрицев бить.
— Да ведь воевать-то нас еще не берут, — попробовал было возразить Илюша.
— А ты не жди, покуда возьмут. В партизаны иди. Чем партизан не боец?
Ребята молчали, смущенные. В партизаны! Легко сказать! И заманчиво и, надо-таки сознаться, страшновато, А родители что заноют? Разве они допустят? Шура другое дело. У него отец с матерью особенные.
— Я вас в лес не зову, — угадывая их мысли, говорил Шура. — В землянке тяжело. Не каждый выдержит. Уж на что я здоровый, а и меня скрутило. Только партизанить можно и у себя дома сидя. Узнавайте, какие части немецкие проходят, сколько их, откуда они, куда идут, какие здесь осели, зачем. Я буду приходить, а вы мне все выкладывайте. Мы с Красной армией связь держим. Передадим, куда надо. Можно и не здесь встречаться. Где-нибудь в лесу. Назначим место и сойдемся.
У ребят глаза разгорелись. Они будут принимать участие в войне, а родители ничего не узнают, не смогут помешать.
— Вот я вам расскажу, как мы недавно у немцев колхозных свиней отбили. Кто помог? Парнишка лет двенадцати. Вышли мы как-то на разведку, человек пять нас было. Идем мимо деревни, покурить охота. А табак весь. Завернули в первую избу, спросили у колхозника. Он дал нам махорки. А тут парнишка его прибегает: «Тикайте, говорит, в деревне немцы». — «Где они?» спрашиваем. «Свиней стреляют». Ну, мы в лощинку. Залегли в кустарнике. Ждем.
Шура захлебнулся кашлем и долго не мог передохнуть. Он так увлекся рассказом, что забыл про свою болезнь.
Ребята глаз с него не спускали.
— Ну, а дальше что?
— Залегли, значит, мы, — откашлялся наконец Шура, — ждем. Минут тридцать-сорок прождали. Глядим, идут двое немцев, за ними пять подвод тянется. На передней подводе один фриц торчит, на задней другой. Отъехали они шагов на сто, еще четыре немца идут. А уж начало темнеть, прицел не может быть точным. Пропустили мы их метров на триста и дали залп. Что тут сделалось! Затрещали автоматы. И сзади нас огонь и спереди. Ну, думаем, крышка, окружили нас со всех сторон, теперь капут нам всем. Минут тридцать перестрелка длилась. И все. Тихо. Вылезли мы из засады, глядим, подводы стоят, а немцы разбежались. Только одного раненого бросили. Да убитый лежит. Оказывается, это они разрывными в нас стреляли. Кусты позади нас на воздух взлетали. Ну нам и показалось, что нас со всех сторон обстреливают. Тут прибежали мальчишки деревенские. Мы с ними и отравили четыре подводы с свиными тушами обратно в колхоз. Себе только двух свиней отобрали и отвезли в землянку.
— Вот это жизнь! — вздохнул Жора.
— Какой ты счастливый, Шурка, — сказал Левушка, — настоящий герой!
— Герой! — засмеялся Шура. — Никакого геройства в этом нет. Каждый должен обороняться.
— Но нас ведь еще не призвали, — осторожно заметил Левушка, — мы еще…
— Маленькие? — иронически усмехнулся Шура. — Вот начнете партизанить, сами поймете, какая радость помогать Красной армии. Кто в это дело раз втянулся, никогда не бросит…
И вдруг почувствовал, что страшно устал. Веки опускались сами собой. Одолевала зевота.
— Ты смотри не засыпай. — сказал Сережа. — Бабка наказывала, чтобы сегодня в ночь обязательно ушел. А то как бы в самом деле не пронюхали…
Ребята простились, разошлись с опаской, как заговорщики.
Предательство
Морит сон, клейкий, сладкий, словно мед. И что она мудрит, бабка? Изба на отлете. Станут его искать здесь! А ребята хорошие. Павел Сергеевич, наверное, похвалит его за то, что он их в разведку втянул… И поесть принесли. Настоящие товарищи… Он только чуть-чуть подремлет и уйдет. Чуть-чуть…
В щели ветхой хаты продувает ветер. Колыхнулся язычок коптилки. По кафелям лежанки заходили тени. В просвете между ними выглянула корзинка цветов с высокой, круто выгнутой ручкой, перевязанной пышным бантом. Она напоминала о давних зимних вечерах, когда мать ему, маленькому, рассказывала сказки. Он слушал, водя пальцем по синему узору. И корзинка с круто выгнутой ручкой была тоже будто из сказки. Хорошо это он придумал передохнуть в старой хате. Вот чуть-чуть подремлет… и уйдет…
Он проснулся от выстрела. Стекло разлетелось на мелкие куски. Шура с трудом открыл слипшиеся веки. Стреляют! Где он? Как попал сюда? Струя холодного воздуха прорвалась в разбитое окно. В отверстии между осколками торчало дуло автомата.
Немцы!
Он вскочил на ноги. Нашарил за поясом гранату. Вторая упала и куда-то закатилась. Он хотел поискать, но в окно снова выстрелили. Пригнувшись, он бросился в противоположную сторону, вышиб ветхую раму и прыгнул наружу. Было уже совсем светло. Немцы бежали к нему. Трое. С другой стороны еще двое. Не уйти. Он выхватил из-за пояса гранату, размахнулся… Конец! Зажмурил глаза. Граната стукнула, покатилась и… не разорвалась. А на него уже навалились, схватили, повели…
Левушка колол дрова на площадке около дома. Утро было холодное, но от работы Левушке стало жарко. Он сбросил ватную куртку, вытер вспотевший лоб. Поднял было колун, да так и застыл, забыв опустить его. Выстрелы! Совсем близко… Он прислушался, встревоженный… Шура?!
На крыльцо выбежала мать.
— Опять стреляют! Ты что, Левушка, побледнел?
— Шура… — растерянно пролепетал он.
— Шура? Какой Шура?
— Это у Чекалиных. Пусти, мама!
Она схватила его за руку.
— Стой! Куда? Разве Шура здесь? Откуда ты знаешь?
С той стороны, где была хата Чекалиных, — голоса, топот, шум какой-то возни. Староста Авдюхин выбежал на дорогу, воровато оглянулся кругом и, сутуля плечи, стал спускаться вниз в деревню.
На горку поднимался патруль. Двое солдат впереди, двое сзади; между ними, со связанными на спине руками, Шура Чекалин.
Левушка провожал его полными слез глазами. Вспомнил. Это было позапрошлым летом на Кавказе. Он ездил туда с пионерской экскурсией. Ребята подобрали в горах орленка с подшибленным крылом. Он был взъерошенный, сердитый. Смотрел на всех колючими глазами и не принимал пищи.
Палачи
— На этих днях начнем перерегистрацию всего учительского персонала, а вас регистрировать не будем. — Немецкий ставленник Тиадров выжидательно и злорадно прищурился.
Музалевская молчала.
— И хлеба вам не дадим!
Она равнодушно смотрела в сторону.
— И мужу вашему прикажем вас не кормить, — повысил голос фашистский прихвостень.
Чуть заметная усмешка тронула губы учительницы. Хотела б она посмотреть, как они запретят ее старику делить с ней последнюю корку! Он скорей сам умрет с голоду, чем допустит, чтобы она испытывала какие-нибудь лишения.
Тиадров с раздражением хватил кулаком по столу.
— Мы вас заставим указать нам притон этой банды… ваших приятелей… партизан.
Музалевская покачала головой.
— Я дочь священника. С партизанами не знаюсь.
— Уж будет вам… Тут не маленькие. Вы кормите партизан, ночлежку для них из школы сделали… Свидетели есть!.. Ты что, Брандоусов?
Музалевская оглянулась на вошедшего. Низкий, заросший лоб, тяжелая челюсть, сутулые плечи и свисающие ниже колен огромные волосатые руки. Брандоусова знали все в Лихвине. Это был пьяница, вор-рецидивист. При немцах он процветал, исполняя щедро оплачиваемую должность палача.
— Ну что тебе? — повторил Тиадров, с раздражением глядя на тупую маску гориллы, уставившегося на него тусклыми, как оловянные пуговицы, глазами.
— Господин полковник вас требуют в подвал.
Тиадров скосил глаза на Музалевскую.
— Что же, без меня с мальчишкой не справитесь?
— Не могу знать. Пощекотал его малость ножиком, а господин полковник серчают. «Убьете, говорит, досмерти раньше времени — кого вешать будем?»
— А парнишка молчит? — спросил Тиадров, украдкой наблюдая за Музалевской.
— Как воды в рот набрал.
— Да уж эти Чекалины! Яблоко от яблони недалеко падает. — И проговорил раздельно, подчеркивая каждый слог — Гвозди ему… под ногти… тогда и язык развяжется. Ступай, скажи господину полковнику, что я сейчас.
И в упор глядя на Музалевскую:
— А мать где, Надежда Чекалина? К большевикам сбежала?
— Не знаю.
— Вы ничего не знаете! — И кивнул конвойным: — Уведите ее…
«Шурку схватили! Пытают! — мучилась Музалевская. — Дать знать Макееву, Тетерчеву…» Если бы она была на свободе… До сторожки лесника километров пятнадцать, а оттуда рукой подать. Лесник дорогу покажет.
Она сидела в проходной комнате на деревянном диване. Двое конвоиров уселись по обеим сторонам, дремали. Хлопала дверь — из соседней комнаты выходили солдаты. Струя острого зловония неслась оттуда. Комната была загажена, как хлев у нерадивого хозяина. Музалевская брезгливо морщилась. Избранная раса! Носители высшей культуры!
Делопроизводитель управы, русский, человек неопределенных лет, со стертым, как на выцветшей фотографии, лицом, вышел из кабинета Тиардова, заглянул в одну дверь, в другую, вернулся и, проходя мимо Музалевской, проговорил не останавливаясь, без звука, одними губами:
— Уходи, они про тебя забыли. Уходи же!
Двое солдат храпели. Она сделала легкое движение. Они не пошевельнулись. Если проснутся, скажет, что ей нужно в уборную. Она встала и неторопливыми шагами пошла к выходу.
На выручку друга
Алеша Ильичев долго разыскивал тоннель по приметам: три сосны, кругом березняк и большой плоский камень, маскирующий входное отверстие. Наконец нашел. Раздвинув кусты, спустился по неровным, обсыпающимся ступеням, вырытым в земле. Керосиновая коптилка, которую он захватил с собой, освещала узкий подземный коридор. Вдоль стен сложены были мешки с картофелем, свеклой, морковью, стояли кадки с огурцами, квашеной капустой. Ильичев усмехнулся хозяйственной предусмотрительности учительницы. Создавая убежище для партизан, она использовала его вместе с тем для хранения продуктов подальше от воровских глаз оккупантов.
Крутая деревянная лесенка вела вверх, в кухню. Ильичев выстукал костяшками пальцев условленную дробь. Поспешные шаги над входом, потом скрип, будто отодвигали тяжелый сундук или ящик. Поднялась половица. Блеснул свет.
— Алеша! — Музалевская стиснула его плечо. Губы ее мучительно искривились. — Алеша! Шурку Чекалина взяли… пытают… Я только что оттуда… Тихонько ушла… от конвоя.
— Когда… его взяли? — Ильичев не узнал собственного голоса. Как будто кто-то другой спросил за него. И эта женщина в деревенском полушубке и простом бабьем платке показалась ему незнакомой. И все было как страшный сон, от которого не можешь проснуться.
— Когда взяли, не знаю, — говорила Музалевская. — Карательный здесь был. Полдеревни сожгли. Меня в Лихвин на допрос, там про Шуру услышала в управе. Он в подвале сидит. Может быть, к Макееву добежать?
Ильичев покрутил головой:
— Поздно. Пока туда да оттуда, его в расход пустят. — И горько усмехнулся: — А я проведать его пришел. Больной он. Мы его к вам послали отлежаться. — Потом неожиданно добавил — Горючее есть? Бутылки две?
— Ты что задумал?
— Что выйдет. Сам не знаю.
Она сбегала в кладовую. Вернулась с двумя бутылками керосина.
Когда Ильичев выбрался из тоннеля, было уже совсем темно. Сыпал дождь, смешанный с колючей крупой. Ветер бросал его пригоршнями в лицо. Подняв воротник пальто, нахлобучив шапку, Ильичев шагал с терпеливым упорством. План у него был простой: поджечь городскую управу и, воспользовавшись суматохой во время пожара, увести Шуру из подвала. Безумный план, на девяносто девять процентов обреченный на неудачу. Но что еще мог он придумать один, почти безоружный, в городе, переполненном немецкими войсками! Только бы не опоздать! Он прибавил шагу. Ноги его разъезжались да осклизлых глинистых тропинках. Сейчас начнется густой ельник. Это на полдороге от Лихвина. Надо свернуть направо. Там путь прямой. Он шел еще минут двадцать, но ельника все не было. Может быть, сегодня дорога показалась ему длиннее, потому что он устал? От быстрой ходьбы становится жарко. Он расстегивает воротник пальто. А ельника все еще не видно. Смешанный лес тянется по обе стороны дороги. Или он пропустил поворот в темноте? Он останавливается, зажигает спичку, бережно прикрывает ее рукой. В неверном, колеблющемся свете выплывает незнакомая сторожка и тотчас же ныряет в темноту. Под дождем и ветром спичка гаснет. И еще непрогляднее тьма. Значит, он заблудился? Этой сторожки не было на дороге из Мышбора в Лихвин. Он помнит наверное. Он стучит в окно, обходит сторожку кругом, стучит с другой стороны. Дергает ручку двери — никого. Он стоит один в темноте под дождем. Потом поворачивает в обратную сторону.
Песня о жизни
— Вставай, рус!
Шура просыпается, хочет вскочить, но от резкого движения задремавшая боль снова рванула истерзанное пытками тело. Он валится на солому.
— Рус, марш!
Опять на допрос? Или уже расстреливать? Нет, партизан они вешают. Шура поднимается через силу. Ему связывают за спиной руки. Ведут.
Темно. Ветер пригоршнями бросает в лицо брызги дождя, смешанного с колючей крупой, Шура жадно вдыхает его свежесть. Улицы безлюдны. Да… ведь как только стемнеет, никому носа высунуть нельзя. Не город — пустыня. Никого, кто видел, кто бы рассказал матери, как его ведут на казнь.
«Мама… мамочка!»
И вдруг мысль, озорная, неожиданная… Он придумал, как перехитрить фрицев. Он даст о себе знать матери, отцу, товарищам.
Шура даже повеселел. В дождь, в унылые потемки улиц звенящей струей вливается песня. Она хватает за сердце, напоминает об утраченной воле, о вчерашней были, которая сегодня кажется уже несбыточным, невозвратным счастьем.
Орленок, орленок, мой верный товарищ, Ты видишь, что я уцелел. Лети на станицу, родимой расскажешь, Как сына вели на расстрел.Юношеский голос настойчиво зовет на помощь, требует сочувствия.
— Молчать, рус! — рявкнул конвойный.
Но было уже поздно. В занавешенных окнах по обеим сторонам улицы раскрывались форточки. Осторожно скрипели калитки в огорожах домов. То здесь, то там высовывалась чья-то голова. Полные слез глаза, пронизывая темноту, искали среди скучившихся посредине улицы немцев знакомую рослую фигуру. Шуру узнали по голосу.
— Чекалина ведут! Шуру!
— Бедный Шурка! Отчаянная голова!
— Шура, прощай! Прощай!
Он ликовал. Не удалось немцам прикончить его втихомолку, в темноте, чтобы ни одна душа не узнала. Трусы! Они боялись, что ему будут сочувствовать, может быть, дадут знать партизанам, и его отобьют… А что, если они уже знают, если кто-нибудь успел?.. Может быть, они где- нибудь здесь близко, ищут его в темноте… Сердце как с цепи сорвалось. В мрак, в сырость, в ночь проструились звуки, полные задора:
Орленок, орленок, сверкни опереньем, Собою затми белый свет… Не хочется думать о смерти, поверь мне, В шестнадцать мальчишеских лет?— Молчать, рус! — бесились немцы.
Но уже закопошилась, ожила пронизанная шорохами, хлопотами, приглушенными шагами тьма.
— Прощай, прощай, родной… — Девический голос оборвался рыданием и неожиданно высоко взметнулся вверх.
Орленок, орленок, пришли эшелоны, Победа в борьбе решена…И невидимые голоса подхватывали:
У власти орлиной орлят миллионы, И нами гордится страна.Песня ширилась, крепла. Казалось, пронизанная дождем и насыщенная звуками тьма перебрасывает ее из дома в дом, от двора к двору, через перекрестки на соседние улицы.
Шура шел, высоко подняв голову. «Тоня! Где теперь Тоня? Если бы она могла видеть, если б она слышала!»
— Молчать, рус!
— Нельзя!
— Молчать!
В пучках света от электрических фонарей, в разных направлениях раскалывающих потемки, растерянные, вымокшие под дождей фрицы бегали и суетились, как застигнутые врасплох крысы. Затрещали выстрелы. Налет? Они? Ильичев. Тетерчев, дядя Коля… Но тотчас же все стихло. Замолкла песня. Захлопнулись форточки. Прикрылись калитки.
Шуру вели к площади. Значит, конец? А как же ученье, строительный институт?
«Куда ты пойдешь после десятилетки? — Тонины глаза, сочувствующие, внимательные. — Я думаю, ты можешь быть изобретателем. К технике у тебя способности, и большие…»
Сычи кричат в лесу. Вьются первые снежинки. Это нам, дядя Коля, придется восстанавливать хозяйство после войны, нашему поколению. А медвежьи следы на снегу?..
Лисицы и ласки так и рыщут вокруг землянки… А его Рыжик и собаки?.. И он никогда больше не пойдет на охоту? Убили, проклятые, бедного Тенора! Какой свежий, душистый ветер! И дождь… дождь. Все это исчезнет вместе с ним? Неправда! Не может быть! Ему еще нет семнадцати! Сколько раз он читал — фашисты истязают, мучают, ведут на казнь, и в последнюю минуту прорываются наши части и спасают. Так и теперь будет, так будет! Будет, будет!
Он напряженно вслушивается. Всматривается в темноту. Кто-то спешит к нему на помощь, боится опоздать. Только бы не опоздал!
Неясный шум в той стороне, где управа. Они уже близко. Они думают, что он еще там… Хотят вывести его из подвала, а тут пока с ним могут расправиться… Дать им сигнал…
Орленок, орленок, товарищ крылатый… Казацкие степи в огне. На помощь спешат комсомольцы-орлята, И жизнь возродится во мне!Эта песня как будто про него сложена.
Немец горланит что-то над его ухом, ударил прикладом по спине.
Его вводят в скверик. Виселицы нет. Значит, расстрел. Вырвать бы автомат у кого-нибудь из фрицев и уложить хоть одного! Но изломанные пыткой руки висят, как плети.
Из тьмы выдвигается маска гориллы. Заросший лоб, низкий, сдавленный, тяжелая челюсть, тусклые, как оловянные пуговицы, глаза… Брандоусов! Конец! Те опоздали…
В углу сквера ясень. В длинных обезьяньих руках веревка с петлей. Партизан они не расстреливают. Осклизлый под дождем табурет.
«Мама, мамочка… Я ничего им не сказал! Они пытали, мучили. Я смеялся… плевал им в рожи. Ты не будешь стыдиться за меня, мама…»
Косматые обезьяньи руки копошатся в безлистых ветвях. Взметенная петля упала в темноту. Застучали дождевые капли…
По размытой дождями лесной тропе, то ныряя в лужи, то выкарабкиваясь на ухабы, медленно тащилась груженная дровами телега. Колеса то и дело засасывало. Тощая лошаденка тужилась изо всей силы, чтобы вытащить их из грязи. Хозяин, шагавший рядом, длинно и замысловато ругался и равнодушно нахлестывал лошаденку по мохнатым с пролысинами бокам. Но так как это не помогало, он плечом подпирал телегу сзади, и, вызволенная общими усилиями, она тащилась дальше, чтобы через сотню шагов завязнуть в новой луже.
— Эй, хозяин!
Возница оглянулся. Из чащи на дорогу вышел человек.
— Как пройти на Лихвин?
Возница недоверчиво оглядел его. Парень будто молодой, а лица на нем нет, такой умученный. С одежи вода каплет, хоть выжимай. И голос осип. Видно, всю ночь в лесу шатался.
— На Лихвин дорога вот она. И я туда же иду.
Человек огляделся, растерянный. Значит, он зря проплутал всю ночь, чтобы выйти на дорогу с противоположной стороны?
— Спасибо, хозяин.
Он обогнул телегу и быстро зашагал вперед. Возница глядел ему вслед, с сомнением качал головой, о чем-то раздумывал.
Ильичев отошел уже довольно далеко, когда ему послышалось, что его зовут. Он оглянулся.
Возница манил его рукой и что-то кричал. Слов не разобрать. Ильичев остановился в нерешительности. Он уже потерял столько времени, а тут опять задержка. Возница все еще кричал что-то и размахивал руками. Ильичев повернул назад.
— Ты бы в Лихвин не ходил, — сказал возница, когда они поравнялись. — Кто тебя знает, что ты за человек! Видимость у тебя не того… А у нас немцы дюже лютуют. Хватают людей почем зря. Вчерашнюю ночь мальчонку на дереве вздернули. Вовсе дите. Шешнадцать годов ему, сказывают. Пчеловода сынишка, Шуркой звать… Да куда ж ты, милай?.. Аль он сродственником тебе приходится?
Ильичев не слушал. Схватившись руками за голову, он бежал назад в лесную чащу…
Бессмертие
Прошло несколько месяцев. Оставляя под натискам Красной армии село за селом, немецкие оккупанты далеко откатились на запад от древнего города Лихвина. Землянка в лесу опустела. Недавние партизаны восстанавливали разрушенное фашистскими варварами городское хозяйство.
В кабинете председателя Лихвинского горсовета с утра до ночи народ. Работы и в районе и в городе уйма. Председатель до позднего вечера засиживается в горсовете, склонив седеющую остриженную ежиком голову над сметами, планами и чертежами.
Инспектор городского отдела народного образования Музалевская поднимается по лестнице горсовета.
— Подождать придется, — говорит секретарь, — У Николая Семеновича народу много.
Музалевская садится на деревянный диван и обмахивается тетрадкой. Жарко. Она целый день моталась по району, обследовала школы и очень устала. Пыльный луч косо ложится на заваленный бумагами стол секретаря, играет позолотой ордена на гимнастерке Музалевской.
Полчаса спустя Антонина Алексеевна входит в кабинет председателя.
— Вот, дядя Коля, наша смета. Несколько школ можно восстановить после пожара. Смотри.
Оба склоняются над сметой. Председатель горсовета записывает что-то в свой блокнот.
— Ладно, сделаем, что можно.
Он складывает бумаги, запирает ящики письменного стола.
Они выходят из горсовета, направляются к площади. На угловом доме прибита дощечка со свежевыведенной надписью: «Площадь имени Александра Чекалина».
Они идут мимо трофейной пушки, не сговариваясь сворачивают в скверик и садятся на скамью перед могильным холмом.
В углу сквера пышно зазеленевший ясень… тот самый… Только один оголенный сук уныло чернеет среди распустившейся листвы.
Музалевская смотрит в ту сторону, и, перехватив ее взгляд, председатель горсовета говорит:
— Надломился ли он тогда, кто его знает, только, видишь, засох. Спилить надо. Завтра же велю… Вот как сейчас помню, стояли мы с ним в карауле у землянки, — вспоминает Николай Семенович, — а он мне и говорит: «Как побьем немца, я пойду учиться. Инженером-строителем хочу быть. Восстанавливать хозяйство после войны — это наша забота, нашего поколения…» Да… не пришлось ему…
Музалевская встает, обходит вокруг могилы, вырывает несколько сорняков и в который раз перечитывает давно знакомую надпись:
«Здесь похоронен Герой Советского Союза,
боец-партизан, 1925 года рождения,
ЧЕКАЛИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,
погибший от зверской расправы немецких захватчиков
6 ноября 1941 года»
* * *
Эта книга написана на основе материалов, собранных автором на родине Героя Советского Союза Александра Чекалина — в г. Лихвине и селе Песковатском Тульской области, освобожденных от немецких захватчиков.
Приношу благодарность лицам, поделившимся со мною своими воспоминаниями о Шуре Чекалине: отцу героя — П. И. Чекалину, родственникам его — И. О., М. П. и М. Н. Чекалиным, двоюродной сестре А. И. Самсоновой (Тоне), инспектору Гороно A. A. Музалевской, педагогам A. Л. Недопекиной, Р. И. Аровой, В. М. Месхину, А. И. и Н. И. Виноградовым, боевым товарищам Шуры: П. С. Макееву, Н. С. Митькину, И. Н. Сорокину, В. И. Исаеву, школьному товарищу Шуры — Леве Виноградову.
Автор






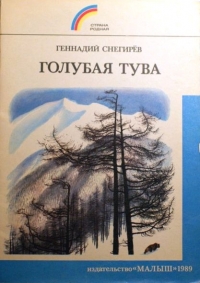




Комментарии к книге «Орленок», Софья Абрамовна Заречная
Всего 0 комментариев