Мария Майерова Робинзонка
1
Что ты сделала, мама! Что ты сделала!
Блажена шла, держа отца за руку, как в те времена, когда она едва доставала до его руки головой, а отцовское лицо виднелось где-то там, в вышине. Блажена все еще видела неподвижно застывшую мать, и это напоминало ей прежнее гневное оцепенение лица матери, сердившейся на нее, Блажену, когда она что-нибудь делала вопреки материнским представлениям о приличии.
Но тогда эта каменная неподвижность глаз и губ матери была лишь временной, минутной, и колола Блажену тонким острием иголки, а теперь смертельная неподвижность материнского лица вонзалась в Блажену острым кинжалом.
Кинжал, да, как кинжал, рыцарское оружие времен Возрождения. Его носили стремительные Ромео, прикрепляя к своим коротким штанам… Из чего тогда делали их? Плели на спицах или уже были машины?
— Папа?..
Вопрос застыл у Блажены на губах. Ее снова кольнула жестокая мысль.
Мама, что ты сделала с нами! Вот у папы красные глаза, а я никогда не видела его плачущим; так странно, когда мужчины плачут! Хорошо еще, что он на меня не смотрит и ничего не слышит, да я и сама уже забыла, о чем я его спросила. Нашей мамы нет! Разве это возможно? Нет, нет! Она, наверно, сидит дома, поджидая нас, и, как обычно, встретит словами: «Ах вы, бродяги, вас только за смертью посылать».
За смертью.
До сегодняшнего дня это слово было пустым и бессмысленным. Блажена лишь смеялась маминой поговорке, она казалась ей безмерно смешной. Мама, наверно, думала, что это как в той сказке, где кузнец приморозил смерть на лавке и не пустил ее к людям. И все перестали умирать, только старились; но тогда на свете оказалось много стариков, один другому мешал, и кузнецу стало противно жить — ведь он уже был старый-старый, не мог ни работать, ни есть, и мальчишки над ним смеялись — такой он был дряхлый. Тогда он смерть со скамьи отпустил, и она быстренько взяла его с собой.
Нет, если бы она, Блаженка, могла приморозить смерть на скамейке, она бы ее не отпустила! Тогда бы и мама не умерла!
Блажена приморозила бы смерть хорошенько и каждый день ходила бы смотреть, как смерть злится, просит отпустить и сулит ей всяческие блага. Блажена и мысли не допускает, что она может умереть когда-то.
Ей так хорошо дышится и так легко ходится, и столько удивительного еще ждет ее впереди! Ей кажется, что она уже видит это «впереди»! Ведь мама каждый день ей твердила: «Когда ты будешь большая, Блаженка…»
Ей не верилось, что она уже большая, хотя об этом говорили ее юбки, которые приходилось отпускать каждые полгода, и рукава, что кончались теперь у локтя, а не у запястья. Ледкова, ее соученица, которая провалилась во втором классе, только на год старше Блажены, но на полголовы выше. Значит, и она, Блажена, будет такой через год. А позже?
Ну, нет, потом она должна перестать расти. А то к чему это приведет?
«Ты рада, что живешь на свете?» — спросила ее как-то Зора Ледкова.
Рада ли? — задумывалась Блажена. — Я живу, и всё. Порой я рада, что я есть, порой мне все равно.
Все это выдумки! Ледкова вечно недовольна чем-нибудь, потому и выдумывает всякую ерунду. Сейчас она хочет петь, а ей приходится ходить в гимназию и зубрить предметы, которые ей просто противны.
Вот она и ходит с унылым видом и все вздыхает.
И бледная Ледкова невероятно. Мама тоже была бледной там, в холодном зале крематория, где Блажена отважилась на нее взглянуть, прежде чем заколотили гроб, этот гроб! Мама, мама, что же ты сделала!
Блаженка всегда думала, когда слышала: «Это разорвет мне сердце», что эти слова ничего не значат.
Но сегодня Блажена узнала, что и вправду существует такая невыносимая боль, которая пронизывает всю душу, все мысли, охватывает все существо.
Она искоса смотрит на лицо отца. Нет, он не плачет, но его лицо сейчас еще печальнее, чем тогда, когда оно было искажено рыданиями. Тогда все было не его, чужое: лоб, нос, губы. Папка был словно человеком в маске или стариком Рембрандта. Сейчас он снова пан Ольдржих Бор, шофер такси, ее отец, но какая тоска притаилась в его глазах, какая горечь кривит его дрожащие губы, такие твердые раньше!
Немного спустя он взглянул на Блажену, и взгляд его был отсутствующим, словно он шел не рядом с ней, а все еще находился в той далекой и навсегда ушедшей жизни, когда Блаженка маленькой девчонкой висела на его руке. Взгляд его сначала устремился к ее крепко стиснутым рукам и лишь потом поднялся к глазам. И будто только теперь он заметил присутствие дочери и то, что Блаженка уже выше его, хотя и тоненькая, как тростинка.
Plusquam perfectum! Давно прошедшее время!
— Что тебе, Блаженка?
— Папа, я больше не могу плакать!
— Ты и не плачь! Думай о маме с радостью, для нас она жива. И всегда будет с нами. — Отец дал ей свой большой цветной платок. — Вытри слезы — и выше голову!
Отец будто знал, что Блаженин платок стал мокрой, жеваной тряпкой.
Сам он носит только большие платки, цветные — белые он превращал неизвестно во что, вытирая ими стекла машины, а иногда и кузов, и мама часто сердилась — так трудно было потом отстирать эти платки. В прошлом году Блажена сделала к рождественским праздникам метки на дюжине отцовских платков. Но он до сих пор продолжает вытирать платками свои стекла. Вот и этот платок пахнет бензином. Блажена сует его в отцовский карман и снова берет отца за руку. Она теплая и спокойная, рука человека, за спину которого можно спрятаться, укрыться. И Блажа, держась за нее, словно укрывается от той бури, которая клокотала в ней целый день.
День солнечный и спокойный, но Блажене кажется, будто откуда-то дует неприятный резкий ветер. До сих пор она была надежно укрыта от непогоды с обеих сторон — ей было приятно быть центром в их тройке: отец, мама и она, Блажена.
Только сейчас, только сегодня Блажена начала понимать, как ей легко жилось раньше, как легко дышалось, как весело и незаметно день летел за днем. Она просто шла по жизни, вернее, не прикладывала никаких усилий, чтобы идти. Нет, ее просто несло по течению; за нее все время кто-то думал, кто-то прокладывал ей дорогу…
Стол накрывался, и на нем появлялась еда, в шкафу, словно само собой, прибывало белье и платья, а Блажена лишь покупала книги на подаренные деньги и по тем книгам училась, запасала тетради и на этих тетрадях писала.
Ледкова как-то спросила ее: «Ты рада, что живешь на свете?» Что тогда Блажа ответила ей?. Она уже не помнит. Но сама она думала об этом нередко: этот вопрос не выходил у нее из головы. Правда, каждый раз она относилась к нему по-разному: иногда он казался ей смешным, иногда он словно приоткрывал ей скрытую мудрость.
Да, Блажена рада, что живет на свете, очень рада! Но тут же она думает: несчастье с мамой, о котором трудно спокойно думать, занимает совсем особое место — оно словно путевой указатель со строгой надписью: «Остановись, девочка, отсюда идет другая дорога».
Да как она сможет жить без мамы? Без тепла, без прибежища и опоры.
До сих пор каждый день был словно хорошее лакомство, всякий раз с другим вкусом. А утра походили на красивые платья, которые она натягивала, еще не совсем проснувшись, и путалась в рукавах.
С каким бодрым чувством убегала она в школу, особенно если ее ждала история, эта красочная фата-моргана прошедших веков, или география, в которую она словно въезжала на поезде, или даже чешский; тогда день походил на перстень с чудесным сверкающим камнем.
Математика? Здесь дело обстояло похуже, по если человек соберет все силы и все внимание, на которое он способен, то как-нибудь переживет и этот урок…
Разумеется, потом табель все выдавал, и мама говорила Блажене:
«Как видно, в твоем мозгу нет „математических клеток“».
Мама многое умела понять и многое простить, и все-таки они не всегда ладили друг с другом. Это бывало, когда мама внезапно становилась строгой и требовательной, когда она хотела, чтобы Блажена все выполняла без отговорок и длинных рассуждений.
Тогда мамины милые глаза вдруг становились холодными и строгими, поток тепла, все время идущий от нее к Блажене, прекращался, и дочь с матерью вдруг чувствовали себя чужими друг другу. Что-то враждебное появлялось между ними. Мать ждала, что Блажена покорится. Но две воли приходили в столкновение, и Блажене, как нарочно, ни за что не хотелось слушать мать. Какое-то сопротивление поднималось в Блажене и неудержимо росло. Сквозь мягкую и нежную оболочку Блажениного существа словно пробивалось нечто жесткое и твердое как камень, наталкивалось на гнев, бушевавший в матери, и делало ее каменной и непреклонной, и тогда между обеими словно сверкали молнии.
Иногда Блажка не сдерживалась, мрачнела и убегала, грохнув дверями, или грубила матери. И тут мама надолго замыкалась, становилась молчаливой и неразговорчивой. А Блажка вскоре забывала о своем гневе, ее уже мучила совесть, хотя она не призналась бы в этом ни за что на свете.
К счастью, успокаивала тогда себя Блажена, наша мама такая прелесть, она все понимает и ей не нужно, чтобы я у нее просила прощения. От подруг Блажена узнала, что некоторые родители заставляют просить у них извинения, и вся сжималась при мысли, что вдруг и ей придется это делать — просить прощения, когда она убеждена в своей правоте! Правда, когда у Блажки проходило вздорное чувство I протеста и она признавала свою неправоту, она в душе извинялась перед мамой, а мама прекрасно видела по ее покорно опущенному носу, что Блажена признает свою вину.
Нередко Блажене бывало горько и обидно, что мама сердится. Обида была столь сильной, что тонкими, острыми пальцами касалась Блажены даже во сне и нередко будила ее..
Сколько раз так было… А теперь она уже никогда не расскажет маме, как эта боль и горечь мучили ее и еще сильнее мучают сейчас, когда мамы нет и Блаженке некому сказать, что она совсем не бессердечная.
Все сейчас глубоко трогало Блажену, но особенно было горько то, что ей не пришлось проститься с мамой.
Блажа была тогда в лагере на Сазаве. Эту поездку она прямо выклянчила — ведь ее, единственную дочку, родители не хотели отпускать ни на шаг.
Там, в лагере, находясь среди сверстниц, она всем существом испытывала давно желанные радости: впервые предавалась восхитительному чувству самостоятельности, впервые не чувствовала домашнего крова над головой, впервые по-настоящему ощущала закат солнца, впитывая его, как кисть художника впитывает краски, первый раз, свободно раскинувшись, спала в полуоткрытой палатке и прямо с постели бежала к реке.
За четыре недели Блажена забыла, что она ученица третьего класса дейвицкой гимназии, что у нее неважно с математикой и придется в каникулы забивать себе голову разными премудростями, чтобы не отстать в четвертом. Она казалась себе лесной феей с ромашками в волосах, танцующей вокруг ночного костра, в отблеске которого все становились сказочными существами из языческих легенд.
Она забыла обо всем так быстро еще и потому, что из дому получала лишь коротенькие письма. Ни отец, ни мама не приехали навестить ее, а ведь к некоторым в первое же воскресенье приезжали, как здесь говорилось, «драгоценные родители», и родительским нежностям и прощаниям не было конца.
И вот эту радость, свободную от всего, что могло как-то беспокоить, мешать, в один миг разрушила телеграмма, ударившая, словно гром среди ясного неба:
«Немедленно отправьте домой Блажену Борову, ее мать опасно больна».
И ее новой радостной жизни внезапно пришел конец.
Девчонки окружили Блажену, сочувствуя ей и с любопытством глазея, так же как глазеют взрослые на уличное несчастье. Блажена растерянно собирала свои вещи и, не выдержав, опустила голову на стол в столовой под открытым небом, прижалась лицом прямо к его деревянной доске, так что весь многолетний рисунок дерева отпечатался у нее на лбу и щеках. Но тут к ней подошла повариха, обняла, и только в ее мягких объятиях Блажена с облегчением разрыдалась. Воспитательница помогла ей уложить вещи, договорилась о повозке, и в назначенное время Блажена тихо уехала, даже не оглянувшись на девочек, которые играли в волейбол и, продолжая игру, лишь помахали ей, услышав стук колес деревенской телеги.
Наверно, с мамой очень плохо, думала по дороге Блажена, если отец не приехал за мной на машине.
Даже кучер своей заботливостью напомнил ей о несчастье. Она ехала, опустив голову, под любопытными взглядами женщин, которым кучер где-то на вокзале шепнул о ее беде. На вокзале она сидела нахмурившись, желая больше всего на свете остаться сейчас наедине со страшной новостью, но так и не могла как следует о ней подумать, безжалостно преследуемая со всех сторон чужими взглядами.
Блажена свободней вздохнула, лишь войдя в вагон, где она полностью была предоставлена своим гнетущим думам.
Она была так занята своими мыслями, что трамваи, улица, дом лестница — все пронеслось у нее перед глазами и под ногами само собой. Ей казалось, что сейчас ее присутствие там, дома, очень нужно и важно, хотя она не знала, почему оно так важно, как не знала вообще, что ей, собственно, надо делать.
— Где мама? — спросила она, войдя в дом и робко оглядывая квартиру, которая встретила ее пустынностью закрытых дверей и дверец и бесполезностью заброшенных вещей.
— Мама умерла не дома. Она скончалась в больнице, — ответил отец, словно что-то не договаривая.
— А что же с ней случилось? Ведь она никогда не болела! — воскликнула Блажена, всей душой восставая против этой невидимой, но явной несправедливости.
Но отец, кажется, ее уже не слышал, и надо всем, что с этой минуты происходило, повисло тягостное, лишь изредка прерываемое молчание.
2
Теперь после похорон отец с дочкой опять стояли на пороге кухни, и сознание, что с этой минуты они будут только вдвоем, сделало их ближе друг к другу.
Одни в осиротелой кухне, полной бездушных вещей, одни в комнате, воскресное убранство которой носило еще на себе следы материнской заботы.
— Одни! — сказала Блажена.
— Одни, — как эхо, повторил отец и тяжело опустился на стул во главе стола, по привычке заняв это немного торжественное место, где он обычно восседал во время семейных обедов.
И только сейчас он наконец прямо посмотрел в глаза Блажены, взъерошил густые волосы — светло-каштановые, как лесные орешки, шутила прежде Блажена, — и, волнуясь, сказал:
— Ну ничего, девочка, мы с тобой все же не одиноки.
— Не одиноки?! — удивленно воскликнула Блажена.
— Мама оставила нам малыша.
Отец испытующе посмотрел на Блажену — как-то она воспримет эту новость.
— Здорово! — взвизгнула Блажена обрадованно. — У нас малыш! И, значит, у меня есть теперь брат? Да это же чудесно, папка! А где он? Покажи!
Известие о нечаянном, негаданном братишке сразу поглотило все Блаженино внимание.
— Пока, — сказал отец, делая ударение на этом слове, — пока он в Доме ребенка в Крчи. Потом мы посмотрим, как быть дальше.
— Мы поедем за ним?
— Конечно, поедем.
— А ты его видел, папка? Какой он? Красивый? Кудрявый? Толстый?
— Такой же, как и все малыши в его возрасте. Ты на него еще вдоволь насмотришься.
— А ты разрешишь мне нянчить его?
При этих словах Блажена заметила на лице отца что-то нежное. Это «что-то» мелькнуло в его глазах и исчезло, как дрожащее отражение в зеркале.
— Я не могу, Блажена, сейчас ответить на все твои вопросы, я сам еще в этом не очень-то разбираюсь. С тобой, когда ты была маленькая, мама нянчилась сама, и никто другой тебя не смел коснуться.
— А как его зовут, нашего малыша? — Блажена теперь только и думала о свалившемся с неба братишке.
— Как мы его назовем?
— Ну да, папка. Значит, мы сами выберем ему имя? Пусть он будет Ярослав, пусть славит весну… В честь мамы!
Ярослав Врхлицкий, Ярослав Чермак[1] — мысли Блажены перескакивали от поэта к художнику, чьи смелые пурпурные и голубые цвета рождали на полотне восточных красавиц и вздыбленных коней.
Ярослав! Еще один милый ее сердцу Ярослав вспомнился Блажене. Самоуверенная подпись «Ярослав» на голубой почтовой бумаге письма, начинавшегося словами «Милая Блаженка!» и найденного ею в дуплистом пне, «почтовом ящике» их лагеря.
Да, первое имя, пришедшее ей на ум, было Ярослав — ведь и маму звали Ярослава. Впрочем, Ярославов уже, пожалуй, хватит, и Блажена сказала:
— Правда, он может быть и не Ярославом, а Ольдржихом, в твою честь, папка!
— Подождем с этим до завтра, утро вечера мудренее, — ответил отец, наверняка думая совершенно о другом и озабоченно глядя на Блажену.
— «Утро вечера мудренее», — повторила Блажена, но тут же остановилась. Ведь так она говорила в те уже далекие времена домашнего мира и спокойствия, когда они оба, отец и Блажена, озорничали, как два подростка, а мама с серьезным видом пожимала плечами, притворялась сердитой и еле сдерживала смех. Сегодня они уже не могли вести себя по-прежнему.
— Знаешь, Блаженка, я тут займусь кое-какими подсчетами, а ты почитай книжку.
Отец всегда был совершенно беспомощным во всем, что касалось Блажены. Он никогда не знал, что, скажем, подарить Блажене в сочельник, не имел никакого понятия о жизни в гимназии, где Блажена проводила основную и самую важную часть дня. Отец знал и умел многое, что было ей незнакомо и чему порой она удивлялась, но и его, в свою очередь, дочь, влюбленная в учение, поражала школьными премудростями. Они всегда охотно разговаривали, как только находили время.
Вот и сейчас Блажена с большой охотой поговорила бы с отцом, но он ходил с понурой головой, полный мрачных мыслей.
Она укрылась в своем углу и принялась аккуратно расставлять книги на полке над своим письменным столом. Но очень скоро Блажена почувствовала усталость. С унылым видом смотрела она на корешки книг.
Вот они, обернутые коричневой бумагой учебники для четвертого класса. Она купила их со скидкой в конце школьного года у двоюродной сестры Новотной, перешедшей уже в пятый. Эта сестра Новотной настоящая чистюля! В учебниках ни пятнышка, ни черточки, даже ни один уголок не загнулся, а где уж там ослиные уши! Может, она по ним и не училась? Конечно, она, Новотная, известная воображала и ее сестрица тоже. Все знает без учения и на уроках заливается соловьем, — мурашки бегут по коже от этого совершенства!
Блажена вела себя в школе неплохо, и, если ей что-то не удавалось или она что-то натворила, она сразу же признавалась: это я сделала, что избавляло ее от насмешек. Неудачи у нее случались все же редко, а чаще бывало наоборот, так, как, скажем, тогда, когда она на уроке декламировала о матери братьев Гракхов[2] читала она с таким горячим увлечением, что минутами забывала, где находится. Вот тогда учительница и сказала ей: «Замечательно, Блажена!»
Правда, и в тот раз Мадя Будилова насмешливо улыбнулась, и, когда все девчонки окружили Блажену, радуясь ее успеху, Мадя язвительно заметила:
«Твое ораторское искусство обладает тем же свойством, что и лук, — от него хочется плакать».
Ну, это Мадя где-нибудь услышала, а не придумала сама, подбадривала и успокаивала себя Блажена. А девчонки засмеялись — им-то все равно, над чем смеяться! — и от Блажениного успеха не осталось и следа. Одно воспоминание.
Вообще Мадя странный человек! Иногда она строит из себя взрослую, рассуждает о любви, как какая-нибудь Клеопатра, часто рассказывает всякие страхи и небылицы. Что она только не рассказывала Блажене, когда они сидели, обе еще первоклассницы, в отцовском гараже, удобно устроившись на ящиках, служивших им то заморским кораблем, то самолетом, а то и машиной, и их разбушевавшаяся фантазия не знала границ! Мадя колдовала, приговаривая: «Я вижу на белой вербе черного попугая с серебряным клювом, он тянет из ларца черного дерева предсказание нашей судьбы. Читай, Блажена, читай и не бойся. Читай, Магдалена, и не страшись: жизнь ваша будет вечным праздником и ждет вас одно хорошее».
Этот счастливый конец Мадя придумывала на ходу, испугавшись выражения Блажениного лица.
Маме не нравилась Мадя, она на нее сердилась, говоря, что Мадя выдумывает всякие глупости, но Блажену по-прежнему влекло к Маде, хотя она и понимала Мадину лживость. Никто другой не мог разворошить в Блажене страшную жажду тайны, манившей и вместе с тем пугавшей ее.
Собственно, все Мадины фантазии и страхи оказывались просто выдумкой, но она умела так напугать Блажену и держать в таком напряжении, что в конце концов завораживала ее.
Поджав ноги, скрестив руки, Мадя старалась быть поменьше, чтобы легче было защититься от духов. Уставившись в одну точку, она вещала мрачным голосом:
«Сейчас разверзнется потолок, и на нас упадет лошадиный хвост, за лошадиным хвостом — лошадиная голова, за лошадиной головой — лошадиная нога, а та ударит копытом того, у кого нечистая совесть».
Блажа, зачарованная и полная страха, во все глаза смотрела на потолок, оцепенев от напряжения.
Потолок не разверзался, и с него не падали ни лошадиная нога, ни голова, но лицо Мади бывало таким устрашающим и грозным, что Блажка не рисковала напомнить Маде о том, что ее страшные предсказания не сбылись. А тут еще Мадя, придвинувшись вплотную к Блажене и глядя ей прямо в глаза, требовала признания:
«Тебе ведь нравится бояться. Я знаю, что нравится. Видно по твоим глазам!»
Та пора, когда они обе учились в первом классе гимназии, давно прошла. Блажена выросла, и Мадины фантазии больше не трогали ее. Сейчас ее манили книги, а не любительские Мадины тайны. Она могла часами сидеть с книжкой, забывая, кто она и где находится; правда, забывала она и то, о чем читала. От чтения у нее оставалось ощущение грусти или радости, каких-то искрящихся красок и такой чудесный взлет чувств, что хотелось расплакаться.
Лишь после чтения некоторых книг остались в памяти Блажены их герои.
О, как страстно желала Блажена быть призраком в таинственном замке в Карпатах, как страстно мечтала провести хотя бы пять дней на воздушном шаре![3] С какой радостью она на цыпочках подкралась бы к Алисе[4] и заглянула бы через ее плечо в страну чудес!
Но самым любимым ее героем оставался Робинзон.
Блажена снова бросила мимолетный взгляд на корешки учебников и увлекательных книг. Нет, читать она не станет, она так устала! Вдруг книги стали ей чужды, ей казалось, что они так много ей сулили и ничего не дали, что жизнь совсем иная, чем в их замкнутых и неизменных мирах.
Жизнь непознаваема и сложна. А в книгах она такая ясная, образцовая, понятная… Почему так?
Вероятно, потому, что все происходящее в книгах прямо нас не касается. Вот читаешь о Бабушке[5], и словно сама живешь в Ратиборжицкой долине, а закроешь книгу, и нет перед тобой никакой Бабушки, никакой долины, все было фантазией, милой выдумкой. А в жизни происходят неожиданные и вполне реальные перемены — скажем, такое несчастье, какое постигло Блажену, — и происходят без всяких причин, бессмысленно. Почему именно на нее, Блажену, обрушилось несчастье?
И Блажена вдруг зарыдала, повторяя вслух все те же слова:
— Что ты, мама, сделала!
Сейчас она не думала о смысле и значении этих слов, она просто повторяла и повторяла их.
Иные слова уже одним своим звучанием вызывают определенное настроение, пробуждают глубоко лежащие чувства, оживляя притупившуюся боль. Такие слова сами собой приходят на язык, делая горе снова ощутимым и близким. Так и эти слова все снова и снова возвращались к Блажене так же, как неудержимо и неизменно каплет кровь из раны.
Но тут к этим бессмысленно повторяемым словам вдруг присоединились другие, тихо ждавшие своего часа в уголке Блажениной памяти, куда они некогда попали, произведя на Блажену сильное, хотя и туманное — в то время — впечатление:
Как мать скончалась и ее схоронили, Сироты детки остались…[6]Блажена принялась лихорадочно их искать в старых учебниках.
Вот! Вот эта поэма! Настоящая живая поэма! Ее поэма!
Сироты детки остались…
Нет, Блажена уже не в силах стоять. Ноги у нее подкашиваются, комната качается. Блажена тихо садится на тахту, опускает голову на тоненькую руку, и в ее сердце проникает мелодичная музыка слова:
Почуяли детки родимой дыханье…Дыхание! Дыхание и шаг имеют одинаковый ритм. Как тихо ходила мама в воскресное утро, чтобы Блажена могла подольше поспать.
«Мама, — шептала Блажена с закрытыми глазами. — Еще пять минут, ладно?»
«Хорошо, еще пять минут, но потом вставай! Мне нужно уходить».
И Блажена сладко погружается в некрепкий, но такой приятный обманчивый утренний сон.
Сон такой хрупкий — словно через стекло Блажена слышит мамины слова:
«Я должна уйти, Блаженка… Я уеду на черном корабле с золотой звездой на корме. Смотри на нее, Блаженка, эта звезда будет всегда тебе видна, даже если корабль скроется вдали… Ты останешься одна, как на пустынном острове».
«Одна на пустынном острове?» — повторяет Блажена, чувствуя, что губы ее неслышно открываются и закрываются, а голоса не слышно.
Но ты не станешь бояться, ты уже большая! Робинзон тоже был один на пустынном острове и прекрасно там хозяйничал.
Блажена чувствует, что должна кое в чем признаться маме!
«Не сердись, мама, но прошу тебя, не уходи, пока я не расскажу о своем проступке. Помнишь, я впервые читала Робинзона… вот тогда я взяла у тебя большую иглу и отдала Робинзону: мне было жаль, что он все делает голыми руками. А ты иглу так долго искала! Ты была без нее как без рук, но я так тебе и не призналась. Знаешь, мама, она лежит в той книге о Робинзоне».
Блажене вдруг кажется, что эта игла застряла у нее в сердце и оно болит, болит! (Что ты, мама, сделала! Возьми меня с собой, я не хочу тут оставаться! Не хочу!)
И вдруг Блажена видит, что к ней и к маме примчалась, бурля, как кипяток, огромная волна, стремительно подхватила их и опрокинула в морскую пучину. Теперь Блажена ясно чувствует, что отныне она навсегда оторвана от матери этой жестокой силой, и безвольно, как камень, идет на дно.
Но тут Блажену подхватывает новая волна и с неудержимой скоростью, но очень нежно влечет куда-то, медленно поднимая и поднимая… Куда? Не к берегу ли?
Блажена вытянула руки, и тело ее, как по приказу, делало движения пловца, знакомого с водой уже лет семь, почти половину жизни. Ее голова разрезала водную гладь, рот ловил воздух, ноги порой касались песчаного дна.
И вот ее грудь ударилась о берег, утрамбованный волнами, она зарылась пальцами в песок и, опираясь на ладони, выбралась на сушу. Блажена настойчиво ползла все дальше и дальше от воды, ставшей у берега мелкой, словно лужа, и потом упорно лезла по откосу, пока не увидела корабль, тот черный парусник, где, как ей казалось, стояла невидимая мама, скрытая мачтами и канатами, стояла над вечно сияющей золотой звездой и дорогой зорь плыла в райские кущи.
3
Мертвенно-бледное утро ползет по улицам, словно собираясь напасть на город врасплох. Солнце, до сих пор скрытое холодными облаками, закутано, как жемчуг в вату, не светит и не греет: это солнце большого города, палящее в зной и никогда не улыбающееся мягко.
Камни улиц словно разбухли от одиночества, на домах коварно подмигивают полузакрытые Веки окон: дескать, мы уже проснулись, а человек спит и не желает видеть то, что скрыто там, за шторами. Ему не хочется снова возвращаться к трезвой действительности, управляемой такими сложными законами.
Ему нравится это сонное блуждание от образа к образу, нравятся туманные сны без конца и начала, его манит лишь мир чудесных сновидений: во сне человек может стрелять звездными лучами по солнечной мишени, может ловить на нити дождя и в сети теней рыбу в глубоких реках и морях с ясно видимым дном, может летать, освободившись наконец от пут земного притяжения, и передвигаться со скоростью мысли.
Ему не нужно утро, которое приходит затем, чтобы загнать тонкую паутину сновидений в извилины мозга, сжатые черепом весь длинный день и лишь ночью освобожденные сном.
Призрачный день, когда человек все время что-то должен, должен, должен…
Шофер такси Ольдржих Бор проснулся раньше обычного. Лежа тихо с открытыми глазами, он слышал, как шаги первых прохожих гулко зазвучали на тротуаре, отражаясь от фасадов домов, и видел, как стрелка будильника, этот подвижный пестик среди двенадцати тычинок, замешкалась на пятой тычинке. Пан Бор быстро вскочил с постели и произнес спокойным отчетливым шепотом:
— Блаженка — за молоком!
Рассвет заглядывал в комнату; он был еще не настоящим светом, а лишь туманным проблеском, тревожным и неясным, повисшим клочьями в свежем тихом утре.
Отец поглядел на дочку: она спала, не раздеваясь; он не хотел вчера вечером будить ее, такую усталую, только перенес с неудобной тахты на постель. Ребенок!
Блажена еще ребенок! Как ясно ее напряженное лицо, какая нежная, еле заметная улыбка трогает маленький рот… Да, боль ребенка не так велика, как муки взрослого. Непостоянство ребячьих мыслей дает сотню спасительных выходов для этой боли, а ребячье любопытство, и глубокое и мимолетное, и жажда нового невольно толкают к забывчивости.
Отцовский шепот тянет Блажену из сна в пробуждение.
«Как мало я спала!» — думается Блажене; в полусне она хнычет:
— Папка, еще минутку! — и сразу же снова проваливается в колодец приятного забытья.
— Нет, Блаженка, ни минутки! Вставай, долг зовет!
«Долг зовет».. Эта пословица некогда значила для них совсем иное. Полусерьезно, полушутя они с папкой раньше часто повторяли ее. Так и теперь эта насмешливая пословица невольно растянула рот Блажены в улыбку, возвращая ее к воспоминаниям о том, каким радостным бывало раньше утреннее пробуждение.
— На этот раз, Блаженка, долг зовет и вправду. Зовет меня и тебя. Ну, раз-два! — воскликнул отец, теперь настойчиво, и, уже не церемонясь, сдернул с Блажены одеяло.
Она испуганно присела на постели, спустив на пол длинные худенькие ноги, и вдруг сразу оказалась в холодных водах действительности.
— Сейчас, папка!
Блажена, не глядя в зеркало, причесала волосы, накрутив на палец концы длинных светлых прядей, отливающих золотистым медом.
Делая все это, она усердно о чем-то размышляла.
— Куда, папка, мне идти за молоком? — наконец спросила она отца.
— Куда? Я, право, не могу тебе сказать, — смиренно признался пан Ольдржих Бор. — А ты разве не знаешь, где мама покупала молоко?
— Не знаю, — ответила Блажена тонким голоском. — Она за всем ходила сама.
— А ты вставала к готовому кофе, не так ли? — заметил пан Бор. — Кстати, кофе-то у нас есть! Впрочем, знаешь, Блаженка, не забивай себе этим голову, да и я тоже не стану!
— Нет, ты только подумай, и когда же мама вставала, если и для тебя кофе был уже готов? А сейчас нет и половины шестого. Наверно, и дом еще закрыт, — продолжала рассуждать Блажена, громко шлепая по полу босыми ногами.
— Знаешь, что я тебе скажу, Блажена, — говорит отец, наклонившись над умывальником и фыркая, брызгаясь и отряхиваясь, словно только что выкупанный пес, — сделаем сегодня чай, а ты за день все разведаешь.
Отец растерся по пояс полотенцем и теперь причесывал мокрые волосы, делая ровный пробор.
— А ты что, Блаженка, не умываешься?
— Я? Да я совсем забыла!
Блажена, пританцовывая, подошла к умывальнику и, словно совершая обряд, потрогала указательным пальцем, горяча ли вода.
Наконец они оба сели завтракать. Попивая чай и хрустя печеньем, найденным на дне жестяной банки, отец рассуждал, стараясь придать своему голосу шутливый оттенок:
— Тебе, наверно, Блаженка, придется все записывать, тогда, по крайней мере, ты ни о чем не забудешь. Возьми мой карандаш и пиши пока хотя бы на краю газеты: во-первых, молоко, купи его вечером, чтобы не бегать за ним рано утром. Ты еще когда не ходила в школу, любила приговаривать: «Когда я стану большой, то буду крестьянкой, приходите ко мне, я вам дам полный кувшин молока» — и хлопала в ладошки. Вот тебе памятка. Захочешь что-нибудь запомнить, вспомнишь о чем-то другом, но схожем.
Отец смеялся. Неплохо придумано!
— А что у нас будет к обеду, ты подумала? К ужину купи сыр и масло. Я приеду в восьмом часу. Ну конечно, ты немного уберешь. Пол подметешь, это-то ты сумеешь?
У Блажены даже печенье во рту стало горьким. Она с трудом глотала, упорно глядя в угол комнаты. Потом выпрямилась и посмотрела в чисто выбритое лицо отца:
— Так, значит, я теперь все буду делать сама?
Эти слова вырвались у нее невольно, и ей немного стало не по себе — таким вызовом они прозвучали.
Отец подбодрил Блажену:
— Ничего, не бойся, я буду тебе помогать, как только у меня появится свободное время. А иначе нельзя, Блаженка. На прислугу у нас нет денег, да и ты не захочешь никого чужого, не так ли?
— Нет, не хочу! — подтвердила Блажена.
— Ну вот видишь.
— Да тебе еще нужно платить за малыша, — рассуждала вслух Блажена.
— Каждую неделю…
— Значит, тебе нужно прокормить всех нас. Может, мне давать уроки первоклассницам?
Блажена говорила так вдохновенно, что отец рассмеялся.
— Ну, это не потребуется. Но хозяйство тебе придется вести самой. Белье будем отдавать в прачечную, приедут за ним прямо к нам домой и доставят обратно.
Но Блажена была полна рвения, и никакие трудности были ей не страшны.
— Что, я сама не выстираю? Посмотри, какие у меня сильные руки; у нас в классе меня никто не переборет, а по канату я долезала до самого потолка, одна из всего класса. У некоторых неженок кружилась голова уже на третьей перекладине, а я..
Отец не хотел гасить этот пламень мужества, он решил не говорить ни «да», ни «нет» и перевел разговор на другое:
— Ну, так что же решим с обедом?
— Могу тебе сварить картофельный суп, я варила его два раза в лагере.
— А еще? Может, сумеешь сварить манную кашу? Это же нетрудно.
— Еще бы не суметь!
Она должна помогать отцу, и она ему поможет, его доверие обязывает ее. Блажа чувствовала, как эти обязанности делали ее взрослее; она мужала духом, горе делало ее другой.
Домашняя работа — настоящая гидра, но она отрубит ей все головы.
Размышляя так, Блажена не заметила, как отец ушел.
Она все еще разговаривала с отцом, хотя дверь за ним захлопнулась.
Застывшая тишина комнаты вдруг показалась ей враждебной. Да, но к этой неподвижной тишине она должна привыкнуть. Только ход часов, напоминая ей о ждущей ее работе, разделял быстро бегущее время на небольшие отрезки.
Блажена решительно тряхнула головой, и длинные пряди волос взлетели, словно подстегивая ее. Хватит!
Первая голова гидры — это покупки.
Мамина сумка для покупок висит на прежнем месте, и в ней — вот удача! — чисто вымытая молочная бутылка.
На стенке бутылки видна башенка.
Пустую бутылку она вернет и получит полную.
Остался ли у них кофе? Ну-ка, заглянем в наши запасы! В жестяной банке кофе достаточно, в корзинке есть и картошка, а в другой — лук! Ярко-желтый, шелковистый, блестящий лук!
Блажена радовалась найденным продуктам так, как мог бы радоваться Робинзон на своем необитаемом острове, когда он, умирая с голоду, нашел среди песка съедобные корни и вкусные клубни.
Но вдруг у Блажены безвольно повисли руки. Внезапное воспоминание обволокло ее, словно прозрачная вуаль. Робинзон?
Кто это говорил о Робинзоне и необитаемом острове? Это было во сне? Или она где-то читала? А может, это было в действительности?
Когда, где и как?
Нет, она не может вспомнить!
Но необитаемый остров?
Для нее необитаемый остров — это ее дом, и сама она — Робинзонка. Она будет здесь жить с отцом, и он станет ее верным Пятницей. И на этом пустынном острове Робинзонка будет усердно искать источники для пропитания.
Правда, она может выбежать и купить все, что нужно. Может, но так не годится; в любой игре есть правила, которые нужно соблюдать, а не то и фантазия не поможет, и созданный чудесный мир рухнет.
Играя с Мадей в отцовском гараже, они сооружали стены из ящиков, а то, что было за этими стенами, не существовало для них. Они жили среди этих стен, и это был их дом с нарисованными мелом комнатами, дверями, окнами. Таковы уж испокон веков правила ребячьей игры.
Среди обычного мира вдруг возникал совсем другой, особый мир.
В квартире она одна-одинешенька. Квартира Ольдржиха Бора — необитаемый остров, а она, Блажена, его единственная обитательница, кроме папки, верного Пятницы.
Ну и здорово она придумала! Ей будет теперь весело, да и отец наверняка станет смеяться.
В ящике за окном засыхает мелкий лук и базилик, но Блаженка знает, что эти растения в картофельный суп не кладут, туда надо положить чеснок, петрушку, майоран, морковь и сельдерей. Все это придется купить там, за стенами квартиры, и для игры они не годятся.
Робинзонка быстро льет воду в ящик, и вода струится за воротник прохожим, — не беда, сейчас они для нее дельфины и киты, а она должна заботиться о своей плантации.
Блажена поспешно хватает сумку для покупок, кошелек, который оставил ей отец, — нет, Пятница, — берет ключи и опрометью мчится по лестнице вниз.
4
На улице она уже может не так торопиться.
Куда идти? Блажена оглядывается по сторонам. Смотри-ка, вон там на вывеске нарисована такая же башенка, как у нее на пустой бутылке. Тайный знак ей?
Ура, в молочную!
В молочной щебечут служанки и няньки, вертятся тут и дети, у прилавка толпа. Продавщица быстро меняет бутылки с молоком на пустые, развешивает масло, творог, предлагает сыры, обернутые станиолем и украшенные яркими разноцветными картинками: тут и коровья голова с веселыми глазами, и эдельвейс, цветок высокогорных пастбищ.
Продавщица хорошо знает каждого покупателя, это видно по ее быстрым взглядам и по интимной манере разговора.
Не успела Блажена войти в молочную, неловко хлопнув дверью, как все головы повернулись к ней, пожалуй, не только из любопытства, но и потому, что человек всегда невольно оглядывается, услышав внезапный шум.
Никто из этой шумной толпы, казавшейся Блажене враждебной, не знал ее, и поэтому глаза всех покупательниц с любопытством остановились на ней. Эти взгляды были Блажене неприятны, вызывали непреодолимое чувство протеста.
Здесь были люди, совсем не похожие на тех, кого знала Блажена и к кому привыкла: их платье, прически, движения — все вызывало в Блажене раздражение. Если бы тут стояли девчонки из ее класса, она бы пулей влетела между ними и принялась болтать, чувствуя себя среди них как дома.
Но эта продавщица в белом халате и в шапочке на голове уже мерит Блажену взглядом, словно пытаясь разгадать ее.
— Чего вы желаете, барышня? — прозвучал сладкий голос продавщицы.
Блажена, смутившись, ничего не ответила и еще больше покраснела.
Она торопливо стала рыться в сумке и молча поставила на прилавок пустую молочную бутылку.
— Молочко?
— Да, пожалуйста, — молнией вылетело у Блажены.
— Барышня, вероятно, Борова? — Голос у продавщицы становится все слаще. Она была довольна; ей было о чем поговорить, и она выставляла напоказ свою осведомленность, словно какую-нибудь драгоценность, которую она хотела продать и которую держала на ладони так, чтобы лучи света падали на нее более выгодно.
Продавщица с удовольствием повторяла имя Блажены, имя, на котором все еще лежала тень несчастья.
Лица покупательниц, казавшиеся Блажене туманными пятнами, молниеносно повернулись к ней.
Блажена словно покрылась ледяной коркой приторного сочувствия, обволакивающего ее со всех сторон.
Сейчас продавщица начнет! Сейчас она всем расскажет о Блажениной непоправимой утрате.
Быстрей отсюда прочь! Быстрей!
— Пожалуйста, дайте мне молоко. Вот деньги, — мрачно сказала Блажена.
Она не хочет, чтобы чужие женщины копались в ее горе. Не хочет!
Это касается лишь ее и отца, оставьте нас в покое!
От ненависти у нее задрожало лицо, всех забавляло это зрелище. Она поспешно отсчитала деньги и выскочила за дверь, прежде чем на нее обрушился поток нежелаемого сочувствия.
Запыхавшись, она остановилась на углу улицы, стараясь прийти в себя и избавиться от охватившего ее раздражения.
Она уже было направилась домой, на свой необитаемый остров, казавшийся ей сейчас единственным прибежищем, как вдруг в водовороте ее мыслей всплыла мысль об обеде.
Ей нужно еще зайти в магазин. Вот несчастье!
Блажена незаметно смешалась с толпой покупателей, делая вид, что бывает здесь каждый день. Она взяла пучок зелени из наполненной корзины, показала на маленький кирпичик масла в бумаге и попросила килограмм манной крупы.
И все же она выдала себя.
— Еще чесноку, пожалуйста.
— Сколько вам угодно?
— Стручок.
Продавец, не удержавшись, еле заметно усмехнулся. Толпа, частицей которой Блажена себя чувствовала, снова стала для нее сборищем насмешливых лиц, для которых ее смущенный вид был забавным зрелищем.
Наконец Блажена, кажется, купила все — во всяком случае, все, что было записано у нее на бумажке.
Выйдя из магазина, она побежала чуть ли не вприпрыжку, а губы ее невольно стали издавать веселый свист.
Но уже в подъезде она вдруг снова вспомнила, что дома все теперь изменилось.
Раньше она быстро взбегала по лестнице, перескакивая через две-три ступеньки, звонила у дверей с табличкой «Ольдржих Бор, такси» и ждала, пока легкие мамины шаги приближались к двери. Гремела дверная цепочка, открывался замок, и Блажена повисала у мамы на шее…
Сегодня… сегодня она спокойно поднималась по лестнице, ступенька за ступенькой. С сумкой, полной продуктов, она уже не мчалась, как раньше, хотя сумка была, пожалуй, не тяжелее портфеля с книгами.
У дверей она разыскала в сумке ключ, открыла дверь и хорошенько за собой закрыла. Дверь Блажена закрывала очень старательно. Она не была трусихой и все же немного боялась оставаться дома одна.
Да и сам дом изменился для нее. Раньше это был милый ее сердцу дом, теплое прибежище, знакомое ей как бы в общем виде, — теперь она начала узнавать его во всех подробностях.
Плита. Вот место, где лежат спички. Подвал с углем и трудное для нее дело — разведение огня. Руки Блажены покрылись разводами сажи, на носу зачернели полосы угольной пыли, пока наконец бумага не загорелась, а за ней щепки, и Блажена, улучив удобную минуту, подбросила лопаткой в огонь уголь.
Она не доверяла ни лопатке, ни скребку, потому что они уже не раз ее подводили, эти подлые помощники. Блажена верила только собственным пальцам, те пока ее слушались. Правда, они, бедняги, носили следы ее неопытности. Она обожглась о дверку плиты, занозила руку щепкой, но наконец огонь вспыхнул, и плита стала нагреваться.
Блажена была очень довольна собой — нет, Робинзон наверняка не разводил огонь так быстро!
Но трудностям не было видно конца. Солонка, как нарочно, уже пустая. В котором же из мешочков одинакового грубого полотна находится соль? Вот здесь, наверно. А тут сахар… Нет, здесь что-то противное. Наверно, сода. Может, это, скрипящее под пальцами? Да нет, это картофельная мука, даже на мешочке написано. А, вот наконец нежные кристаллики — дар соляных копей, подземелья со сводами из сверкающих кристаллов. Она механически чистила коренья, так кстати найденные ею, и, вздохнув, принялась резать их и класть в кастрюлю.
Нет, горшок не подходит для ее игры.
Ну что ж, он станет корабельным котлом или, по крайней мере, кастрюлей из потерпевшей крушение корабельной кухни.
И вот уже все варится.
Варится, и вправду варится! Вода начинает кипеть, на ее поверхности уже появляются пузырьки, картошка бормочет, болтает, возмущается, извергает пар, едва Блажена приподнимает крышку.
Все же это удивительно! Это она, Блажена, сумела развести огонь, а он накинулся на горшок, затормошил его, оживил и вскипятил воду — и вот Блажена варит!
Теперь нужно заняться манной кашей. Когда мама ставила перед Блаженой тарелку со вкусно пахнущей белой массой, подправленной желтоватым маслом и корицей, она выглядела так заманчиво!
Но сварить ее самой! Отец думает, что это очень легко.
А в лагере повариха девочек к каше и близко не подпускала. Они должны были лишь присматривать за молоком и позвать ее, когда оно закипало. В отместку девчонки кричали так истошно, что воспитатель хватался за голову и говорил, что от этого крика разразится гром.
Зато у поварихи каша была ее коньком. Она сразу же укрощала кипящее молоко первой порцией крупы и ловко орудовала ложкой в этом белесом вулкане.
Девчонки только удивлялись, но умение поварихи колдовать над кашей никак не могли перенять.
Сегодня впервые Блаженка решительно подошла к кипящему молоку, и, как только начала подниматься его нежная, ватная шапочка, она с рвением принялась сыпать в молоко крупу из килограммового пакета, и сыпала долго, не останавливаясь.
Так она отрубила и вторую голову домашней гидре…
— Суп не так уж плох, — уклончиво похвалил отец, мужественно поглощая ложку за ложкой непонятную смесь, что была налита ему в тарелку.
Блажена ела с деланным усердием, и лоб ее пересекла кривая морщинка.
— У меня не вышло, как я ни старалась. Кажется, мой картофельный суп совсем не похож ни на мамин, который она готовила для нас троих, ни даже на суп на триста человек в нашем лагере. Хотя я и положила в него все, что мы обычно получали у помощницы кухарки.
Честно говоря, Блажена ела только для того, чтобы придать мужества отцу. Самой ей было противно то, что она наварила. Но папка просто клад! Он и бровью не ведет, ест и ест…
— А ты не забыла посолить?
— Ага, вспомнила! — крикнула Блажена. — Соль! «Соль я добывал из морской воды, выпаривая ее на прибрежных скалах солнцем», — продекламировала Блажена, держа солонку в руке, и продолжала дальше: — Ты думаешь, что это обычная поваренная соль? Не тут-то было! Эту драгоценную приправу Робинзон добывал из морской воды! Разумеется, я забыла посолить.
— Лучше недосол, чем пересол. — Отец превзошел самого себя в снисходительности.
— Ну, тогда все в порядке, — сказала Блажена, но косая морщинка все так же разделяла ее гладкий лоб.
— А каша? — спросил, отставив тарелку, пан Бор.
— Каша! — вздохнула Блажена. — Это не каша, а какая-то резина, я все время ждала, что она убежит из кастрюли, что ее станет все больше и больше и она рекой побежит, потечет через порог и зальет всю улицу, но не тут-то было, папка! Сказки врут. Каша никуда не бежала, а, наоборот, все густела и густела, стала как камень, и теперь ее даже ножом не отрежешь.
И Блажена смущенно поставила на стол кастрюлю, которая словно срослась со своим содержимым. Отец попробовал кашу вилкой, вилка чуть было не сломалась. Пожалуй, никто не рискнет ее есть!
У Блажены были несчастные глаза, а рот от огорчения стал узким-узким.
— Так что же с этой кашей? — Отец предпринял еще одну атаку на кастрюлю. — Да, думаю, есть ее невозможно.
Он огляделся, словно ища помощи, и снова взгляд его вернулся к кастрюле.
Наконец он спросил Блажену:
— А есть у тебя немного молока?
— Есть на утро, — живо ответила дочка, счастливая, что буря не разразилась.
— Так возьмемся за дело вместе. Не может быть, чтобы мы не сварили какую-то там кашу.
Они подкинули в огонь несколько поленьев, и молоко быстро закипело. Отец медленно сыпал в молоко крупу, а ложка в руке Блажены танцевала по дну кастрюли. Каша булькала, бормотала, ворчала, на ее поверхности появились шишки, которые то и дело взрывались и брызгали отцу на пиджак, а Блажене — прямо в лицо; она взвизгивала и жмурила глаза.
Наконец отец вылил половину густой белой массы в тарелку, а часть каши оставил в кастрюле.
— Я выскребу хорошенько кастрюлю, — с деловитым видом сказала Блажена.
— Делай как знаешь, — улыбнулся отец, — но мне помнится, мама кашу маслила, да к тому же растопленным маслом, чтобы она была повкуснее — хотя мы, пожалуй, не станем испытывать судьбу еще раз!
— А я бы попробовала! — мужественно заявила Блажена.
Не успело масло растопиться, как каша загустела, но осталась мягкой, и Блажена облизывала ложку, бросая на отца благодарные и восхищенные взоры.
— И чего вы, взрослые, только не умеете! — сказала она, причмокивая.
— Ну, я-то скорее угадываю, чем умею, — ответил отец. — Многому человек учится само собой.
— Да, кое у кого все получается само собой, — рассуждала Блажена. — Вот, к примеру, Новотная: та даже может на уроках спать, все равно на экзаменах все знает.
— А на ужин ты что-нибудь купила? — осторожно стал расспрашивать дочь пан Бор.
— Купила, — усердно закивала Блажена. — Я все купила, что ты просил: масло и сыр!
— А хлеб?
— Еще бы! А сыр я купила с таким красивым названием… Угадай-ка! Прочитаешь его, и сразу всякие чудесные вещи представляются.
У отца шевельнулись подозрения. Он опасливо сказал:
— Сдаюсь. Скажи мне лучше, как твой сыр называется?
— С тобой никакой игры не получится. Сразу сдаешься! Разве можно сразу сдаваться и не попробовать угадать? Ну и скучный ты, папка! Я купила тебе сыр, при одном названии которого видишь синий-синий горизонт. Да угадывай же! Знаешь ли край, где апельсины рдеют?
— Горгонзол?
— Где там! Впрочем, это слово напоминает скорее рыцаря в доспехах, чем небесный горизонт. Ну ладно. Мой сыр называется «пармезан». Вот это название! Оно похоже на пармские фиалки, конечно, по звучанию, а не на вкус.
— Пармезан! Но ведь им, дочка, только посыпают макароны или плов, а к хлебу он не годится.
— Так я тебе его натру, и ты посыплешь его на бутерброд с маслом.
— И до чего я с тобой доживу! — воскликнул с притворным отчаянием отец. — Из тебя, пожалуй, выйдет изобретатель новых блюд.
— Разумеется! Сандвич а ля Блажена.
Дочь убирала со стола, мужественная и неунывающая. Домашняя работа все еще представлялась ей отвратительной гидрой, которой приходится отрубать головы. Она не замечала, что вместо одной отрубленной головы появляются две новые, шипящие и изрыгающие пламя.
Огонь в плите погас, и, когда Блажене понадобилась теплая вода для посуды, ей пришлось снова разжигать плиту и ставить на нее горшок с водой.
Горшки! Ведь эти горшки она сама слепила из глины и обожгла в горячем песке. С ними нужно обращаться осторожно, они доставили ей немало забот! Блажена ходила взад и вперед, от лохани к буфету, куда она убирала чистую посуду и приборы.
Внезапно она заметила, что невольно повторяет движения матери, которые она так часто видела, но как-то не обращала на них внимания, вернее, думала, что не обращает. И смотрите-ка, они всплыли у Блажены в памяти одновременно с воспоминанием о матери, по стопам которой она теперь ходила.
Та же песенка, которую пела обычно мама после полудня, песенка, означавшая, что самые трудные заботы дня позади и близится отдых, неожиданно зазвучала в тишине, и пела Блажена с той же интонацией, что и мама.
Мама, милая мама, что бы ты сказала, увидев меня на кухне? Ты, которая всегда меня выпроваживала из кухни и лишь иногда разрешала перебирать изюм. Правда, я при этом не должна была свистеть! А то еще давала мне сырую репку или разрешала вылизать тарелку после повидла.
А мне иногда так хотелось что-нибудь самой приготовить — ну, скажем, испечь лепешки из сырого картофеля прямо на плите, — где там! Ты не подпускала меня к плите, говорила, что я тебе только мешаю. И делать я ничего не делала, ведь ты считала, что после меня придется все переделывать, а это двойная работа. Ах, мамочка, увидела бы ты теперь, как я хозяйничаю!
Блажене стало жалко себя. Глаза у нее наполнились слезами, и она разревелась, как маленькая. И тут ей стало легче.
С решительным видом она оглядела квартиру.
Вот это ее царство! Да, пожалуй, оно великовато. На нее легко напасть! Может, поблизости дикари. А может, и людоеды. Нет, Блажена не умела быть одной ни минуты. Раньше она всегда была с мамой, а теперь одна со своими мыслями.
Блажене придется воздвигнуть крепость. Она испытующе оглядела квартиру: из чего бы легче построить стены? Крепость? А может, лучше палатку? Как в лагере. Верблюжье одеяло отлично подходит. Основой палатки послужат два стула. Неплохо!
Но только Блажена со всеми удобствами расположилась в палатке, как в дверь постучали. Стук. Что ж, стук в дверь, пожалуй, даже кстати. Ведь, если ты в надежном укрытии, неприятель не страшен.
Но в дверь действительно стучали, это уже не было игрой, за дверью стоял не вымышленный враг, а неизвестный человек, и от этого Блаже стало не по себе.
У Блажены громко стучало сердце. Затаив дыхание, на цыпочках, она приблизилась к двери вплотную, убедилась, что цепочка накинута, и лишь затем крикнула каким-то чужим, пронзительным голосом:
— Кто там? Дома никого нет!
Не говорить же ей, что дома одна она. В этом уже таилась грозная опасность. Одна дома! Словно она на дне глубокого озера, одна в глухой пустыне или в девственном лесу.
А что, если неприятель все-таки к ней проникнет? Скажем, сломает замок. Выбьет дверь. Или даже подожжет квартиру.
Блажена прислушивалась затаив дыхание.
На лестнице стояла тишина. Страх сжимал ее сердце. Ей вдруг показалось, что она и вправду на пустынном острове, и она почти явственно увидела на песке след ноги человека.
След!
След незнакомого человека.
Блажена окаменела, ожидая, что вот-вот что-то произойдет. Какой враждебной вдруг стала дверь, та дверь, которая до этой поры так приветливо открывалась Блажене навстречу, когда она, задыхаясь, голодная и усталая, спешила домой! Какой таинственной стала эта дверь!
Время теперь измерялось тяжелым, прерывистым дыханием Блажены. Казалось, что его слышно там, за дверью.
Что же дальше?
Раздался несмелый, почти бесплотный стук и еле слышный шепот, похожий на шум листвы:
— Блажена, что с тобой? Это я, Тонечка, я служу у архитектора. Я услышала, что ты плачешь, и пришла…
Тонечка! Блажена никого не знала в доме. Мама занималась лишь домом и хозяйством и ни с кем не дружила. Что за Тонечка?
— Что вам нужно? Я вас не знаю! — ответила наконец Блажена, прильнув к замочной скважине.
— А я знаю тебя. Моя комната рядом с вашей кухней, а ты плакала так громко, что я услышала. Я испугалась, не случилось ли чего-нибудь с тобой.
— Спасибо! — крикнула Блажена и усмехнулась.
Не нужны ей чьи-то заботы. Теперь уж она постарается, чтобы эта Тонечка больше не услышала ее рыданий. Она, Робинзонка, со всем справится одна. А чужие заботы и утешения ей ни к чему. Да и вообще она никого не пустит на свой остров. Так и знайте!
— Ну ладно, будь здорова! — прозвучало за дверью.
— Спасибо! — крикнула Блажена еще раз, но уже громко.
Снаружи послышались легкие шаги и тихий стук щеколды соседней двери.
Блажена, еще не остыв от напряжения, вернулась от двери в свое надежное укрытие. В полумраке, разрезанном единственным светлым лучом, она успокаивала свое разбушевавшееся сердце.
Незнакомые люди всегда вторгаются в нашу боль, как враги. Даже если они полны сочувствия и желания помочь — все равно они неприятны нам: ведь они не могут разделить нашу боль. Они находятся только рядом с ней, не уменьшая ее и не успокаивая.
Блажену рассердило посещение Тонечки еще и потому, что оно испугало ее. Да еще эта Тонечка слышала, как она плачет, узнала о Блажениной слабости и, возможно, примется болтать об этом всему дому.
Но пусть только попробует! Блажена зарядит ружье, хорошенько прицелится и сделает изрядную дырку в ее шляпке.
5
Трудности, которые повторяются, перестают страшить. Через неделю Блажена уже разводила огонь, не измазав рук. Лопатка и кочерга были теперь в ее руках надежным и верным орудием.
И в следующий раз каша ей уже удалась. Теперь она имела единственный недостаток — в ней были комки.
— Ну как, поросенка теперь твоими яствами кормить не будем? — смеялся отец.
— Еще неизвестно. Подожди, скоро я начну печь пироги, тогда для поросенка опять наверняка что-нибудь найдется!
Обеденное меню Блажены было простым, даже однообразным, но сыты бывали оба, и отец и дочь. Если один день подавалась картошка в мундире, то на другой день варилась очищенная. Как-то раз она решила испечь картошку. Это напомнило ей каникулы и лагерь. Блажена купила к картошке то, что любила сама и что ел на острове Робинзон, — вяленую рыбу. И селедку. Блажена все готова была отдать За селедку. Да и отец был не против. Но селедку она не вымочила, и они обожгли рот крупной солью, которой она была обсыпана. А как-то она купила говядину только потому, что мясник спросил ее: «На суп?» Она кивнула, не зная, что ответить. Мясо она варила потом в железной кастрюле. Суп все-таки получился, хотя мясо она варила целую вечность.
Вся эта возня с едой отнимала у нее целые дни! Она шла спать, не чувствуя ног, а руки у нее были в порезах, царапинах и шрамах. А ведь она всего лишь сходила в лавку, сварила обед и вымыла посуду!
Отец стал неразговорчив. Когда Блажена с ним заговаривала, у него бывал такой вид, словно он свалился с неба.
Правда, он не сердился. Даже не отчитывал ее и тогда, когда ей что-нибудь не удавалось или когда вообще не было обеда на столе, а он приезжал на минутку. Он лишь говорил ей: «Приготовь что-нибудь к вечеру, а сейчас я забегу куда-нибудь выпить кофе». Так и уезжал на работу.
Да, у меня неплохой Пятница, думала про себя Блажена. Теперь она нередко удерживалась от обычной шутки, одной из тысячи тех шуток, которые создавали у отца и дочери хорошее настроение и так помогали им понимать друг друга и дружить.
Иногда, засыпая, Блажена жалела себя, но напрасно старалась найти виновника всех бед, чтобы обрушить на него свой гнев.
Собственно, никто не виноват, рассуждала Блажена, просто мне выпала такая судьба, такая горькая судьба.
Никакой помощи… Девчонки из третьего и четвертого классов вовсю бегают на росистых лужайках, загорают на солнышке, лежа на плотине с листом на носу, чтобы не испортить своей красоты, играют в волейбол и кричат на всю лужайку, и, разумеется, эта противная Новотная отличается в водном поло, а Блажены нет среди них, и она не может соперничать с Новотной в волейболе и затмить ее славу.
А плакса Мадя притаилась где-нибудь в уголке и кокетничает с Духонем, а Духонь наверняка кладет в пустые дупла — лагерные почтовые ящики — записочки на голубой бумаге, написанные уверенным почерком, с обращением: «Милая Мадя!»
Мадя — это змея. Разумеется, пользуется моим отсутствием и наговаривает всем мальчишкам из соседнего лагеря, что я по ним схожу с ума! И каждому говорит в отдельности, требуя присягнуть и не выдавать эту тайну. А мальчишки, глупцы, не будут давать ей, Блажене, покоя своим вниманием, многозначительными взглядами и, наконец, своими записочками!
Блажена вертится в постели, и отец, еще подсчитывающий у старательно прикрытой лампы свою дневную выручку, поднимает голову и заботливо спрашивает:
— Почему ты не спишь, Блажена?
— Да я сплю, — бормочет Блажена.
Отец откладывает ручку, вдруг услышав ее всхлипывание. Он садится на стул рядом с постелью дочери и наклоняется к ней. Лицо его скрыто в тени.
Блажена не видит лица отца, но по звуку отцовского голоса догадывается, какой печальный вид у него: уголки рта опущены, глаза тусклые и волосы у пробора поседели. Такого лица раньше у него никогда не было.
Блажена начинает храпеть, как пан Гозноурек, когда ожидает седока, как отец, засыпающий в полдень над газетами. Отец молчит. И тут Блажена не выдерживает и кричит, закрыв глаза:
— Слышишь, как я сплю?
Но отец не смеется.
Он говорит:
— Я знаю, Блаженка, тебе нелегко приходится, а я плохо тебе помогаю.
— Противная Блажа, — притворяется веселой дочь. — Противная! Хотела отстранить тебя с должности Пятницы. Помоги мне завтра утром принести уголь из подвала, и я оставлю тебя в этом чине.
— Ну и глупый же у тебя папка! Мне и в голову не пришло. В другой раз обязательно говори мне. А если понесешь уголь сама, не набирай полный ящик.
Блажена с радостью повисла бы у отца на шее, но только болтает своими длинными ногами. Ей стыдно, что она, такая дылда, думает о всяких нежностях. Хорошо бы она выглядела со своими нежностями, вися у отца на шее и болтая журавлиными ногами, достающими до пола. И она позволяет себе только потрепать его каштановые волосы.
На лице отца нет и тени упрека или раздражения.
Тогда Блажена тянет его ухо к своим губам и шепчет:
— Блаженка хорошая! Вымыла сегодня весь пол.
— Ну да! А я даже не обратил внимания. Но утром обязательно посмотрю!
— Пожалуйста, подуй мне на коленки. Очень болят.
Отец гладит ее опухшие колени и худенькие икры — одни кости!
И вдруг он стукнул себя по лбу:
— Но я хорош! Забыл тебе сказать самое важное! Завтра едем к мальчишке. В воскресенье в городе народу мало, о загородной поездке со мной не договаривались, и я могу на денек вырваться. Вечером вернусь к началу в театре.
— И-и-и! — завизжала Блажена, словно попав с земли на небо. — Я как раз хотела тебя об этом просить, папка!
И Блажена с озорным видом принялась бороться с отцом.
Ей стало вдруг так хорошо, что она вновь почувствовала себя просто школьницей, не знающей никаких забот.
Блажену охватила огромная радость: во-первых, она увидит мальчишку, брата родного, до сих пор незнакомого, члена их семьи и будущего ее товарища; во-вторых, она снова поедет с отцом на машине.
На машине с отцом!
Поездки на машине доставляли Блажене ту же радость, что и уроки чешского.
Еще маленькой девочкой брал ее отец с собой в загородные поездки, если в машине оставалось свободное место. Блаженка сидела рядом с отцом притихшая, как зайчишка, ее глаза не пропускали ни одного поворота, ни одного из тех деревцев, что стремительно бежали за окнами машины.
И, когда сегодня машина выбралась из Праги на Бенешевское шоссе, Блажена уже заранее радовалась всем воротам домов от Вышеградской до Панкраца.
Она хорошо знала, что в Пльзень нужно ехать через Хухле, а на обратной дороге долго ждать у переезда в длинной веренице лимузинов, «вальтровок», «татр», мощных шестицилиндровых машин, не говоря уж о «явах» и «индианах» с их седоками, укутанными до самых глаз. Мотоциклы лихо объезжали все машины и с удивительным проворством проскакивали между огромными фургонами.
Так же хорошо были знакомы Блажене длинные улицы предместья, стянутые огромными узлами кладбищ, бегущие среди бензиновых колонок к стройным рядам египетских тополей за Беховицами, к веселой мешанине иренских лесов, улицы, стремящиеся через древние ворота Чешского Брода к Лабе, ее заливным лугам и крупным промышленным городам.
Она ездила с отцом во все концы страны — на восток и север, на юг и запад, удобно пристроившись на переднем сиденье его «шкоды», и эти поездки приносили ей ни с чем не сравнимое удовольствие.
Эти поездки с отцом… Да, Блажене, пожалуй, трудно сказать, что ей милее: они или уроки чешского.
Разве эти поездки не были самыми наглядными уроками географии и истории?
Когда Блажена после крутого поворота с тихой соседней Вышеградской улицы дышала полной грудью ветерком с холмов, когда всем существом впитывала фруктовый запах Цветущей акации, она знала, что уже через секунду их машина ворвется под своды первой кирпичной башни и та обдаст ее подвальным холодком и сразу напомнит о восемнадцатом столетии… Крепостные крутые стены, бойницы в толстой каменной кладке, пули, зарывшиеся в кирпичах… «У пушки он стоял…»[7]
И Блажена, как всегда, говорит отцу:
— Знаешь, папка, сегодня было бы достаточно одной бомбы, и от всего этого ничего бы не осталось.
Отец, сидя за рулем, не поворачивается к ней. Блажа видит лишь его профиль, но знает, что он ее внимательно слушает, хотя и не забывает при этом прислушиваться к писку и реву гудков машин, догоняющих и перегоняющих их, к шуму шин и работе мотора. И, как всегда, он отвечает вполголоса:
— Ну и фантазия у тебя! Эх ты, дитя двадцатого века!
Могучее строение Вышеградской башни сменяется другой башней, намного меньше, но зато с богатой отделкой, а потом еще одной…
Огромная каменная птица склонилась с ее крыши, и Блажена каждый раз оглядывается на башню, зачарованная ее линиями в стиле барокко и печальными потрескавшимися стенами, утратившими свою мощь, величие и — что хуже всего — свое назначение, лишь кое-какие следы былой красы проглядывают в них, словно в изборожденном морщинами лице старой красавицы.
Все эти три башни — история минувших поколений.
История — Orbis pictus[8].
А когда они ехали из Праги на север, разве удивительное, прекрасное место у слияния Лабы и Влтавы у Мельника — как она просила остановиться там хоть на минутку! — не было кусочком географии, возвышенным и незабываемым?
Возможно, в огромном мире есть и более ошеломляющие виды, и места с более дикой природой, но это место у виноградных холмов Мельника было для Блажены своего рода единственным волшебством. Там она чувствовала себя в самом сердце своей страны, слышала его биение и ощущала огромную радость своего родства с ней.
География — Orbis pictus!
Отец знал, что такая поездка Блажене особенно мила. Впрочем, она была довольна уже одним тем, что отец сажал ее на сиденье рядом с собой. Он не мог ехать только с Блаженой и всегда брал с собой пассажира.
Было еще одно, что нередко мешало их поездкам. Мама не выносила автомобиль. Не могли же они быть такими эгоистами, чтобы оставлять маму дома и ехать одним! Да и отец, когда мог, охотно расставался с машиной и с удовольствием отправлялся куда-нибудь пешком или ложился на тахту.
Тем радостней были их поездки, и девчонки из ее класса страшно завидовали блестящей возможности мчаться по стране в машине. В машине! Ведь машина была пламенной мечтой многих из них, да к тому же это было модно!
Крживоклат, или Орлицкие горы, или Велтрусы и, наконец, Мельник!
Однажды Блажена была с отцом даже в Мацохе[9]. Тогда они ночевали в Бланске, пан Гозноурек был в ночь свободен и был вместе с ними. Но он проспал все двенадцать часов как убитый.
У Ольдржиха Бора были свои постоянные пассажиры, которые любили его осторожную езду и ценили, что за десять лет работы у него не было ни одного несчастного случая. Ни разу он не был оштрафован за нарушение правил!
Разумеется, Блажена гордилась своим отцом. Вот и теперь, в полумраке глядя на его ссутулившуюся фигуру, Блажена чувствовала, как ее переполняет гордость: какой у нее замечательный отец! И в душе она поклялась снять все тяготы с этих усталых плеч. А он, папка, больше не будет Пятницей, слугой — ведь он глава семейства! И она повысила отца в должности, сделав его губернатором своего необитаемого острова.
6
Отец обедал за воскресным столом — о, Блажена очень охотно накрывала стол празднично! Вот тут, рядом с тарелкой, она положила нож и до серебряного блеска начищенную ложку, даже налила свежей воды в стакан — все так же, как она видела в ресторане около Мацохи. В японской вазочке распускалась гвоздика, и ее аромат разносился по всей комнате.
День ворвался в комнату совершенно неожиданно, словно выстрелил в окно и залил все своим стремительным летним сиянием. Кухня казалась сегодня очень большой, стены словно расступились, праздничное настроение, казалось, лилось из невидимых источников. Все существо Блажены пронизало ожидание какой-то радости.
Я счастлива, я счастлива, словно отсчитывал маятник времени в сознании Блажены. Быть счастливой — вот мое самое любимое душевное состояние.
Иметь все красивое перед собой, все, что неуловимо дрожит и звенит вокруг нас, словно колокольчики на мчащейся русской тройке. Мчаться и мчаться к волшебным просторам..
Но тут Блажена очнулась:
— А почему ты смеешься?
— Да я смотрю на пол.
— А что ты там видишь?
— Ты ведь его вчера мыла, не так ли?
— Мыла, ну и что? Поэтому ты и смеешься? — Блажена в смятении глядела то на отца, то на пол, а потом на себя: не торчит ли у нее какая-нибудь смешная тесемка или не похожа ли она на пугало, вымазавшись в саже?
Отец просто зашелся от смеха. Прищурившись, блестя глазами, он смеялся так заразительно, что и у Блажены рот невольно растянулся в улыбке. Но отец не говорил, над чем он смеется. Наверно, он смеялся над ней, иначе почему бы ему не сказать, чтобы и она посмеялась вместе с ним?
Блажену всегда сердило, если кто-нибудь смеялся, не говоря, почему он смеется. Неужели правда, что отец смеется сейчас над ней? Она чувствовала себя оскорбленной, хотя хорошо знала, что отец никогда ее не обидит. Но разве сейчас папка не понимает, что обижает ее, разыгрывая какую-то непонятную комедию?
— Папка! — крикнула Блажена и, побледнев, топнула ногой. — Скажешь мне наконец, почему ты ржешь, как конь?
Только этот грубый окрик привел отца в чувство. Он вдруг удивился, откуда в Блажене появилась эта грубость, но сам поразился тому, как неестествен его смех.
— Ну да, конечно, это все нервы. — Но он не мог остановиться. — Блаженка, иди сюда! Иди сюда, девчонка противная, подойди ко мне поближе.
И, когда она нерешительно, все еще сердясь, приблизилась к нему, он повернул к себе ее лицо и пристально посмотрел ей в глаза:
— Видишь, я больше не смеюсь. Но ты не должна на меня сердиться — ведь я уже думал, что совсем разучился смеяться.
Блажена все еще продолжала хмуриться. Все чувства притаились в ней очень глубоко, это был клад, который она никому не показывала, даже родители могли лишь догадываться о нем. Поэтому она не откликнулась на отцовский призыв и холодно спросила:
— Так над чем же ты смеялся?
Он мягко нагнул ее голову, по-прежнему касаясь ее висков, словно желая ее загипнотизировать.
Резкое утреннее солнце било прямо в пол. Словно увеличительное стекло, оно обнаруживало каждую трещинку. И в этом обвиняющем свете весь пол был разделен на квадраты с неровными краями. Середина квадратов была до блеска чистой, а все границы между ними отчетливо вырисовывались.
— Да это какая-то шахматная доска или вид с самолета, — сказала Блажена.
— Нет, просто пол, вымытый новичком. Вот так же ездят новоиспеченные шоферы, только они выделывают другие геометрические фигуры. Знаешь, вот так.
— И все это сделала я! Прямо вспахала! — Блажена растерянно смотрела то на пол, то на отца: не зальется ли он опять безудержным смехом.
Но отец не смеялся, и взгляд его был ясным и ободряющим.
Он вдруг хитро подмигнул ей:
— Ни один ученый не упал с неба.
— Но я тебе скажу, — возразила Блажена, — это не прошло мне даром. Посмотри на мои колени!
Она сняла чулки, и удивленный отец увидел на коленях неопытной поломойки ссадины, пузыри и занозы.
Отец испугался не на шутку, промыл спиртом Блажене ранки на коленях и смазал их мазью.
— Ну, до свадьбы все заживет.
— А я не выйду замуж, не выйду! — визжала от боли Блажена.
— Ну и не выходи! А мороженое поесть можно тебя пригласить?
Разумеется, Блажена разрешила. Теперь она уже знала, что отец смеется, но не над ней.
И вскоре она совсем позабыла о противных полах.
Ведь перед домом стояла машина!
Отец взялся за ручку двери. Блажена уже чувствовала на языке ледяную сладость мороженого с таким волшебным и заманчивым ароматом, что человеку с собой ни за что не совладать.
Когда перед Блаженой стояла вазочка с мороженым, она забывала обо всех своих горестях и набрасывалась на опьяняющее ледяное лакомство тем охотнее, чем реже ей выпадало такое счастье. Вот и теперь она не могла дождаться, пока отец закроет дверь. Ей казалось, что он делает это очень медленно.
А тут еще новая задержка! Уже спускаясь по лестнице, они увидели женщину, не молодую, но и не старую; она как-то испуганно взглянула на Блажену.
Впрочем, встреться Блажене девчонка или парень ее возраста, ей было бы сразу известно, кто это такой, и она знала бы, в какую школу ходит, учится ли эта девчонка играть на рояле, петь или танцевать. Знала бы ее прическу, ее товарищей, ее дурные и хорошие привычки и, разумеется, все толки о ней.
Но эта женщина — почему Блажене показалось, что она хотела ее погладить? — не была ее сверстницей.
Да и что у Блажены могло быть общего с этой взрослой женщиной, наверно, чьей-то прислугой? У них в семье никогда не было служанки, и для Блажены это были существа, которые всегда за мытьем окон распевают глупые песенки о любви, болтают о кавалерах, в обычные дни ходят в шлепанцах и дома и на улице, зато в воскресенье смешно наряжаются, представая во всем блеске и стараясь прическами и шляпками походить на своих хозяек.
Эта женщина, на которой лишь на миг остановился взгляд Блажены, не занимала ее, но отец вдруг вежливо уступил ей дорогу, остановился, снял шапку и сказал:
— Добрый день, Тонечка!
Тонечка, как показалось Блажене, виновато опустила голову, прошептала: «Добрый день!» — и проскользнула между отцом и дочкой.
Так это она! Незнакомая Тонечка, которая за стеной прислушивается, когда Блажена плачет. Смотрите-ка, эта Тонечка наверняка вспомнила, как стучалась к Робинзону. Напрасно, мадам, напрасно! У Робинзона не было женщин на его необитаемом острове и, бог даст, не будет!
С победоносным видом Блажена вошла с отцом в кондитерскую. Кончив поглощать ванильное мороженое с лимонадом и облизывая с довольным видом ложечку, Блажена подумала вдруг, что они едут к мальчугану с пустыми руками.
— А что бы ты хотела привезти такому несмышленышу? — улыбнулся отец, но по его улыбке было видно, что он тронут.
— Может, немного мороженого… Хотя нет, — сразу отвергла Блажена. — А если петушка? Сахарного петушка!
— Я думаю, врач прогнал бы тебя с петушком, — сказал отец.
— Не хочешь — не надо, только что о нас подумает мальчуган?
— У него там есть все, что надо, а думать он еще не думает, — решительно заявил отец.
Блажена больше не возражала. Да и кто бы стал возражать, сидя в кондитерской за мороженым! Кто бы мог интересоваться чем-то другим, а не видами вокруг, проносясь в машине и смотря на воскресную толпу, пестрым потоком вливающуюся в иренский лес, или любуясь огромными соснами, похожими на стройные костелы, а то и первыми зелеными плодами яблонь, при одном виде которых сразу становится кисло во рту!
— «А вот уже перед ними чудесный замок, в замке стол, ни в сказке сказать, ни пером описать, на столе блюдо, а на блюде…» — так шептала Блажена отцу, сидя в вестибюле.
На столе перед ними и вправду стояло нечто вроде блюда, но это было самой обыкновенной пепельницей. В нее курильщики, приходя, сразу бросали свои сигареты и сигары — в этом доме курить строго воспрещалось.
Блажена полна нетерпения. Ну и долго приходится ей ждать братишку! В этом Доме ребенка нельзя, как у соседок по дому, постучать, войти и сказать: «Добрый день! Где тут наш принц?», и когда тебе покажут на коляску, поднять покрывало и расплыться в улыбке: «Ну и толстячок!»
Наш мальчуган тоже будет толстячком.
Блажена представляла брата таким же, какими были те ребятишки, с которыми гуляли в парке принаряженные мамы. Все они были так завернуты в красивые одеяльца и так скрыты пушистой фланелью и блестящим атласом, что виднелись лишь розовые пятнышки их щечек. А иногда она представляла братишку похожим на свои лишь недавно заброшенные куклы; особенно напоминал ей младенца смуглый гуттаперчевый голыш с чудесными ножками, упругой спинкой и грудкой и выразительной головой.
И вот она сейчас увидит братишку. Ух, ее так и разбирает любопытство и нетерпение!
Но приходится осторожно идти на цыпочках за строгой сестрой в белом. Блажена идет по коридору, окруженная тепличной атмосферой дома.
Сестра ведет ее по свеженатертому полу, сверкающему, как мрамор, ведет вдоль окон, откуда льется смешанный цветочный аромат. Но вот и комната новорожденных.
Входить сюда воспрещается. Блажена топчется около полуоткрытых дверей и робко заглядывает внутрь. Она становится на цыпочки — а вдруг что-нибудь упустит! — и видит узкую комнату со странными нарами. Впрочем, нары обтянуты белоснежным полотном. А на этих нарах лежат рядками какие-то свертки, похожие на только что испеченные рогалики. Где руки, где ноги и где голова, узнать невозможно.
Но Блажене не удается долго разглядывать. Сестра в белом заворачивает один рогалик в конверт, вынув его, словно горошину из стручка, поправляет одеяльце и выплывает из комнаты.
— Пожалуйста, вот ваш мальчуган! — представляет она семье нового члена.
Отец немного растерялся. Он с радостью взял бы сына на руки, но боится даже до него дотронуться. От своего смятения он спасается деловой фразой:
— Он здоров, сестра?
— Здоров, как бычок! Жизнерадостный мальчишка.
У Блажены вытянулось лицо: сестра и вправду так думает? Вот это и есть ее братишка? Но ведь у него вместо носа две круглые дырочки, вместо рта — два червячка. Даже на ее голыша не похож.
— Неужели это мой брат? А вы не перепутали? — восклицает возмущенная Блажена.
— Перед вами не кто иной, как пан Петр Бор. У него есть отметка на руке. Нам пришлось сразу же дать ему имя, — заявляет сестра, обращаясь к пану Бору, — Так всегда делается в подобных случаях, — говорит сестра осторожно, стараясь не бередить незажившей раны, не вызывать воспоминаний..
Сестра, заметив испуг Блажены, улыбнулась и сказала с подчеркнутым восхищением:
— Красивый мальчик!
Но у Блажены о красоте совсем иные представления.
Посещение кончилось. Им не разрешат даже слегка покачать мальчугана — такой он еще хрупкий, нежный, и, уж конечно, нельзя ни поговорить с ним, ни пощекотать его.
Отец благодарит сестру, и Блажена, как эхо, повторяет его слова.
Наконец они выходят из этого сказочного замка.
Оба молчат.
Отец бог весть о чем думает, а Блажене кажется, что она уходит с пустыми руками, так и не получив обещанных даров.
Она еще не умеет, как взрослые, жить будущим и совсем не в силах представить, что мальчуган в скором времени научится забавно улыбаться, потом сидеть, потом бегать, потом лепетать, а лет через десять из него вырастет настоящий озорник и непоседа…
Отцу все это хорошо известно, хотя бы из опыта с Блаженой, и он уже теперь озабочен, как такой озорник будет жить без матери.
А Блажена живет настоящим моментом. Брат обманул все ее ожидания и надежды. Но она держит все свои разочарования при себе и ждет, что скажет отец.
Она наклоняется и нюхает августовские цветы. Останавливается у расселины, где цветут тучные очитки, и у бугра, покрытого подушечками камнеломки.
— Какое пиршество ботаники! — говорит она сама себе, но предназначает эти слова девчонкам из своего класса.
Но вот она снова догоняет отца, с задумчивым видом идущего к машине.
Блажена убирает волосы со лба, смотрит на небо. Да, будет буря. Вот уже и ветер начался.
И, когда Блажена проходит мимо стайки воробьев, устроивших настоящую битву, в которой участвует целый полк серо-бурых пернатых вояк, налетающих друг на друга с пронзительным криком, ей вдруг становится тоскливо, и она вспоминает шумные забавы в школьном лагере.
7
Робинзон на своем острове от двенадцати до двух спал, не в силах работать в невыносимой жаре. Блажена, накормив отца, направлялась в это время к главной дейвицкой площади Колотом.
Трамваи грохотали здесь по рельсам, делая большой круг, автомобили мчались с бешеной скоростью, словно по треку; мотоциклы, велосипеды, грузовики — все неслось в бешеном круговороте. Порой казалось, что это одни и те же машины мчатся по кругу, как на карусели. И все же здесь было привольней, чем на шумных улицах.
Образуя круг, здесь стояли скамейки и стулья, повернутые к огромной клумбе.
В самом центре клумбы располагались кусты мелких розочек самых разнообразных оттенков красного цвета. А порой на клумбу налетал стремительный порыв ветра и доносил сладкий и нежный аромат роз.
Ветерок забирал из красных уст роз их теплый аромат, нес его на улицы и там раздавал страждущим горожанам.
Многие любили посидеть на кругу, жадно вдыхая воздух, напоенный ароматом цветов.
Блажена прибегала сюда вприпрыжку, и все ее существо жадно впитывало все происходящее вокруг. Прохожих она не замечала и часто чуть не сталкивалась с ними. Зато собаки всегда привлекали ее внимание, и порой, играя с каким-нибудь терьером, она забывала обо всем на свете, а хозяин пса напрасно искал свою косматую собственность.
Иногда, подружившись с чужим псом, Блажена пыталась заманить его домой — ведь вслед за Робинзоном с обломков корабля бросился к берегу и корабельный пес, который на острове был ему верным другом. Так почему же с Робинзонкой не мог быть на ее острове какой-нибудь Муфик или Пуфик?
Но пес, как правило, перед самым домом останавливался, внезапно опускал хвост, терял к Блажене всякий интерес и отправлялся обратно к хозяину. С легким сердцем расставалась Блажена с собакой. Ну и пес с ней. Раз собака отвергала ее приглашение, жалеть нечего, друга из такой собаки не выйдет. Настоящий преданный пес должен решительно и охотно бросаться за хозяином куда угодно, даже в море!
Лучше Блажена будет возиться со всякими беспородными собачонками. Вон сколько их носится по дорожкам Колоточи и ее клумбам, словно сдавая нормы по бегу.
«Все или ничего!» — твердила Блажена недавно придуманный девиз, считая его очень новым и очень энергичным.
Площадь Колоточ Блажена считала своим вторым домом. Зелень на площади заменяла Блажене сад; небо склонялось здесь над ней, словно голубая перина, а дорожки защищали от проносившихся машин. К тому же тут Блажена находилась под надежной защитой своего папки, у которого была стоянка на углу площади. Его машина вместе с другими такси стояла неподалеку от широкой улицы. Длинная вереница машин!
Машины съезжались вплотную, словно черные жуки, и от никеля и стекла солнце отражалось с нестерпимым блеском. Временами машины начинали ворчать и трещать и, словно настоящая саранча, тихо двигались к какой-нибудь широкой, уходящей от площади улицы.
Блажена хорошо знает все машины и, разумеется, их хозяев. Вот та старая четырехцилиндровая «татра», машина пана Матыса, трещит, как кофейная мельница, а эта шестиместная колымага принадлежит пану Гораку; иногда она упирается и никак не желает брать подъем. Недавно у пана Горака даже пассажир убежал и пересел в автобус, потому что такси вздумало остановиться как раз у Бориславки. На стоянке смеялись до упаду, а отец вечером рассказал Блажене, и она тоже смеялась до слез.
«Но Гораку ни гугу», — предупредил отец Блажену.
Разумеется! Блажена раз и навсегда зарубила себе на носу, что любая критика по адресу мотора или кузова сразу же вызывает враждебный ропот у хозяев машин. «В этом шоферы похожи на владельцев скаковых лошадей!» — говорил пан Бор, и Блажена знала, что и сам он так же ревностно и преданно заботится о своей «шкоде», словно она живое существо.
Стоянка такси была для Блажены заливом Дружбы среди прибоя большой площади.
Всегда, когда она проходила мимо этой по-солдатски застывшей вереницы машин, ей что-нибудь кричал пан Индра, хозяин небольшой машины «Вальтер Юннорг», которую тоже звали «Индржишек»; приветливо кивал пан Гавлин, чья «Прага» еще, вероятно, помнила времена Ветхого завета; или шутил пан Угер, неизменно повторявший свои шутки и с одинаковым успехом спрашивавший, куда Блажена ходит пить пиво и не курит ли она дома отцовскую трубку…
На площади часто собиралась дейвицкая молодежь. Отсюда предпринимались вылазки на любительский футбол, на теннисные корты, находившиеся неподалеку, в купальни на Подбабе или на альпинистские прогулки на Дикую Шарку.
Кое-что из этих радостей молодости испытала и Блажена. Правда, теперь ей пришлось на всем этом, как говорила мама, поставить крест. А сейчас она просто бывала на площади и довольствовалась ее скромными радостями.
Ежедневно она разглядывала рекламы дейвицких кинотеатров и была отлично осведомлена, что и где идет; иногда она упрашивала отца, и он покупал ей билет на фильм, разрешенный детям, но иной раз высокий рост помогал ей проникнуть и на фильмы для взрослых.
С некоторых пор, став хозяйкой на своем необитаемом острове, Блажена стала интересоваться витринами овощных, мясных лавок, бакалейных и булочных. Она спрашивала цены на цветную капусту и шпинат, и ей казалось, что она начинает разбираться в качестве продуктов. Лишь громады мяса и копченостей за витринами оставались для нее загадочными. Сколько разных видов розовых и красных кусков мяса, с костями и без костей, с жиром, желтым и белым! Как во всем этом разобраться? Как узнать, какой кусок для первого, а какой для жаркого и что за вкус будет у них!
Женщины в мясной лавке всегда просили: дайте, пожалуйста, вырезку на жаркое, а Блажена видела на прилавке просто куски мяса, и все они были для нее совершенно одинаковы. Никакой разницы!
Больше всего ее манили фрукты. В них-то она разбиралась. Она могла ежедневно покупать лишь немного фруктов и научилась внимательно смотреть на пальцы продавца: не бросают ли они в пакет побитое яблоко или сливу с гнильцой. Раньше обо всем этом думала мама, а Блажена, как беззаботный воробей, клевала из кормушки.
Вдоволь насмотревшись на пестрый мир площади, наевшись фруктов, Блажена сунула руку в карман своего плащика, достала книгу и, заплатив за стул, углубилась в чтение. Много прочесть ей не удалось: движение и шум вокруг, словно бурная река, поминутно отвлекали ее внимание.
Книжки она читала и собственные и взятые у кого-нибудь. «Робинзона» она, разумеется, не перечитывала — его она помнила наизусть!
Впервые она прочитала «Робинзона» в первом классе. Как же она ликовала, когда через несколько лет, читая учебник третьего класса, нашла фразу: «Одним из самых любимых английских писателей восемнадцатого столетия был Даниель Дефо, автор „Приключений Робинзона“»!
Старый хороший знакомый! Привет тебе, Дефо!
Уже в первом классе Робинзон очаровал Блажену, став ее любимым героем. Блажена упрекала себя за то, что не в силах была поставить ему палатку, когда землетрясение уничтожило его жилище под скалой; она искренне сожалела, что у него кончились чернила и он не мог больше вести свой дневник! Наполняя чернилами ручку, она вспоминала о бедняге Робинзоне, которому не только не с кем было перекинуться словом, но который даже не мог сообщить своим будущим читателям обо всех своих переживаниях и злоключениях.
Да, Робинзона Блажена не просто знала — она цитировала его на память!
Читала она в ту пору какие-нибудь миленькие вещички, над которыми не приходилось думать и можно было когда угодно остановиться и больше к ним не возвращаться.
Когда же это пустое чтение ей становилось противно, она добиралась до отцовских полок и принималась за книги, наполовину ей непонятные. Отец своих книг у нее не отбирал, но говорил: «Это будет для тебя скучным». И ей и вправду бывало скучно.
Однажды Блажена попала впросак с модной «запретной» книгой.
Зашла как-то к ним одна девчонка из Вршовиц и рассказала, что на уроке чешского им говорили о прозе времен Карла IV. И при этом учительница упомянула о «Шарлатане»; правда, подчеркнула, что книга эта фривольная, непристойная и девочкам ее читать не стоит.
Разумеется, все девчонки из их класса принялись всюду разыскивать этого «Шарлатана». Наконец одной из них удалось где-то найти, и книжка — надо сказать, такая маленькая, что совсем скрывалась в хрестоматии, — стала ходить из рук в руки. Но всех ожидало разочарование.
И Блажена, прочитав, лишь пожала плечами:
«Старинные стихи и какие тяжеловесные!»
Вспоминая сейчас об этом смешном случае, Блажена переворачивала страницы своей сегодняшней книги.
Громкий разговор двух молодых женщин, сидящих рядом с Блаженой, заглушал диалог на страницах книги.
Обе женщины были не только молоды, но привлекательны и хорошо одеты, в шелковых чулках, а ногти на руках были покрыты лаком. Женщины на костяных спицах вязали что-то непонятное из розовой шерсти.
— Я, знаете, не училась варить, — сказала женщина постарше, с завитыми волосами и с длинными ресницами, словно в кино. — Я пришла на кухню прямо из-за пишущей машинки. Муж купил мне «Поваренную книгу» Санднеровой и сказал. «Готовь по ней, ведь ты умеешь читать!»
«Санднерова? Как бы запомнить? — размышляла Блажена. — Ага! Использую-ка я папкин способ запоминания. „Санд“ — песок. Корабль везет песок, корабль в двадцать тонн, шесть орудий и четырнадцать матросов помимо капитана, юнги и меня… С гулом примчалась огромная волна, и мы даже не закричали: „Спаси нас, боже! Нас потопил страшный вихрь!“»
Да, так потерпел крушение корабль, на котором плыл Робинзон Крузо.
Яростный вихрь! Блажена вскочила. На стуле ей уже не сиделось. Носок сандалии сам нашел камешек и начал его гнать по дорожке. Блажена ничего не замечала, гнала камешек и чуть было не сбила кого-то с ног.
— Куда это ты так мчишься? — крикнула идущая навстречу ей Ледкова.
— Привет, Селитра! Ты в Праге? А я думала, что ты хнычешь где-нибудь под кустом в лагере.
— Я была там недолго. А почему ты здесь?
Блажене совсем не хотелось, как она говорила, разыгрывать акт из трагедии и рассказывать посторонним о своем горе, да еще на улице, полной равнодушных прохожих.
И она ответила небрежно:
— Я? Да я просто так, иду мимо. А ты куда направляешься?
— Да никуда.
— Проводи меня немного.
— У меня такая неприятность!.. — вдруг разоткровенничалась Ледкова. — Но поклянись, что никому не скажешь!
— Если хочешь, пожалуйста: не сойти мне с места!
— Лучше бы мне никогда не родиться!
Блажена посмотрела на бледную физиономию Ледковой, на ее дрожащие губы, вытаращенные глаза, и ей стало не по себе. Но тут же она почувствовала нелепость этой дурацкой мысли Ледковой о смерти. И еле удержалась от смеха.
— Что за чепуху ты мелешь? Ты говорила об этом уже в конце школьного года, — строго сказала Блажена.
— Тебе хорошо говорить! Если я не стану певицей, так и жить не хочу!
— Ну и пой, пожалуйста, кто тебе мешает? Ты ведь еще не опоздала быть певицей, не так ли?
— Но сначала мне нужно научиться петь. И это надо начинать сейчас! Я такая несчастная!
Ледкова скривилась, словно выпила уксусу.
Блажена растерянно молчала.
— К чему жить, если не можешь стать кем мечтаешь! — ныла Ледкова. — Не казалось ли тебе, Блажена, когда-нибудь, что родители у тебя не родные, что ты не их ребенок, а они просто взяли тебя на воспитание?
— Мне это не приходило в голову, — нехотя призналась Блажена. — Думаю, что у вас в семье не так.
— Ты будешь смеяться, я тебя знаю, — продолжала Ледкова, — но такие вещи случаются. Какая-нибудь дама подкидывает ребенка или продает его. Меня, вероятно, подкинула какая-то знаменитая певица. Потому что в нашей семье в моем таланте ни капельки не понимают!
— Послушай, Селитра, выбрось все это из головы, — приняв рассудительный вид, заметила Блажена и вдруг представила себе среди кремов и пирожных бледную пани Ледкову, такую же тощую и бесцветную, как и ее дочка. — Ведь вы с мамочкой так похожи друг на друга, что никакого сомнения быть не может.
— Это только кажется. Она меня наверняка не любит, раз не разрешает быть, кем я мечтаю! Но когда-нибудь она пожалеет! Обязательно пожалеет! — угрожала Ледкова отсутствующей матери, и в глазах ее металось отчаяние.
— И скажи, пожалуйста, что тебе влезло в башку? — успокаивала ее Блажена. — Я бы не знаю что отдала, лишь бы идти в школу, как ты. И вообще, ты не думай, что другим так уж легко! Ты считаешь, что ты пуп земли. А остальные что?
Блажена для виду рассердилась, повернула Ледкову к себе спиной и хорошенько наподдала ей.
— Вот тебе, вот тебе! — сказала она, тяжело дыша. — Теперь хватит?
— Ма!.. — визжала Ледкова.
Она лишь тогда начала отбиваться острыми локтями, когда град ударов прекратился. И тут же спросила, повернувшись к Блажене:
— А почему ты не пойдешь в четвертый класс?
— Почему? Потому что «почему» кончается на «у»!
— Опять тайны?
— Эту тайну ты скоро узнаешь!
— У меня идея. — И Ледкова снова как заведенная принялась говорить о себе: — Скажи, Блажена, моей маме, когда пойдешь к нам покупать карамель, что у меня лучшее сопрано из всей гимназии.
— И тебе снова захочется жить?
— Может, меня отдадут в консерваторию.
— Ладно! Так и быть, скажу.
Они ударили по рукам. Блажена нашла новый камешек и подкидывала его до самого дома. У нее быстро нашелся компаньон — молодой волкодав, который бежал за камешком, хватал его лапами и наконец, проглотив, скрылся.
Готовя дома творог, Блажена видела словно наяву, как Ледкова, блестящая примадонна, в наряде Либуши[10] раскланивается на сцене Национального театра перед ликующими зрителями.
Но тут взгляд Блажены упал на пол, все еще разделенный на квадраты, и она внезапно решила: я что-нибудь сейчас придумаю!
Вымытые добела квадраты уже загрязнились, и пол приобрел одинаковый серый цвет, хотя следы неумелого мытья все еще были видны.
Блажена накрыла на стол, схватила кувшин для пива и кинулась в магазин, на ходу пробуя творог. Вкус у него был отличный.
Когда она вернулась, отец уже сидел за столом и улыбался.
— Ну, что нового, Блаженна?
Каждый день он задавал этот ободряющий и привычный вопрос. Отец задавал его просто так, не ожидая ответа, а стараясь подбодрить Блажену, и тогда она немедленно выкладывала ему все заботы и огорчения, а не мучилась и не ждала для этого удобного случая.
Вот и сегодня у Блажены ответ был готов:
— Папка, купи мне «Поваренную книгу».
— Слушай, девочка, да ведь это блестящая идея! Обязательно куплю! И как это мы сразу не подумали? Ну и тугодумы же мы! А как тебе это пришло в голову?
Блажена, поглощая с удовольствием сочный творог, рассказала о подслушанном ею разговоре.
— А какая это была «Поваренная книга»?
— Подожди. Я запомнила по твоему способу, мой славный папка, и готова похвастаться. Итак! Яростный вихрь. Четырнадцать матросов помимо капитана. Корабль. Песок — санд…
— Что ты болтаешь? — смеялся отец.
— Вспомнила! Книга Сандовой.
8
Блажена пришивала пуговицу к летнему плащу и, сердито хмурясь, приговаривала: «Наверняка черт тебя пришил!..» Она любила повторять материнские поговорки и присказки. И тогда у Блажены все шло на лад. Блажену часто раньше ругали, что она плохо зашивает дырки в своей одежде и на чулках и чуть не выкалывает себе глаза ножницами. Мама говорила ей:
«Будь внимательна, а то черт толкнет тебя в руку, и лишишься глаза».
Об этом черте Блажена в детстве думала немало и, пока не пошла в школу, верила, что и вправду злой дух только и ждет случая, чтобы ее обидеть и причинить ей вред. Теперь уже, зная суть всех этих поговорок и пословиц, она понимала, что сама она строит себе всяческие козни. Нитка все время у нее цеплялась за другие пуговицы, ей приходилось останавливаться, раскручивать узелки — и тут, как нарочно, нитка обрывалась. И снова ей приходилось вдевать эту противную нитку.
— Эта одежда прямо изведет человека! — философствовала Блажена. Зашиваешь ее, стираешь, гладишь, обращаешься с ней аккуратно, от грязи защищаешь, от солнца и от дождя, — все равно что за больным ухаживаешь! Как жаль, что нельзя, как раньше дикарям, ходить раздетыми! Хотя бы летом!
Отец, как раз допивший свое пиво после ужина, начал дремать и слушал ворчанье Блажены краем уха. Но слова о дикарях вывели его из дремоты, и он сказал Блажене со смехом:
— Нет, только послушайте, что она говорит! Ты забываешь: одежда служит нам, а взамен требует заботы. Надеюсь, ты отнесешь мои теплые вещи в чистку и приведешь их в порядок?
— Ладно, папка, отнесу. Почему я ворчу? Иголок у меня не перечесть да и ниток, пуговиц и булавок сколько угодно. А Робинзону приходилось скалывать свои дыры колючками. У меня платье мягкое и легкое: как ветер подует, так я чуть не парю в воздухе, а у Робинзона штаны были из косматой шкуры старого козла. Бр-р-р!! Тебе бы не хотелось иметь такие? Да и бороду тебе бы не хотелось иметь? И усы тоже? Знаешь, ведь у Робинзона усы были длиной в четверть ярда! Сколько это сантиметров, а, папка?
Но у пана Бора был сегодня трудный день. Ездить в жару по шумным пражским улицам, постоянно быть настороже перед грозящей опасностью, — усталости хоть отбавляй. У пана Бора достало сил лишь прилечь на кушетку, где он до сих пор сидел, и взять в руки газеты. Но почитать ему так и не удалось — сон сразил его.
Блажена спокойно отнеслась к тому, что снова осталась одна.
В ее память снова пробралась тощая фигурка Зорки Ледковой.
Рядом с Зоркой толпились остальные девчонки, шумные и подвижные. Мадя — с таким видом, словно она готовит очередную пакость, Грознатова — с лентой в волосах, коротышка Похова, по прозванию Крапивница, и во главе всех — Новотная со своим царственным видом. Все они громко болтали, бранились, наскакивали друг на друга, — Блажена с наслаждением включилась бы в этот галдеж, но все это был мираж! В действительности на ее долю оставалась тоска.
Девчонки! Смотрите-ка! Все эти девчонки могут сейчас веселиться в лагере, а они притворяются, что все это их не радует, даже отравляет их существование. Неблагодарные! Ведь их ждет новый учебный год, четвертый класс дейвицкой гимназии со всеми его новостями, а они еще притворяются, что это их не радует, — дескать, снова будет сплошная зубрежка. Вот задаваки! Ни одна никогда ни в чем не признается.
Все равно Блажене хочется быть вместе с ними!
Они скоро вернутся в город — ведь уже конец августа. В гимназии сейчас моют окна, красят полы. Завтра Блажена забежит туда и посмотрит. Скоро снова зальются школьные звонки, и их серебристые требовательные голоса понесутся по коридорам и классам…
Звонки… Звонки! На тротуаре под окном раздался звонок велосипеда.
— Чтоб его! — сердито вскрикнула Блажа.
Звонок пронзительно задребезжал еще и еще раз. Значит, это не было предупреждение пешеходам? Уж не сигнал ли это? Знакомый сигнал! Такими прерывистыми звонками давал о себе знать Ярослав Духонь, подъезжая к дому после уроков.
Опять звонок!
Блажена кинулась в комнату, остановилась у окна и, притаившись за шторой, смотрела в щелку на нарушителя спокойствия, стараясь остаться невидимой.
Звонок велосипедиста звучал по-прежнему очень требовательно, словно бранился. Блажена отбросила штору и появилась в открытом окне — без тени улыбки, с достоинством владелицы замка.
Духонь стоял на противоположном тротуаре и махал рукой.
— Привет! — крикнул он, но улица поглотила его крик.
Он сделал знак рукой: иди сюда! Спустись на минутку! У меня есть что-то важное для тебя!
Блажена и бровью не повела. Она и виду не подаст, пусть Духонь не воображает! Но ее так и тянуло спуститься вниз — ведь Духонь пришел как раз в тот миг, когда она так тосковала по школе и по всем школьным друзьям.
Тут же она вспомнила о Маде, и ей пришла в голову блестящая идея: она возьмет сумку и, скажем, отправится за картошкой. Пусть Духонь не думает, что она вышла на улицу ради него.
Она подбежала к зеркалу, поправила волосы, надела на платье поясок и усмехнулась, глядя на себя. Увидев свою улыбку, старательно повторенную зеркалом, она моментально нахмурилась и даже разгладила пальцами кожу, чтобы от улыбки не осталось и следа.
Перед Духонем она появилась с загадочным лицом и молчаливая.
— Узнаешь? Это я послал тебе в лагере записку. Привет! Как дела?
— Привет! — ответила Блажена все еще сдержанно. — Тебе что-нибудь нужно?
— Как сказать, — тихо зазвонил Духонь звонком велосипеда. — И да и нет, как посмотреть. Все зависит от тебя.
— От меня?
— Во-первых, я пришел взглянуть на тебя. Тогда ты так внезапно уехала из лагеря и ничего не ответила мне…
— А кто тебе сказал, что я хотела тебе ответить? — усмехнулась Блажена.
— Прочитал твои мысли. Я ясновидец, — произнес Духонь голосом их учителя математики.
— Успеха не ждите, — ответила Блажена тем же тоном.
— А во-вторых, я хотел предложить тебе поучиться кататься на велосипеде.
Эти слова были хорошо взвешены и ловко рассчитаны.
Блажене не удалось скрыть радость. Ездить на велосипеде! Это же мечта!
Мчаться вперед в брюках, с развевающимися волосами, с горящим лицом, мчаться против ветра, нестись наперегонки с автомобилями вокруг площади, а может, и дальше, пронестись через Подбабу к Сельции, как ездит Матоушова со своим братом.
Блажена с большим усилием скрывала радость, стараясь хотя бы не сразу согласиться.
— Да я иду за картошкой…
— Сходишь потом.
— Потом закроют магазин.
У Духоня на все был готов ответ. Он взглянул на часы, плотно охватывавшие его запястье (разумеется, ему нужно похвастаться всеми своими сокровищами, посмеялась в душе Блажена), и заметил:
— До каких там открыто?
— До восьми. Этот магазин закроется в восемь.
— Теперь половина; двадцать минут на первый раз хватит тебе по горло.
— Ладно, если ты так думаешь. Но куда же деть сумку?
— Привяжем ее к седлу, — решительно заявил Духонь и с подчеркнутой готовностью вытащил из кармана моток веревки.
В Дейвицах немало таких улиц, где можно не опасаться на кого-нибудь наехать. Оказалось, что Духонь уже заранее выбрал удобную улицу. Здесь не было даже зевак и стояла такая безмятежная тишина, что Блажена не чувствовала себя стесненной…
Блажена очень решительно взгромоздилась на велосипед, считая, что езда на нем так же легка, как и кажется, и что она сразу поедет так же лихо, как ученик пекаря с корзинкой булок.
— Держись за мое плечо, — посоветовал Духонь.
Но Блажена никак не могла оторвать руки от руля. Ей казалось, что все под ней куда-то едет, — не только велосипед, но и вся улица, да и весь земной шар. Она взвизгнула, но Духонь, сделав богатырский прыжок, ухватился за велосипедную раму и рысью побежал рядом с велосипедом.
Удивительное чувство овладело Блаженой, какое-то исступление! Эта гонка на велосипеде была верхом наслаждения. Но вот улица кончилась, Духонь остановился, а с ним и велосипед — и как он это сделал, удивилась Блажена — и сказал:
— Вот так. А теперь попробуй крутить педали.
Только теперь Блажена поняла, что все это время она крепко нажимала на педали, но не крутила их. Это было не очень приятное открытие. Значит, все ее «успехи» были лишь заслугой Духоня!
Ну подожди, приятель, грозилась в душе Блажена, недолго ты будешь воображать!
Она так увлеклась ездой, что вконец измученный Духонь едва переводил дыхание. Теперь они уже молча гоняли велосипед, платье Блажены билось по ветру, а ее волосы развевались.
Поднимая колени чуть ли не к самому подбородку, она старалась привыкнуть к мельканию плиток мостовой, к стремительному бегу окон, дверей, магазинов и необычайно резкому напору воздуха, который она преодолевала.
Время летело с быстротой молнии. Блажена совершенно забыла и про картошку, которую нужно было купить, и про отца…
Забыла она даже о Духоне. В этом мире для нее существовал лишь один велосипед. Узкое лицо Духоня с черными глазами и прямыми бровями стало кирпично-красным, а рубашка, как пластырь, облепила худощавую фигуру, но он и виду не подавал, что устал.
— На сегодня хватит, — сказал он, подражая голосу учителя математики. — Продолжение следует.
Только тут Блажена вернулась из заколдованного мира на землю, в трезвую действительность, и молча подчинилась.
— Бегу за картошкой, привет! — Она быстро отвязала сумку от седла и понеслась в магазин.
Духонь остановил ее:
— Подожди, у меня есть для тебя послание из лагеря.
Он вынул из сумки, прикрепленной к велосипеду, письмо и подал его Блажене.
«Пишет тебе будущий четвертый класс РРЖ. Будем через два дня».
Надо было поблагодарить Духоня, и Блажена подала ему руку.
Теперь бежать не было смысла, и Блажена медленно направилась к магазину.
Вначале она хотела сразу, прямо на улице, разорвать конверт и прочитать письмо, но потом раздумала и ускорила шаг. Подойдя к магазину, она увидела, что он уже закрыт.
Духонь, шедший рядом с Блаженой, как ни в чем не бывало спросил:
— Когда ты завтра пойдешь за картошкой? Я бы мог тебе помочь ее нести.
В ответ на это Блажена откровенно рассмеялась. Смеялась она до самого дома, но уже нарочно, лишь бы не продолжать этот разговор с Духонем.
Смеясь, она исчезла в подъезде.
Блажена нагнала женщину, которая несла большой ящик с углем, отдыхая на каждой третьей ступеньке. Это была Тонечка.
— Раз ходите сами за углем, то насыпайте половину ящика, — сказала ей Блажена, повторяя отцовские слова. Но тут, вспомнив, что не поздоровалась, она бросила коротко: — Добрый день!
Тонечка остановилась и глянула на Блажену со спокойной улыбкой.
Почти на голову ниже долговязой Блажены, она была, однако, более статной, с полными плечами, с загрубевшими руками и широкими бедрами. Ее глаза были дымчато-серыми, но в них мелькали тихие искорки, как солнце за тучами. Кожа была такой нежной, что лицо румянилось от одной улыбки. Она стояла напротив Блажены, возбужденной от езды на велосипеде, и уже одним своим мирным и спокойным видом действовала успокаивающе.
Словно противясь возникающей симпатии к Тонечке, Блажена коротко бросила:
— Я помогу вам, идите!
— Спасибо, — сказала Тонечка, ухватившись за один край ящика. — В другой раз я тебе тоже помогу.
— Не беспокойтесь! Я не насыпаю ящик полным, папка не велит… Но если бы…
— Что тебе нужно? — с готовностью спросила Тонечка.
— Умеете вы мыть и натирать пол?
Тонечка рассмеялась приятным грудным смехом.
— Мне да не уметь! С самого детства я только это и делаю.
— А не могли бы и мне показать?
— Конечно, я тебе покажу, хоть сейчас!
— Сегодня уже поздно, а завтра утром, когда папа уедет, нельзя? Я вам постучу, хорошо?
— Можешь даже позвонить, — приветливо сказала Тонечка. — Хозяйка в спальне все равно не услышит.
Отец ходил по комнате. Постель он приготовил, но свет еще не зажег.
Блажена чувствовала себя немного виноватой, хотя и старалась оправдать себя: ведь папка спал, и я вовсе не была ему нужна! Поэтому она сразу замахала письмом:
— Девочки мне пишут! Передали письмо через Духоня.
Папка, ты разрешишь мне учиться у Духоня ездить на велосипеде?
Отец молча улыбнулся, потом сказал:
— Так вот почему ты исчезла! А этот Духонь кто?
— Парень из нашей школы. Пойдет теперь в шестой класс. Велосипед его собственный.
— А где вы ездили?
— Да по одной тихой улице. Не знаю, как называется.
— Ну ладно, каждый день по полчаса. Хватит? Как-нибудь я на тебя посмотрю, когда ты скажешь название улицы… Ну, так что пишут девочки?
— Сейчас прочитаю. Слушай! «Ветерок!» Так меня называли, потому что я лучше всех играла в волейбол. «Вспоминаем о тебе у лагерного костра и напоминаем, что „если взять с одной чашки весов какую-нибудь гирю, то нужно и со второй чашки снять столько же, чтобы равновесие не нарушилось, то есть из обеих частей уравнения нужно вычесть одно и то же число“. (Приписка: не думай, что кто-то из нас, сумасбродок, взял с собой арифметику. Цитата из известного всем справочника Новотной!) Не забудь также, что „электрический звонок в своей основе — это молоток Вагнера“. (Приписка: это по физике, разумеется, помнила Мадя! Но только это!) В заключение — заруби на носу пифагорову теорему. Девчонки спорят, что ты не помнишь! Ну вот! Похова подсказывает. Толкни ее под партой, чтобы впредь она говорила громче. Итак, Блажена Борова, квадрат гипотенузы равен чему?.. Равен сумме квадратов катетов. (Постскриптум: желаем тебе успехов в повторении!) Не сердись, Блаженка, нам нужно немного подурачиться. Ведь ты знаешь, нас ожидает, как говорит математик, серьезная учеба. До свидания, райский ветерок! Скоро ты увидишь нас, дотла сгоревших, во всей красе и великолепии». И подписи. Посмотри, папка, сколько их подписалось!
У Блажены запылало лицо, она опять всем существом была среди своих подружек и далеко, очень далеко от своего необитаемого острова!
9
Август кончился, а Блажена не заметила, как прошло время. Занимаясь любой работой, не требующей напряжения мысли, на своем необитаемом острове, Блажена постоянно о чем-нибудь размышляла, особенно когда лущила горох, терла сухари, чистила картошку или стирала чулки и носки. О времени она никогда не думала — ведь время для нее не имело границ, она бродила в нем, словно по цветущему лугу, где высокая трава лениво стелилась у нее под ногами.
К чему спешить? Времени хватит на все! Впереди была целая жизнь.
Все дни Блажены были заполнены лишь регулярными обязанностями и отмеренным отдыхом. Они походили на часы, стрелки которых ежедневно проходят один и тот же круг, но никогда не ускоряют свой ход ни на минуту, так как бегут в безграничную бесконечность и никто не в силах ни задержать, ни ускорить их бег.
Но в конце августа Блажена все же почувствовала, что время — реальная вещь.
Начало школьного года!
Этот день, стоящий в веренице других дней, был особенный. Он означал, что начинается новая жизнь в здании из стекла и сверкающих белизной стен; в прекрасном современном здании, словно составленном из металлических и зеркальных поверхностей, с несколькими дверями, щедро раскрывающими свои объятия, с физкультурным залом, столь великолепным, что одна лишь мысль о нем вызывает радостное биение сердца, с классными комнатами, в которых хозяйничает солнце.
Он означал, что в просторное здание ворвется несколько сотен гимназистов, девчонок и мальчишек, они принесут груду книг и начнут «грызть гранит науки», и каждый урок будет наполнен медом познания.
Блажена с грустью думала об этом счастливом дне, потому что она любила учиться и, хотя и была порой невнимательной, все же со страстным нетерпением впитывала знания, будто быстрыми взмахами переплывала бурную реку.
Но это было всего лишь прошлым, хотя и недалеким. Тогда Блажена чувствовала себя как рыба в воде до тех пор, когда все изменилось; она должна вести хозяйство, заботиться об отце, и другого выхода нет…
Блажена смирилась со своей жизнью на необитаемом острове. И, останься Блажена и вправду одна, как Робинзон на пустынном острове, она бы вспоминала о начале школьного года, как о чем-то туманном, далеком, ее не касающемся.
Но Блажене приходилось выбираться из своего придуманного убежища и из созданной ею раковины и видеть то, что уже не являлось игрой.
Особенно она почувствовала это, встретив Новотную и Похову. Щуплая Похова сгибалась под грузом учебников, а первая ученица Новотная несла лишь две тоненькие тетрадки. Ей и этого достаточно!
Блажена вела себя так, словно в том, что она идет за покупками, в то время как они идут в школу, не было ничего необычного. Разговаривала она с ними весьма холодно. А дома разревелась, как маленькая.
Немного погодя, успокоившись, она подняла голову, и в глаза ей бросилась сверкающая чистота пола. Да, Тонечка умеет мыть пол! И делает это обдуманно, словно пишет сочинение. А сколько добрых советов она надавала! Подсказывать она умеет.
«Сложи в несколько раз мешок или старый коврик и подложи под колени, а не то опять сдерешь всю кожу. Воду в лохани меняй почаще. Окунешь тряпку раза два, и вода уже грязная. Как следует три пол, все щербинки, затем окати чистой водой, и досуха вытри тряпкой. И пол заблестит, как зеркало».
Блажена, сидя на стуле, болтала ногами, потом решила помочь Тонечке, но тряпок для двоих не хватило. И Блажена меняла воду в лохани.
Тонечка выжимала тряпку так старательно, что даже сама вся выгибалась и при этом рассуждала:
— Тереть пол скребком одно удовольствие. Мне девчонкой приходилось его мыть щеткой и песком, без всякого мыла, а ведь все должно было блестеть, как стол. Моя хозяйка до денег была жадна, как черт, все у нее было по старинке. Где там и взяться у нее рисовой щетке!
— Но ведь и у нас рис не растет, — блеснула своими познаниями Блажена.
— А где же, скажи-ка?
— В Китае. А в Европе только в одном месте, и то в Италии, в долине По. Река По несет с Альп плодородный лёсс. И поэтому там везде зелень — и на полях, и даже в скалистых расселинах. На деревьях и кустах густая листва, под водой изумрудный молодой рис, над водой ранние овощи, от ствола к стволу тянутся виноградные лозы и вьются кудрявые кроны миндаля и шелковицы.
Тонечка слушала затаив дыхание, даже отложила тряпку и, стоя на коленях, не сводила глаз с Блажены.
— Ты там была?
— Нет, но мы проходили на уроках Европу, и Италию тоже.
— В школе? И все это вам рассказывают? Я ходила пять лет в начальную школу. Перед чистописанием мы делали на доске линии. Бралась веревка, мазали ее мелом, мы протягивали веревку вдоль доски, учитель дергал ее — и линия была готова. А мы еще за эту веревку дрались. Где там, в Праге другие школы!
С полом, с одной из голов домашней гидры, было покончено, и Блажена невольно начала испытывать к Тонечке все большее расположение.
— А если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся, звони, — сказала на прощанье Тонечка.
И Блажене захотелось, чтобы Тонечка всегда была рядом со своими советами.
Однако Блажена не спешила с ней увидеться вновь, потому что она не желала пускать на свой необитаемый остров чужих.
Но однажды Блажена чуть было не позвала Тонечку. В душе она горячо к ней взывала. Как-то утром примчался к ним пан Гозноурек с двумя выпотрошенными карпами. Он был на ночной ловле рыбы в Индржиховом Градце, там с пассажиром смотрел на вылов рыбы в пруде и купил две рыбины. Пусть Блажена сварит рыбу к обеду.
Приземистый шофер быстренько снял пиджак и стал чистить рыбу, да так, что серебряные чешуйки летели к потолку, сверкая, словно монетки, потом вынул икру, разрезал на куски и сказал:
— Свари из нее уху, — и ушел, оставив Блажену в замешательстве.
И тут Блажену спасла «Повариха». Написала ее не Сандова, а Санднерова, но это не имело значения, книга уже не раз оказывала Блажене хорошую службу. Вот и на этот раз она нашла раздел «Рыба», а в нем — «Карп в черном соусе», и через минуту рыба уже варилась вместе с зеленью, луком, сушеными сливами, орехами и изюмом. Варила она, варила — и доварила: рыбные кости смешались с размякшими сливами и изюмом — короче, Блажа опять все испортила! Не обратила внимание, что рыба кладется незадолго до конца варки, уже в готовый соус.
В обед она с покаянным видом во всем призналась, — она твердо знала, что чистосердечное признание смягчает любой проступок. И в этот вечер Духонь напрасно названивал под окном, застыв у своего велосипеда. Блажена так и не показалась: она решила наказать себя. Она вновь отправилась на свой необитаемый остров и долго размышляла, накрывшись верблюжьим одеялом: мол, вот и ей, как Робинзону, причиняют страдания собственные сумасбродства.
Правда, жизнь у нее изменилась не из-за ее сумасбродства — в этом Блажена не виновата.
Горести юности, никому не известные! Горести, ни с кем не разделенные!
Горести, которые исчезают в веренице лет, как камень, упавший в воду, оставляя только круги на поверхности. Но воспоминания об этих горестях юности пронизывают существо человека до самой смерти.
И вот снова Блажена одна, на своем необитаемом острове. Теперь ее не застанут врасплох. Дверная цепочка крепко держит дверь. И Блажена, как Робинзон, совершенно отрезана от остального мира, никто к ней не может проникнуть.
Теперь она спокойно разложит свои сокровища! Палку, на которой она делала зарубки. Смотрите-ка, ей говорят, что завтра воскресенье. На необитаемом острове не нужно считать дни, и она не будет знать, скажем, когда наступит среда, этот противный день недели. У Блажены были дни любимые и нелюбимые. Нелюбимым был понедельник, день ни туда ни сюда. Суббота была любимым днем и, разумеется, воскресенье со всеми его радостями. Но теперь для нее, Робинзонки, день проходит за днем, вереница безымянных дней, она отсчитывает их лишь зарубками на палке.
Рядом с палкой Блажена положила другое сокровище — мешочек с зерном. Она сохранила зерно во время кораблекрушения и в период дождей посеет его, чтобы потом печь хлеб. Она посеет зерно в ящиках за окном. Вот будет здорово, если взойдет ячмень! В домашних припасах Блажена нашла конопляное семя, очевидно сохранившееся от чижа, который был у них когда-то. И на корабле зерном кормили птицу.
Сейчас она, пожалуй, измерит ограду: двадцать четыре ярда, ни больше ни меньше!
А потом отправится на рыбную ловлю. Она ловит рыбу всего лишь на пеньковую веревку, и смотрите-ка, на конце веревки бьется молодой дельфин.
А теперь пора привести в порядок все оружие. Во-первых, ружье для охоты на диких уток — пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это только кочерга.
Оба пистолета она кладет у изголовья, рядом с ними — пороховницу.
Счастье мое, что я сохранила оружие! Что бы я без него делала? Только порох нужно держать сухим.
И Робинзонка быстро нагнулась, желая убедиться, сухо ли в ее палатке.
Главное — нож сбоку за поясом. Нож с коротким и широким лезвием в ножнах — этот нож Робинзон нашел в обломках корабля, начистил до блеска и наточил. Блажена прикрепила его к кожаному поясу и носила и днем и ночью. Поясом она стягивала брюки, а полосатая майка отлично подходила моряку, хотя Блажена была лишь Робинзонкой.
Она сидела и раздумывала, что ей сегодня делать: ловить коз, стрелять диких уток или отправляться по неизвестным следам на недружелюбный мыс острова, усыпанный человечьими костями.
Привычным движением Робинзонка убедилась, что нож на своем месте, за поясом, а ружье за плечом; для большей уверенности она взяла еще пистолет и отправилась в обход острова Отчаяния.
Она осторожно осматривала все углы, искала под кроватью и тахтой — нигде никакого следа. Но вдруг за шторой — нет, конечно, за густым кустарником — мелькнули какие-то тени. Оружие наготове.
Быстро в укрытие! А что, если их стрелы отравлены? Робинзонка прячется за стол, сгибается в три погибели — так они ее не заметят! За все долгое время ее пребывания на острове кустарник стал прямо непроходимым, и только она одна знает места, по которым можно подползти к ее крепости.
Лицо у Блажены бледнеет, зубы невольно начинают выбивать дробь. Робинзонку охватывает настоящий страх. Ее фантазия вдруг стала реальностью. Наконец, набравшись решимости, она внезапно ринулась вперед, молниеносно, как стрела. С криком бросается на штору, спускает курок у пистолета, одной рукой сдергивает ружье с плеча, а другой вытаскивает блестящий нож…
И тут она слышит какой-то шум за спиной. Враг напал сзади! Кто? Кто? Двери поддаются, стены ее крепости дрожат под напором врага. Но напрасно враг старается. Стены шатаются, но стоят.
Робинзонка прижимается к стене комнаты и под ее защитой тихо крадется к дверям и только тут пронзительно кричит:
— Друг или враг? Пароль!
За дверями раздается добродушный смех:
— Это я, Блаженка. Сними цепочку.
— «Я, я»!.. Без пароля в крепость никто не попадет!
— Кажется, я его забыл. Подожди, я сейчас вспомню. Губернатор?
— Правильно, друг губернатор! Сейчас открою.
И раскрасневшаяся Блажена застыла в дверях, как часовой. Разумеется, отец в детстве читал «Робинзона», но не очень-то помнил об удивительных приключениях Робинзона Крузо, моряка из Йорка. О его жизни он имел самое общее представление. Отец не возражал, чтобы Блажена развлекалась, играя в Робинзонку; пусть делает, что ей нравится, она, бедняга, почти все время одна. Поэтому он разрешил ей и учиться ездить на велосипеде с Духонем и даже иногда заезжал на своей «шкоде» посмотреть на ее успехи.
До недавней поры езда на велосипеде Блажене нравилась, ведь после нескольких дней учения она познала всю прелесть самостоятельной езды. Духонь отпускал ее теперь кататься одну, правда, указывал на ошибки и хвалил за успехи.
Но однажды Блажена сказала себе: наверно, отец не сможет купить ей велосипед и все ее умение ни к чему. И тут бурный интерес Блажены к велосипеду погас, а Духонь никак не мог понять, почему Блажена так внезапно охладела. Но у него теперь почти не было свободного времени — начались занятия в школе.
Ну, а как же приятельницы Блажены? Если б отец знал, что их-то как раз Блажена избегает. Ведь ей больно смотреть, как утром спешат все в школу, куда она пойти не может, больно слушать их разговоры, больно видеть близкий и все же невероятно далекий силуэт прекрасного современного здания гимназии в Дейвицах — белоснежное строение, словно попавшее сюда с морского побережья, этот улей, набитый сотнями учениц. Если б папка обо всем знал…
И Блажена сидит дома в одиночестве. Против ее Робинзона отец не возражал, и ему этот стойкий и мужественный человек был симпатичен. Он охотно переживал вместе с дочерью все радости и горести Робинзона.
Вот и сегодня отец включился в ее игру, изображая корабельного попугая.
— Робинзон Крузо, что ты сегодня поймал?
— Я поймала черепаху, а у нее оказалось целых шестьдесят яиц. Мясо у нее отличное, я его съела, а тебе сделаю яичницу.
— Но яйца ты отведаешь со мной, раз их шестьдесят?
— Нет, папка, я потом. Ешь! Словно ты на пиршестве дикарей, а я тебя захвачу врасплох. Ешь, как будто ничего не подозреваешь. Сидишь у костра и ешь жареное мясо. А теперь ты пляшешь вокруг костра. А я смотрю в подзорную трубу. И что же я вижу? Дикари выводят из лодки двух связанных пленных. И ведут их, чтоб убить! Один пленный падает. Они добивают его деревянным мечом. Второй тем временем оглядывается по сторонам. Оглядывайся, папка! Ты же видишь, что людоеды за тобой не следят. И ты можешь бежать. Беги!
Отец кладет ложку.
— Куда?
— К заливу! Беги, беги, вот-вот будешь у берега… А теперь в воду! Плыви, или они тебя догонят! Раз, два, три! Еще немного, и ты будешь в безопасности. Быстрей, быстрей ко мне!.. Вот так!
Отец бежал на месте, словно скрываясь от погони, но наконец достиг прибежища Робинзона.
— Я спасен? — спросил он с явным опасением.
— Что ты! У тебя за спиной два преследователя. Один уже натягивает лук, целясь в меня, но я буду быстрей: бух-бах, — и его нет и в помине. Ты пугаешься (отец делает вид, что дрожит от страха), затем удивляешься (отец всплескивает руками) и направляешься к упавшему врагу — к шторе, папка, — отрубаешь ему голову, приносишь ее мне и кладешь к ногам вместе с деревянным мечом.
Отец играл, как завзятый актер, и Блажена не скупилась на похвалы. Сама она, играя, переживала все, как наяву, и отец старался играть так же вдохновенно, как она.
И все же между ними была разница. Блажка, играя, совершенно забывала о реальности. В эти минуты она действительно была Робинзонкой, действительно воевала с дикарями и действительно их боялась. Когда отец постучал в дверь, Блажена в смятении приняла реальность за вымысел, и ее сердце испуганно забилось где-то прямо в горле. Блажена и раньше боялась темноты и всяких чудес, а Мадя этот страх в ней поддерживала. Вот и теперь штора пришла в движение, и Блажена уже представляла, что за ней скрываются дикари.
Но сегодня в игре принимал участие отец, и Блажена, по привычке, наблюдала за ним. Она выросла среди взрослых и с детства привыкла незаметно присматриваться к ним.
И тут она вдруг заметила, что отец лишь делает вид, что участвует в игре, в то время как она полностью живет ею. И это сразу сделало все ее страхи смешными. Страху не место там, где есть хоть толика смеха. Все страхи Блажены внезапно улетучились.
Блаже стало легко как никогда, и ее охватило чувство благодарности к ее освободителю — отцу.
С сегодняшнего дня не только Робинзонка станет хладнокровной и бесстрашной, но и Блажена будет мужественно оставаться дома одна, не боясь темноты, и никогда ее больше не испугают самые невероятные вымыслы Мади.
И, когда отец принес Блаже вместо отрубленной головы людоеда кастрюлю, положив к ее ногам эту добычу, Блажена повисла у него на шее и закричала:
— Папка, ты просто чудо! Скромный титул губернатора тебе уже не подходит. Я делаю тебя мудрым старцем, и с сегодняшнего дня тебя зовут Овокаки!
— Спасибо тебе, милая Робинзонка! Я хочу рассказать тебе, что ожидает нас завтра.
Блажена, охваченная буйным весельем и ликованием, повернулась к отцу.
— Завтра мы поедем за Петриком. Мы так давно его не видели, что я и не помню когда.
— У тебя завтра выходной, папка? — спросила Блажена.
Ей сразу захотелось покинуть свой необитаемый остров.
Правда, ее теперь совершенно не манила дорога в Крч, которая ее тогда так разочаровала.
В Доме младенца, где находился Петрик, конечно, красиво, но что из этого? Петрик совсем крохотный грудной младенец, похожий на личинку в своем конверте, ничего не видит, только спит и спит, и трогать его нельзя — что от него сейчас проку, только зря они ездят! Там им принесут Петрика, словно горошинку в стручке, покажут, и отправляйтесь восвояси!
Но отцу, наверно, очень хочется туда, он почти пропел:
— У меня выходной. Я сделаю себе выходной!
— Послушай, Овокаки, может, нам лучше куда-нибудь поехать за город?
— А что подумает о нас Петр? — возразил отец, невольно вспоминая прошлое посещение и то, как Блажена радовалась ему.
У Блажены вдруг язык сам собой повернулся, и как-то невольно сорвалось:
— Он получает там все, что ему нужно, а думать ему еще нечем!
Отец засмеялся, хотя и не очень радостно. Блажена сразу это почувствовала. Поэтому она «сменила пластинку», заведя другую — с уговорами и просьбами.
Но отцу были хорошо известны все ее «пластинки» — все они были как на ладони.
— Знаешь, папа, сделаем так: я поеду с тобой к Петрику, поеду охотно, даже с радостью, но и ты потом отправишься со мной в совсем маленькое путешествие.
— Ты права! — сказал отец. — У меня теперь два ребенка, и я должен делить себя между ними.
10
Блажена старательно избегала встреч со своими бывшими приятельницами по классу и особенно старалась не попадать на многолюдные, похожие на муравьиные, дорожки, ведущие к гимназии. И все же ее так и тянуло туда какой-то неясной силой.
И так случилось, что против воли она встретила неразлучную пару из своего класса: большую и маленькую Гавлиновых. Обе они не были даже отдаленными родственницами, а просто у них были одинаковые фамилии. Тем не менее они были крепко связаны самой горячей дружбой, в которой большая Гавлинова была покровительницей, а маленькая — ее подопечной. Большая Павла защищала маленькую Юлию от всех напастей, но зато в школе маленькая Гавлинова была духовной матерью большой Гавлиновой. Общеизвестной тайной было то, что маленькая Юлия делает для Павлы все задания, а соседки по парте прекрасно слышали, как она ей подсказывает, хотя делать это было довольно трудно: маленькая сидела перед большой и каждый раз ей приходилось оборачиваться.
Мадя Будилова, в которой не было ни капли доброты, несколько раз уже пыталась поссорить эту неразлучную пару, но ее старания потерпели полный крах. Обе Гавлиновы были настороже и, сталкиваясь с Мадей, становились единым целым и на все попытки Мади в один голос отвечали: «Нет!» И Маде приходилось отступать несолоно хлебавши. Но, и отступая, она готовила им новые козни.
Обе Гавлиновы отплачивали Маде за эти штучки по-своему: следили за ней и предупреждали тех, кому угрожали Мадины козни.
Встретив Блажену на Колоточи, они с радостью остановились, и, пока большая Гавлинова болтала со всеми проходящими мальчишками, маленькая подробно рассказала Блажене обо всех преподавателях четвертого класса: об их слабостях и достоинствах, об их методах и «коньках».
Наконец большая Гавлинова толкнула маленькую в бок, и обе они заговорщически посмотрели друг на друга.
— Да скажи ты ей, Юлинка, — сказала большая.
— Лучше ты, Павла, — скромно предложила маленькая Гавлинова. — Ведь ты это открыла.
Блажена немного удивилась. Ее живая фантазия уже рисовала все напасти, которые могли произойти и как-то оскорбить ее. Она не догадывалась, откуда на нее сможет свалиться эта неизвестная беда, и сразу насторожилась.
— Не знаю, должна ли я тебе говорить, — упиралась Павла. — Будилова, твоя подруга, во всяком случае так ведет себя…
Блажена ничего не ответила. Значит, Мадя! Хорошо! Ну, а что дальше?
— Ну и подруга! — съязвила Юлинка. — Ведет себя хуже недруга. Будь с ней осторожна, Блажена, — все еще скрытничала Павла. — Ну как, сказать ей, Юлинка?
— Ну почему бы нет? На Будилову нам наплевать, а Блажена нас никогда не обижала.
— Наоборот, — сказала Павла, — в прошлом году она мне помогала по сочинению.
Блажена чувствовала себя как на углях. В чем же дело? Скажет ли ей все наконец эта неразлучная парочка? Однако внешне она никак не проявляла своего нетерпения.
— А вдруг Блажена на нас рассердится? — лицемерно произнесла Юлинка.
— Почему рассердится? Ведь она тогда узнает всю правду о Духоне, — приоткрыла свою тайну Павла.
Тайна оказалась неожиданной. Блажена покраснела как рак, и обе Гавлиновы сразу решили, что разоблачили Блажену. Им было это по душе! Теперь они натравят Блажену на Будилову — ведь Будилка это заслужила! И Павла тут же принялась все выкладывать:
— Ты должна знать, Блаженка, Будилка ездит с Духонем на велосипеде!
Блажена яростно дергала травинку.
— Ну и пусть ездит на здоровье! Я уже два раза не ходила кататься.
— Она нахально утверждает, что ты не столько учишься, сколько тебе нравится ездить с Духонем и что ты просто сохнешь по нему.
Блажена чуть не заревела от злости, но сдержалась. Противно — девчонки уже прознали о ее дружбе с Ярославом Духонем, да и сам Духонь, значит, говорит об этом с Мадей. Наверняка говорит! Даже не желая этого — ведь Мадя хитрая, все из него вытянет! И возможно, что они вместе смеются над ней.
Обе Гавлиновы наслаждались замешательством Блажены, и Павла добавила осторожно, словно касаясь раскаленной плиты:
— Впрочем, что тебе до Будиловой, ведь ты все равно не ходишь в школу!
Нет, этого Блажена уже не смогла снести! Она кинулась от них прочь, бросив сквозь зубы «до свидания» и оставив обеих Гавлиновых удивленных, но довольных тем, что они подложили мину под приятельские отношения Блажены и Мади.
Блажена мчалась домой с занозой в сердце — до чего же мир плохо устроен! Она вернулась на свой необитаемый остров, укрылась в крепости под верблюжьим одеялом и принялась нянчить козленка, который всюду за ней бегал, с тех пор как Робинзонка подстрелила его мать в стаде диких коз.
Мир злой и рождает лишь одно зло, и самое лучшее — удалиться от него.
Темнело, и мрачные мысли все больше и больше теснились в голове Блажены, собираясь словно тучи перед бурей. Даже папа ею недоволен, она чувствовала это. Наверно, ему казалось, что она мало любит брата. При их поездках в Крч она видела, как заботливо он расспрашивает там о малыше, с какой нежностью берет на руки конверт, из которого выглядывает маленькое личико, еще сморщенное, но уже переставшее быть красным. Личико, которое кривится, словно от невидимого ветерка, веки поднимаются и опускаются, глаза не видят, беззубый ротик причмокивает — вот и все!
В последний раз Блажена тоже взяла на руки брата, но тут же отдала сестре — не знала, что же с ним можно делать. Ради отца она тоже старалась быть с малышом нежной, разговаривала с ним тоненьким голоском, но потом не выдержала и засмеялась.
По-настоящему веселой она почувствовала себя лишь на Збраславском пляже, куда отец привез ее, выполняя свое обещание. Отец был неразговорчив, Блажена сразу заметила это. Снова, как и раньше, его голова была тяжела от дум.
Блажена вдоволь наплескалась и наплавалась. Она начала было соревноваться с другой молоденькой пловчихой, но победа оказалась не за ней — в последнее время она совсем не тренировалась. Впрочем, ведь и все изменилось к худшему, и мало было надежды, что когда-нибудь станет лучше. Гавлиновы были правы — ее учение кончилось! Трудно было ее ранить больнее, чем этой глупой фразой.
Но самое худшее — что она не могла ни с кем поделиться своими бедами. Отцу ей не хотелось рассказывать, ведь он мог ее и не понять. Или не придать ее рассказам значения. А может, даже и посмеяться! Казался же ему смешным Духонь! Отец называл его непородистым щенком, хотя Духонь был вполне симпатичным парнем. А как он старался учить Блажену!.. Впрочем, если теперь он ездит с Мадей…
Размышляя о своих горестях, Блажена вспомнила, что Робинзон в своем бедственном положении вел дневник. Так же поступит и она. Свое душевное состояние надо подвергнуть анализу. Тогда она освободится от грустных мыслей, которые давят на нее день ото дня сильнее. Она положит на чашу весов все хорошее и плохое в ее теперешней жизни. Робинзона это успокаивало. Может, успокоит и ее.
Порывшись в книгах на письменном столе, она нашла, что ей нужно: небольшую записную книжку. В ручке не осталось чернил, в пузырьке их было на донышке, одно воспоминание. Но на сегодня хватит, если она разведет их водой.
Первую страницу она оставила чистой, потому что подходящая надпись ей так и не пришла в голову. Как назвать: «Дневник», «Остров отчаяния» или «На необитаемом острове»? Ни одно название ей не нравилось.
Вторую страницу она разделила пополам. На левой стороне написала «Зло», на правой — «Добро».
Начала Блажена цитатой из «Робинзона», которая так и просилась сюда:
«Если нас огорчает зло, то мы должны не забывать и о добре, которым зло сопровождается, и о том, что могло быть еще хуже».
Так Блажена утешала себя, разочаровавшись в Маде. В который уже раз?
Минуту она сидела раздумывая, потом принялась писать. Она смотрела, как разбегаются буквы по странице, и тут ее вновь охватили самые разные чувства, приятные или недобрые, в зависимости от того, какую букву она собиралась писать. «Л» казалось ей чванным заморышем, на «О» ей хотелось плыть, как на надутом круге, а «Ф» в ее представлении походило на старого отвратительного бородача. Первое знакомство с буквами пробудило в ней в свое время даже какое-то ощущение музыки и вызвало новые образы.
Но тут она вдруг убедилась, что ее руки, погрубевшие от работы, не в силах писать так же красиво и плавно, как раньше, когда они были гладкими и нежными, с неполоманными ногтями. Тогда ей нравилось на них смотреть, а теперь ручка не слушалась, и ей приходилось с большим усилием выводить каждую букву.
Когда она закончила, то на второй страничке записной книжки появилось следующее:
ЗЛО
У меня умерла мама. Из рая детства я попала на остров кухни и уборки.
Прости-прощай школа, учительница чешского и все мои подруги.
У меня нет велосипеда, хотя я и научилась на нем ездить.
ДОБРО
Но у меня есть отец. Он обо мне заботится и даже развлекает.
Зато мне не приходится все время видеть Мадю Будилову и выслушивать ее насмешки. Пусть себе ездит на велосипеде, а у меня целый остров, и я царствую там, как хочу!
Я изгнала дикарей, и все страхи мои кончились.
Но тут Блажена остановилась. Сейчас ей нужно написать о брате. Зло это или добро? Конечно, иметь брата неплохо, будь он, скажем, такой, как у Матоушевой: ездит с ней на велосипеде за город и во всем ее верный товарищ. А о Петричке она не может сказать, какой он будет, хороший или плохой. И Блажа решительно написала посредине страницы: У меня есть брат, но только толку от него никакого. Книжку она положила в конверт, заклеила и спрятала в надежном месте. Она надеется, что отцу не придет в голову рыться в ее бельевом шкафу. Она все быстро там сровняла, чтобы не осталось никаких следов.
Отец, разумеется, и не думал разыскивать что-нибудь. Он пришел к ужину и нашел на столе только колбасу. Уже не в первый раз он безропотно съедал ее, но сегодня, кончив есть, наклонился к Блажене и сказал:
— А что, если я на завтра куплю шницели? Завтра воскресенье, и у нас будет праздничный ужин.
— Шницели! Ура! Я так их давно не ела! А ты думаешь… я сумею их сварить?
— Шницели жарятся, Блажена. Разве в твоей «Поварихе» о них ничего нет?
— Наверно, есть, но я ей, папка, не совсем доверяю. Помнишь, как вышло с рыбой? А шницели — штука сложная.
— Тогда, знаешь, пусть тебе их зажарит Тонечка. Я даже попросил ее, а ты посмотришь, как они готовятся.
— Мне идти к ее хозяевам? А если меня выгонят?
— Все улажено. Ты уйдешь раньше, чем они явятся к обеду. Или ты не хочешь научиться готовить что-нибудь приличное?
— Ну что ты, я мечтаю об этом! Все будет так, как ты хочешь, мудрый Овокаки! Я буду жарить шницели к ужину, а ты купишь к обеду пирог в булочной.
— Ах ты, хитрюга! Ладно, куплю. А что у нас будет на первое?
— Суп из цветной капусты. Это я умею, и он тебе нравится.
— Не забудешь купить капусту сегодня? В воскресенье ведь закрыто.
— Не забуду, но тогда мне надо бежать! — стукнула по лбу Блажена, быстро схватила кошелек… и через секунду пан Бор уже слышал только стук ее сандалий.
Торговля и вправду подходила к концу. Корзины с овощами зияли пустотой, лишь в некоторых на дне виднелись остатки зелени. Блажена обежала несколько лавок, прежде чем купила капусту. Кочаны были чудесные, крепкие, сметанно-белого цвета, похожие на застывшую пену, и такие заманчивые, что Блажена, повернув за угол, откусила кусочек.
Она не обращала внимания, смотрит на нее кто-нибудь или нет. Для нее улица еще не была зеркалом, как для тех шестнадцатилетних девушек, которые с радостью любуются своим отражением в витринах магазинов и, наконец, в глазах прохожих. Для Блажены все прохожие старше ее оставались вне поля зрения — ее интересовали только собаки и ее сверстники.
Взгляд ее внезапно остановился на парнишке из мясной лавки, которого хозяин послал с монетой к шарманщику. Однорукий старик шарманщик поставил свою шарманку на складной стул и принялся играть. Увидев монету, он опустил ручку шарманки, протянул руку, и шарманка взвизгнула.
Парнишка из лавки вытащил из-под фартука мясо, завернутое в бумагу, протянул его старику и сказал покровительственным тоном, словно он был взрослый, солидный человек, а старик — малый ребенок:
— Вот возьмите, но смотрите играйте хорошенько.
Как у него все это просто, подумала Блажена. А я всегда мучаюсь — подать нищему милостыню или нет? Когда не даю, мне потом стыдно, а дам, все равно как-то не по себе, я ведь знаю, что этим не поможешь. Ведь нищие не всегда люди плохие. Но до какого же отчаяния они дошли, если могут просить у прохожих!
Тот парень из мясной лавки над всем этим, вероятно, не раздумывает. Блажена внимательно, задумчиво смотрела, как старик крутит ручку шарманки и как от предвкушения будущего мясного яства у старика блестят глаза, окруженные паутиной старческих морщин.
Наконец Блажена оторвалась от этого зрелища и повернула на Колоточ. Ей вдруг захотелось поскакать на одной ноге, но дорогу загородили стайки нянек со своими колясками. В кругу смеющихся женщин стоял мальчуган с деревянным ружьем и, вставляя в него палку с гусиным пером, хвастался:
— Я уже научился…
Все смеялись над чванливым маленьким хвастунишкой, а одна из женщин подзадоривала его.
Мальчуган продолжал гримасничать, но вдруг, словно поняв, что над ним подсмеиваются, разревелся, и смешное представление кончилось.
Блажена усмехнулась и тряхнула головой. Ну и смешные же эти няньки! И тут, повернувшись, столкнулась нос к носу с Мадей. Черты Мадиного лица всегда заставляли звучать в душе Блажены какие-то струны симпатии. Но сейчас эти струны молчали, и улыбка, затаившаяся в уголках губ Блажены, мгновенно исчезла, словно ее стерли резинкой.
Мадя была в отличном настроении, это сразу бросилось в глаза. Она вовсю смеялась над заносчивым малышом, и лицо ее горело, но не от ветра или бега, а от внутреннего волнения, охватившего все ее существо, словно произошло какое-то приятное для нее событие или на славу удались подстроенные ею козни. Какая-то новость прямо распирала Мадю, и ей не терпелось все выложить Блажене.
Мадина совесть была нечиста в отношении всех ее подруг, и поэтому, по своей неизменной привычке, она вначале кинула на Блажену осторожный взгляд. И, не увидев явного недоброжелательства, бросила ей небрежно, словно они только вчера расстались:
— Привет! Куда направляешься?
— Да так, никуда, — ответила Блажена.
— Ну и потеха была вчера! Вся гимназия веселилась.
— Что случилось? — спросила Блажена, не подавая виду, что ей это интересно.
— Мы наговорили учителю, что у нас будет прививка и мы должны уйти с урока. Он удивился, что ему никто не сказал об этом, но отпустил нас. И так мы уходили одна за другой, пока класс не опустел, и он остался там один с Новотной.
— А Новотная с вами не пошла?
— Не пошла, но нас не выдала. Когда он ее спросил: «Ученица Новотная, почему вы не идете делать прививку?» — она ему в ответ: «Мама не разрешает». — «Тогда будем с вами повторять правила». Новотная так отбарабанила правила, что совсем заговорила учителя, и он даже не заметил, как прошел урок, а мы стали по одной возвращаться, и к географии класс опять был полон.
— Что же будет? Вам достанется!
— Думаешь, все раскроется? Да нет, никто не проболтается. Ты же знаешь наших! Впрочем, я никому бы не посоветовала..
— Разумеется, это твоих рук дело, — заметила Блажена, хотя в душе восхищалась проделкой.
— Еще бы! — горделиво воскликнула Мадя. — А хочешь, я у тебя на глазах отколю штучку получше?
— Не вздумай рассказывать мне сказку о черном попугае и серебряном гробе, я уже из этого выросла!
Мадя глаза вытаращила. Она давно забыла о своих россказнях, о том, что Блаже так глубоко запало в сердце.
— Какой попугай? Глупости! Поспорим, что я обниму вон того господина.
В нескольких шагах от них размеренно вышагивал человек преклонного возраста. Платье, усы, походка — само достоинство. Единственным намеком на человеческие слабости была откормленная такса, лениво ковылявшая рядом с ним; она злобно поглядывала на прохожих своими выразительными черными глазками.
Зато ее хозяин не замечал вокруг себя ничего, кроме своей дороги. Разумеется, он не заметил, что навстречу ему кинулась с раскрытыми объятиями откуда-то внезапно появившаяся девушка, и лишь тогда, когда она повисла у него на шее, а такса тревожно завизжала и затявкала, все его достоинство словно рукой сняло, и он, будто упав с трона в лужу, превратился в злого, брюзгливого грубияна.
Мадя закричала, не обращая внимания на его брань:
— Дядюшка, дорогой дядюшка, откуда ты взялся? Почему ты меня не поцелуешь? Вот обрадуется мама, когда тебя увидит! Она уже думала, что ты на нас сердишься!
Хозяин таксы отталкивал Мадю, пытаясь освободиться из ее крепких объятий, зло фыркал, кряхтел, угрожал, пока Мадя не притворилась плачущей. Но на господина это не подействовало. Он слишком хорошо знал, что у него нет никакой племянницы, к тому же такой невоспитанной, и разгневанный тем, что покой его нарушен, пригрозил Маде:
— А теперь убирайся, не то я позову полицейского! Прохожие в нерешительности останавливались. Все не знали, что и подумать: какая-то наглая девчонка нападает на достойного старика. Одни осуждали невоспитанность молодежи и всеобщий упадок нравов, другие ругали бесчувственных богатых родственников, которые не желают знаться с детьми своих обедневших друзей..
Тем временем Мадя потихоньку отступала, прикрыв глаза локтем, а спина у нее сотрясалась, словно от невидимых неудержимых рыданий. Блажена вначале смотрела на эту сцену, стоя поблизости, но, увидев, что Мадя разошлась вовсю, она отошла на безопасное расстояние. Затем прибавила шагу и побежала домой, растерянная и озадаченная.
Мадина проделка Блажену рассмешила — да и кто бы не посмеялся над глупым видом пожилого господина? Резкий переход хозяина таксы от чопорной серьезности к грубой брани был достаточно смешон, как всякая внезапная перемена, когда вдруг проявляется настоящая сущность человека. Мадя вытащила старика из его раковины!
Она сыграла с этим стариком хорошенькую шутку. Иначе и не скажешь!
Мадя, Блажа и все их сверстницы и сверстники строго разделяли свой мир и, как они говорили, мир «стариков». «Старики» — это значило всяческие препятствия, непонимание и стремление подчинить молодежь.
И все они вмешиваются в наши дела! Если молодежь собиралась, так первым вопросом было: что ты сказала «старикам»? А если и говорилось «отец меня пустил» или «мама разрешила», то этим лишь подчеркивалось, что «старики» — совсем другое поколение, не способное понять их действительные интересы, а только думающие о том, что оно считает важным. Скажем, ты надел теплую одежду — вечером будет прохладно! Или: купи хлеба, а о мороженом и не думай! Ты вспотел — смотри не пей холодной воды!
А для молодых главное — не заботиться о всяких там пальто с утра, если впереди вечер, выклянчить мелочь как раз на запретное мороженое или живым или мертвым добежать до определенной цели и там, запыхавшись, жадно напиться!
Дома все эти Ирки и Яны, Милены и Веры были любящими детишками, но, находясь с друзьями, они становились боевым содружеством, готовым в едином строю сражаться с целым миром.
Блажена хорошо понимала, что никто из класса никогда не выдаст Мадю, ведь иначе он нарушит закон взаимной поддержки, неизменно царствующий среди них, и она, Блажена, тоже ничего не скажет о Маде, чтобы не быть изгнанной из этого сплоченного общества подростков.
И все же Мадина шутка ей чем-то не понравилась. Разумеется, подобные вещи Блажена скрывала от отца, и вообще она далеко не все рассказывала ему, но расстояние между ними было не столь большим, как, скажем, между родителями и Зоркой Ледковой или обеими Матоушевыми, которые давно уже считают себя самостоятельными. Матоушевы вообще дома не спрашивали, что можно и чего нельзя. «Старики» побаивались младших, но, беззаветно любя их, все терпели и лишь изредка ворчали. Но их родители не шли ни в какое сравнение с отцом Блажены! Отец, с тех пор как она его помнит, всегда был ее первым другом и, даже наказывая, долго на нее не сердился. Разумеется, о некоторых вещах Блажена говорила с ним так, чтобы это не шло вразрез с его образом мыслей. Она бессознательно старалась сохранить с отцом отношения доверия и откровенности. Она всегда улавливала его сочувствие, хотя он старался скрыть его. Зато мать была неизменно требовательна. Блажена уважала отца и находила с ним общий язык гораздо чаще, чем другие дети.
А отец и не предполагал, как хорошо Блажена его понимала!
Вот и сейчас Овокаки сидит себе дома и покуривает.
Блажена поднимается по лестнице и как наяву видит прошлогоднюю сцену. Она позвала в гости Новотную. Они болтали, развлекались, и вдруг Блажена вспомнила, что не сделала задания по арифметике. Новотная с готовностью согласилась ей помочь, они присели к письменному столу и принялись вместе, вслух, разбирать примеры. Новотная была в математике сильнее и с самодовольным видом подгоняла Блажену.
Мама на них не обращала внимания. Ей было достаточно, что они у нее на глазах.
Но отец, заметив, что Новотная делает задание за Блажену, вскочил со стула, словно его что-то кольнуло, принялся взад и вперед ходить по комнате. Наконец повернувшись к ним спиной, он застыл у окна, и Блажена ясно почувствовала его недовольство. Стоя у окна, отец не смотрел на улицу, а просто отвернулся, чтобы не видеть ее.
Ей это было неприятно: ведь отец всегда был внимателен и приветлив с гостями. И, разумеется, ни за что на свете он не сказал бы Новотной, чтобы она не помогала Блажене, что лишь тот человек стоит чего-то, который сам, своими силами преодолевает трудности.
Но, с другой стороны, он не мог оставаться спокойным и мириться с тем, что он считал неправильным.
Блажена сразу поняла его и отодвинула тетрадь, словно ей надоело заниматься.
«Пойдем лучше сыграем в шахматы, — сказала она Новотной, — я доделаю задание вечером, мне уже все понятно».
Правда, она не без труда уговорила самолюбивую первую ученицу оставить уроки. Новотная любила хвастаться своими знаниями и охотно демонстрировала перед всеми свои таланты. Блажене пришлось растолковать ей, что игра с перестановкой фигурок занимала еще римских воинов под Карфагеном (об этом Блажена совсем недавно где-то прочитала) и что они, осаждая упрямый город, проводили за этой игрой немало времени…
Сейчас отец, такой же милый и искренний, уже поджидал ее. Он только удивился, с какой радостью Блажена прибежала домой и целый вечер охотно занималась составлением меню на следующую неделю.
11
В воскресенье утром Тонечка уже поджидала Блажену, а когда та появилась в дверях, удивилась ее радостной готовности работать.
Теперь Блажена занималась домашними делами проворно и ловко. Ее тонкие пальцы, верткие, словно комары, легко касались всех предметов.
Прошло время, пока Тонечка наконец поняла, как нужно обращаться с этой изменившейся Блаженой. Невольно в ее обращении с Блаженой появилось что-то материнское — и в этом оказался секрет ее успеха.
В одну тарелку Тонечка насыпала муки, в другую разбила яйца. На третью тарелку она просеяла через сито натертую булку.
— Будь внимательна, Блажена: смотри, чтобы в белок не попала скорлупа, а не то можно получить воспаление слепой кишки.
Тонечка слегка взбила яйца, добавила немного молока и все это опять взбила до желтоватой пенистой массы.
На сковородку она налила масла, добавила сала, затем поставила ее на маленький огонь.
— А теперь, все подготовив, мы сделаем отбивные.
На столе лежала целая гора розового, как промокашка, мяса, очищенного от всех жил и пленок. Тонечка взяла доску и деревянную скалку и стала отбивать мясо кусок за куском.
— Но не бей мясо слишком сильно, а то оно не будет сочным.
Блажена слушала постукивание скалки, и в памяти у нее всплыли тихие воскресные утра с их особым настроением, когда она готовила уроки в комнате, а мама в кухне отбивала мясо… Да, это мимолетное воспоминание вдруг вызвало отчетливую картину чудесного воскресенья. Постукивание скалки на кухне всегда было признаком праздничного дня. Во всем доме звучал этот деревянный гонг в честь воскресенья и отбивных.
— Посмотри, Блаженка, — сказала Тонечка, оторвав Блажену от воспоминаний, — теперь все отбивные хорошенько посолишь, обваляешь в муке с яйцом и, наконец, в сухарях. Ну, а теперь попробуй сделай сама.
Блажена попробовала было управляться вилкой, да из этого ничего не получилось, и принялась за дело руками. Но смесь из муки, яиц и сухарей прилипала к пальцам, и вскоре у нее все руки покрылись белыми «нашлепками», словно она играла в снежки. Панцирь из муки с яйцом то и дело распадался и крошился.
— Не беда, — успокаивала ее Тонечка. — Научишься! Разик-другой, и все пойдет хорошо. Только помни, в каком порядке что делать. Вот видишь, масло уже шипит, бросим в него немного сухарей; если масло затрещит, значит, отбивные пора уже класть на сковородку. И теперь смотри в оба глаза — не сожги отбивные, осторожно переверни их, не разрывая поджаренной корочки.
Отбивные зашипели, от них шел дразнящий аромат.
Блаженка вертелась около плиты, и лицо ее так и пылало от усердия и жара, идущего от огня, плиты и горячего масла.
Она получила от Тонечки маленький шницель на пробу и вечером с увлечением готовила отцу его любимую еду.
Разумеется, Блаженины шницели совершенно не походили на румяные, словно дышащие, шницели Тонечки, но есть их все же было можно. Отец ел и похваливал, и Блажена была совершенно счастлива от этой похвалы.
В общении с Тонечкой Блажена приобрела ценные познания в области кулинарии. «Я не сумею!» — говорила обычно она своей учительнице, робко наблюдая и с испугом думая, сколько разных советов нужно запомнить. Взять хотя бы этот вредный огонь! Из помощника он легко становится врагом.
«Не беда, — отвечала учительница, — просто немного думай обо всем».
Думать! А она-то считала, что стряпать — совершенно бездумное занятие.
Думать о том, чтобы дома были все вещи, необходимые при варке обеда, и то целая наука. Сколько она сделала лишних шагов, сколько ступенек пробежала, пока научилась всему этому! То она забывала о соли, в другой раз — о муке, а в третий — о лапше. И невольно ей вспоминалось, как мама иногда говорила о самой себе: «Дурная голова ногам покоя не дает», когда ей приходилось перед самым обедом посылать Блаженку за зеленью. И теперь Блажена нередко перед обедом бегала в магазин раза по три, и отец удивлялся, почему Блажена такая разгоряченная и запыхавшаяся.
После «урока шницелей» Блажена упорно овладевала искусством кулинарии: бедняга отец не должен есть все время одну картошку. И на столе стали появляться разнообразные удивительные блюда, а Блажена теперь спрашивала:
— Ну-ка, угадай, что это.
Кнедлики у Блажены претерпели несколько ступеней развития. И наконец они стали настоящими кнедликами, а не какими-то жалкими головастиками!
Вечера становились короче, а под деревьями было уже больше листьев, чем на самих деревьях. Листва под деревьями лежала, словно снятое и небрежно брошенное платье. На Колоточи октябрьский вечер танцевал в паре с дождливым туманом. Холодными утрами в домах и на улицах первыми просыпались лампочки, разрывая бесконечную тьму ночей.
Наступил день поминовения усопших со свечами и воспоминаниями. Воздух был пронизан серебряными лучами солнца, нежно мерцавшими сквозь дрожащую туманную мглу. Отец повез Блажену на кладбище.
Отец и Блажена купили белые и желтые лилии, горько пахнущие печалью. Они не плакали. Терзающая боль сменилась тихой грустью. Сейчас она слилась с тихой печалью других посетителей кладбища, идущих густым потоком.
Блажена застыла перед урной с материнским прахом, и ей казалось, что и урна, и ворота крематория, и все вокруг не вызывают в ее душе никакого отзвука. Нет, здесь не может быть мамы, здесь лишь холодное и неприятное чужое место. Мама во мне, думала Блажена, я чувствую ее в своем сердце, во всем своем существе. Она со мной разговаривает, и я невольно повторяю все то, что она говорила. Не будь ее, я порой не знала бы, что и как делать.
— Папка, — не выдержала на обратном пути Блажена, — не кажется ли тебе, что мама вовсе не лежит там, а осталась с нами здесь?
Отец молча смотрел прямо перед собой, и руки его лежали на руле. Он только глубоко вздохнул и кивнул головой.
Блажена смотрела на пробегающие мимо улицы, на мелькающие разноцветные вывески закрытых магазинов, на туманно-розовые пятна лиц прохожих, которых она не успевала даже разглядеть, с такой скоростью ехал отец.
В районе кладбища их встречали целые холмы цветов и венков. Потом венки встречались лишь в окнах проезжающих трамваев, а потом в руках у некоторых прохожих, идущих к кладбищу, виднелись лишь букетики цветов.
И наконец пошли улицы без всяких цветов, улицы высоких домов, равнодушные к памяти навеки уснувших; замелькали площади с башнями, уличные перекрестки с регулировщиками, с часами. Крыши, мерцающие инеем в осеннем воздухе, небо, низко повисшее над городом под тяжестью туч и облаков, и сам воздух, сырой, словно пропитанный запахом только что вскопанной земли, — все в этот ранний полдень было торжественно притихшим.
Мотор ревел, отец сигналил прохожим, подъем становился все выше и круче, и родной для Блажены квартал Праги был уже близко; вот пошли Хотковы сады, лиственные своды над шоссе у Летоградека, гладкий как каток Пороховой мост, сейчас машина продерется сквозь паровозные дымки привокзальной площади, и мы уже на Колоточе, дома!
Отец заехал на стоянку, и Блажена, задержавшись на минутку у пана Гавлина, пожав руку пану Индре — Индржишеку, ответив со смехом на подтрунивания пана Угера — пива она не пьет, совсем-совсем, из трубки отца курить не может, ведь тот не вынимает ее изо рта, — отправилась домой.
Площадь была неуютна со своей ржавой ноябрьской листвой, только псы, как и летом, сновали по ней, хотя без прежней охоты к играм. Теперь они суетливо кружили около своих хозяев, зная, что дома их ожидает теплая подстилка.
Блажена задержалась у рекламных фотографий дейвицких кинотеатров, окинув критическим взглядом прически кинозвезд и бездушные улыбки киногероев. Этих красавчиков могло бы и не быть на свете!
Идя вприпрыжку по краю тротуара, Блажена обогнала парня, ведущего велосипед. Он не отставал и, хотя Блажена пошла быстрее, пытался идти вровень с нею. Что ей оставалось делать, как не кинуть презрительный взгляд на этого Ромео в велосипедных брюках, и смотрите-ка, Ромео заговорил голосом Духоня:
— Привет, Блажена! Куда ты мчишься, ничего не видя? Эх ты, лесная фея, так тебя и переехать недолго!
И только тут Блажена поняла, что Ярослав выслеживал ее и нарочно пошел той дорогой, чтобы она «случайно» на него наткнулась.
— Привет! — только сказала Блажена в ответ.
— Что бы ты сказала о небольшой прогулке?
— У меня нет с собой брюк. Как же я поеду?
— Я подожду, пока переоденешься.
У Блажены так и чесался язык, чтобы выложить Духоню все, что она о нем думает, припомнить ему Мадю Будилову. Но она поборола себя. Удобная минута еще найдется. К тому же в наговорах Гавлиновой, наверно, не все правда.
Через минуту Блажена уже была перед домом. Они весело болтали, и Духонь, как обычно, был полон иронии.
Они были поглощены собой. Прохожие охотно уступали им дорогу и улыбались при виде юных существ, ничего не замечавших вокруг. Однако ни Духонь, ни Блажена не улыбались. Они очень серьезно относились ко всему, что говорили и думали, и ожидали того же и от других. К тому же езда на велосипеде была тоже делом серьезным, требующим квалифицированного объяснения и выполнения.
— У велосипеда одна опасность, — объяснял Духонь, — многие велосипедисты начинают горбиться. Но, чем прямее держишься, тем легче ехать. Только надо привыкнуть.
— «Не горбись, не горбись»! Все время только и слышишь! А если ты невольно горбишься?
— Да почему?
— Не знаю. Наверно, так удобнее.
— Но сидишь ты на велосипеде неплохо, только надо запомнить, что ты ездишь по улице не одна. До этого я тебя не выпущу на большие улицы. А не то ты на что-нибудь налетишь или на тебя кто-нибудь налетит.
— Я предупреждаю и звоню так, что уши закладывает.
— А тот, другой, может не обратить внимание.
— Ты меня пугаешь? Но я не из пугливых!
И Блажена ловко вскочила в седло велосипеда.
Она носилась по давно знакомой улице взад и вперед с азартом заядлого гонщика, делая вид, что не замечает Духоня, заботливо наблюдавшего за ней.
Духонь стоял под уличным фонарем, заложив руки в карманы, слегка откинув голову, охваченный беспокойством, словно укротитель в цирке.
Он старался не терять ее из виду и все же проглядел. Блажена вдруг свернула за угол, на соседнюю улицу, и скрылась. Она исчезла моментально, будто испарилась. Но в ту же минуту он опомнился и кинулся следом за ней. Он мчался так, что сам Нурми[11] мог бы позавидовать ему. И, хотя Духонь знал, что ему не догнать Блажену, он старался не упускать ее из виду, чтобы уберечь от несчастья.
Улица, куда заехала Блажена, вела к переезду железной дороги и была довольно шумной. Духонь злился на Блажену, злился потому, что боялся за нее, и еще, пожалуй, страшился ответственности.
Но, завернув за угол, он не увидел ни велосипеда, ни красного свитера Блажены. И вдруг его настиг звонок его собственного велосипеда с совершенно неожиданной стороны — он звенел у него за спиной. Оказывается, Блажена объехала вокруг и в этом соревновании на скорость догнала Духоня раньше, чем он думал.
Сердиться было недостойно мужчины. Духонь сделал вид, что Блажена не застигла его врасплох.
— Ну как, ты цела? — процедил он снисходительно, сквозь зубы.
— Как видишь, — отрезала Блажена, соскочила с велосипеда и отдала его хозяину, стараясь преодолеть возбуждение, овладевшее ею после такого отважного рейса.
— В другой раз застрахуй свою жизнь, — проговорил Духонь, все так же старательно скрывая свой гнев.
Ни один из них ни за что не дал бы волю своим чувствам. Во всем должна быть соблюдена внешняя форма, принятая среди юношей и девушек их возраста: никакого страха, никаких хныканий, абсолютное равноправие, товарищество, без какой-то там влюбленности!
Но сейчас она шла задумавшись. Ведь через минуту они пойдут по домам, вот они уже прощаются. Духонь подает ей руку. Что же она молчит?
Но Духонь опередил ее:
— Так когда мне зайти?
Блажена старательно выискивала способ заговорить о Маде. И наконец ей пришли на ум слова, менее всего подходящие:
— Когда Мадя тебя отпустит!
Она не успела их сказать, как ей сразу стало скверно и стыдно. Но признаться в этом Духоню? Никогда!
— Ну, это чисто по-женски, — заметил Духонь насмешливо.
Но хуже всего, что он был прав. Да, прав! И вот она стоит перед ним, не зная, как с честью выйти из этого положения, и видя лишь единственный выход — бегство!
А на лице Духоня одно выражение сменяется другим, словно лицо претерпевает какую-то химическую реакцию. Грусть расставания сменяется насмешливым высокомерием. Ярослав разжимает кулак: на ладони, словно бабочка, белеет сложенная записка. Он качает головой и тихо говорит:
— Жаль. Я хотел тебе дать прочесть свои стихи, а ты не хочешь. Так пусть летит! — И он сдувает бумажку с ладони.
Но Блажена стрелой кидается за бумажкой, спасая ее от ветра, хватает ее и кидается прочь от Ярослава.
На этот раз Ярослав не окликает ее и не бежит вдогонку. Он садится на велосипед и с независимым видом делает круги вокруг домов, мимо которых недавно мчалась эта сумасбродная Блажена.
12
Блажене не терпится узнать, что в записке, хотя, в общем, она не слишком любопытна. Впрочем, как-то она уже получала послание от Ярослава, но в тот раз, в лагере, он был просто «парнем из четвертого класса», как они говорили. Тогда она его почти не знала, как не знала многих из тех ребят, кто дергал ее за волосы или говорил ей всякие глупости.
Сейчас Духонь был уже «кто-то». Конкретный человек, со своим личным мнением, с определенным лицом, непрестанно меняющимся, со своей манерой речи, к которой она уже привыкла, и с поведением, доказывающим, что он явно по-дружески относится к Блажене. Он уже был для Блажены и близким, и далеким, и эти неопределенные, неустойчивые отношения вызывали в ней чувство неуверенности.
Сегодня Духонь был для нее вполне реальным существом, отнюдь не неприятным, хотя и колючим. Она никогда не слышала от него слов, чтобы в них не присутствовала и насмешка, но так же вела себя и она.
Она боялась его откровенности и в то же время жаждала ее всем существом. Блажена в душе признавалась себе, что, будь Духонь слишком искренним и серьезным, он показался бы ей наивным и она не удержалась бы от насмешек. Почему так? Она не знала. Столько непонятного, затаенного, туманного скрывают отношения людей друг к другу! Человеку трудно полностью кому-то довериться. Приходится быть осторожным.
Поэтому Блажена все еще держала записку в руке, не торопясь в нее заглянуть и даже слегка радуясь тому, что еще ничего не знает и узнает, когда сама пожелает, — в этом скрывалась ее какая-то странная власть над Духонем. Она решает, прочитать или не прочитать записку.
Нет, Блажена не была любопытной, любопытны лишь люди без фантазии, не умеющие доставлять себе радость вымышленными образами. Если бы Блажена попала в заколдованный замок и ей запретили заглядывать в тринадцатую комнату, она обошлась бы и без нее. Блажена гораздо охотнее бы представила, какую красоту таит в себе эта запретная комната.
Полностью погруженная в эти мысли, Блажена незаметно подошла к дому, и внезапно «их» дом показался ей удивительно чужим. Словно лишь сейчас она увидела две ступеньки у входа, длинный темный коридор, освещенную мраморную лестницу со сверкающими прожилками в камне, пыльные перила, которые она столько раз видела, хотя только сейчас как следует разглядела их чугунные украшения в стиле Возрождения.
Ведь мы никогда не видим подлинного лица нашего дома, если просто выходим из него и входим в него. Нет, только когда мы вдруг появимся перед ним, сами претерпев внезапную внутреннюю перемену, только тогда мы увидим наш дом во всей его подлинной сущности, — изменился наш взгляд на мир, и мы видим то, что не замечали раньше.
Блажена удивилась и на какой-то миг усомнилась, туда ли она попала. Она кинулась к табличкам на двери — ну конечно, во втором этаже живет пан Мареш. Значит, это ее дом!
И, отпирая двери квартиры, она все еще не переставала улыбаться.
Отца дома не было. Ужин был приготовлен заранее, сейчас она только накроет на стол.
У нее еще есть время — целая вечность! Свет она не зажигала. В комнате царил ровный полумрак. Вечер приближался тихо, словно лесная фея. Все существо Блажены наполняла какая-то беспричинная радость.
В одну минуту Блажена разбила палатку и укрылась в ее полутьме. И тут ею снова овладела старая затаенная мечта.
Иметь велосипед! Свой собственный! Он был для Блажены тем же, чем челн для Робинзона. Впрочем, Робинзон мог выдолбить челн из кедра, и, хотя он трудился целых четыре месяца, не имея даже огня и выдалбливая дерево лишь долотом и молотком, все же он в конце концов имел просторное каноэ, способное выдержать и его и весь его груз.
Но Блажена, сколько ни старайся, не в силах ни собрать велосипед из каких-нибудь частей, ни купить готовый. А если на велосипед собирать? Это будет длиться целую вечность. Ведь сейчас у нее нет ни геллера! Раньше мама давала ей то крону, то две, и Блажа клала их в поросенка-копилку, но, как только появлялся какой-нибудь соблазн, она вытряхивала деньги из копилки, а иногда приходилось просовывать нож в прорезь — металлические кроны лучше скользили по его лезвию.
А теперь? Теперь денег частенько не хватает, и отец только удивляется, куда они исчезают. Блажена старательно записывает, и все же концы с концами не сходятся. А дать ей еще карманные деньги отцу и в голову не приходит.
Нет, велосипед, наверно, так и останется лишь предметом ее мечтаний. Никогда она не научится прилично ездить самостоятельно, и всегда этот Ярослав Духонь будет бежать за ней по пятам, присматривая за своим велосипедом…
Если бы они могли ездить вдвоем, она отважилась бы выехать и на площадь, даже проехала бы Подбабу и Шарку и домчалась бы до самой Генералки. Вот это была бы поездка!
Робинзон на своем необитаемом острове после горьких испытаний решил, что все вещи хороши лишь до тех пор, пока мы можем их использовать. У него был челн, но он не мог на нем уплыть. Блажена, напротив, могла бы ездить, умеет ездить на велосипеде, но его у нее нет.
Сидеть за спиной Духоня? Во-первых, тогда бы им пришлось все время смотреть по сторонам — ведь вдвоем ездить не разрешается, а во-вторых, никакого удовольствия! Нет. Лучше совсем не ездить. Все или ничего! — повторяла она свой лозунг.
Сложенная записка-бабочка имела лишь дату: 2 ноября. И перед Блаженой сразу всплыли строчки из «Робинзона»:
«… Было 6 ноября, когда я отправился в это путешествие, когда узнал, что оно продлится дольше, чем я предполагал..»
Она тоже отправится в плавание. Поплывет куда-нибудь и при свете звезд, в бескрайнем море, качаясь на волнах, прочтет записку. Или лучше прочтет ее при красноватом свете корабельного фонаря, повешенного на мачте.
Поплывет — но на чем? Лохань для посуды мала. Корыто стоит в прачечной, и за ним нужно идти, да его и не донести ей до лестницы. На чем же? Она осмотрела всю кухню, заглянула даже в комнату. Что бы такое превратить в лодку?
А если матрац? Ведь матрац будет идеальной лодкой!
Она положила матрац перед палаткой, поставила отцовский зонтик, сделав из него превосходную мачту с черным флагом. Вот и припасы у нее готовы: две дюжины ячменных лепешек, немного рома, порох и две морские куртки — на одной она будет спать, а другой прикрываться ночью.
Уличного света вполне хватало, чтобы разобрать строчки в записке Духоня. Но, прежде чем погрузиться в чтение, Робинзонка должна оглядеться в океанском просторе. Да, плавание будет опасным: сильное и стремительное течение подхватило лодку. Внимание, не то лодку унесет в океан! Достаточно попасть в водоворот. Но мы его объедем. И здесь, в этом тихом заливе, подождем благоприятного ветра. Робинзонка не пустится в плавание навстречу неизвестной морской пустыне, словно опрометчивый пловец.
Блажена забралась в уголок, уселась на корточках и только теперь, основательно подготовившись, раскрыла записку и сразу, залпом проглотила ее содержание.
В записке выстроились строчки пятистишья, без обращения и без подписи:
Бокал хрустальный Завтра тебе ветер скажет О чем сегодня умолчали Мои уста несмелые И ветер скажет о чем он знает— Ага, — сказала Блажена, — без знаков препинания.
И принялась читать снова и снова, строку за строкой.
Стихи модерн! Да и сам Духонь модерн! Наверняка он читал не только хрестоматию, где из настоящих современных поэтов — лишь Незвал, да и то с точками, тире и прочими знаками препинания!
Значит, Ярослав Духонь — поэт! Возможно, он даже печатается! Только ставит ли он свою подпись под стихами?
Бокал хрустальный… Какой бокал? Неужели это я? Ха! Хорошенький же бокальчик! Блажену так и потянуло посмотреть в зеркало, похожа ли она на какой-то там бокал… Значит, стихи предназначены ей! Ну и ерунда!
Правда, все это звучит довольно красиво, даже если Блажена никакой там не «бокал хрустальный», а Духонь вовсе не поэт.
Завтра тебе ветер скажет…
Сердце Блажены жадно раскрывается, и в него вливается мелодия стиха, и сердце погружается в него, как в теплую приятную ванну.
Красивые стихи! И посвящены мне! Иначе разве дал бы мне Духонь записку? Но почему же он дал ее мне и сказал, что это вариация на «и», стихи-шарада… Пусть не хитрит пан Ярослав Духонь! Первая же строчка выдает его!
Блажена все повторяла пятистишие, словно загипнотизированная. Каждый раз у стихов был другой смысл, другое звучание, другая интонация.
И вдруг гипноз словно кончился, и ей нестерпимо захотелось поделиться этой сногсшибательной новостью — в честь ее, Блажены, отныне весьма важной личности, кто-то написал стихи.
«Угадай-ка, кто сложил?» — скажет она Маде.
Нет, Маде она ничего не скажет. Так кому? Зорке Ледковой? И той нет, у нее голова так забита своими несчастьями, что просто противно. Новотной? Ну да, чтобы она эти стихи с презрительным и высокомерным видом раскритиковала! Может быть, Матоушевой? Ну, эта с ними сразу побежит к брату, и они оба примутся подтрунивать над Духонем. Даже Стржизликовой-Поховой она не может довериться. Да вообще никому из девчонок в ее классе. Все сразу Удивятся, что она вдруг стала такой откровенной.
Лишь одному человеку она может показать стихи — отцу. Но ему нельзя просто так вот взять и показать.
Отец придет, как всегда, голодный, сначала поест и выпьет пива, потом начнет дремать и поглядывать на постель. Да, надо выбрать удобную минуту и лишь тогда прочитать папке стихи. Такую минуту, когда одному человеку становятся понятны чувства другого.
А пока Блажена спрячет записку, присоединив ее к своему дневнику, спрятанному в бельевом шкафу.
Не сумев быстро найти в шкафу, доверху набитом вещами, свой дневник, Блажена повернула выключатель.
Достав дневник, она перелистала свой перечень добра и зла. И осталась им очень недовольна. Нет, так не пойдет, сказала она себе. Корабельный дневник должен как-то начинаться.
Быстро, второпях она взяла ручку, проверила, пишет ли, и со скоростью молнии написала на первой странице:
«Я не надеюсь, что кто-нибудь прочтет написанное здесь».
Но, не успев дописать, она все зачеркнула. Нет, не то! Может, вот так:
«Я не хочу, чтобы кто-нибудь прочел все, что я здесь пишу. Я пишу для того, чтобы разобраться в своих мыслях. Мои мысли разбегаются, и я сразу же их забываю. А записать свои мысли… — тут она заколебалась, но через секунду приписала: — Это пробный камень. Сразу видно, что искренне и правильно, а что неискренне и неправильно, какие мои поступки, слова хорошие, а какие плохие».
Ну, пока хватит.
А теперь быстро сунуть дневник вместе с запиской Духоня в потайное место. Отец сейчас придет… Вот уже слышны его шаги.
Блажена поспешно задвинула ящик шкафа, кинулась к дверям и сняла с них цепочку.
Отец вошел, как всегда, улыбаясь. Он увидел в кухне перед палаткой Блажены новое сооружение и спросил:
— А что здесь делает этот матрац?
Блажена, держа в руках кувшин для пива, размахивала им над головой и громко кричала:
— Буря гонит корабль…
13
Ясная погода, удержавшаяся в этот год до самого дня поминовения усопших, вдруг перевернулась, как лист, гонимый ветром. Разумеется, в октябре уже бывали сырые, холодные утра и воздух плакал слезинками тумана, тоскуя по солнечным лучам, но дни стояли, окрашенные золотом полуденного солнца. Промозглая сырость возвращалась лишь к вечеру, и тогда уличные электрические фонари купались в ней, раскачиваясь, словно китайские фонарики.
Поэтому переход к осеннему ненастью всем показался внезапным.
В один из таких неприветливых вечеров пан Бор пришел домой с окоченевшими руками.
— Скажи, Блажена, ты уже взяла мои теплые вещи из химчистки? — спросил он входя.
На лице Блажены появился испуг.
— Папка, я совсем про них забыла и так и не отдала в чистку! Ты сердишься, да? Завтра я отнесу их в срочную.
— Срочную? — удивился отец.
— Ну да, в срочную. Девчонки из нашего класса всегда отдавали в срочную, когда им нужно было надеть платье в тот же день. В нашем классе были такие модницы, что ты и не поверишь!
— Но ведь это, наверно, дороже?
— Да, — нерешительно призналась Блажена.
Только теперь она поняла, что отцу приходится считать каждую крону и ее забывчивость обойдется ему дорого.
Она попыталась мгновенно все исправить:
— А я за это сама выстираю твои платки и не стану их отдавать в прачечную, вот деньги и сэкономим. Только не сердись на меня из-за моей дурацкой забывчивой башки!
Пан Бор пытливо посмотрел на дочь и сказал с доброй усмешкой:
— Хорошо. Выстираешь все мои платки, которые я загрязню за две недели; посмотрим, как они будут выглядеть!
Ему было жаль дочь, и он от всего сердца простил бы ее забывчивость, увидев, как глубоко она раскаивается, но он сказал себе, что не имеет права глушить в ней чувство вины, которое проявлялось у нее так искренне. А что, если все устроить как-то иначе… Может, одежду и не нужно отдавать в чистку… Надо посмотреть на нее!
— Принеси-ка, Блажена, мои вещи.
Блажена направилась к шкафу с отцовской одеждой и вдруг вспомнила, что не открывала его со дня похорон: отец на работе не мог носить траур, а выходной костюм он также почти не надевал — разве были у него настоящие воскресенья? Только работа и работа. Он то и дело мыл и чистил свою «шкоду», ремонтировал ее, убирал гараж, ездил к Петричку. Занимаясь все время с машиной, он носил один и тот же костюм и менял его лишь тогда, когда тот требовал чистки или ремонта.
Как только Блажена открыла дверь шкафа, оттуда вылетело несколько мелких белесых насекомых, которые куда-то мгновенно скрылись. Блажена даже не успела заметить куда.
— Моль, папка! Моль! — испуганно крикнула Блажена и опрометью кинулась развешивать по комнате вешалки с отцовской одеждой.
На ее крик прибежал и пан Бор, быстро стал проглядывать всю одежду, вещь за вещью. Он переворачивал рукава, внимательно осматривал каждый шов — нигде ничего! Но когда дело дошло до зимних вещей…
Хуже быть не могло! На воротнике дырка за дыркой, на полах, на брюках… везде следы прожорливой моли!
Блажена даже заплакала от обиды. Злые слезы так и лились по ее лицу. Обидно, ведь ничего не скажешь в свою защиту, приходится молчать и ждать заслуженных упреков.
Ах, эти проклятые вещи, думала Блажена, сколько они от нас требуют! Как это говорил папа? Вещи нам служат, но требуют от нас заботы. И как это мама делала, что моль у нее не водилась? Конечно, не забудь Блажена отнести одежду в чистку, как наказывал ей отец, все было бы в порядке!
Ее худенькие плечи вздрагивали от горьких рыданий.
Пан Бор, естественно, не испытывал радости от постигшей их беды, но, видя, как велико горе Блажены, погладил девочку по непослушным золотистым волосам и сказал:
— Ну хватит… хватит! Все можно исправить. Зайдем завтра к портному, и он пришьет к куртке новый воротник, а остальные дырки незаметно заштопает.
— Но это будет стоить таких денег, папка! Ведь за каждую маленькую дырку берут крон десять. Одна девочка из нашего класса разорвала Новотной плащ, и это стоило ей десять крон! Знаешь, папка, за это я выстираю все белье!
— Попробуй сначала выстирать платки, потом уж увидим, — ответил пан Бор.
Назавтра он попросил пана Гозноурека сменить его пораньше и отправился с Блаженой к портному. Они понесли к нему пострадавшую одежду. По дороге пан Бор останавливался у витрин, где были выставлены пальто для девушек. Выяснилось, что Блажена выросла из своего зимнего пальто и уже не может носить свою старую, отслужившую службу шубку.
Но на сей раз Блажену не очень интересовали всегда такие заманчивые витрины. Совсем другое привлекало ее внимание. Как раз около магазина одежды расположилась витрина велосипедной фабрики. В огромной витрине сверкал подвешенный на цепях чудесный велосипед, никелированный насос и новенький прорезиненный плащ.
Спицы обоих колес улыбались Блажене, словно два сияющих зрачка. Эти два огромных колеса давно желанного велосипеда так соблазнительно манили…
— Смотри, папка, что за чудо!
Блажена, охваченная одним желанием, даже не замечала, что держит отца за руку и сжимает, сжимает, сжимает, словно стараясь силой воздействовать на отцовскую волю.
Отец же, хотя уже все решил про себя, не высказывал своего согласия вслух. Блажена в полном забвении примерзла к витрине, не в силах от нее оторваться. Пан Бор уже отошел на несколько шагов и настойчиво звал ее за собой.
— Ну пойдем же, дочка! — вывел ее отец из забвения. — А какое пальто тебе бы хотелось иметь?
— Вон то, где велосипед, — высказала свою мечту Блажена, думая, что отец угадал ее тайное желание.
Отец, разумеется, угадал, об этом говорил его взгляд, но он делал вид, что не понимает.
— Но это ты не смогла бы носить, — улыбнулся он.
— Ведь ты же меня понимаешь, — клянчила Блажена, — не притворяйся!
Но все ее просьбы отец встречал молчанием.
Они отправились дальше и немалую часть пути шли молча, не говоря ни слова. Потом они договорились с портным, потом смотрели зимнее пальто, при этом Блажена слегка оживилась, но так и не забыла о своей главной мечте. На обратном пути она сказала так, словно между ее последним разговором о велосипеде и теперешним ровным счетом ничего не произошло.
— Я знаю, это стоит кучу денег, — сказала она, так и не назвав «это», — но знаешь, папка, Робинзон считал, что нельзя мечтать о чем-нибудь, сложив руки. И мне хочется самой на него кое-что собрать. Но как? Догадайся сам!
Отец внимательно следил за ходом рассуждений Блажены и, разумеется, прекрасно обо всем догадывался.
А Блажена предложила:
— Как ты посмотришь, если я иногда буду получать небольшое вознаграждение за то, что мне особенно удастся?
— Хорошо, — сказал отец. — За каждый удачный обед ты сможешь получить крону.
— А нельзя ли, папка, крону пятьдесят? Тогда я — конечно, иногда, а не каждый раз — за пятьдесят геллеров покупала бы мороженое, а крону бы оставляла.
— Ладно. Пусть будет крона пятьдесят.
— Но, папа… Правда, я по тебе сразу узнаю, нравится тебе или нет, хотя ты иной раз великодушно не показываешь виду.
Пан Бор рассмеялся.
С этой минуты Блажена часто думала о том, какое блюдо следовало бы приготовить, чтобы оно пришлось отцу по душе. Вспомнились как-то полузабытые слова матери: «Наш отец очень любит домашнюю лапшу».
Эти слова застряли в памяти Блажены, как порой у нас в памяти остается что-нибудь совсем незначительное.
Блажена купила говядину на суп. Теперь она говорила мяснику, как и все покупательницы: дайте заднюю часть, грудинку не нужно. Она купила и овощей, и яиц, и маку.
— Ну, кажется, все в порядке, — сказала Блажена дома глиняному поросенку, ее заветной копилке.
Она поставила его на полке рядом с будильником — пусть они призывают ее к усердию и внимательности.
Из кладовой она вынесла доску для теста, держа ее, словно щит, перед собой. Теперь она уже не фантазировала и не играла, а с озабоченным видом положила доску на кухонный стол, насыпала холмик из муки, а в нем сделала ямку.
Разбила яйцо, одно, другое. А сколько их надо? Нас двое, значит, каждому по одному, а третье — чтобы отцу еще больше понравилось. На плите тем временем варилось мясо.
Блажена замесила тесто так, что оно совсем отставало от пальцев. Раскатала его и, когда слой теста стал велик для скалки, разрезала его пополам.
Время бежало. Будильник отсчитывал минуты.
Лепешка скоро превратилась в хорошо раскатанный квадрат из теста. Блажена осторожно разложила тесто на скатерти. Затем, запыхавшись от усердия, раскатала вторую лепешку. Мясо на плите громко клокотало. Будильник по-прежнему отсчитывал минуты, из которых складывались часы.
Блажена сделала из теста длинные полосы, шириной в палец, положила их друг на друга, столько, сколько мог разрезать нож, и стала нарезать красивые желтоватые ленточки, которые отскакивали, закручивались, слипались, и ей все время приходилось их растрясать.
Про мясо Блажена совсем забыла — будильник доставлял ей немало огорчений, его стрелка быстро бежала к двенадцати, словно наперегонки. Острый нож съехал с теста, и она чуть-чуть не отхватила себе ноготь. Это было ей предупреждением, чтобы резать медленней. А как быстро резала лапшу Тонечка — глазам было больно! Лапша у нее отлетала от ножа, словно ее делали на фабрике.
Блажена со вздохом облегчения отодвинула нарезанную лапшу в сторону и осторожно понесла вторую лепешку, но она, как нарочно, разорвалась перед самой доской.
Мясо уже не варилось. Во-первых, было не в чем — вода за это время давно выкипела. Во-вторых, не на чем — огонь в плите погас. Блажена не замечала этого. Она видела лишь будильник, чья большая стрелка медленно приближалась к маленькой, — двенадцать!
И как раз, когда она дорезала последнюю порцию лапши, «ручка дернулась, стукнула щеколда, двери растворились», — мелькнуло в голове у Блажены, совсем закружившейся от всей этой спешки.
— Посмотри-ка, папка, как все мне удалось!
Однако это бодрое приветствие совсем не отражало истинного положения вещей. Плита была уже совсем холодной, а мясо в кастрюле превратилось в подошву.
Но Блажена мигом развела огонь, быстро вскипятила воду, бросила в нее лапшу, смолола мак, и через двадцать минут отец уже обедал.
Она ела лапшу и искоса поглядывала на отца. Бульон отец ел молча. Но, отведав лапшу, не выдержал:
— Блаженка, что ты положила в лапшу, почему она как деревянная?
— Яйца, папа, одни яйца.
Они бросили лапшу снова в воду, поварили — все напрасно! Лапша осталась твердой…
Блажена смотрела на дело своих рук с удрученным видом, предлагала отцу хотя бы кофе…
— В наказание я сама все это съем на ужин, — заявила Блажена, готовая на любую жертву.
— И испортишь себе желудок. Не глупи! Предложи ее Лордику. Может, он и даст себя уговорить. А к вечеру сделай что умеешь!
— Картофельный суп! — с победоносным видом воскликнула Блажена.
И она повернула поросенка пятачком к стене. В наказание, пусть не смеется!
14
Продавцы в Дейвицах украсили свои товары гирляндами из лент и расставили среди них еловые и сосновые крестики.
Кондитеры разделили витрины на две части: рай — там Царили со своими серебряными посохами святые Микулаши, — и ад, где господствовали плюшевые черти с огненными языками, охраняя коробки, корзинки и блюда, наполненные доверху сладостями для елки.
Ребят нельзя было оторвать от этого великолепного зрелища. Они могли стоять у витрины даже в метель; впрочем, стоять в вихре белых точек им нравилось вдвойне.
— Перед праздником мы поедем к Петричку, — сказал пан Бор, — а то потом мне придется заменять Гозноурека и свободных дней у меня не будет.
Но перед праздником у него так и не нашлось свободной минутки. Все куда-то спешили, носились как угорелые и то и дело заказывали такси.
Но Блажена не тратила время даром. Она тайком вязала отцу шерстяные носки и переносила свое вязанье из угла в угол, опасаясь, как бы не увидел отец. Научилась она у Тонечки и пирожки печь, хотя и заплатила за это умение большим ожогом на локте.
Она долго раздумывала, какой подарок на праздник сделать Петричку, и в конце концов вырезала из куска белой материи слюнявчик, подрубила его и красной ниткой вышила на нем яблоко. Правда, отец сказал, что Пете не нужен подарок под елку, потому что он еще мал, но Блажена вспомнила маму и подумала, что теперь она должна заменять ее малышу. На рождество ни один малыш не должен быть без подарков, так говорила мама, и Петричек обязательно получит свой подарок. Думая о Пете, Блажена подумывала и о себе. А что подарит отец ей? Вряд ли подарок будет большим — ведь содержание малыша в Доме ребенка стоило отцу немало денег. Блажене становится не по себе, когда она вспоминает все испорченные ею продукты. К тому же ей нужны зимнее пальто и ботинки… А ведь Блажене еще хотелось елку и хотя бы несколько свечек к ней.
Забот у нее хоть отбавляй, ведь ей предстояло хорошенько убрать к празднику всю квартиру: выбить ковры, до блеска натереть пол, вымыть окна, если они не замерзнут, вычистить все дверные ручки, а за все картины, вытертые от пыли, засунуть сосновые ветки. Так обычно делала мама…
Блажена уже заранее радовалась празднику и торжественному аромату елки и свечек.
Как пекли рождественскую сдобную булку, Блажена видела из года в год, ведь в это время у нее бывали каникулы. Вместе с мамой они перебирали изюм, ошпаривали и резали миндаль и цукаты, но Блажене особенно нравилось, как мама делала булку: сначала основа из четырех лепешек, потом середина из трех и, наконец, верх из двух. Булка была настоящим сооружением, она обязательно должна была сохранить свою форму, когда появлялась из печки с чудесной коричневой блестящей корочкой, с бугорками миндаля.
— Булка будет моим экзаменом, — сказала Блажена Тонечке и так думала на самом деле.
К Тонечке Блажена теперь испытывала полное доверие, возникшее в ней само собой, без всякого принуждения. Все существо Тонечки, ласковое и полное материнского тепла, так и влекло Блажену, и она все больше видела в ней верного друга.
А какой поварихой была Тонечка!
Тонечка терпеливо повторяла одни и те же советы, и они застревали наконец в Блажениной памяти.
Она всегда охотно смотрела, как Блажена «кухарничает», умела помочь ей в случае крайней нужды и не вмешивалась, когда ее ученица сама хотела справиться с трудностями. Обеды, приготовленные Блаженой, становились все вкуснее.
Весело смеясь, Тонечка выслушала рассказ Блажены о неудавшейся лапше.
— Ты испортила тесто излишком всякого «добра». От белка тесто становится жестким, нужно было прибавить воды. Для кнедликов лучше положить желток.
— Слишком много советов сразу. Я так все забуду. Где вы всему научились? — приставала к Тонечке Блажена. — Ведь вы ходили только в начальную школу и совсем не посещали никакой школы кулинарии.
— Двадцать лет практики, девочка, — ответила Тонечка и прищурила глаза, словно вспоминая эти долгие годы. — С пятнадцати лет служу. Сначала у хозяина в деревне, потом прислугой, потом нянькой, потом прислугой «за все», потом кухаркой в небольшом семействе, а теперь у архитектора обслуживаю десять человек.
— Значит, мы начинаем учиться готовить в одном возрасте, — подхватила Блажена с радостью, довольная, что у них с Тонечкой есть что-то общее.
— Только мои хозяева не были так добры, как твой отец к тебе. Ведь и я росла круглой сиротой, родители мои в одну неделю умерли от тифа, и старшая сестра умерла, только я из всей семьи выздоровела. Взяла меня одна старушка в свою пастушью хижину, а когда ее господь бог к себе призвал, отправили меня в прислуги. Да я тебе об этой старушке рассказывала. А теперь у меня и вовсе никого не осталось.
— У нас тоже нет родственников, во всяком случае, я никого не знаю! — воскликнула Блажена. Она почувствовала, что Тонечка стала ей еще ближе. — Знаете, Тонечка, раз у вас никого нет и у меня тоже, я сделаю вас Пятницей.
— Ну, я скорее Суббота, — шутила Тонечка.
— Нет, вы будете моим Пятницей, вернее, уже есть. Итак, вы верный Пятница, друг и помощник Робинзона!
И Блажена немедленно изложила Тонечке всю историю мореплавателя из Йорка и то, что она, Блажена, носит теперь имя в его честь, живет на необитаемом острове и наконец нашла настоящего, верного Пятницу.
Но Тонечка не сумела так же быстро войти в игру, как отец. Где там ей до отца! У великолепного Овокаки нет соперников! Правда, Тонечка сказала, не проявляя особой радости:
— Ладно, Блаженка, я могу быть для тебя этим Пятницей, но на людях ты меня так не зови — неизвестно, что подумают!
— Какие там люди? На необитаемом острове нет людей.
Это заверение успокоило Тонечку.
Когда отец приехал к обеду и открыл дверь, на улице валил такой густой снег, будто разверзлось небо. Еще стоя в дверях, отец сказал:
— Мы едем в Крч.
Блажена хотела похвалиться удачными оладьями с повидлом, но отец съел только суп, оладьи завернул в бумагу и поторапливал дочь — в такую метель машина может ехать по проселочным дорогам лишь при дневном свете. Блажена схватила слюнявчик, уже давно приготовленный и упакованный в шелковистую бумагу, и вскоре отец с дочерью отправились в «шкоде», хорошо укрытые от снега и ветра.
Не успели они выбраться из путаницы пражских улиц, как небо, щедро сыпавшее снежные звездочки, закрылось, и над Панкрацким холмом словно распростерся огромный голубой платок, отороченный серебром ярко освещенных облачков. Заснеженные деревья бросали васильковые тени на белое полотнище полей, и там, где летом виднелись кустарники, сейчас жались к земле закутанные в снежную перину странные фигуры. Вот здесь стоял снежный капуцин, там — кондитер в колпаке, еще дальше — какой-то пророк из Ветхого завета, а там, в стороне, — карлик. Снег и ветер создали заколдованный мир, застывший в неподвижности, словно королевство в «Спящей красавице». Дорожки в этом снежном царстве вели куда-то в неизвестную даль, скрывавшуюся в зимней мгле.
На заснеженном горизонте словно выплывали из волн далекие дома. Казалось, скупое солнце освещает лишь ту часть дороги, по которой ехала Блажена с отцом.
В Крчи они поставили машину под крытый навес и, весело притопывая по хрустящему снегу, побежали к дому, словно два озорника. В вестибюле они разделись и вымыли руки. В доме все сияло чистотой.
Для Пети это был счастливый день. Он сидел в своей деревянной оградке, хлопал ладошками, издавая ликующие звуки. Блажена удивилась, как Петя вырос, и прямо подскочила от восторга, когда он улыбнулся ей и крепко схватил ее палец своей ручонкой и сразу потянул его в рот. Пушок на его голове, который сестра-воспитательница гордо называла волосами, был зачесан вверх и закручен в лихой вихор.
— Мы начесали ему вихор, ожидая вас в гости, — смеялась сестра, а Блажена была довольна, что малыш так похож на ее голыша.
Она надела ему слюнявчик, но малыш был недоволен этим и тут же начал срывать его.
— Не хочет он слюнявчик, — улыбнулась сестра, — спрячем его. Он нужен грудным младенцам лишь во время еды. Малыш это знает, поэтому и срывает.
— Так я сниму его сама! — воскликнула Блажена.
Теперь довольный мальчуган смеялся, гукал и хватался за кисточку зимней шапки Блажены.
В забавах с малышом час пролетел незаметно, и пану Бору пришлось напомнить Блажене, что время прощаться.
Она послала Пете от двери воздушный поцелуй и, одеваясь в вестибюле, сказала отцу, вздохнув:
— Ну и насмеялась я! Ведь это уже что-то похожее на человека.
— Но, Блажена, Петр и есть человек, хотя и маленький.
— Теперь-то да, а раньше нисколечко! — отрезала она.
Эти взрослые как-то совсем по-своему смотрят на мир и человека. А по ее мнению, человек только тогда становится человеком, когда он говорит и слышит, понимает другого человека, чем-то занимается. У Блажены давно были свои представления о мире и людях, и никто пока не разубедил ее в этом. Малыш для нее был лишь чем-то вроде резинового голыша, который сейчас вдруг становится человеком.
В машине Блажена глубоко задумалась над этим загадочным существом — человеком. А что, собственно, такое человек и почему он живет на свете? Почему растет так медленно, появляясь на свет в виде смешного существа. Удивительное создание этот человек, зачастую совсем непонятное. Понятие «человек» для Блажены относилось ко всякому, кто не входил в круг ее семьи. Отец, скажем, был неизменным и понятным существом, как понятно и неизменно было его отношение к ней. Отец был гораздо больше, чем человек, — он был ее отец! Девчонки в школе были тоже понятными существами, с теми же интересами, что и у нее, с теми же свойствами характера и теми же знаниями. Но человек вообще был для Блажены непознаваемой тайной. Ее любимый Робинзон говорил о человеке, что сегодня он любит то, что завтра будет ненавидеть, сегодня ищет то, чего завтра станет избегать, требует того, чего завтра будет страшиться.
— Вот мы и дома! — прервал отец ход Блажениных мыслей.
Блажена поглядела на него отсутствующим взором. Снова она увидела в глазах отца знакомый яркий свет, всегда появляющийся у него после свиданий с Петей. Что-то похожее на ревнивый протест против этой отцовской радости промелькнуло у Блажены, но сразу же растаяло при теплом воспоминании о крепком тельце малыша, его живых глазках, его улыбке, до удивления похожей на отцовскую.
Она стряхнула с себя паутину ревнивых мыслей и крикнула, выскакивая из машины на тротуар и возвращаясь в трезвую действительность:
— Сегодня я замешу тесто для кулича!
— Уже сегодня?
— Да, сегодня вечером! Тесто должно подольше киснуть. Так сказала Тонечка.
Что сказала Тонечка, то свято. В этот предпраздничный день простые дрожжи вдруг стали ценностью. Блажена искала их всюду, но в лавках их уже распродали. Ее успокаивали, что завтра будут свежие. Говорите что хотите, но завтра утром уже поздно ставить тесто. Наконец на одной забытой всеми улице какой-то пекарь наскреб ей остатки закваски. Блажена пулей помчалась с ней домой.
Она положила закваску в молоко, добавила кусок сахару, прикрыла и поставила в чуть теплую духовку. Взбила масло, пока оно не стало пышным, добавила желток. Согрела муку и торжественно принялась месить тесто.
Уже стемнело, когда она завернула миску с тестом в чистое полотенце и поставила на плиту. Этого мало. Она обернула тесто шерстяным платком, чтобы оно держалось в равномерном тепле.
Все шло как по маслу, и Блажена была довольна.
Предпраздничная улица так и тянула ее из дому, и, старательно закрыв дверь, она отправилась немного побродить.
В окне у архитектора отодвинулась штора и мелькнуло круглое личико Тонечки. Не успела Блажена повернуть за угол, Тонечка накинула пальто, бросилась к стоянке такси и кивнула пану Бору. Тот сразу поднялся и, доверив машину заботам пана Угра, торопливо направился к управляющему домом и оттуда принес в кухню к Тонечке какой-то предмет с двумя кругами, напоминающими огромные, словно заколдованные глаза насекомого.
Через десять минут пан Бор снова был на стоянке.
А Блажена ничего не ведала о случившемся. Она полностью была занята разглядыванием витрин, не в силах оторваться от выставленных в них чудесных вещей, красиво разукрашенных ради праздника и ярко освещенных со всех сторон, чтобы ничто не укрылось от любующихся на них прохожих. Перед некоторыми магазинами толпилось столько народу, что пробраться к витринам не было никакой возможности, перед другими стояло по два, по три человека.
У витрины спортивных принадлежностей застыл лишь один прохожий — Ярослав Духонь. В первую минуту Блажена его не узнала: на нем было темное элегантное пальто, на голове — нет, только посмотрите! — шляпа.
— Привет, Блаженка! Приглядываешь подарки на елку?
— Привет, Ярда! Тебе ли это говорить, ведь ты расфуфырен, как какой-нибудь англичанин с Высочан!
— Да, я отдавал торжественный визит. Был у дядюшки, поздравлял с праздником, уж такая у меня проклятая ежегодная обязанность. Не понимаю, почему мои старики так с ним носятся, ведь единственное его достоинство — куча денег.
— Что он тебе подарил?
— Мог бы подарить, скажем, часы. А он разорился только на кило орехов. Давай погрызем! — Ярослав загремел орехами в кармане. — Пакет я, разумеется, выбросил.
Духонь вовсю хвастался своей силой, раздавливая орехи прямо в ладони. Но Блажена не могла оторваться от витрины и видела лишь один велосипед.
— Да, у кого-то деньги лежат понапрасну, а человек мог бы на них купить чудесную машину, — пожаловалась Блажена.
— Короче говоря, мы с тобой populus tunicatus[12] и не можем купить себе то, что нравится. Бери и ешь! — предлагал Духонь Блажене ядра орехов.
— Это я populus tunicatus — ведь у тебя-то есть велосипед.
— Зато у меня нет многих других вещей, которые мне позарез нужны.
— Когда я только подумаю, что у него был целый мешок золотых и серебряных монет, не меньше тридцати шести фунтов, и что они на необитаемом острове были ему ни к чему… Лежали в каком-то ларце и ржавели в сырой пещере…
— У кого это было тридцать шесть фунтов стерлингов?
— Да так, ни у кого!
— Так чего ж ты выдумываешь?
— Не твое дело!
— Что ты будешь делать на праздники?
— То, что и перед ними.
— А на лыжах никуда не поедешь?
— Подобные мысли смогут прийти только под этой шляпой.
— Ну, ты сегодня прямо настоящая ехидна.
Блажена и вправду начала злиться. Она не знала, почему и на кого злится, но в ней поднимался какой-то протест против ее теперешней жизни, против того, что у нее нет велосипеда, как у Мади и Матоушевой, недовольство собой и Духонем. Этот Духонь разыгрывал с ней всякие шуточки со своими стихами. Пусть отправляется к Маде!
— Да и вообще мне нужно домой! Привет!
Она повернулась на каблуках и направилась домой.
— Блажена, постой! Желаю тебе хорошего подарка!
Блажена даже не оглянулась.
«Знала бы ты, глупая, — думал покинутый Ярда, — какой подарок тебе приготовили! Ведь как раз со мной советовался пан Бор, прежде чем купить его».
Духонь был слегка оскорблен, но так как необходимой добродетелью римлян были твердый характер и стойкая воля, а они для него образец, он стиснул зубы и мужественным шагом отправился дальше, покинув свое место у витрины.
15
Потихоньку, осторожно Блажена поднимала полотенце, прикрывающее тесто, чтобы посмотреть, не поднялось ли оно.
Прошло еще только два часа, а Тонечка говорила, что тесто может подыматься всю ночь.
Приготовив постель отцу и поставив на стол масло и хлеб, — может, отец захочет поесть, когда придет домой, — Блажена с легким вздохом отправилась спать. Она знала, что отец вернется поздно — он должен проработать еще одну смену за Гозноурека. Но сегодня Блажена была рада этому. Она чувствовала себя странно вялой, даже чулки сняла в постели и, едва закрыв глаза, заснула тяжелым глубоким сном.
Но, только уснув, — а может, ей так показалось, — она вдруг проснулась от ощущения, что в нее тыкается, фыркая, лошадиная голова, лошадиные губы оказались у самого ее лица и горячее дыхание коснулось Блажены.
Блажена открыла глаза, но не могла шевельнуться. Очень медленно она приходила в себя. В полусне она вспомнила о тесте, встала и, как лунатик, побрела к плите. Подняв полотенце, она попробовала тесто, и оно показалось ей холодным, как лицо человека, пришедшего с мороза в комнату.
— Еще не подходит, — сказала она себе, — и такое холодное — что с ним случилось? — Но она была не в силах о чем-либо думать. Ноги у нее дрожали от холода, и, хотя она чувствовала в своем теле жар, по спине у нее побежали колючие мурашки.
Она заснула снова, но сон ее был беспокойным и прерывистым. Тяжелые, болезненные сновидения не оставляли ее, хотя она, громко, тяжело вздыхая, пыталась выбраться из них. Тело ее никак не могло найти удобное положение, и она беспрестанно ворочалась, а губы все время что-то шептали.
Пан Бор, вернувшийся около полуночи, увидел, что Блажена во сне кого-то отталкивает, произнося неразборчивые слова.
— Блаженка! Что с тобой? — встревоженно спросил он и увидел, что дочь вся горит.
Наверно, набегалась, сказал он себе, положил ей на голову мокрое полотенце и, едва коснувшись постели, сам забылся крепким сном и проспал до утра.
Когда он утром проснулся, Блажа уже заваривала кофе, но двигалась вяло, и вид у нее был утомленный.
— Доброе утро, папка! Мне как-то не хочется сегодня ничего делать. Вероятно, потому, что уже праздники.
— Отдохни, Блаженка! Сегодня к вечеру ничего не готовь. Гозноуркова пришлет нам кашу с грибами, а рыбу я куплю, жареного карпа, — разве что сделаешь картофельный салат.
Картофельный салат Блажена любила до смерти, но сегодня ей совсем не хотелось есть, и поэтому она ответила так равнодушно, что отец удивился.
— Если хочешь, сделаю. Я еще должна испечь этот кулич. Правда, кажется, тесто совсем не подошло.
— Не утруждай себя, испечь тебе поможет Тонечка.
— У нее у самой сегодня забот полон рот: ведь она готовит девять разных блюд. Я не хочу надоедать ей, — буркнула Блажена.
Но все же вскоре постучала к Тонечке. Без нее дело не шло.
Тонечка всегда находила для Блажены свободную минутку, ведь она была ее верной Пятницей. Пришла Тонечка и сегодня, ткнула пальцем тесто и спросила:
— А дрожжи положила?
— Положила, — тоненьким голосом ответила Блажена.
— Значит, они были плохие, — решила Тонечка.
— Да, не очень хорошие, — призналась ученица, — но других уже не было в магазине.
Тонечка развела свежую закваску, дала ей подойти, добавила в тесто и все хорошенько размешала.
— Знаете, Тонечка, у вас как у машины получается! — удивлялась Блажена, смотря на мелькание ловких, сильных и округлых рук Тонечки.
— Вечером испечем. Сделаем это вместе, все будет в порядке, — заверила Тонечка.
Блажена через силу продолжала заниматься хозяйством. Неудача с куличом не давала ей покоя, и неприятное чувство досады, что у отца на праздник не будет кулича к чаю, все не проходило. Она была так недовольна собой, что не хотелось ни бродить по улицам, ни смотреть на прохожих. Ей так хотелось чем-нибудь утешить себя! И тогда она подошла к своему письменному столу и взяла в руки все учебники, некогда приготовленные для четвертого класса. Она подправила все их обложки и с огромным удовольствием принялась на каждой обложке писать название учебника.
Но рука не слушалась ее и так болела от предпраздничной уборки и мытья, словно Блажена ее вывихнула; пальцы стали неловкими, деревянными, спина не сгибалась.
Да, огорченно думала Блажена, ведь я за все время в учебники даже не заглянула. Она раскрыла учебник истории, некоторое время внимательно читала, но вскоре ее глаза стали перескакивать со строчки на строчку, не вникая в их содержание, и в конце концов Блажена заснула.
Когда она проснулась, в комнате уже было темно. С улицы проникал лишь слабый свет фонарей и неоновых реклам и, проходя сквозь елку, стоящую на полу у окна и касающуюся верхушкой верхней оконной рамы, ложился редким дрожащим решетчатым узором на стены, стол, коснулся он и платья и рук Блажены.
Все это было таким нереальным и чудесным, что Блажене казалось, что она еще не проснулась. Ей было так приятно сознавать, что она может ничего не делать и ни о чем не заботиться. И она впервые не обрадовалась, заслышав отцовские шаги в коридоре и знакомое звяканье ключей в дверях.
Что ей нужно сделать? — мелькнуло в затуманенном сознании Блажены.
Вдруг, словно молния, блеснуло в ее сознании: ведь сегодня сочельник! Она может ничего не делать! Да, сочельник! И тут ударил гром! У нее нет кулича для отца!
С трудом она передвигала свои отяжелевшие, ноющие ноги. Шатаясь, поплелась к плите. Сейчас она посмотрит, как тесто. Но, когда отец появился в дверях, мужество оставило ее. Она вдруг сказала жалобным, тонким голоском:
— Знаешь, папка, мне так не везет с этим тестом! Оно еще совсем не подошло!
Отец стал успокаивать ее — не беда, пусть она не огорчается. Ведь он принес столько всякой еды, что хватит на целую роту солдат. Вдвоем ни за что не съесть!
— Накрывай на стол, а я пока открою бутылочку вина, — утешил дочку пан Бор.
Блажена вяло двигалась по кухне, равнодушно смотря на все яства. Она так ждала этого вечера, а получилось все так неудачно!
Отец видел ее подавленность и старался поддержать бодрое настроение. Он ел все с аппетитом, попивал маленькими глотками вино, налил рюмку и Блажене, поддразнивая ее:
— Если ты это не выпьешь, я расскажу все пану Угру.
Блажена отпила вино, немного поковыряла вилкой в тарелке, но голова ее так и клонилась к плечу.
— А скажи, какой подарок на елку я получу? — пытался отец хотя бы немного расшевелить дочку. — И что получит Блажена, наша маленькая хозяйка?
Большие зеленые глаза Блажены стали живее от этих искушающих слов.
— Так я получу какой-то подарок? — недоверчиво спросила Блажена, как будто в их доме всегда царила ложь.
— А кто же еще? Не трубочист же!
Отец отложил ложку, зажег елку, выключил электричество и украдкой постучал; казалось, кто-то стоит за дверью.
— Входите! — сказал отец немедленно.
Блажена настороженно выпрямилась.
Отец открыл двери и сделал вид, что с кем-то разговаривает.
— Сейчас, сейчас, — сказал он, — я возьму его.
Он вышел, а Блажена была так взволнована, что сидела не шевелясь и не издавая ни звука. Отец что-то проделал за дверями, они распахнулись — посреди прихожей стоял чудесный, сверкающий никелем велосипед.
Радость и удивление вывели Блажену из молчаливой неподвижности.
Она вскочила, судорожно схватилась за переднее колесо, словно боясь, что кто-нибудь выведет велосипед обратно в коридор, втащила машину в кухню и взгромоздилась на седло.
Со счастливым смехом она проехала от дверей до комнаты. Весь вечер они занимались с отцом велосипедом, придумывали, куда его поставить. Вечер пробежал незаметно, и, только когда Тонечка, пришедшая печь кулич, постучала в дверь — теперь действительно стучали, — благодарная дочь вспомнила, что так и не отдала отцу свой подарок.
Но Тонечка быстро ушла, так как тесто лежало, как камень.
— Отнесу его к пекарю, он что-нибудь придумает, — сказала она торопливо, потому что ее ожидало немало дел в кухне.
Блажена поставила велосипед так, чтобы видеть его с постели. Но радость от подарка исчезла так же, как неожиданно она свалилась. И снова Блажену бил озноб, охватила какая-то слабость и равнодушие, и она легла в постель. Отец присел к ней, и Блажена забылась тревожным сном.
Сон Блажены был тяжелым и прерывистым. Ее пылающее тело находилось в постели, но дух метался в диком, странном краю.
Ей снилось, что она маленькая девочка и бредет по красноватому полю, держась за руку отца. Все вокруг было огромным. Земля под их ногами растрескалась от летнего зноя. Трещины превращались в пропасти, страшно глубокие, и Блажена должна была перескакивать через них. Она прыгнула с закрытыми глазами — и, когда открыла их, снова была уже взрослой Блаженой, которая держится за отцовскую руку и бьет своими длинными ногами в спинку кровати.
— Дай мне пить, — просит она отца, но не отпускает его руку от себя.
Отец делает ей лимонад, а Блажена уже в гимнастическом зале на Дейвицах, в этом светлом зале. Она сражается с большой жесткой грушей, старается уклониться от нее то вправо, то влево, но каждый раз получает удар. Все девчонки уставились на нее, собравшись в кружок, и смеются…
Удары все чаще сыплются на Блажену, теперь они не прекращаются, как не прекращается тупая боль в голове. А тут еще Мадя пищит своим тоненьким голоском: «Смотри-ка, с чем она боксирует!» Блажа смотрит, смотрит во все глаза и видит — ведь это ее тесто для кулича, твердый как камень шар, и вдруг шар начинает делиться, вот появляются ручки, ножки, голова — да ведь это Петя! «Папка, лови его, упадет!»
Отец успокаивает Блажену:
— Пей, Блаженка! Твой лимонад готов.
Блажа жадно пьет. Она все ниже и ниже наклоняет стакан. На белом лбу выступили росинки пота. Губы пламенеют. Зеленоватые глаза блестят, как внутренность влажной раковины.
Отец смачивает в кухне полотенце, отжимает и ищет шерстяной платок, чтобы завернуть Блажену.
А Блажена тем временем прогнала черного попугая, вылетевшего из серебряной клетки, убила тридцать людоедов, преследовавших Пятницу-Тонечку, наперекор волнам добралась на своей лодке до припасов, спасенных Робинзонкой после кораблекрушения, и теперь лежит без сил, позволяя себя заворачивать в приятно холодящий компресс.
Она проглатывает порошок и погружается в тяжелый, прерывистый сон.
В праздничную ночь на улице наступила такая гололедица, что пан Гозноурек еле-еле, с грехом пополам, дотащился на своей «шкоде» до гаража. Прохожие, застигнутые врасплох этой неожиданной встречей тепла и мороза, беспомощно останавливались и обертывали свою обувь бумагой, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. Ехать на машинах и думать было нечего.
Но пан Бор и без гололедицы оставил бы свою «шкоду» в гараже. Он ухаживал за больной дочерью, и, когда к вечеру Блажена, дрожа в лихорадке, опять начала бредить, пан Бор постучал к соседям и попросил Тонечку привести врача.
Врач была постоянной пассажиркой отца и Блажену хорошо знала.
И вот началось измерение температуры, простукивание; Блажена показывала язык, тянула «а-а-а», рассказывала о всех своих болях.
Прощаясь, врач подбодрила ее:
— Тебе нужно только немного покоя, Блажена. Ты слишком быстро растешь. И как это тебе удается? — шутила она. — И побольше воздуха вашей дочке, пан Бор.
Все мрачные мысли отца при этих словах развеялись как дым.
Он с облегчением улыбнулся и проводил врача до самой улицы. Отец был счастлив, что у дочки нет ничего страшного.
Когда он возвращался обратно, осторожно приоткрылась дверь, выглянуло круглое личико Тонечки. Глаза ее безмолвно спрашивали о Блажене.
— У Блажены лихорадка от быстрого роста. Бедняге просто нужно немного отдохнуть. Идемте со мной, Тонечка.
— Нет, не теперь, Блажене сейчас нужен покой. А завтра я могу вас сменить… Наши поедут на лыжах.
— Буду вам очень благодарен, Тонечка. — Пан Бор почтительно снял шляпу. — Девочке вообще нужен кто-то… что за жизнь, когда… — сказал он, глядя при этом куда-то в сторону, на стену.
Тонечка, стоя в дверях, что-то пробормотала, и, когда пан Бор повернул голову, ее уже там не было.
16
Рождество принесло Блажене весьма важную перемену.
Состояние ее быстро улучшалось. Впервые улучшение наступило тогда, когда Тонечка принесла от пекаря кулич. Блажену это, разумеется, обрадовало.
А любая радость не во вред человеку, даже прибавляет здоровья. Блажена пролежала еще недели две, и эти тихие часы отдыха и полной беззаботности постепенно успокаивали растревоженное молодое существо.
Отец ходил обедать в столовую, а ей Тонечка готовила легкие, питательные и вкусные блюда. Каждую свободную минуту она проводила с Блаженой, а к вечеру незаметно, как тень, исчезала, и пану Бору почти никогда не удавалось застать ее и поблагодарить.
Вторым толчком к выздоровлению послужил приход к Блажене двух ее подруг. Они пришли, как заявили, от всего класса и принесли ей бледную нежную примулу в горшке. Горшок был красиво обернут розовой бумагой.
— Девочки сложились, а мы только купили и передали тебе, — тараторила Мадя Будилова. — Быстрее выздоравливай, все хотят тебя видеть!
Новостей и у Блажены и у них был полон рот. Говорили они, не останавливаясь и перебивая друг друга. Мадя искоса посматривала на новый велосипед Блажены. Он стоял между окон, там он меньше всего мешал. А Блажена хотела свое новое сокровище иметь всегда перед глазами. Ведь иначе ей трудно было поверить своему счастью.
Мадя старалась изо всех сил успеть даже за это короткое посещение разузнать побольше новостей: будет о чем порассказать девчонкам. Первым делом она спросила:
— Это Духоня велосипед?
— Ты что, не видишь, что он новый? — не утерпела Зора Ледкова, второй член «делегации».
— Мне подарили его к празднику. Отец решил раскошелиться. — Блажена невольно заговорила на привычном школьном жаргоне.
— I В гимнастическом зале ребята снова разбили окно, — перебила ее Ледкова, отвлекая внимание на себя.
Блажена сразу поняла и тут же быстро спросила ее:
— Как там у тебя с табелем, Зорка?
— После полугодия отдадут меня в частную школу пения, а пока…
И снова заговорили все вместе, перебивая друг друга. К Блажене словно вновь вернулись счастливые минуты, проведенные в школьных коридорах.
— Ну вот, мы выложили тебе все и теперь отправимся восвояси, — тараторила Мадя. — Тебе нельзя уставать.
Они уже прощались, когда Блажена с таинственным видом шепнула Будиловой на ухо:
— Я его видела. Ты в тот раз была права!
— Кого это ты видела?
— Черного попугая.
— А ну-ка, покажи! — И Мадя схватила ее за руку, пытаясь нащупать пульс. Потрогала она и лоб Блажены. — Опять у нее начинается бред. Пошли, Ледка, а не то она начнет буйствовать.
Но Блажена по-прежнему хранила серьезный вид.
— А ты, Зорка, извини меня. Я у вас не была и не могла сказать вашей маме о твоем сопрано. Знаешь, у меня не было денег на карамель.
— Ерунда! Старики мудрят неизвестно чего. Внушение свыше, — шутила, против обыкновения, Ледкова.
Сейчас Зорка не притворялась веселой, нет, она и в самом деле была такой. С переменой в ее судьбе изменилась и она.
Была и еще радость, пришедшая к Блажене, когда она болела: пока Блаженка полностью не поправится, она будет готовить под надзором Тонечки и готовый обед приносить домой. Торжественно были вытащены давно забытые коньки, наточены и начищены, и Блажена каждый день, если был лед, хотя бы немного подходящий, носилась на катке одна, с кем-нибудь в паре или втроем, а то и в длинном хороводе знакомых и незнакомых конькобежцев и возвращалась домой раскрасневшаяся, сияющая, со здоровой усталостью! И потом спала как сурок, и вся домашняя работа казалась ей легкой. С Тонечкой она ходила за покупками, стряпала, с приятельницами бегала на каток, на прогулки, а когда немного распогодилось и земля подсохла, они стали бегать играть в волейбол. Духонь высоко подпрыгивал над сеткой, и удары его были неотразимы.
Но самым-самым чудесным было другое: у отца на воскресенье появился пассажир. Он сам был автомобилистом, но недавно попал в автомобильную катастрофу и теперь некоторое время не мог водить машину. Пана Бора рекомендовали ему как отличного, осторожного водителя.
Каждое воскресенье пан Бор возил своего пассажира на его виллу, стоящую далеко от шоссе, в пустынном месте, посреди леса, на берегу горной реки Хрудимки. Выезжали утром, за три часа доезжали, а потом пан Бор бывал свободен и лишь вечером вез своего пассажира обратно в Прагу.
В свободное время пан Бор принадлежал лишь себе и Блажене, которую он всегда брал с собой.
Ну и бродили они тогда! И посуху и по грязи, в солнце, в туман и на весеннем ветру, вдыхая запахи пробуждающейся земли. Видели они, как с полей сходит снег, как этот снег, покрытый ледяной корочкой и крепко сбитый метелями, превращается в тысячи узеньких, нежно журчащих ручейков, проникающих через мох и лежалую листву, обнажающих крючковатые корни, бегущих по траве, которая перезимовала, но так и осталась зеленой. Видели они, как воздух словно становится легче и прозрачнее от пробивающейся молодой листвы, как бродящий древесный сок поднимает все выше стволы и ветви, как торопливый танцующий ветерок очищает горизонт. Блажене все казалось ослепительно чистым, словно таяние произвело генеральную уборку на целый год.
Это воскресное пребывание за городом шло обоим на пользу. Они стали внимательнее ко всему живому, что было под широким небом, замечали теперь совсем другие вещи, чем в городе.
Каждый раз, приезжая снова и снова, они видели, как весна все больше и больше вступает в свои права. Зеленый прошлогодний ячмень кудрявился на межах, напоминая лохматую шерсть, пролысины полей покрылись нежным пушком озимых. На лесных полянках пробились из земли бледновато-зеленые стебельки, а в расселинах меж камней продираются пестики весенних цветов, быстро покрывающихся синими звездочками на солнечной стороне.
Блажена и отец, соревнуясь друг с другом, искали на небе жаворонка, который вдруг обрушивал прямо им на голову свою весеннюю песню, распеваемую по небесным нотам.
Как-то отец привез Блажену к недалекой плотине на Сечи, у замка Огеб. Они оставили машину рядом с кафе, у моста через плотину, и стали карабкаться по скользким камням и крутым выступам, пробираться через разрушенные ворота, пролезать через отверстия, некогда служившие окнами. Блажена цеплялась за стволы деревьев, за кустарники и камни — и в конце концов со славой поднялась к башне. У развалившейся стены был небольшой ровный выступ, и, едва ступив на него, Блажена вскрикнула от восторга.
Далеко внизу под крутой скалистой стеной тускло поблескивала сквозь весеннюю дымку безграничная водная ширь — вот так и представляла себе Блажена Робинзоново море. И среди морщинок волн чем дальше, тем отчетливее вырисовывалось нечто незыблемое: да, она не ошиблась, это был остров! Взгляд Блажены торопливо скользил по его поверхности, покрытой молодой зеленью и хорошо просматриваемой. Это был необитаемый остров!
— Папка! — воскликнула Блажена. — Неужели ты не видишь?
— Вижу, конечно, вижу! Чудное место! И даже есть какой-то островок…
— «Островок»! — раздосадованно повторила Блажена. — Да ведь это Робинзонов остров Отчаяния. Нет, ты только посмотри! Нигде ни живой души! Настоящий необитаемый остров. И птиц не видно.
— Ну, это не так, — умерял ее пыл отец. — Я как раз вижу диких уток.
Но Блажена не позволила вырвать ее из волшебного мира. Было очень заманчиво увидеть не выдуманный искусственный островок, а вдруг ставший реальным остров приключений Робинзона, моряка из Йорка.
Блажена была так поражена видением островка, вздымающегося среди вод, так зачарована его песчаными и каменистыми берегами, его пустынной тишиной, извилистыми тропками, исчезающими в зарослях, что полностью отбрасывала даже малейший намек на естественное возникновение островка.
— Да посмотри же, папка, вон на тот берег. Ведь как раз туда выбросило волной Робинзона Крузо! Вот сюда приставали людоеды и устраивали свой пир, а здесь Робинзон спас Пятницу от ужасной смерти, от деревянного меча людоедов. А вот там Робинзон жил летом. Вот и беседка на полдороге между пещерой и заливом. А вон мыс на юго-западе, мыс, где Робинзон наткнулся на остатки костра с разбросанными человеческими костями и черепами.
— Хорошо, мы еще взглянем на этот остров, — пообещал отец Блажене.
В кафе говорили, что летом там бывают целые толпы туристов-спортсменов. Палатки, костры, тропинки, лужи — все это в их власти.
Блажена ничего не ответила. Лишь вздохнула. Отец и без слов знал, что значат ее вздохи, но сделал вид, что не понимает ее, и небрежно заметил:
— Если бы тебе захотелось провести летние каникулы на этом острове…
Блажена не дала ему договорить. Бросилась на шею и закричала:
— Скажи мне это еще раз, мудрый Овокаки! Ты наверняка знаешь, что написано в книге твоего слуги Робинзона: «В людях дремлют скрытые силы; вызванные к жизни какой-нибудь достижимой или недостижимой целью, они приходят в движение и разжигают в человеке такие страстные мечты, что без исполнения их жизнь кажется нам невыносимой!»
— Когда ты хочешь, так помнишь все прекрасно, — заметил отец, пытаясь отвлечь Блажену от ее слишком горячих мечтаний. — Кто знает, что случится до лета.
— Пустые отговорки! Обещай, или я тебя не отпущу! — не отставала от отца Блажена.
— Хорошо, я обещаю тебе, милая Робинзонка, если мы будем живы и здоровы, ты отправишься на остров, пристанешь у юго-западного мыса, как раз там, где был костер с человеческими черепами.
— Меня ты не проведешь, — восставала Блажена против таких неопределенных обещаний. — Я уже давно знаю, что страх перед опасностью намного хуже самой опасности, и поэтому я не боюсь ни черта, ни дьявола.
Отец сулил золотые горы. Да и чего бы он не пообещал своей Блажене!
До самого мая, месяца цветов, все воскресенья были для Блажены и пана Бора радостным просветом в их однообразной жизни. Лесные колодцы, тихие ели, вода, неторопливо текущая через запруды, поля, бесконечное обилие воздуха и в дождь и в солнце, словом, созидательная сила весны — все это так сильно действовало на Блажену, что она потом всю неделю была полна радостных воспоминаний, и город казался ей местом временного местопребывания. И, лишь когда их пассажир поправился и снова сел за руль собственной машины, основательно отремонтированной, а Блажена теперь по воскресеньям оставалась одна, настала очередь и для велосипеда. Под окнами вновь, как тень, замаячил Ярослав Духонь, вновь раздавался знакомый велосипедный звонок, и Блажена появлялась в окне и потом опрометью сбегала по лестнице, мчалась в отцовский гараж, где хранилось ее сокровище, закрытое на замок.
Блаженка любила быструю и смелую езду, охотно искушая опасность с той поры, как избавилась от всякого страха. Духонь глядел в оба за них двоих. Шарка за время их поездок из далекой стала совсем близкой. До Сельца и Розток с их деревьями в цвету стало рукой подать. Отныне Блажена всюду ездила лишь на велосипеде — за покупками, за всякой мелочью. Скажем, захотелось ей, и она ехала выстирать отцовский платок в Подморане и там на солнце отбеливала его, как посоветовала ей Тонечка.
В своем поварском искусстве она уже так преуспела, что иной раз совсем не нуждалась в Тонечкиной помощи, хотя к Тонечке очень привыкла и уже скучала без нее. Да и она сама теперь стала иногда полезна Тонечке, быстро делая для нее покупки в дальних магазинах.
Правда, воскресенья Блажена полностью посвящала отцу и Пете. Вскоре Блажена стала свидетельницей важного события в жизни Пети — он в первый раз встал на ноги, а потом случилось и другое — из ротика с четырьмя зубами, белыми, как сахар, вырвался странный лепет. Так мальчуган начал говорить. Слова были невнятные, словно завернутые в вату, но кто хотел, тот слышал, что малыш говорит «папа», а для других это было просто «аппа».
Так Петя стал для Блажены не только человеком, но и важной особой. Она ревностно следила за каждой переменой в нем, играла с ним и всегда выходила из этой возни с малышом исцарапанная, взъерошенная и запыхавшаяся, словно она только что вымыла пол во всей квартире.
— Ну и потеха с нашим малышом! — сказала она как-то, фыркая от смеха, когда Петя, расшалившись, кинул неловкой ручонкой горсть песку прямо ей в лицо. — Знаешь, папка, этого проказника надо бы показать Тонечке!
Отец не возражал, и поэтому Блажена добавила:
— Я приглашу ее, она заслужила, чтобы мы взяли ее с собой и покатали.
Теперь Блажене уже не приходилось жаловаться на скуку.
С той поры, когда она заболела и поправилась, радостные события нахлынули на нее, сменяя одно другое. И все же… все же иногда Блажена грустно вздыхала. Все же Блажена порой внезапно задумывалась среди смеха и веселья, взгляд ее становился странно неподвижным, уходя куда-то в глубь ее существа. Когда потом она снова поднимала голову, то ее зеленоватые глаза невольно смотрели на полку, где аккуратно стояли заботливо обернутые и красиво надписанные учебники…
17
По мере того как устойчивый солнечный июнь шел к концу, отдавая последние дни весне и готовя все вокруг к наступлению летнего июля, тоскливое чувство у Блажены все росло и росло.
Блажена за последнее время нередко встречала подруг из класса: одних — страстно ждущих каникул, других — подавленных боязнью получить плохой аттестат, но всех, охваченных общим беспокойством, общими заботами и общим будущим.
Ей приходилось, превозмогая себя, разговаривать с ними и, делая вид, что она смирилась со своей судьбой, стараться, чтобы они не заметили, как она им завидует и как ей тоскливо оттого, что она исключена из их дружных рядов.
Успокаивалась она лишь в своем воображаемом лагере, сооруженном из двух стульев и верблюжьего одеяла, утешая себя мыслью, что Робинзону было намного хуже в его пещере под скалой, сотрясаемой землетрясением. Он был совсем одинок, зажатый среди гор, словно пленник в пустынной долине, закрытый на вечный замок океана, без всякой надежды на спасение.
Их судьбы были схожи! Она садилась у палатки и немало часов просиживала так в глубокой задумчивости.
Разве не говорил Робинзон: «Жизнь научила меня никогда не отчаиваться». Вот и она, Блажена, наверняка привыкнет вести хозяйство так, чтобы найти время и силы учиться дома. Она знала о некоторых учениках, занимавшихся дома с учителями и сдававших в школе лишь экзамены. Слышала она и о взрослых, не имеющих лишних денег, но получавших дома университетское образование. Разумеется, о подобном Блажена и не мечтает!
Вспомнила она и тот чудесный островок под Огебом и словно наяву увидела, как она продирается сквозь заросли девственного леса, бредет по цветущим полям островка и ее глаза слепят великолепные краски. Это тучи разноцветных попугаев пролетают у нее перед глазами, и ей нестерпимо хочется поймать и приручить хотя бы одного. Конечно, не черного, а розового с зелеными крыльями.
Она научила бы его говорить, и он кричал бы ей: «Робинзонка!»
Она уже видела, как срезает палку и размахивает ею, чтобы вовремя защититься от диких зверей.
Видела, как ищет колодец с питьевой водой и корень мандрагоры, из которого индейцы делают хлеб, как обмеривает ограду, чтобы она не превышала три ярда.
Три ярда! Гм! Блажене известен еще один Ярд!
Ярда Духонь, пожалуй, играл бы с ней в Робинзона Даже получше отца. Да и вообще Ярда мог бы заняться водным спортом, и тогда Блажена спокойно попала бы на островок на озере у плотины Хрудимки. Для нее, Робинзонки, это озеро было бы океаном.
А ее попугаем может быть Петричек — ведь он уже произносит почти понятные слова! Иногда похоже, что он говорит «Блажа».
Эти картины Блажена рисовала себе, сидя у своей палатки. Теперь ей представлялся не какой-то неизвестный остров, а вполне определенный островок, виденный ею собственными глазами, да еще с птичьего полета, так что ей удалось хорошенько его разглядеть.
И все же что-то угнетало ее. Блажена старалась понять, откуда берется в ней это странное давящее чувство.
Отец последнее время посматривал на нее как-то значительно, даже подозрительно улыбался. Вероятно, он готовит какой-то сюрприз. Но какой? Так осторожно и деликатно он обращался с ней только во время ее болезни. Да и пан Угер отпускает по ее адресу какие-то непонятные шутки. Блажена даже злится, что не в силах угадать причину этого странного заговора! Со всех сторон Блажену подкарауливают какие-то тайны. Ее раздражало, что она не может их разгадать — если эти тайны вообще существовали, а не были плодом ее фантазии. Раздражало так же, как в детстве, когда она, играя в «кольца», не могла угадать, в какой они руке, а вокруг все ребята знали это и смеялись.
Недавно она пригласила Тонечку поехать с ними в Крч, взглянуть на их Петричка. Тонечка испытующе посмотрела ей прямо в глаза и медленно спросила:
— Ты действительно хочешь, чтобы я с вами туда поехала?
Блажена почти обиделась:
— Разве я вам когда-нибудь говорю просто так? Вам я всегда говорю правду.
Они выбрали для поездки воскресенье, последнее в июле. Над Прагой висел зной, раскаленные камни улиц пылали, дома моргали сонными окнами со спущенными шторами. Прохожие еле брели, измученные непрекращающимся солнечным жаром, трамваи пронзительно звенели и грохотали на полупустынных улицах.
На Тонечке было красивое легкое платье, на голове модная шляпка с цветком, а на руках красовались тонкие плетеные перчатки. Порозовевшая от жары и возбужденная из-за поездки, она выглядела очень привлекательно.
Тонечка заняла заднее сиденье, а Блажена и сегодня не покинула своего места, рядом с отцом, но каждую минуту оборачивалась к Тонечке и рассказывала обо всем, что мелькало мимо окна их машины.
Выехав из ворот дома, они опустили в машине окна и с наслаждением вдыхали запахи, приносимые стремительными порывами ветра. Ветер, этот разносчик ароматов, собирая их на своих дорогах, напоминал сейчас то о запоздалом сенокосе, то о ранней молотьбе, а то о цветущих липах и о свежем запахе ржи..
— Да, в наших Дейвицах этого нет, — шутила Тонечка. — У нас, как только ветер подует, я сразу знаю, где мелют кофе, а где готовят лук для гуляша.
Машина быстро мчалась к Петричку. В Крчи на клумбах цвели нежные гортензии и огненные гладиолусы настоящей летней раскраски. На песчаной площадке для игр весело проказничал Петричек. Малыш уже умел бегать, хотя частенько шлепался на землю. За ребятишками присматривала нянечка, которая все время тщетно старалась заглянуть хотя бы одним глазом в воскресную газету. Ей приходилось постоянно вскакивать и успокаивать малышей.
Пан Бор позвал:
— Петя!
Малыш бросил песочницу и повернул свою голову с кудрями орехового цвета. Он хорошо знал отца и бросился к нему.
Он совсем не испугался, увидев, что вдруг над ним склонились три великана и все трое манили его, все трое протягивали к нему руки.
Отец, желая облегчить Петричку выбор, присел перед ним на корточки. Петр ткнулся лицом в его плечо, но сразу же обернулся и посмотрел, как это восприняли остальные. Но тут к нему склонились Тонечка и Блажена, и малыш с радостным визгом бегал от одной к другой, пока наконец Тонечка не поймала его и не взяла тут же на руки.
Малыш стал хватать цветок на ее шляпе. А она, чтобы отвлечь его от цветка, принялась с ним танцевать.
— А у нее неплохо получается, — заметила няня, поглядывая на пана Бора.
Когда они наигрались с малышом и его, довольного, умыли и повели есть, Блажена вслух сказала о том, что давно занимало ее мысли:
— Но, папка, не может же Петя жить все время здесь, если он наш?
Эти слова Блажены явно пришлись отцу по душе, хотя он и возразил:
— Как же нам его взять домой, если о нем некому заботиться?
— А я? — крикнула она, но почувствовала, что прихвастнула, и поправилась: — Конечно, не одна я, мне было бы страшно. Ухаживать за ним могла бы и Тонечка.
Все растерянно замолчали, и в этой предательской тишине зазвенел в руках Блажены детский колокольчик, который она нечаянно раскачала.
Так вот, значит, какая тайна! «Тепло… еще теплее… горячо!» — кричат в таком случае в игре, когда игрок с завязанными глазами топчется на месте, делает неловкие шаги и вдруг оказывается совсем рядом с тем, что ищет.
«Горячо!» — кричало все в Блажене.
А пан Бор сказал Тонечке:
— Ну, если Тонечка захочет…
Блажена так и замерла со своим «горячо», перескакивая взглядом с отца на Тонечку, с Тонечки — на отца.
Она вдруг сразу все поняла. Новая мама! И тут ей вспомнилось то чувство отчаяния и заброшенности, которое охватило ее, пятилетнюю девочку, когда мама, рассердившись, сказала ей: «Отправляйся, пусть тебе застегнет платье другая мама!» Другая мама? Но ведь Тонечка не будет для нее другой мамой, она станет мамой лишь для Пети, а для Блажены навсегда останется верным Пятницей.
Блажена видела это по румянцу Тонечки и по смущению, с которым Тонечка старалась скрыть дрожь своих много поработавших рук.
— Тонечка, ведь вы не раздумаете? Папка, она должна, она присягала мне в верности! — строго сказала Блажена.
В эту минуту няня вернулась с насытившимся Петей.
— Петя возьмет свою шапку, и мы пойдем!
— Вы берете малыша совсем? — спросила няня.
— Я понесу его! — схватила Петю Тонечка и спрятала лицо у него на груди.
Обратная поездка была веселой. Блажена подпевала шуму колес и теперь уже не смотрела в окна, поглощенная собой и всем происшедшим. Отец не оборачивался назад, по, не видя порой на дороге никаких препятствий, посматривал в зеркальце машины и с радостью убеждался, что Петя на коленях Тонечки чувствует себя как дома.
Малыш, наигравшись, вскоре начал дремать, и отец, остановившись перед домом, нежно взял его на руки и внес спящего в квартиру.
Блажа ковала железо, пока оно было горячо. Она выпросила у отца «визу» на путешествие по реке.
— Если они возьмут тебя с собой, — добавил отец, поддразнивая ее. — А после каникул пойдешь снова учиться. За этот год ты быстро догонишь, ведь в году целых двенадцать месяцев.
— Это нужно отметить! — кричала Блажена, размахивая своим ружьем. — Я передаю свою власть над островом. Вот здесь пять мушкетов, три ружья и три меча, полбочонка пороха, семена, мешок гороха и все остальные припасы. Сама я поднимаюсь на корабль лишь со шлемом из козьей шкуры и направляюсь вдаль, к материку, который я не видела тридцать пять лет.
Звонок Духоня у дверей прервал ее, и она помчалась по лестнице с таким грохотом, словно град забил. И прямо налетела на Духоня.
— Все или ничего, мой Ромео! Или мы едем в водный лагерь, или ты никогда меня не увидишь на велосипеде.
— Остановись! — процедил сквозь зубы Ярда Духонь. — Я как раз принес тебе членский билет. Условие — будешь поварихой. Я уже наговорил о твоих кулинарных чудесах.
В тот вечер они так носились на велосипедах, что Блажена явилась домой еле дыша. Тонечка уже выкупала и уложила Петю в бельевую корзину.
— Сегодня и еще недели две, Блажена, тебе придется за ним ночью присмотреть. После свадьбы я переберусь к вам совсем.
Блажена слушала одним ухом. У нее были уже другие заботы. Она обложила свою постель учебниками так, что книжки расходились от нее, как лучи от святого из Лайолы на стенах известного Пражского костела.
Сама она улеглась посредине, улыбаясь Тонечке с таким счастливым видом, что ее верный Пятница не выдержал и крепко, от всей души ее поцеловал.
Примечания
1
Ярослав Врхлицкий (1853–1912) — выдающийся чешский поэт, автор исторических поэм и пьес. Ярослав Чермак (1830–1878) — известный чешский живописец, автор исторических картин, посвященных гуситским войнам, борьбе славянских народов за независимость.
(обратно)2
Братья Гракхи — политические деятели Древнего Рима, трибуны, возглавлявшие демократическое движение за реформу землевладения.
(обратно)3
Имеются в виду романы Ж. Верна «Замок в Карпатах» и «Пять недель на воздушном шаре».
(обратно)4
Героиня книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».
(обратно)5
Героиня повести Божены Немцовой «Бабушка».
(обратно)6
Карел Яромир Эрбен. Букет. Перевод Ник. Асеева.
(обратно)7
Слова популярной шуточной песни.
(обратно)8
Мир в картинках (лат.).
(обратно)9
Знаменитые Мацохские сталактитовые пещеры.
(обратно)10
Либуша — героиня оперы Бедржиха Сметаны «Либуша», посвященной легендарной основательнице Чехии.
(обратно)11
Нурми — знаменитый финский спортсмен.
(обратно)12
Бедняки (лат.).
(обратно)






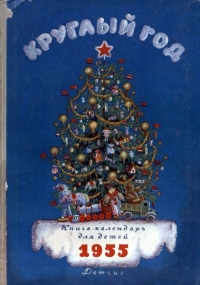


Комментарии к книге «Робинзонка», Мария Майерова
Всего 0 комментариев